Лицей 2017 Первый выпуск (сборник)
Издание осуществлено в партнерстве с Литературной премией «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов и группой компаний «ЛОТТЕ» в России
© Гептинг К., Косогов В., Некрасова Е., Курская Д., Грачев А., Медведев Г.
© Янг Сок, предисловие
© Григорьев В., предисловие
© Басинский П., предисловие
© Бондаренко А., художественное оформление
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Дорогие читатели!
У вас в руках сборник произведений лауреатов первого сезона Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина.
История появления премии связана с открытием в ноябре 2013 года в самом центре Сеула, на площади напротив «Лотте Отеля», памятника Александру Пушкину. Именно благодаря этой символической связи в 2017 году компанией «Лотте Групп» была создана премия «Лицей» для выявления талантливых молодых писателей и широкого распространения русской литературной традиции.
Успешно завершился первый сезон премии, мы собрали 2027 работ и узнали имена новых молодых писателей. Я благодарю Председателя Наблюдательного совета Сергея Степашина, специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева, Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Корея Пак Ро Бёка и всех членов Наблюдательного совета премии и Дирекции премии за их помощь и содействие, а Совет жюри и Совет экспертов — за их усилия в выборе лучших произведений. Благодарю всех представителей литературной среды и журналистов, которые освещали нашу премию в СМИ и предоставляли информационную поддержку.
Также я бы хотел сердечно поздравить шестерых лауреатов, чьи произведения вошли в этот сборник. Я желаю, чтобы их литературная карьера с этого момента бурно развивалась и они смогли стать одними из самых выдающихся современных авторов в России. Надеюсь, что и на этом победители не остановятся, а будут стремиться к международному признанию.
Генеральный директор АО «ЛОТТЕ РУС» Янг СокКаждый год, 6 июня…
Никто не мог поверить, что уже 6 июня этого года на сцену выйдут лауреаты премии «Лицей». Открою небольшой секрет: премия «Лицей» создавалась буквально «с колес». Январскими холодными вечерами мы сидели и придумывали ее с партнерами и коллегами. И придумали!
Результат поразил: более двух тысяч рукописей молодых ребят со всей страны и не только из России поступило на соискание в двух номинациях — «Проза» и «Поэзия».
Уже в конце мая наше жюри — Павел Басинский, Роман Сенчин, Михаил Визель, Максим Амелин, Евгений Бунимович, Мария Ватутина, Шамиль Идиатуллин, — проведя феноменальную работу, бросив все свои обязанности, отобрало победителей.
Это премия для поиска молодых талантов. Это премия для лицеистов, которые будут «свежей кровью» в большой русской литературе. Запомните имена, вошедшие в этот сборник. Кто знает, через 10–15 лет ими, возможно, будет гордиться не только наша страна, но и весь мир.
А пока мы надеемся, что авторы-победители премии «Лицей» смогут сосредоточиться исключительно на литературе, смогут развивать свой талант… Мы ждем от них новых повестей, рассказов, стихов. И не только от тех, чьи имена сегодня названы как победителей, но и всех тех, кто вошел в короткий и длинный списки.
И, конечно же, я не могу не воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить компанию «ЛОТТЕ РУС», нашего спонсора.
Я надеюсь, что каждый год, 6 июня, мы будем собираться на Красной площади в рамках Книжного фестиваля, чтобы награждать победителей премии «Лицей».
Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев«Здравствуй, брат! Писать очень трудно!»
6 июня 2017 года, в день рождения Пушкина, на главной сцене Литературного фестиваля на Красной площади были объявлены шесть лауреатов новой литературной премии для молодых писателей «Лицей» — трое в области поэзии и трое в жанре прозы. Общий премиальный фонд премии составляет почти 5 миллионов рублей. Первый лауреат в каждой номинации получил 1,2 млн, второй — 700 тысяч и третий — 500 тысяч.
Я знаю, что у многих это вызывает раздражение. За какие такие заслуги?!
Вопрос этот риторический. Я знаю, что жить одним писательским трудом не может практически никто. И я также знаю, что молодой человек, который всерьез решил посвятить свою жизнь литературе, в бытовом отношении рискует оказаться полным «лузером». И хорошо еще, если ему об этом не будут слишком часто говорить супруга и дети.
Напомню начало одного из самых ранних стихотворений Пушкина, которое он написал в 15 лет (а это, кстати, «нижний порог» для номинантов):
Арист! и ты в толпе служителей Парнаса! Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса; За лаврами спешишь опасною стезей И с строгой критикой вступаешь смело в бой! Арист, поверь ты мне, оставь перо, чернилы, Забудь ручьи, леса, унылые могилы, Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай! Довольно без тебя поэтов есть и будет; Их напечатают — и целый свет забудет…Как председатель жюри премии «Лицей» этого года (председатель и жюри будут ежегодно меняться) я душевно рад за 20 финалистов этой новой и ни на что не похожей премии. Еще более я рад за лауреатов. Но и, честно говоря, тревожусь за них. А потом? Или они всерьез думают, что к ним толпами побегут издатели? Их станут узнавать на улицах и просить расписаться на своих книгах, которые будут у каждого прохожего под мышкой? Наконец, просто — что они станут ПИСАТЕЛЯМИ?
Совсем необязательно. Просто в день рождения нашего самого светлого гения литературная судьба коротко улыбнулась им. И эта улыбка дорогого стоит (не в деньгах!). Но что будет потом, не знает никто. Не знал даже Пушкин.
Премия «Лицей» делает правильное дело. Для молодого писателя она как воплощение образа мечты, а без мечты не может быть сладости творчества, а без сладости — зачем творчество? Уж лучше каким-то более надежным и прибыльным делом заняться.
Но главное в творчестве — не сладость, конечно.
Особенно сегодня, когда писать стало очень трудно. И становится тем труднее, чем легче долбить пальцами по клавишам компьютера, когда буквы на экране монитора выскакивают сами собой, слова ложатся бойко, строчки бегут быстро…
Если уж Пушкин жаловался, что поэтов «довольно есть» (это в его-то время, когда профессиональных писателей в строгом смысле вообще не было), то что говорить о сегодняшнем дне? Побывайте один раз на Франкфуртской книжной ярмарке, и вы увидите, что в мире ежегодно издаются миллионы художественных книг. И стихов, и романов, и нон-фикшн. А читателей всё меньше и меньше.
Молодым писателям вступать в литературу нынче трудно еще потому, что современный мир забит миллионами слов. Они — везде! В интернете, в телевизоре, в рекламе, в метро и даже в лифте, если вы там не один. И если вы думаете, что всё это не имеет к литературе никакого отношения, то вы, может быть, и счастливы как писатель, но, простите, не умны. Литература создается из тех же самых слов и порой из тех же самых смыслов. Когда Достоевский писал «Бесы», он не Гомера перечитывал, а номера свежих газет. «Анна Каренина» родилась из провинциального скандала о самоубийстве Анны Пироговой, любовницы соседа Льва Толстого по имению. Стихи Некрасова рождались из разговоров крестьянских старух. А стихи Маяковского рождала улица «безъязыкая», с которой поэт стирал «чахоткины плевки шершавым языком плаката».
Но даже если вы собираетесь сидеть в башне из слоновой кости и писать «вечное» и «нетленное», имейте в виду, что башен таких за время существования мировой литературы уже выстроен микрорайон размером… примерно с Чертаново.
На пресс-конференции во время объявления «короткого списка» кто-то из журналистов задал вопрос, который я тоже слышу очень часто. «Чего вы ждете от молодой литературы? Какие в ней тенденции?» Нет у меня ответа на этот вопрос. Никакие тенденции никогда не рождали настоящую литературу. Это уже потом критики соображают, что вот это произведение родило какую-то тенденцию. Главное в литературе — это талант (но это всего лишь условие, как музыкальный слух), труд и личность автора. Именно в такой последовательности. И еще скажу шепотом: главное в литературе — ИНТОНАЦИЯ. Это — в прозе. В поэзии это называется — ГОЛОС. Но как добиться своей интонации и своего голоса, я не скажу. Я сам этого не знаю. И никто не знает.
А о чем писать, о ком, какие проблемы поднимать и в каком жанре — это вообще сугубо личное дело. Можно написать о Тамерлане, а будет читаться как про сегодняшний день. Можно написать о том, что вроде современно, а будет разить нафталином. Потому что современность была всегда. И ее было очень много. А вот крупных писателей почему-то всегда было очень мало. Но проблема еще и в том, что и крупных писателей за несколько веков существования литературы набралось уже довольно много. Хотя не Чертаново, конечно.
И завидую, и не завидую я финалистам и лауреатам… «Здравствуй, брат! писать очень трудно!» — так приветствовали друг друга члены одной очень интересной литературной группы советских лет «Серапионовы братья».
Тексты всех шести лауреатов несложно найти в интернете. К моменту награждения они были выпущены книгами ограниченным тиражом. Но одно дело — «цифра» и «подарочный» бумажный тираж, и совсем другое — полноценный сборник, да еще и в «Редакции Елены Шубиной». Это уже настоящая путевка в Большую литературу.
Выбор жюри был, поверьте, непростой, даже после почти героической работы Экспертного совета, отобравшего двадцать работ из более двух тысяч, присланных на конкурс. Но если жюри в чем-то и ошиблось, а в него входили очень серьезные литераторы: Максим Амелин, Евгений Бунимович, Мария Ватутина (поэзия), Михаил Визель, Шамиль Идиатуллин, Роман Сенчин (проза), — лично мне не стыдно за наш выбор.
Несколько проще мне говорить о прозе. Три очень разных и очень талантливых текста. Они, как мне кажется, отражают то, что происходит в современной прозе в целом.
Первое место — Кристина Гептинг из Великого Новгорода. Повесть «Плюс жизнь». Написана от лица юноши, ВИЧ-инфицированного от рождения. Звучит страшновато. Другой писатель непременно сделал бы из этой темы такую «пугалку» о страшной России, где все темно и беспросветно. Но пришло какое-то новое поколение писателей. Они не «врачи» и даже не «боль», говоря словами Герцена. Они берутся за социальные темы просто потому, что не вправе быть равнодушными. Берутся энергично, спокойно, даже деловито. Как волонтеры, показанные в последнем фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Умные сосредоточенные лица, понимание ситуации, отсутствие лишних действий. Так же и повесть Гептинг — скупа на детали. Она не «давит», не пугает. Она рассказывает. И даже советует. Как жить с этими людьми.
Чтобы оставаться людьми.
Проза Евгении Некрасовой из Подмосковья (второе место) — иного рода. Повесть «Несчастливая Москва» и несколько циклов рассказов. Ее прозу определяют так: новый магический реализм + фольклор + эксперимент. Традиции Платонова, Кафки, отчасти недавно ушедшего от нас Мамлеева, влияние Сорокина, который влияет на современную прозу сильно. Очень яркий, «авторский» язык. Для Гептинг важен не стиль, а тема, которая стиль и задает. Для Некрасовой важен стиль…
И, наконец, москвич Андрей Грачев со сборником рассказов «Немного о семье». Грачев не боится писать просто о простых людях и простых вещах. Не боится описывать производство. Не боится «бытовухи». Его взгляд на мир как будто банален, но это — обманчивое впечатление. Меня удивили два его рассказа — «Муж» и «Жена». Муж любит жену, а она его — нет. Жена любит мужа, а он — нет. Всё просто. Один (одна) любит, другой (другая) — принимает любовь как должное и смотрит в сторону. Но вот, знаете, ничего более точного о семье я не читал. Так ведь и есть. К сожалению.
Сложнее с поэтами. Их сегодня так много, так много… Но на поэте из Курска Владимире Косогове (ударение на третьем слоге) члены жюри сошлись единогласно. Косогов называет себя в стихах «акмеистом седьмого дня». Это неоклассицизм. Нет случайных слов, случайных рифм, случайных строк. «Классическая роза», привитая Владиславом Ходасевичем к «советскому дичку», расцвела и не боится морозов.
Колодец деревенский, перекошенный Застрял от дома в десяти шагах. И смотрит в воду ягодою сброшенной Кустарник на дубовых костылях. И мой отец без посторонней помощи Тягучий ил со дна таскал киркой, Чтоб ковш небесный, безнадежно тонущий, К утру достал я детскою рукой.Дана Курская (второе место) пишет стихи так, что их, конечно, лучше не читать, а слушать в авторском исполнении. В широком смысле это называется «слэм», когда реакция публики на музыку или стихи так же важна, как они сами. Так слушали поэтов-«эстрадников» в 60-е годы. Потом это ушло, подверглось остракизму, в моду вошло чтение медленное, «с листа». Сегодня эта традиция возвращается, как и мода на поэтические концерты. Но стихи Курской — не вполне «слэмовые». Они и «с листа» хороши…
За гробом нету ни черта ни ангела с трубою какие там еще врата никто от люльки до креста не свяжется с тобою прощаться надо навсегда по вехам и минутам какого там еще суда ты ни туда и ни сюда и никого не ждут там и только пыльный василек растущий за оградой хоть синий глаз его поблек встает безверью поперек не тронь его не надо.Третье место — Григорий Медведев, цикл стихов «Карманный хлеб». Стихи камерные. Поэзия дома, двора, школьной парты, семейного стола… «Удобное мироустройство», как пишет поэт. Почему-то вместе вспоминаются Сергей Есенин и Осип Мандельштам, которых, кстати, напрасно противопоставляют. Мир, из которого всегда что-то уходит, но и всегда самое важное остается…
Две дубовые балки держат над головой потолок этот жалкий, уголок родовой… Неподвижные бревна, тот же вид за окном, но я вижу подробно, что уменьшился дом. Убывает как будто за хозяином вслед, потому — ни уюта, ни тепла уже нет.Шесть молодых писателей. Три поэта, три прозаика. «Редакция Елены Шубиной». Жизнь продолжается.
Председатель жюри премии «Лицей» Павел БасинскийНоминация Проза Первое место
Кристина Гептинг Плюс жизнь Повесть
Часть первая
Мне так уютно среди женщин, которым за тридцать, ближе к сорока. Мне приятны их мягкие обиталища — бухгалтерии, отделы кадров. Чай, печенье, каталоги «Avon», тихонько играет какое-нибудь «Дорожное радио»…
— Пиши автобиографию, — сказала мне одна из милых сотрудниц отдела кадров областной больницы и протянула разлинованный листок.
— А что писать-то? — спрашиваю. — И… это… Вы, может, забыли, но я санитаром устраиваюсь, а не главврачом.
— Ой, правда, а мы и не знали, — подхватывая мой шутливый тон, продолжает приятная женщина. — Так положено. У нас и санитары пишут, где и когда родился, кто родители, какое образование… В свободной форме. Только без ошибок постарайся.
— Да ладно, всё равно это никто не читает, пиши там что хочешь, — рассмеялась из-за дальнего стола другая кадровичка, совсем молодая.
Я пожевал казённую авторучку и принялся за дело:
«Я родился 20 августа 1997 года. Город не платил за свет в течение нескольких лет, и терпение энергетиков лопнуло. В тот вечер роды в роддоме принимали при свечах. Мою маму привезли туда с сильнейшими схватками в состоянии героиновой ломки — „Скорую помощь“ вызвали прохожие. Врачи сразу заподозрили в ней ВИЧ-положительную — много их стало в последние годы. Рожать отправили в неработающую душевую. Врач и акушерка надели по две пары перчаток. Вскоре родился двухкилограммовый я с признаками героиновой ломки. Меня перевели в детскую больницу, а маму оставили ломаться в душевой.
Через пару дней пришел её анализ на ВИЧ. Естественно, плюсовой. У меня тоже нашли антитела к ВИЧ. Однако через месяц выписали из больницы — ломку согнали, вес я набрал, что они ещё со мной могли сделать?.. Сказали: надо верить в лучшее — что на самом деле я не заразился и мамины антитела к полутора годам уйдут.
Нас с мамой встречала бабушка. С цветами. Она, как и заповедовали врачи, верила в лучшее. Ради ребёнка мама одумается, оставит наркотики и допишет диссертацию (до попадалова мама работала ассистентом на кафедре русской литературы ХХ века).
Но было не суждено. Мама умерла от передозировки, когда мне было три месяца.
Меня вырастила бабушка.
Мое детство — оно с запахом хлора. Бабушка хлорировала всё, с чем я соприкасался. Бельё кипятила. И посуда у меня была отдельная. А ещё она нашила себе масок из старых простыней. Без маски я её почти и не видел.
В садик я не ходил. В школу меня бабушка всё же отдала, чтобы никто не догадался, что я неизлечимо болен, да ещё такой постыдной болезнью.
Сначала всё шло хорошо, внешне я от других ничем не отличался, болел не чаще и не тяжелее других детей, пока вдруг в семь лет не выяснилось, что придётся пить лекарства. Это было удивительно, что есть, оказывается, какие-то таблетки, „чтобы не наступал СПИД“. Таблетки мне понравились — разноцветные. Они внушали надежду, что я проживу не так уж мало.
Всю жизнь с того момента мне предстояло пить сначала пять, а сейчас, когда препараты стали совершеннее, две таблетки в день. Бабушка всё удивлялась, что я жив на „этой химии“. „Невозможно жрать столько таблеток и долго жить“, — говорила она.
Но всё же умерла первой. Мне успело исполниться восемнадцать.
Я поступил в университет. Хотел в медицинский, но мой инфекционист в СПИД-центре, а это единственный человек, которому я доверяю, сказал, что с ежегодными проверками на ВИЧ для медиков я об этом могу забыть — нормально работать с моим диагнозом всё равно не дадут. Поэтому пошел на биофак. И хоть выращивать ГМО-картошку и кукурузу по закону нельзя, корпеть над ними в лаборатории не воспрещается, что мне и придётся после универа делать. Я не уверен, что это моё — быть ботаником. Наверное, поэтому и иду работать в морг. Буду подглядывать за медициной в щёлочку».
— Что за ерунду ты тут понаписал?
— Так вы ж сказали, читать никто не будет… Да шутка, конечно, — заржал я. — Разве похож я на спидозного сына наркоманки?!
— Ну, конечно, не похож!.. — услышал я голос молодой кадровички.
— Переписывай, — вздохнула приятная женщина.
Похоже, с такими кадрами они ещё не сталкивались.
Я взял новый лист.
«Спирин Лев Валерьевич, 1997 года рождения. Мать — Спирина Маргарита Александровна, преподаватель, умерла в 1997 году от внезапной остановки сердца. Бабушка — Спирина Вера Петровна, учитель младших классов, пенсионерка, умерла в текущем году.
Закончил среднюю школу № 28 и поступил в NГУ на биологический факультет.
Проживаю по адресу: ул. Декабристов, д. 110, кв. 88».
Эту биографию милые женщины одобрили.
Вы, конечно, уже поняли, что оба рассказа были правдивы.
Показать квартиру? Угловая хрущёвка. Две плавно перетекающих друг в друга комнаты, по площади не маленькие, но вытянутые, как плацкартные вагоны.
Я живу в комнате, которую бабушка называла «библиотекой». В ней от прежней хозяйки, выжившей из ума школьной директрисы, покончившей с собой, осталась туча книг — от пола до потолка.
Раз уж я взялся тут распинаться перед вами, сразу обозначу круг любимых писателей. Без них я бы сдох, честно. Слóва-то дома было кинуть некому. А книга дает иллюзию общения, да и собеседник почти гарантированно — не дурак.
Ну, конечно, Сэлинджер. Это вы, должно быть, заметили. И ничего с этим уже не поделаешь. Я тут прочёл, что он сказал перед смертью, мол, «Над пропастью во ржи» был его ошибкой. Ну да, конечно. Ошибка. А ничего, что благодаря этой «ошибке» я, может, до сих пор жив? Иначе ж таким, как я — нам только вздернуться. Ну, или как там, Холден? Оседлать атомную бомбу?..
Потом — Вишневский. Упаси Боже, не Януш Леон. Я про Вишневского Александра Александровича. Сероватая книжка «Дневник хирурга» с предисловием маршала Жукова. Прочитав её, я и решил стать хирургом. Но мой ВИЧ рассмеялся мне в лицо. И ничего, что вируса в моем организме благодаря лекарствам и нет почти. Да и придумали же кольчужные перчатки — это такая суперштука, которая ни при каких авариях не даст мне заразить пациента… И все ведь это прекрасно понимают. Но нет. Мне можно только в морг. (Хотя и туда нельзя на самом деле, просто анализ на ВИЧ сдавать не обязали.) Я изо всех сил стараюсь, чтобы в моих словах не звучала вселенская обида, но получается что-то не очень, да?..
Ещё мне Библия нравится. Но только Новый Завет. Ветхий вообще не понимаю и того Бога я не знаю и знать не хочу.
А вот персонаж из Нового Завета — тот, конечно, мне симпатичен. Я уверен, что если бы Иисус пришел в этот мир сейчас, то обязательно был бы ВИЧ-инфицирован. Гомосексуал, наркоман, распутник или просто сын ВИЧ-положительной Марии. (Кого вы там ненавидите, презираете или боитесь?) А что, тогда ведь считали его обманщиком, одержимым бесами, самозванцем — по тем временам самые страшные грехи…
Короче, я знаю, этот чувак — он на моей стороне.
Бабушка меня не любила.
Бывает так, что бабушка и любит, и не любит одновременно — ну, как у Санаева (вы меня простите за вторичность и ссылки на авторитеты, я же в первый раз что-то осмысленное пишу, и мне навыка не хватает…), а моя бабушка меня просто не любила.
Она была мной не довольна по умолчанию. И что бы я ни делал — я ничего бы не смог изменить. Я же ВИЧ+…
А чего быть довольной?.. Дочь росла вроде хорошей девочкой, а потом влюбилась в этого проклятого Валерку. И где познакомились?! В университете! Она пришла ассистентом на кафедру, а он — только после аспирантуры. Нищий был. У него были ровно одни брюки. Голову мыл хозяйственным мылом, треснувшие авторучки изолентой заматывал. Решил подзаработать. Ну и так подзаработал, что через полгода сам прочно сидел на героине, да и дуру-Марго туда же утянул.
Дура-Марго — это моя мама. Проклятый Валерка — папа. Хотя тут бабушка была не уверена, ведь «Марго была та еще проститутка последние годы, могла и от другого тебя родить, она уже ничего не соображала, прости Господи». Падение моих родителей было чрезвычайно быстрым. Потом я читал, что на героине люди могут и по десять лет жить с виду нормальной жизнью — только самые близкие в курсе их состояния. Моя же мама продержалась от первого до последнего укола всего лишь три года.
Бабушка хотела отдать меня в дом малютки, когда в полтора года диагноз подтвердили окончательно и мой ВИЧ уже навсегда врезался в ее жизнь, но Санпалыч из СПИД-центра отговорил ее. Сказал, что я хороший мальчишка, показатели отличные, а там, может, к моему совершеннолетию лекарство от ВИЧ изобретут.
Я — совершеннолетний. Санпалыч ошибался.
Бабушка в лекарство от СПИДа не верила, она почему-то думала, что и мама умерла от синдрома, а вовсе не от «отравления неизвестным веществом», как было написано в документах.
— СПИД, с***, я тебя ненавижу! — воздевала она руки к небу, если вдруг на неё накатывала печаль по ушедшей дочке и больному внуку.
Она осталась совсем одна. Дедушка умер ещё до моего рождения, старшая дочь уехала в другой город. Подруг не было — подозреваю, она намеренно их уничтожила. Какие подруги, когда в семье почти чума…
А я, «камень на ее хилой шее», совершенно не ценю того, что она меня не отдала в детский дом. Издеваюсь, грублю, не слушаюсь.
Когда она меня за это ругала, я всё не мог взять в толк, как же я могу вытворять все эти ужасы, если целыми днями один сижу в «библиотеке»?..
Короче, не любил я бабушку.
Я Нину любил.
Смуглеет салями, вызывающе поблескивает бутылка водки. Фрукты, конфеты, лимонад.
Радость. Праздник. Нина приехала.
Мне семь лет. Она вызволяет меня из моего невольного убежища:
— Иди поиграй с Ирой и Наташей.
Сначала я иду на кухню и ем деликатесы. Давлюсь от волнения. Ира и Наташа сидят рядом. Одной восемь, другой — десять. Они, конечно, и раньше приезжали, например прошлым летом, и Нина точно так же предлагала мне их компанию, и мы играли вместе, но за этот год они, как мне показалось, уж очень выросли. А я будто бы остался прежним. В общем, с моей семилетней точки зрения, они ужасно взрослые. Тем почётнее возможность поиграть с ними.
— Ты не боишься? Я бы на твоём месте к дочкам его не подпускала, — заводит бабушка старую песню.
— Нет, ВИЧ же не передаётся воздушно-капельным путем, сколько раз я тебе это уже говорила. И ты уже сними маску, мам. Ну, сколько можно?
— Вот ты так уверена, что не передаётся? — спорит бабушка. — Ещё каких-то двадцать лет назад и вируса-то такого не было, ну и как можно говорить, как он передаётся, а как нет?.. Ну уж нет, я согласна умереть от гипертонии, от инфаркта, от чего угодно, но не от того, что кожа станет, как у ящура. Нам инфекционист показал фотографию. Сказал, что если я таблетки ему давать не буду, то будет у него какая-то саркома, лимфома и вообще туберкулез…
Бабушка разрыдалась.
— Да ладно тебе, мам… — утешает ее Нина. — Мальчишка вон какой симпатичный, умный, безо всяких курсов к школе отлично готов. Еще нас с тобой переживёт!..
— Не дай бог! — Машет руками бабушка. — Кому он нужен, кроме меня?! На кого я его оставлю?
Я вращаю внутри себя чувство вины. Из-за того, что я родился с каким-то там плюсом, бабушка даже умереть спокойно не может. Вроде быть положительным — это очень даже и не плохо. Не зря про хороших персонажей в книгах и фильмах говорят — «положительный герой». А я положительный — и это почему-то страшная беда.
Но сегодня мне весело. Ира и Наташа.
Я же не сказал, кто такая Нина. Это падчерица моей бабушки. Когда бабушка вышла замуж за дедушку, у него была дочь, то есть Нина, рано оставшаяся без матери. У самой бабушки тоже уже была моя мама, совсем маленькая.
Уж не знаю, как проходило детство Нины и моей мамы, но бабушка говорила, что их обеих считала родными. Нина стала её отрадой, когда «дура-Марго» пустилась во все тяжкие.
Нина вспоминать мою маму, впрочем, не любила.
— Много о себе думала, вот и получила!.. — вот и всё, что изредка говорила она о сводной сестре.
…Помню, когда я пошел в школу, а привела меня туда, конечно, бабушка, сосед по парте на первом же уроке задал мне вопрос:
— Где твоя мама?
— Да так, умерла… — и добавил многозначительно: — Много о себе думала, вот и получила!
Сосед посмотрел на меня со смесью удивления и почему-то уважения…
А я с детства занимаюсь маминой арифметикой. Её год рождения, 1972-й, отнимаю от нынешнего. И считаю: а сколько бы ей было сейчас лет? Какая бы она была? Я почему-то уверен, что с годами мама бы становилась красивее, умнее, счастливее. Жизнь бы наполняла её. Но к чему эти фантазии.
Мамы у меня нет, не было и не будет.
А Нина работала журналисткой в издательском доме «Провинция». В соседнем городе. У нее было мало свободного времени, но все же она выкраивала пару дней раз в три месяца, чтобы навестить нас. И этих дней я так ждал, как и шахтеры не ждали зарплаты в год моего рождения…
Я тут недавно выбрасывал старое бабушкино постельное белье, и в каких-то проштампованных наволочках нашел заметку из газеты «Провинция» под заголовком «ВИЧ — наш бич». Речь в ней шла о мальчике Л., родившемся от ВИЧ-положительной матери, которого растит нищая бабушка-учительница. Концы с концами они сводят еле-еле, хоть Л. и получает от государства две пенсии: как сирота и как ребенок с ВИЧ. Мальчик красив, активен и с виду здоров. Зачислен в общеобразовательную школу. Но что ждёт его в будущем? — задается вопросом автор статьи. Готово ли общество принять не такого, как все?..
Автор — Нина. И хоть сейчас я понимаю, что статья-то написана совершенно беспомощно, я благодарен ей хотя бы за такое участие в моей судьбе. Чёрт возьми, ведь именно этого мне и не хватало всегда.
Л. — это я. Я уже писал, что меня зовут Лев?.. Более долбанутое имя сложно себе представить, я считаю. В детстве я недоумевал: зачем меня так назвали? Почему не Бегемот, не Заяц, не Улитка?.. Потом свыкся. А бабушка объяснила. Медсестра ей сказала, когда она примчалась ко мне в реанимацию, что сейчас на небе созвездие Льва вот прям в ударе, и надо дать парню такое же сильное имя, как и знак Зодиака.
Эта же медсестра — видимо, в ее голове кипел эклектичный эзотерический суп — настояла на том, чтобы меня окрестили там же, в реанимации. А у меня ломка, представляете? Молодой священник, по ходу, до этого младенцев видел только на благостных мероприятиях в стенах храма, поэтому тощий красный червяк, исходивший поносом и бьющийся в конвульсиях, произвел на него тяжкое впечатление. Жалких десять минут покудесил он над моей душой и предпочел покинуть аскетичные интерьеры реанимации. Мне неудобно — может, я ему до сих пор в страшных снах являюсь? Или я много о себе думаю?..
Вообще, да, я много о себе думаю. А о ком думать? Вокруг меня слишком долго не было ни одной живой души…
Конечно, я немного преувеличиваю. Был у меня друг. Всего один, Рома. Он, в отличие от меня, в медицинский всё же поступил, счастливчик, и в морг мы пошли работать вместе…
О моём диагнозе одноклассники не знали. Знали только школьная медсестра и директор. Она-то меня в школу принимать не хотела, но Нина пригрозила ей прокурорской проверкой — не все в порядке было в школьной бухгалтерии… И строго-настрого приказала директрисе молчать о моем ВИЧ, ведь если бы узнали родители других школьников, началось бы такое… Хотя в семь лет, когда я пошел в школу, я, честное слово, не собирался ещё ни с кем заниматься сексом, да и наркотики в этом возрасте обычно не принимают. Но ведь все эти квохчущие над своими здоровыми детьми родители уверены, что я только и думаю, как передать свой гадкий вирус их чадушкам — а ну как покусаю, или поцарапаю, или ещё что?.. Они находятся в перманентной истерике по поводу ВИЧ, поэтому никогда не услышат, что так он не передаётся…
Но не сближался с одноклассниками я, в общем, по другой причине. Класс наш был «Э» — экспериментальный. После седьмого набрали двадцать восемь ребят (девочек почему-то не взяли) с большими способностями к естественным наукам, но все не могли быть равны. Те, что были умнее, не могли отказать себе в удовольствии подкалывать менее успешных в учебе. Ну и, конечно, не в выигрыше были прыщавые, толстые, чересчур скромные (по этой причине никто, кроме меня, не дружил с Ромой)… Также не любили рыжего долговязого Зайченко, родители которого были к тому же алкоголиками. Не пользовался авторитетом и узбек Чингизов, хотя учился он превосходно. Я болтался где-то между двух миров — успешных и отверженных — и боялся: только бы никто не узнал о моём ВИЧ, ведь это окунуло бы меня лицом в компостную яму.
Я и по сей день молчу про свой диагноз. Нет, не то чтобы я хотел каждому встречному о нем рассказать, просто как бывает: пью, например, в универе утреннюю таблетку, а у меня спрашивают: это что? И мне каждый раз врать, что это витамины? Пожизненные такие…
Или ещё, ну, это уже лирика. Выпиваю, скажем, на пару с другом бутылку-другую вина или пива бутылки три. И тянет меня на философию. Вдруг становится страшно, что не сегодня, так завтра вирус опоясает меня лишаем, обозначит мои лимфоузлы одутловатыми сливами, наградит несбиваемой температурой месяца так на два… Я знаю, как работают мои таблетки, и понимаю, что эти страхи беспричинны. Но болезнь, как ни крути, полностью вылечить нельзя. Рассказать о том, что на душе — необходимо, но раскрыться страшно. Велик риск, что собеседник натянет на себя накрахмаленную маску — нет, не ту, что носила моя бабушка, а метафорическую, ментальную, и я в эту секунду погибну для него, а он — для меня…
Итак, Рома был единственным человеком в моём окружении, которому я, собственно, как-то за пивом и сообщил:
— Знаешь, а у меня ВИЧ.
Он чуть не упал с трубы, на которой мы, будто гопники, а не студенты приличного вуза, сидели тем сентябрьским полднем.
— Ну, она хоть красивая была? — попытался пошутить Рома.
— Кто? — не понял я.
— Ну, девчонка, от которой ты заразился…
— А, девчонка!.. Ну да, ничего такая. Ну, не сказал бы, что девчонка… Ей уже 25 было.
Рома присвистнул.
— Фига ты, Лео. Честно, вот никогда бы не подумал, что ты способен с такой опытной…
Я ржу:
— Меня заразила моя мать. Скорее всего, это произошло во время родов.
— Извини… Блин, я, к сожалению, мало знаю о ВИЧ, — смутился Рома. — Как тебя поддержать?
— Всё нормально, — ответил я. — Я этого вируса и не ощущаю… Просто захотелось сказать…
— Вечером будешь? — перевел тему Рома.
— Где?
— Где, где?! Ну, мы же с тобой договаривались. В антикафе. Там сегодня «Прыщи и бёдра» выступают. Забыл, что ли?
Точно. Солистка «Прыщей и бёдер» (самокритичное название), филологическая студентка Диана, мне нравилась. Такая мягкая, полноватая флегма. Ей бы в библиотеке книги выдавать или в садике хороводы с детьми водить, но она, облачившись в рваную майку и наведя странный макияж, пела то, что сама определяла как трип-хоп. В принципе это было стильно и довольно интересно. Я думал, что вот к ней-то можно было бы подкатить и предложить проводить её домой и все такое. Она внушала мне доверие. Хотя что я вам вру?.. Какое доверие? Не доверяю я никому.
Не доверяю и не верю. Но надеюсь. Я читал, что это всё потому, что мне ещё только восемнадцать…
Слово «хипстер» уже отмирает вместе с «Look at me», но околохипстерская мода остается. Эта одежда, эти тусовки, соответствующие фильтры в инстаграме…
Кирпично-красные узкие джинсы, чуть подвернутые, зеленая толстовка, кеды. В любую погоду кеды. Оголённые щиколотки.
Собственно, комплектов одежды у меня всего два — есть еще, наоборот, зеленые джинсы и красная толстовка (её особенно люблю — на ней нарисован Маяковский). Начну нормально зарабатывать — накуплю себе одежды. Стильные шмотки я обожаю, как бы говорю себе: «Ну и что, что у меня этот поганый вирус, зато я красивый, чёрт возьми!»
Короче, раньше бы сказали, что тем вечером для антикафе я оделся, как пидор. А теперь так одевается каждый второй. Вдобавок я побрился налысо и художественно выбрил небольшую бородку. В то время как у моих сверстников только начинает появляться редкая растительность на щеках, я уже борюсь с серьёзной щетиной. На вид мне куда больше восемнадцати. Придётся жить экстерном, сказал я зеркалу, когда это впервые обнаружил.
Это чёртово бритьё меня выбило из колеи. Я совершенно забыл о времени. На выступление я опоздал и пения Дианы не услышал.
Открыв дверь в зал антикафе, я погрузился в непривычную, чуть натянутую псевдоинтеллектуальную атмосферу. У импровизированной сцены происходила настоящая драка. Как я понял через пару секунд — женская. Девчонка с дредами что есть сил лупасила солистку «Прыщей и бёдер». Та еле отбивалась, хоть и была выше и крупнее соперницы. Их пытались разнять, впрочем, как-то вяло: общеизвестно, что женские драки обладают особой сексуальностью и иной раз за ними приятно понаблюдать.
— С***, чтоб ты сдохла, тварь! — лютовала девчонка с дредами. — Ты же мне нос сломала, уродина жирная!
Тут их, наконец, отлепили друг от друга.
— Вроде и правда нос сломан! — заключила подружка девчонки с дредами.
— Пропустите, я студент-медик, — соврал я, пробираясь через толпу к девчонке.
Рома уже занимался Дианой — я мельком увидел ее расцарапанное в кровь лицо.
На лице же девчонки с дредами крови не было, но нос сильно отек. Она уколола меня злым взглядом. На вид ей было лет шестнадцать.
Я осторожно дотронулся до ее лица. Пальцы мои были взволнованно мокрые. Не люблю, когда они такие.
— Ай, больно же, студент, — капризно простонала она.
— Нет никакого перелома, — диагностировал я. — Просто ушиб.
Я вытащил ее на улицу. Она была пьяна.
— Тебе сколько лет? — спросил я.
— Ой, только не надо вот этого, — отмахнулась она.
Её стошнило. Я протянул ей влажные салфетки и бутылку воды.
— Я сдохну, — прошептала она, завязывая в узел облёванные дреды.
— Нет, проспишься, и завтра всё будет по-другому…
— Я не об этом, — сказала она. — Меня рвёт при красивом парне. Вот это конец света.
— А ты трезвеешь. Спасибо за комплимент.
Ее рвало, знобило, шатало. Минут примерно сорок. И я подумал — что-то в ней есть.
— Ну, всё? — спросил я, когда она начала клевать носом. — Пора к мамочке под крылышко?
— Я не люблю свою мать, — буркнула она.
— А я свою вообще ненавижу. И поверь, как бы с тобой ни поступала твоя мама, по сравнению с настоящим преступлением моей — это цветочки.
— Какое преступление?
— Родила меня… Да забей, долго рассказывать. Лучше скажи, как тебя зовут?
— Ариша, — выдала она наивный детский вариант своего имени.
— Да какая ты Ариша! — рассмеялся я. — Ты целое Аринище!..
— Сам такой, — обиделась Арина. — А я сорок пять кг вешу!..
Мы сели не на тот автобус — я совсем не знал, как добраться до района, где живет Арина, — и доставил ее домой лишь ближе к полуночи. Дверь открыла полная женщина с вишнёвыми волосами.
— Это с тобой она, значит, последнее время шляется! — с порога заголосила она. — Она несовершеннолетняя, ты имей в виду! Наверняка это чучело уже прыгнуло тебе в постель!..
— Не кричите, пожалуйста, — попросил я. — Я вообще-то с Ариной почти не знаком… Вы хоть заметили, что у неё ушиб? Проследите за её состоянием, мало ли, появятся симптомы сотрясения.
— О Боже, как же так, — запричитала Аринина мама. — Может, «Скорую»?..
— От «Скорой» толку не будет. Пусть она поспит, а если наутро что-то будет беспокоить, кроме похмелья, тогда в травмпункт.
— А ты что, врач?
— Нет, я студент. Биолог…
— Господи, да за что же мне такое наказание, — рыдала Аринина мама, стаскивая со спящей, но продолжающей сопротивляться дочери, обувь и куртку. — Как я боюсь, что совсем пропадёт. Или с наркотиками свяжется, или в подоле принесет… А ты с ней дружишь, общаешься, или что?..
— Мы случайно познакомились. Я просто ей помог добраться.
— Спасибо тебе. Чаю хочешь?
— Хочу. Я и есть хочу, если честно…
Вообще, она оказалась вполне милой. Простая русская женщина, как о них обычно говорят. Двадцать лишних килограммов, халат на молнии, пища, жаренная в большом количестве масла… Галина Геннадьевна.
— А ты хороший мальчик, — оценила она меня.
В полный восторг я привел её рассказом о том, что в свободное от учёбы время я подрабатываю в патоморфологическом отделении (она не знала, что это морг, а название отделения звучало солидно) и что у меня есть собственная квартира. А еще будущая профессия у меня перспективная. За биоинженерией будущее, заверил я Галину Геннадьевну.
— Ты Аришке позвони завтра, — сказала она вкрадчиво. — Пригласи её куда-нибудь. Она неплохая девчонка, честное слово, хоть и выглядит как чучело, прости господи. Она учится хоть и не то чтобы хорошо, но умненькая, читает много, на флейте играет… Наверно, это всё возраст этот переходный. Проклятущий…
Пригласить куда-нибудь?.. Это очень щепетильный вопрос, несмотря на то что девчонки (из параллели, с подготовительных в институте или те, что встречались мне на концертах или в кино) в принципе симпатизировали мне… Неизменно я записывал номер какой-нибудь новой знакомой, но ни разу никому не позвонил. Ни в одной из них я не видел той, кому можно было признаться в том, что я болен, не предчувствуя мгновенного вежливого отказа.
Я и девственности планировал лишиться с проституткой, но в последний момент что-то пошло не так. Не уверен, что это так уж интересно, но расскажу.
Еще когда мне исполнилось четырнадцать лет, Нина привезла мне свой старый компьютер. Я очень просил. «Для учебы надо», — говорил.
Интернет, конечно, здорово изменил мою жизнь.
Параллельно с миром любимой полостной хирургии, еще шире открывшимся для меня (книги, статьи, видеозаписи операций), я обрел некое физическое удовлетворение благодаря доступной в интернете разнообразной порнухе. Я подозревал, что этим мне и придется пожизненно ограничиваться, потому что примерно с этого возраста бабушка начала систематически повторять:
— Не вздумай ни с кем спать! Не порти девчонкам жизнь!..
Она убедила Нину больше не возить к нам Иру и Наташу. «А если он с ними переспит? Мало ли что в его спидушную голову придет!» — говорила она Нине. Вскоре и сама Нина свела на нет общение со мной. Она словно не знала, что ей со мной, подросшим, делать. Её краткие визиты постепенно стали полностью подчинены общению с бабушкой.
Мне не были нужны ни Ира, ни Наташа, ни прочие девчонки, с кем я знакомился в интернете и в жизни. Ни одна не сбивала моего дыхания. Кроме того, я хорошо помнил постулат, который с этого же возраста начал вдалбливать мне Санпалыч: перед сексом обязательно рассказать о своем ВИЧ. Презерватив может и порваться, и хоть на препаратах вероятность заразить мала, но всё же она есть.
— Твои партнерши имеют право знать о рисках заранее, — говорил он дежурно.
— Да какие партнерши, — смеялся я в ответ. — Нет у меня никого. И, может, не будет…
Я представлял ИХ лица, когда я им говорю: «У меня ВИЧ», и все мои желания отступали…
— Тогда только с проституткой, — заключил Рома, выслушав в очередной раз жалобы на мое невыносимое сексуальное томление: «Почти восемнадцать лет, а я еще…». Странно было слышать от скромника Ромы такой совет, да и показался он мне мало осуществимым, однако засел в подкорке.
Мне всегда казалось, что использовать других людей нехорошо, даже если ты им за это платишь. К тому же от бабушки я знал, что моя мама вплоть до родов промышляла этим занятием, и я смущался от мысли, что могу воспользоваться услугами её коллеги.
Но… Прошел месяц, как умерла бабушка. Из её «гробовых» оставалось пять тысяч. И вот я листаю фотки в специализированной группе «ВКонтакте». Я выбрал шатенку «Сару» двадцати пяти лет. На лице у неё глубокие кратеры, тщательно подмазанные тональником. Я люблю женщин с несовершенной кожей. Они кажутся мне более настоящими.
— Боже мой! — воскликнула Сара, пересчитывая купюры. — Ну, если уж с тобой, мальчик, никто бесплатно не хочет, ну тогда я не знаю…
— У меня ВИЧ.
— Да не гони!..
— Это правда.
— Ну и ладно. ВИЧ и ВИЧ. Я знаешь скольких вичёвых знаю. Люди как люди.
— А ты толерантна.
— Что?
— Да ничего…
— Ты ещё и умный, — сказала она, как-то по-матерински потрепав меня по щеке.
И вот после этого жеста я совершено не мог представить себя вместе с ней и решил, что не буду я с ней заниматься сексом…
Сара начала было раздеваться, но тут у нее зазвонил телефон. Она хотела нажать на «отбой», но я сказал:
— Да ладно, ответь… — на экране высветилось слово «мама».
— Соска на микроволновке мам… Ну посмотри внимательнее… Да куплю я смесь. И продуктов куплю. Да, привезут. У нас всех кассиров развозят. Ну ладно, мам, я работаю.
Она была похожа на лошадь, в которую влили ведро крепкого кофе и заставляют возить туристов на площади. Поговорила — и опять напускная веселость на лице.
Я перехватил ее руку, устремившуюся к моему ремню.
— То есть я хочу секса, а ты хочешь заработать на покушать и купить ребенку смеси, так?
— Ну так, — она пожала плечами. — Сейчас кризис. Раньше мне хватало не только на покушать. А теперь мало клиентов стало — ну, в сравнении с тем, что два года назад было… Так еще и родила. Ему то одно, то другое надо. Кошмар. Ну чё, начнем? Скоро за мной приедут…
— Ты знаешь, я передумал, — сказал я. — Иди. Я… не хочу…
— Почему?
— А ты мне не нравишься, — не нашел ничего лучше, чем в очередной раз соврать.
— А ты мне понравился, прикинь? Молодой, красивый. Не нахал. Ну не хочешь — как хочешь… Слушай, а можно я полежу?.. Устала, как сволочь.
Она отвернулась к стене и закрыла глаза.
…А когда она уходила, я решил, что драматургия ситуации вполне позволяет ее поцеловать. К тому же я хотел проверить, правда ли, что у проституток действует правило «только не в губы». На поцелуй она ответила с готовностью и почти с жадностью. Я ей действительно понравился. Или надо было хоть как-то отработать пять тысяч?..
— Ну всё, мне пора. Я бы осталась, но…
— Работа ждёт?
— Ага.
— Сара! — кричу ей в след. — Сдай на ВИЧ…
— Но у нас же ничего не было…
— Давно у тебя эти штучки на коже? Похоже на контагиозного моллюска…
— На что похоже?.. — переспросила она.
— Проблемы с кожей, говорю, давно у тебя? Такое иногда бывает при ВИЧ…
Она озабоченно поскребла щеку.
— Хорошо, сдам — ответила она. — Хотя даже если и ВИЧ, это не самое страшное. Чего со мной только не было… Я уверена, что самое ужасное в моей жизни уже позади. Дагестанский мальчишник. Я потом не верила, что осталась жива. Клиент-шизофреник — не выпускал меня из своей квартиры несколько дней — три пальца мне, помню, сломал… Ещё был бордель в Турции, ой, не буду продолжать. А ВИЧ, что ВИЧ? Есть ведь лекарства какие-то? Ну и прекрасно…
Ушла. Слава богу, подумал я, вновь оставшись один.
А ведь мне могло бы с ней быть хорошо. Но я с детства не научен радоваться жизни. Это надо уметь. Я, видимо, не способен.
На следующий день я позвонил Арине.
— Ой, привет, — сказала она. — Я тебя, правда, почти не помню, но мама говорит, что я должна считать тебя своим ангелом-хранителем. Может, ты меня ещё раз выручишь? Я вчера в этом сраном антикафе флейту забыла. Ну как забыла… Я же этой идиотке пару раз дала флейтой по ее немытой башке, и потом она куда-то делась… А флейта — самое дорогое, что у меня есть. Давай сходим, ты заберешь ее… А то мне стыдно туда заходить…
— Хорошо, — согласился я.
Я чертовски волновался. Ещё раз выбрил голову, хотя что там могло отрасти за сутки. Подправил бородку. Полчаса симметрично закатывал штаны.
Это было не то чтобы свидание, но волновался я так, будто мне придётся сегодня делать ей предложение. Что я за человек? Может, я эту Арину больше и не увижу никогда…
Протягиваю ей застывшую в никеле утонченность и гармонию — ее флейту:
— Если бы я не знал, ни за что бы не подумал, что ты играешь на флейте.
— Я хорошо играю!.. Это лучший инструмент в мире! Хочешь послушать?
Сыграла. Я похвалил:
— Молодец.
Хотя мелодия меня ничуть не тронула. Я к музыке, как и к ещё тысяче вещей, равнодушен.
— Знаешь, почему я подралась с этой с****?! Мы с ней договорились играть вместе. Моя флейта, ее вокал. Репетировали, выступили на той неделе. Выступление классное получилось. Я, дура, радовалась, обнимаю ее, говорю, вот как здорово, Дианка, вышло! И я думала, ей тоже понравилось вместе работать. И что в итоге? Я приезжаю на выступление в антикафе, а она говорит — я передумала насчет флейты, извини. Тварь жирная. Она просто не захотела делить со мной успех. Сволочь! Поэтому я на концерте хорошенько напилась, а потом решила показать ей, где раки зимуют. Знаешь, как мне перед моими друзьями было стыдно? Я же пригласила их на выступление… Не, ну скажи, в чем я не права?
— Ты абсолютно права, — успокоил я ее. — А теперь плюнь и разотри.
Я смотрел в её глаза. В них — надлом и досада от житейской неудачи, мини-предательства. Её искреннее проживание жизни меня очень тронуло. Я не знал, что это такое — вся эта невротичность, горячка чувств. Уже давно ничто меня, кажется, не способно вывести из себя.
Умерла бабушка — я просто пожал плечами, сообщил об этом соседке и доверил ей все сделать самой, вручив найденные у бабушки в шкафу «гробовые». А сам ушел на неделю жить к Роме.
Так же и с Ниной. Я уже говорил, что когда я вырос, она отдалилась от меня. Помню, осознав это, я немного всплакнул. Но быстро понял: то, что я совсем один — это, во-первых, неизбежно, а во-вторых, к лучшему. Меньше привязанностей — меньше боли. Или я так себя утешал?..
Мы целовались, как сумасшедшие. Это были не поцелуи, а борьба какая-то, честное слово. У меня даже заболело лицо.
Продрогли на холодной скамейке, вдобавок начался дождь.
— Пойдем к тебе домой! — неожиданно предложила Арина. — Ты же один живешь?
— Один, и именно поэтому я неделями не мою посуду и не делаю уборку. Мне и пригласить тебя неудобно. А вообще, не в этом дело. У меня дежурство через два часа.
— Ну вот, а я так хотела с тобой переспать!..
— Успеем ещё, — сказал я (не верится — о боже, о чём я веду разговоры!). — Ариша, маленькая моя, я тут недавно переспал с проституткой, так она и то вела себя чуть скромнее…
Дурацкая хвастливая ложь. Идиот. Приятно это, что ли, цеплять самолюбие симпатичной тебе девчонки?.. Не знаю.
— Ну и иди к своим проституткам, — надулась Арина. — Я просто говорю что думаю. Ты мне нравишься. Может, мне еще никто не нравился так, как ты. И вообще, ты вызываешь у меня доверие… Почему мы не можем просто заняться сексом? Для этого надо полгода ходить за ручку, признаваться друг другу в любви? А так просто нельзя?.. Просто потому, что хотим?
Что же в этот момент меня так очаровало? Её дикция. Говорит она быстро, четко, аргументы летят в меня взрывными вспышками.
— Приходи завтра вечером, — я заткнул её поцелуем. — Я тебе адрес «ВКонтакте» скину.
Вся моя горе-семья — филологи. А вот я таланта складно излагать мысли не унаследовал. Вечно перескакиваю с одного на другое. Про морг вот все никак не соберусь рассказать.
По великому знакомству туда сначала попал Рома (его дядя — не последний врач в областной больнице), а за ним и я. Работа хлебная. Родственники наших клиентов обычно щедро доплачивали за дополнительный сервис. И никогда не торговались.
Эти сутки, правда, выдались не денежными. Привезли всего одного мужика. Никаких родственников не объявилось. Почему — красноречиво объясняла его саркома Капоши во всю задницу.
— Бедняга, — вздохнул я. — Этот гей мучительно умер.
— С чего ты взял, что он был геем?! — спросил Рома отчего-то взволнованно.
— Ну, здрасьте. Кто из нас будущий медик — я или ты? Ты на локализацию саркомы глянь. Не лечился он, судя по всему, совсем. Кахексия. Рот весь в кандидозе.
Ужас нарисовался на Ромином лице.
— Лео, я не верю, что и ты когда-нибудь вот так… Когда видишь это своими глазами, совсем по-другому воспринимаешь ВИЧ. Я всё время думал, что меня это не касается… Наверно, для врача я слишком впечатлительный.
— Ничего, это пройдёт, — ржу я. — Поработаешь в морге, трупы покромсаешь на учебе — к шестому курсу успокоишься. А если нет — пойдешь ко мне ГМО изучать. А умирать я не собираюсь. Нет, ну, то есть собираюсь, но не от СПИДа. Полно других причин для смерти. Короче, я настроен оптимистично.
— Уж куда оптимистичнее, — покачал головой Рома.
Да, сильно он расстроился из-за саркомного мужика. Или другие были причины. Я спросить не решился.
Оказалось, я тоже впечатлительный. Мне как раз снился тот мужик с саркомой, снимающий ее с себя, как кольчугу, и передающий мне, как я услышал звонок в домофон.
Я почему-то не верил, что она на самом деле придёт.
— Чуть не проспал своё счастье, — сказал я.
На пороге моей квартиры стояло именно что счастье. По законам жанра она была в летящем белом платье, дреды собраны в пучок, пирсинг из губы убран. На лице — тот минимум косметики, который мы, парни, обычно и не замечаем.
Но Арина была бы не Ариной, если бы не надела к белому романтичному платью гады, а за плечи не повесила бы огромный брезентовый рюкзак.
— Тут все мои вещи, — пояснила она. — Мало ли, мне тут понравится. Ты один в двухкомнатной квартире, не откажешь же ты мне в пристанище, так сказать?..
— А мама знает о твоих планах?
— Она выгнала меня из дома. Я сделала татуировку.
— Это какую надо было сделать татуировку, чтобы мама на тебя так агрилась?..
— Смотри, — и она приподняла платье. На бедре умудрилась поместиться длиннющая фраза: «Все умрут, а я останусь».
— Очуметь. Никогда еще не видел красивых татух на русском. Твоя — ничего такая.
— На самом деле, она выгнала меня не из-за тату. Это просто предлог, да и не выгоняла она. Сделала так, чтоб я сама ушла… Она нашла себе мужика. Квартира-то у нас однокомнатная, я мешаю… А ты ей нравишься, она тебе доверяет. И я тебе пригожусь — от меня может быть очень большая польза.
— Да? Это какая?
— Готовить умею. Нет, ну, правда. Порядок буду поддерживать. Ремонт вот надо сделать. Ну, хоть обои переклеить. А то смотри, плесень ползет, ужас… Как ты тут живешь?
Она помыла посуду и поставила вариться картошку.
— Ты странно хозяйственная для своих лет, — сказал я.
— Суровое мамино воспитание, — усмехнулась Арина. — Она меня родила, как это называют, «для себя». Папашу своего я ни разу не видела, он, получается, был кем-то вроде донора спермы… Помочь со мной маме было некому, а работать надо было. В садик я редко ходила — я страшный аллергик была, от садиковой еды покрывалась красной коркой. Со мной то соседка сидела, то подруги мамины… Лет с трех я стала оставаться одна на полдня. В шесть уже стала себе готовить. И вообще пришлось многому научиться…
Я раскачивался на трухлявой табуретке и наблюдал за тем, как она хлопочет на моей сиротской кухне. Чёрт, в этот момент мне казалось, что солнце вытащило все свои лучи и обрушило их на мое жалкое жилище.
Сейчас я ей скажу о своем диагнозе, и солнце, возможно, погаснет. Но, наверное, тянуть с признанием не стоит. Пусть лучше уходит сразу.
В такие минуты моя ненависть к матери, судьбе, Господу Богу достигала апогея. Какого бы циника я из себя ни изображал, а самое страшное в этом гребаном мире — быть отверженным. Никогда не получится полного одиночества, стопроцентной независимости. Ты всегда будешь прикидывать, а не пошлют ли тебя куда подальше с твоей заразой и перспективой лимфомы и туберкулеза…
…Арина сказала только:
— Бедненький. Это больно?..
— Ничуть. Но, к сожалению, заразно. А еще неизлечимо, да.
— Я могу спросить, как это случилось? — осторожно спросила прежде казавшаяся мне диковатой Арина (и откуда в ней столько такта вдруг нашлось)?..
— Как я заразился? Меня родила инфицированная женщина. Что ещё сразу объяснить, чтобы постоянно одни и те же вопросы не всплывали?
Она замялась:
— А сколько… сколько…
— Сколько я проживу? — уточнил я. — Не знаю, и никто не знает. Говорят, есть такой вариант, что можно мучить планету весь свой биологический возраст…
— Ну и прекрасно, — пожала плечами Арина. — Ты мне только дай что-нибудь про ВИЧ этот твой почитать или видео какое посоветуй посмотреть… Для общего развития. Не, ну про презервативы я знаю, конечно, а больше ничего…
— И еще что от СПИДа умер Меркьюри, да?
— И Айзек Азимов, — добавила Арина.
Она задёрнула шторы.
Арина поселилась у меня. Ее мама и правда была не против. Фантастика — ведь мы были знакомы всего несколько дней.
— Шестнадцать лет — это, в общем, нормальный возраст, чтобы жить с мальчиком, — излагала Галина Геннадьевна у меня на кухне свою позицию. — Не запру ж я её дома, если она так влюбилась… Главное, предохраняйтесь… Она для ребёнка еще мала, да и тебе-то всего восемнадцать. Ты не думай, что я от Аришкиных дел отстраняюсь — я ей 500 рублей в неделю буду давать и всё ей покупать, что надо — ну, одежду, учебники… В школу буду наведываться, если надо. И к вам буду заходить. Ну, по звонку, конечно…
Она говорила торопливо — внизу, в машине её ждал тот самый Володя, Аринин новоиспеченный отчим.
— Противно, — сказал я Арине, когда ее мама ушла.
— Ты о чём?
— О том, что она ко мне хорошо относится до того момента, пока не знает, что у меня ВИЧ.
— Это конечно… — согласилась Арина. — Но ведь и ты не готов говорить о ВИЧ, как об обычном заболевании. Ну, как если бы у тебя был диабет. Представляю, как ты боялся мне об этом сообщить… Начни с себя.
Я медленно закипаю. Я закипаю? Это интересно.
— То есть я сам виноват, что с детства меня в хлорную яму затаптывают? Так?..
— Ты виноват в том, что чувствуешь себя виноватым. Ясно тебе? Или я непонятно объясняю?
До меня начало доходить. Она была, конечно, права, но я привычно юродствовал.
— Ну, теперь я жду пару заключительных выводов из американской психотерапии, что надо полюбить себя и блаблабла, — проворчал я.
— Вот ты смеёшься, а ведь это так и есть, — укоризненно сказала Арина. — Иногда самая попсовая истина из какого-нибудь тупого паблика «ВКонтакте» оказывается настоящей правдой. Но мы слишком умные и циничные, чтобы это принять, да?
Она всё это говорила вроде бы между делом. Мы как раз в четыре руки чистили ванну, ещё в прошлом веке покрывшуюся колкой ржавой чешуей. (С Арининой подачи мы активно приводили запущенную квартиру в порядок: «Твою болезнь я не вижу, а вот квартира твоя точно больна», — говорила мне она, и мы переклеили обои, покрасили подоконники и даже перестелили линолеум). И я все эти дни ходил с блаженной улыбкой: со мной рядом не девчонка шестнадцати лет, а генератор мудрости и душевности. За что мне такое счастье? Может, я правда клевый чувак, и действительно этого достоин?..
— Я люблю тебя, — сказал я.
Нечаянно сказал, представляете? Само вырвалось.
— Чего? — переспросила она и отвлеклась от неподатливой ржавчины, взглянув на меня будто бы удивленно.
— Да ничего, — смутился я.
В её стиле было бы сказать на это что-то типа: «Спасибо, конечно, а я-то думала, между нами только секс. Может, пивка?», — но она ответила очень серьёзно:
— Я тебя тоже.
Вот и всё, сюда, в мою ванную, можно было звать тетеньку из загса, священника, да хоть Господа Бога.
Мы откусили наш кусочек вечности.
Каждые три месяца в СПИД-центре меня ждал Санпалыч, главный инфекционист. Он называл меня «старина». Конечно, мы же уже восемнадцать лет знакомы.
В этот раз я пришел к назначенному времени, а его не было. Пришлось ждать в коридоре. Образовалась очередь. Двое явных гомосексуалов (когда я был ребенком, они составляли куда более обширную часть моих товарищей по диагнозу, а теперь теряются на общем фоне), с десяток девчонок и парней, с виду обычных студентов, несколько серьёзных, будто утюгом приглаженных мужчин около сорока, а ещё молодые мамы с детьми на коленках… Некоторые из них мне наглядно знакомы — посещения инфекциониста у нас примерно в одни даты, мы обмениваемся кивками и дежурной фразой «Ну, как клеточки?».
Особняком держалась женщина ближе к пятидесяти годам. Думаю, это один из ее первых приходов в СПИД-центр — на ней не было лица. Ничего, привыкнет. Это теперь на всю жизнь.
— Как думаете, может, мне противотуберкулезную попить? — спрашиваю я Санпалыча.
— Так у тебя же нет туберкулёзных проявлений уже года три. Зачем? Что-то беспокоит?
Я замялся:
— Да нет…
— Ну тогда с противотуберкулёзными подождем пока. Клетки хорошие, иммунный статус приличный. А настроение как?
— Прекрасное, — улыбнулся я.
Он поднял на меня глаза.
— Влюбился, что ли?
— Ну, типа того, — хмыкнул я. — А всё-таки, Санпалыч, может, изониазида мне, а?..
— Смотри сам, но я не вижу причин.
Он не знает, где я работаю. Если б я рассказал, то он не изониазид бы мне рекомендовал, а уйти из морга и искать другую работу. Я — в группе риска. Но я себя убеждаю — это же не значит, что я обязан заразиться. Главное, что у меня теперь есть деньги. Иметь деньги — это большое счастье, оказывается.
— Слушай, старина, ты мне вот что скажи, почему ты прием нашего нового психолога уже второй раз пропускаешь? Она мне жалуется на тебя, — говорит Санпалыч.
Я шумно выпускаю воздух из ноздрей.
— Ну, Санпалыч, ну мне что, делать нечего? Что она мне нового может сказать? Или тесты опять полтора часа делать, как с прошлой психологиней? Да нормально я со своим ВИЧ живу, нормально…
— А она расстраивается, что именно ты не ходишь.
— Любопытно посмотреть на «плюса» с рождения?.. Так я вроде не один тут такой…
— Я ей рассказал, какой ты у нас оригинал. Ну зайди ты к ней. Она вроде на месте сейчас. Хорошая девчонка. Знаешь, это ведь не столько тебе нужно, сколько ей. Для опыта.
— Только у меня времени пять минут, на учебу опаздываю, — я делаю одолжение и иду в кабинет психолога.
Там всё завалено книгами, папками, бумагами… Встречались упаковки из-под косметики и обертки от продуктов. Кажется, новый психолог практически жила на работе. Войдя, я ее не сразу и увидел-то из-за бумажной груды, да и она, погружённая в чтение, не заметила, что в кабинете не одна.
— Ку-ку, — говорю. — Я пришел.
— Кто «я»? — оторопела психологиня, подняв на меня взгляд.
Она была совсем молодая, года двадцать два-двадцать три, не больше. Худенькое строгое лицо, переливчато покрашенные волосы, огромные очки, четко прорисованные брови — в общем, всё по сегодняшней моде.
— Да ладно, — я вальяжно устраиваюсь в кресле. — Ну-ка, кого вы очень хотели увидеть?
— Спирин, это вы?
— Именно!
Она рассмеялась:
— Правильно мне о вас Санпалыч говорил. Вы интересный. А меня зовут Анна Антоновна. Ну что, давайте начнём? У меня есть пара тестов, очень хороших… Чёрт, что-то не могу их найти… Такая зелёная папка…
— Ань!..
— Что? — удивляется. — Какая я вам Аня? Лев, сохраняйте, пожалуйста, субординацию!
Иногда на меня нападает это безудержное, почти дикое желание вознести себя над ситуацией, и я ничего не могу с собой поделать. Продолжаю хамовато:
— Ань, ну ты же сама, наверное, успела уже понять, что поход к психологу СПИД-центра для нас всех — это просто формальность. Вы нам ничем помочь не можете. Ваши тесты, ваши советы — полная ерунда.
— Ну не скажи, — занервничала Аня. — Вот недавно пришел положительный анализ мужчине, кандидат технических наук он, что ли, так он сначала говорил, что покончит с собой, а потом, в течение нескольких встреч со мной, изменил свой взгляд на болезнь. Нет, я не хвалюсь, это не моя личная заслуга, просто с помощью определённых психотерапевтических инструментов можно помочь человеку, который оказался в такой ситуации. Вот и всё.
— Да просто ты понравилась этому кандидату как женщина, вот он и передумал самоубиваться, — заверил ее я. — Но зря он на что-то надеется. Ты же не будешь с ним спать…
— Что за ерунду ты несешь?! — возмутилась Аня. — Я тебя сейчас выгоню.
— Да пожалуйста, — пожал я плечами. — А что я? Ты же сама искала встречи со мной. Ну вот и пообщались…
Я двигаюсь к двери.
— Подожди, присядь. Тебе нужно походить на группы для ВИЧ-положительных. Ты же в курсе про такие группы? Поддержка тех, кто с тобой в одной, так сказать, лодке, бывает очень кстати…
— Что мне там делать? — прыснул я. — Сопли вичушникам подтирать?.. Ах, я десять лет кололся, докололся до реанимации и там узнал про ВИЧ, Боже, как я несчастен, пожалейте меня. Или — да у моего мужика не может быть ВИЧ, ведь он меня любит и не изменяет, откуда же у меня этот плюс?! Тьфу ты. Я не смогу это слушать, я им завидую…
— Чего им завидовать? Да им в сто раз хуже, чем тебе. Прибегают сюда уже со СПИДом махровым зачастую. А тебя с детства контролируют. Это большой плюс, поверь.
Я мотаю головой:
— Хреновые плюсы, хреновая плюс-жизнь… Я им завидую потому, что у них была жизнь «до» и выбор, заболеть или нет. Нет, ну то есть они, наверно, не ощущали, что вот сейчас делают главный выбор в своей жизни, выбор между жизнью и смертью, но тем не менее. А я, а у меня?.. Ой, ладно, пошёл я.
— Группа собирается по средам у нас в актовом зале. В семь вечера, — раздалось мне в спину.
Я не хотел это запоминать, но в голове почему-то отложилось.
Неловко стало. И с чего я так груб был с этой Аней? Уж не знаю, какой она психолог, а человек вроде неплохой. Искренняя, добрая. Но, конечно, перегорит. Невозможно не перегореть, каждый день вплотную соприкасаясь с людским горем. Или ты их, или они тебя.
Но на встречу с ВИЧ-положительными я всё же пришел.
— Я думала, это болезнь молодежи. Ну как молодежи, в общем, тех, кто спит с кем ни попадя. Ещё знала, что наркоманы этим болеют, голубые… Но я?! Мне сорок девять лет! Я работаю библиотекарем! В детской библиотеке… Я с мужем прожила двадцать шесть лет. Двадцать шесть! Двое детей — мальчишки, да какие мальчишки — мужики уже, женаты оба, внуков у меня двое… И вот на тебе — бабушка со СПИДом!..
— У вас не СПИД, у вас ВИЧ, — мягко поправила ее Света, активистка группы. Ее ВИЧ-стаж — двадцать три года. Живет она с открытым лицом, я читал о ней в интернете. Открыть правду о своем ВИЧ-статусе в интернете — все равно что встать и сказать, ну, предположим, на остановке автобуса: «Всем привет, у меня ВИЧ!». Надо быть отчаянным, честное слово.
— Ну, ВИЧ, СПИД, называйте как хотите, я в этом ничего пока что не соображаю… — отмахнулась библиотекарша. — Если б он был жив, ну, муж мой, я бы его удушила вот этими вот руками! Это ведь он меня заразил… Сейчас я понимаю, что все эти годы он мне, конечно, изменял, ну, я и раньше догадывалась, но сама себе в этом не признавалась. Зато дом — полная чаша… Полная чаша…
И главное, никаких-то у него симптомов не было. А говорят еще: СПИД — чума ХХ века, смертельная болезнь… А он у меня здоровый был мужик… Умер внезапно. От инфаркта. Мгновенная смерть прямо за рабочим столом. Ему, значит, смерть безо всяких мучений, а мне страдай всю жизнь! Несправедливо…
— Если вас это утешит, — встрял я, — ВИЧ развивается медленно. Этот сучий вирус — вялотекущий, но все равно рано или поздно дает о себе знать. Не умри ваш муж от инфаркта, через два-три года у него бы проявились симптомы. Так что не переживайте особо на этот счет.
В том, что я сказал, сострадания было маловато, наверное. Некоторые на меня посмотрели неодобрительно.
— А теперь у меня волосы сыпятся, — продолжала жаловаться библиотекарша. — И состояние такое странное. Сижу на работе и вдруг как зашатает — это сидя-то!.. Голова иногда как не своя… Это все он, ВИЧ?..
Отвечала на ее вопросы Света, улыбаясь:
— Доктор же наверняка вам объяснил, что ВИЧ влияет на центральную нервную систему, так что, вероятнее всего, действительно, это вирус так шалит. Но вы не беспокойтесь, вам подберут терапию, и скоро вы почувствуете себя гораздо лучше.
Библиотекарша смотрела на нас невидящими глазами.
— Всё будет хорошо, — вдруг начал утешать её я. — Вот смотрите, у меня ВИЧ с рождения, а не скажешь, да? Уже восемнадцать лет живу, подыхать не собираюсь, честное слово!
— Ох, мне бы восемнадцать лет ещё прожить, как бы я была рада, — вздохнула библиотекарша. — Увидеть, как внуки вырастут. Только я без мучений хочу жить, а не заживо разлагаться… И ещё страшно, что на работе узнают, или родственники, или соседи…
Она разрыдалась.
— Мы боимся одиночества. И его, наверное, даже больше, чем смерти, — говорила Света. — Все мы одиноки. Но только в той степени, в которой допускаем сами. И неважно, плюс у тебя в анализе на ВИЧ или минус…
К концу встречи наша библиотекарша немного повеселела. Новым подругам (оказалось, что среди здешних завсегдатаев есть и её ровесницы) она даже пообещала скинуть в «Одноклассниках» рецепт «офигительных булочек, которые так и тают во рту».
Хренова туча Арининых друзей частенько собиралась у нас дома («у нас дома» — ну вы поняли, да? Как бы смешно это ни звучало, учитывая наш возраст, но жизнь у нас была вполне семейная). От всех этих компаний я был не в восторге, но она говорила: «Не мешай мне духовно развиваться!».
Разумеется, среди ее друзей не было одноклассников. Но были музыканты (в том числе аж два волынщика), художницы (одна из которых писала картины менструальной кровью. Нам с Ариной картины нравились: например, та, на которой была изображена любовная сцена на женской зоне, даже висела у нас в квартире), парочка веганов-активистов с извечным кормом из сушеных одуванчиков в подарок нашему коту…
Умные они все были, как черти. Гуманитарии. До фига понимавшие в литературе, искусстве, социологии, да, короче, во всем. Если честно, я скучал в их обществе, да и учёба моя была довольно напряженной: некогда было «духовно развиваться». Под их разговоры я обычно потягивал пиво, читая про морфологию растений, а если учить ничего было не надо, то вгрызался в статьи по абдоминальной хирургии и трансплантологии — призрачная мечта о скальпеле меня ещё не совсем оставила…
Но тем вечером спокойно почитать Аринина компания мне не позволила. Они потащили нас в какой-то пафосный ресторан, проводивший игру «Умная минута». Типа «Что? Где? Когда?». Я так понял, что это сейчас самое модное — коллективная интеллектуальность.
— Нам необходим естественно-научный мозг! — сказала капитан команды, та самая менструальная художница. Жила и творила она под псевдонимом Витя Краб.
Мы победили, и пошли отмечать это в лофт-бар. Любой подвал, куда повесили пару поп-арт-картин, называется лофтом. Аринины друзья водили нас только по таким местам.
Они опять затянули свои бесконечные умные беседы, а я задремал: накануне было дежурство.
— Нет, Лео, ну ты послушай, что они несут!.. — услышал я возмущённый Аринин голосок.
— Что-что? Прости, я прослушал…
— Вот я у Оленьки сейчас спросила: а если в садик, куда ее Полина ходить будет, пойдет ребенок с ВИЧ, Оленька же не будет против? Оленька же у нас не позорный фоб?..
— А как же страдания животных?.. — встряла веганка Лиза, но её никто не слушал и парировать не стал.
— Ариш, не кипятись, — пьяно улыбнулась студентка искусствоведческого Оля, прижимая к груди годовалую дочку, которую она повсюду таскала с собой. — Я же не призываю создавать какие-то там ВИЧ-гетто. Не говорю, что этих деток надо убить при рождении, не дай бог, или что их надо изолировать. Просто я хочу знать, с кем контактирует мой ребенок. Это мое право как матери. Вот Полька вырастет — тогда и решит сама, общаться ей с такими людьми или нет.
— Какими «такими»? — интересуюсь я.
— Ну, вичёвыми этими, — поясняет Оля. — В конце концов, в садиковом возрасте дети ничего ещё не соображают. Кусаются, царапаются. Мало ли что. Лучше перебдеть.
— ВИЧ не передается при укусах и царапинах. Ты описываешь нереальные ситуации, — спорю я. — И потом, ладно садик. Но школа? Институт? Работа? Совсем изолироваться от них у нас с вами не получится…
Приехали. «У нас с вами». Лихо я себя к здоровым-то причислил. Опять смалодушничал.
— Подождите, но вот животные на фермах, им же еще хуже… — снова попыталась вмешаться в разговор Лиза, но её опять проигнорировали.
— А разве, разве ВИЧ-инфицированные дети доживают до института? — удивляется Витя Краб. — Я слышала, что живут они максимум десять лет, и всё…
— Нет, они живут вроде бы немного подольше, — глухо ответил я.
Наверно, все заметили, что мое настроение ухудшилось. Только бы они не поняли, что все это касается лично меня…
А тем временем Витя Краб продолжала делиться своими мыслями:
— Вот Ариша ратует за права вичёвых. Это все, может, и правильно, но разве нет у нашего общества проблем поважнее?.. Разве это они — самая уязвленная группа? Смешно защищать людей, которые по своей же глупости, в основном, заразились, да еще и бесплатные лекарства получают от государства. А если они комплексуют по поводу своего диагноза, то вперед к психологу или в церковь к попам — грехи замаливать, но не надо строить из себя бедных овечек, несправедливо обиженных. Нужно отстаивать только права женщин с ВИЧ, ведь их же мужло заражает, на наркоту сажают тоже они. Но мужики с этим вирусом?.. Вот их точно в гетто! Ты, кстати, подписалась на паблик, который я тебе скинула?..
— Нет уж, спасибо, — усмехнулась Арина. — Я же подмышки брею…
— Да я не против бритья подмышек! — воскликнула Витя Краб. — Ты только себе ответь на вопрос, для кого ты это делаешь. И ответ очевиден — мужло диктует! Они видят в тебе игрушку для секса! Но ты же человек! Почему ты должна быть стройной, сексуальной и выбритой там, где им надо? В конце концов, когда я перестала брить подмышки, я именно тогда поняла, что я — человек, а не средство для удовлетворения похоти.
И тут, я вам клянусь, она сняла свитер и подняла руки. Из подмышек торчали густые розовые кусты. Да, волосы в подмышках она красила в розовый. Меня чуть не стошнило.
Подошел официант и попросил её одеться.
— А вы способны видеть в женщине только сексуальный объект? — стала напирать на него Витя Краб. — А если парень, сидящий за этим столом, снимет верх, ему же за это ничего не будет? Почему то, что можно мужикам, запрещено женщинам? Причём мы-то, женщины, в лифчиках, а они — нет. Парадокс!..
— Вообще, у нас и мужчины должны быть полностью одеты, — сглотнул слюну несчастный официант. — Таковы правила заведения.
— Мы, наверное, пойдем, — сказал я. — Вечер был очень познавательным…
— Ненавижу их всех, — распалялась Арина по дороге домой. — Почему они такие тупые и бесчувственные? И ведь считают, что борются за добро. Смех, да и только. Одна вот подмышки не бреет и красит, другая кормит грудью на каждом углу показательно, третья настолько прониклась идеями ненасилия, что котов одуванчиками кормит. Идиотки. Мир-то и не в курсе, что они его, оказывается, преображают. Они хотят быть феминистками, благотворителями, защитниками животных, естественными родителями, ещё хрен знает кем… Человеком, б****, никто быть не хочет!.. А главное, любого, кто от них отличается, они сожрут и не подавятся. Не переношу травлю!..
— Эти их разговоры — это ещё не травля, — усмехнулся я. — А вот когда я в тринадцать лет в санаторий попал, вот там мне устроили. Я не особо верю в ад, но там было что-то вроде него, это точно.
Манту у меня в то лето вскочила с перепелиное яйцо, вздулись лимфоузлы. Впервые мне стало страшно. Я ощутил реальное присутствие болезни. Впрочем, в тот период (пик переходного возраста — 13 лет) суицидальные мысли особенно часто одолевали меня, поэтому я быстро успокоился: тубик — значит тубик. Тогда я думал, что неизлечимо больной может быть только фаталистом.
Оказалось, всё не так страшно, и жизни моей ничто не угрожает. Всего-то надо подлечиться в тубсанатории.
К тому же был очевидный плюс — перспектива не видеть бабушку пару месяцев. Она радовалась этому, кстати, пуще меня.
С дороги казалось, что никакого санатория тут и нет, а один сплошной лес. Ёлки и сосны — глухой колкой стеной.
Меня высадили из автобуса раньше всех.
— Жить будешь вот в этом корпусе, — голос воспиталки был тверже гранита. — На первом этаже твоя палата. А на второй не ходи. Там у нас рабочие ночуют, если не успели на автобусе уехать. Понял?
Я кивнул.
— Хотя нет, не понял, — говорю. — А я что, один жить буду?
— А ты как думал? — удивилась воспиталка. — С твоим-то ВИЧем…
— Но ВИЧ не передаётся в быту, — возразил я. — В наше время это каждый знает…
— Как у тебя всё просто! «Не передаётся в быту»! А мы не хотим брать на себя ответственность и контролировать каждый твой шаг. Может, ты с кем-то клятву на крови сделаешь! Да и сексом вы сейчас чуть ли не с детского сада занимаетесь! В общем, слушай. Душ и туалет у тебя здесь, отдельные. В столовую будешь ходить со всеми, но для тебя будет выделен отдельный стол. На процедуры тебя будем приглашать. Ясно? Счастливо отдохнуть!
Мне хотелось убить эту с***. Я разрыдался. Тогда я ещё частенько плакал. Детство…
Через пару дней я, впрочем, привык к своему особому статусу. А вот в глазах остальных обитателей санатория я был каким-то несусветным чудом. Все думали-гадали, почему меня держат отдельно. Особенно девчонки. Я чувствовал, что многим из них я нравлюсь, и не в последнюю очередь из-за этого ореола таинственности. Из этих многих, наконец, отделилась одна, Маша. Она была из так называемого «благополучного корпуса». (Корпусов было два: один для детдомовцев и детей пьющих родителей и другой — для нормальных.) Ещё был я, но для всех меня как бы не было.
Однажды днём сквозь сон я услышал стук в окно (я вообще почти постоянно спал, а что было еще делать?). Это была та самая Маша. Она частенько на меня смотрела в столовке.
— Что тебе надо? Если узнают, что ты сюда приходила, тебе не поздоровится.
Маша была хорошо одета. Лицо неглупой девчонки, возможно, даже отличницы.
— Мне просто интересно, — сказала она, — да всем интересно, кто ты такой? Почему ты отдельно от всех? У тебя что, открытая форма? Но с открытой же в санаторий не отправляют…
Я не знал, что ответить. Пришлось сказать:
— Не твоё дело!
— Почему ты так реагируешь? — обиделась Маша. — Ладно, не хочешь говорить — не говори. На дискотеку придешь сегодня в семь? Мы все тебя ждём.
— Я не умею танцевать.
— Всё равно приходи.
Сразу после ужина я завалился спать. Какая мне дискотека?.. Не хотел я их внимания, а в этой ситуации мне было бы его не избежать.
Ночью я проснулся от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Перед моей кроватью стояла Маша в платье с бусинками по всей длине.
— Иди отсюда, — сказал я. — Ты с ума сошла, что ли?
— Я просто хочу узнать, кто ты такой! — твердила Маша. — Тебе что, трудно ответить, почему ты тут, почему ты ешь за отдельным столом, почему твоя посуда помечена?..
— Б**, — выругался я. — Ну, ВИЧ у меня, ВИЧ! Теперь ты отвалишь от меня, наконец?!
— Какой еще ВИЧ? — оторопела Маша. — Это который СПИД?
— Да, это который СПИД, чума ХХ века и все такое.
Маша молча удалилась.
Прошёл день, может, два, и как-то утром меня разбудила та самая воспиталка с гранитным голосом.
— Собирайся! Тебя сегодня выписывают!
— Но прошла только неделя… А лечиться положено два месяца.
— Тебя переводят в другой санаторий. Тут такие баталии развернулись. Родители некоторых детей сказали, что вообще заберут их, если вичёвый тут останется… Нам нужны из-за тебя такие проблемы?
— Чтоб вы все сдохли, твари, — процедил я.
А что я еще мог сказать?
Меня перевезли километров за пятьдесят от того санатория. Ёлок и сосен здесь было уже меньше. «Благополучного» корпуса не было тоже. И селить отдельно меня никто не думал — здесь для этого просто не было места.
Определили меня в шестиместную палату к воспитанникам детского дома «Солнышко». Эти тринадцати-четырнадцатилетние солнышки были, конечно, не очень любезны. Мне тут же пришлось вывернуть все карманы, но взять с меня было нечего. Да я к тому же не курил. За что сразу получил по морде.
— Я не советую связываться со мной, — сказал я солнышкам. — Я очень опасно и заразно болен. У меня СПИД.
Я надеялся, что, узнав о таком страшном моем заболевании, солнышки будут меня избегать.
Но в ответ мне слегка отбили почки.
А потом… потом я сквозь сон почувствовал приятную прохладу на лице. Будто нырнул в июньское озеро. Ещё и ещё. Хороший сон, почаще бы снились подобные. Но блин, что такое?! Ноздри вдруг забиваются то ли илом, то ли мокрым песком… Кажется, по мне кто-то прополз…
Я открываю глаза. Понимаю: я засыпан сырой землей. Меня исследуют жадные черви.
— Это земля с кладбища! — слышу я голоса моих соседей по палате. — Давай подыхай скорее, придурок! Спидушный отстойник! Жри землю, гад!
Что было дальше, я слабо помню. Кажется, я пытался с ними драться, но получалось плохо, и земля смешивалась с моей кровью. Это было опасно. На мне все медленно заживает.
Я убежал. Уснул где-то под сосной, прямо на иголках. Наутро меня обнаружили санаторные врачи. Юная медсестра паниковала, прежде чем начать обработку моей кожи.
— А точно через перчатки ничего не передается? — спрашивала она у врача. — А если на слизистую глаз что-то попадет?..
— Противогаз наденьте, — посоветовал я.
В этот же день меня отправили в больницу родного города. Бабушка кляла меня на чем свет стоит. Я, идиот, за государственные деньги даже в санатории отлежать не могу. Никакого спасу от меня нет.
На группы для живущих с ВИЧ я теперь хожу частенько. Иногда за мной увязывается Арина. Она слушает истории этих людей подчас со слезами. И мне кажется, что кожи у неё совсем нет. Всё принимает близко к сердцу, её касается всё. И я невольно перенимаю её отношение к ним. Хоть мне и в новинку слушать других людей. Слушать и слышать.
— Он сказал, что мы обязательно поженимся, понимаете? Я серьёзная девушка, верующая и к тому же дочь священника. Ох, папе про ВИЧ никогда, наверно, не скажу… А ведь это он меня с ним и познакомил. Вот, говорит, это Дима, наш новый чтец. В семинарии учится. Весь такой серьёзный, ответственный. Провстречались мы с ним три месяца, и он начал намекать, ну, вы понимаете… А это же грех. Нельзя до венчания. Но он сказал — какая разница, сейчас или через полгода? Свадьба у нас уже назначена была на лето… А это была зима… Ну, я и согласилась. И ещё, и ещё… Я себе этого никогда не прощу! Если бы не мои грехи, то я была бы здорова!
А потом он сильно заболел. Три недели температурил. Но к врачам не хотел идти. Я сколько его уговаривала — бесполезно. А потом в церкви упал в обморок. Ну, так я и узнала, он мне рассказал, когда я в больницу пришла. Оказывается, раньше кололся. Знал, что ВИЧ-инфицирован, но чувствовал себя хорошо, о диагнозе предпочитал не думать. А я-то, не поверите, как узнала про его болезнь, всё думала: «Как же теперь, как его лечить, как спасать?». Мне и в голову поначалу не пришло, что и я могла заразиться, что наверняка заразилась. А потом мне позвонили из СПИД-центра, мол, вы — контактная, сдайте на антитела. Вот так всё и рухнуло. В девятнадцать лет, выходит, заразилась. От первого и единственного мужчины…
— А сейчас, сейчас ты с ним общаешься? — шмыгнула носом Арина.
Даша, её зовут Даша, отрицательно покачала головой.
— Он сам со мной всё общение прекратил. Наверно, ему стыдно. Но я его не виню. Сама виновата. Должна быть голова на плечах…
— Ой, да прекрати, — взвился я. — Виновата она! Сволочь он, твой Дима! Кстати, ты знаешь, откуда пошло слово «сволочь»? Так как раз этих поповских прислужников называли… Он не любил тебя ни капельки. И если ты такая верующая, то должна понимать, что после того, как он сдохнет, надеюсь мучительно, его в иных мирах хорошенько отдерут за такие гадкие дела!..
На меня все зашипели.
— Ребят, спасибо вам за поддержку, — с чувством говорила Даша. — Храни вас всех Господь, если бы не вы, я бы сошла с ума. Но про Диму так не надо. Человек он неплохой, просто запутался в жизни, но я уверена, что Бог наставляет его потихоньку на истинный путь. Я его не осуждаю за то, что он мне ничего не сказал. Я знаю, теперь знаю, как тяжело признаться в этом диагнозе. У меня, кроме вас, только мама знает. Она плакала, конечно, и даже немножко кричала, но мы в итоге даже ближе стали… А больше никому не могу сказать. Боюсь. Вот и он боялся…
Несмотря на то, что я готов был всё своё время проводить с Ариной, я все же старался брать побольше дежурств. Нужны были деньги. Я теперь чувствовал ответственность не только за себя, и мне это нравилось, черт побери.
А вот Рома теперь не так часто появлялся в морге. Говорил, учиться тяжело, времени нет. Но мне смутно казалось, что причина не в этом.
Наконец, нам выпало совместное дежурство.
— Ром, у тебя все в порядке?
— Нет, честно говоря, у меня все плохо.
— Что случилось?
— Не могу… не могу об этом говорить… Тяжело.
— Ладно. Но если надумаешь — расскажи. Помогу чем могу.
— Спасибо, я знаю, ты от души. Но помочь мне вряд ли кто-то может. Сколько в мире ненависти, агрессии… Уж ты-то знаешь.
— Ну и что? Ну, ненависть, ну, агрессия… Ты как с луны упал. Мир у нас хреновый, это не новость, но чтобы жить в нём стало легче, надо принять себя. Это мне Арина постоянно твердит. И это абсолютная правда.
— Ну да, ну да, что-то я расклеился. Давай работать.
Это дежурство прошло спокойно, если не считать, что нам пришлось самостоятельно вскрыть труп. Ранее мы при этом, конечно, присутствовали, но просто выполняли просьбы патологоанатома (разложить органы по пакетикам, подать скальпель и прочее). Но у Андреича накануне как раз был юбилей, и он попросил нас похозяйничать в покойницкой, а сам удалился спать.
Я был воодушевлён как никогда. Держать скальпель в руках — счастье же. А вот Рома побаивался:
— А если мы что-то сделаем не так?
— Ну, этому товарищу уже всё равно, — кивнул я на труп. — А все косяки, если что, возьмет на себя Андреич.
Но все прошло хорошо. Дорогого стоит, когда твои руки делают то, что должны. Мои созданы для того, чтобы проводить этот ласковый, но твердый пунктир по коже. Жаль, что не суждено…
— Какой чудесный туберкулёз, — прошептал я. — Он тут везде!.. В лимфоузлах, легких, животе… Развёрнутейшая картина СПИДа. Коллеги по диагнозу, имя нам легион, твою ж мать…
— И что мы сделали? Фактически его закрытую форму туба перевели в открытую. Вентиляция — никакущая. Ты понимаешь, как мы рискуем?! И прежде всего — ты…
— Да перестань, не занудствуй… Как закончим — пойдем пивка попьем, а? Всё-таки стресс…
— Нет, у меня занятия с утра. Мне бы хоть часик поспать.
После дежурства мы остановились на крыльце.
— Слушай, — сказал Рома. — Дубак на улице, одолжи мне свой свитер, если не сложно? У тебя куртка вроде потолще…
— Не вопрос, — сказал я и снял свитер.
Вот на фига я это сделал?! Почему мне сразу не пришло в голову, что он меня отсылает к эпизоду из моего же любимого романа!.. Ведь он таким долгим взглядом на меня посмотрел…
На другой день мне позвонили из полиции. Сказали, что Рома повесился. Могу ли я приехать в отделение прямо сейчас?
Следователь ткнул в меня запиской, написанной Роминым почерком: «Я и так не живу. Я, может быть, и не жил никогда. Мне не позволено быть собой. Так стоит ли вообще шевелиться? Лео, бро, прости меня за свитер. И за всё прости — я знаю, тебе будет больно, когда меня не станет. Но это пройдёт. Борись за то, чтобы всегда оставаться собой. Борись за Арину. Я не буду говорить, что всё будет хорошо. Но в том, что ты всё выдержишь, я не сомневаюсь».
— Кто не позволял Федянину быть собой? — спрашивал следователь. — На кого он был так обижен? И почему вам нужно бороться за себя и некую Арину?
— Я не знаю, — подавленно бормотал я. — Он последнее время и правда был потерян… Но он толком ничего не говорил, я не знал, как ему помочь… А почему мне нужно бороться — это к делу отношения не имеет…
— Кроме вас, с кем еще общался Федянин?
— В школе у него друзей не было. В институте он тоже вроде ни с кем не успел подружиться…
— Странно… А девушка у него была?
— Нет. По-моему, у него девушки вообще никогда не было…
— Какие у него были отношения с родителями?
— Отец с ними не жил. А с мамой… ну, нормальные, но не особо близкие, думаю.
— Дааа, Спирин, мало вы знаете о своем лучшем, между прочим, друге…
— Я плохой друг…
Это мало сказать — «плохой друг». Боже, как я себя ненавидел в эти минуты. Как я мог прошляпить тебя, Ромка?!
Дома Арина мне сказала:
— Пойдём к его маме. Как ей, наверно, сейчас ужасно. А мы же в записке… Ей-то он ни слова не написал на прощание…
Ромкина мама, всегда казавшаяся мне ослепительно, почти неприлично красивой, сейчас напоминала серый памятник скорбящей матери. В каждом городе такой есть… Значит, реалистично их делают, эти памятники…
Мы пытались говорить ей какие-то слова, которые, конечно, звучали ненатурально. Она никак не реагировала. Но на прощание сказала:
— Вот вы — пара. Вот у вас будут дети. А Ромка был на это не способен… Да чего он вообще хотел и, главное, что он мог?.. Какое его ждало будущее, если он..? Не поймите меня неправильно, но, может, оно и к лучшему?.. Я знаю, грех так говорить, всё-таки я мать. Но он же был не как все…
И тут я понял. Всё сложилось.
— Уходите, мне тяжело вас видеть, — сказала она.
— Вам вообще как, нормально жить с тем, что вы толкнули своего сына в петлю?.. — спрашиваю.
— Да ты хоть понимаешь, что я пережила с тех пор, как он мне рассказал?! Уже два года, как я живу с этим кошмаром! — разрыдалась она, но по мере рассказа успокаивалась и говорила все более складно. — Сначала думала — пройдет. Это всё пропаганда… По телевизору все певцы то ли мужики, то ли бабы… трусы торчат… В интернете все эти паблики, ужас, что там пишут, и главное — все имеют своё мнение, никто ни о чём не стыдится сказать… Одно дело, если бы Рома был нормальный физически и психически, а так…
— Хорошо же вы себя оправдываете! — воскликнула Арина.
А я ничего не мог сказать. Я только мысленно орал:
— Господи! Ты там что, офигел?! Люди мы все или кто?!
Потеряв единственного друга, я ещё больше стал ценить Арину.
Она строила очень обширные планы на будущее. Я ими тоже проникся. Совсем ещё недавно я запрещал себе даже думать о том, что будет через год, пять или пятнадцать лет. Прежняя психологиня из СПИД-центра говорила мне: живи в отсеке сегодняшнего дня. Теперь, благодаря человеку, решившему быть со мной рядом, я осторожно поднимаю голову из отсека, и, когда смотрю вдаль, хочется видеть только хорошее.
— Через полтора года мне исполнится восемнадцать, и мы поженимся. Я сразу же забеременею. Рожу мальчика, а следом — девочку. Я считаю, дети должны быть погодками: вместе расти веселее.
— А вирус в придачу к погодкам не хочешь? — издеваюсь я.
— Ой, не надо. Я в этом вопросе теперь прекрасно подкована. Есть все возможности годами жить в браке с ВИЧ+ и не заражаться. И детей рожать здоровых. Такие пары называются дискор…
— Дискордантными, — помогаю я.
— Точно! Так что от семейного счастья тебе не отвертеться!
— А высшего образования мадемуазель получить не желает?
— Блин, ну понимаешь, к точным наукам я не способна, а идти на все эти лажовые гуманитарные специальности просто глупо. Не, ну на филфак можно, конечно. Шлифануть литературный вкус. Но не уверена, что игра стоит свеч…
Идеи в тот день сыпались из Арины как из рога изобилия.
— Я ещё кое-что придумала.
— Что?
— Усыновить «плюсика»!
— В браке со мной не получится. ВИЧ-положительным запрещено усыновлять детей.
— Какого хрена?! Чем ты хуже других?! Ничего, мы им всем ещё покажем… — угрожала она.
В такие минуты забывалось, что на плите давно свистит чайник, что телевизор работает впустую, что первую пару и первый урок мы уже пропустили…
— Я заразился от одной наглой твари, — вещал на группе взаимопомощи бывший депутат местного горсовета Линьков. — Она вертелась около меня пару месяцев. Она мне и не нравилась-то! Совершенно не в моем вкусе! Напоила меня, уговорила. И пропала. А через год я узнаю — опаньки, ВИЧ! Я уверен, это просто диверсия какая-то. Под меня её подложили политические конкуренты.
На этой фразе никто из нас не смог сдержать улыбку.
— Я как от шока отошел, думал, главное, чтоб никто не узнал, — продолжал он. — Наивный, думал, врачебную тайну у нас хранят. Но нет, все анализы же мы сдавали в нашей спецполиклинике — там все депутаты, вся администрация обслуживается… И врач всё рассказал кому следует. Мне настойчиво, так сказать, порекомендовали положить мандат на стол. Я пробовал спорить — бесполезно. Не дали бы мне работать. Так что из-за этой вичёвой с*** вся моя карьера коту под хвост!
— Разве из-за неё? — осторожно возражает Света. — Всему виной нетерпимость нашего общества к ВИЧ-положительным…
— Всё равно, если увижу ее, убью! — забегал по залу Линьков. — Я, конечно, пробивал её адрес… Адреса матери, подруг… Нигде её нет. Она в розыске давно — не могут найти. Как испарилась.
— Может, умерла… — сказал кто-то.
— Надеюсь! — воскликнул Линьков. — Такую карьеру мне загубила! Было столько планов… Я мог проекты для региона на миллионы проворачивать. А теперь что?.. Кто я? Владелец двух точек по ремонту мобильников. Мелко…
— Зато какая независимость, — улыбнулась Света. — Работаешь на себя, и не надо волноваться, кто и что про тебя скажет…
Линьков кивнул. Я видел — этот кивок дался ему нелегко.
Прихожу с учёбы, а Арина встречает меня истеричным вопросом:
— Это что за курица?!
— Ты о чём?
— Приехала к тебе… — кивнула она на чужую пару обуви.
Я чуть не упал, когда из комнаты мне навстречу шагнула Наташа, моя двоюродная сестра.
— Лёвочка, привет! — она кинулась мне на шею. — Как же я соскучилась!..
— Твоя мама тебя убьет, — только и мог сказать я.
Не знаю, был ли я рад ее видеть. Я уж и забыл почти о существовании их семьи…
— Мне скоро двадцать лет! Я уже большая девочка, и сама могу решать, с кем мне общаться.
Арина нервно крутила дреды.
— А вы уже познакомились? — спохватился я. — Это Арина, моя любимая малышка, а это Наташа — моя двоюродная сестра.
— Сводная двоюродная, — уточнила Наташа.
— Ну, какая разница, — развел я руками. — Сестра она и есть сестра.
— А я приехала не просто в гости. Я же в ваш институт перевелась. Обещали дать общагу. Но только через месяц. Я поживу у тебя, Лёв?..
— У нас места нет, — процедила Арина.
— Тут два дивана, детка, — в том же тоне ответила ей Наташа. — И вообще, это квартира принадлежала моей бабушке. Считаю, я вполне имею право тут быть, если хочу.
— Ладно, тогда уйду я, — психанула Арина и хлопнула входной дверью.
— Наташ, ты тут, пожалуйста, располагайся, а я пойду догоню её. Не обижайся, ладно?!
И не дожидаясь ответа, я рванул вслед за Ариной.
Она плакала на площадке между первым и вторым этажами.
— Ариш, не тупи, — увещевал её я. — Это действительно моя сестра, я же не могу её на улицу выставить. Не по-человечески как-то.
— Да какая она тебе сестра?! Ты что, не видишь, как она на тебя смотрит?! Она оттрахать тебя хочет, идиот! И если ты будешь такой добренький, не удивлюсь, если у неё это получится!
— Да зачем я ей нужен. С моим-то заболеванием, — усмехнулся я. — А даже если и так, главное, что я с ней, как ты выражаешься, трахаться не собираюсь. Я вообще всю свою жизнь, сколько мне там осталось, собираюсь делать это только с тобой…
— Правда?
— Ну конечно.
— Она же некрасивая, да? Просто уродина, правда?
Я смеюсь.
— Что ты ржёшь? Ты согласен, что она страшная?!
— Ну, естественно, естественно, — и я прижимаю эту маленькую дурочку к груди.
Наташа действительно использовала весь арсенал избитых женских приемов, чтобы обратить на себя мое внимание. Чёрт побери, ещё полгода назад, до знакомства с Ариной, я бы всё отдал за такое к себе отношение, но теперь мне было совершенно всё равно. Хотя нет, скорее немного смешно. Даже не думал, что я такой однолюб…
Она провела у нас дней пять. Как-то, когда Арины не было, я решил поговорить с Наташей, что называется, по-хорошему.
— Наташ, я же всё вижу и всё понимаю. Заканчивай. Я люблю Арину. И никто другой мне понравиться просто не может…
Её лицо покрылось красными пятнами.
— Я ради тебя всей своей жизнью в родном городе пожертвовала! Пошла против своей матери! Она же звонила, она поняла, где я! Устроила мне истерику, сказала, всё равно заберет меня отсюда! А я на всё готова ради тебя, понимаешь ты это?! С детства тебя люблю. И не забывай — ты больной, а я здоровая! Но мне это всё равно, я готова нести этот крест. А ты вот так, значит, да?
— Я не крест, не надо меня никуда нести…
— Я всё равно тебя люблю и буду тебя ждать.
Я уже вызывал ей такси, чтобы скорее закончить эту мелодраму.
Может, из того, что я написал, у вас сложилось мнение, что я какой-то нытик и всегда всем недоволен, но это не так. Вот свой институт я искренне полюбил. Главным образом за тех людей, с кем я там познакомился.
Например, Игорь. Мы частенько сидели вместе. Игорь был мне симпатичен своей нормальностью. Я люблю таких людей. Их не сломит ничто. Думаю, если б ему поставили мой диагноз, он бы печалился не больше двух дней.
Как-то я обмолвился, что у меня много книг. Но классика, оставшаяся от прежней хозяйки квартиры, его не интересовала.
— Посовременнее что-то есть? — спросил Игорь.
И тут я вспомнил, что у меня сохранилась целая стопка маминых книг. Собственно, это всё, что от неё у меня и осталось. Ну, и фотки её. Но я стараюсь не трогать мамины вещи. Я избегаю всего, что хранит память о ней.
— Есть иностранные книги девяностых годов выпуска. Пойдут?
— То, что нужно! — обрадовался Игорь.
Он выбрал несколько книг. «На игле» Уэлша (большая удача, что у меня есть эта книга, её ведь в магазинах теперь не найти, сказал Игорь), Берроуза «Обед нагишом» и Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
— Всё-таки в наркокультуре что-то есть, — сказал он. — Уэлшевский Марк Рентон ведь сознательно колется. В его жизни, благодаря этому, есть хоть какие-то вспышки. Пусть это всё ведет в могилу. Зато он живёт не так, как весь этот средний класс.
Наркокультура. Ага. Так вот как называется то, что отняло у меня возможность быть здоровым — наркокультура. И я отвечаю:
— Моя мама умерла от передозировки. Ей было 25 лет. Я вырос, даже не узнав, что такое — быть чьим-то сыном…
— А почему она стала наркоманкой, почему выбрала такую жизнь?
— Понятия не имею. Слишком любила моего отца? Господи, как я его ненавижу, это же все он… Хотя, не знаю, может, она просто не видела смысла в жизни? Или ей, как ты и говоришь, обрыдло все, что она видела вокруг? А вообще, «наркокультура», «наркокультура»… Хорошо рассуждать, книжки об этом почитывать, когда тебя это не касается…
В голове пронеслось: зачем я это говорю? Еще минута, я и про ВИЧ проболтаюсь…
А Игорь сказал:
— Это очень больно, мне не понять, как это ужасно… Знать, что мать променяла тебя на наркоту… Врагу не пожелаешь. Но если бы она была жива?.. Кем бы она стала? Ты никогда не думал? Вот моя мать. Жива и здорова. Она сделала себя сама, успешная женщина. У нее фирма по производству офисных стульев. Стульев офисных, понимаешь? Когда я в прошлом году сказал, что хочу поступать на биофак, она только посмеялась. Говорит, поступай, но через пять лет в любом случае будешь моим исполнительным директором. В любом случае!.. А я в гробу эти офисные стулья видел… Ладно, вроде более-менее донес до нее, что хочу быть биоинженером. Она, конечно, и слова-то такого не знает… А тут как-то недавно рассказывал ей про нашего Петра Петровича, ну, какой он классный, что он месяцами может не вылезать из лаборатории, что каждый ген он изучает до мельчайшей морщинки… А она вдруг посмотрела на меня, как на насекомое, и говорит, мол, а какая зарплата у твоего Петра Петровича? Я говорю: не знаю точно, 20–25 тысяч, наверное, как у всех преподов, а что? А она: а то, что люди, которые получают 20 тысяч, ничему не могут научить, ну разве что только, как стать такими же неудачниками. Представляешь? В общем, не хочу я жить, как моя мать, как ее друзья и коллеги. Пошли они все. Захочу — сторчусь нафиг…
— Или станешь таким же ботаником на всю голову, как Петр Петрович, — вставил я. — А можно совместить: бадяжить какую-нибудь наркоту и получать за это кучу бабла…
Мы от души смеемся. Даже, можно сказать, ржем.
Я не ожидал, что внутри Игоря такой надрыв. Не такой уж он и нормальный, как я думал. Это не плохо, конечно. Это даже хорошо.
Но мне почему-то кажется, что Игорь всё равно станет исполнительным директором.
С детства живу с ощущением, что скоро меня настигнет полный крах. И это неминуемо происходит.
Это, кажется, было утро субботы. Мы с Ариной что-то жевали, обсуждая, куда бы нам сходить. Вдруг — звонок в домофон.
На пороге стояла Нина. В неплохом расположении духа.
— Я приехала посмотреть, как ты живешь, вичушничек мой. Молодец, что не поддался на Наташкины чары…
— Я отлично. А как она?
— Переживет… А это, значит, твоя девушка?..
— Ну да, несложно догадаться, — встряла Арина. — На батарее же сушатся женские трусы, сами видите…
— Боже, девочка, кто ты? Откуда ты взялась?
— Демидова Арина Михайловна, 1999 года рождения, хожу в десятый класс, рост 165, вес 45. Безумно люблю этого вичушника. Презрение своё с лица подотрите, а то аж капает!.. Вы вообще кто такая? Та самая добрая тётя, которая маленького Лёвочку опекала? Ну, конечно, ребёнка любить легко… А вот взрослый вичёвый — совсем другое дело, правда? Шли бы вы отсюда…
— А ничего, что это не только его квартира, но и моя?! — вспыхнула Нина. — Мама оставила половину квартиры ему, половину — мне. Она хотела всё на меня переписать, она думала, Лёвке всё равно, наверно, недолго осталось… Но я же добрая, я настояла, чтоб пополам. А теперь я такое выслушиваю! Уму непостижимо!
— Если хочешь, продадим квартиру, а деньги разделим, — устало сказал я. — На комнату в коммуналке мне хватит? Хватит. А ты просто забудешь, что я есть. Собственно, ведь ты и так забыла…
— Я имею на это право, — пожала плечами Нина. — По сути, ты мне никто…
— Ну и вали отсюда, п**** бессердечная! — заорала Арина. Мне показалось, она сейчас Нину ударит.
— Успокойся, малышка, — сказал я. — Нин, правда, уходи. Сообщи мне о своем решении по квартире. Я ничего против тебя не имею. Ты мне ничего плохого не сделала, да и я тебе вроде тоже. Так о чём разговор? До свидания.
— Ты что, идиот?! Ты не понимаешь, что ли, какому риску ты подвергаешь эту девчонку безмозглую?!
— Никакого риска нет, — парировала Арина. — Но ты такая тупая, что тебе и объяснять это западло.
— Ах, вот так, — скрестила руки Нина. — Хорошо, посмотрим, какое вас ждет будущее.
Мы ничего не заподозрили. Обнимались так, будто впереди для этого оставалось бесчисленное количество дней. Знали бы, что будет впереди — вовсе не размыкали бы рук… А вообще, надо было куда-нибудь бежать. К сожалению, это не пришло нам в голову, а планета Земля вдруг закрутилась быстрее обычного.
В общем-то, всё в эти дни шло не так. На ставшие уже привычными мне встречи с ВИЧ-позитивными вдруг перестала ходить Света. Я позвонил ей.
— А я пью, — сообщила она мне. — Моя Кэт умерла…
Кэт была её лучшей подругой. Однажды она пришла на нашу встречу, но сидела молча. Света позже обмолвилась, что Кэт не лечилась, хотя иммунный статус стремился к нулю.
— Мы кололись на пару… Одним шприцем. Почти десять лет. Представляешь? Обе завязали. Помню, когда первый раз сдали на вирусную нагрузку, она у нас была почти одинаковая… Даже в этом как сестры. Прошло несколько лет, подошло время пить терапию, я начала, а Кэт наотрез отказалась. Говорила: слезть с одной химии, чтоб пожизненно сесть на другую? Она же сажает печень, да и по всем органам бьёт, как это можно пить добровольно? Умерла она от менингита. Банально для тех, кто не лечится…
— Не поверю, что и умирая, она не понимала, как лажанулась.
— Понимала. И согласна была подключить терапию. Но было уже поздно.
— Извини, но она просто дура… Я иногда отказываюсь понимать вас, заразившихся уже взрослыми. Ведёте себя хуже детей…
— Знаешь, все мои друзья склонны к саморазрушению. Оно и понятно: весь мой бывший круг общения — системщики. Да что говорить, больше половины и нет уже в живых. От СПИДа, правда, единицы умерли — большинство до него не дожили. Умерли от передоза. Один за другим передоз, передоз, передоз… Мы с Кэт выбрались, вылезли… И ради чего? Чтоб её СПИД сожрал?
— Не он её сожрал… Она сама себя ему скормила.
— У неё дочка осталась. Ксюша. Шесть лет. Тоже с плюсом. До недавнего времени всё у Ксю было хорошо. Внешне здоровый ребёнок был. Мне Кэт клялась, что она у неё здоровая родилась. Чтоб я, видимо, не лезла со своими «ядами»…
— А сейчас что с ней?
— Сейчас в больнице. Дело плохо. Пятьдесят пять клеток. Но твой Санпалыч говорит, что надежда есть…
— Хм, мать умерла, сделав этим одолжение дочери… Хоть какой-то шанс выжить.
— Выживет, допустим, а что дальше? Детский дом? Я б её удочерила… Но по закону нельзя… Я всех своих детей абортировала. В сорок пять у некоторых уже внуки, а у меня — никого, только кладбище друзей-наркоманов… Ладно, себя жалеть не буду. А вот Ксюшку жалко. Чёртов закон…
Через паузу я подвёл разговор к завершению:
— У твоей Ксюшки один путь — выжить, а потом жить всем назло. А что нам, плюсовым детям, еще остается?!
— Я убью тебя! Я просто убью тебя! Ариночка, ну скажи мне, деточка, он же, наверное, скрывал это от тебя?.. Сама бы ты не легла бы с вичёвым, ты же умная девочка, правда же?
— Откуда ты знаешь про ВИЧ? — спросила Арина.
— Мне тётка его «ВКонтакте» написала. Хорошая женщина, спасибо ей, а то бы я и не знала! Боже мой! Какая дура я была! Никому же нельзя доверять! Давай собирайся. Поехали домой…
— Мама, замолчи. Я никуда не пойду, — жёстко сказала Арина.
В одну минуту она повзрослела. Я четко это увидел.
— Господи, что же делать-то?! — причитала Галина Геннадьевна. — Мне сказали, анализ только через три месяца сдать можно… А пока так и жить в неведении… Сажать надо таких, как ты!..
Я старался сохранять спокойствие. Я слабо, но всё же надеялся, что мои объяснения могут как-то повлиять («У меня неопределяемая вирусная нагрузка, и даже если порвется презерватив, я не заражу ее. Я не инвалид, у меня ничего не болит. Люди живут годами вместе — положительные и отрицательные, и один в паре остается здоровым…»). Но это не работало. С двумя женскими истериками я ничего не мог поделать. Арина визжала громче своей паникующей матери, грозясь прямо сейчас выйти в окно с пятого этажа, если её посмеют разлучить со мной.
В конце концов, была привлечена тяжелая артиллерия. Дядя Володя просто вынес Арину из моей квартиры. Я не помню, что делал: сопротивлялся ли я? Пытался ли вырвать из их лап свою любовь? Может, и нет… Я снова сдался. Это ужасно. Я ненавидел себя.
Ты опять один, чувак, — сказал я зеркалу. — Все же было понятно. С самого начала. Не стоило и начинать. Жил без всяких сердечных привязанностей — и нормально. Ты что, забыл, что ты — прокажённый? Ты вичёвый, любить тебе не позволено, ну, если только таких же, как ты сам. Ты же — чёртов Квазимодо, хоть ты и симпатичен внешне. Внутри тебя — твоя уродливая тайна, и каждый, кто узнает про твой вирус, каждый с этой минуты имеет право тебе плюнуть в лицо, напомнить, что на счастье ты права не имеешь. Какая тебе Эсмеральда?.. Жри говно…
Для всех ты вооружен и очень опасен. Вооружен своим вирусом. Для всех, кто знает о твоем ВИЧ, ты — леденящее дуновение смерти. Ты для них — и убийца, и жертва. Иногда тебя даже заживо называют жертвой СПИДа. Превентивно, так сказать…
Но она!.. Для неё ты был человеком. Она в тебе увидела тебя. Что бы она сейчас сказала, поняв, что ты опустил руки и отказался от борьбы? Правильно, она бы выдала что-то вроде: «Спирин, я тебя ненавижу. Ты сраный предатель».
И я решил: ни с одной потерей в жизни я больше не смирюсь. Нужно было снова её обрести. Я не знал, как, но я верил, что всё получится. Я ни во что так не верил в своей долбанной жизни. «Да-да, — говорил я себе. — Я прямо сейчас разработаю план действий. Только немного полежу…»
В голове мутнело, интуиция говорила: температура больше тридцати восьми.
Да, надо поспать.
Лимфоузлы вызывающе выступали из-под челюсти. Я выпил тройную дозу метазида (начал курс еще с неделю назад, когда обнаружил первые признаки). Сегодня пришлось окончательно признаться себе в том, что у меня, кажется, туберкулез.
И я молил Бога — я не знал, какого, какого угодно, — чтобы это был не он…
Асфальтоукладчик, что ли, по мне едет? Жуткая нарастающая боль. Лучше бы и не ложился спать. Взглянул на часы — я проспал половину суток. Вот, еще и слабость. А асфальтоукладчик все давит на грудину. Невыносимо. Я подался вперед, и из меня вырвался кашель.
Вместо того чтобы отвоёвывать у враждебного мира Арину, я выкашливаю свои легкие. Прелестно.
Ну, привет, туберкулёз! Что ж, поехали в больничку? Там с тобой разберутся.
А следующая мысль: ну какая больница? Меня положат минимум на полгода. А то и на год. Как я без Арины? Как она без меня? Но горькая правда, и я это знал, была в том, что если не больница сегодня, то могила завтра.
Пусть это будет частью борьбы за мою малышку — моя борьба за жизнь.
Часть вторая
От капельниц я почему-то все время терял сознание. Врач называла это сном. Но мне казалось, что это был какой-то, мать твою, наркоз. Приходя в себя, я моментально вспоминал про Арину и начинал шарить рукой под подушкой и по тумбочке в поисках телефона, но не успевал закончить начатое, вновь погружаясь в небытие…
Только несколько дней спустя я наконец прочел все тридцать восемь накопившихся в памяти телефона сообщений. Она то кляла меня на чем свет стоит, обвиняя в предательстве, то обеспокоенно спрашивала, где я, что со мной и как я себя чувствую? Пью ли таблетки? А потом снова упреки и угрозы, что если я продолжу её игнорировать, она возьмет и забеременеет от своего соседа по парте…
Я хотел написать ей что-то полусерьёзное. Ну, чтобы она была уверена, что я по-прежнему её люблю, но при этом не заподозрила, что моя нынешняя проблема со здоровьем размером с асфальтоукладчик… Но пальцы не слушались, ничего написать не получилось.
С трудом я сел на постели. Закашлялся. На звук повернулись соседи по палате. Спортивного вида азербайджанец жевал хурму и покачивал головой в такт национально-танцевальным песенкам, раздававшимся из его телефона. Очень худой парень увлеченно давил синим пальцем врагов в планшете. Обычный мужик, безликий, как продавец из «Евросети», читал книгу. Они кратко взглянули на меня.
— Это какая палата? — спросил я, чтобы что-нибудь сказать.
— Четвёртая, — ответил азербайджанец.
— А по моим ощущениям, шестая… — буркнул безликий.
Я встал. Это было нелегко. Палата виделась в черно-зеленых тонах.
— Ты куда? — хором спросили соседи. — Тебе ещё лежать надо, посмотри на себя!..
— В туалет я…
— Какой тебе туалет? Утку вон возьми под койкой.
Мне восемнадцать лет, и мне предлагают ссать под себя. Нет, я лучше сдохну.
— Пацаны, скажите, где сортир? — умоляю я.
— В конце коридора, — отвечает азербайджанец. — Давай провожу тебя.
Мне он сразу понравился. Хороший парень. Джавад.
В туалете я достал телефон и набрал Аринин номер.
Она плакала.
— Куда ты пропал?
Я так и не придумал, что бы соврать. Пришлось сказать правду:
— Я в тубдиспансере.
— Я как чувствовала!.. Адрес говори! Какой диспансер?
— Ты с ума сошла… Тебя не пустят…
— Меня — пустят. Не сомневайся, — уверенно сказала Арина.
— Лучше скажи мне, мама твоя успокоилась?
— Она никогда не успокоится, — проворчала Арина. — Только если я её убью, вот тогда да…
— Глупости не говори. Послушай. Я отсюда выйду не очень скоро, наверное. Через полгода. Может, больше…
— Я умру без тебя, — всхлипнула Арина.
— Не перебивай. Мне хорошенько вылечат этот чертов туб и, надеюсь, он больше не вернется. Я выйду, и мы все равно будем вместе, несмотря ни на что, и твоя мама в конце концов поймёт, что разлучить нас просто невозможно… Смирится.
Я услышал череду вопросов: что я ем, какие у меня условия, чем меня лечат, что говорят врачи, и ни на один не смог ответить. Я же в сознании почти и не был.
Арина плакала:
— А знаешь, я все-таки тебя ненавижу.
— Почему?
— Влюбить в себя человека означает подсадить его на самый тяжелый наркотик.
— Ну что поделать, маленькая… Переломаемся. Мне не впервой, в конце концов…
— Все будет хорошо?
— Погодки будут. Или как там они называются… Мальчик и девочка.
Джавада собрались выписывать. Но он чуть ли не зубами вгрызался в железную койку:
— Мне плохо, я работать не могу…
— Что вы мне голову морочите?! — отбивалась усталая пожилая врачиха Татьяна Ивановна. — У вас динамика исключительно положительная. Всем на зависть.
— А что я на рынке целыми днями?! Это ничего, да?! На меня работают таджики-маджики… Они не привитые… Чурки всякие… Опять заразят меня, и всё…
— Уймись ты! — замахала руками Татьяна Ивановна. — Кому ты про таджиков рассказываешь? У тебя ВИЧ сколько лет?!.. Надо было вовремя вставать на учет и начинать терапию, чтоб не довести до туберкулёза. А то сам видишь что вышло.
— Ну, пожалуйста, — взмолился Джавад. — Ну, я вас, как мать, прошу. Как родную мать, да?.. Ну, пожалуйста. Еще месяц, умоляю. А потом что хотите, то и делайте…
Она разрешительно вздохнула и пошла к выходу.
— А я?.. А мне что скажете? — сказал я ей вслед.
— А тебе, друг мой, восемнадцать таблеток. И лежать. Всё теперь не так уж плохо. Слава Богу, туберкулёз у тебя закрытый. Но это, конечно, странно — на терапии заработать такую тяжёлую форму. Задал ты нам задачку, конечно…
Лежать.
Спрашиваю Джавада:
— Чего ты домой-то не спешишь? Я бы всё отдал, чтобы выйти отсюда…
— Сейчас здесь мой дядька, понимаешь, мой будущий тесть… Приехал… Я помолвлен. Со своей двоюродной сестрой… Ну, в общем, он тут по делам. Если меня сейчас выпишут, то придётся ехать с ним и жениться там, в Баку… А там перед загсом надо на ВИЧ сдавать… Понимаешь?! Тогда все узнают…
— Подожди. Ты биологию учил в школе хоть чуть-чуть? Ты понимаешь, что с близкими родственницами лучше не заводить детей?..
Джавад пожал плечами:
— Так чуть ли не вся Турция и пол-Азербайджана женаты на двоюродных. И ничего. Ты мне скажи лучше: почему, когда я восемь лет назад сюда переехал, мне никто не сказал, что надо тут аккуратнее с девчонками?.. Я думал разве, что тут у вас ВИЧ на ВИЧе?..
— Так ты всю жизнь собираешься скрывать, что у тебя ВИЧ? И от жены своей?
— Ну да, — снова пожимает плечами Джавад. — Я тут пока отлежусь, в Азер не поеду, через пару месяцев её привезут сюда… Какая разница, ей бы все равно пришлось переехать. У меня тут всё есть. Гражданство, слава Богу, мне его помогли получить до того, как я заразился… Своя точка на рынке, квартиру снимаю… Я-то думал, всё у меня тут сложилось хорошо, а видишь, как… Но я не унываю. Буду жить, пока живётся. Здесь свадьбу сделаем… Никто про ВИЧ не узнает. Вирусная у меня сейчас нормальная. Говорят, скоро будет неопределяемая, то есть я буду почти не заразный… Значит, ребенка, хоть одного, да можно сделать… Не хотелось бы, конечно, заразить ее… Вообще, я её почти не знаю, ну, сестру-то эту свою, невесту. Она из деревни из-под Баку… Мало мы общались… Она, если честно, на крокодила похожа. Ну, челюсть вперед сильно…
И он показал, какая у неё челюсть — выдвинул вперед подбородок.
— Так зачем на ней жениться? — оторвался от книжки безликий. Его, кстати, звали Егор, и работал он отнюдь не в «Евросети», а был институтским преподом. — Мало того, что сестра тебе, так ты её и не знаешь совсем… А тебе же с ней жить…
— Да и челюсть к тому же… — встрял я.
— А что я могу поделать?! Так у нас положено, — ответил Джавад. — Традиции. Помолвку сделали, когда мне было восемнадцать, а ей вообще тринадцать. Я уехал учиться и работать сюда… Вот, поработал и поучился на хрен. Вичёвый теперь…
В кварцованном воздухе палаты повисла безысходность. В списке того, что я ненавижу в этой жизни, я мысленно поставил галочку напротив слова «традиции».
Хорошо, что Джавад остался. Он подкармливал нас, остальных обитателей палаты. Родственники и друзья приносили ему огромные пакеты продуктов. В основном копченое мясо и фрукты. Джавад уверял диаспору: заразился туберкулёзом от своих грузчиков-таджиков. Что он лежит в отделении для ВИЧ-положительных, конечно, никому не говорил. Если б соотечественники узнали — наверняка забыли бы сюда дорогу…
Вскоре меня начали навещать и наши ребята из группы поддержки для людей, живущих с ВИЧ, которым о моём туберкулёзе рассказала Арина. Ко мне в палату их не пускают, и гулять мне еще нельзя. Они передают мне еду, и я чувствую, что они за меня переживают. От этого колет в носу: неужели есть на свете десяток людей, которым будет жалко, если я умру?..
Наше ВИЧ-отделение — на втором этаже. В состоянии вечного ремонта. Побелка носится липкой пылью по коридорам и палатам. Пол моют два-три раза в неделю. Душ не моют никогда — и там неизменно пахнет мочой и спермой.
Зато из окна смотришь — и не веришь, что этот паноптикум безобразного расположен в таком чудесном месте. Деревья, небо, лес.
Я тут уже три недели, и последнее время чувствую себя неплохо. Когда можно будет, наконец, выйти из палаты, мы увидимся с Ариной. Я представляю эту встречу каждый день. Только этими мыслями и жив.
И однажды было пять утра. Просто пять утра. Последний сеанс снов в преддверии нового больничного дня, который, как и предыдущие, будет тянуться медленной противной смолой. А я открыл вдруг глаза. Почудилось, будто кто-то играет на флейте. Совсем уже с ума схожу. Или…
Скрипнул пружинами, спрыгнул с кровати — и я у окна. На дереве, царапающем ветками наше окно, — она. Играет что-то похожее на «Smells like teen spirit». Не было в моей жизни, кажется, зрелища более прекрасного. Как там древесные нимфы называются? Дриады, кажется…
Мечусь по палате. Не нахожу свою одежду. Правильно, мне же её еще не вернули… Хватаю джинсы Егора, они мне совсем не по размеру, но какая разница… И вот я внизу. Пара синяков. Прыгнуть со второго этажа — ерунда. Как выяснилось.
…Мелькнула и исчезла мысль: почему мы не разговариваем? Только целуемся. Надо, надо говорить.
— Малышка. Говори что-нибудь. Пожалуйста, говори. Я это буду крутить в голове и не сойду с ума.
— Я не знаю, что…
— Как ты живешь, что делаешь?..
— Без тебя я только целыми днями смотрю всякую хрень по TLC и ем. Ем, ем, ем. Никуда не хожу, всё мне осточертело. Даже скандалить с мамой. Я просто её не замечаю. Володя от неё ушел. Она и в этом меня винит… А я целыми днями вспоминаю наши полгода.
— Семь с половиной месяцев…
— Я все время думаю. Вот скажи, почему серьезно болен именно ты? Ты молодой, умный, красивый. Ты можешь стать учёным, принести пользу людям. А большинство? Кто они?.. Менеджеры, продавцы, охранники, бухгалтеры… Живут, как будто у них впереди еще десять жизней. Только жрут и срут, изредка совокупляются, рожают таких же никчемных детей… Почему бы им всем не сдохнуть вместо тебя одного?..
Я улыбаюсь:
— К нам тут приходили из какой-то неведомой полуцеркви-полусекты… Такое задвигали… Что мы чуть ли не избранные Господом, раз у нас такой диагноз. Ну, типа, нам надо торопиться познать Бога и все такое. Погоди-ка, вступлю в эту секту и начну гордиться, что я положительный…
— Ты во всём положительный. Намного положительнее, чем все… Тебе тут, наверное, скучно?
— Невыносимо.
Она достала из рюкзака планшет и протянула мне:
— Вот. Пиши. Напиши всё-всё-всё про нас.
— Зачем?
— Ну как зачем? Всё, что с нами происходит, мы расскажем нашим детям и внукам. И как расскажем? В двух косматых предложениях. И они совершенно не поймут, что мы пережили и что чувствовали. А если ты напишешь, это будет совсем другое дело…
Вот тогда-то я всё это и начал писать. Дни в больнице теперь казались не такими уж и бесконечными.
— Ну ты даёшь, старина! — внезапно надо мной, сидящим в очереди на анализы, навис Санпалыч. — И как тебе в голову пришло с ВИЧ устроиться в морг? Я от тебя не ожидал такого. Ты всю жизнь с диагнозом. И прекрасно знаешь, что жизнь с ВИЧ — это прежде всего самодисциплина.
— Там хорошо платили, — развёл я руками. — А мне нужны деньги…
— Деньги, деньги!.. Да ты чуть на тот свет не отправился!.. Деньги ему были нужны…
— Ну, не так уж я и затянул, — возразил я. — Просто он что-то очень быстро развился… Я не ожидал…
— Да ты снимок свой видел?! Не затянул он…
— Да кто ж мне тут его покажет…
— Конечно, сейчас тебя, старина, подлечат. Но бесследно это не пройдёт. Жизнь ты себе сократил…
Я молчал. Мне было слегка стыдно.
— Я понимаю, — продолжал Санпалыч, — ты всегда хотел быть врачом. Работая в морге, ты был близок, так или иначе, к тому, чем, видимо, хотел, хочешь заниматься…
— Дело даже не в этом, — хмыкнул я (хотя он озвучил одну из главных причин, что держала меня в морге). — Я же сказал вам — деньги мне были нужны. Я стал жить с девушкой. На стипендию и сиротскую пенсию это невозможно…
Он потёр переносицу, а потом заговорил очень тихо. Так всегда говорят, когда хотят, чтобы слушали особенно внимательно.
— Конечно, с твоей точки зрения, я скажу крамолу… Но ты всё-таки послушай. То, что ты влюблен — это замечательно. Но у тебя была жизнь до любви и, вполне вероятно, будет жизнь после любви. Молчи! Молчи! Не перебивай! — воскликнул он на мой протестующий жест. — Я настаиваю: возможно, и скорее всего, то, что с вами сейчас происходит, не навсегда. Сейчас вы влюблены и счастливы тем, что влюблены. Вы совершенно не думаете о завтрашнем дне, и это, конечно, абсолютно нормально для вашего возраста, так и должно быть. Но всё же очень важно не наделать непоправимых ошибок. Потому что любовь, возможно, уйдёт, а жизнь твоя останется с тобой…
Я демонстративно зевнул. Я хотел, чтобы он этим оскорбился и отстал от меня со своими преступными увещеваниями.
— Ну ладно, иди сдавай кровь, а потом в палату, — ободряюще сказал Санпалыч. — Но всё-таки подумай над тем, что я тебе сказал.
— Не буду я думать. Я без любви жить не собираюсь. Я всю жизнь, пока не познакомился с ней, и так жил, как… как в подвале… А мимо проносилась жизнь, где все всех любили, ценили и защищали. Но только не меня. И я привык к этому, и я думал, не надо мне ничего. Мне было смешно, когда я слышал, что любовь — главное в жизни. Но теперь-то я знаю, что так оно и есть. Так что моя жизнь теперь может быть только жизнью с любовью, и никак иначе. Блин, я несу какую-то сопливую ерунду… Но это правда.
— Может, ты и прав, — пожал плечами Санпалыч. — Пожалуй, мне тоже есть над чем подумать. Иди, иди, старина…
Перед тем, как занести ногу над лестницей, я оглянулся, чтобы удостовериться, что он задумчиво, как в кино, смотрит мне вслед. Но в коридоре было пусто.
Кирилл был всё время чем-то недоволен. Мы слишком шумели, не давали ему спать, наши разговоры были тупыми, цвет стен блевотным, еда — отвратительной.
Это, конечно, норма для наркомана. Трезвая жизнь кажется ему абсолютно безрадостной. Я это понимал. Меня он своим ворчанием не раздражал, а вот Джавада и Егора — ещё как.
Кириллу — двадцать четыре, системщиком он стал в семнадцать и, видимо, примерно тогда и получил ВИЧ. Он и сейчас бы торчал, но три года назад попал в тюрьму. ВИЧ на зоне быстро прогрессировал: Кирилл почти ослеп на один глаз, стал прихрамывать, ну, и, конечно, заразился туберкулезом. С ним-то сразу после отбывания срока он сюда и попал. Лечение ему выхлопотала его тётя, которая, в отличие от остальных родных, ещё верила, что Кириллу впереди светит что-то, кроме крышки гроба.
На старости лет у неё, как в анекдоте, было если не сорок, то десять кошек точно. И больше никого и ничего. Наверно, поэтому за спасение Кирилла она взялась с особым энтузиазмом. Но сам Кирилл спасаться не хотел. Он круглосуточно ныл, что как только он отсюда выйдет, то грабанёт тетушку, наскребёт тем самым на золотой укол и, наконец, сдохнет.
— Нахер с вичуганом жить? — сокрушался он. — Вот как ты живёшь всю жизнь, не понимаю? Не, я пока торчал, мне нормально было, ну, то есть я не думал о нем. Что есть этот вирус, что нет… Но трезвым это же просто невозможно…
— Что невозможно? — интересуюсь, хотя ответ предполагаю.
— Посмотри на меня. На кого я похож? Я смерти боюсь. Каждый день думаю про этот чертов СПИД…
— То есть как колоться ссаным баяном — так смерть не страшна, а когда от тебя требуется-то всего лишь по времени пить таблетки и трахаться в резинке — сразу смерть на горизонте виднеется? Так, что ли?.. — в своем обычном издевательском тоне спрашиваю я.
Представляю, как зашипела на меня бы сейчас Арина. Наркоманов она очень жалела и говорила, что правильно называть их «ПИНами» (потребителями инъекционных наркотиков). Это чтоб не обидеть.
— Ты просто толком и не жил трезвым. В детстве только. И на зоне. Я бы на твоём месте тоже не знал, как жить… Тут не в вирусе дело… — продолжаю я.
— И что мне делать? — спрашивает Кирилл и смотрит на меня, как щенок, которому прищемили хвост.
— А я откуда знаю?! К «Анонимным наркоманам» сходи, тетка тебя всё тянет туда…
Кирилл энергично мотает головой:
— Не, у них там духовность всё какая-то. Верить во что-то надо. Херня это всё…
— Тогда ваши предложения, друзья, — иронически обращаюсь к остальным обитателям палаты. — Как будем спасать Кирюшу?..
Джавад нахмурил монобровь:
— Вот если б наркоманы, с***, знали, что их ждёт смертная казнь, сто раз бы подумали, прежде чем эту гадость пробовать, да… А так — делай что хочешь, себя убивай, другим продавай, ужас, да… Не хочу поэтому, чтоб мой сын рос тут. Жену свою, когда родит, отправлю в деревню на родину. Пусть там ребенок растёт, да…
Егор оторвался от очередной книжки:
— Свой ВИЧ надо принять. Могу только посоветовать почитать Эрве Гибера, например. Но, думаю, в случае Кирилла это не актуально…
Кирилл бьет кулаком по стене. Штукатурка слетает, обнажая холодный камень.
Мы встретились с Ариной в туберкулёзном лесу. Она обрéзала дреды. Теперь у нее была короткая стрижка с выбритыми висками. Новая причёска заострила её скулы и сделала глаза большими и печальными. Или не причёска…
В тот день она прогуливала уроки. Рассказала, что ходила с мамой к Санпалычу.
— Я была уверена, что он её убедит в том, что ты не опасен. Ну, врачу-то надо доверять. Но нет. Как об стенку горох… А он ещё и обмолвился про твоих родителей…
— Да уж, удружил старик…
— Ему пришлось… Он рассказал, как ты заразился. Она думала, что ты половым путем, но ведь нет… Она заистерила ещё больше. Сказала, что у тебя генетика и всё такое.
— Она права, вообще-то, — ржу я. — Именно поэтому я никогда не буду ничего употреблять. Знаю, что сторчусь с первой дозы…
Она помолчала.
— Ладно, это всё неважно, — продолжала Арина. — Она залезла ко мне в телефон, прочитала нашу переписку, теперь знает и про тубик, и что я хожу сюда. Она меня отправляет в село к своей сестре за 400 км отсюда… Хочет оставить меня там на лето и одиннадцатый класс… Я, конечно, угрожаю ей самоубийством…
Новость почти уничтожила меня, но я надел оптимистичную маску.
— Беда в том, что если часто угрожать самоубийством, это перестает действовать, — с улыбкой сказал я. — Я тебе вот что скажу. Не сопротивляйся. Послушайся её. Пусть она успокоится. Скажи ей, что мы расстались. А когда меня выпишут, я тебя заберу, и тут уж она поймет, что разлучить нас невозможно.
— Ах ты дипломат хренов!.. Как меня всё это достало. Мне всего-то надо, чтобы я могла быть с тобой. Что за чёртовы хитрости, выдумки, что за жизнь…
— Вот такая плюс-жизнь, — я прижимаю её к себе. — Вирус, с***… Всё живое хочет убить.
Она отрицательно покачала головой и ответила с горечью:
— Нет, вирус здесь ни при чём. Это всё люди…
Егор не рассказывал, как заразился. Да это, в общем, и не важно. Нет разницы, как ты получил вирус, главное — как ты с ним живешь.
Он смаковал своё одиночество. Это присуще многим интеллектуалам. Умникам. Я тоже ведь такой, хоть и не очень умный. Но я отчуждён с детства. Отчуждён и отчуждаем. Если б я не родился с ВИЧ, а приобрёл его, как большинство, думаю, я бы, наоборот, старался прибиться к людям. Я бы убеждал себя: надо жить прежней, нормальной жизнью. Предполагаю, у меня бы получилось. Но, увы, я ни дня не жил как все.
Егор получил «плюс» в анализе на ВИЧ девять лет назад и не пил терапию, дойдя до терминальной стадии. Это было почти немыслимо, но его вытащили с четырёх клеток. Вам неведомо, но норма — пятьсот и больше. Пятьсот. Когда ему вылечат окончательно туберкулёз и поднимут иммунный статус, он поедет домой. Сможет жить и работать как все. Врачи — всё-таки полубоги.
— Почему ты столько лет сидел без терапии? — спрашиваю.
— С того момента, как узнал, страшно стало жить… Я прекрасно понимал: надо лечиться, само не рассосётся, но не предпринимал никаких шагов, пока не осознал, что уже конец… Я не мог и себе-то признаться в том, что болен, уж что говорить о других. Ужасный страх. Ужасный. Я понял, что много читал книг о смерти, но ничего из них для себя не вынес, раз так боюсь.
— Ну, хоть маме-то мог сказать? Мама у тебя хорошая? Поняла бы, наверное, поддержала?..
— Что ты, мне жаль её. Кто-то из великих сказал, мол, правду надо сообщать, будто надеваешь другому пальто, а не швыряя в лицо, как мокрое полотенце. Но правда о ВИЧ у близкого всегда будет мокрым полотенцем. Понимаешь? Я скорее умру, чем расскажу про свой ВИЧ. Вокруг меня никто не знает. Никто… Знала только одна девушка…
— Ну, девушка — это уже неплохо…
— Я написал диссертацию на тему онтологии человеческой телесности. Пытался и вируса коснуться, в частности. Но научрук эту главу зарубил. Сказал, что я притягиваю за уши то, что не имеет отношения к теме. Тогда я отказался от защиты диссертации. Плюнул на них всех. Но никто мне не мог запретить говорить на лекциях то, что считаю нужным. Там я мог разгуляться. Фуко, тот же Гибер… Так вот, о девушке. Была одна студентка у меня, она догадалась, что я болен. Её интересовало, как я с этим живу… Она разделила мою боль. У нас завязались отношения. По-своему это было чудесно. Представляешь, она хотела, чтобы я ее заразил!..
— Бывают же дуры… И ты заразил?
— Нет… Но и недолго мы вместе были. Я знал, что у меня мало времени, жаль было тратить время на эту возню… Я всё думал, что делать со своей болезнью, ну, в смысле, как её использовать. С диссертацией не вышло. Хотел снимать свои дни на камеру, ну, как Эрве Гибер… Но это вторично. Книжку написать? Художественная литература — это не моё. Сейчас вот рисую карандашом… Но кому это надо?..
— Ты её так любишь — свою болезнь, — заметил я.
— Есть такое, — с некоторой даже нежностью ответил Егор. — У меня, кроме неё, никого и ничего не осталось. Каждую минуту прислушиваюсь к себе. Что у меня нового?.. Где-то пятнышко, или лимфоузел вылез, или тошнота на лекарства… Но это и любовь, и ненависть. Я готов все виды терапии на себе испытать! Вакцину, если изобретут…
— Романтизируй ВИЧ как хочешь, но надо понять одно: здорово мы попали… — сказал я. — Я не могу подчиниться болезни. Надо как-то умудряться жить с ней, но при этом ей противостоять.
— Тоже романтизируешь, — отозвался Егор.
Конечно, он был прав.
На нашем этаже стоял полуживой телевизор. Показывал отвратно, но звук был громкий. Из коридора в тишину палаты то и дело врывались «Битва экстрасенсов», «Дом 2» и канал «РЕН ТВ». Последний болящие особенно любили за сладкий его елей: ВИЧ не существует, рак излечивается содой, а туберкулёз — медвежьим салом.
Обильно пытались нас полить и религиозными сиропами. Самыми разнообразными. Пока я лежал, к нам в отделение успели наведаться полуофициальная православная делегация, воодушевлённая неопротестантская компашка и странная парочка в венках и с бубнами (эти обещали научить нас «дышать пятками», утверждали, что такое дыхание — ключ к здоровью).
Кирилл, ничуть не отвлекаясь от планшета, спрашивал каждого проповедника: нахера мы, вичушники, вам сдались?! Собственно, такой же вопрос был и у меня. Несмотря на разность своих воззрений, отвечали они примерно одинаково: там, наверху, вас любят и хотят, чтобы через болезнь вы пришли к Богу. Причем все утверждали, что у них в общинах есть ВИЧ-положительные, которые чуть ли не исцелились.
— То есть, — сказал я (уж не помню, кто в тот раз был моим оппонентом). — Вы предлагаете нам сделку? Будь хорошим или даже не так: стань одним из нас — и на земле полегчает, и на небе рай, верно?
Разумеется, тут же поджимают губы. Типа не это имели в виду. Ну а что, как не это? Что вообще такое их жизнь, тех, кто подчиняет себя массе обрядовых запятых, если не сделка?..
Я так жить не хочу. Да и если бы хотел, не смог.
В те больничные дни, несмотря на бесстыдно расцветающую за окнами весну, я был еще более пессимистичен, чем обычно. Казалось, что вновь настали мои безысходные тринадцать лет с гнетущим одиночеством, невыносимой бабушкой и каждодневным страхом смерти. Как отвлечься? Листая ленту инстаграма, конечно… Ведь в инстаграме у всех всегда всё хорошо. Может, и у меня так будет?.. У нас с ней…
Однажды утром инстаграм подсунул мне фото детских ножек в розовых пинетках с подходящими к этому случаю тегами. Это Ася родила. Здоровую и пухлую девочку, которой дали столь же пухлое имя — Соломия.
Ася и Назар — звёзды в нашей группе поддержки для ВИЧ-положительных. Оба давно с плюсом. Познакомились пару лет назад, на одном из собраний. Оба в прошлом употребляли. Последние годы Назар работает в программе реабилитации для наркозависимых, а Ася — фандрайзером (вот это словечко!) в благотворительном фонде, который помогает людям с ВИЧ. Поговаривают, что оба этих проекта скоро закроют… Но ребята — оптимисты. Верят, что и дальше смогут помогать таким, как мы.
Я написал дежурное «Поздравляю!» к фотке с пинетками, и Ася тут же пригласила меня на выписку из роддома и праздник по этому случаю. Прогуглив, памперсы какого размера положено покупать новорожденным, я двинулся к роддому.
У входа стоял Назар, поддерживая за локоть свою бабушку. Приехала она аж из Черновицкой области. Бабушка очень волновалась. Наверное, в такой степени, в какой в семьдесят лет лучше не надо.
— Может, это я её, внучку-то, в первый и последний раз вижу… Надо пока держаться, — повторяла бабушка.
— Тю, бабуся — говорил Назар. — Ты ещё Соломийку под венец проводишь…
— Под венец, — прошипела курившая рядом роддомовская акушерка и вдруг кивнула мне: — Слушай, ты же ведь их друг? Ну, этих, Музычко?.. Знаешь же, что у них обоих болезнь неизлечимая, ты в курсе, какая… А они рожают… Тьфу ты!.. Ну ты-то вроде нормальный парень, дружишь с ними, почему ты им не сказал, ну куда вам, наркоманам, рожать?!
— Может, я им ещё должен был сказать: куда вам, спидозным наркоманам, жить на белом свете? Ведь, — я взглянул на её бейджик, — Юлия Иванова, акушерка первого родильного отделения, хочет, чтобы вокруг неё были только такие же юли ивановы, и больше никого…
— Придурок, — сказала Юлия Иванова и, смерив меня презрительным взглядом, удалилась.
Тут, наконец, вышла Ася. Спешно передав четыре килограмма кружев Назару, она бросилась целоваться и обниматься с друзьями и родными и улыбаться в несколько объективов разом. Говорю же — она у нас звезда… Моя Арина повторяет, что, «когда вырастет», хочет быть как Ася.
Они зазвали меня к ним домой. Сказали, что бабушка привезла с Украины «такое сало, которое быстро поставит меня на ноги».
— Бабушка-то про ВИЧ в курсе? — шепчу я Асе.
— Ну, конечно, — смеётся она в ответ. — Бабуся! Ну-ка толкни нам свою ВИЧ-теорию.
— А? Шо то воно ваш вірус? Не голод й не война — то є головне. Я голода не знала, дякувати Господові Богу. А ось мати моя були казали, що її леда чи не з’їли. Було їй двадцять років в тридцять другому, вона на Київщині жила. Гналися-гналися за нею, та вона впала долі в яр… Вони й подумали, що вона вмерла, розбилася, ніхто за нею не поліз, та й відки на це сили… А вона вибралася… Хоч була пухла вже від голоду… Потім батько мій її побачив, полюбилися вони… Забрав до себе, де не такий голод був, а з сорок п’ятого, коли батько з войни вернувся, вони на Буковині оселилися — там я і світ Божий побачила, отако… А ви кажете: віруси, віруси… Да які віруси!.. Зараз все лікують. Головне, абись люде один одного не їли…[1]
Соломия, которую велено было называть просто Мией, сытая, спала в кроватке. Я впервые в жизни видел человека пяти дней от роду. Всегда думал, что у младенцев спокойные и безмятежные лица, а оказалось, нет. Лицо Мии частенько вздрагивало, по ресницам будто пробегал ветерок, уголки рта то опускались, то поднимались. Казалось, она только притворяется, что спит, а на самом деле размышляет, что же ей теперь делать на этой планете.
— Ну что, Мийка, отрицательная дочь положительных родителей, — сказал я ей. — Попробуешь сразиться с миром?
— На хрена мне сражаться? — словно возражала мне Мия очередной сонной гримаской. — Я хочу просто жить.
И если она так действительно подумала, она была абсолютно права.
Выглядел я, по правде говоря, ужасно. Вес возвращался неохотно, глаза ввалились, заострились скулы. Бледный я был, как больничный потолок. Несмотря на это, у местных девушек я был популярен. К своему удивлению, я заметил, что романы здесь были не редки. Хотя это и объяснимо — слишком долго тут обычно лежат, почему бы со скуки не замутить?.. У меня, конечно, таких мыслей и не было: Арина и здешние обитательницы очень контрастировали…
Частенько в туберкулезном лесу я болтал с девчонкой с первого этажа. У нее была одна из самых незавидных разновидностей туба. Острый миллиарный. Здесь она лежит уже больше года.
Я спросил, почему её не навещают родные, и сама она не уходит на выходные. Оказалось, с семьёй не общается.
— Как я могу относиться к своим родителям, если они назвали меня Клава?! — она мусолит краешек скатавшегося китайского халата. — Я всегда у них была толстая, страшная, тупая. Отговорили в универ поступать. Какой тебе, мол, универ, иди учись на товароведа в техникум… У подруг у всех парни, отношения, а я вечно одна. И тут, понимаешь, реально, как в сказке. Звонок телефона. «Клавдия, увидел тебя „ВКонтакте“ и сразу понял, что ты — моя судьба». Именно так он и сказал. Ну, какая бы на моем месте устояла?.. И не надо так улыбаться…
— Я бы не улыбался, если б вчера ты мне не сказала, по какой статье он был осужден…
— И что смешного? — оскорбилась Клава. — Ну да, за изнасилование. Но она Славку оговорила. Все было по согласию. А она его подставила. Синяки сама себе сделала. Она от него избавиться хотела. У неё новый хахаль уже был, бывший мент. Конечно, у них там все схвачено, у мусоров…
— Ты не боялась его?
— Нет… Тот, кто так говорит, такие письма и смс пишет, точно никого не мог изнасиловать. Нет, не то чтобы он мухи не обидит, я так не говорю… Он и за разбой сидел раньше, и за кражу. По молодости, по глупости… Он такое мне говорил. Столько нежности, любви. Страсти…
Последнее Клава говорит полушёпотом, с придыханием. Мой рот опять растягивается в улыбке.
— Ну и дурочка же ты, — говорю. — Он же использовал тебя явно. Продукты ему присылала, деньги на телефон, да?..
— Ну конечно. Но он себя очень ругал, что берет у женщины деньги!.. Говорил, на воле себе не позволял такого. Обещал, что выйдет, заработает — в сто раз больше мне отдаст.
— Отдал?..
Клава помрачнела:
— Нет, не отдал… Я его встречала с зоны. Он был так рад. Как ребенок. Сказал, я одна у него на этом свете осталась. Я работала тогда в магазине, уже год как, зарабатывала более-менее… Квартиру сняла — не с моими же родителями жить. Они от меня вообще отказались, как только узнали, что я с зеком связалась. И там пошло-поехало. Пьянки-гулянки. Друзья. Бабы какие-то… И тубик один сиделец бывший нам принес…
— Что ж ты их не выгнала, да и Славку своего тоже? Нафига такое счастье?
Она пожимает плечами:
— Не знаю… Надеялась, наверно.
— Вот и донадеялась. Он же подставил тебя.
— Сама виновата, — вздохнула Клава. — Не надо быть такой дурой. Для меня и тыща-то баксов — немаленькие деньги, а уж что говорить про пять. Он говорил, что деньги нужны, чтоб взятку дать… И дальше он начнет работать, магазин откроет, мы заживем… Ребёнка родим. Слава тебе господи, я хоть не залетела от него… Занять мне не у кого было. Только соседка на ум пришла. Лучше б она отказалась тогда давать мне в долг. Славка с её деньгами пропал… Потом я узнала, что его опять посадили за разбой. Взяла кредит — отдала соседке деньги. А мне вот проценты капают… Иногда от мыслей, как дальше быть, — хочется в петлю…
— А сейчас, когда он снова сидит?.. Опять перезваниваетесь, переписываетесь?..
— Нет, ничего о нём не знаю. Только знаю, что в Иркутской области…
— Он, наверно, новую себе нашёл.
— Может быть.
— Любишь его до сих пор?
Клава отвечает не сразу.
— Не знаю… Много было такого, что я люблю вспоминать. Всё-таки я счастливая с ним была. Как никогда в своей жизни. Но, конечно, я понимаю, это он во всем виноват, что со мной случилось. И долг, и тубик… Хорошо, хоть ВИЧ мне не принес…
И тут же осекается:
— Ой, извини, пожалуйста!.. Что я говорю…
— Да нет, ты права. Это действительно прекрасно…
В тубдиспансере пили все, кто еще не был отправлен в морг. Ну ладно, почти все. Всё-таки не только маргиналы были здешними постояльцами. Хватало и тех, кого принято называть нормальными: благого вида старушки, филологические студентки (они, Тася и Сима, говорили мне: «Теперь мы к Чехову относимся совершенно особенно!»), жилистые деревенские мужички, до последнего жевавшие сушёные медведки, прежде чем обратиться к врачу… А еще ходили слухи, что в отдельной хорошей палате тут лежит работница мэрии, которая на протяжении нескольких лет варила собак в надежде на излечение от туберкулёза. Всякие, в общем, были люди…
На все предложения выпить я отвечал отказом. Хотя синька бы непременно скрасила мое пребывание в этом чудовищном месте, но ради своей печени (ежедневно я печалил её восемнадцатью таблетками) я решил оставаться в трезвом режиме. Да и понаблюдав здесь за теми, кто беспробудно пробухал всю свою жизнь, видя их беззубые шамкающие рты, изъеденные палочкой Коха глаза, жёлтые пальцы и бугристую кожу, я чуть ли не дошел в своих убеждениях до крайнего ЗОЖ.
Однажды Кирилл притащил какое-то сатанинское пахучее зелье. Егор и Джавад попробовали, но сказали, что пить это невозможно.
— Ну ладно, — сказал пребывающий в неожиданно веселом настроении Кирилл. — Раз не хотите, буду один пить за свою новую жизнь.
— К «Анонимным», что ли, решил пойти? — спрашиваю.
— Не, — мотает головой Кирилл. — На море поеду.
Мы переглядываемся, мол, ну не идиот ли.
— Я посмотрел «Достучаться до небес»… Всё во мне перевернулось. Я никогда не видел море…
— У тебя иммунный статус ни к черту, какое море?! — реагирую я. — Тебе надо долечить острую стадию туба и пить уже нормальную схему против вируса. А то на зоне ты ту еще резистентность схлопотал. Понимаешь? А потом уже море… Да и на какие деньги ты собрался ехать?
— Ради такого найду денег… Я хочу, понимаешь, хочу! Нет, я мечтаю! Я что, не имею права съездить раз в жизни на море? Сколько мне осталось?.. Неизвестно ведь, вылечат меня или нет… А так, хоть что-то хорошее в жизни увижу.
— Туда придется брать с собой себя, — сказал Егор. — От себя не убежишь. На море тебе будет так же паршиво. Не обольщайся. Я за девять лет с ВИЧ где только не был… Веришь, на душе легче не стало.
— А мне станет, — с детским упрямством твердил Кирилл. — Я знаю.
У Джавада навернулись слезы. Он был самым добрым из нас.
— Слушай! — сказал он. — Давай я тебя на Каспийское море отвезу, как только выйдем отсюда, да? Бесплатно! Жить там есть где. Примут хорошо…
— Каспийское море — это на самом деле озеро, — вставил Егор.
— Да какая разница?! — эмоционирует Джавад.
— Нет, я на настоящее море хочу, — морщась от своего адского напитка, говорит Кирилл. — Которое не озеро…
— Ласты, маску подарить тебе?.. — подколол его Егор.
Мы смеёмся над Кириллом. Он привычно обижается. Хотя я чувствую — мыслями он не с нами. Он там, на море, которое увидел в этом попсовом, только на территории бывшего СССР культовом фильме.
На самом деле, зря я над ним издеваюсь. Каждому нужна анестезия. У него сначала был героин, теперь вот — мечта о море.
А у меня была Арина. И точно так же сейчас — о ней мечта.
— Как ты там?
Более безразлично может звучать только вопрос «Как дела?». Ох уж мне эти телефонные разговоры.
— А как бы ты себя чувствовал в посёлке, который называется Пролетарский?.. — ворчала в ответ Арина. — Школа здесь лажовая. Люди вообще… жесть… Мне уже досталось и за татуировку, и за пирсу.
— Что значит «досталось»? — волнуюсь я.
— Да я не в том смысле. Тетка моя увидела меня — давай орать. Она-то меня помнила такой, какая я была в тринадцать лет, когда мы виделись последний раз… Ребята здесь тоже, сам понимаешь. Я ни с кем не общаюсь, кроме своей двоюродной сестры… Хорошо хоть, учебный год скоро закончится. Месяц осталось продержаться. Потом засяду одна в комнате. И так и просижу до осени, пока тебя не выпишут.
— Напишешь свой вариант нашей книги?
Она только печально вздохнула. Оба мы были там, где быть не должны.
— Пейзаж тут… — продолжала Арина. — Памятник Ленину и три елки. Выть хочется. А нам задали написать реферат «Культурное наследие Пролетарского». Какое, на хрен, культурное наследие?!
— Ну не накручивай себя, маленькая. Смотри. Через четыре с лишним месяца сентябрь. В том сентябре мы познакомились, а в этом сентябре будем снова вместе… А может, все-таки уговоришь маму, чтобы хоть на пару дней приехать домой?..
— Не хочу я домой. Мама помирилась с этим своим… Видеть опять, как он яйца почесывает и ходит, как хозяин, по квартире — нет уж, не хочу… Хочу только быть с тобой… Но не час в диспансере. Часа очень мало. Лучше уж буду тосковать, пока не получу тебя целиком.
— Меня не перетоскуешь.
Это была правда. Тосковал я ужасно. С того самого дня, как она уехала, я постоянно думал: что мешает мне сорваться и поехать за ней? Плевать на туберкулёз. Долечусь как-нибудь. И она, я знаю, в глубине души ждала: неожиданно я ворвусь в этот чёртов Пролетарский, заберу её и… Неважно, что будет потом, что судьба мне просто так её не отдаст.
Так что мне мешает? Малодушие. Жизнь приучила меня сидеть тихо и не высовываться лишний раз. А ведь когда, как не сейчас, совершить безрассудный поступок… Но нет, не хватает духа. Послушно выкладываю таблетки в три ряда, гуляю по лесу, стреляю у Егора пессимистичные книжки.
А ведь она для того, чтобы быть со мной, ушла из дома. Перессорилась со своими друзьями, оказавшимися СПИДофобами. По деревьям на рассвете лазила, чтобы увидеть мою туберкулезную рожу. А я, что сделал для неё я? Почему я такое чмо?..
Боюсь, что разлюблю её. Что значит разлюбить? Не испытывать трепета при воспоминании: а какие у неё запястья, как она хмурит лоб, где у неё родинки… Я уже от неё отвык. Надеюсь, это не означает, что разлюбил.
Нет, ничего не изменилось. Если б не любил, не просыпался бы каждое утро, что довелось встретить без неё, с матерным монологом о тщетности жизни в голове.
— Ася, мне правда дико неудобно, — нелепо оправдываюсь, разглядывая яркую тряпку, внутри которой, крепко привязанная к маме, спит Мия. Дурацкой вдруг кажется моя спонтанная просьба, из-за которой Ася вырвалась из их, должно быть, идеального семейного мира на улицу Больничную, дом 1 «в». — Но я вспомнил, что ты мне рассказывала про хоспис… И я подумал, что, может быть, мне разрешат туда приходить… Понимаешь? Я много чего могу. Ну, там капельницы ставить, пролежни протирать…
— Почему не хочешь у себя в тубе этим заняться? От туберкулеза, сам знаешь, наши чаще умирают…
— Заведующая вытаращила глаза и услала меня в палату. Не надо, говорит, мне волонтеров никаких. Знаю я вас, говорит, настраиваете больных против врачей…
— Ладно, пойдем в хоспис, — согласилась Ася и с улыбкой добавила: — Кстати, много ты пролежней-то за свою жизнь протёр?
Я смутился:
— Ну, с теорией я хорошо знаком…
И мы двинулись к паллиативному отделению местного ракового корпуса. От моего диспансера его отделяет дивный туберкулёзный лес. Утешаю себя: хоть просьба моя и бестактна, с младенцем, наверное, полезно гулять среди деревьев…
Заведующий отделением нас ждал. Вернее, Асю. К ней, как я понял, он относился благосклонно — она несколько лет, вплоть до родов, приходила сюда и помогала персоналу. А вот я оказался для него сюрпризом.
— По-моему, молодой человек, вы — первый больной ВИЧ, не считая Аси и её мужа, который выразил желание помогать нашим больным на таких вот волонтёрских началах. Ася долго к нам ходила… Но, знаете, у нас сейчас двенадцать человек с онкологией на фоне ВИЧ… Наши медсёстры в принципе справляются. Я даже не знаю, нужны ли вы тут…
— Я нужен, — отчеканил я. — Я здесь необходим.
— Да? — удивился заведующий. — Почему же вы так уверены, позвольте спросить?
— Потому что если я им буду ставить капельницы, то резиновые перчатки надевать не стану… Мы сейчас шли по коридору… Так ваша медсестра отрицательному больному ставит капельницу голыми руками, а нашему, вичёвому, из той же палаты её же делает в перчатках… Зачем вы унижаете людей? Даже тех, кому осталось всего ничего?..
Он развёл руками.
— С этим я ничего не могу сделать. Люди боятся. Вот и всё. Хоть и знают, что не заразятся, а страх этот никуда не деть. Что, мне воевать с моими пятидесятилетними медсёстрами? — усмехнулся он. — Я так один останусь…
— Вот и пусть Лео ходит к ним, как мы с Назаром до недавнего времени. Постель поменять, покормить тех, кто уже ложку не держит, поговорить о чём-то, посмеяться, поплакать, — убеждала Ася.
— Ну, всё же я больше настроен на капельницы и протирание кожи, — сказал я. — Болтать-то каждый может…
— Может-то может, — ответила Ася. — Вопрос в том, о чём болтать…
— Сама знаешь, многие приходили, хотели волонтёрить, а в итоге только вы с Назаром и остались… Ну ладно, пусть молодой человек приходит! Найдём мы ему занятие, раз ты за него ручаешься, — завершает беседу заведующий.
— Я уверена, что Лео всё-таки станет врачом, он мечтает быть хирургом… — сказала Ася. — Пусть это будет его первым шагом в медицине.
— Но допущу к больным только со справкой от фтизиатра! — добавляет заведующий. — Я понимаю, что форма закрытая, но так положено… Вам самому ещё необходима медицинская помощь… В общем, через полгодика мы вас ждём.
Мы жмём на прощание руки.
Ася осталась в кабинете, доктору было любопытно взглянуть на её дочку, а я пошёл к выходу.
На крылечке курила лысая девушка. А может, это уже считается молодая женщина…
— А у меня волосы не от химии вылезли, — сказала она. — Сами повыпадали. Лимфома. СПИД. Я урод?
— Нет, — отвечаю я, и чтобы не выдать в себе лжеца, привожу аргумент: — У тебя очень ровный нос. Честно, я бы всё отдал за такой нос. Но я в своё время неудачно упал на физре…
— А я неудачно упала в жизни.
— Тебе плохо, больно?..
— Нет, меня обезболивают. Я ж для этого сюда и легла…Только этого и хотела последние месяцы.
— А теперь чего хочешь, когда не больно?
Она задумалась.
— Странно, никогда об этом не думала. Ну, не по-бытовому, а так, чтоб глобально… Чего я хочу? Родители хотели, чтобы я выучилась на юриста. Я выучилась. Почти. С четвёртого курса выгнали… Но хотела ли я юристом быть? Да нет… Гражданский муж… тому пофиг было, чего я хочу, ему нужны были только наркотики… Он и заразил. Но я не знала, я не проверялась, хотя можно было предположить, с его-то образом жизни. Потом второй муж, официальный уже, мы до сих пор не в разводе, кстати… Но он тоже никогда не спрашивал, чего я хочу. Бил и изменял. Считал, что имеет право, раз он меня со дна жизни подобрал. И вот через восемь лет у меня лимфомка нарисовалась… Выяснилось, что у меня ВИЧ. И муж исчез, будто его и не было… Такой мне скандал на прощание закатил, будто я в чем-то перед ним виновата. А я ведь не заразила его… Так что ты спрашиваешь? Чего я хочу?..
Помолчали. Она докурила одну сигарету, сразу зажгла другую.
— Я знаю! — она вдруг поменялась в лице. — Я хочу в бассейн.
— Чего?
— В бассейн хочу. Я одно время ходила… Ну, когда в универе училась… Я, знаешь, даже запах хлорированной воды обожаю.
— Слушай, а это реально. Гораздо более реально, чем море. У меня сосед по палате, я в тубике лежу, хочет море увидеть. Это несбыточно. А ты хочешь вполне осуществимого.
Она усмехнулась:
— Да ну, какой мне бассейн. Ты чего… Я так, просто…
— Спорим, будет тебе бассейн? Тебя как зовут?
— Александра…
Весь вечер я провёл на «Авито», и к следующему утру мне удалось раздобыть надувной бассейн объемом 5,621 л с насосом в комплекте. Вместе с семьей Музычко мы установили его в одной из душевых хосписа.
Заведующий отделением смотрел на это и крутил пальцем у виска. Может, он уже пожалел, что позволил мне тут, как он выражался, «волонтёрить», однако ни словом, ни делом не препятствовал назревающему празднику Александры.
— Хорошо всё-таки, что я тогда купальник купила новый, розовый… А думала ведь, чего покупаю, ведь СПИД мне тогда уже поставили и сразу сказали, что, скорее всего, хана мне, с лимфомой-то, — отойдя от первого шока, сказала она. — Но вот же. Хоть разок, да пригодится…
И прежде чем позвонить маме и попросить, чтобы та принесла купальник, Александра спросила меня:
— А чего ты хочешь?
— А я не знаю, — пожимаю плечами. — Понимаешь, мне только восемнадцать лет, и все говорят, что в этом возрасте можно особо ни о чём не думать…
— Ты не из тех, кто не думает.
— К сожалению…
Вечером она прислала смс: «Ты приходи иногда. Ладно?».
Я ответил, что обязательно приду на следующей неделе.
Но лаборатория стукнула меня по голове плохими анализами какой-то чёртовой печёночной пробы. Мне запретили шляться по городу — перестали закрывать глаза на мои уходы. В итоге две недели я провалялся в палате, по сотне раз на дню разглядывая наши с Ариной фотки, с трудом сдерживая порыв на хрен взорвать спасавшую мою жизнь больницу. Параллельно я боялся, что в этом подозрительном Пролетарском отыщется всё-таки какой-нибудь нормальный парень: здоровый, перспективный, из хорошей семьи. И всё, тогда я её точно потеряю и умру…
Когда, наконец, я пересдал анализ, все показатели были в пределах нормы. Предыдущий анализ вообще был не мой, как выяснилось. Как я был зол.
Я в хосписе.
Зашел к заведующему. Тот недоволен: мол, я же говорил, без справки от фтизиатра и не приходи…
А я вдруг что-то почувствовал. Что-то.
Влетел к Александре в палату. Её кровать была пуста.
— Бассейн-то свой заберёшь? — спросил у меня заведующий, когда я через минуту вернулся к нему в кабинет.
Я отрицательно покачал головой.
— Ну ладно, будем считать, что это твой авторский метод психологической поддержки паллиативных больных, — он похлопал меня по плечу.
А потом добавил:
— Ты им действительно необходим. Приходи. Со справкой только!..
— В палату старайся без надобности не заходить. В разговоры особо с ними не вступай. Помни, это в первую очередь контингент, а уж потом пациенты.
Это заведующая нашим ВИЧ-отделением наставляет нового врача, которого, вернее которую, молодую женщину чуть за тридцать, сразу решили окунуть головой в унитаз, поручив ей мужскую палату на двадцать четыре человека. Палату для бывших заключенных. Внутренне я посочувствовал новенькой. Неужели не понимает, что этот адский околоток на раз-два лишит ее всякого женского и человеческого достоинства?..
Кириллу всё-таки повезло, что он попал в нашу палату. В другой, что слишком напоминала камеру, ему явно было бы не до мечтаний о море.
В пятницу Татьяна Ивановна сказала, что мы с Кириллом можем, взяв наши таблетки, на выходные отправиться по домам. Джаваду было предложено то же самое, но он все еще скрывался от будущего тестя, поэтому наотрез отказался.
Я не особенно радовался. Что мне эта свобода, если мне не с кем её разделить? Впрочем, я вспомнил, что надо заплатить за коммунальные услуги и проведать кота — на время я отдал его соседке. Боже, мне восемнадцать, а развлечения, как у пенсионера — сходить в сбербанк и понянчиться с котом. Может, это своеобразный намёк от судьбы, что мне недолго осталось?..
Заглянув в почтовый ящик, я обнаружил оплаченные квитки. Обалдел. Это мог быть только Санпалыч. Впервые звоню ему на мобильный, хотя он давно мне дал свой номер, мол, звони, если что. Никаких «если что» раньше не возникало.
— Зачем вы это сделали?
— Уймись.
— Я привезу вам деньги. Как на приём к вам пойду…
— Уймись, говорю тебе. Как здоровье?
Я молчу.
— Слушай, старина, а приходи ко мне в гости. Я в отпуске. Жена уехала… Представляешь, тридцать четыре года живём, а впервые отпуск не вместе проводим…
— Что, у вас наступила стадия «после любви», которую вы мне обещали?..
Он заливисто смеётся:
— Конечно. Давно наступила. Как десять лет вместе прожили — так и поняли оба, что она наступила. Но сколько всего осталось — дружба, привязанность, благодарность.
— Зависимость.
— А почему бы и нет?.. Ну, так придешь?
— Да.
— Креветки умеешь варить?
— Креветки?
— Ну да… Я уже всё съел, ну наиболее съедобное, что оставила жена. Остались только креветки. Резиновые, наверно, получатся, заразы. Но с пивом ничего, употребить можно. Правда?
Под видом креветок мы жевали пропахшие рыбой куски каучука. Не очень вкусно, мягко говоря. Но какое это имело значение, если, наконец, я говорил с умным человеком? Нет, я, конечно, по-прежнему был не согласен с ним по поводу любви и, наверно, если покопаться, много с чем еще, но когда испытываешь к человеку уважение, с ним и спорить приятно.
— Почему вы отговорили меня поступать в мед? Я всё понимаю насчет проверок на ВИЧ… Но всё-таки есть же практикующие положительные врачи, я это знаю. Может, надо бороться, стены пробивать, но шанс есть…
— Так в чём дело? — усмехнулся он. — Поступай, куда хочешь. У тебя ещё миллион попыток. Я же не могу тебе запретить.
— Это я понимаю. Но всё же скажите: почему вы меня отговорили?..
— Ты нервный, ранимый и уязвимый, но дело даже не в этом… Да, может быть, способности к медицине у тебя есть. Но при чём тут это?.. Система порочна. Она сотрёт тебя в порошок. Зачем тебе это надо?..
— Вы в этой системе лет тридцать пять, так? И вы не простой врач, вы — главный инфекционист региона. И сейчас это говорите… Вот, мне кажется, в этом главная беда. Знаем, что работаем хреново, живём хреново. Жалуемся на это. Но ничего не меняем.
— А я не знаю, как тут что-то можно изменить. И не говори, что я не пытался. К кому только ни ходил, куда только ни писал. Нулевой результат.
— Вы о чём?
— Да хотя бы о лекарствах для вас. Нигде в мире не назначают всякую дрянь типа «Ставудина», а я вынужден его выписывать. Есть резерв с нормальными лекарствами, но его на всех не хватает, сам понимаешь. А ведь все хотят хорошие таблетки. Я знаю, что ко мне придет десяток пациентов с непереносимостью этой бурды, будут просить другой препарат, вот чтобы я его им из тумбочки достал. Кто-то рыдает, умоляет: у меня от вашего «Ставудина» ноги не ходят, а кто-то — умный — скажет: на «Ставудин» в Европе официальный запрет, сгноить заживо вы нас тут хотите, «Атриплу» нам давайте, в интернете пишут, что она хорошая. Напишут в Минздрав жалобу, ее спустят нам. Врача, что назначил плохую схему, я лишу стимулирующих… Он закусит удила, и я его понимаю!.. Как будто мы сами эту «Атриплу» жрём… И говорят еще — «Вы клятву Гиппократа давали…». Не знаю, кто как, а я Гиппократу не давал… А проверки эти?.. Облздрав, Минздрав, Росздравнадзор!.. Я устраиваю внутреннюю проверку центра перед проверкой, и не одну, а я — врач, врач, а не проверяльщик!.. Сам над собой смеюсь. Сплошная клоунада. И я ненавижу уже всё и всех — этих чиновников, коллег, которые ноют, пациентов, которые опять же ноют, себя за то, что ною…
— Выход из этого всего есть? Что вы предлагаете?..
Он ответил нарочито тихо, как говорил со мной уже однажды:
— Конкретно тебе я предлагаю всегда оставаться пациентом. Забудь ты про скальпель, да и вообще про белый халат. Забудь.
Я вспомнил, что так и не сделал ни одного глотка. Отхлебнул, но пиво нагрелось и стало гадким. Это как моя жизнь — и сделано-то полшага, а уже так противно.
Всё-таки больница устанавливает самые тесные социальные связи. Там нет ни минуты уединения. Всё на глазах этих чёртовых соседей по палате, свидетелей твоего несчастья, которые и посочувствовать не могут — сами по уши в этом дерьме.
Кажется, всё отдашь за одиночество. Не спеша поесть, побриться, просто посидеть одному — и всё это без лишних глаз. Наконец, у меня есть такая возможность, причем так ненадолго, но я бегу от неё. Отвык от своей квартиры, ёжусь от холода, несмотря на безжалостное майское солнце. Я заметил — первое солнце почти всегда какое-то ядерное. Чешусь от него, как ненормальный.
Звоню Игорю, зову в гости. Он пришёл с мамиными книгами под мышкой.
— Мог бы и не возвращать. Раз они тебе так нравятся, — кивнул я на книжки.
— Я так рад тебя видеть. Жалко, что в следующем году уже не вместе будем учиться, — сказал Игорь.
Да, из-за болезни мне ни за что не сдать летнюю сессию. У меня академ. Я второгодник.
— Болезни — очень несправедливая вещь, — продолжал Игорь. — Но когда-нибудь наука достигнет высшей точки своего развития, и болезней не будет вовсе. Ты веришь? Я верю.
— Что-то не очень, — ответил я.
Как же без болезней? Я вот без своей болезни — и не я.
Он посидел еще немного. А потом спешно засобирался:
— Лео, слушай. Дело в том… ну, в общем… Я встречаюсь с одной девушкой… Блин, она просто улётная!.. Но мама против. Ей двадцать пять лет. Мать говорит — она старая для меня, и что она никто и звать её никак… Ей нашептали коллеги про наши отношения, Ленка-то у мамы на фирме работает… Вернее, работала — мама ее уволила. И теперь мы скрываем, что мы вместе. Я сейчас пойду к ней. Ну, на ночь… Мать, конечно, не доверяет, отпускать не хотела, подозревает, что я к Лене… Я сказал, что к другу. И дал твой адрес. Сказал, мол, надо поддержать товарища, он болеет, его отпустили из больницы всего на пару дней и всё такое.
— Ха! А что, если она сюда приедет?..
— Она? Сюда? Да в жизни она сюда не поедет… От нашего коттеджного посёлка до твоего района пилить часа полтора. Да и по субботам она обычно бухает… За руль не сядет.
Я жму плечами.
— Ну, счастливо потрахаться, — говорю.
— Не завидуй, — улыбается Игорь. — Будет и на твоей улице праздник.
Около полуночи в домофон позвонили. В голове промелькнуло: «Арина!». А что, она ведь может. Взять, всё бросить и приехать…
— Кто там? — спросил я.
— Ты Лёва? Игорь здесь?
Всё-таки его мама приехала с проверкой. Вот это поворот.
— Вы поднимайтесь, — я начал судорожно сочинять: — Он здесь вообще-то, но он… он… в магазин вышел. Поднимайтесь.
По рассказам Игоря, я представлял его мать какой-то там Надеждой Крупской — суровой неприятной грымзой. Но она оказалась молодой жизнерадостной женщиной. Есть такое пошлое слово «цветущая» — вот к ней оно прекрасно подходило. Рост чуть выше среднего, а вес — чуть ниже. Основательный, но не очень заметный макияж, хорошо прокрашенные волосы. Черное платье, но не скучное: оно имело причудливую форму, каскадно-асимметричную, и я принялся, наморщив лоб, пристально его рассматривать, и, конечно, увидел всё: высокую грудь, в меру прокачанные руки, строго очерченную линию талии. Чёрт побери.
— Куда он попёрся посреди ночи? — тараторила она, сходя с каблуков. — У вас тут район не дай боже…
— Ну да. Зона близко.
— Зона? — похолодела она.
— Но вы не переживайте. Я тут всю жизнь живу, с криминалом не сталкивался. Как вас зовут?
— Марина… Вот не знаешь, говорить при общении с молодежью отчество или нет. Странный у меня возраст.
— Тридцать восемь?..
— Вчера исполнилось тридцать девять.
— Знаете, думаю, можно без отчества.
— Где твои родители?
— Мои, Марина, если можно так сказать, родители — конченые сторчавшиеся наркоманы. Мать умерла, когда мне было три месяца. Что с отцом — не знаю, но вряд ли он жив. Хотя даже если и жив, какая разница?..
На ее художественном лице появилось искреннее сочувствие.
— Бедный мальчик. И больше у тебя никого нет?
— Давайте выпьем.
— Я с детьми не пью.
— Да ладно вам. Посмотрите, мне на вид далеко не восемнадцать. Некоторые дают мне двадцать шесть…
Я достаю коньяк. Стоит на кухне еще с бабушкиных поминок. Отвратительный, пахнущий тараканами. Такая шикарная женщина рядом, что я ей предлагаю?..
Но она выпила и не поморщилась.
— Выпишут из больницы — пойдешь ко мне работать? — предложила она. — Менеджером по продажам. Умеешь уговаривать, я чувствую. Будешь хорошо работать — платить буду достойно.
Вместо ответа я кладу голову ей на колени. Она немного опешила. Но минута — и ее пальцы нежно забегали по моей свежевыбритой голове.
Дальнейшее было предопределено, хотя при каждом моём прикосновении она мягко пыталась вырваться:
— Что ты делаешь?
В ответ я громко шептал ей какую-то фигню, так, чтобы не было слышно моего безысходно бьющегося сердца. А когда я почувствовал, что попыток сопротивляться она уже не делает и увидел нашу одежду на полу, вспомнил:
— Презерватив… Нужен презерватив.
— Какой ты ответственный мальчик. У меня в сумке где-то был…
…Потом, лежа на моём плече, она сказала:
— Зачем ты всё это?.. Я в матери тебе гожусь.
— В том-то и дело. У меня Эдипов комплекс.
— Чего?
— Ничего. Не забивайте вы себе голову всякой ерундой.
— Ты со мной на «вы»? Мы только что переспали, и ты говоришь мне «вы»!.. Господи, всё-таки я старею…
— Да ладно тебе, — сказал я. — Ты прекрасна. Я запомню это на всю жизнь. И да — пусть Игорь встречается с этой своей Леной. Теперь-то ты понимаешь?..
Она отстранилась:
— Он мой ребёнок, как я могу так это оставить?..
— Ребёнок?.. Мы — ровесники с ним. Да и его девушке не сорок лет, — кольнул я её.
Она вздохнула:
— Да понимаю я… Всё правильно говоришь. Пусть он спит с кем хочет…
Начала собираться. Оказывается, муж за вечер позвонил ей одиннадцать раз.
— Да, зай, — извинительно щебетала она в трубку. — Я у Ильиных, зай. Они привет тебе передают. Сейчас приеду. Да не пила я, Господи!.. Ну ладно, ладно, немного, буквально глоток… Хорошо, я такси вызову, только не переживай. И я тебя, зай. Давай, пока.
Поспешно закончила разговор с мужем и процедила:
— С***, как же я его ненавижу…
— За что?
— За то, что такой хороший. Типа хороший. Живёт за мой счет. Не работает. Я его на хозяйстве держу, так сказать. Знаю, почему он со мной. Только из-за денег. Он так услужить пытается, настроение моё угадать… Видеть его не могу. Ничтожество… Молодой парень, тридцатник недавно отметил, но такой старик, чего не коснись. Можно я позвоню тебе как-нибудь?.. Игорь мне дал твой номер…
Не хотел я, чтобы эта чужая женщина мне когда-нибудь позвонила. Такая красивая, уверенная, полная жизни. Но чужая.
…Раскаяние стучало по темени. Арина! Оказывается, я не только трусливая сволочь, но еще и предатель.
— Я приеду завтра. То есть сегодня. Слышишь? Во сколько автобус? Утренний есть?!. — ору я в телефон.
— Лео, ты нормальный вообще?.. — Аринин сонный голос в трубке. — Сейчас пять утра…
— Скажи мне, есть автобус? Смогу я приехать к тебе?..
— Не получится… Мама на выходных тут у нас…
— Чёрт. Просто я хочу, чтобы ты знала. Я тебя очень люблю. Даже если я косячу, я тебя люблю. Правда.
— Что-то случилось? Почему ты всё это мне говоришь? В пять утра…
— Да какая разница, пять утра или не пять!..
— Я тоже тебя люблю. Иди, пожалуйста, спать. Таблетки выпил?..
Уснуть я, конечно, не мог. Слонялся по этим сорока пяти квадратным метрам, не зная, куда себя деть. Схватил принесенные Игорем книги и с силой швырнул их в тумбочку. Из Уэлша выпала мамина фотография. Раньше я её не видел. Я вообразил, что сделана она, когда мама уже была беременна, но не знала… А когда узнала, избавляться от меня было уже поздно. На тот момент у неё уже не было ни работы, ни дома, ни семьи.
Мама на фотке совсем худая, и улыбка у неё ненатуральная. Вид у неё растерянный, будто ей четыре года, и её забыли забрать из детского сада. За всеми родители пришли, а за ней — нет.
Мамина арифметика. Сколько бы ей сейчас было? Двадцать пять плюс восемнадцать. Сорок три.
Много о себе думала, вот и получила… Много о себе думала, вот и получила…
Писала какие-то стихи (где все они? я искал, не смог найти ни одного), общалась с неформалами, не закончила диссертацию по творчеству Гребенщикова…
Много о себе думала, вот и получила… Много о себе думала, вот и получила…
Дело ведь не в том, что ты меня заразила. А только в том, что ты ушла.
Прости мне мою ненависть, мама, мамочка. И я тебя прощаю.
Я сегодня освободился, мама. Я победил.
Я так и думал, что Кирилл не вернётся. В понедельник днём его тётка рыдала у кабинета завотделением. Та всячески пыталась от неё избавиться:
— Что я могу сделать, если ему жить не хочется?! Вернётся — добро пожаловать. А вы идите домой и не мешайте мне работать. А ты что тут шляешься? — обращается врачиха уже ко мне. — Проводи даму к выходу, если тебе делать нечего…
— Он на море поехал, — сказал я Кирилловой тёте. — Ну, мечта у него такая. Вы сбережения свои проверьте…
Она возмутилась:
— Что, если наркоман бывший, значит, сразу вор?! Вот зачем клеймить? Я Кирюшу с рождения знаю. Он неплохой мальчик. Наркомания — это не порок, это болезнь.
— Конечно, болезнь, — киваю я. — А здоровый он вам и не нужен.
— Почему ты так решил?
— Ну, здоровому человеку, благополучному, нафига бы вы сдались со своими кошками?.. А так, он нуждается в вас. А вы — в нём.
— Да пошёл ты!..
И я пошёл.
Позвонил Санпалыч:
— Старина, тебе на приём пора… Помнишь?
— Честно говоря, забыл. Когда надо быть?..
— Да хоть завтра. Часов в девять сможешь? Подходи в одиннадцатый к Кузьминой.
— Зачем к Кузьминой? Почему не к вам?..
— А я с сегодняшнего дня, старина, в СПИД-центре не работаю. Вот такая штука…
— Вы с ума сошли?! — ору я. — С ума вы, что ли, сошли?!
— Вот так. А ты ещё спрашиваешь, почему не стоит учиться на врача? А потому что!.. Знаешь, когда мне работалось лучше всего? В самое голодное время. В конце восьмидесятых — начале девяностых. Только что откуда-то взялся этот вирус. Приходили люди, это было страшно, они были полутрупами, мы не могли их спасти, не знали, что делать с этими их убитыми хелперами… Мы не знали, но мы были полны решимости. Теперь мы многое знаем, мы многого добились. Но никакой решимости больше нет. Вот уж воистину, змея кусает собственный хвост…
— И что вы теперь будете делать?.. Без этой змеи?
— Понятия не имею. А что обычно делают пенсионеры? Рассаду на балконе выращивают?..
— Я к вам как-нибудь зайду, ладно?
— Конечно. Буду рад.
— Только давайте без креветок…
В ответ он смеётся.
А мне выть хочется. Он — моя очередная потеря.
Опять очередь в СПИД-центре. Я пришёл сдавать на вирусную нагрузку к девяти утра, но к полудню так и не зашел в кабинет. Нас слишком много. Рядом со мной садится парень лет двадцати пяти.
— Слушай, — говорит он мне шёпотом. — Ты терапию пьешь?
— Это мне как зубы почистить, — отвечаю. — Уже больше десяти лет принимаю. Без таблеток бы давно червей кормил.
— А я… А у меня… Двести клеток. И мне не положено. Прописки нет. Мне не найти никого, кто бы прописал к себе. Врач говорит, мол, домой езжай срочно, там таблетки выдадут, иначе летальный исход. Но я лучше сдохну от СПИДа, чем туда поеду. Это городок в десять тысяч населения, три тыщи километров отсюда, как я буду туда ездить раз в месяц за таблетками?.. Жить там нереально. Работы нет, да и кто меня там ждёт… С родителями давно не общаюсь… Я — гей, — перешел на почти беззвучный шёпот.
Знакомая история. Которая обычно заканчивается тубдиспансером или инфекционкой, а потом — хосписом.
— Понимаешь, — продолжал парень, — я здесь работаю, всё официально, налоги плачу. А лекарства не дают. А у меня скоро грибы, чувствую, во рту расти начнут… Хромаю я, видел? Слабость кошмарная…
— Плохо дело… А я чем могу помочь?
— Ну, может, знаешь, кому взятку дать, чтоб тут на учёт поставили? Я уже у всех спрашиваю, кто в теме по ВИЧ… Может, кто из знакомых так вставал на учёт? Я за свой счёт не смогу покупать лекарства — очень дорого выйдет. А один раз могу заплатить… Вот только кому?
Чешу затылок:
— Я пока в этой стране не дал ни одной взятки. Видимо, потому, что я на хрен никому не сдался.
— Ясно, — вздохнул парень. — Ну ладно, вот на те деньги, что у меня сейчас есть, допустим, на месяц-два я куплю лекарств, а дальше?.. А если они мне не подойдут и придётся менять? Чую, смерть все-таки близка…
— Вот что, — говорю я ему. — После приёма я тебя тут подожду и пойдём.
— Извини, ты, конечно, симпатичный, но я сегодня что-то не в настроении… Но номер оставь.
— Да ну тебя! — смеюсь я. — Не на свидание я тебя зову. В паспортный стол пойдём. У меня своя квартира. Я тебя пропишу к себе.
У него на глазах появились слёзы. Судорожно он начал пихать в мои карманы купюры. Еле я от него отбился.
Очередь наблюдала за этой сценой со смесью жалости и умиления.
— Ты — единственный человек за всю мою жизнь, кто бескорыстно мне помог, — сказал мне мой «квартирант» на обратном пути из паспортного стола. — Я и не поверил сначала, что такое возможно. Почему ты не взял деньги? Любой бы взял…
— Знаешь, раньше у нас в СПИД-центре был очень хороший стоматолог. Давно, ещё в моём детстве. Он уже давно на пенсии. Так вот, каждый повторный приём он начинал с таких слов: «Тебе полегче стало?». И даже если мне было не особо легче, я всё равно кивал головой. Потому что видел его отношение… Если всё-таки я стану врачом, тоже буду спрашивать, стало ли людям легче, и они будут кивать… Почему денег не взял?.. Ну, вот поэтому. Потому что такой был у меня стоматолог…
Слышу тихий голос «квартиранта»:
— Мне стало легче. Я не умру.
Странно, конечно. Я не врач и вряд ли им стану, но я спас этому человеку жизнь. Не приложив практически никаких усилий.
— Хороший ты человек, — сказал «квартирант», старательно пожимая мне на прощание руку.
— Разве это я хороший?.. — ржу я. — Брось. И не такое случается там, где жизнь зависит от прописки.
Через неделю я увидел в больнице тётку Кирилла. В чёрном платке и заплаканную. Всё стало ясно.
— Я пришла за его вещами… На память…
— От чего он умер? Передоз?
— Да, — сказала она. — Нашли в каком-то притоне под Волгоградом.
— Значит, всё-таки на море ехал…
— Почему умирают молодыми? Лучше бы я…
Рыдает.
— Вы не плачьте, — говорю. — Никого у вас, что ли, не осталось?
— Его мать, моя сестра… Но мы не общаемся. Она обижалась на меня. Говорила, что надо было все контакты с Кириллом обрубить. А то я, мол, давала ему деньги на наркоту… В смерти его меня обвиняет, я знаю. На похороны ни она, ни отец Кирилла не пришли…
— Знаете что, — предлагаю. — Вы лучше уверьте себя, что животные гораздо лучше людей. Сколько у вас кошек?
— Девять…
— Ну вот. Эти девять кошек вам никогда не причинят боль. У меня тоже есть кот. Я его очень люблю. Не думаю, что это взаимно. Хотя… любовь к кошкам — она ведь всегда безусловная…
— У человека горе, — сказал стоящий рядом Джавад. — Что ты говоришь всякую ерунду?..
Джавад был расстроен. Наверное, ему правда хотелось показать Кириллу Каспий…
У самого Джавада зрели перемены. Наконец, спустя почти два года заточения в тубдиспансере он его покидал. Его выписывали с погашенными очагами туберкулеза, набравшего вес, полного сил. Вирусная нагрузка почти не определялась. Жених.
— Приходи ко мне на свадьбу. В субботу. В «Лейлу».
— А как же челюсть? — издеваюсь я. — Ты всё-таки подумай…
— Приходи, Лео. Ну правда. Приходи — покушаешь, отдохнёшь. Посмотришь, какие у нас свадьбы. У нас очень красивые свадьбы. Придёшь?
— Приду.
— Жаль, Егор не хочет, — сказал Джавад. — Егор, может, всё-таки придёшь?
— Пир во время чумы? — улыбнулся недобро Егор. — Нет, это не для меня.
— Да какой чумы?! — обиделся Джавад. — Что, если у нас ВИЧ, мы не имеем права жениться, рожать детей и всё такое?
— Действительно, Егор, хватит ныть, — сказал я.
— Ладно, ладно, веселитесь, — буркнул Егор и склонился над ноутбуком. Он всё же решил, что надо оставить после себя диссертацию.
Так. Значит, Джавад, дай Аллах, не заразит жену, и дети будут отрицательными, Егор напишет диссертацию… А я? Чем подведу итог своего существования? Хочется выяснить это прямо сейчас, но я не знаю.
Мысленно я почти каждую ночь пытаюсь ответить той девушке из хосписа, чего я хочу. Не получается.
Зато знаю, чего не хочу: прожить свою жизнь, будто я — это не я. Я — такой, как и все. Любой медик знает, что все люди одинаковые. Сердце, мозг, легкие, печень, кости… Всё остальное — частности: форма черепа, количество пальцев, состав крови…
Я хочу того же, что и все: учиться, работать, любить. Я согласен — несите сюда и проблемы, и горести, и разочарования… С одним лишь условием — что мне будет, кого обнять.
Не так уж много примечательного произошло со мной за восемнадцать лет жизни. Например, я никогда не бывал на свадьбах. Тем более восточных. Не скажу, что безумно хотелось идти смотреть, как веселятся люди, но ради того, чтобы было и такое воспоминание, я пошел.
Пришлось купить рубашку и нормальные ботинки. И ещё я купил цветы. Красные. Я почему-то решил, что азербайджанцы любят красный цвет.
Не такая уж страшная была у неё челюсть. Ну, у Айше, жены Джавада. От нее так и веяло отменным здоровьем, готовностью рожать и рожать. Жаль будет, если он всё же её заразит…
На этих свадьбах никто, оказывается, не кричит «Горько!». Никаких, конечно, нет конкурсов. Едят, пьют, танцуют. Я активничал по первым двум пунктам. В разгар вечера ко мне подсела девушка.
— Кто ты по нации?
— Чего? — не понял я.
— Ну, кто ты? Русский?
— Не знаю, — жму плечами.
— Как можно не знать свою национальность? — удивляется девушка.
— Ну, как я могу утверждать, что я русский, если у нас тут татаро-монголы здорово потоптались? А у бабушки в роду поляки были…
— Ты на татарина похож немного, — кивнула девушка.
— Честное слово, мне совершенно всё равно, русский я, поляк или татарин… Какая разница? Как тебя зовут?
— Сабина.
— Тебя вон тот мужик глазами пожирает… Смотри…
— Это мой отец, — нахмурилась она. — Ругаться будет.
— С чего?
— Сама к парню подсела… Да еще к русскому… Ну или кто ты там…
— Ты ещё мало обо мне знаешь, — усмехнулся я. — Знала бы чуть больше — сама бы не подошла.
— Почему ты так уверен? — отвечает она, боковым зрением следя за мимикой отца. — А вот и подошла бы… Нравится тебе тут? Классные у нас свадьбы, правда?
Открываю рот, чтобы ответить, но отец уводит Сабину, награждая меня недобрым взглядом.
Праздник продолжался. Мне стало скучно.
Я взял со стола бутылку вина и вышел на улицу. Взглянул на телефон — несколько пропущенных от Арины. Перезваниваю — она не берёт. Начинаю волноваться. Только ближе к ночи удалось услышать её голос. Она плакала.
— Ты чего?.. Что случилось?
— Забери меня отсюда!.. Я хочу умереть!.. Я больше не могу!
— Объясни нормально. Я ничего не понимаю… Кто тебя обидел?
— Я… я сказала Насте, ну, сестре двоюродной… Она увидела у меня в телефоне наши с тобой фотки и давай спрашивать. И никак не могла понять, почему же мама против того, чтобы мы были вместе. Ну, я и рассказала про ВИЧ. Понимаешь, тяжело всё держать в себе. Она пообещала, что никому не скажет. Ведь её-то мама ничего не знает. Ей сказали другую причину, почему я здесь. Но эта тупица проболталась. Чего я только в свой адрес от тётки ни услышала!.. Что я приехала их всех заражать, чтоб я сейчас же убиралась домой! Она купила мне в аптеке экспресс-тест, результат отрицательный, конечно… Но всё равно. Начался какой-то ад. Это еще неделю назад было. Я не говорила тебе, чтоб ты не переживал. Думала, они успокоятся. И вроде я даже убедила их, что я не больна, да и ты не заразен. Но сегодня… Был, короче, последний звонок. И одиннадцатиклассники и нас пригласили тоже. У них в кафе была пьянка. В общем, там, в туалете, в женском, б**, туалете, ко мне подкатил Семёнов. Это местный крутой парень. Он и раньше пытался со мной замутить, но я никак не реагировала — у меня есть ты, а даже если б и не было, нафига он мне?.. У него зуб выбит… Он начал прижимать меня к стенке: «Мне не дала, а с каким-то вичёвым спишь! Подстилка спидушная!» Оказывается, вся школа уже знает про меня и тебя… Я обматерила его, конечно… Попыталась выйти, он меня не отпускал, да и снаружи держали дверь… Я кричала, он зажимал мне рот. Это было ужасно. Потом говорит, мол, трахаться с тобой не буду, мало ли, заразишь, но…
Она осеклась.
— Что «но»?.. Ну, говори!..
— «Отсоси»… Он сказал — «отсоси»… Но я двинула ему по животу… Он согнулся. Я заорала что было сил: «Помогите!», видимо, привлекла внимание кого-то из взрослых, и от двери эти придурки отошли, я убежала. Всё. Теперь не знаю… Они же убьют меня… Я позвонила маме, я, конечно, всё ей не стала описывать, просто сказала, чтобы она меня забрала, но она говорит, мол, прекрати истерику, и всё… У меня были деньги, я хотела сама уехать… Залезаю в кошелек — а там пусто… Тётка забрала их. Мама ей рассказала всё подробно про нас с тобой, и тётка, как и она, теперь уверена, что меня надо от тебя спасать. Лео, пожалуйста, увези меня!.. Ну, пожалуйста… Я уйду от мамы совсем. Пусть что хотят, то и делают. Я не могу с ними со всеми…
— Не плачь, малышка. Скоро я буду с тобой.
Из ресторана то и дело вываливались покурить добродушные азеры, норовившие похлопать меня по плечу и поболтать. Я ушёл на задний двор. Сел на поребрик, откупорил вино и разрыдался.
Я перемешивал с вином слезы злости, отчаяния, вины. Моей неизбывной вины перед человеком, которого я люблю.
— До Пролетарского за сколько довезёте?
— За две пятьсот, — ответил таксист. — Я ж сам там живу. Тебе повезло. Возьму не три с лишним, как обычно, раз нам по пути.
Это было дорого. Если я заплачу сейчас две пятьсот — совершенно не понятно, как мы с Ариной поедем обратно. Но сейчас это было неважно. Я сел рядом с таксистом. Вспомнил, что забыл выпить таблетки. Горсть размером с пол-ладони. Запиваю вином.
— Наркоман, что ли? — с подозрением спрашивает таксист.
— Нет. Закрытая форма туберкулёза и ещё кое-что… Да вы не бойтесь, я не заразный.
Было видно, что таксист из разговорчивых. Но он ни о чём не спрашивал меня все три часа. Наверно, всё же побаивался, что где-то да осядет моя слюна…
Мы подъезжаем к Пролетарскому. Сразу после указателя с названием посёлка нас встречает подсвеченный билборд: «Пролетарское идёт к светлому будущему! Иван Корепанов гарантирует». Наверно, это глава района или местный депутат. Корепанов, гарантируй нам светлое будущее. Пожалуйста.
— Семёнов где живёт? — спрашиваю у таксиста.
— Какой Семёнов? Село большое, думаешь, я всех тут знаю…
— Ну, он крутой такой… Самый крутой в школе… У него ещё зуба нет…
— А, Владька-то? Бухгалтерши из сельсовета сын… Да тут, в левой трёхэтажке. Квартира первая вроде. Высадить тебя?
Я кивнул, заплатил.
Подходя к его дому, я мысленно пожалел, что не стащил со свадьбы нож.
Я постоял у его дома. Но решил пока не заходить. Сначала надо увидеть Арину. А то потом мало ли что.
Я набираю её номер:
— Маленькая, я тут стою у памятника Ленину и трёх ёлок. Как мне тебя найти?
— Ты… ты приехал!.. Через пять минут буду. Никуда не уходи.
Но прошло полчаса, а её всё не было. Видимо, дома засекли попытку бегства и заперли. На звонки она не отвечала. Господи, как же мне её забрать?.. Я даже адреса не знаю…
Конечно, это должно было случиться. Я этого ждал. Услышал за спиной:
— Дай закурить!
Раньше не видел его, а узнал.
— Я убью тебя, Семёнов…
Я загнан на полуразобранную крышу недостроенного дома. До меня доносится бранный гул. А потом:
— Что будем с ним делать?! Придурок какой-то!.. Нас пятеро… Он один…
Я двигаюсь им навстречу. Я вижу их лица. Лица?.. Будто из этого недостроя вытащили кирпичи и тесаком повырезали ничего не выражающие глаза, кривые носы, покатые лбы.
Я ощущаю свои кулаки в их телах. Противники тут же сбивают меня с ног. Но я встаю и бегу. Колет в боку. Останавливаюсь у края. Нога низко соскальзывает со спасительной, предваряющей пропасть железной балки, но я смог удержаться. Стою.
Зажмуриваюсь. Звуки неизбежно подступающего утра сразу становятся явственными: весенние птицы начинают свои сумасшедшие трели, дворник скребет асфальт где-то вдалеке…
Открываю глаза — хочу увидеть впереди финал, конец, точку… Но точки нет.
Номинация Поэзия Первое место
Владимир Косогов Сборник стихотворений
Январь в новом афоне
Выходит человек и видит черный снег, И лучше срифмовать уже нет силы. Печаль светла, но длится целый век, От моря тянет, словно из могилы. Налево повернешь — сверкнет абхазский нож. Зрачки красней мороженой рябины. По снегу как ошпаренный идешь. И снятся, кто мертвы, но так любимы. И горы впереди на каменных клешнях, Могучие, как профиль богатырский, Спускаются с небес и гаснут на углях У кельи монастырской.На горьком языке
I
Планы на первую пенсию: Собраться без танцев, но с песнею И двинуть на пасмурный юг В самолете Москва — Каюк. В иллюминаторе — облако. Вышло всё, видишь, вона как! Скрутило напополам, Но буковки — не отдам. Это мои клинки, мои станки, Мои здоровые позвонки, Они еще не хрустят, огнем не горят в ответ. Буковкам сносу нет…II
И звезда не говорит со мною, Как с другой звездой. Кран пищит с холодною водою, Неживой водой. Пленники храпят на всю палату, Сестры тоже спят. Но ко мне относятся как к брату: Нищий духом — свят. Всё начну с начала, но сначала — Выиграть смертный бой, Чтобы не испачкать покрывало Кляксой кровяной. Чтоб летели молнии, гремело Небо и земля. Чтобы обездвиженное тело Верило в себя. Чтобы встали пленники с кровати, Слыша этот гром, Летней духоты, как Благодати, Выпить перед сном.III
Выходишь в коридор Побыть опять никем, Уставишься в упор В дурацкий манекен: Не крутит головой, Пластмассовой ногой Не дергает. На кой Остался он такой? Покурим на двоих? Но манекен пропал В палате для кривых Людей или зеркал…IV
Ушли и свет не погасили. Одна на всем материке Мерцает лампочка Мессии На оголенном проводке. К чему метафоры такие, Где смысла не поймаешь в сеть? Раз не возьмет анестезия, На проводочке мне висеть… Не для того, чтоб боль в суставах Прошла и выпрямило грудь. А просто есть такое право — Уйти и лампочку свернуть.V
Раба Божия новопреставленного Николая встречают братья Петр, Сергей, Иван. Загробную жизнь именно так представляю — мягкий диван, сидят вчетвером, о прошлом талдычат сказки, сад-огород, прочая ерунда. Был Николай в завязке, не помогла даже живая вода. Душу, к Тебе отошедшую с истинной верой, по совести упокой. Порохом станет память, а время — серой: задачка по химии, писанная Лукой.VI
Шершавой проведешь ладонью мне по лицу, когда опять из светотени заоконной войдешь и сядешь на кровать. Бульон из двухлитровой банки поможешь в кружку перелить, застынешь взглядом на каталке, мол, что поделать — надо жить. «Что принести тебе на утро? Поговори со мной, сынок!» Я головой мотаю, будто ни слова разобрать не смог. Ведь это же не ты со мною заговорил на языке предсмертной радости с любовью? На самом горьком языке. Побудь со мной еще, покуда хватает сил не звать врача. Я скоро выпишусь отсюда, хребет надломленный влача.* * *
Нас токарить учили в УПК… Станки, глотая медные «окурки», Выплевывали из-под резака «Патроны» и свистульки, Клинцы на грабли, прочий ширпотреб, Загубленный неточною настройкой, На дно картонной тары, точно в склеп, Отправлены учительскою двойкой. Хрусти, подшипник, дергайся, рычаг. Сорвись, резьба, на десять лет к началу, Где я еще над книгой не зачах Очередной бракованной деталью. Вот потому я токарем не стал, В слепом цеху, позолоченном стружкой, Словесный неподатливый металл Кромсая авторучкой…Колодец
Колодец деревенский, перекошенный Застрял от дома в десяти шагах. И смотрит в воду ягодою сброшенной Кустарник на дубовых костылях. И мой отец без посторонней помощи Тягучий ил со дна таскал киркой, Чтоб ковш небесный, безнадежно тонущий, К утру достал я детскою рукой.* * *
вот свет и тьма а между ними на деревянных костылях застыв в нелепой пантомиме младенца держит на руках седая женщина и нечем поправить траурный платок и призраком широкоплечим на помощь к ней приходит Бог то свет лучистый слепит маму то тьма сгущается над ней и держит эту панораму первоапостольный Матфей* * *
Советских фильмов — сплошь покойники — актеры. И глядят в экран их постаревшие поклонники — эпохи целой задний план. А ведь нелепо получается: роль каждому своя дана. И грим смывается, снимается картина вечная одна. Квартира лицами заполнится, что за столом едят и пьют. Они такими мне запомнятся, как только титры промелькнут.* * *
Подкидываю дрова в жар их переплавляя раскидываю слова лишние убирая но из трубы в ответ хилый дымок струится это чернильный след чтобы не заблудиться.* * *
Оглянись: твоя ли это старость Дребезжит посудою пустой? Много ли стихов еще осталось Записать в небесный обходной? Узнаёшь звериный этот почерк: «В» с горбинкой, сплюснутую «К»? Успокою близких между строчек — Это просто дернулась рука…* * *
Вот мой дед пережил сыновей, И поэтому жизнь его съела До распухших артритных костей, Но до сердца дойти не сумела. Разве смерти спокойной просил В 43-м, и позже, когда он У сыновних горячих могил Предынсультно трусился, как даун? Будешь плыть через мутный ручей На Никольщину в дом деревянный, Поздоровкайся с жизнью ничьей, Поклонись головой окаянной И отцу моему, и дядьям, И спасительной ангельской твари Лишь за то, что идти по пятам Глупым внукам они не давали.М. К
Пойдем со мной до поворота, Где недостроенный дворец Стоит как памятник комфорта И жизни смертной образец. Вот так закончится внезапно Отца-строителя дисконт. Оставишь вещи — и обратно Въезжаешь в черновой ремонт.* * *
К зиме на шаг несмелый подойти. Глоток спиртного бесится в груди: Трахею ломит, точно месит тесто. И жизнь не зарифмуется, поди, Переходя на ямб с пустого места, Где мерзлая бутылка коньяка В почтовом — вместо писем долгожданных. Так жадно пью, как пьет у родника Жилец многоэтажного мирка, Спасаясь от снежинок восьмигранных. И памяти хватает падежей Обрисовать пейзаж с предзимним адом: У новостройки, встретившись с закатом, Летят окурки с верхних этажей. Что загадать под этим звездопадом?* * *
В пять утра запрягали коня. И будила меня, семиклашку, Молодого отца беготня С полосатой душой нараспашку. Молотком отбивали цевьё, И точили, и прятали в сено На телеге. И детство моё Исчезало в тумане мгновенно. Приезжали в затерянный мир, Где царила трава луговая, Где небес неграненый сапфир Рассыпался от мая до края. Начиналась учеба моя: Приглядеть за работой мужскою Мозаичным зрачком муравья, Роговицей его колдовскою. Кто сильнее, чем эти мужи, Полубоги с загаром до пяток? Шелестят их косые ножи, У меня вызывая припадок. Я смотрю уже тысячу лет, Как у них за спиною ложится Золотой деревенский рассвет — Огнекрылая редкая птица.Вратарь
— Эй, сосед? а сосед на веревке,
на веревке висит бельевой…
Олег Чухонцев Изумрудная россыпь «зеленки» На локтях, исцарапанных вдрызг. Это я, отдохнувший в «Орленке» И уставший от солнечных брызг! Проскрипят дворовые качели На невнятном наречье стальном, Разбираться в котором умели, Только вдруг разучились потом. Пусть закружат. Ногами цепляю Облаков белозубую пасть. С каждым вдохом глаза закрываю: Так с дощечки не страшно упасть, Поперхнуться на стертом газоне, Рот раззявив, как желтый пескарь. Силуэт на соседском балконе Ловит солнце в ладонь, как вратарь: От волненья вспотела рубаха, Даже солнцу в руках горячо. Вдруг ударят качели с размаха, Синяком разукрасив плечо. Я не знал: до какого предела Боль — сильна, смехотворен — испуг. …А вратарь через месяц приделал Бельевую веревку на крюк.* * *
Никуда она не убежит
А. Б. За окном нет ни вишни, ни яблони, И отцвел золотой абрикос. Вот и лето закончилось зяблое Под трещотку усталых стрекоз. Что осталось в стакане надтреснутом? Листья мяты, истертые в прах. Горький вкус перезрелого детства там На соленых остался губах. Вышло так, что, ребенок обласканный, Вырос я в неуклюжий мешок, Переполненный книжными сказками, Где всегда побеждал лежебок. Так и жил на печи, и надеялся, Что однажды спасет от беды Худосочная бабка-волшебница С полторашкой живою воды. Небылицы никак не сбываются, До финала остался глоток. Молодой абрикос осыпается: Точно капельки в землю врезаются, На вишневый похожие сок.* * *
Толчея у ларька с шаурмой. Я задернул цветастую шторку, Но запомнил узор ножевой, Разорвавший блатную наколку На упругом мужицком плече, Где решетки висят над иконой И колпак на шальном палаче У предплечья в крови запечённой. Я такую же видел, сопляк, У братьёв, почитающих смелость. Мне хотелось примерить партак, Умирать за него — не хотелось. Детский страх… Это он уберег, Натаскал, чтоб на съемной квартире Равнодушно смотрел на мирок, Где мешком человека накрыли.Вакансия поэта
Д. У.
На последний урок прозвенел звонок, Только мы пускаемся наутек, Расписание презирая, — Золотые умы, хроникеры муз. Записались в питерский горный вуз И пропали до Первомая. Перегаром дыша, подпоет душа: «Наша жизнь бездумна, но хороша, Нам поглубже копай траншеи!» Если вправду, Отче, блаженны мы — Дураки, писаки, говоруны, — Позже всех поломай нам шеи. Чтоб узнал я вдруг: хуже смертных мук — Ежедневно рабочий таскать сюртук, Заходить вместо дикого зверя, Но не в клетку — в комнату, где нежна Не любовница больше и не жена, Но глупышка и пустомеля, — Подогрела обед, от помады след Не заметила — просто отвлек сосед, И, сверкнув золотой удавкой, Лишний раз напомнила — выход был. Но Господь меня уберег, простил, Так что — радуйся и не тявкай…* * *
В дверь ломились, в окно стучали, Предлагали прочесть журнал, Словно мученики, в печали Выходили они в «астрал». Мне не нравятся их проекты: Нет ни веры там, ни огня. Я приверженец старой секты — Акмеисты седьмого дня.Номинация Проза Второе место
Евгения Некрасова Несчастливая Москва Цикл прозы
Начало Городская сказка
Гора
Галя — гора ходячая. На улице над людьми возвышалась, за людьми — расширялась. На улице вывески загораживала, двух мужиков перекрывала. Двух с половиной, если юноши. Красивая, некрасивая — кто поймет. Не разглядишь. Ясно: большая. Гора из пейзажа, фон для главных.
У Гали подружка переднего плана — Света, для которой Галя — удобный задний. Женихов притянуть — самой засиять на фоне горы, женихов отогнать — себя выключить, с горой слиться или вовсе за нее спрятаться. Женихи гор боятся. Хорошо дружить с горой.
Мама Гали пила. Пила иногда и пилила дочь про замуж и прочее обязательное, на что горы совсем не способны. Галя-гора не жила с мамой, а ходила в комнату на Нагорной на ночь и в выходные. Вне комнаты Галя расставляла товары в гипермаркете, упиравшемся в горизонт. С ее ростом-то и без лестницы ладно. Зачем горе лестница? Света Гале не льстила, ругала ее за низкую работу, потому что сама без карьерной лестницы не могла.
Галя любила гипермаркет за постоянную жизнь, его широты и высоты. У метро надела на себя мороженую маршрутку, потряслись по кочкам, по пробкам. Милай, не погуби, — это Вика из не-Москвы молит орла-водителя. Вика, Артем и Константин Андреич ютятся в треугольничке, оставшемся вне горы. Мастеровые по полкам. Галя — уши красные — сняла шапку, голова держит ржавый потолок. Атланты в уборах не вмещаются.
По полкам по полкам, По закоулкам Растащили мы наши радости. По полу по полу, По половицам Размазали мы наши надежды, Проворонили наши желания, Забыли, кем должны были проснуться.Зеркало
В комнате Галя обычно спала, ела спасенное с кухни, переодевалась и смотрела на себя в зеркало, снова ела. Был ноутбук, да украли полгода назад. Загадкой влезли через окно пятого. Все соседи в пострадавших, в молодой семье напротив Галиной комнаты вскоре завелись деньги, а через пару месяцев — дети, сразу двойня. Жильцы думали-думали и надумали молчанье, друг с другом тоже теперь ни слова. Гале-горе слишком хлопотно, она и так раньше с соседями не говорила. Радовалась, что зеркало не тронули. О пяти стеклах, о пяти разных зеркалах сколочено вместе — чтобы всей поместиться. В первом — ноги и дальше по пояс, во втором — живот и грудь, в третьем и четвертом, боковых, — руки-плечи, в пятом — всей горе голова. Красивая, некрасивая. Кто разберет, кто оглядит. Горе бы художника с налаженной перспективой — рассказал бы другим.
Если меня выжать, То ничего не останется на полу, Даже мокрого места. Если меня разорвать, То ничего не останется в руках, Даже мятой одежды. Потому что я — пустота в форме человека, в форме горы, По крайней мере, так рассказывает зеркало.Веселье
Галя-гора взята Светкой на вечеринку в Марьино в качестве фона. Марьино — но и Марья — край сегодня больших надежд. Светкин путь — выйти замуж до двадцати-девяти-господи-не-подведи. На Бога надейся, а Галя не плошает. Галя работала четко: вокруг Светки — контур и три потенциальных мужа. Уж почувствовала момент — женихи стали побаиваться горы, — тогда попятилась, попятилась в угол, к еде. Пять раз врезалась в гостей: языками сцепленных барышень, танцующих-целующихся, танцующих-ссорящихся, о кино спорящих и новый телефон рассматривающих. Пять раз сказала «извините», на пятый телефон извернулся в руках у владельца гаджета и слетел на пол. Пальцы тряслись, гладили шрам-трещину экрана. Рана на телефоне, рана на душе, до секунды назад был нов. Выл бы, если бы не все. Галя-гора доедала третью курицу вилкой. Светка определилась на развилке, обняла кандидата в танце; недостаточные женихи пришли жалеть треснутый экран. Его хозяин предложил основать трест против Гали-горы. Женихи огляделись — заняться нечем, объединились. Галя-гора объела куриную ногу, запила кислятиной и ушла в туалет. Наткнулась на кису, чуть не раздавила. Светка веревочкой вилась вокруг избранника, куда ей.
Галю-гору схватили у двери, волоком на кухню, волчьей стаей обступили. Сейчас стол сломает! Поржали, раздели ниже пояса. Какие у гор расщелины-великаны! Галя-гора молчаливая, боится, не боится — неясно. Завалили герои гору, руки связали. Герои гор не боятся. Мы все теперь повязаны победой над горой. Оравой постояли, поржали, посмотрели. Какие у гор расщелины-великаны! Разбиться-провалиться! Никто не рискнет. Залились смехом и разошлись.
Потом сложились в машину: Светка с женихом, неженихи, хозяин треснутого экрана, одни-бывшие-танцующие на коленях друг у друга и Галя-гора рядом с подругой молчаливой привычкой. Едут-едут, волчья стая перемигивается, Светка шутит-вертится ящерицей, Галя молчит между ней и дверцей. Едут-едут, Марьино лучше бы Марье оставалось. Москва, ты большая ледяная глыба.
Мама
Мама-мама, Муж — армагеддон, Благородный дон — один на район, И не твой, хоть ты вой, Хоть ставь кормушку-приманку. Дон разлился морем по колено, Пей сама, пей до дна И купи мороженце Младшей поколенце. Вырастет большой, Вырастет горой, Тебе лакомство вспомнит. Мама-мама, Муж — не амор, а мор, Неблагородный дон — знает весь район, Не свой — его бы под конвой, Хоть ставь заборчик-проволочку. Дом развалился мамой на кусочки, Пью сама, пью до дна И куплю ботиночки Любимому скотиночке. Вылетит другой За чужой женой, Ни тебя, ни Галеньку не вспомнит.Потоп
У Гали-горы зазвенело в бедре во время расстановки товара. Новости: мама за Бога сработала, сотворила потоп. Галя потопала к администратору зала — отпрашиваться правдой: управдом сказал, что мама вроде создателя — смыла живых людей. Администратор ступал важно, министром или Людовиком Четырнадцатым: товары, полки — золотые канделябры, парики, зеркала. Повелеваю и разрешаю, ибо гипермаркет — это я.
Мама-раздавленная-ягода улыбалась ну-да-вот-так-вот-дочкой. На гору кинулась русалка-соседка с плечами в мокрых волосах. Русалка-ругалка орала на Галю-гору, получая эхо. Оставила хозяйничать мать-алкоголичку, которая оставила кран! Мама не то что бог — она Иоанн Креститель, Вареньке двух месяцев от роду воду в колыбель пустила, а если бы кипяток?! Слыхали, село-пяток-домов-Давыдково, мама Гали-горы теперь Вареньке крестная мать?! Оставила хозяйничать мать-алкоголичку, которая оставила кран! Второе дитё, в церкви крещенное, — Луку семи лет — чуть было не треснуло током из мокрой розетки. Оставила хозяйничать мать-алкоголичку, которая оставила кран! Кого заставить отдавать за новорожденный ремонт: потолки летящие, пол-стелющийся-ногами-любимый, мебель-дерево на заказ?! Русалка ревет, плачет сиреной. Прокляну-наколдую. Галя-гора молчит, эхо копится, твердеет, кусками сыплется. Мать-раздавленная-ягода улыбается. У русалки когти, красные глаза, сейчас-сейчас вцепится, утащит сейчас к себе в пучину на пятый этаж, раздерет на куски — и поминай как звали. Галя-гора.
Полубог
Два шажочка не дотягивал до Бога. Первый: вымок в потопе, от него не спасся (целый Бог, неполовинчатый, спасся бы), рубашка мокрая под пальто, и джинсы мокрые до щиколоток. Второй: женатый. Откуда у Бога жена? Дети — куда ни шло, не жёны ж. Запыхался — Луку и Вареньку к бабушке на семейной машине. Часто дышит, кадык пляшет, венка на шее бьется. Жену Дашу успокоил одним движением. Русалку-ведьму смыло, осталась красавица. Всех рассадил в комнате, как садовник. Гали-горы маминой неуборкой не побрезговал. Говорил, спрашивал, чудо творил: мама сделалась трезвой и приятной, и гора сама обрела дар речи. Расцвели.
Полубог видит не все, но многое. Понял, какие соседи люди, ничего-не-взять люди. Им старший ничего и не дал, чтобы отнимать. Понял и простил. Бог прощает, и Полубог прощает. Из вежливости, из формальности, из любви к жене: про работу, краны, сантехника. И тех успокоил, и Дашу. Все отдышались, успокоились, как будто и горя не знали. Мама учуяла, что прощены. Даша догадалась — поблагодарила судьбу за мужа. Галя учудила-попробовала улыбку: горы говорят, горы улыбаются. Она сразу узнала Полубога, что тут неясного. Глаза ясно-византийские, с икон, язык грамотный, радостью светится, красоты небесной.
Разговор
мама: Ты чего?
галя: Ничего. Я начинаюсь.
Начало
Начинка из любви — главного концентрата жизни. Начало Гали. Нечаянное рождение, праздник Рождества. До Полубога Галя — гора, после Полубога — человек. Любяще-дышаще-понимающий. И что теперь делать человеку?
Могла бы организовать себе мающееся счастье. Переехать к маме. Терпеть перечень ее бутылок, воней (вон отсюда, если тебе пахнет!) и скандалов. В кандалах обязанностей, оскорблений и забот. Зато близко к Полубогу. Полуслучайная лестница, полувыглядывания в окна. Лечь на линолеум, различать шаги и речи. Гладить холодный линолеум. Ладить с растущими детьми и даже Дашей. Через десять лет научиться здороваться с Полубогом не бормотанием. Обменяться с матерью комнатами через сто тысяч ругательств и слушать, как стонут по ночам в спальне. На пальцах считать дни до окончаний отпусков и на память — Полубожьи седые волосы. И душу отдать одним днём с Полубогом. Счастье же? Наивысшее, наибольшее, наитяжелейшее счастье для Гали-горы.
Но где это видано, чтобы горы жили над богами, даже над полубогами; и даже после-горы — новорожденные люди? С такой любовью даже отдельно от Полубога дышать можно. Разве ж это отдельно, когда на одном свете, под одним солнцем?
Снова разговор
телефон: Дзын-дзын-дзынь! Дзын-дзынь-дзынь!
светка: Привет. Настроение херовое. Телефон расколола. Пойдем в кино? Меня пригласили.
галька: Нет.
светка: В смысле?
телефон: Пинь-пинь-пинь…
После
Гора распалась на гальку. Гальке омываться морем любви и скитаться на волнах по миру. Нет, вначале, после Начала Галька всё расставляла товары на полке, тряслась в маршрутке-холодильнике, перемигивалась с зеркалами, щупала свое тело. Когда весна заерзала на улице, сосед-бука, подмосковный ИП, вдруг спросил Гальку, отчего она четыре дня не ела — на кухню не ходила, сидела в комнате как прикованная. Уволили или еще что? Галька, глядя на лилию на календаре за спиной спрашивателя, ответила, что забыла есть и ходить на работу.
Одним мартовским четвергом, когда черти почесывали копытца и подслушивали пятничные планы через алюминиевые кру́жки (бывшая гора их не интересовала, у нее, по их разумению, была тухло-зевотная жизнь), Галька сделала круг по своей комнате, оделась, посмотрела в затылки и лбы соседей в коридоре-и-кухне — только ИПэшник скрипнул шеей в порыве повернуться — и вышла из квартиры. В арке двери Галька зацепилась завязкой за ручку — трешка-вредина не отпускала или куртка-трусиха не желала покидать квартиру из-за предчувствий, что уже не вернуться. Галька дернула край куртки раз — ничего, дернула два — шмотка скрипела-молнией-зубами-сражалась, дернула три — завязка порвалась в протертыше. Все, совсем народилась, перерезала пуповину.
Чудо-юдо
Гора распалась на гальку. Галька морем любви омывается и скитается на волнах по миру. Любви-не-морем-даже — океаном. Он повсюду: внутри-снаружи. Чудо-юдо рыба-любовь. И рыба, и вода — в одно время. Полощет сердце, матку, мозги и всякое другое. Полощет-ласкает, явит Полубога и всю всесветную любовь вместе взятую. Оттого тепло, смело и сытно.
Галька — галька скитающаяся. Не ест, не пьет ничего, кроме дождевых капель (попавших случайно в рот), не испражняется, не потеет, не грязнится почти: правда-ложь — так свидельствовали видевшие ее. Двое галькосвидетелей пытались привести-прикрепить ее в церковь, чтобы уберечь. Юродивые — они же при церкви часто. Юродивые — это кто? С Юрой родные? Полубога Юрием звали, если что. Галька, еще пуще теперь рыбой молчащая, неожиданно: зачем мне, когда такая любовь?
Полубог первые секунды просыпания мял пустыню во рту и давался диву, вспоминал снившуюся Гора-девицу, соседкину дочку, мажущую грязью на стенах надписи. Жалел, что нет рядом ручки, чтобы записать текст. Ревнивые ресницы сонной жены попадали в глаза Полубогу, и Гора-пишущая-девица проваливалась на дно памяти. Качал Вареньку, напевал колыбельную-самоделку, вылетали из Полубожьих уст настенные строки. Пел — сам удивлялся. Пел и держал Гальку в глазах, а потом заново падал в дочкины синие.
Настенные песни Гальки в исполнении полубога
1.
Женщина-гора Горит дотла Оравой смыслов, Пепел коромыслом.2.
Явь не трону Без урона, Отломлю кусочек сна, Что у краешка утра.3.
Поклоны бью, Тебя люблю; Целовал бы Лоно, локоны; Муки вокруг да около.4.
Бог — один, Разобралась. Полубог — один, Разобрали.5.
Доброе утро, доброе, Чувство внутриутробное, Чудо внесоборное, Лавина моя горная, Сыплешь и славишь, Я начинаюсь, Я просыпаюсь. Любовь.Другие еще не приснились, но уже Галька старается.
Счастливо
Мать очнулась, кинулась искать Гальку, много куда ходить, чтобы плакать, просить и ругаться. Галькосвидетели протоколили свои с Галькой полувстречи. Вроде она — вроде нет, вроде утро — вроде вечер, вроде пела — вроде молчала, вроде мазала стену — вроде танцевала с воздухом. Мать вылезла из запоя вброд, потом и вовсе выкарабкалась. Заходила в церковь и полюбила Полубожьих детей, особенно Луку, дарила ему кораблики из берестяной коры. Плакала, что чуется как родной внук, которого Галька не родила.
Светка в двадцать-восемь-лет-пять-месяцев-девятнадцать-дней вступила замуж в недостаточного жениха из волчьей стаи, что шутила над горой. Выносила двойню, выбросила лестницу. Лестницу взял Толя — новый работник зала, раб гипермаркета вместо Гальки. Нагорная комната сдалась помощнице ветеринара Венере, и ее Рома вынес многоликое зеркало на свалку.
Где Галька-галька, бывшая Галя-гора, — одному Богу известно. Дышит-бродит, и оттого нам то неплохо, то счастливо.
Несчастливая Москва Городской эпос
У меня два права на Москву: право Рождения и право Избрания.
Марина Цветаева. Из письма В. А. МеркурьевойЯ же в кольцах и с понтами и на левой три мозоли…
Земфира. РумбаВсеобщая жизнь неслась вокруг нее таким мелким мусором, что Москве казалось — люди ничем не соединены и недоумение стоит в пространстве между ними.
Андрей Платонов. Счастливая Москва1
А охраняется город четырьмя кругами: Бульварным кольцом, Садовым кольцом, Третьим транспортным и МКАД. Еще одно кольцо метро вторит почти Садовому, но, что важно, оберегает город под землей. Другое, новое кольцо железной дороги укрепляет на поверхности Третье транспортное или просто усиливает общую защиту. Есть еще один круг, самый сердечный, малый и древний, зубастый и из красного кирпича. Более всего обезопасен тот, кто находится внутри его, — но таких людей наперечет и там они не ночуют, то есть не живут. Поэтому среди горожан самые защищенные — это те, чьи дома втиснуты в Бульварное и Садовое. Кто внутри Третьего транспортного — тоже не сильно волнуется. Тот, кто за Третьим транспортным до МКАД, уже, бывает, вздыхает тяжелее, но все равно остается под защитой. А всем, кто дальше — за МКАД, — тем только пропадать.
Не всегда кольца спасают при угрозах, в городе случаются трагические события, но все же внутри колец люди чувствуют себя безопаснее, а главное — счастливей и правильнее. Нина приехала в Москву и сумела вселиться в хмурую набекрень-хрущевку, стоящую прямо у самого Третьего транспортного, но зато внутри еще этого кольца. То есть Нина оказалась оберегаема сразу двумя кольцами, не считая МЦК.
Город Нина любила и мозгом, и животом, и сердечной мышцей, как и все люди, прибывшие в нее из какого-нибудь пункта, название которого можно прочесть только при максимальном увеличении гугл-карты. Без Москвы Нина тревожилась. Гостя ́ у родственников, сидела в дурном настроении и начинала беспокойно глядеть в окно местной квартиры и телефон. Нина зажмуривала глаза и видела, как серебряной стружкой рассыпается Новый Арбат, как ласково отражаются боками друг в друге Чистые, как благословляют на пьянство Патрики, как тычут небо сталинские высотки, как манчестерит район Сыров, как каруселью катится мимо Садовое, как велики глаза от рек выпитого кофе у посетителей московских кафе, как втридорога переоцененная паста лениво заползает на дрожащую вилку, как поют горлышки винных бутылок, сложенных вместе в одну глубокую тележку в «Ашане», как кринолином из кустов или снега раскланивается с Яузой Лефортовский парк, как умничает Стрелка и другие подобные ей места, как всасывает в свой тоталитарный газон посетителей парк Горького. Нина любила Москву.
У Нины было все, что должно было быть у двадцатидевятилетнего бессемейного человека, снимающего однокомнатную квартиру в ста метрах от Третьего транспортного кольца. Смесь дальне-ближних друзей, лучшая подруга Люба — коренная москвичка, с детства перестрадавшая множество всего, мерцающий физически-близкий человек, воплощающийся в разных людях, и, конечно же, дело жизни.
Нина ходила каждый день не на какое-нибудь зарабатывание денег или делание карьеры, а на миссию. Та прилагалась к музею классика литературы XX века и одновременно авангардиста, которого Нина считала единственным писателем на свете. Ее взяли на работу в качестве прогрессивного кадра и платили почти рыночную зарплату, которой хватало на аренду однокомнатной квартиры без ремонта в ста метрах от Третьего транспортного кольца и еще на что-нибудь. Музейная миссия Нины разворачивалась в двух направлениях: 1) популяризация классика-авангардиста современными способами; 2) борьба с людьми прошлого, которые навязывали трухлявый образ классика-авангардиста или не трудились над навязыванием вообще, просиживая штаны, а чаще юбки, за минимальную зарплату от одного дачного сезона к другому.
Нине платили больше всех в музее, Нину любили меньше всех в музее. Она тащила свою миссию одна. Врага Нины, лидера людей прошлого, человека с круглой гулей на голове и директора музея классика-авангардиста звали Инной Анатольевной. Она способна была отменить вечернюю встречу с дизайнерским бюро (что после Нининых переговоров соглашалось всё сделать бесплатно) только из-за собственной необходимости забрать внука из детского сада. Нина презирала семейные интересы, они мешали миссии. Она считала, что людям с детьми нечего делать в тех местах, которые можно было спасти только миссией. Нина знала, что чем лучше она станет трудиться, тем быстрее отвалится сочный, разветвленный гнойник людей прошлого. А сейчас Инна Анатольевна поправляла высокую прическу и часто лишала Нину премии, но боялась ее уволить. Нина верила, что победит и город поможет ей в этом, потому что он — для людей будущего.
Подруга Нины, Люба, служила юристом в банке и первая перебивала, уверяя, что нет, у нее не сводит скулы от такого безвоздушного занятия. В детстве она пережила серьезную передрягу, когда отец выгнал их с матерью из квартиры, купленной на общепроданную от всех бабушек жилплощадь. Выгнал в самую середину 90-х потому, что влюбился заново и зачистил место под новую семью. Две женщины — маленькая и старше — пропахали по терке жизни. Мать, низенькая и тощая, сделалась героем труда и заработала на новое жилье в пределах последнего кольца. Повзрослев, Люба безопасно любила только женатых и квартирных людей. Нина завидовала детской Любиной трагедии. Нинины родители никогда бы не думали разойтись, даже на самой тлеющей стадии их брака. Они тянули его дальше и дальше, потому что так было принято. Новая любовь в Нинином пункте никогда не являлась причиной перемен.
2
Нина тискала Москву через свою-несобственную квартиру с небывалым ремонтом. Стены обнажались спадающими обоями, ванная текла ржавыми слезами, а плинтусы и наличники присутствовали половина на середину. Но Нине нравились и однушка, и район, и дом, и даже белый акульный бок Третьего транспортного, видимый из окна. Раздражал только сосед-алкоголик снизу, который жил один в своей собственной квартире и, как уверяли, пропивал вторую. Не древний еще, он организовывал пьяные вечера и одновременно Нинины бессонные ночи, а когда она поднималась по лестнице, он высовывал из помятой двери свое заплывшее, цвета гнилой картошки лицо, вытягивал в подъезд обнесенные белесым налетом губы и производил ими столь мерзкий звук, что Нину начинало тошнить. Другие соседи ее не беспокоили вовсе, не считая живущих за дверью напротив, где глава семьи бил всех себе подчиненных, но делал это тихо, и Нина редко о них всех вспоминала.
Так Нина, ее друзья, враги и равнодушные к ней люди существовали, охраняемые из года в год московскими кольцами. Вне колец — где-то далеко, — а иногда даже в них самих происходили разные неприятные события, доходило даже до смертей, но Нина и все ее остальные продолжали жить, как они хотели и умели.
То, что произошло дальше, трудно изложить или растолковать. Ясно только, что началось это во вторник, когда Нина проснулась от будильника — в терпимое для всех время — девять тридцать утра, пошла в туалет по привычке на ощупь, не включая света, и почувствовала что-то неладное и нечеткое, будто конечности ее загрязнились, руки покрылись вовсе ошметками грязи, живот раздуло, а унитаз стал выше. Запах висел тоже странный, и Нина подумала, что у соседей прорвало трубу. Что касается ее самой, то Нина действительно выпила вчера, возможно, лишнего в одном из этих уютных заведений со слабым освещением и мощными деревянными столами. Она решила, что разберется со всеми сложностями своего тела в ванной. Когда она оказалась там, то обнаружила, что раковина ей только по грудь. Нина начала злиться, отправилась на кухню за табуретом и не заметила своего отражения в коридорном зеркале, а зеркало между тем само по себе задрожало от того, что ему пришлось коротко показать. На кухне Нина услышала бродячие крики за стенками — сначала от соседей сверху, потом от соседей с обоих боков. «Почему они не на работе?» — задумалась она, снова отразившись в коридорном зеркале, протаскивая мимо табурет. Правым пределом правого глаза она уловила что-то неправдоподобное в отражении и остановилась. Поставила табурет и лениво посмотрела прямо на стекло. Вдруг Нина принялась тащить ртом воздух, странно вытянула ладони вверх, как это обычно делают в аэропорту в сканируемой капсуле, и заорала. Дом вокруг замолк и погрузился в печальную, понимающую тишину.
Нина лежала какое-то время на полу без памяти. Потом открыла глаз, следом второй и уперлась во взлохмаченную шнуровку замшевого ботинка; приподнялась на руках и увидела, что лежит на груде своей обуви. Она встала на ноги, держась за дверь и стенку, и заметила, что руки ее, серо-желтые, кривопальцые с висящими кожными подушками, без ногтей и с кустиками волос на выпирающих косточках. Нина дернулась без подготовки — она никогда не тянула со страшным — и поместилась прямо в раму зеркального отражения. Красота для Нины, человека с миссией, значила ноль, но все же ее каждодневная внешность гарантировала ей ровное взаимодействие с обществом. Сейчас же голова ее перекосилась и сильно поднималась вправо, а опускалась влево, на лице для дыхания вместо носа сидели две мертвецкие дырки. Из скул торчали пучки волос, из всего того, что находилось вместо лица, — гноящиеся бородавки и чирьи. Разноцветные — синие, зеленые, желтые, рыжие и седые — пряди росли на сине-зеленом черепе как попало, кожные складки щек свисали на грудь. Глаза наполовину выпирали из кости и представляли собой два мутно-синих шарика с еле различимыми икринками зрачков.
Движимая непонятно чем, Нина решила раздеваться. Она стала снимать с себя пижамную рубашку через голову. Долго не удавалось, будто что-то мешало сильно на уровне живота, Нина потянула что есть силы, и стало больно до слез, как во время колик. Когда она стащила с себя рубашку, что-то вдруг дернулось впереди, подлетело, зацепилось о рубашку и опало обратно. Колики кончились. Нина глянула себе на живот и на нижней его части увидела связанные вместе и болтающиеся сардельки серого цвета. Она вспомнила, что такой неаппетитный цвет для мяса естественный, а магазинно-розовый и алый свидетельствуют о ненатуральности продукта. Нина прямо сейчас захотела избавиться от сарделечной связки, схватила одну из самых толстых и резко потянула от себя. Страшная колика смяла ей живот.
Нина, не снимая руки с сардельки, подняла медленно голову и посмотрела в зеркало. После известной уже головы шла морщинистая и волосатая шея, потом две отчего-то очень круглых груди — правая из которых достигала нормального, даже великоватого размера, левая же была не больше мандарина. Из длинных и острых сосков тоже торчало по негустому пучку волос, под грудью находилась полоска почти нормальной кожи, не считая ее серо-желтого цвета, но сразу следом выпирала вперед здоровая связка тех самых сарделек, она свисала в пижамные штаны и топорщилась в них, как в авоське. Нину вырвало на обувь.
Она напялила на себя великанский банный халат, осторожно запахнула его и обвязалась поясом. На улице закричали. Нина надела на голову целлофановую кухонную скатерть с оранжевыми цветами, потом сняла ее с себя, трясущимися лапами проделала ножницами две дырки и снова нацепила. В скатерти-маске она тихонько подошла к окну в комнате. Что-то скрылось за колонной эстакады. Тишина московского воздуха слышалась страшно неправильной. Третье транспортное прочно молчало. Из дома напротив, край которого соотносился с серединным, то есть Нининым уровнем ее дома, из окна квартиры, где обычно жила одинокая пенсионерка, прямо в Нинины глаза пялилось широкое красноватое существо, вроде огромного барабана, обтянутого кожей. Нина, всматриваясь, лбом прислонилась к стеклу; служебно зашуршал целлофан.
Вдруг двор разорвало от драного, комканого крика. Из-за одной из дальних колонн Третьего транспортного вышло что-то горизонтальное. Оно хрустяще терлось боками о сырой темный асфальт и покрикивало. Двигалось прямо на Нинин подъезд. Ей сильно хотелось убраться от окна, но не сходилось с места, будто кто приковал ее к батарее за ноги. Горизонтальная тварь оказалась уже совсем во дворе, и стало понятно, что это что-то вроде толстой змеи коричневого цвета, только вместо обычной плоской головы у нее бестолково болталась человеческая. Она, а также нацепленные на спину и бока недоразвитые ступни и ладони количеством десять-двенадцать мешали хорошо ползти. От монстра, по мере того как он полз, отваливались и оставались на земле неживые слизни. Он ругался страшным матом, и Нина узнала шалтайскую, нетвердую интонацию соседа снизу. Вдруг чудовище остановилось и задрало, как подбросило, вверх голову. Оно пялилось прямо на Нину. Барабанное существо дернулось от окна напротив в глубь своей комнаты. Тварь выругалась и устремилась прямо в подъезд.
Сталкиваясь со стенами, Нина побежала в коридор, открыла внутреннюю дверь, затем внешнюю. Из подъезда вдарило холодной сыростью и разрывающими воздух звуками: грохотом распахнувшейся двери, грохотом захлопнувшейся двери и настойчивым, приближающимся елозаньем о ступени и стены. Все это сопровождалось сиплой звериной одышкой и колючими матюгами. Нина отряхнулась от захватившего ее ступора, задрала скатерть, закрыла внешнюю дверь на два замка, в том числе на ключ, и внутреннюю на три, в том числе на ключ тоже. Звук ползущего и ударяющегося о стены тела надвигался вперемешку с грязнословием. Нина положила свои бывшие ладони на тяжелый коридорный комод, уперлась ступнями (на ступни не похожими) в пол и принялась толкать мебель к двери. Лапы скользили, халат раскрылся, и кишки повисли над полом под прямым углом. Нина закрыла глаза, чтобы их не видеть, и что было сил толкнула комод сильно вперед. Тот свистнул, подпер дверь и выплюнул ящик, полный всякой мелкой ерунды, вроде батареек и засохших губок для обуви. Нина поправила выпавшее, затем свой халат и медленно присела прямо на зимние сапоги. Тварь уже заползала на третий и продолжала сильно материться. Нина натянула шуршащую скатерть себе на глаза и перевернула ее бездырочной стороной. Дальше сидела так, не двигаясь. Делалось жарко и душно под целлофановыми цветами. Вдруг зазвучала соседняя, через лестницу дверь.
— А ну-ка, Сережа, домой, иди домой к себе! — послышался голос высокой и бледной соседки. Никто не знал, как она выглядит сейчас. Это у нее было двое разнополых детей и поднимавший на них всех руку муж. Нина, человек с миссией и человек будущего, пыталась когда-то носить ей листовки специальной защищающей организации, но женщина не понимала, чего от нее хотят. Нина осознала тогда, что соседка — тоже из людей прошлого, и не общалась больше с ней.
— Кому сказала, к себе давай! У нас топор! — проорала соседка. Полз замолк вместе с матюгами. Чудище помедлило, потом хрустнула дверь прямо под Ниной и что-то тяжелое провалилось в иное, не общее со всем подъездом пространство. Нина сняла скатерть и подвигала несуществующими ноздрями. Дверь через лестничную клетку захлопнулась.
Нина оставалась так еще какое-то время, потом поднялась на ноги, прошаркала в комнату и нашла телефон. Высветился единственный пропущенный звонок из банка. Нина постаралась дозвониться Любе — та не брала трубку, а потом сбросила. Нина написала о необходимости поговорить. Люба ответила: «У меня две головы». Нина подумала и ответила: «А у меня кишки снаружи и нет носа». И Люба тогда дописала: «Ко мне едет мама». Нина подумала, что нет в мире человека сильнее, чем мама Любы, женщины, прошедшей через терку жизни. Нина написала на всякий случай: «Я ОК».
Она открыла «Фейсбук» и бутылку джина, которую берегла для какого-нибудь счастливого дня. Еще и не было времени обеда, а лента тянула уже отчаянное состояние: люди, в том числе известные, описывали подробно уродства свои и своих близких. Нина расплакалась и удивилась себе, что она не осознает себя попавшей в общее несчастье. Детей до 17 лет уродство не коснулось. Некоторые СМИ постили комментарий правительства, что все это — примененное не определенными пока врагами биологическое оружие.
Телефон зарычал, Нина ответила, даже не посмотрев на экран. Оказалась по-среднему встревоженная мама. По телевизору ей сказали, что в Москве эпидемия, но не разъяснили чего. Нина ее успокоила, что это слухи и она чувствует себя ОК. Мама пришла в спокойствие и отключилась от Нины. А лента орала, что все творилось только в Москве, и чем центральней оказывался район, тем сильнее выражалось уродство. Люди за кольцами подбадривали москвичей, командировочные и вахтовые отчаянно проклинали несвоевременность своего приезда. Другие за кольцами изъяснялись вроде «попили нашей крови, так вам и надо». Некоторые москвичи желали таким, например, смерти, и тогда некоторые немосквичи желали тем ее в ответ. Говорили, что город на карантине и что из него не выпускают переброшенные из региона неуродливые военные. Говорили, что все не выходят из дома. Писали о взрыве химического завода, о каре Божьей, снова про биологическое оружие, примененное внешними врагами. Кто-то осмеливался помещать свое фото, кто-то в ответ желал ему опять смерти, кто-то желал смерти желающему смерти. Бутылка утекла в Нину до середины. Из-за отсутствия тоника она разбавляла джин водой. Нина своими глазами видела в инстаграме конкурс уродств, и фотографии участников собирали тысячи лайков. Она решила, что ее случай не такой страшный. Она смеялась и повторяла время от времени: «Да всё нормально! Всё ОК!» Даже отправила дословно такое сообщение Любе, но ее не оказалось в Сети. Снизу проорал сосед.
Когда за окном затемнилось, появились скопленные сведения о жертвах: кому-то сделалось плохо с сердцем от собственного вида или вида родственников, кто-то из страха убивал оказавшихся рядом близких, кто-то просто сходил с ума. Ленту трясло, что из квартир выносят трупы неуродливые военные, некоторые ветви намекали, что увозят живых, прежде неугодных власти людей, пользуясь несчастьем. Кто-то писал о прежде незнакомой боли. Призывали молиться, постили молитвы. Писали, что многие приспосабливают к своему телу разные закрывающие уродства костюмы и маски и так выходят на улицу. И что вечером, в темноте, это сработает особенно удачно. Предлагали собраться и пообщаться где-нибудь при слабом освещении. Люди за кольцами объявили, что собирают волонтерские отряды. Снова позвонила мама, но Нина не хотела совсем разговаривать. Она влезла на кровать, легла ровно и на спину, аккуратно разложила кишечник по животу и накрылась одеялом.
3
Когда Нина проснулась, с ее головою играло хилое похмелье. «Хе!» — подумала она. Вчерашнее перемоталось перед глазами страшным графическим романом. Нина испугалась и свалила все на сон. Подушка, в которой тонуло Нинино лицо, ковром-самолетом тянула ее голову кверху. За стенами то тут, то там подвывали сквозные ветры. Почувствовалось, что болит живот, и Нина вспомнила, что вчерашний день — реальность. Ей стало безнадёжно, но не из-за настоящести вчерашнего, а от того, что лежит она на животе, а значит, на собственных кишках, которые теперь располагались снаружи. От этого так болело. Что стало с ними? Наверное, она повредила какую-нибудь из серых сарделек и еще вчера внутрь всей связки попала зараза. Нина осторожно приподнялась на руках и села на кровати. Собственная белость ослепила ее. Мягкие гладкие ладони с ровными пальцами и круглыми ногтями вернулись обратно. Нина развязала халат и увидела нормальных пропорций грудь и человеческого цвета живот. Последний лежал, как обычно, гладко, мягко выпирая в мир. Нина погладила его рукой, и тут внизу обнадеживающе заныло.
Нина, покачиваясь, дошла до зеркала, зажгла в коридоре свет и принялась любоваться. «Нет никого красивей человека, особенно женского пола», — решила она. Хотелось растанцеваться, но что-то сильно мешало. Внизу живота вдруг зарядил барабан и мелко затряс все Нинино тело много повторяющихся одинаковых раз. Волынки или ветры за соседними стенами и на улице завыли чётче и сделались похожи на людей. Нина снова присела на обувь, покрытую вчерашней рвотой. Поход в уборную совершенно не помог. Сидя, она наконец распознала природу окружающих звуков и своей боли. Двор затрясло от искренних и восторженных криков, которые повторялись много раз. Нина, шатаясь, дошла до окна. На лавке во дворе делали что-то такое, что казалось невозможным в мартовской Москве посреди улицы. Слева, у стены пятого дома, происходило то же самое. С разных сторон от соседей тоже стонали. Нина дернулась от окна. Стало ясно, что и ей что-то такое нужно было сделать. «Кого-то, кого-то, кто-то…» — теребила она местоимения, а потом схватила свой телефон. Он был темен и гладок. Нина поняла вдруг, что он сел. Руками, будто слепая, обыскала кровать и пол. Зарядка нашлась внутри рюкзака. Экран затрясся и зажегся. «Кого-то, кого-то…»
Люба писала так: «Хорошо, что мама уехала. Я с Петей». Нина не знала, кто такой Петя. Любиного женатого человека последних четырех лет звали Алексеем. Лента стонала. Кто-то уверял, что это радиация, потому что только от нее бывает так нестерпимо. Другие утверждали, что всё лучше вчерашнего уродства. Времени дня уже набежало за одиннадцать. Радовались, что мания почти не задела детей младше 14 лет. Нина в течение последующего получаса оставила сообщения семи молодым людям и трем девушкам. Ответил только один парень, что уже совсем занят. Да и как можно было осуществить эту логистику? Потная, задыхающаяся от ужаса непричастности Нина попыталась позвонить им всем и даже Любе, но никто не брал трубку. В ленте спрашивали, как объяснить происходящее детям. Кто-то пил специальные таблетки. Нина вспомнила: у Пети черные волосы и голубые глаза, и с ним и его толстоватым другом они встречались в понедельник в кафе. Петя навязался Любе, а толстоватый лениво волочился за Ниной. Последней глупостью теперь казалось ему отказывать и не взять его номера.
Нина принялась писать совсем незнакомым людям, но «Фейсбук» прекратил работать. Она попыталась справиться как-нибудь сама, но выходило совсем безрезультатно. Во всей нижней части страшно трещало. Нина, бормоча «Кого-нибудь, кого-нибудь…», поволоклась в коридор и уперлась там в дуру-комод, баррикадой у двери. Нина толкнула — препятствие не поддавалось. Она нахлобучила пальто поверх банного халата и сползла спиной на пол. «Кого-нибудь, кого-нибудь…» — колотилось во всех ее внутренностях. Ладонь нащупала корочку обложки, в которой содержался проездной «Тройка». Нина вскочила на ноги и набросилась на комод. Тот, елозя по полу, уступил и съехал в сторону от двери. Нина не знала, куда направилась. Она выскочила из своей квартиры и врезалась в мягкую обивку двери на другой стороне площадки. Подергала ручку. В квартире то ли стонали, то ли плакали, в любом случае обходились очень тихо.
Весь остальной подъезд, жирная сточная труба для звуков, громко постанывал. Нина, обнимая стенки, спускалась вниз. Холодный пол стрекотал ее босые пятки. Серый дневной свет сыпал в глаза. У рамы Нина рукой задела жестянку, на которой рассказывалось про оливки без косточки. Банка запрыгала по лестнице вниз, и окурки разбежались по ступенькам. На шум вышел пьяница-сосед. Вдобавок к его обычному шторму его трясло сегодняшней общей напастью. Нина запахнула вокруг себя пальто и поднялась выше на две ступеньки. Сосед склизко и одновременно очень счастливо улыбнулся. Никто и никогда не улыбался Нине так приветливо. Она спустилась на третий, и сосед затащил ее в свою квартиру.
Далее восемь часов подряд Нине создавалось мятое, растрепанное, инстинктивное, пахнущее воспоминание, не совместимое со стандартной жизнью, но обычное для состояния людей, перешедших какую-нибудь черту — например, ограбивших или убивших. Нинино пальто и халат упали по разным сторонам комнаты. Пижамные штаны закатились под разложенный диван. Нина ничего не думала, кроме той радостной мысли, что водка не кончалась и хорошо дезинфицировала. Кроме хозяина, в комнате с красноватыми мясными обоями появлялась другая плоть разного возраста и пола, видимо, однобутыльники соседа, хотя Нина узнала одного или двух непьющих людей с пятого этажа. Потолок трясся, стены кидались своими мясными розами. Воздух не знал, куда деваться от количества непотребных стонов и запахов; ближе к вечеру кто-то придумал открыть форточку, и все намешанное вырвалось наружу. После десяти Нина в натянутом на голую кожу пальто вернулась к себе домой, приняла горячий душ и растеклась по постели. «Лучший-лучший в жизни день!» — оперой запел дежурный демон в Нинино левое ухо. Да она уже спала.
4
Утро отличалось от двух предыдущих тем, что рычало. Третье кольцо снова вертелось. Выли моторы, орали сирены, об асфальт скреблись тяжелые шины. Выхлопы лезли в форточку и ноздри. Движение теперь было менее могущественным, чем до начала несчастия, но все равно жило. Нина удивилась, что ничего сегодня не болело. «Неужели всё?» Нина сама расслышала в этом своем мысленном вопросе разочарование и застыдилась. «Я прошу прощения», — вслух попросила она. В доме сидела хитрая тишина. Нина смочила язык слюной, и тут же вспомнилось, что два дня не ела. Еще одно похмелье чуть-чуть попискивало в голове. За несколькими квартирами справа кричали. Нина вытащила из-под подушки телефон. «Фейсбук» не открылся ни через приложение, ни через браузер. Никакой вид интернета не работал. От Любы еще час назад пришло смс: «Я в порядке. Ты как? Позвони мне». От мамы оказалось сообщение похожего содержания. Нина вытянулась на кровати. На часах торчало без четверти полдень. «Нет, ну правда, неужели наигралось?» — подумала Нина и подняла руки, чтобы рассматривать татуировками набитые на них синяки.
Телефон захрюкал вибрацией.
— Ты чего молчишь? Что случилось с тобой? — из голоса Любы вроде как выжали соки.
— Да всё нормально, — Нина начала вставать с кровати и вдруг, не получив привычной опоры слева, рухнула на пол. Не выпуская телефон, она решила собрать себя вместе. Принялась подниматься на руках, подтягивать к себе колени и снова крикнула.
Пока Люба ехала, Нина сменила несколько настроений. Сначала она плакала, потом лежала с равнодушными пустыми глазами, потом вспомнила, что это всего лишь на день, и весело запела. Затем стало ясно, что так лежать и без одежды сильно холодно. Нина решила забраться обратно на кровать, села, подтянула себя на руках близко к ее краю. Стала щупать ладонями одеяло, простыни; цепляться было не за что. Подумала, отдышалась. Согнула правую ногу в колене и, вытягиваясь на руках, подняла себя на кровать. Полежала, отдохнула, влезла под одеяло, затащила его на голову и принялась осматривать культю. Левая нога отсутствовала почти доверху, сантиметров на двадцать только длясь от бедра. Дальше она прерывалась затянутым в кожный мешок обрубком. Нина подвигала им в воздухе. Выглядело все так, будто Нине отрезало ногу давно, а не сегодня утром.
Позвонила мама, которая волновалась сильнее обычного, но Нина уверила ее, что с ней все хорошо и уйма работы. Сигнал ослабел, Нина пообещала перезвонить завтра. В дверь постучались, звонок был неисправен с самого начала жизни здесь. Любин голос прошел сквозь двери и стену. Нина по-банному завернулась в простынь и, придерживаясь за книжный шкаф, спустилась и поползла в коридор. Люба понимающе ждала и больше не стучалась.
Поперек коридора раскорячился комод, который будто тошнило двумя верхними ящиками, преграждающими путь. Нина снова села на свою грязную обувь, оперлась спиной на стену и, отдышавшись, затолкала ящики обратно. Позвала Любу, та откликнулась через двери. Нина заползла совсем близко к выходу, протянутыми вверх руками повозилась с первым замком, потом со вторым. Дверь при открывании уперлась в комод, Нина вспомнила, что свободно зашла вчера домой, но отодвинула его сюда, чтобы пройти в ванную. Зачем ей было не вернуть его на прежнее место к зеркалу?! Нина прикрыла дверь, оперлась на нее спиной и что есть силы уперлась уцелевшей ногой в комод. Тот постонал-постонал и поехал по полу.
Провозившись так восемь минут, Нина открыла все двери и отползла назад, за комод. Люба, увидев Нину на полу голую, безногую и в черных синяках, расплакалась. С собой она принесла две огромные рогатки, пахнущие смолой и деревом. Они оказались свежевыструганными костылями. Люба помогла Нине подняться, принять душ и одеться (не комментируя синяки-отпечатки на бедрах, животе, груди и шее), закрутила узлом левую Нинину штанину, помыла обувь и полы в коридоре, задвинула комод к зеркалу, сварила картошку и потушила овощи. После еды они учились ходить на костылях. Те не были обработаны и царапались. Люба обвязывала подмышники тряпочками и рассказывала Нине, что купила костыли у Киевского вокзала за 35 тыс. рублей. Такси туда от Любиной «Юго-Западной» стоило 6,5, а от «Киевской» досюда 2,5. Пока они ехали до вокзала, одноглазый водитель хохотал и просил ее следить за дорогой справа. Люба говорила это не для упрека и жалобы на траты, а только сухо делилась информацией. Команды волонтеров, приезжавших днем в Москву из регионов и спешивших убраться из нее затемно, раздавали костыли, протезы, еду, медикаменты, но за всем была гигантская очередь. Дети и старики попадали в приоритеты. По желанию родственников им, особенно детям, делали уколы со снотворным, чтобы те не увидели своих и чужих увечий. Сегодняшнее несчастье не тронуло никого младше 14 лет.
Интернет и телевидение в городе отключили, мобильная связь булькала и квакала. Люди тысячами бросились уезжать из Москвы на личных легковушках, специально запущенных автобусах и электричках. Обычный общественный транспорт не работал. Платного и бесплатного такси не хватало, многие машины участвовали в эвакуации. Люди забирали с собой друзей, родственников и соседей. За руль садился не владелец автомобиля, а тот, чье состояние позволяло водить. Любину маму, у которой недоставало правой руки по локоть, вдруг увез на машине вместе со своей второй семьей ее бывший муж, Любин отец. У него нашлись родственники в Воронежской области и не оказалось обеих ног. За руль сел его 13-летний сын, которого он любил очень и научил водить. Карантин отменили, выпускали всех. Сотни тысяч людей не хотели покидать город и решились оставаться здесь, даже с маленькими детьми и старыми родителями. «Например, его тупая жена», — это очень зло сказала Люба, и Нина поняла, что она про своего женатого человека.
Все это время, пока Люба готовила, убиралась и говорила, Нина, стыдясь, рылась по подруге глазами, чтобы понять, чего недостает у той. Пересчитала даже количество пальцев на ее руках — вся десятка находилась на месте. С ножными было неясно, Люба надела свои обычные в Нинином жилье тапки. С большим телом, крупным лицом, скулами и носом, да еще с трудной детской судьбой, Люба всегда казалась старше, но сегодня из нее как будто ушла вся недорасходованная молодость. Заметив поисковые взгляды, Люба молча стянула непривычный на ней широкий свитер и расстегнула мнущуюся под ним белую офисную рубашку. Нина теперь заплакала. Ее собственная фигура всегда была такова, будто ее недодержали, остановили развитие одной мощной кнопкой еще в подростковом возрасте — оставили недоокруглившиеся бедра и грудь. Люба же ходила со всем большим и выпирающим женским. Сейчас на месте обеих грудей у нее было гладкое, пустое кожное пространство с зажившими продолговатыми шрамами — линиями отреза.
— Все равно лучше, чем две головы, — сказала Люба, оделась и села к Нине на кровать. Они молча принялись сидеть.
— Это всего на день, — решила успокоить так их обеих Нина.
— Нет, это на всю жизнь, — сказала уже совсем старая Люба.
— Да нет же. И послушай. Думаю, это всё логично. Ну то есть что это должно было случиться давно — то, что происходит.
— Что должно было? — не поняла Люба.
— Ну всё…
Люба вдруг вскочила и принялась кричать про родителей, насиловавших вчера своих детей, про детей, насиловавших родителей, про тела, найденные сегодня без нижней или верхней части туловища или без голов — в крепостных стенах, про беременных в самый первый день, день уродств, и про другие несчастия. Нина завернулась в одеяло, снова помолчала и спросила, откуда Любе все это известно. Та ответила, что Петя — ловкий журналист, который, кроме всего журналистского, налаживает работу волонтеров. Люба сразу еще сильнее устала, узнала время из своего телефона и засобиралась. Нина уговаривала ее остаться, выпить вина и встретить завтра. Но Люба сказала, что не может пить вино, когда так много людей в городе мучается, и что поедет помогать дальше по этому району.
— Я вписала тебя через волонтерское приложение в очередь на эвакуацию, но там сотни тысяч. Думаю, только на послезавтра… — Люба обняла Нину и ушла в город.
Нина проводила ее, закрыла за ней двери, дотащила свое тело на костылях до кровати. Сделалось очень досадно, что Люба отправилась волонтером к своему женатому человеку и его семье — потому что те жили в одном с Ниной районе, но только за пределами Третьего транспортного кольца. Нину пилила мысль, что Люба до сих пор не эвакуировалась только из-за него, Нину пилила еще одна мысль, что даже к ней Люба заехала, только чтобы улучшить себя перед тем, как поехать изображать волонтера к семье своего любовника. А последняя мысль, самая гадкая мысль лезла к Нине — что Люба дружила с ней только из-за того, что Нина жила рядом с ее женатым человеком. Нина принялась вспоминать те случаи, когда давала им ключи от своей квартиры, когда Люба не дожидалась их встречи в каком-нибудь районном баре и приходила к ней. Тут Нина заметила свою культю, запертую под штанинным узлом, и поняла, что это все — все равно.
Двери вдруг зашатались от стука и крика.
— Ни-и-и-ин-н-н-на, Ни-и-и-ин-н-н-на! А-А-А-Артой… — это заунывно плакал и мешал буквы сосед с третьего этажа.
«Фак, откуда он знает мое имя?!» — это в панике спросила себя Нина, но тут же решила, что и это тоже все равно.
Когда сосед устал кричать и ушел, Нина впервые расслышала, что Третье транспортное зарычало еще сильнее. Она приподнялась с кровати, разместила себя на костылях и с деревянными звуками приблизилась к окну. За белесым изгибом бетонного заграждения медленно тянулась процессия из автобусов и машин. Они везли на себе терпение с отчаянием. Небо на фоне лежало серо-бетонное и вовсе без признаков какого-либо движения. Под кольцом, на дороге за колоннами, Нина заметила еще один парад. Навьюченные вещами, укутанные в одежды, более похожие на тряпки, без рук или без ног на костылях, как и Нина, люди абсолютными французами тысяча-восемьсот-двенадцатого уходили из Москвы. Многие несли на себе спящих детей, кто-то вел их бодрствующих рядом. Внизу, под единственной Нининой ногой зычно засвистело.
— Ну и ва-а-а-али-и-ите! Ва-а-алит-т-т-те-е, ва-а-а-а-алит-т-те! — это прокричал сосед с третьего этажа из своего окна и снова засвистел.
Нина хотела закрыть уши ладонями, но вспомнила, что руки заняты. Она, подпрыгивая, чуть сместилась вправо, к столу и вытащила из карандашника черный маркер. Попробовала его на бумажке — он процарапал только сухой слеповатый след. То же самое случилось с красным. И только розовый был полон молодого, сочного цвета. Нина, забыв, что передвигается на двух деревянных рогатках, быстро подошла к окну и нарисовала прямо на стекле — сначала одно розовое кольцо, потом поверх него другое, потом третье, потом заключающее в себе все предыдущие — четвертое. За розовым рисунком убегали из города машины и люди. Нина вгляделась в четыре кольца и увидела, что это мишень.
Остаток своего безногого дня она провела в убаюкивающем покое, не подходя к окну и не прислушиваясь к улице и окружившему ее дому. Лежала в кровати и листала книги, до которых не доходило раньше, смотрела любимые фильмы, которые смогла найти в компьютере, — все как на подбор guilty pleasures. Нина сама теперь сделалась героиней кино и старательно работала на камеру. Смеялась над шутками полным голосом и ахала в страшные моменты, хотя тем не сравниться было с происходящим с ней и со всей Москвой. Запивала все это красным. Жизнь катилась своим чередом. Никогда еще Нина не чувствовала такой спокойной радости. Перед сном она затушила лампу, растянулась на простыне, но потом ввернула кнопку света обратно, присела и развязала узел левой штанины, понадеявшись на следующий день.
5
И он не подвел. Нина проснулась в очень преждевременные для себя семь часов двенадцать минут. Запустила руки по своему телу, сначала проверила правую, потом аккуратно поехала ладонью по левой. Та — к превеликому счастью — не закончилась, а продолжилась до колена, потом ушла ниже в голень и завершилась ступней с пятью пальцами. Костыли — музейным экспонатом — опирались на шкаф. Нина встала на ноги, протопталась на месте подобием ирландского танца и направилась к зеркалу. Кожа походила на человеческую, ни один из органов не выпирал наружу, рост равнялся своему обычному. Нина послушала себя и не обнаружила никаких чрезмерных, невыносимых желаний. Даже похмелье не давило на голову.
И на улице не творилось ничего совсем недопустимого. Третье транспортное двигалось, даже вертелось. Машин было меньше, чем вчера, но катились они стремительнее, даже истеричнее. Автобусы показывались совсем редко и выглядели рассеянно, словно не знали своего маршрута. Под эстакадой между колоннами тянулся уже не парад, а вереница людей, которые скорее прогуливались, чем убегали. Нина попыталась стереть сначала пальцем, а потом мокрой тряпкой мишень со стекла — ничего не выходило, и она решила оставить это на потом.
Такое обычное утро нуждалось в праздновании. Нина долго и сложно готовила омлет, варила в турке кофе, разогревала в печке хлеб, с торжеством завтракала в одноместной кухне. Потом основательно и с наслаждением мылась, старательно расчесывалась, тщательно замазывала позавчерашние синяки на шее и запястьях, нестандартно долго выбирала одежду. Отправила маме предупредительную смс, что все прекрасно.
Нина украшала себя оттого, что решила пойти на работу. Удивленный стыд все портил: в предыдущие дни она ни разу не вспомнила про миссию, музей и писателя-авангардиста, будто этого никогда и не существовало. В пальто и коридоре Нина осознала, что в Москве не действует общественный транспорт. Она переменила пальто на куртку, а юбку на штаны. В углу под коробками, висящими сумками и рубашками она нашла велосипед и с виноватой нежностью погладила его руль. Широко улыбаясь, Нина вытащила его на лестничную клетку и встретилась с соседкой напротив, которая ощупала их с велосипедом страшно отчаянным взглядом, но тут же потухла, не найдя нужного ей соответствия, и тихо закрыла дверь. Квартиру соседа на третьем бетоном залила тишина. Нина вдруг решила пошутить, позвонив и убежав с велосипедом на плече, но вспомнила, что она в кольцах и у нее миссия.
Ехалось, несмотря на побитые окна дорогих магазинов на Кутузовском проспекте, хорошо и радостно. Москву уже принялось осторожно лапать мартовское солнце. Машин набиралось немного, и все они двигались скромно и небыстро. А крутить педали было что лететь. Наверху мимо Нины как раз пролетел вертолет, разгрызая лопастями воздух. Нина помахала ему рукой. Иногда она выезжала с края на середину шоссе. Она гордо поглядывала на присутствующую левую ногу, не менее сильную и работящую, чем правая. Дома сонно выстраивались вдоль. Нина не любила этот район до самой реки, считала, что его нужно перетерпеть, но сегодня даже он ей нравился. Ничего необычного не обозревалось, кроме того, что на пешеходных линиях попадались время от времени грузовые машины гуманитарной помощи, облепленные людьми. Неподалеку от «Пионера» Нина остановилась, чтобы покрепче завязать шнурки на левой ноге. Из стеклянных бликов остановки вдруг выплыла женщина с набухшим лицом и сунула велосипедистке под глаза фотографию мальчика лет 9. Нина отметила только, что просящая года на два-три всего ее старше и одета опрятно, даже недешево, а просит деньги на лечение или что-то вроде того. Нина, как это было у нее принято в таких случаях, размягченно улыбнулась и была такова.
На мосту ей в лоб вдарил обычный плакатный ветер. Дом правительства бумажным макетом торчал над водой и испуганно глядел на «Украину». Над головой снова прошелестел вертолет. После круглой несуразицы слева по обеим сторонам Нового ожидаемо случилась мешанина эпох. Эта улица была лишь предвкушением следующей важной части. Здесь Нину чуть не сбила тачка с московскими номерами, и она, переждав пару автомобильных сгустков, сделала что-то невозможное в обычной жизни — переехала эту улицу поперек на свою сторону и продолжила движение по пустому тротуару.
Там, где Новинский с Новым Арбатом изображали крест, Нина заволновалась оттого, что пересекает второе от центра кольцо — Садовое. Дальше Новый Арбат притворялся библиотекой с книжками, а внизу, в нижних строках, держал магазины и рестораны под вывесками. Удивительно, но некоторые заведения на той стороне улицы в длинном ангаре как будто работали. Нине навстречу попадались пешеходы в волонтерских наручных повязках. Щит у длиннющего, как авторский полный метр, «Октября» рекламировал «Квартиры в Москве всего от 1 млн рублей» со счастливой, в светлое одетой семьей. Проезжая по смычке с Борисоглебским, Нина, как и всегда, полаяла, приветствуя уничтоженную Собачью площадку. У церкви-многоглазки толпились люди, от них выпала женщина в светлой куртке, слетела с холма как раз под Нинины колеса и забилась в истерике. Нина остановилась. За припадочной из толпы вышел мужик с красным лицом и потащил женщину вверх. Нина поправила шапку и отправилась дальше.
В присутствии неожиданно находились многие. И охранница, и половина хранителей, и полный научный отдел, и выставочный на три четверти, и экспозиционный на две трети, и ученый секретарь с директором. В доме Нине снова сделалось стыдно, что она сразу позабыла дело из-за общемосковского несчастия. Неудачно покрашенные в двухтысячные стены встряхнули миссию заново.
Нина существовала сама по себе, но размещалась на чердаке со смесью научного, экспозиционного и хранительского отдела и сохраняла с этими людьми терпимые отношения. Она ворвалась под крышу и усиленно со всеми поздоровалась. Двоих недоставало. Оставшиеся двое подняли лица от компьютеров как от горького супа, непонимающе посмотрели и снова провалились в суп обратно. Тонкий и длинный Дмитрий Павлович был мастером путаных и чувственных экскурсий, очень не подходивших их писателю-авангардисту. На желтую сливу похожая Ольга Дмитриевна хранила фонды и отказывала Нине в подлинниках для выставок, объясняя, что подлые и сальные взгляды посетителей обязательно испортят предмет. Нина решила не расстраиваться из-за их неприветливости, а начать миссию. Она взяла папку со стола и направилась продавливать концепт новой выставки, который подготовила еще в прошлой жизни. Нина всегда ходила к начальнице без предупреждения. У той до сих пор обнаруживалось только три варианта занятий: подпись документации, бесполезное чаепитие или телефонные решения семейных дел. Из внешнего — ласкательный визит в департамент. Нина знала, что все люди прошлого в Москве и, видимо, в других городах вели свою работу только так и не умели по-другому.
Инна Анатольевна сдулась за эти несколько дней и плохо виднелась в своем грандиозном кожаном кресле. Волосяной пучок ее беспомощно болтался на затылке, морщины неглаженого пиджака переходили в шейные и заползали на лицо. Директриса испуганно посмотрела на ворвавшуюся Нину. Без примененной помады губы директора просто не просматривались до открытия рта. Нине потребовалось семь минут для детальной, блестящей и не стоящей того презентации. Инна Анатольевна плохо понимала, о чем с ней говорят, и сползала глазами в трубку. «Фак, опять семейные дела», — это поняла Нина. Телефон действительно вдарил по воздуху. Инна Анатольевна затряслась, как при спиритическом сеансе, схватила гаджет и выбежала из кабинета. Нина разозлилась и села в ее кожаное кресло.
— Вы разве не знаете? — это в кабинете вдруг возникла древняя смотрительница Елена Витальевна.
Нина вышла из кресла.
— Ну как же? Ванечка… — это договорила смотрительница и выдвинулась из комнаты, шаркая паркетом.
Нина беззвучно вернулась на чердак и поняла, что все вокруг не живут, а так, мучительно пережидают день. На одном из экранов она заметила открытый «Фейсбук» и поняла, что интернет вернули. Она тихо влезла за свой стол и включила компьютер. Даже ее собственная лента не переставая улыбалась детскими фотографиями. Все дети возрастом до 17 лет, находящиеся еще вчера в пределах Москвы, исчезли без следа. Люди проклинали себя, что не уехали. Их успокаивали люди вне колец и спасшиеся из колец, что это всего лишь на день. В комментариях печатали слухи, что детей просто увезли на специальных поездах в Хабаровск, и никто не знал, почему именно в Хабаровск. Кто-то говорил, что это правительство, не предупредив родителей, устроило ночную эвакуацию и отправило детей на автобусах в подмосковные санатории и что они уже там питаются четырехразово. Кто-то уверял, что видел сегодня семь разновозрастных детей в заказнике «Сетунь». Появилась новость и даже видео, что какие-то автобусы с детьми нашлись в Калуге, но скоро стало ясно, что это были воспитанники детских домов, которых эвакуировали еще вчера, но везли проселочными в обход пробок и поэтому так припозднились, — то есть это были не те дети, а дети без родителей или не тех родителей, которые волновались и писали в «Фейсбук».
Оказалось, пока Нина мылась, завтракала, а потом ехала на велосипеде, родители ходили на Кремль. Внутрь краснокирпичного кольца их не пустили полицейские, но некоторые очеловеченные из них шептали, что того, кого они требуют, давно там нет и нет в Москве вовсе. К родителям приехал кто-то от мэра со стороны МКАДа, поговорил с ними и, видя их отчаянный настрой и недоверие, сдал некоторые позиции и, например, пообещал включить интернет, так как он очень помогал в поисках. Организовывались поисковые отряды из волонтеров-приезжих и родителей, но многие надеялись, что это, как обычно, несчастье-однодневка. Все боялись, что исчезновение — это только первая часть несчастья, и никто не знал, какими им завтра вернут детей.
Нина тайно глядела на коллег. Они авиадиспетчерами изучали экраны компьютеров и телефонов. Ольга Дмитриевна воспитывала одна красивого шестнадцатилетнего сына. Он приходил год назад таскать фонды и нагло понравился Нине. У Дмитрия Павловича была десятилетняя дочь, такая же высокая, тонкая и дурно одетая, как и он. Нина встретила их в парке Горького прошлым летом. Ну а Ванечка был пятилетним пухлым, визжащим и вымоленным внуком Инны Анатольевны. Вдруг зазвонил Нинин телефон. Дмитрий Павлович и Ольга Дмитриевна не мигая смотрели на него. Нина ответила незнакомому номеру. Звонил диспетчер из волонтерского центра, ей предлагали эвакуацию с Щёлковской или Южной сегодня в 17.00 или 18.00 часов соответственно.
— Так скоро? — это спросила Нина.
Ей объяснили, что «из-за детей» освободилось много автобусов. Нина вышла в коридор, сказала, что уедет потом своим ходом, и попросила вычеркнуть ее из списка. Люба не отвечала на звонки и сообщения. Когда сделалось время обеда, Нина выползла из своего угла и, не глядя на оставшихся, убежала из музея. На Большой Никитской она нашла многолюдный паб и сразу заметила таких же, как она, — бездетных, единственных в семье, еще молодых, не имеющих друзей-родителей, не работающих с детьми. Они смотрелись виновато, но милая радость лилась из их глаз. Они вырвались из съемных площадей своей революции и соскучились по самим себе, украшающим московские улицы. Нина не знала, были ли они людьми будущего, и заказала себе джин с тоником. Один взрослый человек с широкой, как у капиталиста, шеей пытался угощать всех подряд, плакал, смеялся и кричал, что его сыну только вчера в 23.40 исполнилось 17, когда у него еще не было трех пальцев на правой ладони, и что сегодня вечером он улетает в Лондон на спецрейсе из Внукова, за билет на который он, папаша, отдал полмиллиона рублей. Кто-то слева за стойкой рассказывал, как из соседней с его многоэтажки выбросилась из окна мать девочки-младенца.
Люба не брала трубку. С Ниной пытались познакомиться люди-мякиши, но они легко отваливались от одного мотка ее головы. Наконец принесли Нинин джин. Она рассматривала его с болезненной нежностью, как может делать это только тот, кто понимает красоту стакана с джином и тоником. Потом отпила немного, потом вдруг поставила стакан, взяла рюкзак и принялась уходить.
— Что, допивать не будете? — это поинтересовался полноватый человек с жеваным желтым лицом.
Нина покачала головой и неловко поглядела на стакан.
— Заразная, что ли? — запросто спросил дальше жеваный. Он вовсе не был пьян.
— Я не знаю, — это честно ответила Нина.
— А, ну позавчера мы все так… неловко. Ну, как закончится, проверимся, — он пододвинул Нинин стакан себе и проглотил его залпом.
На чердаке оставалась одна Ольга Дмитриевна. Экскурсовода в Марьине ждала жена, а хранительнице не с кем было пережить остаток бездетного дня в Новых Черемушках. Она выверяла сегодня старые каталоги — давнее задолженное дело. И Нина принялась возиться с залежавшимися актами и договорами — дело бухгалтеров, которые редко его делали, а сегодня не пришли в музей. «Мне настолько нечего терять, что я могу наказать себя только неинтересной работой», — это спокойно подумала Нина и нахлобучила на файл казенную шапку.
Музейных, к Нининому удивлению, разобрали по машинам молчаливые офисные, которым нужно было в те же стороны. Дом сразу запылился и постарел без оживляющих его людей. Около девяти Нина закончила бумаги. Над головой в потолочном окне торчал черный квадрат.
6
Нина страсть как боялась старости. Но обычно старели только люди прошлого; такие как она — люди будущего — тоже старели, но гораздо медленней. Тридцать-сорок для людей будущего — молодость. Пятьдесят и шестьдесят — взрослые и самые производственные годы. В семьдесят и восемьдесят работу они уже сокращали на три четверти, но продолжали исследовать мир. В девяносто и даже сто отдыхали и рефлексировали. И ни в каком возрасте не находилось на телах людей будущего мест для гуль и шуб, только для рюкзаков, удобных стрижек и курток.
Нина боялась, что новым московским несчастьем станет старость в морщинистой кожаной упаковке с болезнями и слабостью внутри. Но сегодня Нина догадывалась, что старость уже случилась с исчезновением детей. Она просто не задела Нину.
Против старости Нина обычно боролась сном. Он ровнял морщины, утешал нервы и накачивал тело силами. Люди будущего спали много, Нина точно знала. Она отдавала ему 10 часов своего времени посуточно. Успешные неспящие являлись чем-то несерьезным, временным, недлящимся, стареющим, словом, человечеством прошлого. С сегодня на завтра, напротив, Нина решила не спать нисколько, чтобы не пропустить момент наступления нового несчастия, заметить и понять, как и почему это происходит.
За Ниной пришла охранница с рыбьим от плача лицом и сказала, что ей пора ставить помещение на сигнализацию. Женщину звали Светланой, она навещала кольца вахтами из Балакова. Ее сестра Вера, тоже из Балакова, охраняла торговый центр в Тушине и привезла в воскресенье свою дочь десяти лет гулять по Москве. Все они не снимали жилье в кольцах, а размещались прямо на объектах. Вера и дочь спали вместе на уложенных один на другой трех матрасах. Девочка, как и остальные дети, сегодня нигде не нашлась. Женщины не бежали из города, потому-то им пообещали увольнение. Нина сказала, что последит за домом и никому не скажет. Светлана высморкалась, накрасила глаза, показала Нине, где чайник и разводная лапша. Не снимая формы, она уехала к сестре в Тушино и обещала вернуться утром. Уже заперев за Светланой музей, Нина поняла, что не знает, как та доберется на северо-запад города.
Девятиэкранник показывал затемненные пространства. Нина листала изображения и рассматривала комнаты по отдельности. Светлана не спросила, умеет ли та пользоваться системой наблюдений, снимать музей с сигнализации или вызывать ОМОН. Нина умела. Она, как и всякий человек будущего, могла быть кем угодно в музее и немузее: арт-директором, дизайнером, пиарщиком, экспозиционщиком, архитектором, рабочим, экскурсоводом, бухгалтером, директором и вот охранником. Нина съела похожую на парик моментальную лапшу со вкусом курицы. От еды подло захотелось спать, и Светланин продавленный диван завертел кручеными подлокотниками. Нина снова вскипятила чайник с известковыми снежинками на дне и растворила в воде кофе с сахаром. У Светланы в клетке ящика нашлись конфеты «Ласточка» и сигареты со спичками. Нина проглотила четыре «Ласточки» и снова выпила кофе. Музей молчал. Исполнилось два с половиной часа ночи. Диван обнажал потертую обивку. Нина выбросила невыпитые снежинки в раковину и набрала новую воду. Третий кофе принялся пощипывать сердце и мять виски. Нина сложила подбородок на кулаки и засмотрелась в девятиэкранник. В комнатах еле читались слабо освещенные через окна интерьеры. Вдруг Нина заметила мужской силуэт в гостиной. Он по-хозяйски обогнул комнату и скрылся в черном углу. Нина теперь выучила, что можно, например, на один день превратиться в монстра с устроенными за пределами брюшной полости кишками, но в призраков она не верила. Силуэт, видимо читая мысли, вышел из темноты.
— Скажи мне, почему это с нами происходит? — это вслух спросила Нина.
Он поднял голову и посмотрел в сторону камеры. Нинин локоть соскользнул со стола, и недопитый кофе улетел на пол. В гостиной оказалось пусто. Нина пролистала все комнаты три раза, цепляясь глазами за все видимые силуэты, — человека здесь больше не было. Не вытирая карей лужи, она оделась, взяла сигареты и вышла из музея, заперев все его четыре замка. Нина думала пройтись по бульварам, но побоялась растерять силы. Деревянная скамейка торчала под толстым дубом его приемным потомком. Нина села курить, холод пинал ее. Часы показывали три десять.
— Можно к вам? — От этого Нина дернулась к дубу.
На скамейку села девушка без шапки. За домами пропела «скорая». Девушка стащила со спины рюкзак и посадила его рядом. Локон с затылка зацепился за лямку. Нина носила шапку с шестнадцатого сентября по одиннадцатое мая. Она не понимала людей без шапок.
— Если вы со сном сражаетесь, вот что у меня есть, — это девушка показала Нине мелкий прозрачный пакет с двумя круглыми, как выдранные глаза, таблетками. Фонарь, росший у дуба, подсветил юное лицо в кудрявых, как растворимая лапша, локонах. Девица назвала цену. Нина ответила, что у нее столько нет. Девушки без шапки попробовала торговаться. Нина решила вернуться к призраку и встала.
— Вот еще что есть! Проверенное! — это девушка без шапки показала Нине энергетик в банке и назвала цену в пять раз выше рыночной. Нина поделила на два, и девушка согласилась.
— Откуда вы? — это спросила Нина, вливая в себя напиток. Девушка назвала крупный город на границе Московской и другой области. Нина спросила ее, как там.
— Да москвичи замучили, едут и едут. — Лицо девушки без шапки задергалось от смеха, но быстро замерло. — У меня сестра — волонтер. Она фельдшер и ездит по квартирам. Я с ней была, и мы нашли человека без плеч.
— Он живой был?
— Нет.
— Вам самой тут не страшно? — это спросила Нина и вгляделась в окна музея.
— Меня мой парень каждое утро в пять забирает. На машине. Мы сняли жилье в Щербинке. Там такой частный дом и все удобства внутри. Я успеваю до трындеца. Трясет только потом, и сил нет. Сплю целыми днями, потом снова сюда.
Нина допила напиток и потерла глаза.
— А вы идите потанцуйте! Тут рядом совсем, — и девушка без шапки назвала адрес.
Нина вдруг послушалась и двинулась по замазанным желтым светом переулкам. Мимо провизжал мотоцикл. По названному бесшапочной адресу из подвала новоарбатской высотки действительно ползла танцевальная музыка. Нина толкнула холодную черную дверь и сошла по жидко освещенной лесенке. Следующая дверь была бывшебелой. Вместо ручки на замковом уровне зияла круглая дыра, из которой под танцевальный бит струилась мигающая темнота.
— Сколько? — это спросила Нина у низкого парня с рыжей бородой, который крючился с компьютером на мелком стульчике при входе.
— Нисколько, — это ответил он и показал на стол у стены, заваленный верхней одеждой и сумками.
Нина оставила куртку, шапку и, подумав, рюкзак. В футболке и джинсах вошла в толпу. Помещение было накачано потным воздухом. Освещение мерцало в такт музыке и показывало людей порционно, откусывая у темноты то щеку с носом, то спину, то взъерошенные пряди, то каскад жировых складок, то лайкровую икру, то острую джинсовую коленку. Спустя три десятка миганий Нина рассмотрела и поняла всю толпу. И мужчины, и женщины танцевали здесь. Юные, средние и совсем взрослые танцевали здесь. И люди будущего, и люди прошлого танцевали здесь. Нина видела мальчиков и девочек в одежде из фотосессий, взрослых женщин в гипюровых юбках и брюхатых мужиков в белых рубахах. И родители, и бездетные танцевали здесь. Всех этих будто вытащили на пробу из час-пикового вагона московского метро, перенесли в подвал, попросили снять верхнюю одежду и объяснили, что все давно уже у них отобрано, и ничего, стало быть, не осталось, и делать ничего не нужно, кроме того что танцевать.
Нина двигалась в груде человеческих тел, которая то ли падала куда-то, то ли просто торчала в невесомости. Каждый тут был за себя и вместе с другими. Нина и остальные в подвале не глядели друг на друга в танце, не заботились о красоте и правильности своих движений, не хотели произвести впечатление, вызвать зависть или привлечь сексуально. Они только танцевали, как люди обычно пьют или чего хуже, чтобы отвлечься или скоротать день или жизнь.
Когда Нина поднялась на улицу, с Москвой уже случилось раннее утро. Небо давно драили, и чернота слезала с него клочками, оголяя там-сям белые бреши. С Нового тянулся автомобильный гул. В двадцати шагах от многоэтажки стоял дом красного кирпича, похожий на корабль. Дверь его вдруг отворилась, и оттуда выбежала взъерошенная и сосредоточенная семья из мужчины, женщины и еще одного пожилого мужчины. Нина не смогла определить, к людям прошлого или будущего они относились, но это не имело значения. В руках мужчина моложе нес сонную семилетнюю девочку и сумку. Женщина и старик тащили какой-то незначительный багаж. Игнорируя их спешку, можно было бы решить, что едут на дачу. Семья быстро погрузилась в синюю машину, та резко сдала назад, задела бампер припаркованной машины побольше и убежала из переулка.
Нина сразу почувствовала усталость и боль в ногах. Улыбаясь, она села прямо на асфальт, пачкая одежду, перевернулась и легла на локти, опустив лоб на шершавую поверхность так, как обычно молятся. Под ухом бешено забибикали. Нина подняла голову и увидела перед собой справа фасад автомобиля. Из дверцы высунулся молодой мужик и крикнул крайне оскорбительную фразу. Нина встала и отошла на бордюр к зеленой помойке. Автомобиль проехал, почти коснувшись Нининых колен. На заднем сиденье ее ровесница стиснула в руках ребенка не старше двух лет. Нина хотела перейти улочку, на которой чудом умещались машины, но тут из-за многоэтажки выскочила еще одна легковушка, потом следующая и дальше еще три. Через минуту или две, улучив промежуток в потоке, Нина пересекла дорогу, обогнула высотку и вышла на Новый Арбат.
7
Он, как обычно, сразу навалился сверху своим белым бессмысленным воздухом. Совсем уже сделалось серо-светло. Утро было временем Нового Арбата и сильно шло ему. Трасса еле ехала и пухла от машин. Все гнали от Кремля, левую полосу тоже заняли, чтобы уезжать из Москвы. Редкий транспорт, которому надо было в другую сторону, двигался прямо по куску тротуара, оставленного под автостоянки.
Нину больно толкнули в плечо и матно обругали. Она обернулась и заметила только спину, волочащую за собой чемодан на колесах. Нина поглядела налево и увидела спешащих слева направо людей. Бежали или быстро шли с сумками или без, с детьми или без. Нина вспомнила, что дальше по прямой к области — эвакуационный пункт.
В глаза влез билборд у книжного магазина, и Нина удивилась, что не может понять его. Она помнила, что там была дурно отредактированная семья в светлых нарядах, многоэтажки и что-то про дешевые квартиры в городе. Люди, их светлый облик, спальный район за плечами висели на месте. Но что-то непонятное и непоправимое случилось с текстом: он состоял из незнакомых символов, будто у него заменили кодировку. Нина направилась против потока пешеходов, уйдя к обочине, где было свободней, и не снимала с билборда взгляда. Тут изображение поползло, светлая семья уплыла наверх, и ее заменил портрет эстрадной дивы с датой, очевидно, концерта. Нина остановилась на месте и, щурясь до азиатских черт, продолжила выжимать из текста смысл. Цифры, обозначающие дату, читались, но уже очевидные месяц, имя и название музыкальной программы оставались зашифрованными. На Нину заново страшно посигналили и покричали — машины и тут поехали по приобоченной стороне тротуара, им не хватило проспекта. Она отошла в сторону, к людям. Перед ней метнулась фигура с волосами, Нина решила, что она сталкивается с кем-то, идущим из города, и приготовилась слушать ругательства. Она знала, что необходимо вернуться в пустые переулки, а ими — в музей. Она попыталась обогнуть фигуру, но потянулась вслед за электризованными волосами. Нина подняла подбородок и увидела девушку без шапки. Та плакала всем своим недоросшим лицом и заглядывала Нине в глаза. Ее уши налились холодным красным.
— Он не приехал… — это пожаловалась девушка без шапки. Нина расслышала у нее акцент.
Девушка без шапки потянула к Нине ладонь, в которой на боку лежал смартфон.
— У меня что-то с телефоном… — договорила с еще бо́льшим и чудны́м акцентом девушка. Нина взяла гаджет и удивилась оттого, что на заставке в позе вазы стояла девушка без шапки в коротком черном платье. Нина полазила по меню телефона, и там, кроме цифр, ничего не было ясно.
«Мы разучились читать? Новое несчастье в том, что мы не способны читать?» — подумала она.
Девушка без шапки молча вытащила из Нининой руки телефон, шагнула в толпу и поплелась к МКАД вместе с остальными. Нина вспомнила, что семейство из дома-корабля, и водитель машины, и человек с чемоданом на колесах — все говорили с разными и отличающимися друг от друга акцентами. Она достала из кармана телефон и принялась перебирать тамошнее меню — тут все читалось букварем: «Люди», «Фотографии», «Настройки»… Нина задрала голову: на нее пыталась соблазнительно глазеть несвежая дива, по-прежнему окруженная непонятными словами. Люди уже привыкли считать Нину чем-то вроде столба и привычно огибали ее. В сообщениях снова началась абсолютная белиберда из набора чудны́х значков. Многие буквы были как буквы, например «а», «е», «в» или «х», хотя и использовались бессмысленно, а иные и вовсе походили на тараканов или рыбьи скелеты.
Маленькая крохотная догадка зашептала, запела Нине. Она спрятала телефон, ловкими зигзагами обогнула каждого идущего и скрылась с Нового Арбата. Безлюдными переулками она бегом добралась до музея. Здесь тоже никого не было, охранница (Нина вдруг не сумела наскрести в памяти ее имя) не вернулась. Нина открыла двери, выключила сигнализацию, взбежала вверх по лестнице и остановилась на втором, промежуточном, этаже, где висел стенд с цитатами, которые Нина знала наизусть. Она их сама подбирала из книг и сама занималась версткой. Нина приблизила глаза к тексту так близко, что лбом покатилась по гипсокартону. Ничего не получалось, буквы не объединялись в слова, те не набирались в предложения. Великого текста будто никогда не существовало.
Интернет ползал, но работал. Нина перебрала одиннадцать версий одной и той же страницы онлайн-магазина, в котором два раза в год заказывала одежду. На русском, украинском, немецком, французском, испанском, итальянском, португальском, голландском, польском, чешском она не сумела понять ничего. Зато англоязычное описание новой коллекции, подробности размеров, достоинства тканей и материалов, правила доставки читались с лёту. Нина захохотала и забила об стол руками.
Радостная, запотевшая, она выудила телефон из кармана и разыскала диктофон: «Меня зовут Нина. Мне двадцать девять лет. Я работаю в музее». Звучание удивило ее неясным образом. Нина послушала запись четырнадцать раз, прежде чем разобрать, что это английский, и английский по-настоящему британский. Прогнала еще три раза. Не лондонский, не posh, вовсе не южный, не brummie, не scouse, не шотландский, не ирландский, не йоркширский и не midlands, а скорее манчестерский. В соцсетях многие сказали, что определяют у себя американский. Некоторые гордились собственным британским (Нина вместе с ними). Ходили слухи про австралийские и южноафриканские случаи. Шутили, что ждут видео- или аудиозаявление президента об американском заговоре и лингво-биологическом оружии массового поражения. Оставшиеся в кольцах писали, что это кусок торта по сравнению с другими несчастьями прошлых дней. А по сравнению с исчезновением детей и вовсе ничто.
Люди в кольцах излагали свои мысли легко, изящно, без русского английского, без неуместных или, напротив, потерянных артиклей и прочих стандартов ошибок. Люди вне колец честно комментировали на жалком русско-английском, что завидуют и хотят в кольца. Англоносители и просто жители других стран — знакомые, а чаще незнакомые, тысячами дежурившие теперь в русских соцсетях, — заваливали людей в Москве восторженными стикерами. Но многие комментаторы разных национальностей советовали спасаться и бежать из города.
Сон попятился перед свежим, радостным возбуждением. Нина прыгнула к шкафу, куда они с коллегами вешали куртки, оттопырила дверцу и принялась таращиться в прикрепленное зеркало на свое говорящее лицо. Повторяла много трудных слов (мама, спасибо, один, фургон, мужчина, мужчины…), всматриваясь в свой рот. Время от времени пританцовывала, радуясь исчезновению своего толстого акцента. Внешность Нины тоже незначительно поменялась, нижняя челюсть стала немного шире и вытянулась вперед, как часто бывает у людей, много произносящих звук «th». Но это не уродовало ее, а делало новее и интереснее.
Зазвонил телефон. Это оказалась Люба, и первые две минуты Нина вовсе не могла понять, что та говорит, а потом загоготала и завыла от счастья. Успокоившись, она объяснила подруге, что та разговаривает на scouse, редком наречии, которое распространено исключительно в городе Ливерпуле графства Merseyside.
— Скажи «автобус»! — это сильно попросила Нина.
— Нина, мы… — это начала Люба.
— Ну скажи! — не отцеплялась Нина.
Люба сказала. Нина услышала долгожданное «u» в средине слова вместо «ʌ» и заново восторженно захохотала, а потом закричала, что на scouse говорили The Beatles и что, хоть он и считается просторечием аж до того, что в Лондоне тебя могут не взять с ним на работу, это все равно чарующее лингвистическое явление. Дальше Нина отправилась в рассуждения, что, видимо, сорта английских языков раздавались совершенно случайным образом, ведь при наличии логики в распределении это Нине говорить на scouse, а Любе, например, на cockney.
— Нина, мы с Петей (она сказала Petya) уезжаем. Только что сели в тачку. Давай заедем за тобой, ты дома?
Нина помнила, что со scouse главное — уловить эту заваливающуюся, как подтаивающий ледник, интонацию. Если Люба едет с Петей (Petya), то женатый человек убежал из города с семьей сразу после возвращения детей. Нина ответила, что на работе, и Люба решила, что та шутит, а потом поругалась на своем невыносимо прекрасном, похожем на азиатский языке. Нина заявила, что сегодня останется, чтобы впервые читать Диккенса, Шекспира, Твена, Бронте (Эмили, разумеется), Кэрролла и Сильвию Платт без посредника-переводчика или собственной языковой очередности. Люба заново поругалась и попросила быть на связи. Фоном к Любиному телефону давно с вязким американским акцентом (южным, предположила Нина) канючил Петя (Petya). Нина и Люба простились.
Интернет тащился медленно, Нина терпеливо скачала в компьютер множество классических английских текстов. С детства она не справлялась с языками, в том числе с русским. Бралась учить немецкий, французский и испанский, переживая, что читает множество великих книг, провернутых через мясорубку перевода. Вынянчить сумела только недоношенный английский, и сейчас, во взрослости, она продолжала делать странные ошибки даже в русском письменном. В Англии Нина сдала положительный тест на дислексию, но не посчитала это поводом для самооправдания.
Сейчас она беспрепятственно шагала по вереску английских предложений. Они, как им и было положено, оживали, колыхались от ветра при чтении. Все dales описаний, hills метафор, stone walls смыслов отчетливо просматривались на всех страницах без обычного тумана читателя-захватчика. Никаких недосчитанных, недопонятых, ненайденных овец. Yan Tan Tethera, Yan Tan Tethera, Yan Tan Tethera. Нина соглашалась с кем-то из соцсетей, что сегодняшнее несчастие больше походило на благодать. Юмор, игры слов, стоны, крики, цвета, объемы, свет и тени, страхи и угрозы, understatement и overstatement — все поступали напрямую в ее органы чувств. Но через два — два с половиной часа чтения ей вдруг сделалось скучно. Закачанная в рабочий компьютер литература, без сомнения, была великой, но уже более сорока минут Нина делала перед собой вид, что ей нравится читать. Диккенс равнялся по тяжеловесности самому себе на неродном английском, Вульф получалась слишком запутавшейся и запутывающей, Кэрролл и вовсе оказался детским автором, а «Wuthering Heights»[2] — почти женским романом. Куда им всем до ее любимого писателя-авангардиста! Быть может, Нине не нужно было скакать от одного великого текста к другому, а остановиться только на одном шедевре, но ведь ей хотелось перечувствовать всех. Ведь это только на сегодня. Нина телом поняла, что от чтения на родном английском она получает гораздо меньше удовольствия, чем от того же на родном русском.
Означало ли это, что сегодняшняя напасть ненастоящая, не столь мощная, как предыдущие, потому отступает так рано? Ей дали язык, но не дали культуры? Но отчего же ей тогда так понятен контекст? Она знала Королевство, но никогда — до таких шелковых тонкостей. Тут Нине все надоело. На нее навалился массивный, задолженный ее организму сон. Его догнал внезапный и очень злобный голод. Нина хорошо посмотрела: у охранницы — имя которой она так и не могла вспомнить (разве только то, что оно как бы происходило от light), — так вот, у security woman совсем не осталось моментальных noodles и какой-либо еще еды. Нина закрыла музей на замки и отправилась искать. Паб, в котором она была в день исчезновения детей, закрыли, хотя тут бы он пришелся кстати. Ни магазина, ни кафе, ни ресторана не работало на бульварах, в переулках и на этой большой «новой» улице, название которой Нина теперь тоже не могла воспроизвести.
Еще на уровне книжного магазина Нина разглядела у кинотеатра раздающий фургон. Подошла ближе: врачи-волонтеры осматривали людей, остальные кормили. Из фургона на пластиковых тарелках протягивали Нина-не-помнила-название-этого-коричневого side dish с canned meat. Нина съела две порции. Нуждающиеся в еде являлись чаще всего аккуратно одетыми стариками — местными жителями центра, не пожелавшими покинуть кольца. Волонтеры объяснялись с ними на шатком, нервном английском с бетонным русским акцентом. Почти все старики говорили по-американски. Один волонтер с громкоговорителем — не врач и не кормилец — уговаривал их эвакуироваться и обещал, что автобусы приедут за ними прямо сюда. Но пожилые люди в кольцах — мужчины и женщины — повторяли, как клин белых американских орлов, что они никуда не поедут, потому что они тут родились, прожили всю жизнь и собираются тут остаться, что бы ни произошло. Один старик закричал, что никогда не оставит квартиры, потому что там две комнаты антиквариата, но быстро замолчал и принялся испуганно вертеть седой головой. У него во рту сидел шотландский акцент. Как и у одной старухи, которая попросила положить для своей собаки на отдельную тарелку wee of раздаваемой еды. Агитатор разъяснял сообществу, что ситуация, скорее, ухудшится, а волонтеры не сумеют снабжать оставшихся ежедневно. Старики молчали.
Нина получала MA в университете Манчестера, а потом еще три года жила в Королевстве, переезжая с места на место, стажируясь, работая, вглядываясь в совсем не похожий на заранее упакованный для нее в стереотипы мир. Он был не лучше и не хуже ее ожиданий. Начинало как-то выправляться с работой и тем самым английским, но Нина не выдержала без Москвы. Она успела прожить тут пять лет до Манчестера и любила город всем сердцем. Остальным людям, особенно маме, такое бы стало непонятно. Нина решилась на чудовищный подлог. В один из московских приездов она сделала вид, что чрезвычайно влюбилась в одного человека, которому она тоже показалась «ничего так». Нина принялась много улыбаться и делать набор усилий, чтобы человек этот, поначалу не сильно заинтересованный, влюбился в нее очень крепко. Он сам инициировал и даже осуществил ее возвращение в Москву.
Мама и остальные, согласно Нининому плану, понимающе списали камбэк на любовь и даже обрадовались. Через неделю, найдя ту самую однушку в ста метрах от Третьего транспортного кольца, Нина съехала от вернувшего ее на родину человека. Он не был ей нужен, ей была нужна Москва. Для оставленного она безыскусно сочинила фразу про разницу характеров и поленилась толком объясниться. Хороший и чуткий человек, он сразу догадался, что послужил нарядным гужевым транспортом, почти конем или ослом, для красивого появления Нины в городе. Через год, оправившись, он счастливо женился в своем родном Петербурге и сейчас растил двоих детей. Нину он не вспоминал, а услышав про нее от общих знакомых, он начинал морщиться, как от запаха пропавшей еды. Нина жила с тех пор одна со своим любимым городом и своей миссией. С другими людьми она связывалась, только чтобы успокоить физиологию и эмоции.
Сегодня, в день пятого несчастия, Нина поняла, что вернулась не из-за Москвы или миссии, или не только из-за Москвы или миссии, а из-за языка. Не того, который language, а того, который tongue. Выжила бы вне колец, как выживают без любви, выжила бы без дела жизни, как выживают без смысла, но сдохла бы, закончилась как человек без материнского языка, как умирают без воздуха или движения крови. Нина сидела на затертом чердачном паркете, выложив рядом полное собрание сочинений писателя-авангардиста, и пыталась вернуть себе язык. Она гоняла туда-сюда страницы, цеплялась за слова, начала параграфов, названия рассказов и гадала: этот — вот этот текст — или тот, другой? Нина наизусть знала последовательность шедевров, по которой можно было легко и механически соотнести слова и значения. Нина наизусть знала тексты. Нина наизусть знала сюжеты. Нина наизусть знала речевые обороты. Нина водила языком, покачивалась, трясла тома, как чернокнижник. Слова цеплялись, но срывались, как запачканные маслом, выпадали из ее сознания обратно в книгу, не успев приобрести смысл. Речевые обороты были утрачены уже с самого утра — с потерей языка. Полотно бесценных текстов разорвалось, распалось на обрывки в течение дня. Сюжетные каркасы плавились и растворялись прямо сейчас.
Весь теперешний день несчастья, догадалась Нина, это deleting process. Язык не возвращался — он уходил, не оборачиваясь, уводил за собой культуру и саму Нину. Она кричала и била руками паркет, книги и собственную голову. «Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck», — это Нина наговаривала, ощущая собственный исход. Говорить на родном языке, читать на нем, писать на нем — это как смачивать слюной любимую еду, как водить опять-языком по любимому телу.
Нина на коленках доползла до рюкзака, нащупала в нем паспорт. Любой человек способен произнести свое имя. Нина — это просто, это как Nina Simon. А вот дальше, а вот теперь дальше… Крайне длинное слово. Нина набрала воздуха и попыталась прочесть собственную фамилию. Та не давалась. Нина подтащила деревянный стул, на котором обычно принимали посетителей, вскарабкалась на него и открыла потолочное окно. Это из-за духоты ей ничего не читается. Нина подышала в окно. Холодный поток вдарил ей по лицу. Она вернулась на пол и попыталась скопировать свою фамилию на отдельную бумажку. Заглавная «Т» — ok, но получался рисунок, где была буква-букашка и одна оскандинавленная «е» с глазами, а может, родинками. Нина некоторое время подвигала еще ртом, пыталась озвучить свою фамилию, дальше просто молча глядела на нее. Нечитающееся слово мертвецом лежало на бумаге, завалившись влево.
Зазвонил телефон; экран сообщил, что звонит мама — это слово легко читалось из-за полного совпадения тут английских и русских букв. Нина подняла трубку и не поняла ничего из того, что мама говорила. Нина принялась кричать в трубку, что с ней все в порядке и что она скоро приедет в пункт, но мама не знала никаких иностранных языков, она почти сразу принялась плакать, и Нина заплакала в ответ. Мама закричала. Поняв, что делает только хуже, Нина успокоилась и объяснила им двоим, что сейчас положит трубку и напишет смс, которое можно будет, разумеется, перевести с помощью словаря. Нина попрощалась, сбросила разговор и написала маме самое ласковое за долгие годы письмо на 4 смс, понимая, что та не уловит этой нежности, но хотя бы поймет смысл. В тексте Нина говорила, что с ней все хорошо и что она точно доберется до дома к завтрашнему вечеру. Через двадцать минут ей пришло ответное Ok. И в пункте уже знали, что вся Москва говорит теперь только по-английски.
Нина крутила колеса велосипеда, аккуратно объезжая появляющиеся на пути спины. Она ехала по самому краю дороги, стараясь двигаться и не вместе с машинами, и не вместе с пешеходами. Силы тоже уходили, Нину обогнали уже четыре велосипеда. Пробки ни среди людей, ни среди машин не было — это самые остатки эвакуировались из колец. После большой высокой гостиницы велосипед вдруг споткнулся, и Нина повалилась вместе с ним на тротуар. Вдвоем они проехали на своих боках десяток метров. Нина полежала недолго, а потом ощутила, как велосипед отсоединили от ее тела. Поначалу подумалось, что ей так помогают, и она полежала еще немного, но никто не начал поднимать ее. Нина подняла сама себя на коленки, потом, развеваясь на ветру, на ноги. На ее велосипеде сидел мальчик лет двенадцати и глядел с ненавистью. Нина ощутила ревность: двухколесный, хоть и не новый, был салатовым красавцем. Рядом, гоняя тяжелую одышку, на Нину злобно смотрел взрослый человек.
— Ты уже покаталась, а моему сыну нужнее! — провыл он Нине на американском английском.
Некоторые спины шли мимо, некоторые остановились и даже окружили, но спинами-спинами, готовые повернуться и идти дальше. «Теперь он будет убивать ради своего ребенка, особенно после вчерашнего», — это поняла Нина про человека, забравшего у нее велосипед. Тут она вдруг очень сильно возненавидела его и особенно его мальчика, но не из-за двухколесного, а из-за того, что эти существа могли просто вежливо попросить ее остановиться, но сделали по-другому. Не натягивать леску, а просто объяснить ей, что мальчик устал и не может идти пешком дальше. Нинино новое чувство, очевидно, выпало у нее на лице. Человек установил перед собой кулаки. Нина двинулась к своему велосипеду. Подросток запятился вместе с двухколесным назад, а Нина получила тяжелый удар в грудь и повалилась на асфальт.
Со стороны дороги послышались голоса, которые зло орали на смеси, очевидно, русского и совсем поломанного английского. Отец мальчика отвечал им с приглушенной грубостью. Нина снова подняла себя сама и села, покашливая. У кричащих полицейских были пистолеты, они оба показывали их велосипедному вору. Кроме того, они объясняли ему, что до эвакуационного пункта остался от силы километр и его сын, не выглядевший больным или слабым, точно преодолеет его пешком. Когда Нина снова встала на ноги, один из полицейских уже подвел к ней велосипед. Она кивнула в знак благодарности, пощупала свою спину — на ней, как и прежде, висел рюкзак, — взобралась на салатового и поехала.
Лицо исходило жаром, Нина думала, что она вся полностью сгорит прямо на дороге. Жар происходил не от злобы или страха, а от стыда за собственную небывалую ненависть и готовность под ней действовать. Нина представила, что едет в одном автобусе с этим человеком и его сыном, и свернула в сторону своей однокомнатной квартиры перед Третьим кольцом. В подъезде Нина встретилась с трезвым соседом. Он нес вниз две спортивных сумки, и Нина удивилась, что у него нашлись вещи. Сосед бросил сумки на лестнице и помог ей затащить велосипед на четвертый. Нина поблагодарила, но сосед не уходил, переминаясь, полуглядел на нее. «Не такой он уж и противный», — это подумала она, употребив слово gross. Сосед вгляделся в нее, осторожно схватил за плечо и развернул к лампочке.
— Что случилось? — это неожиданно спросил он на антикварном южнобританском.
Нине стало смешно и приятно, что все, кто с ней связан, говорят на британском, а этот человек — и вовсе на языке аристократов, университетских профессоров и богатых промышленников. Сосед таращился на ее правую сторону. Она поглядела туда же и увидела джинсовое рванье на ноге и лезущий из плеча синтепон. Нина ответила, что упала с велосипеда.
— А поедем со мной? Там внизу мой друг на машине. Мы собираемся в деревню к его тетке. Я же вижу, тебе податься некуда, — это проговорил сосед. — Я бы раньше уехал, но не мог из-за дочки — весь день провел у бывшей жены.
Нина удивилась про себя, что у таких людей бывают дети и бывшие жены. Тут раскрылась дверь напротив ее квартиры. Человек в полицейской форме и человек с волонтерской повязкой вынесли тело в черном пакете. Сосед рассказал, что живущие рядом с ними старики вызвали полицию из-за запаха, который начал лезть к ним через потолочную дыру в ванной.
— Наверное, это она тогда, в тот день, — сосед засмущался и снова перестал глядеть на Нину, — он, видимо, приставал к ним… У нее топор был. Хорошо, что она успела уехать с детьми.
С улицы просигналили. Сосед заново вцепился в Нину глазами.
— Послушай, давай поедем. Ты не бойся — ни меня, ни его. Нечего бояться, мы не будем пить или приставать. Зачем тебе здесь сидеть? Видишь, что здесь происходит? Думаешь, мне не тяжело?! Я тут родился и вырос. Поехали! Москва — это уже в прошлом.
Нина распахнула руки и обняла соседа. Он, смущаясь себя, аккуратно поместил ей руки на спину, а получилось, что на рюкзак. На улице опять взвыл сигнал. Нина попрощалась, завела велосипед в квартиру и закрыла двери. Сосед постоял рядом, подумал еще немного и спустился к машине. Дома Нина разделась, замыла куртку, штаны, вытерла мокрой тряпкой велосипед, приняла душ и намазала водкой царапанные ногу, руку, плечо и щеку. Еще было далеко до вечера, а в кровати Нина заснула мгновенно.
8
Следующим утром через окно и нарисованную на нем мишень в квартиру постреливали солнечные лучи. На Третьем транспортном и под ним не появлялось ни людей, ни машин. Солдатом или заводским рабочим Нина проделала ряд последовательных и обязательных действий, которые придумала сразу, как открыла глаза. Она взяла с полки книгу своего любимого писателя-авангардиста и принялась читать ее вслух — текст вился и понимался обычным образом. Нина читала бы весь день, но необходимо было исследовать дальше. Она ощупала себя от макушки до пяток — ничего не исчезло и не прибавилось, она наговорила текст на диктофон телефона — тот звучал как обычный Нинин русский, она осмотрела себя в зеркале — и не нашла ничего необычного, кроме прежних царапин и громадного разноцветного синяка, за которым, внутри груди, делалось больно при вздохе. В окне Нина не увидела ничего страшного, кроме полного отсутствия кого-либо. Квартиры вокруг молчали — видимо, разъехались теперь совсем все. В «Фейсбуке» писали только люди вне колец, спрашивая: ну что же сегодня?
Нина позавтракала яичницей и консервированным горошком, присмотрелась к пальто, вернула его в шкаф и заклеила куртку коричневым скотчем. Она сложила в рюкзак пачку печенья из гречихи, термос с чаем, компьютер, электронную книгу, зарядки, документы, кошелек, свитер, футболку, две пары носков, трусы белые и черные, карманную аптечку, крем для рук и крем для лица, расческу, рулон туалетной бумаги и влажные салфетки. На волонтерском сайте говорилось, что количество эвакуационных пунктов сократилось с 14 до 4 и что из ближайшего к Нине забирать сегодня будут только в 13:00. В запасе оставалось больше двух часов, но она решила ехать сейчас на случай очереди.
Нина прошлась по пятилетне-своей квартире и погладила ее руками по полосатым стенам. Плотно затворила окна, форточки и шторы. Вторую пачку печенья оставила открытой на столе для домового — на тот случай, если он действительно собирался тут остаться. Посидела-помолчала на дорогу. На развязке под Третьим транспортным Нина вспомнила, что не закрыла вчера потолочное окно в музее и вовсе не поставила его на сигнализацию. Волонтерский сайт говорил, что можно будет эвакуироваться с Ярославского вокзала в 16:00 и из Новогиреево в 19:00. Вместо направо Нина свернула налево и поехала в центр.
За весь сорокаминутный путь — ни одного пешехода и только пять машин: «скорая» по направлению к центру, три обычных в сторону МКАДа и одна на запад у Белого дома. После набережной солнце задавили серые облака, и с неба на Москву полился дождь. Нина надела капюшон и быстрее замотала педалями. На Собачьей площадке от куртки отвалился скотч. В музее потолочное окно со вздохом закрылось, вылив Нине ушат за шиворот. Она нашла ключ от хозблока, достала швабру и вытерла всю нападавшую на пол воду, а потом замыла кофейное пятно в охранницкой.
Нина обошла музей. Экспозиция рассеянно молчала: мол, зачем вы меня сделали, а потом оставили? Да и зачем вообще вы меня сделали, да так плохо и бездумно? Нина заплакала, что за три года работы так и не смогла добиться перемен. От мамы и Любы пришло по сообщению одинакового содержания, Нина им быстро одинаково ответила. Она заново проверила все окна, все двери, включила сигнализацию, вышла с велосипедом из музея и закрыла двери.
Дождь закончился, и по бульвару заползали широкие солнечные лучи. Нина даже сняла шапку — так вдруг стало тепло. Ей сильно захотелось прокатиться на велосипеде по Бульварному кольцу. Она решила, что доедет так до Чистых и повернет до пункта на Комсомольской. Москва сделалась невыносимо женственной и уязвимой без людей. Дома с засунутыми в них кафе, офисами, кухнями, туалетами, курилками, лифтами, подземными парковками встревоженно стояли вдоль улиц, пробуя свои жилы, пытаясь осознать новообретенную легкость. Не только здешние дома, но и многоэтажки, хрущевки, сталинки, особняки и дачи, а также улицы, дороги, парки и скверы во всех четырех кольцах знакомились с новым своим состоянием. Нина крутила педали и шептала, что по себе знает-понимает, как трудно определить, свобода это или пустота. Город подумал, прислушался к себе от Марьина до Лианозова, от Митина до Новокосина и решил, что это пустота. Нина ехала и шептала, что ничего-ничего, потому что сегодня несчастье явно взяло передышку, а может, и вовсе оставило город, и все они совсем скоро вернутся назад. Yan Tan Tethera. Все вернутся, все вернутся. Yan Tan Tethera. Все вернутся, все вернутся.
На Страстном бульваре Нина остановилась, потому что заметила маленькую оранжевую уборочную машину, которой управлял маленький человек. Он работал, счищая машиной накопившуюся на бульваре грязь. Нина задумалась, что неужели его привезли из другой страны, например вчера, и не сказали, что здесь происходит, и неужели он не узнал этого из интернета или (Нина вспомнила охранницу Свету) остался в городе и выехал сегодня на бульвар, потому что боялся увольнения. Но, наблюдая за тем, как размеренно-обыкновенно он работает, Нина поняла, что этот маленький человек, точно так же, как и она, почувствовал, что сегодня и дальше в Москве не случится ничего необычно страшного. Нина помахала человеку в оранжевой машине, но он не заметил ее, а проехал дальше вперед или дальше назад, что было одно и то же, потому что они находились на кольце.
На Чистых Нина не свернула до Комсомольской, решив, что должна прорисовать полный круг вокруг самого центра. После завершения она подумала переместиться на Садовое, но подумала, что одного круга на Бульварном будет недостаточно и проехала второй, затем начала третий… Она катилась, не ощущая усталости, шептала Москве, что незачем мучиться своей пустотой, потому что люди точно вернутся все до одного. Уже давно эвакуировались на Комсомольской и стекались остатки в Новогиреево, а Нина все крутила педали своего салатового велосипеда. Кольцо замыкалось на себе, не заканчивалось, с него незачем было сворачивать, потому что оно и предназначалось для того, чтобы по нему катились до конца московских времен. Ничего-ничего. Yan Tan Tethera. Все вернутся, все вернутся. Yan Tan Tethera. Все вернутся, все вернутся. Все до последнего вернутся.
А охраняется город четырьмя кругами: Бульварным кольцом, Садовым кольцом, Третьим транспортным и МКАД. Еще одно кольцо метро вторит почти Садовому, но, что важно, оберегает город под землей. Другое, новое кольцо железной дороги укрепляет на поверхности Третье транспортное или просто усиливает общую защиту. Есть еще один круг, самый сердечный, малый и древний, зубастый и из красного кирпича. Более всего обезопасен тот, кто находится внутри его, — но таких людей наперечет, и там они не ночуют, то есть не живут. Поэтому среди горожан самые защищенные — это те, чьи дома втиснуты в Бульварное и Садовое. Кто внутри Третьего транспортного — тоже не сильно волнуется. Тот, кто за Третьим транспортным до МКАД, уже, бывает, вздыхает тяжелее, но все равно остается под защитой. А всем, кто дальше — за МКАД, — тем только пропадать.
Потаповы Рассказ
Одно тугое слово собирало их вместе. Обнимало, сгребало в кучу. Если б не оно, они бы разлетелись на пять неровных капель и растеклись бы по свету вперемешку с другими водами. Не фамилию произносишь, а кунаешь человека в пруд для убийства или крещения. Пятеро как прядь: раздельные, но с одной башки. Мама, папа, дедушка, бабушка, сын. Все под одну гребенку.
Вместо того чтобы тянуть жизнь вместе, они тянули ее друг из друга. Друзей ни у кого из них не было. Потаповы относились к каждому из своих как будто равнодушно, чаще — с раздражением. Весьма вероятно, что они любили друга друга — через одного, эго первее выявлялось.
В обход меня — хоть потоп, подумывал каждый из Потаповых. Говорили, что в их роду были попы, но в Бога они не верили. В себя, впрочем, тоже. Особенно друг в друга. Мама не верила в папу. Отец — в маму. Бабушка — в дедушку. Дедушка — в бабушку. Сын не верил ни в кого из семьи, в него из старших — тоже никто.
Потаповы чаще проводили свободное время вместе, хотя и не любили этого. Они делали так, потому что так было принято. Всё как у людей. Из люльки до могилы. Каждый из Потаповых сбегал от остальных Потаповых в казенный или коммерческий дом. Там среди неопотаповившихся становилось еще хуже. Пожаловаться же в родном доме было некому.
Потапов-средний неводом удил рыбу. Будто бы любил, но, по правде, ненавидел это дело. Ему пришлось выиграть несколько чемпионатов, чтобы заставить свой офисный стол кубками и скрываться за ними от коллег. Бухгалтерше Валентине Михайловне приходилось не ловить, а покупать пионы каждые три-четыре дня — якобить поклонников и тоже прятаться от коллег за стеной букетов.
Говорили, что все четверо взрослых Потаповых столкнулись в пары совершенно случайно — благодаря транспортным неурядицам. Старшим Потаповым случайно продали билет на одно место в плацкарте. Молодой Потапов долго рассматривал карту движения поезда в тамбуре, но пришел-таки и лег вместе с молодой будущей женой валетом. С тех пор и до конца жизни они спали ногами к лицам, как карточные портреты.
Средние Потаповы познакомились оттого, что в степи не пришел автобус на остановку и они в финале остались вдвоем в каменной раковине. Мужик в стеганых штанах разделся и ушел пересекать Волгу, уверяя, что на той стороне с автобусами лучше. Старуха с луковым рюкзаком поскребла асфальт до своей дачи. Средний Потапов фальшиво пел для чаровницы, помучиваясь от вчерашнего пойла и поблевывая за ракушку. Будущая средняя Потапова раковела от мужского внимания.
Когда старшие Потаповы ссорились, они неделями молчали, как рыбы. Средний Потапов бесился от этого. Часто, когда вытаскивал окуня или налима из воды, тряс его до одури, чтобы заставить говорить.
Когда средние Потаповы ссорились, они страшно орали. Средний Потапов совсем не хотел быть рыбой и кричал при первом случае, как народившийся младенец. Хор криков смешивался, когда средний поток вливался в старший. Молчаливые Потаповы, рыбные друг с другом, кричали на молодых, особенно на пришелицу. От долгих скандалов ее лицо вытягивалось в рыбью морду, губы шлепали и неуверенно ловили воздух. Тогда средний Потапов тряс ее за плечи, желая извлечь из нее звук.
Внук — младший Потапов, единокровный родственник всем Потаповым, полноправный имяносец — выродился в главного повстанца и утописта семьи. Молчание как-то переживалось, а вот шум драл уши с душой. Потапову-младшему захотелось шум уничтожить. Малышом он чистил зубы громко, громко топал ножками, громко стучал ножом, без спросу помогая маме. Шум не затихал. Младший умнел с возрастом: в десять придумал, что родителей нужно заставить развестись. Он часами зверски убедительно рассказывал матери, что видел отца с другой женщиной, а отцу — что застал мать с другим мужиком. Младшему поначалу верили, и шум усиливался. Внучатый Потапов ощущал интуитивно, что это последние силы бури перед затишьем, и ждал. Но ему зашили рот криками, он понял: проиграл — и замолчал. Подрос — научился слушать проигрыватель через наушники. Усиливал громкость, и шум затихал на песню. На свою первую пенсию дед купил внуку кассетный плеер.
Казалось, младший Потапов увлекся музыкой. Мурыжил кассеты, писал с радио без молчаний, не оставляя лазейки для шума. Махался альбомами, обсуждал аранжировки. Оранжереил свою коллекцию; она росла, баррикадировала вход в комнату. Потапов ненавидел музыку, как отец — рыбалку. Он ее использовал как уличную девку, а сам любил тишину. Та была бессильна против беса шума. Нельзя увеличить громкость тишины.
Старшая Потапова мечтала уничтожить внукомузыку. Оттуда шипело неестественностью, смертельностью. Уверена была, что младший подключается через уши к миру ТОГО. Уши — рубеж миров. ТОТ мог выйти наружу или залучить туда всех Потаповых. Когда внук уходил, одетый в плеер, наружу, старшая Потапова заливала его кассеты уксусом в тазу и толкла кассетные обложки скалкой. Младший Потапов поначалу отчаивался, а потом врезал замок в свою комнату — забаррикадировался. Эта музыка будет вечной.
Однажды Потаповы претерпели вливание. Внук женился не спросясь — ибо как прокричаться сквозь шум? Новая младшая носила невнятное лицо и фигуру и всегда молчала. «Молишься про себя?» — кричали ей на ухо старшие потаповские женщины, зная, что сами не верят.
Лола без ума любила Потапова-младшего только лишь за его двухсекундное состояние, когда он выключал плеер, осторожно снимал наушники и прислушивался к миру, будто рождаясь в нем заново. Она больше всего ценила новь и ненавидела ретроградов.
До свадьбы младший Потапов довольно тщательно испытывал невесту на шум. Он доводил ее до оргазма несколько раз подряд — она ела подушку в перья, но не кричала. Более всего Потапов-внук любил оральный секс, снабженца молчания. Вспоминая детские свои сказки про родителей, Потапов долго лапал на Лолиных глазах ее соседку по квартире. Варвара, тощая как селедка, гоготала. Лола смотрела молча и молча потом огорошила Варю дуршлагом. Та, матом крича, убежала.
Одним бежим утром собирали Лолины баулы, чтоб перевезтись к Потаповым. Вдруг младший принялся неистово колотить Лолу. Лупил неумело, впервые за жизнь. Бил руками и ногами минуты четыре. Лола все это время стояла перед ним, закрывая то грудь, то голову ладонями. Из молодой не донеслось ни слова, ни стона. Потапов-младший никогда больше в жизни не тронул жену.
Так Лола стала Потаповой, но не опотаповилась. Бухнулась в потоп равнодушия и неродства друг другу. Ее удивили эти чужие родные. Дикие размежеванные соприкосновения, сожития, соденежья, состолья, сосмотрения. Ненужное, нелогичное, недодушенное «СО», как недописанная формула углекислого газа.
Потаповы собирались и ехали вместе на пикник. Никли от скуки друг с другом, но часовали в чаще с комарами. Потаповы собирались и ехали вместе к родственникам. Там неистово хаяли друг друга. Потаповы собиралась и ехали вместе в магазин. Оказывались в аду соупреков и соспоров.
Лола предлагала мужу съехать от Потаповых. Он кричал — погромчел из-за привычки отвечать сквозь наушники, — что не может. Потаповы — это сомука. Даже если уплывешь, настигнет потаповский яд-течение.
Четыре месяца, как они поженились, семь — как Потапов-младший тек по реке Раммштайн и узрел, как на ступенях девушка молча стояла на ступнях мальчика. Лола сошла с ребенка через четыре минуты, и тот, ревя, уковылял мочиться за дерево. Вот так Потапов выбрал себе жену в сомученицы. Обрадовался, что ни лицом, ни фигурой не вышла, значит, выйдет за него замуж. Внук Потапов не ведал, что за минуту до него на улице мальчик отрезал голову кошке и Лола без памяти ступила на шкета, желая его раздавить.
Лола помнила кошку и ее мальчика, а внука-мужа тем днем — нет. Тем не менее новопотапова поняла, что ее выбрали в сомученицы через любимого человека. Выловили ее между других за прежний грех: отказалась приютить в комнату подругу — та юлила-юлила от судьбы и повесилась. Васей звали того, кто довел. Лолой звали ту, что подвела к самой перекладине. Подруга закрывала лицо ладонями, хохотала и раскачивалась, подвешенная на веревке за шею. Лола просыпалась, но старалась не кричать, чтобы не разозлить Потапова-младшего.
Домашний ад — несмотря на грех — не принимала и не мирилась. Покупала ириски, а не потаповскую карамель в магазине. Везла мужа в морской, а не речно-потаповский отпуск. Молчала, а не кричала потаповским криком в скандалах. Гремела потаповскими кандалами, но держалась. Потаповы старше-средние атаковали Лолу, но от той, как в панцирь закованной, отлетало рикошетом в младшего. В наушниках он долго принимал за шепот, потом вдруг различил слова, следом расслышал интонацию, разозлился и тогда окочательно опотаповился. Оставил музыку и мечту о чистой тишине и закричал. Мог орать теперь по сто раз на дню и жрать потаповскую карамель. Этого уже Лола не вытерпела и тоже опотаповилась. После меня — хоть потоп, подумала она.
Лола растолстела, погрубела голосом, округлилась спиной. Кричала, как раньше молчала, часто. Причаливала к мужу, чтобы потребовать или унизить. Потапов-внук жалил в ответ как мог, повышая свою громкость и градус. Жизнь комкалась. Лола вставала на ступни мужа, давила на них, и от этого иногда случался коитус. Так она забеременела; топот маленьких ног мерещился старшим, средним и младшим Потаповым. Шили костюмчики и шапочки. Зашептали, попритихли, чтобы не спугнуть младшего внука заранее.
Через семь месяцев с сумкой карамели в ногтях, в животе с Потаповым-обреченным Лола зашла в дом и омыла свою семью взглядом. Вдруг из Лолиной промежности хлынул поток. Вода хлестала, плясала, лизала каждый угол, каждый настенный узор, каждую потолочную царапину. Потаповы забились, заплескались, закричали в последний раз. Никто из них, кроме Лолы, не умел плавать. «И сказал Господь Ною: Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни… И истреблю все, что Я создал, с лица земли».
Присуха Любовный баттл
Да слезами не поможешь! Уж так ей было на роду написано.
Алексей Ремизов. Обреченная I was born in the desert I been down for years Jesus, come closer I think my time is near And I’ve travelled over Dry earth and floods Hell and high water To bring you my love PJ Harvey. To Bring You My LoveБоль-боль-боль. Оля, приезжай, мы с тобой выпьем. Мне не ахти. Я знаю, что тебе сейчас тоже. Иногда бывает так больно, что хочется кричать. Боль и обида. Ну да, возите на нас воду — мы большие и сильные, на нас можно много увезти. Часто мне кажется, это единственное, на что мы, по миромнению, годимся. Не знаю, как могли так опростоволоситься. Мне вот давно нужно было подстричься. Пока не понимаю, как это все осилить, поэтому решила написать свою «Присуху». Ты знаешь, я подошла основательно. Набрала книжек-в-помощь у себя в библиотеке, девушка за кафедрой осторожно спросила: «И это тоже для работы?» Я ответила, что для работы, но для другой. Уже много лет я существую-двоюсь во всех разделах своей жизни. Даже самые близкие не знают, что творится у меня в башке. Неудивительно, что я свихнулась. Сначала хотела сценарий, потом решила, что нет смысла. Опубликуют в «ИК» — порадуют, но снимать, как обычно, никто не станет. Легкая легкость вся эта кинодраматургия, ненужная возня. Да и как такому в кино? Проза глубже вшивается. Впрочем, эту «Присуху», даже если вылезет она из меня, вряд ли возьмут в толстый. А если и возьмут, то прочтут только редактор и не-все-мои друзья. Кстати, почему ты никогда не читаешь мои тексты?
1
Это случилось в метро, в потоке ничего не замечающих. Саша вдруг остановилась от внезапной и интересной боли, желудок полез душить сердце, а ногти на ногах-руках превратились в ноющие зубы. Мужик с целлофановым пакетом наткнулся на нее сзади плоть к плоти, выругался, а потом выулыбнулся от такой короткой и приятной связи — Саша была симпатичная.
Саша встала впаянной в гранитный пол. Скульптура — с рюкзаком на тоненьких ножках, хоть и не «Площадь революции». Потрите на удачу ее острую коленку. Мимо двигали руками-ногами пассажиры. К краю собирались в гущи, гущи сцеживались в вагоны. На цепи над разноцветными волосами болтался указатель. Свыше давили миллионы книг. Писатели старались, сочиняли веками. Впереди карабкались на трап перехода: бежали из «Библиотеки» на «Арбатскую». Старуха в парике тянула по лестнице тележку на колесах. Оттуда торчали сломанные пальцы лука. Девица в сером пальто схватилась за тележку и потянула вверх. Старуха принялась бить помощницу зонтом по руке. Саше стало стыдно наблюдать такое, и она закрыла глаза. Внезапно теплый воздух лег на ее лицо. Не сквозняк-мнун женских лиц и сортировщик тощих подземных полицейских, а собственный Сашин теплый ветер. Саша глядела на свои веки (там мелькают обычно такие оранжевые искры-пятна), а волосы тихонько гуляли по плечам. Первой иглой сшивали сердце с желудком, а вторую воткнули в матку. Саша зубами вцепилась в воздух. Ветер дул-дул, шептал-шептал: «Цы-ы-ы-цы-ы-ы-ы, и не больно вовсе, и не больно». Люди маршировали. Мо-сква! Мо-сква! Мо-сква! Вечный город. Вечно-режимный город. Цы-ы-ы-цы-ы-ы-ы, не больная боль, не больная, хорошая. И вдруг спокойная, всеохватная, благостная радость-анестетик залила Сашино тело. Заулыбалась от спасения, и ее тут же сильно толкнули в левое плечо. Ветер выключился, Саша разинула глаза и сразу пошла к переходу, шатаясь, будто прооперированная.
1.1
Встану я, Евгеньев, раб Божий, Выйду за околицу, Там, где ветер несет околесицу, Балует. Руку поднесу к лицу, Око-взгляд устремлю в поле, Увижу я Змея Огненного, Поля-леса жгущего, Реки осушающего, Покоя-жизни лишающего. Подойду я к Змею, Голове каждой поклонюсь, На языке русском молвлю: Змей-Батюшка, Жизни-покоя меня не лишай, Дом-сад мои не пали, Поля-леса не сжигай, А лучше меня выручай. Сожги-спали рабу Божью, Зазноху, Ужаль ее в самое сердце, Укуси ее в самую роженицу. Чтобы она не пила, не ела, На других когда глядела, Меня только раба Божьего, Евгеньева, Видела и любила больше себя и любого другого, живущего на земле. Ударь ее, Змей-батюшка, мечом огненным, Чтоб ни в бане, ни в реке, Ни березовым веником, Ни полотенцем белым, Ни водицей ключевой Не стереть, не смыть Ей мое клеймо. Чтобы с подругами-мельницами Раба Божья Зазноха меня не замотала, с родителями-сеятелями меня не закопала, с мужиками-жуками от меня не улетела, вином меня не запивала, пляской не заплясывала, во сне не засыпала, всё бы обо мне, рабе Евгеньеве, горевали-болели, плакали-томились ее душа и белое тело. Сухота твоя — сухота сухотучная, Горе горящее, Плач — неутолимый! Губы, зубы — замок, Голова моя — ключ!2
Саша создала новый документ, тысяча на полторы пикселей. Белый-пребелый — шей невесте платье. Нарисовала квадрат и стала тыкать по нему стрелкой. Добавляла новые точки, тянула за бока, меняла цвет. Сама крутила головой, разминала шею. Кривые кривились, выкривились в серый мякиш. Тыкала-тыкала мякиш, щурила глаза, длинное запястье гуляло вперед-назад, мышь дергалась под длинной ладьей ладони. Саша вытянула губы, отпила из кружки. В белом поле сидела собачка от молнии.
Саша сощурилась до своих мордовских предков. Погуляла вокруг собачки стрелкой. Застежка возникла полностью. Саша глядела на экран. Стрелкой прикрыла окно «Иллюстратор», вцепилась глазами в стежки брифа. Тот просил нарисовать логотип фестиваля кулинарной книги. Саша вытянула ноги. Сердце зафехтовало с бронхами. Застежка рядом не гуляла с кулинарным фестивалем. Куда раньше-то из памяти свалил бриф? Саша вщурилась снова в застежку, напала на нее стрелкой, выделила и удалила. Встала, прошлась босая по полу, поглядела сквозь пространство, поверх разноцветных голов утопающих в маках людей — за широким окном Сити накалывал небо.
Саша вернулась. Арт-борд всё белела: женись на ней. Саше показалось этого мало — закрыла весь документ. Основала новую снежную простыню, две тысячи на две пикселей, карандашом нарисовала линию, принялась гнуть ее. Кулинарный фестиваль же: вилка, солонка, фига, фартук. Гугл, тут-тук. Утка в яблоках. Грузинская еда, хинкали, чахохбили. Картинки грузились медленно. Саша уткнулась снова в «Иллюстратор». Мышь колотило, бросало по коврику. Саша заголодала от гугольных картинок, зубы закусали губы. Потянула мышь за электрический хвост — зацепился за лампу. Стрелка мордовала графику: растягивала-растягивала. Щелканье щекотало воздух. Добавила цвета и тени — туда-сюда. Вдруг Саша оперлась на спинку стула и замерла: на экране снова нарисовалась застежка. Подошла девушка с разноцветными волосами и спросила, нет ли у Саши подписки на «Дождь».
Дребедень получается, Оль?
2.1
Встану не благословясь, Выйду не перекрестясь, Пойду ни путем, ни дорогою, А змеиными тропами И звериными норами. Дойду до лесу. За большим дубом, Широким срубом Баня стоит. Без стука зайду, Что ни доска, то скрип-скрип. И пятьдесят шесть бесов С десятью бесятами сидят В сто тридцать пять глаз глядят, Один бесенок — безглазка. Скажу им: здравствуйте, Мои дорогие бесы с бесятами, Взвейтесь вы все разом, Облетите, весь мир обсмотрите, Со всех несчастливых Тоски наскребите — С брошенных, обманутых, Забытых и покинутых, Вдов, сирот, разлюбленных Детьми-родителями, Мужьями-женами, Силами, волею Оставленных. Принесите тоску к красной девице Зазнохе В гордое сердце. Проковыряйте ножичками Гордое сердце, Посадите в него тоску черную, Болящую-скребущую В кровь ее упертую, В печень, суставы. В семьдесят семь суставов и полусуставчиков, Главную жилу становую, Чтобы красная девица Зазноха Горевала по рабу Божьему Евгеньеву Во все суточные без передышки. Чтобы от меня не отвлекалась Ни на радости, ни на горести, Ни на пустоту-кражу. Я — прихожусь единственной радостью ей, Я — прихожусь единственной горестью ей, Я ей — единственный. Чтобы я казался ей милее Отца-матери, Сестры-брата, Подружек-дружочков, Мужика-тела, Мужика-башки, Красивого платья, Уютного дома, Золотой казны. Слова на ключ запру. Замо́к в пруду утоплю, Ключ дурным словом назову-спрячу, Никто никогда не найдет — не догадается.3
И никаких снов не виделось. Просто в два ночи Саша проснулась от тянущего возбуждения. Оно толклось в животе и влажно лизало промежность. На память дошла до ванной, закрыла щеколду, стащила поочередно штанины с нарисованными глупыми коровами. Над головой бредила соседская стиральная машина. Ночью стирать дешевле, и неважно, что дети спят, а идиотам-взрослым на работу. Саша села на унитаз, развела ноги, приложила туалетную бумагу под сборище рыжих волос. Бумага сразу вымокла. Саша тихо простонала и опустила на себя руку. Ничего и никого не представлялось рядом, просто самовоспалялось. Мысли и вовсе вышли из тела, повисли рядом на крючках, уткнулись в полотенца, принялись ждать. Все затянулось на долгие минуты. Машина сверху переключилась на истеричное полоскание, этажом ниже нажали слив, в доме напротив кому-то стало плохо с сердцем. На бортик ванны присел тутошний домовой, вылупил на хозяйку желтые глаза, разинул черную пасть, задрожал мохнатым телом, замахал рыжим хвостом. Но почти сразу застыдился, проохал неслышное людям: «Грех-грех!» и вылез через окошко на кухню.
После Саша сидела, дыша астматиком и растекшись по унитазу в потяжелевшей от пота майке. Когда встала, поскользнулась и ухватилась за бок стиралки. Коленками встала на кафель и принялась вытирать тряпкой. Та казалась бесполой, не половой. Стоя под душем, Саша увидела на стене отвалившийся кусок краски в виде застежки и не удивилась. Вернулась в комнату в прежних неумных коровах, отыскала новую футболку и забралась в постель. Небо протаскивало белое утро. Саша сложилась под одеяло и улыбнулась в потолок. Муж перевернулся с живота на спину и продолжил спать.
3.1
Раба Божья Зазноха, Пусть тебе будет плохо Без меня, раба Божьего Евгеньева, Чтобы ни мысельки без меня не думалось, Чтобы ни шажочка без меня не ступалось, Чтобы ни кусочка без меня не елось, Чтобы ни глоточка без меня не пилось, Чтобы ни стежочка без меня не шилось, Чтобы ни денечка без меня не жилось. Аминь.Язык — движения. Текст — это танец. Цветаева говорила: «Я — танцовщица души». Она душой вытанцовывала все, что писала. Я, Оля, душой не умею. Может быть, получалось раз-два в жизни. Когда пишу — танцую текст, и если не душой, то животом. Писательство — это танец живота! Ура, Оля, ура!
4
В «Ашане» Саша и Саша — мужа для жизненного удобства звали точно так же — ходили по библиотеке хлебов, рыб, йогуртов, средств гигиены и иных произведений. Саше захотелось вдруг чего-то до жути — ясно не было, чего такого. Ходила-ходила, выискивала, вынюхивала. Саша не поспевал за ней с телегой. Саша налегке оторвалась от него среди обильных оберток, будто пришла одна в магазин и стремилась купить только одну-единственную вещь. Наконец увидела что-то в мясном отделе. Саша догнал — удивился: жена не терпела печенку и никогда ее не готовила. Саша подложила мужу в телегу две упаковки охлажденной печени по 400 грамм каждая. Саша обрадовался: он подумал, что Саша беременна. Саша был лучшим человеком на свете, он когда-то спас жену от самоуничтожения. Саша очень хотел детей, Саша не хотела. Саша хотела печенки.
Вечером Саша влезла в интернет, нашла рецепт. Нашинковала лука, моркови, наскоро поваляла их по сковородке. Выбросила печень. Накаленная плита нагревала кухню. Саша добавила соли и перца. Знание приближалось. Первым громоздкое и неуклюжее ощущение счастья заглотило Сашу. Домовой, сидящий на икеевском кухонном стуле белого цвета, снял свой шушун и подозрительно принюхался к жаровне ноздрями. Мохнатый чуял, что́ творится с хозяйкой. Саша с бешеной улыбкой переворачивала лопаточкой печень. Желудок (Сашин) внезапно больно забился о стенки живота. Ей до смерти захотелось есть, слюни наплыли в углы рта. Саша стащила дымящуюся недожарку, села за стол и принялась вилкой есть прямо со сковороды, не позвав мужа. Домовой с ужасом глядел на хозяйкин рот, где исчезали горячие куски. Вдруг один из них упал на пол, Саша резко закрыла ладонью обожженные губы. Поняла-увидела наконец, кто он, человек ее, и причину ее болезни. И ей стало страшно.
4.1
В городе Астрахани Соха не пашет, Сноха не страшит, Сохой не подает — не собирает. Ни служилой, ни церковной, ни черненькой. Как сохнет земля в степи, Как сохнет белье на печи, Как сохнут на ветру губы, Сушись, красна девица, Сушись от пяток до макушки, Сушись-засушивайся, Сохни по рабу Божьему Евгеньеву. А как засохнешь, Положат тебя в книгу без одежи — Чтецам на радость и в смущение.Любовь всегда проявляет себя заранее. Ты понимаешь, что любишь, еще до того, как поймешь кого. Но в насамости ты уже любишь именно этого конкретного человека — «своего человека». Ты понимаешь? Надеюсь, ты меня понимаешь. Я решила это исследовать. Давай лучше расскажу тебе, как серьезно подошла я к своей «Присухе». Уже говорила, что набрала книг у нас в библиотеке. Пришла и попросила все книги про заговоры — так, чтобы они были серьезными, научными. Мне их дали четыре. Первая оказалась совсем обзорная — про использование заклинаний и заговоров в литературе XIX–XX веков. Там перечислены все, кто занимался этой темой до меня или колдовал вокруг: Ремизов, Замятин, и Тэффи, и там же Пастернак, Соколов, ну и совсем нынешние: Сорокин, Толстая, Елизаров. Да, из XIX был еще Тургенев, но не по языку, а по сюжету. Меня все это не пугает, мне вообще теперь ничего не страшно. А Ремизову я и вовсе родня, потомок, кикиморское отродье — недаром веду посвященную ему в «ФБ» страницу и написала свой лучший сценарий с его «Калечиной-Малечиной» в качестве заглавной песни. А.М., когда ложится спать на том свете, видит в расплывчатых очертаниях меня и мои посты с его текстами и рисунками. Диву дается, что это все такое. Кстати, почему ты никогда не ставишь лайков под этими моими постами? Мы с А.М. так стараемся.
Вторая книжка, где перечислены только сюжеты, синопсисы заговоров южных и восточных славян, не особенно пригодилась. Третья книга — лучше всех. «Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока». Толстая, синяя, красивая, даже с коробчатой обложкой и пластинкой. (Только слушать ее негде, жаль.) Поэтический сборник. На основе пишу заговоры.
Еще есть четвертая — монография Е. Н. Елеонской «Сказка, заговор и колдовство в России». Сказки хорошие, но сами заговоры и обрядовые песни кажутся почти современными. Меньше похожи на поэзию. Не знаю почему, может, мне показалось. Этнограф и фольклорист Елена Елеонская собирала материал в средней полосе России в конце XIX — начале XX. В заговорах встречается использование слова «п…да». Она еще там летает. Это очень современно и вечно. И все эти заговорные тексты практичные, в них мало отступлений в тридевятое царство.
Более всего интересна сама эта Елена Николаевна. Она вполне может стать героиней книги или фильма. Представь, дочь священника и профессора богословия Московского университета, ездила по селам и весям в корсете (я почему-то представляю ее в корсете) и записывала за русским народом в том числе все эти «п…ды» и «б…ди». Интересно, что Елеонская жила с 1873 по 1951 год. Чувствуешь, как тяжело ей пришлось? Страна поломалась, ей (Елеонской) нет и пятидесяти, и есть любимое дело и научная репутация. Ни детей, ни мужа. Не уехала — куда?! — от материала. Вроде бы не репрессировали. Потом даже наоборот — а тут любимая моя история про Елену Николаевну. После революции она толком не могла работать, буржуазная наука этнография, пережитки прошлого мира и прочее. НО с 1923 по 1934 гг. — ренессанс. Это был ЗАКАЗ! И какой! К Елеонской обратился, вчитайся: Научно-экспериментальный институт игрушки города Загорска. Они хотели создать «подлинно советскую игрушку». Для этого Елена Николаевна составляла сборник «Народная игрушка СССР», фотографировала образцы в Музее народоведения, занималась классификацией, готовила большой труд. Сборник, ясен пень, не вышел, проектную часть Елеонской прикрыли. Этнографический подход к изучению игрушек не оправдал ожиданий заказчиков, никакой там не обнаружилось критики буржуазного строя. А Елеонская больше ничего не сделала в науке. Вроде бы остались ученики и продолжатели. Теперь думаю написать про нее сценарий. Или книжку. Оля, я танцую, пишу страницами, тебя отвлекаю от боли. И себя.
5
Это так судьба зарифмовалась, что их звали Сашами. Но если бы так не случилось, Саша бы все равно переименовала себя в честь мужа. Он был ее истинный спаситель. За любовника, мужа, отца и брата. Восемь лет назад он вытянул ее из жизни, которая тащилась к смерти. Саша рыла себя, хороводила эксперименты. Завтракала рисом и коньяком с добавлением кофе, катилась на работу в рекламное бюро, где ее терпели за больную фантазию и способность писать-рисовать одновременно. Красилась в зеленый или красный, брилась налысо, прокалывала себе брови и соски. В съемной Сашиной однушке гостили съемные люди. Иногда Саша тюбиком выдавливала из себя тексты. За волосы ее постоянно тянул вечно-вечный страх. Саша шарахалась от природы и механизмов, от стекол, лифтов, машин, поездов, детей, толп, часто боялась выходить на улицу. Страшилась болезней и вовсе не всех гостей до себя допускала. Тут — раз, и однажды, по непонятной причине, ей вдруг повезло: появился Саша. Он взял все на себя, разрешил жене заниматься чем угодно, снял хорошую квартиру, победил Сашино рабство от страха.
Саши ощущали друг друга как сообщающиеся сосуды. Если кто-нибудь из Саш заболевал на ходу, второй Саша это чувствовал. Если кто-то из Саш хотел позвонить-написать другому, второй Саша звонил тут же или они звонили-писали одновременно. По запахам одного другой понимал, что у того болит или что тому хочется. Это была настоящая и хорошая любовь.
То-то и странно было, что Саша не понимал сейчас ничего про новую Сашину болезнь. Будто специально влез в свою важную серьезную работу по уши. Не удивлялся, не задавал вопросов про Сашины новорожденные раздражение, злобу и холодность. Саша не хотела домой, мастерила себе встречи, определяла себе место-стол в коворкинге или библиотеке. Саша не видел-не слышал, что уже более двух недель его жена любила другого человека.
5.1
По городам, по проводам Идет електрический Ток-ток-ток, В каждый дом Тук-тук-тук, Не скрадешься и не спрячешься, Ни там, ни тут-тут-тут. Каждый уголочек достанет, Каждый узелочек покажет, Тока ангелов Божьих не видать Разве что. Пускай током пройдет Сквозь нее тоска трескучая, Тоска-сушилка, Каждую жилку, Каждую кровинку, Каждую косточку пробьет, Рабы Божьей Зазнохи. Пускай ничего не останется Без тоски у рабы Божьей Зазнохи По рабу Божьему Евгеньеву. Аминь.Стала я многословна. Это — паршиво. Не должны быть тексты широкие и высокие. Только глубокие, ямами. Читающего надо утопить, а это можно и в луже, а в мелком море он только ноги промочит. Видимо, моя многословность объясняется тем, что я начала пить во время работы. Знаю, ты сейчас путешествуешь по друзьям и тоже пьешь. Странно нам живется, когда толком негде жить в Москве. Я вот думаю, что это хорошо. Приходится ходить на работу, чтобы платить; была бы у меня своя квартира, никогда бы не работала и неизвестно что. Пить-писать — не рифма. А тут вино или джин с тоником. Компьютер тяжело дышит от старости его вентилятора. Пора завязывать. Ведь писать, по идее, — это вместо пить.
6
Через месяц после начала Сашиной болезни и через три недели после осознания ею своего человека Саша пришел домой хороший и сделал все, как жена раньше любила. Она решила, что достаточно ей так себя вести, и сдалась. Лежала, смотрела на двигающуюся тень — на ней и на стене одновременно. Не тень мужа-спасителя, а незнакомого, которой делал все так, как она теперь не переносила. Равнодушие нянчит ненависть к любящему. Тошнит от себя за пополнение армии вынужденных притворяющихся. Добро пожаловать, сестра! Вот он, настоящий брак, крепкая семья. Сначала тяжеленько, потом стерпится, притрется. Нелюбовь-привычка: выть хочется, а потом забудется и будет только хотеться спать. Годы — гады, ползут быстренько, на работу с работы домой, поесть вместе, по выходным — атака супермаркетов и леруамерленов, того самого, — и закрепили ребеночком. Теперь точно не рыпнуться. Ясли, детский сад, курит на переменах! Это твое воспитание!
Хочется змеей выползти из-под, но страшненько! Конечно, Саша, страшненько! Вдруг вдарит или чего хуже — объяснять придется разрыв объятий. Ять-ять-ять-ять-ять-ять-ять-ять-ять. Еть-еть-еть-еть-еть-еть-еть-еть-еть-еть. Саша понимала, что муж никогда не вдарит, но ненавидела сейчас его так, как если бы он вдарил. Раньше молилась, чтобы Саша длился вечно. Теперь страшно, что он — навсегда.
Саша выползла. Ощутила себя грязной и мерзкой. Изменила человеку своему. Саша сходила на кухню, вернулась с худеньким ножиком, занесла его над спящим мужем. Рядом рыдал домовой. Гнать из дома такого нерасторопного. Другой бы что-нибудь выдумал — открыл бы кран, поджег бы мусорное ведро, разбил бы окно. А этот стоял и растирал слезы по мохнатой морде. Тут нож выпал из Сашиной ладони и брякнулся на пол. «Мужик придет», — случайно подумал домовой. Саша села на пол, на лезвие ножа, только плосколежащее. Прошептала что-то. Домовой навострил уши в Сашину сторону. «Себястрашие». Это Саша поняла, что она сама страшнее всех-всего на свете. Домовой осторожно вытащил из-под нее нож и утащил в кладовую.
6.1
Ших-да-ших. Величава, говорят, Зазноха их! Шу-да-шу. Я таких зазноб Не переношу! Ша-да-ша. Сейчас справим Это дело не спеша! Шаль-да-шаль. Мне девиц Таких не жаль! Ще-да-ще. От меня ей Не оправиться вообще! И вообще: Гладь-гладь-гладь Ладони, Глядь-глядь-глядь На перси, Тать-тать-тать Сердечко, Тронь-тронь-тронь Привычку, Еть-еть-еть. Бл…дь. Она только моя и таковой останется.Слушай, ну и зачем тебе оттуда пишут? Почему люди такие нелюди, не желают оставить в покое человека, которого они обидели? Откуда такая негуманность? Это чувство вины так мордует? Тебе бы временно эвакуировать себя, няней-не-няней, Индия-не-Индия… Или нужно это выспать. Сон — спасительная штука. Как думаешь, почему люди не впадают в спячку? Как звери или муми-тролли. Не только зимами, но и депрессиями. Когда что-то случилось или не получилось. Вот приду к врачу и скажу: нуждаюсь — и мне назначат сон на пару месяцев. Справку на работу — отказать не смогут. Начальство подожмет губы, но куда деваться. Официальная спячка. Отдел кадров оформит «сонный лист». Оплачиваемая спячка. Запрусь дома, сделаю влажную уборку. Хорошо проверю плиту, утюг, краны, выключу телефон, сначала оповестив всех, что собираюсь впасть в сон, — письмами и обязательным постом в «ФБ». Специальный такой будет там статус: hibernation. Балкон тоже проверю. Приоткрою везде окна, привяжу их на леску, чтобы не распахивались на полную ветрами-вьюгами и не болтались шумно. Закрою плотные шторы. Поужинаю каким-нибудь бескостным мясом с салатными листьями, не объемся. Оденусь в байковую пижаму (конечно, без нижнего белья) и шерстяные носки. Схожу в туалет. Накроюсь двумя одеялами. Зафиксирую свою голову между двумя подушками — удобно и хорошо предохраняет от холода, шума. А может, даже надену вязаную шапочку. И засну. Надо только решить вопрос с будильником.
7
От Саши принялись уходить родинки. Сначала секретная — из того места, которое Евгеньев называл «привычкой», — потом еще одна из пупка, потом остальные: с плеч, спины, головы, лица и рук. Начали расползаться волосы, тощать конечности, выпирать скулы. Глаза же посветлели от прущего из них счастливого света. Саша постоянно теперь улыбалась и не способна была ничего сотворить со своим лицом. Летала по Москве, вжих-вжих крылами-невидимками — на нее оборачивались все мужчины и женщины. Забывала, как добиралась откуда-нибудь куда-нибудь. Сделалась жадной до заказов, чтобы больше сидеть работать где-нибудь в кафе или библиотеке и не идти домой. Муж твердил, что она слишком много работает и ей надо отдыхать. Про родинки — ничего не заметил, родненький. Чтобы не ссохнуть с ума, Саша пошла просить совета.
Паб рядом с «Фаланстером» набух от молодых и начитанных мужиков. Саша встретилась тут с институтской подругой Аней рассказать, что любит человека в кофте на молнии с застежкой и что видела его только раз в жизни. Аня — романтик, живущая в России не более двух месяцев в году, — разулыбалась и посоветовала Саше срочно ехать к человеку своему. Про родинки — ничего не заметила, родненькая.
Подмосковный дом полнился встроенной жизнью со встроенной техникой и игрушечной военной. Саша тут встретилась со школьной подругой Настей рассказать, что любит человека в кофте на молнии с застежкой и что видела его только раз в жизни. Настя — умница-продумка, сразу-после-школы-замужняя, шея-мужа, мать-сына, на хорошем счету на местной службе, нахмурилась и посоветовала Саше срочно родить от мужа. И взять наконец ипотеку. Про родинки — ничего не заметила, родненькая.
Высокая двушка на «Пионерской» пахла пионами. Саша не хотела ехать, но больше было некуда. Саша встретилась тут с Ниной рассказать, что любит человека в кофте на молнии с застежкой и что видела его только раз в жизни. Нина сразу спросила: что с родинками, родненькая? Восемь лет без права хорошего разговора, только вброс сарказмов на вечерах общих друзей. Нина подавала, Саша роняла. А как же муж? Обпился луж? Как этот твой зануда? Ну да, ну да! Против этого не было равных сил ответить.
Саша всегда была из странных, Нина — из удивительных. От Нины двигались крышами разнополые люди. Нина чаровала. Саша часто приезжала гостить на «Пионерскую» по приглашению. Однажды Нина перестала ее звать. Саша не любила навязываться. Переживала — пережила. Скоро встретила Сашу. С Ниной с тех пор не встречались.
Давно слышала, что Нина не пишет больше журналистом, а зарабатывает дивным увлечением. Увидев серую-пресерую, тонкую-претонкую Сашу с сухим медным хвостом и подожженными глазами, Нина сразу почуяла, что не ее чары тут сработали. Понюхала-посмотрела-погуляла вокруг бывшей подруги и сказала, что Сашу присушили. Любовным заговором. Присушенная Саша. И не от любви, а от сильной злобы. Человек Сашин сам писал-старался. Отомстил и/или развлекся. Одно хорошо — выдохся. Без любви-то попробуй долго кого сушить.
Нина разлила чай между ними. Саша молча поглядела мимо мира. Нина посоветовала поехать, поговорить и попросить прощения. Просто запихнуть гордость в задний карман джинсов и поехать. Чтобы написал отсушку. Никак иначе с такой мощной злобой, родительницей любви. Саша мяла, мучила руками старомодную скатерть. Нина отмахнулась от домовихи, пытающейся стащить скатерть со стола (та гладила ее все утро). Роняя слезы и заламывая лапы, та утопала на кухню. Саша вырезала ртом на воздухе, что напишет отсушки сама. Нина рассмеялась, потом посуровела. Не сработает, даже если тексты хорошие. Кто присушил, тот и отсушивает. Это не поэтический слэм, это настоящая жизнь. Возможно, самая настоящая из тех, что у нас есть.
Саша так долго молчала и смотрела мимо мира, что даже заметила мельком да боковым зрением цветастую юбку домовихи сквозь кухонный проем — будто показалось от оранжевых пятен полузакрытых глаз. Нина вдруг легла лицом на скатерть, пододвинула голову и поцеловала Сашину руку. На кухне из мойки что-то выпало-кокнулось. Саша встала, надела пальто с вязаными перчатками и уехала домой. Нина долго ругала домовиху за разбитую тарелку.
7.1
Матушка-речка — тонкая ручка, Скорым потоком Схвати тоску-патоку Рабы Божьей Александры С серого лица, с мятого сердца, С мутных очей, с редких бровей, С ярцевых, с мозговых Семидесяти семи суставов. Быстрою рыбой Унеси тоску-паука В низовье-приоконье, Оконье-за-аканье, В море-окиян, И на сон, на угомон, На доброе здоровье.Жаль, Оль, что ты уже третью неделю не можешь ко мне приехать. Столько всего случилось в мире жутчайшего с тех пор, что все наши человеческие проблемы кажутся ерундой. Нам-берегим-себям. Аминь.
8
Каллиграфия костлявых рук Анны Геннадьевны притягивала солнце и загибала тени. Поля лезли в окна машины, водитель почихивал от цветения. Анна Геннадьевна нервничала и радовалась одновременно, что устроила это путешествие. Палочкой выцарапывала мысли на днище автомобиля. На тощих старческих ножках котом спал рано-утренний пирог с вишней. Щекастая Саша улыбалась своей слабости не отказывать. Валялась бы по-субботнему с Сашей, покусывала бы его сны и слушала бы ворон. Анна Геннадьевна — вор семейного выходного, как мысли читала, — елозила как пятилетняя и наконец уронила палку. Саша нагнулась, водитель разобрал в зеркале за майкой и кельтским амулетом рыжие соски, чихнул. Саша выиграла загибающемуся-изгибающемуся музею рукописей Анны Геннадьевны грант-на-молодость и бесплатно сделала там проект. Анна Геннадьевна канцеляристом лучших московских душ занесла Сашу в свой список. Водитель задумался, что левый Сашин сосок шире-больше правого, как, с очевидностью, и грудь, и пропустил поворот. Автомобиль попятился обратно, влез на правильную дорогу и двинулся к указанному городу Л. Анна Геннадьевна приняла знак за знак и принялась рассказывать про другого человека из списка своего, любимого знакомца, тоже настоящего. Всем лучшим душам да толпиться вместе. Только не знаем в каком, подкиношила Саша.
Краеведческий музей города Л. находился на краю города Л. в овраге. Умалишенный помещик, прячась от воображаемых врагов, построил в XIX веке тут большой деревянный дом. Овраг вился прямиком в заболоченный пруд, где помещик однажды утоп. При Советах в доме гнездовалась библиотека. Книги пили влагу, их приходилось часто менять. В 90-е челноки здесь складывали шмотки, но из-за сырости вещи то растягивались до скатерти, то садились до детского размера. Дорога — через поле, не подъедешь на «Газели». Дом заколотили. В 2010-м из Москвы вернулся историк Пряжин, любовник своей малой родины. Выгреб мусор, перетянул проводку, натащил обогревателей и старых вещиц. Родил вместе с родиной краеведческий музей.
Овраг задыхался от крапивы. Пряжин вел гостей по тоненькому его дну и сказывал сказки. Про помещика-утопленника, про библиотекарей-партизан, про кикимору, кочующую по этой самой дорожке между прудом и домом. Вместо кикиморы встретили змею, Саша встала как вкопанная, Пряжин тоже, Анна Геннадьевна ударила палкой в землю, и гадина уползла.
На веранде Пряжин поил гостей чаем с пирогом Анны Геннадьевны. Сашу ели местные комары. Кельтский амулет не помогал. У Пряжина полон овраг красот-историй. Саша теряла кровь. Зоркая Анна Геннадьевна встрепенулась андрюшечкой-не-терпится. При входе за столом нависала суровая билетница с гулей на затылке, в роговых очках и шерстяном костюме. За ее спиной вел обратный отсчет календарь с котятами. В начале экспозиции на стуле торчала умакияженная желтоволосая девица в красном сарафане и с квадратной челкой. Она читала журнал про женские руки, груди, губы, ноги, волосы и сапоги. Саша верила, что полиграфия — всегда про то, что в ней нарисовано. Пряжин кивнул экскурсоводу-девице посиживать и повел гостей сам.
Исторический скарб и фотографии мусорили помещичий интерьер. То от барина, то от народа. Пряжин прядил рассказ свой, а Саша чувствовала, как дом болеет от выросшей у него внутри барахолки. Местный домовой просыпал в историческом корыте визит московских гостей. Его пнула кикимора, съевшая на тропинке напугавшую всех змею. Домовой не проснулся. Саша свесилась с деревянной лестницы, чтобы рассмотреть зажатое между этажами фото. В воздухе повис амулет-кельт. До него дотронулась когтистая лапа кикиморы. Пряжин, делая вид, что гоняет комара, шлепнул болотную по конечности. Кикимора показала острый птичий язык и пошла доедать московский пирог. Концепции не было, экспозиции не было, значит, музея тоже. Умная Анна Геннадьевна надеялась, что Саша для ее любимого Пряжина сотворит чудо, как для нее когда-то. Саше тут, кроме овражьего факта, не за что было цепляться. Дом-в-овраге как дом-со-львом? Пряжин умел говорить, это не заговаривало от музейного отсутствия.
Главное-заглавное, Саша не хотела с этим работать. Провинция ничем не провинилась. В Москве такого добра в самом центре было навалом, да еще без горящих пряжинских глаз и складных речей. Может, украденный выходной, может, комары. Все тут карябало-раздражало: тетка с гулей, календарные котята, девица-челка с журналом, дурацкое барахло в витринах и жуткая кофта Пряжина — верблюжьего цвета, хозяину маловатая, будто тоже севшая от неминуемой сырости, на высокой, под горло, молнии с собачкой, которая звякала то и дело.
После экскурсии Саша одна за домом в овраге смеялась и рассказывала все это Саше по телефону. Он смеялся в ответ. Начать ребрендинг с кофты? С котят? Музей хлама, музей фигни, музей в яме, музей-овраг? Пряжин слушал Сашу из туалета, воткнутого в крайний правый домовый бок, и плакал. Кикимора сидела между ними на лавке и рыгала от смеси вишневого пирога и полоза.
8.1
Как глаз с глазом Не видятся, Как эхо с мыслью Не слышатся, Как дерево с забором Не пересекаются, Как брат с сестрой Не женятся, Как собака с кошкой Не дружатся, Как мертвый с живым Не сживаются, Так и рабе Божьей Александре разойтись всеми Путями с человеком своим. Так и рабе Божьей Александре не думать, Не помнить, не плакать О человеке своем. Так и рабе Божьей Александре Навсегда отсохнуть от человека своего.Я часто представляю, как вы в Норвегии жили в палатках. Снусмумричанье такое прекрасное. Просыпаешься на фьорде, переходишь с места на место. Котелочек позвякивает. Перелетаешь, как в клипе Бьорк, с одного холма на другой. Хотя Снусмумрику главное, конечно, одиночество, а не твое любимое шумно-палаточное шестидесятничанье. Я постоянно думаю о том, чтобы все бросить и уехать, жить без всех и всего. Никаких травм, обид, злоб, предательств, возгораний, затуханий, стыдов и стыдобищ — и их источников-возбудителей людей. Полная нежная изоляция. Но, блин, проще простого в одиночестве, без «мира-троганья» быть хорошей, благородной, красивой, интеллигентной, образованной, сексуальной и Бог знает какой еще. А после возвращаешься к людям и не можешь иметь с ними никаких отношений, даже в магазине не способна купить хлеба. У Снусмумрика не случалось серьезной профессиональной деформации одиночки — приходил в муми-семью и вел себя как мудрый, хороший, понимающий друг. В этом — его высший класс. Так работает достойное затворничество. До такого еще расти и расти. Но тут, в реальном мире, даже Сэлинджер не справится. Не снусмумричание, не сэлинджерование. Затворничество — зло, при постоянстве своем вызывает стагнацию. Внутренний Советский Союз. А я не хочу быть Советским Союзом. А у тебя, к счастью, не получится. Ты любишь людей и не боишься их. Оттого — забей. Это отсеивание. Найдется еще настоящий человек твой.
9
Квартира — безлюдная. Саша себя не считала. Села коленями на пол и принялась выть-смеяться вперемешку. Больно-счастливо. Ужас-радость. В ушах звенела застежка от молнии. Сухая-колкая трава забила нос, рот и горло. Воздуха не хватало. Домовой валялся рядом и повторял за Сашей вой, смех и задыхание. Верил: это такой лечебный обряд. Соленая вода капала не красиво, а текла постоянным потоком по щекам, шее и лезла под ворот рубахи. Из носа тоже текло в рот и дальше ниже. Вместе с водой из Саши выходил воздух, а вместе с ним — как будто и душа. Та и правда свесила ноги из Сашиной груди и принялась ими болтать, лягая хозяйкин живот. Домовой оторопел от такого, перестал повторять за Сашей и растопырил пасть. Саша сидела, чуть покачиваясь змеей, как молилась. О-о-о-о-о…ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-е-е-… Еще и звенела застежка… Е-ев-ев-ев… Звенела застежка… Е-ев-евгеньев! Саша выплюнула и сама испугалась: почему, отчего Евгеньев?! Но сразу после озвучивания Евгеньева стало легче, задышалось, отпустило, а душа влезла обратно в тело. Саша вытянулась на полу лицом в ламинат. Залаял телефон. Ну как, фигово и радостно? Фигово и радостно, повторила за Ниной Саша… И заговоры пишешь — не работают? Не работают, повторила за Ниной Саша. Пора тебе в путь-дорогу, это же не больше пяти часов на автобусе. Или семь на поезде. На поезде, повторила за Ниной Саша. По-другому не избавишься от Евгеньева своего. Кто такой Евгеньев?! — тихонько закричала Саша. У тебя там звенит что-то сильно. Почему Евгеньев?! — тихонько закричала Саша. Звенит что-то, Саш, не слышно, пока, удачи. Саша встала на ноги и пошла к метро покупать черные-тонкие сигареты.
9.1
Развязываюсь — не навязываюсь, С тоской — сухой доской, Где меня засушили. Развязываюсь — не навязываюсь, С памятью — крепкой нитью, Которой меня заковали. Развязываюсь — не навязываюсь, С любовью — железной обувью, Что на меня надели. Развязываюсь — не навязываюсь, Со страстью — рыбной пастью, Которой меня проглотили. Развязываюсь с человеком моим, Не навязываюсь человеку моему. Аминь.Как жаль, что ты не хочешь меня слушать. С глаз долой — из сердца вон. Работает ведь. Зачем ты продолжаешь там общаться, чего ты хочешь добиться? Подумай о себе, нужно начать думать о себе. Тебя ранили, ты сама ковыряешь рану, да еще на глазах у тех людей, которые тебя обидели и обманули. Может, процесс самомуки есть естественный способ добить себя и переродиться? Иначе зачем мы каждый раз этим занимаемся? А еще алкоголь и сигареты. Потом вспоминать будем, как странный ненужный сон. Знаешь, я могу сколько угодно продолжать ругать тебя-себя, но все эти наши глупости и самомуки очень ценны, ибо они есть проявление нормальной жизни. Война или тюрьма. Любовные радости, как и любовные страдания, проваливаются. Они для обычной жизни, экстра. Что происходит за нормой жизни, в котловане? Скучаешь ли ты по человеку своему? Страдаешь именно потому, что любишь и никогда не увидишь? Мучаешься ли от отсутствия физической близости с человеком своим? Думаешь ли про измены, обиды, вспоминаешь, ревнуешь? Страдаешь, если любовь человека твоего безответна была с самого начала или стала безответна со временем? Или все забирается невыносимым трудом, голодом, страхом? Не до этого? Все это я к такой банальности, что это радость: можем позволить себе свои простые человеческие страдания.
10
Саша сохла по человеку своему. Он не снился ей во сне вовсе. Если уж не видеть, не обнимать, не целовать, не ласкать человека своего, то хотя бы кликать, рассматривать, лайкать. Решила не ходить работать, а остаться дома, но не работать дома, а охотиться за следом того, кто нужнее всего. По привычке стала искать в «Фейсбуке», но там не оказалось нужного лица, а других — весь Сашин мир. И Сашин Саша, и все ее друзья, и коллеги, и Нина, и Анна Геннадьевна. Друзья друзей, знакомые знакомых, коллеги друзей, знакомые друзей, коллеги знакомых, друзья коллег. Но только не было человека ее. Нашелся во «ВКонтакте». Тут же зарегистрировалась. Тут нравится, там любят. Там сердца черви, тут пальцы агента Купера. Иностранный агент тут ни при чем. По два часа Саша трогала глазами каждую фотографию. Отходила покурить и снова за свое. Солнце ушло домой с работы, в Саше прогремел будильник. Кинулась на кухню, скормила ледяной фарш микроволновке, снова побежала смотреть фото. Поставила воду на плиту. Снова притулилась курить на балконе. Побаловала себя фото. Засыпала макароны в булькающий кипяток. Домовой попробовал курить, скривил морду. Саша обняла фотографию в ноутбуке, покромсала лук, помидоры, потушила их вместе. Посолила. Сходила покурить, не заметив на один непрокуренный окурок больше. Перемешала, посолила, добавила сметаны, перемешала. Посмотрела изображения человека своего. Посолила, добавила базилика. Сходила к компьютеру, кликнула следующее фото, посмотрела на лик. Переложила соус в плошку. Бросила на сковородку фарш, посолила, покурила, посмотрела на фото, помешала фарш, посолила, поглядела на фото, помешала фарш, взглянула на изображение, посолила, вспомнила про макароны, слила воду, вспомнила про фарш, Саша вернулся с работы, открыл дверь, Саша бегом закрыла окно в ноутбуке.
За все девять лет Саша никогда не повысил голос на Сашу, но сегодня скривил лицо и стал кричать про пересоленный ужин и курение (запах шептал с балкона). Саша ужом на сковородке сидела на стуле, стыдилась: быстро проявилась вечно виноватая и вечно обязанная русская баба. Но вдруг вспомнила про себя, кто она и зачем она и что сделала и может сделать, — и тут изумилась и разобиделась. Вроде не до того, ей бы пропустить, но все равно нежданно и нечестно. Она ему — ужин, а он — скандал. Обидно? Это пока! Добро пожаловать, сестра! Мы все так ужинаем со своими мужьями. Это вам только так кажется, что вы другие, выросли в открытой (заново) стране, в свободной свободе, а все вы — на самом деле мы. Саша кричал-кричал, злость засаливалась.
Саша принялась отковыривать глазами от мужа этого мерзкого мужика и тащить из памяти своего девять-лет-любимого. Вытащила: в Лондоне, голуби, Темза, рыбьим скелетом мост от Tate до святого Павла, бежим-бежим наперегонки, покупаем у арабского парня два кебаба, он говорит, что Россия — сильная страна, а у нас сильная любовь, запиваем колой на мягкой деревянной лавочке, смотрим через Темзу, как Tate тянется к Богу, целуемся сами и кусаем кебабы друг друга. Вспомнив, Саша заплакала и рассказала про все: застежку, заговоры, человека своего, сухую солому в горле, родинки и даже нож. Доказательства ради принялась показывать все места, где родинки крепились раньше. Лихая, дикая боль выстрелила в оба Сашиных виска, в голове забило бубном. Саша понял только, что Саша его не любит больше, полюбила другого и врет ересью про заговоры и прочую ерунду. Унижает его такой вранью. И вдруг он в секунду обессилел, без способности кричать и злиться никогда дальше. Сказал только, что не было у Саши никаких родинок. Мощный порыв схватил Сашу и его рюкзак и выволок из Сашиной жизни.
10.1
Выйду за околицу, Посолю землицу, Вырастет там деревце, Вместо листьев — лица. Соль-соль, Соль-соль, Моя сохлая душа Да совсем засолена. Соль-соль, Соль-соль, Да совсем засолена. Обойду я деревце, Посмотрю на лица, Выберу знакомицу, Мой близнец — девица. Соль-соль, Соль-соль, Моя сохлая душа Да совсем засолена. Соль-соль, Соль-соль, Да совсем засолена. Обойду я деревце, Погляжу на лица, Разыщу знакомца, Гордая он птица. Соль-соль, Соль-соль, Моя сохлая душа Да совсем засолена. Соль-соль, Соль-соль, Да совсем засолена. Сорву первое лицо, Спрячу в с-дверцею-кольцо, Сорву дру́гое лицо, Закопаю под крыльцо. На одном деревце не виделись, Не увидятся, На одном деревце не слышались, Не услышатся. Никогда не встретятся, Ни в соли, ни в боли, Ни в радости Раба Божья Александра, С рабом Божьим, человеком Своим Евгеньевым. Аминь.11
Овраг наглотался первого снега. Когда Саша вошла в дом, Пряжин не удивился, не испугался и не обрадовался. Он сидел один вместо билетницы. Календарных котят не было, вместо них календарные храмы благословляли нынешний декабрь. Сашино сердце забилось в конвульсиях об окружающие органы. Она увидела человека своего и, не справившись со счастьем, пустилась улыбаться. Пряжин потеплел в ответ. Поил Сашу чаем в крохе-кухне, на веранде — снежно, угощал черствыми сушками. Саше показалось, что на человеке ее — лучший свитер на свете без застежки. И вообще как красив человек ее. Разговаривались-разговаривались до всего на свете (как хорошо разговаривает человек ее). Лучшие души толпятся вместе в овраге. Саша не унималась про поезд, на котором сюда ехала, про Москву, в которой жила, про людей, с которыми дружила или/и работала. Вспомнили, что забыли про концепцию. Анна Геннадьевна не проследила, застряла навсегда в узлах и закрутах парижских эмигрантских архивов, которые ее малютке-музею вдруг передали. Саша расчеркалась на скатерти-журнале, разбросалась мыслями, смыслами, разрисовалась эскизами, планами комнат. Евгеньев заулыбался Зазнохе (а какая красивая улыбка у человека ее), понял, что она всё теперь для него сделает. Взять за руку — укрепить? Или помрет от счастья?
В кроху-кухню втиснулась девица с квадратной челкой. Взволнованно глянула на свой журнал, исчерканный будущим овражьего музея. Пряжин пододвинул ей табурет. Она принялась кусать бутерброд. Саша рассматривала ее синюю рифленую водолазку под горло и серебристые брюки. Пряжин представил Саше Женю-жену. Оттуда-вот-откуда родился Евгеньев. Всего-то-навсего Женин-муж. Словозащита. Дожевав бутерброд, Женя зацепила журнал выпиленными пальцами, выбралась из-за стола и ушла в туалет. Евгеньев сидел и смотрел, как подыхает его Зазноха. Душа лезла сразу наверх из макушки, сердце прыгнуло в матку, кости атаковали дом-тело мелкой дрожью. Евгеньев молча налил Саше воды в пустую чашку. Саша с тяжелым трудом отпила — обожглась, вскрикнула, резко встала, схватила куртку и выбежала из дома. Евгеньев молча и быстро пошел за ней. Во дворе Саша увидела кикимору, сидящую на заборе в старой шубе евгеньевской мамы. Кикимора пыталась раскусить заледенелого воробья острыми зубьями. Заметив смотрящую на нее Сашу, болотная удивилась и сказала: «Хэ!» Евгеньев вышел на веранду, Саша бросилась по снегу к лестнице, тащащей прочь из оврага.
Это большая радость, что ты не думаешь о самоубийстве. Не только сейчас, а никогда о нем не помышляла. То есть такого выхода для тебя не существует. Я с детства его примеряю, пинаю, разглядываю — как возможный способ не решать проблемы, как социальное явление, как доказательство собственной душевной болезни, как посмертный перфоманс для близких и не понимающих. Но это все от слабости в душе и коленках. А вообще от такого вмиг лечит Муми-мама. Нафиг небо Аустерлица, это надо еще себе устроить, чтобы лежать, глядеть и все понять. Туве Янссон круче Толстого. Комета? Ну и чего? Муми-мама обязательно что-нибудь придумает. Если за тобой Муми-мама — то ничего не страшно, и до мыслей о самоубийстве никогда не додумаешься. Когда Муми-мама ждет тебя дома, она может принять вид настоящей мамы, или мужика, или женщины, или ребенка, или друзей, или даже кастрированного кота. Подойдешь, обнимешь свою Муми-маму, и все люди и их гадости вмиг исчезнут. Муми-мама — это настоящее бытовое волшебство. Добрый магический реализм. Нам никого другого и не нужно. Предлагаю тост за то, чтобы у каждого была своя Муми-мама.
12
Квартира скрипела пустотой. Домовой, не выдержав нервами, впал в спячку за батареей в ванной. Саша выпила две бутылки вина, но они не работали так, как в юности. На половине третьей Саша поняла, что не пьянеет. Сигареты между глотками не помогали. Курила прямо в комнате. Голову отлили из чугуна — голова статуи с человеческим телом. Сон не давался, есть не хотелось. Телефон закашлял, Нина предложила: 1) приехать, 2) найти-привезти Сашу, 3) поговорить с Евгеньевым. Саша отклонила: нужно, чтобы все ее оставили одну. Нина больно и неприятно ударилась о такую негаданную твердость и пожелала удачи.
Саша ученицей села за стол, снова глядеть мимо мира. Бессонница прыгала с люстры на штору и обратно. Вино стояло чернилами рядом. Саша пальцами вдавила себе глаза внутрь черепа, полюбовалась оранжевыми фигнями-пятнами, поднялась, в чем была вышла на балкон. Солнце кололо глаза, люди чередовали ноги по припудренной улице. Все медленно таяло, снежинки умирали, некалендарная весна терла заспанные глаза. Саша перегнулась вниз. Дети несли рюкзаки из школы, тетка пятилась с сумками из «Пятерочки», молодуха толкала коляску и учила ребенка фразе дорожно-транспортное-происшествие. Саша дотронулась до пластиковой кормушки, от прикосновения та вдруг разлетелась вдребезги и мелкими кусками рухнула на пачканый снег. В балконную дверь изнутри стеклянно стукнули три раза. Саша обернулась и увидела себя же — бумажно-белую, с черняка́ми под глазами, в старых джинсах и мятой рубашке, — смотрящую на себя из комнаты.
Вернулась в квартиру, села за стол. Ноутбук был принесен на стол и открыт. Быстро-нервно Саша принялась спешить по клавишам, будто кто-то ее ждал в коридоре в одежде или в подъезде, куря у подоконника. Писать рукой давно разучилась. Жизнь кровоточила минутами, часами и десятками часов. Саша мяла-мяла пластиковые буквы. Разные птицы садились на балкон, боками голов глядели на веревочку, за которую в былые времена крепилась кормушка, сетовали, что негде больше столоваться. Воробьи, вороны, голуби, синицы, карги прилетали, сидели, молчали, на Сашу смотрели. Кто посмелее, покрикивал. Как-то прибалконился гамаюн с головой красивой бабы. Ему уже рассказали и даже процитировали что-то из Сашиной рукописи, и ему ужасно захотелось поглядеть на Зазноху. Саша ему не понравилась — плохо одета, нечесана, некрашена, без блеска, разве что в температурных глазах стояла, не уходила вода. У самого гамаюна — алые губы и золоченое монисто. Чудо-птица прошипела на всю округу, чтобы ни одна смертная пернатая тварь больше не прилетела мешать Зазнохе. Гамаюн сделал круг и подался южнее — глядеть на Евгеньева.
12.1
Во имя Отца, Сына, Святого духа. В тридесятом, на окраине тридевятого — выползу из-под земли, хвост подберу. Подойду у метро к невидимому рынку. Увижу я невидимого торговца. Попрошу у невидимого торговца показать товары. Тот взмахнет рукой — а товаров у него видимо-невидимо! Чего только там нет: бокс для обедов пластиковый, «Нокия»-кирпич 3310, восемь роллов «Калифорния», все золото Калифорнии, очки без одной дужки, наличник с отметками ростовыми, абортированный младенец дышащий, наличные в разной валюте, с Черкизовского рынка свадебное платье, из паба Ye Cracke пивной костер, альбом Земфиры номер один и многое множество всего. И найдется среди всего скарба тряпочный человек мой. Хрупенький, хиленький, потрепанный человек мой. Нитки по краям лезут из человека моего. Глаза — пуговички. Руки мои затрясутся, глаза до луны расширятся. Увидит это невидимый продавец, заломит цену. Жизнь мою попросит. Не видать моей жизни торговцу невидимому; зачем мне человек мой без жизни моей? Подумает невидимый торговец, попробует увидеть выгоду. Попросит остатки молодости моей. Не видать остатков моей молодости торговцу невидимому; как я буду с человеком моим без короткой молодости моей? Подумает невидимый торговец, попробует увидеть еще какую-нибудь выгоду. Попросит счастье мое. Разозлюсь я на торговца невидимого, ударю его хвостом. Не видать счастья моего торговцу невидимому; как я буду с человеком моим без счастья моего?! Улыбнется невидимо торговец невидимый: так и будешь, видимо! Отдай мне, отдай мне человека моего тряпочного, хиленького, с нитками торчащими, глазами-пуговичками! Меняю на счастье человека моего, ибо им только счастлива и буду. Аминь.
13
Нина пила чай и тупила в своей профессиональной социальной сети, которая работала без интернета, без тарелок-яблок и без зеркал. Скорее, снилась Нине наяву. Домовые выли по эмигрировавшим хозяевам, замученные мертвые сетовали на напрасную свою жертву — раз всё так быстро вернулось, — лешие выкладывали фото вырубленных под трассы и дворцы лесов, черти блекло радовались — им неудобно было оттого, что люди сами делали их работу. Нина загрустила, вспомнила про клиентку-юристку, обещавшую помочь-купить дом в Риге и справить все документы. Вдруг наткнулась на первый Сашин любовный заговор, прочла, пронунукала и захохотала. Лайкнула — «годится».
12.2
То ли день, то ли ночь. Не вразумлю. Господь мой, Спаситель, Иисус Христос, помоги рабе Твоей! То ли я, то ли другой кто-то. Не вразумлю. Точит меня тоска беспробудная. В той стороне или в этой, то ли на севере, то ли на юге, есть то ли в море, то ли в океане — не тонет остров. То ли каменный, то ли земляной. На том острове то ли град, то ли лес. То ли пес, то ли лис кости тонкие зубами точит. Кости те всех людей: от языка, ушей и мест срамных, которые раньше с костями были, а потом без них научились. То ли пес, то ли лис — махонький: каждая кость ему что дерево, а точит справно да яростно. То ли от голода, то ли от усердия. Вот так точит меня тоска моя. То и есть тоска моя. Пусть его, моего человека, раба Божия, тоска точит, как меня, рабу Божью, — голодно, яростно, добела. Пусть обо мне только все думы человека моего, обо мне все только боли человека моего, обо мне все только сны человека моего, вся его жизнь. Аминь.
14
Однажды тревожно закричал телефон, хоть давно уже разрядился. Саша забыла прежние звуки и что они означают, но воспроизвела жест поднятия трубки.
— Ты что, сука, делаешь?
Это Евгеньев, дрожа голосом, сказал из «Нокии». Саша нежно улыбнулась ему и отключила гаджет.
12.3
Вокруг спать ложатся, и только я не ложусь, раба Божия. Ложкой ковыряю сердца тугие, на сковороде тушу-переворачиваю. Ложкой подношу к губам своим, дую-остужаю, целую-надкусываю. Вокруг спать ложатся. Ложе у кого занятое, у меня свободное. Не для всех свободное, а для человека моего, раба Божия. Сердца дымят, постанывают. Пускай так же пылает сердце человека моего. Пускай придет человек мой, ляжет в ложе мое, поцелую ему сердце, надкушу — на всю жизнь хватит. Аминь.
15
Саша печатала-печатала, по лбу, по губам, по сердцу, по животу, по привычке. Остановилась, заметила вернувшуюся на руку родинку.
12.4
Выйду я, раба Божия, на край света ранним утром. Покрошу я краюшку хлеба Божьим птицам. Воробьи сбегутся, милые, зачирикают. Зажгу сигарету. Буду алым ртом вдыхать дым горький и тягучий, поддерживать жизнь-горение. Гори-гори, пламенем острым точи, поджигай! Воробьи-воробьи желтоглазые! Поделитесь перышком, подпалю я перышко, подожгу, вам верну. Летите, верные, повыше, чем бываете, передайте перышко братьям вашим по крови и братьям вашим по небу — пусть летят, найдут его, человека моего. Две ноги, две руки, одно сердце, один живот. Пусть донесут ему перышко горящее, а в нем — образ мой светлоликий, светловласый. Пусть выклюют сердце человеку моему, разобьют сердце, милому. Перышко горящее — в нем светлоликий-светловласый образ мой — положите в сердце человеку моему и зашейте нитями паучьими. Чтобы обо мне оно заболело, чтобы любовь его ко мне разгоралась в сердце человека моего. Закурю вторую. Покрошу краюшку другую. Буду алым ртом вдыхать-вдыхать дым горький и тягучий, поддерживать жизнь-горение. Гори-гори, пламенем острым сердце человеку моему точи, поджигай! Голуби-голуби серогрудые! Подпалю и ваше перышко сигаретой, одолжите! Передайте его братьям вашим дальним, ширококрылым: пусть отнесут его человеку моему, расклюют живот его низко, положат туда перышко горящее с устами моими, ладонями моими, персями моими. Чтобы обо мне горел живот его, чтобы страсть ко мне зародилась и не потухала у человека моего. Закурю и третью. В рукаве найду, покрошу краюшку еще одну. Буду алым ртом вдыхать-вдыхать дым горький и тягучий, поддерживать жизнь-горение. Гори-гори, пламенем-языками низ-живот человеку моему, поджигай! Вороны-вороны черноперые! И вы отдайте мне перо свое острое: подожгу — вам ворочу. Одного мало мне будет — давайте с каждого по одному! Вас десять, и перьев десять! Мало мне перьев, давайте все крылья ваши! Вас десять, крыльев двадцать! Курю — вдыхаю — крылья ваши поджигаю! Летите сами прямиком к человеку моему! Камнем падайте, не троньте человека моего, чтоб целехонький мне достался, а всё вокруг него жгите. Чтоб ни души, никакого дела не осталось подле него. Гори-гори, подругу, ребенка, друга прогони от человека моего. Гори-гори, мысли лишние, ненужные задымляй у человека моего. Чтоб ко мне только его страсть горела. Чтоб для меня только его жизнь горела! Аминь!
Заговоры — это народная поэзия, но не блатная, не дворовая, а какой-то высокой культуры. Народная и высокой культуры — парадокс? Заговоры бывают для всего и от всего на свете. От тоски (думы), головной и зубной боли, лихорадки, диареи и прочего. Моя мордовская прабабка в Чардыме успешно заговаривала чирьи. Заговаривают от врагов, от смерти, от сглаза, от болезней, от дурного человека. Заговаривают оружие для победы. Любовные заговоры. Антилюбовные заговоры — отсушки. Есть целый специальный раздел сельскозяйственных заговоров: от различных болезней скота, для урожая, для дождя. Погодные заговоры — тоже отдельная история. Чтобы угомонить ветер, нужно объяснить ему, что его бабушка жива. Ремизов: «Успокойся, ветер горький, утиши свой трепет звонкий, ветер, страшно!.. заклинаю… Ветер, бабушка жива!» Чтобы привлечь ветер, нужно сказать ему, что его бабку похоронили в расколотом гробу — он тут же прилетит разбираться.
Заговоры, так заведено, работают по определенным правилам. Когда зубы заговаривают, обращаются именно к мертвым. Чтобы заговорить болезни, просят святых, те болезни отстреливают, именно отстреливают, чаще всего из лука. При любовных заговорах присушивают (говорят про сушение трав в бане и прочем подобном), или разжигают страсть (используют в текстах образы огня), или вызывают тоску. Икоту негуманно перекладывают на незнакомцев, этот заговор остался в речи: «Икота-икота, перейди на Федота…» Болезни спихивают на животных и птиц, например, вот так: «У того-то пройди, у сороки заболи…» Я думаю, что эффективность заговора зависит не от следования условиям и даже не от качества текста, а от личной страсти. «Если мне хочется — сбудется», — заговаривал наш любимый классик. Но, несмотря на это все, отвечаю тут на твой вопрос: я не думаю, что тебе нужно писать любовные заговоры. Не для того я тебе посылаю этот текст. Пиши, не пиши, никого ты так не вернешь. И незачем.
16
Саша проснулась. На кухне пела посудой и пахла едой Муми-мама. Саша понадеялась, что это Евгеньев. Приподнялась, осмотрелась, оказалась в пижаме. На кровать сел Саша в фартуке, осторожно подложил жене две подушки под спину, Саша пододвинулась и облокотилась. Накатила тоска. Откуда ни возьмись появилась дымящаяся кастрюлька, оттуда же — ложка, Саша молча зачерпнул и поднес бульон к лицу жены. Саша укусила себя за губу и открыла рот. Саша аккуратно принялся кормить ее куриным супом. За меня, за себя, за папу, за маму, за дедушку, даже за человека твоего. Вчера Саша ждал поезда на «Площади революции» и заметил сидящую с книгой девушку. Среди прочих студентка отличалась неприличной женственностью. На открытой юносоветской щиколотке ее, прямо над застежкой, ползла родинка… Дефект материала или скульптор пошутил. Мимо прошла нестарая женщина с прыгающим в тоску лицом, чуть заметно дотронулась до мыса девушкиной туфли и тут же скользнула ладонью по Сашиному бедру. Дальше рукастая втиснулась в упорную толпу и скрылась за челюстями дверей. Вагоны принялись убегать, а Саша вдруг вспомнил все Сашины родинки, по которым раньше — впрочем, теперь опять — мог составить атлас: карта Москвы прямо на макушке справа, наглая жаба-бородавка на лбу слева, карие губы-усмешка на шее, два рыжих запутанных созвездия на левой лопатке, йодная посыпка на плечах, красное лицо девы над прививкой с торчащим волосом-усом, одна шоколадная капля, затекшая на дно пупка-колодца, и та самая, совсем тайная, запятая в привычке.
Саша прислонился к студентке и тоже схватил ее за туфлю, чтобы не повалиться на пол. Были родинки, куда делись? Расползлись улики-улитки, неужели правда? Саша перебежал вброд на другую сторону платформы и приехал домой. Пока мыл Сашу, одевал, укутывал — понял, что родинки тоже вернулись, но не из-за него. Суп кончился, Саша отложил кастрюлю, поднял одеяло, снял с Саши штаны с глупыми коровами и уткнулся носом. Тело Сашино шуршало, Саша слышал ее лишь вполовину, второе ухо выключил отит. Когда Саша дернулась и застыла, Саша оторвал лицо и увидел на привычке родинку. Вечером Саша проснулась. Саша спал рядом одетый. Она перелезла через ноги мужа и взяла в руки свой ноут. Открыла «ВКонтакте». Евгеньев попросил там ее дружбы.
12.5
Пой-пой, поезд! Один в поле воин, Быстро ты ползешь, Человека мне везешь. Человек — не простой, Человек — потайной, Золотой: И такой, и сякой, Оттого что — мой. Рельсы — хорошенькие, прочненькие, Лысый обходчик — трезвенький, В бусах обходчица — выспанная, Ели на насыпь не лезут. Я воду — помыла, Пламя — подпалила, Солнце — осветила, Любовь — полюбила, Смерть — убила, Жизнь — оживила, Язык — заговорила. Все готово, милый. Я — твой бог.17
Декабрь поносило весной. Земля позорилась повсюду неприкрытой коричневой. Снег расползся, лед потрескался, под батареями проснулись пчелы и впадающая в спячку нечисть, в том числе Сашин домовой. Все проспал и не знал, что всем остальным было известно. Домовые, кикиморы, гамаюны, анчутки, лешие, русалки, упыри, мертвецы, черти, Нина и подобные прочие знали: Евгеньев к Зазнохе едет! Евгеньев на Зазнохе женится! Лайк-годится! Тут же возмутились царские и советские клерки-мертвецы: как это так-сяк? Не сженят, не сошьют! Оба в законном браке! Ну вас, уроды, гамаюн всех считал таковыми, зло гремел монистом: закон любви не писан. Евгеньев к Зазнохе едет! Сконтактились, сговорились. Спасибо сетям за любовь — мяучили русалки. Дуры хвостатые, думал гамаюн.
Пряжин, да, собирался ехать сегодня ночью. В городе Л., наоборот, хоть и южнее, зима плясала, вычесывала из себя снежинки. Пряжин бродил по своему музею, рассеянно гладил рукой предметы. Кикимора ходила следом и зло рыгала ему на ухо. Домовой ушел на реку. Билетница грела блины в микроволновке. Женя дома читала книжку. Пряжин решил отправить ей смс из поезда о случившейся Москве. А там само все разрешится и пойдет как пойдет. Под лавкой XIX века пряталась сумка с вещами, кикимора время от времени пинала ее куриной лапой. В семь утра Саша должна была встречать Пряжина на вокзале. Ничего не делала. Сидела за столом, положив руки вниз ладонями. Собрала заранее обычную свою сумку-ковчег. Каждой твари по паре: носки, трусы, документы (загран — просто так). Кошелек лег на дно. Завела заранее будильник на телефоне на 6 утра. Саша в офисе не слышал коллег на встрече. Домовой забрался в шкаф рвать любимый хозяйкин свитер. Он похудел, осунулся, заплешивел и вместе с тем зарос разноцветными волосами, ему тяжело давалась эта история. За стол к Саше подсела она-сама-же и принялась хохотать. Саша передразнила саму себя — хе-хе-ха-ха — и вышла курить на балкон.
Овраг захлебнулся в снеге. Пряжин орудовал лопатой. По прочищенному прилетела толстая билетница, позвала директора в дом. От снежной тяжести лопнули и проломились две доски в пристройке с фондами. Пряжин отыскал запасные деревяшки и инструменты в сарае, запустил руку в пряди гвоздей, понабрал их себе полный рот и принялся чинить-латать крышу. Сквозь дыры в потолке лезла ранняя темень. Саша кормила Сашу курицей с черносливом и картофельным пюре. Потом смотрели «Игры престолов» в кровати. Пряжин возился с досками и другими домовыми делами до девяти вечера. Надо было хорошо все оставить без себя. Билетница давно упорхнула к внуку. Кикимора плюнула в Евгеньева напоследок. Он закрыл дом, быстро вылез из оврага, прошел заросшими белым тропами и поймал попутку на дороге. Думал о Саше и больно читал указатели. В куртке заскребся телефон, Пряжин понадеялся отчего-то, что это Саша. Но оказалось — Женя: редко звонила Пряжину сама, но тут попросила купить масла. Пряжин не решился говорить про Москву и пообещал масло. Вышел у «Магнита» за три остановки до вокзала. Решил, что успеет занести до поезда. Дома Женя смотрела телевизор. Пряжин разогрел борщ и подсел к жене с тарелкой. Саша закапала Саше ухо на ночь. Женя спала рядом, Евгеньев смотрел сериал, следя по часам, как приближается время отправления. Как только поезд тронулся, Пряжину стало легче. Он разбудил жену и разложил диван. В шесть утра пропищал телефонный будильник, Саша вырубила его и вскочила с кровати. Осторожно пробралась до ванной. Умылась, поглядела на себя в зеркало, оттуда улыбнулись и помахали. Вернулась в спальню, легла обратно, обняла Сашу и упала в сон. На балкон прилетел гамаюн, принялся зло греметь монистом и звонко царапаться в окно. Домовой вышел и прогнал чудо-птицу шваброй, потом вернулся в квартиру и заснул под хозяйским диваном. Сегодня выходной день, можно было спать хоть до двух.
Молодец, что ты все же выбралась ко мне. Даже не выпили много, становимся взрослыми. Или старыми. Забыла тебе сказать, что бросила курить. Хорошо, что и тебя отпускает. Не уверена, что тебе нужен новый человек. Впрочем, я всегда радовалась и поражалась твоей регенерации. Главное, чтобы без боли. Сама все понимаешь. Вообще, странный у нас возраст. Вроде бы еще молодость, но уже надо что-то решать.
Про финал тебе расскажу: последние две недели дописывания готовилась к другому финалу. И только на днях решила сделать его жизненным, а не актуальным. Я ж не для театра пишу. В альтернативной версии Евгеньев все же приезжает в Москву и Саша встречает его. Тут же на вокзале они садятся в какой-нибудь круглосуточный фастфуд. Чай в бумажных стаканах, торчащие из них веревки. Саша длинными пальцами связывает их — от-просто-так. Долго разговаривают. Говорит в основном Евгеньев, потому что теперь уже его очередь разговаривать. Возможно, ругаются. Чай стынет. Пытаются понять, как жить дальше, не могут придумать. Саша пытается им забронировать прямо сейчас ближайшую гостиницу через приложение в телефоне. Оказывается, что уже девять и что они проговорили больше двух часов. Вокзал полон людей с чемоданами и без. Подмосковные с измученными лицами идут мимо в город. Wi-fi тут нет, 3G плохо ловится, Саша долго возится с бронью. Евгеньев поднимает голову и смотрит через витрину в зал (кафе упирается одним своим углом прямо к входу). К рамке приближается неясная молодая женщина, встает в хвост. Когда подходит ее очередь, женщина быстро проходит сквозь рамку, та отчаянно пищит, охранник говорит спокойное — что-то вроде «сумку покажите», — и происходит взрыв. А Саша так и не оборачивается, все смотрит на Евгеньева. Так их не становится на этом свете. Может, встретятся на том и там доразберутся. Но все же пусть не встречаются вовсе. Пусть будет жизненно.
17.1
Спаситель истинный, Иисус Христос, благослови! Выйдет ух-девица на реку. Река снизу глубокая, впереди широкая, по бокам безбокая. Снимет ух-девица сеть с головы намотанную, бу́хнет в воду. Раз потащит — вытащит бутыль пластиковую. Снова бу́хнет сеть в воду. Два потащит — достанет скелет человека. В третий раз бу́хнет сеть. Три потащит — достанет щуку-рыбу. Та дышать будет, за жизнь-соломинку цепляться. Додушит ух-девица щуку-рыбу. Домой утащит. Обрежет щуке плавники-вееры, вставит в волосы. Снимет чешуйки с щуки-рыбы, хвост обрежет — по реке плыть до Колывани пустит. Сварит уху из щуки-рыбы, густую-прегустую. Принесет ух-какая ракушку в подоле. На лавку положит ракушку тинную и песчаную. Возьмёт ух-какая и ухой ее щучьей промоет. И не будет никогда ни заторов, ни болей ни у ракушки этой, ни у раба Божьего Александра. Все услышит, все различит. И кукушкины песни на берегу том, и то, что шишка в лесу еловом упала. Аминь.
Ложь-молодежь Повести-близнецы
Повесть I
Лётка, или Хвалынский справочник
Волга — крупнейшая река Европы и одна из самых длинных рек в мире, длиной 3530 км. При впадении в Каспийское море Волга образует дельту, в которой находится Астраханский государственный природный биосферный заповедник.
Астраханский биосферный заповедник (А.б.з.) — заповедник, основанный в 1919 году на территории Камызякского, Володарского и Икрянинского районов Астраханской области. В А.б.з. обитает 280 видов птиц, 60 видов рыб и несколько видов редких растений, среди которых рогоз, чилим, лотос.
Лотос — 1) род двудольных растений, единственный представитель семейства лотосовых; 2) форма родимого пятна на запястье Ольги.
Ольга — невысокая, коренастая, светловолосая девица шестнадцати лет, живущая в начале XX века неподалеку от рыбацкого поселения Камызяк Астраханской губернии в семье своего отца огневщика.
Огневщик — бакенщик. Рабочий сторож при бакене.
Бакен — плавучий знак, устанавливаемый на якоре для обозначения навигационных опасностей на пути следования судов или для ограждения фарватеров.
Фарватер — 1) безопасный в навигационном отношении проход по водному пространству; 2) любимое слово отца Ольги — огневщика Васильева, которое снится ему хорошими ночами, написанное с ошибкой — через букву «о» после «ф». Во сне «форватер» лениво дрейфует на речной поверхности, «в» немного притопло, а мимо пролетает, держа вперед вытянутую шею, колпица.
Колпица — 1) болотная птица семейства ибисовых, подсемейства колпицы. Достигает длины 1 м, веса в 1,2–2 кг. Размах крыльев 115–135 см. Окраска — белая, клюв и ноги черные. В брачном наряде у колпиц развивается хохолок на затылке и охристое пятно в основании шеи; 2) первая птица, которую Ольга увидела в жизни, когда они переехали с отцом и матерью в дельту из Нижнего Новгорода. Птицы — главный интерес дочери бакенщика. Все свободное от хозяйства время она проводит на берегу и наблюдает за ними. Ольга знает, какие птицы живут в дельте, какие гостят-гнездятся, а какие гостят-пролетают. По наружности или даже по одному пению она может определить птичий вид.
Названий птиц Ольга почти не знает, а те, которые знает, ей не нравятся, поэтому она придумывает их сама: лебедь-кликун у нее — Оха, розовый фламинго — Зарька, утка шилохвость — Обелонка, белая цапля — Шушка, серая цапля — Сазн, кудрявый пеликан — Люлд, авдотка — Гла́за, колпица — Лётка и так далее. Молчун-огневщик дочкиному увлечению не препятствует, понимает, что ей дома невмоготу. Сам спасается фарватерами — день и ночь на воде проверяет бакены. Женился, думал, будет у девочки мать, чтобы любить и воспитывать, но с тех пор в их доме появился лишь окровавленный невод.
Невод — 1) самая большая из рыболовных сетей; 2) отрезом невода жена бакенщика Анна сечет себе спину, запершись в сарае, где проводит все то время, что не работает по хозяйству, не молится и не ходит в церковь. Анна — тощая, высокая, бледная, с карими глазами, носит черный широкий сарафан и платок на голову. Набожна, но ходят слухи, что она ведьма: заколдовывает пловцов, лодки и рыболовецкие суда, чтоб тонули. Люди замечают, что Анна никогда не смеется, не ест рыбу, не купается в реке, почти не разговаривает. Также говорят, что она перекроила мужа на свой лад. Огневщик теперь не пьет, не ест рыбу, не общается с людьми и никогда не спорит с женой, а в воду заходит только в лодке.
Рыбак Забралов собственноушно слышал, как Анна подговаривает Васильева не зажигать керосиновые лампы на бакенах: по ее мнению, суда божьим промыслом сами найдут дорогу ночью. Огневщик поначалу сопротивлялся требованиям жены, потом замолчал и стал все свое время проводить на службе. Но рыбу он не ест — жена все равно учует по возвращении домой и замучает упреками: «Нечего питать греховное тело Ихтисом».
Ихтис — 1) древняя монограмма имени Иисуса Христа. Часто изображается аллегорически в виде рыбы; 2) рисунок на каменном кулоне Анны. Именно Ихтис на толстой нити заметил огневщик, когда впервые встретил будущую жену в церкви. Васильев взял Анну за ее набожность и строгость, чтоб та заглушила в Ольге эхо матери Варвары, которой надо было постоянно сближаться со всеми лицами противоположного пола. Мужа ей не хватало, поэтому она зналась со всеми камызякскими рыбаками. Васильев поначалу нещадно колотил жену, горько пил, но перестал, когда его чуть не уволили со службы. Тогда он выгнал Варвару из дома. С тех пор огневщик ненавидит разврат и совсем не расстраивается, что новая жена каждую ночь обматывает себе ноги тряпками, делая из них подобие хвоста, чтобы притвориться рыбой и обмануть русалок. Ольге было два года, когда отец прогнал Варвару из дома. На следущее лето она сгинула на промысле Базилевского, где была работницей.
Работницы — женщины на промысле, занимающиеся резкой, сортировкой и посолом рыбы, которую привозят с лова рыбаки. Работниц свозят на барже к заведению промысла. Оторванные от своих домов и упорядоченной жизни, они быстро привыкают к вольному и безответственному существованию. За их тяжелый труд платятся копейки. Утро работниц, что бы ни случилось, начинается с зеркала, белил и румян. Эти женщины разухабисты, шустры, болтливы, циничны, остроумны и развратны. Каждая работница заводит одного или нескольких матаней.
Матаня — любовник работницы на промыслах. Говорят, что именно от рук одного из своих матань погибла Варвара во время хмельной вечерней прогулки. После работы женщины часто бродят с матанями — орут и пляшут под визгливую гармонь. Работница хриплым от бессонных ночей голосом поет, например:
Прощай, милка, до свиданья, Не забудь мово страданья! Как тебя любила я, Всё ж забыл злодей меня! Уж я мучаюсь, страдаю, Всё о милке вспоминаю!..Или:
Разве я тебе не мила Иль гостинцев не носила? Я тебя переломаю, Про измену как узнаю.Или какую-нибудь другую саратовскую.
Саратовская — 1) легкомысленная, состоящая из просторечий песня, созданная опростившимися от свободной жизни работниками промыслов; 2) песню жанра «саратовская», принесенную в Камызякское поселение вернувшимися из промыслов рыбаками, иногда распевает Ольга. Она никогда не делает этого при отце, чтобы не расстроить его, но часто — при мачехе, чтобы ее позлить.
Ольга, в отличие от огневщика, Анне не поддается: не носит навязываемые ей черные широкие сарафаны и платки, не молится вместе с ней, не соблюдает запрет на купание и ест рыбу. Отец, видя такое непослушание, поначалу журил Ольгу, но вскоре замолчал в бороду и привык уходить, чуя начинающуюся перебранку. Анна на падчерицу злится, нагружает ее работой, но, ловкая, гибкая, крепкая, она быстро все переделает и уходит к птицам.
Анна уверена, что вся дурь в падчерице не только от матери — слишком рано та ушла, — а от птиц, которые переносят на крыльях бесов. Новая жена твердит огневщику про Ольгиных бесов, но Васильев при таких разговорах сразу уходит и уплывает к самому дальнему своему бакену.
Жена огневщика не любит Астрахань, считает ее столицей греха. Плюс до нее нужно добираться на лодке или пароходе против течения, то есть, как считает Анна, прямо по локтям русалок. Но раз в два месяца жена огневщика все равно выезжает в Астрахань, чтобы отвезти падчерицу к Д. Ивановичу.
Д. Иванович — самый популярный астраханский «изгонитель бесов», живущий в начале XX века в собственном особняке напротив увеселительного клуба «Отрадное» за Воздвиженским мостом. Иванович лечит людей от запоя, обжорства, вызванных ими и не только ими галлюцинаций. Целитель занимается и более оригинальными делами, как, например, случай падчерицы «м-дам Васильевой». Иванович уверяет, что в год ему удается изгнать до двухсот бесов.
Ольга целителя не пугается, а, наоборот, очень веселится на его сеансах, распевая трели разными птичьми голосами. При этом Иванович сильно потеет и часто крестится, а Анна зло плачет и молится. Дочь бакенщика даже любит бывать у Ивановича, потому что из его окна можно смотреть на магазин Серебрякова — единственный в Астрахани, освещенный электричеством.
Однажды в это окно Ольга заметила высокого темноволосого молодого человека, пялящегося на витрину в позе Зарьки (розового фламинго) — стоя на одной ноге, с вытянутой вперед шеей. Он хоть и видел много электричества за годы обучения в Петербурге, все равно заинтересовался коммерческим применением технического прогресса. Зарьку звали Андреем Павловичем Акинским.
Андрей Павлович Акинский — студент-орнитолог двадцати четырех лет от роду, сын покойного вологодского врача Акинского, единственная надежда своей матери Марии Аркадьевны. Доктор Акинский был увлекающимся игроком и после смерти не оставил семье состояния, поэтому его сын учится в университете за счет своего дяди, крупного промышленника Алексеева. Андрей Павлович приехал в Астрахань на практику и засмотрелся на витрину магазина Серебрякова, пока крик извозчика-татарина, берущего 40 копеек в час, не заставил Акинского вздрогнуть, переменить позу Зарьки и вспомнить, что нужно спешить в Общественное собрание.
Общественное собрание (О.с.) — клуб, где собирается почти вся астраханская интеллигентная публика начала XX века. В О.с. проходят обеды, детские утренники, лотереи, вечера музыкального общества и прочее. В подвале клуба есть кумысные лавки и магазины с азиатской обувью. В клубе студента Акинского должны были представить самому Владимиру Алексеевичу Хлебникову.
Владимир Алексеевич Хлебников — русский ученый-орнитолог и лесовед, попечитель улуса, основатель первого в России государственного заповедника (Астраханский государственный природный биосферный заповедник, см. первую страницу справочника), отец поэта Велимира Хлебникова.
Велимир Хлебников (В.Х.) — русский поэт и прозаик Серебряного века, один из основоположников русского авангардного искусства, футурист, экспериментатор от изящной словесности. Настоящее имя — Виктор Владимирович Хлебников. Называл сам себя Председателем земного шара. В течение нескольких лет В.Х. серьезно увлекался орнитологией и принял участие в нескольких исследовательских экспедициях. На основе «птичьего языка» созданы многие ранние звукописные произведения Хлебникова. Одно из самых известных стихотворений этого периода — «Кузнечик»:
Крылышкуя золотописьмом Тончайших жил, Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много трав и вер. «Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер. О, лебедиво! О, озари!Пинь-пинь-пинь — 1) фонетическая расшифровка пения большой синицы, в народе называемой зинзивером; 2) звук, который пытался изобразить студент-орнитолог, чтобы поймать в дельте Волги большую синицу. Андрей Павлович пережил в детстве тяжелое воспаление легких, что сильно сказалось на его дыхании. Поэтому вместо «пинь-пинь-пинь» у него получалось что-то вроде «пи-пи-пи», мышиной песни. Ольга сразу признала в пи-пи-пищащем в ивняке человеке того Зарьку у магазина Серебрякова. Дочь огневщика звонко засмеялась и принялась чисто и ласково пинь-пинь-пинькать, отчего студент-орнитолог резко распрямился, забыв про Петербург, матушку и мозоль в левом сапоге. В реке нервно дернулась рыба.
«Лава идет на нерест», — спокойно сказала Ольга.
Андрей Павлович протер глаза и переспросил: «Лава?»
Лава — Ольгино название сазана.
Сазан — пресноводная рыба семейства карповых. Живет долго, до 30–35 лет. Встречаются экземпляры весом до 20 кг. Питается разнообразно, в зависимости от сезона. В рационе встречаются побеги камыша, насекомые, черви, мелкие улитки, линяющие раки, мелкие пиявки, кубышки.
Кубышки — род многолетних водных растений семейства кувшинковых, распространенных на мелководье по берегам озер и медленно текущих рек или проток. Листья круглые, надводные — жесткие, а плавающие, подводные — нежные. Желтые цветки кубышки приподняты над водой на мясистом стебле. Букет кубышек подарил студент Акинский Ольге через два дня после знакомства.
«Желтки!» — заулыбалась Ольга.
«Не желтки, а Nuphar, или Кубышка желтая», — сказал Акинский и сам рассмеялся своей важности. Дочь бакенщика от упрямства, а скорее всего, от необразованности никогда не говорила учеными или общепринятыми названиями флоры и фауны. Всех она величала своими, придуманными именами. Зато Ольга знала все о живом мире, в котором выросла, в особенности о птицах — гораздо больше, чем студент-орнитолог Акинский. Гла́за (по-всеобщему авдотка) никогда не заводит гнёзд, Зарька (по-всеобщему розовый фламинго) двигает только верхним клювом, Люлд (кудрявый пеликан) три-четыре раза подпрыгнет, прежде чем взлетит!
Ольга перекладывала из руки в другую стог кубышек.
«Не нравится? Хочешь, поедем смотреть Nelu… лотосы? (см. первую страницу справочника)» — Андрею Павловичу хлопотами астраханских коллег-орнитологов выдали рыбацкую лодку, которую давно и навсегда сожрал запах рыбы.
«Вот лотос!» — Ольга выкинула вперед крепкую гладкую руку. Перед глазами Андрея Павловича поплыла родинка в форме лотоса. Студент бросил весла. Одно удержалось на лодке, другое булькнуло в заросли чилима.
Чилим — 1) водяной орех плавающий, или чертов орех, — однолетнее водное растение. Вид рода рогульник семейства дербенниковых. Растет в озерах, заводях и старицах медленно текущих рек, достигает 5 м в длину. У растения характерный плод, внешне напоминающий голову быка, с одним крупным крахмалистым семенем; 2) любимый продукт Анны. Она готовит из водяного ореха кашу и печет лепешки, которые ест сама и которыми вынуждает питаться мужа. Ей нравится чилим, потому что он хорошо держится на воде. Жена огневщика верит, что если есть много чилима, то никогда не утонешь. Вскоре после знакомства Ольги и студента Акинского Анне приснился сон, в котором русалки стоят по шею в воде меж камышовых зарослей на равном расстоянии друг от друга и едят чилим глазами. На плечо к одной из русалок садится колпица и начинает долбить ее зрачки с хрустальным звоном. Ольгина мачеха считает про себя туки: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать — русалка чешет себе локоть, — двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать — у русалки вместо крови из глаз течет ил, — семнадцать, восемнадцать, девятнадцать…
Девятнадцать — 1) количественное числительное, соответствующее порядковому числительному «девятнадцатый». Целое число между восемнадцатью и двадцатью; 2) количество секунд, которого хватило промышленнику Алексееву, чтобы ответить категорическим отказом на высказанное желание Андрея Павловича жениться на Ольге Сергеевне, дочери бакенщика лугового берега рукава Казымяка. Промышленник швырнул трубку, а Андрей Павлович как Люлд (кудрявый пеликан) втянул в плечи голову и в Общественном собрании уронил на пол новенький телефон.
Телефон — 1) устройство для передачи и приема звука на расстоянии; 2) главное устройство для связи между Астраханью и взморьем. Стало возможно благодаря установке на прибрежном участке Каспийского моря системы буёв с протянутым между ними кабелем. Оригинальная идея проекта принадлежит господину Е. А. Еропкину.
Е. А. Еропкин — 1) инженер, проживающий с семьей в Астрахани на улице Московской с 1884 по 1922 год; 2) толстый и радостный человек, с которым студент-орнитолог Акинский познакомился в одном купе поезда «Астрахань — Царицын» через три дня после разговора с дядей и на следующий день после получения телеграммы от матери. Инженер болтал, хвастался каким-то московским прожектом, а Андрей Павлович сидел молча, уткнувшись в окно. Вскоре мимо, как показалось орнитологу, пролетел Белголов. Акинский зло мотнул головой: откуда ему тут быть, да к тому же никакой не Белголов, а Fulica atra, она же лысуха.
Лысуха — водоплавающая птица семейства пастушковых, длина — 36–38 см, размах крыльев — 19,5–24 см, а вес — 0,5–1 кг. Плотного телосложения, оперенье черное или темно-серое матовое. На лбу — заметная кожистая бляха белого цвета. Клюв и хвост короткие. Плавательных перепонок на пальцах нет, но по бокам имеются фестончатые лопасти. На место гнездовий в дельту Волги лысухи прилетают в конце февраля — в марте. Лысухи моногамны, образуют постоянные пары. Для откладывания яиц строят плавучие гнезда. Насиживают оба родителя в течение 22 дней. Птенцы начинают летать самостоятельно в два месяца.
Через два месяца после отъезда Андрея Павловича Ольга поняла, что ждет ребенка. Прежде она очень сильно переживала, что студент внезапно исчез, а тут забыла про него вовсе и навсегда. Хотела пойти к камызякской старухе-татарке, вытравляющей ненужный плод змеями, но, увидев на воде гнездо с птенцами, передумала. Решила, что жизнь-вот, чадо-вот, счастье-вот. Даже птице понятное. Решила выносить. Правды говорить нельзя, можно только обманывать. Отцу — лгать, иначе умом тронется, что единственная дочка — единственное солнце — как и мать, развратница. Мачехе лгать — иначе погубит сразу. Она живое ненавидит, за двойную жизнь вдвойне задушит. Или сразу отдаст Уттопе.
Уттопа (У) — речное божество, мертвец-утопленник, которому на самом деле поклоняется мачеха Ольги Анна. По преданию, У. забирает себе души утонувших — в рабство. Время от времени он интересуется живыми и посылает русалок на помощь к тонущим. Их русалки вытаскивают из воды за обещание служить Уттопе до старости: приносить ему в реку жертвы — людей или животных. Если спасенный забывает спасителя или отказывается служить ему, то русалки приходят за ним и кидают его в речную яму, где того веками объедают сомы. Когда спасенный правильно служит Уттопе, то в конце жизни тот отпускает его на небо. Очевидно, Анна тонула в юности и, после того как выжила, принялась служить главному утопленнику.
Ольга про Уттопу не знает, но догадывается о нем. Анна про студента-орнитолога не знает — ни она, ни огневщик никогда его не видали. Но мачеха чувствует маленький задел — брешь греха, который делает падчерицу уязвимой. На третий месяц неизвестной ей падчерицыной беременности Анна увидела сон, где Ольга — гамаюн, женщина-птица с перевязанными крыльями — несет на себе гигантское коромысло с Волгой. То из одного, то из другого ведра время от времени поднимаются мягкие головы утопленников или русалок, плещется рыба или вертятся змеи. Анна идет за Ольгой с отрезом невода и время от времени хлещет ее им по крыльям, отчего те теряют одно за одним кровавые перья. После такого сна жена огневщика осмелела и начала вдвойне нагружать Ольгу домашней работой, например, заставляет ее вышивать тростками.
Тростки — суровая веревка тростникового стебля, которой, будто нитями, посредством большой металлической иглы сшиваются вместе части небольших деревянных домиков — сараев, бытовок. Ольга раньше вышивала бытовку за полдня, а теперь работает больше трех дней. Ребенок берет силы, и беречься нужно. Ольга жалеет, что она не птица: не улететь на гнездовье. Отцу не пожалуешься — он уехал по службе на взморье, к тому же он новой жене перечить не умеет. Анна рада, что Ольга потеряла ловкость и силу. А главное — задор ругаться с ней. Пять с половиной дней мучилась Ольга с тростками, к птицам не сходила ни разу. Как только падчерица справилась с тростками, мачеха придумывает ей новую работу — жать оренучу.
Оренуча — сок из плодов чилима. Требуется огромное усилие, чтобы выжать сок из плотного ореха. Для выжимки обычно используется глиняный круглый пресс, похожий на плотное блюдо. Плод зажимается между прессом и деревянной доской с прорезями, куда при нажатии капает сок. Пока Ольга добывает сок, Анна молится непонятно кому: то ли сыну божьему, то ли Уттопе. Через два часа работы Ольга валится с ног. Признаться в этом мачехе она не хочет, к тому же знает: ни к чему это не приведет. Но передохнуть необходимо, и вот Ольга просит разрешить ей помолиться вместе с мачехой. Анна для виду сначала отказывает — а сама же пляшет внутри, хоть никогда не плясала снаружи. Наконец она разрешает падчерице преклонять рядом колени, но ненадолго — вон сколько еще чилима. Ольга опускается рядом с Анной и искренне молится шепотом за здоровье своего будущего дитя. Жена огневщика косится на падчерицу и видит, как у той медленно опускаются длинные пестрые крылья.
Анна и Ольга уже несколько недель молятся вместе. Дочь бакенщика разрывает так тяжелый труд отдыхом. Поначалу Ольга молится про себя, потом мачеха просит ее произносить слова вслух, а вскоре требует повторять за собой. И Анна начинает говорить на непонятном Ольге языке — молчанке.
Молчанка — язык уттопоклонников. Является синтезом русского рыбацкого сленга и хазарского языка. Чем дольше молится Ольга с Анной, тем короче, как видит жена огневщика, становятся крылья за спиной у падчерицы. Анна думает, что их совсем нужно спрятать в ючеш.
Ючеш — длинный бесформенный черный сарафан с вшитыми в подол вставками из рыбьих скелетов. Его, как полагают исследователи, носят все поклоняющиеся Уттопе. Ольга раньше всегда отказывалась надеть Ю., высмеивала его уродливость и тухлый рыбий запах, сочащийся из-под подола. Анна уже давно сшила падчерице ючеш и снова напоминает о нем после их совместной молитвы. Ольга резко, почти как в прежние времена, отказывается, но однажды утром замечает, как сильно уже выпирает из-под платья ее живот. Она просит у мачехи ючеш, чтобы лучше скрыть свою беременность. Анна с радостью отдает сарафан и повязывает падчерице на голову платок рыбным хвостом.
Рыбу Ольга теперь не ест, а только кашу из чилима и бахчевые. Анна радуется, подкладывает ей добавку. Работать не заставляет, лишь бы молилась Уттопе. Может, тот согласится взять Ольгину душу вместо ее. Анна даже иногда обнимает падчерицу и называет ее ласковыми словами. Дочь огневщика впервые в жизни ощущает материнскую заботу, которая сейчас ей — самой матери — как вода рыбе. Так спокойно и радостно — ребенок внутри дышит.
Ольга решает рассказать про него мачехе, но передумывает, когда та приносит ей запеченную курицу. Анна говорит, чтобы побаловать падчерицу мясом, но на самом деле — чтобы собрать объеденные ею птичьи кости и выбросить их в реку, задобрить Уттопу, а то тот присылает каждую ночь к Анне русалку. Она смотрит каждый день на жену бакенщика через маленькое квадратное окно, но внутрь не идет — то ли потому, что у Анны замотаны ноги неводом, то ли потому, что не было такого приказа от Уттопы. Ольга мачехину курицу не ест, а убегает при виде ее в нужник. Анна жалеет, что еще не до конца отучила падчерицу от дружбы с воздушными бесами. Решила: в следующий раз велит Ольге самой зарезать курицу. Не хватало еще, чтобы воздушные бесы вытащили душу девчонки из воды на небо. Надо, думает Анна, найти хорошую сорочину.
Сорочина — 1) большая тяжелая гиря из сплава глины и железа с пятью дырами, использумая населением дельты Волги для притопления сетей; 2) предмет, о который споткнулся отец Ольги, огневщик Васильев, когда вернулся с взморья и ходил-искал жену и дочь по двору. Чуть не упав, мужик выругался в бороду и тут замер как вкопанный. Он заметил, что сарай, вышитый тростками, ходил ходуном. Оттуда доносились звуки вроде всплесков, словно что-то постоянно роняют в Волгу. Васильев медленно, как на охоте, подошел ближе и посмотрел сквозь расщепившуюся доску — внезапно помолодел лицом и осанкой лет на десять от дернувшей его ненависти. В сарае на коленях стояли жена Анна и дочь Ольга. Они секли каждая сама себя отрезами неводов. Обе плакали, то ли от боли, то ли благости. Ольга периодически останавливалась, но мачеха ласково подбодряла ее на неизвестном Васильеву языке, и падчерица возобновляла удары.
Забрали дочку в ужас — единственное солнце, белую душу, любящее птиц! Не прощу! — думал Васильев. Он сломал запертую изнутри дверь и принялся душить жену отрезом невода. Анна смотрела мимо мужа, на вход, где толпились все посылаемые когда-либо к ней русалки и с любопытством косились на нее своими белесыми глазами. Ольга кинулась на отца с криком «Не трогай маму!». Огневщик высвободил руку и отпихнул дочь, она упала, ползком выбралась из сарая и побежала к птицам. Пока Васильев закапывал тело жены на дворе, Ольга рожала на берегу, и по ее ноге проползла оземка.
Оземка — ядовитая змея, проживающая на территории дельты Волги. Голова круглая, окраска синяя с желтыми полосами. Длина — 20–30 см. Смерть после укуса оземки наступает через восемь минут. Дочь огневщика родила мертвого ребенка и оставила младенца птенцам Белголова (по-общему лысухи) в плавучем гнезде. Оземка уползла, не применив зубов. Ольга шла вдоль берега, и над ней парила длинношеяя Лётка (по-общему колпица). Небо ласкало Ольгу и Лётку ветром, приговаривая: «Мои птахи, мои!»
Повесть II
Сказ о Лёничке, сыне Чёлки и Раны
Сказка не ложь — и нет в ней намека, а только правда. Кому ложь — ложка дёгтя, а кому ложь — ложка мёда. Всё одно: без лжи не обходится на свете ни один дурной, ни один хороший человек. Лжет-живет. Лжет-живет.
Жил-был на свете Лёничка. Парень шебутной, парень радостный. Легкий-тонкий был, льняной на голову. Любую обиду, что из людей приходила, забирал себе и расшучивал. Толкнет кто в метро — это, говорит, спасибо, что вы меня разбудили.
Всё, что Лёничкой ни делалось, добровольно делалось и улыбочно, будто не существовало неволи, а одна сплошная воля. Тетку-Тому-алкашню сорвать с улицы — да пожалуйста. Подберет ее Лёничка хмельную из дворовой клумбы, словом польет ласковым — распустит тетка пряди-лепестки и петь начнет. Ведет Лёничка Тамару в квартиру ее, будто в вазу, оба от теткиного градуса покачиваются и вытягивают: «Я исполняю танец на цыпочках…» У Лёнички — баритон тростниково-сахарный; с остальными тетка не шла.
Всё, что ни делалось Лёничкой, добровольно делалось и улыбочно, будто не существовало неволи, а одна сплошная воля. Посуду помыть — так в горячей в воде погреться: вечно мёрз из-за тонкости своей Лёничка. Математику горькую грызть — как зато приятно ее потом сладкой книжкой запить: очень читать любил наш Лёничка. В шесть-в-субботу-на-рынок и не выспаться — зато с ветерком без машин: вот наш Лёничка. Жил-был он на свете, парень шебутной, парень радостный.
Как родился, так и провел все свои семнадцать Лёничка с родителями. Те — как все — не особо злые, не особо добрые. Были они инженерами — не по страсти, а по обычной обязанности. Сконструировали их в прошлую эпоху, грубо сделали, но с особой прочностью — из привычки, порядка, государственной надобности и макарон разваренных. Ходили родители на завод и создавали там что-то грозное, хорошим-людям-бесполезное. Мать была — рана Лёничкина, как что, так нагноится недовольством или заноет раздражением, а потом как прорвется словом-кровавым-гноем. Что за сын-скоморох? Где серьезность, о будущем мысли?
Отец был чёлкой Лёничкиной. Есть он — нормально, отрежь его — ну и так неплохо. Висит-зависает себе в квартире тихонько, кроссворды разгадывает после заводской службы. Иногда Лёничку по лбу погладит — успокоит, иногда полноценное зрение ему загородит своими наивностями. Раньше чаще это было. Рана-мать посмотрит на это дело — гноем плюнет. От того папа Лёничкин с ним говорить совсем перестал, отчего сын не расстроился — зачем зря рану-мать бередить.
Тетка Тамара, когда еще корни свои не водкой питала, Лёничке уши колола историйками. Говорила: отца его в молодости Чёлкой звали, был он на дворе парень модно стриженный, перспективный. Любился он с одной ласковой, улыбчивой — она с ним. Такая бы не в рану открылась. Такая бы в радость открылась. Но вышла она не за Чёлку замуж, Чёлка повесился. Вытаскивали — недовытащили. Не жил он, полутрупом вис, кроссворды разгадывал. Вися женился, вися работал, вися сына родил. Лёничка по чуду уродился весь в ту самую, шебутной и радостный, будто не рана-мать, а радость-мать ему.
Рана-мать, рана открытая, много чего понимала, оттого замечала в лице сына черты той самой и особенно в такие минуты ныла и гноилась. Лёничка обоим своим родителям радовался — не расстроить бы. Мать ему — «никаких филологов», — и он пошел в инженеры какие-то. Запивал математику горькую, физику кислую хорошими книжками и радовался. Рана-мать все равно болит. Что за сын-скоморох? Не любила она Лёничкину радость, понимала, что та — защита его и прикрытие.
А скрывал он то, что несчастен был. С хор несчастен, с дом несчастен. Отчего несчастен — сам не знал. Жил-маялся. Радостью-прятался. Будто понарошку жил, вполсилы. Будто на языке-уме вертелось, а вспомнить не моглось никак. Будто ныло-болело-скреблось-почесывалось, как в сундук запертое. Как в живот прятанное. Пока жизнь-живот не вспорешь — не узнаешь. Чуял Лёничка, что придет к нему кто-то с добрым ножиком или ключом каким, вспорет-откроет, и поймется все, и он осчастливится. Ждал он, что придет к нему кто-то с ножницами или ключом каким, вспорет-откроет, и поймется всё, осчастливится Лёничка, парень шебутной, парень радостный.
Но пришла однажды беда в семью к Лёничке: сорвал ветер тетку Лёничкину с вазы-дома, с клумбы-двора и унес с собой по Москве крутить, а может, куда и дальше. День носит, полтора носит, где носит — никто не ведает. Рана-мать ноет: пускай пропадает, ведь сам притащится, проклятье разэтакое, семейное. Чёлка-отец висит, не колышется. Рану-мать слушает, она ему во всем истина. Даром что Тамара Чёлке сестра родная, кровь такая же, лицо то же.
Побежал за ветром Лёничка, с ветки на ветку как птица запрыгал. Людей-цветов-сорванных-завядших на улицах распрашивать. Не звонить же им, у таких телефонов нет. Зеленая ветвь, красная ветвь, коричневая, ветвь оранжевая. Где только не побывал наш Лёничка. Кто тетку на «Маяковке» видал, кто в Свиблово, кто на «Юго-Западной», кто на Курском, месте Веничкином. Многих людей-цветов-сорванных повидал Лёничка, поспрашивал. Нету Тамары нигде, нету, будто под землю она провалилася или в Екатеринбург, к мужу бывшему подалась.
Муж тот был теперь человек не средний, с делом собственным, домом собственным, женой-красавицей, с детьми тремя. Был он раньше с Тамарой, с концертами длинноволосыми, с троганиями-на-лекциях, со страной, на электричках заезженной, с беляшами из ларьков мутно-стеклянных, с углами съемными, но счастливыми. Тамара мужу в институте пела, в аспирантуре пела, космы его тогдашние длинные гребнем расчесывала. Муж тот был человек неглупый, рассудительный, рассмотрел в очах Тамариных нищету свою жалкую, увидал он там в будущем непристроенность, неприкаянность, безместовость, для себя — гибель верную. И был тот муж человек ясность любящий, правдивый, все он Томочке развернул, разложил по полочкам — и про нищесть свою с ней, неприкаянность.
И остриг он волосы, на развод ушел, а Тамаре на аборт велел идти. Как просил ее, так и сделала. Развелась она, дитя вырезала, гнить с тех пор она принялась и питать себя своей горечью, на спирту настоянной. К брату ближе, ему ненужная, неприкаянная, в Москву переехала, по соседству корни пустила, но на третий год каждый непременно к мужу бывшему на перекладных или пешей отправлялася, будто на богомолье. Муж тот был человек занятой, человек без времени, Лёничке ответил, Лёничке кинул, что Тамары у него не найдется, а если бы и нашлась, то давно бы уж арестованная. Отчитал он Лёничку, что следить за-такой-сякой-пьянью надобно, от людей приличных, достойных, с делом собственным, с женой-красавицей, с детьми тремя вязать-держать поодаль.
И отчаялся Лёничка, где еще тетку найти, где ее достать такую, ветром сорванную. Ведомо где — милиции-больниции, ох, исходишь всё, навидаешься. Идет Леничка по улице, спотыкается, без какой-либо надежды, радость свою обронивший. И вдруг полилась в его уши песня, песня счастливая, обреченная, как последняя. Будто сердце кто у себя искал, не-слыхал его, не-чуял, на себе сам крест-поставил, и вот, грудь вспорол, сердце увидал, осчастливился. Умирает и сердце миру кажет, сам-поет-улыбается. Пошел Лёничка за песней, потянул за ниточку.
Глядь: толпа на мосту людится, кто качается, кто посмеивается. Лёничка туда шмыг, глядь: парень на гитаре играет, а перед ним тетка Тома пляшет босая. И почувствовал Лёничка не радость прежнюю — кому та сдалась, жалость светлая, — а почуял он счастье с мир, счастье в век, неподдельное. И не оттого, что тетка-Тома отыскалася, а от чего… от чего… Стоит Лёничка осчастливленный, с грудью вспоротой, с жизнью вспоротой, с сердцем голеньким, песню слушает, не колышется. В рот-смотрит, в гитару-смотрит, в руки-смотрит, еле-дышит. Тут сама тетка-Тома его увидела, на шею бросилась, потянула в пляс, затрясла его, будто яблоню. Лёничка, если б прежним был, сплясал бы, да как тут спляшешь, с сердцем-нараспашку. Захохотала толпа круглая, заколыхалася. Лёничка очнулся — тетку уводить; та упрямится, ей танцуется.
Музыкант увидал такое дело, петь-замолк, играть-прекратил. Тетка-Тома к нему кинулась и в шкирки вцепилася: «Ты мол, этакий-по-матери, чего песню загубил?!» Тот улыбается, глаза мягкие, обнял плечи Томины, к Лёничке ее подвел. Тамара успокоилась, глаза опустила, в туфли влезла, рваные, бескаблучные. Лёничка музыканту «спасибо», тетку уводить, а сам все оглядывается, парень шебутной, парень осчастливленный.
Позабыл с тех пор Лёничка свою пустоту-радость. Расшучивать перестал, ерунде улыбаться не улыбается. Обзовут его шпалой — он посмотрит серьезно шутника поверх и пройдет мимо, слова не выронит. Толкнут его в метро-автобусе — поглядит он серьезно, словом не одарит. Тетка-Тома в клумбе заляжет, запьет-запоет, а с Лёничкой домой идти отказывается: ты, говорит, теперь тяжелый стал, другой, узнавший.
Рана-мать тоже навострилась вся, запульсировала, сыну лоб щупает, в глаза соловьиные заглядывает, что, мол, такое, а сама сердца его голого не видит. Отец-Чёлка висит, на сына смотрит — и себя двадцатилетнего, радость любящего, узнал и отвернулся тут же, запуганный.
Ходил-бродил Лёничка, парень шебутной, парень сердцем голый. На мост ноги сами вывели, песня притянула. Закончил музыкант играть, увидел Лёничку, заулыбался. Отправились по дороге, куда глаза не глядят, куда уши не слышат, где сердце бьется. Закрутилась песня, нашлись слова, сложилась музыка, как сложилась — сами не поняли, да и неважно это. Звали Славой. Всё давно узнавший, оттого спокойный. Лёничка смотрел-смотрел на него, но трудился бы очень его описать, если спросить его — вроде как глаза карие, волос светлый, рост высокий. А как не видит, так Лёничка вспомнить его не может. Знает только: человек — вот, чувство — вот, счастье — вот.
Говорили? Говорили, но о чем — не запомнили. Не слова важны, а мелодия. Легко связались, будто шарф-шерстяной у девицы прилежной, у девицы на выданье. Все сошлось у Лёнички: человек — вот, чувство — вот, счастье — вот. А про тех что пишут… Ну про этих-то… Это не про то, все совсем не то. Ведь это так: человек — вот, чувство — вот, счастье — вот. А мы при чем здесь? Они по клубам, по ямам, по шкафам живут, люд будто с молью с ними борется, законы всякие будто апельсиньи корки разбрасывает. Те в кино, в книжках, в интернете, а мы живые живем. С родинками, трещинками, маршрутками, тележками супермаркетовыми, нету-денежьем, тетей-пьяницей в-клумбе-спящей.
Нельзя-нельзя, думал Лёничка. Нельзя, чтоб дозналися. Рана-мать в месиво, отец-Чёлка выпадет. Не плохой, не злой Лёничка, а как в таком признаешься — сердцем голый. И не то совсем, и не те совсем. Те — в кино, в книгах, в интернете. Помощник нужен нам, защитник. Радость не годится давно уже — кому нужна она, бессильная? Тогда взял он себе ложь в помощники, себе ложь в защитники, Лёничка, сердцем голый. Идет он к Славе, ране-матери, отцу-Чёлке говорит: в институт; бывает он со Славой — говорит: на паре сижу; запозднился он со Славой гулять — говорит: с друзьями загулял.
И заметил Лёничка, что теперь он врет там, где без этого обойтись могло. Спрашивает мать: где носки прятаны? — Знамо где, в ящике, — Лёничка отвечает. Хотя точно знает, что на батерее. Спрашивает однокурсник: почем чай брал? — По тридцать р., — молвит Лёничка, хотя знает, что по тридцать пять. Какой фазовый у никелида титана переход, спрашивает преподаватель. — Второго рода, — говорит Лёничка, хоть помнит, что первого, в книжке писано. А что поделаешь: ложь — как водка, ложь — как сладость, чем чаще пробуешь, тем охота больше.
Как же так, как же так, мыслит Лёничка. Я вот всех их знаю-люблю, боюсь за них — и за рану-мать, и за отца-Чёлку, — а в счастье своем никогда не признаюсь. Недайбог узнают, недайбог узнают. Во дворе засмеют, рану-мать, отца-Чёлку засмеют. Стал Лёничка сны видеть, что узнали все. Рана-мать почернела, забилась, закричала, гнев — в гной, крик — в кровь, лежит и стонет, бежит и стонет. Отец-Чёлка испугался, задумался, головой покачал: нехорошо, мол, — давай по энциклопедиям шарить, отчего, мол, эта напасть бывает и как она, напасть, лечится? Тетка-Тамара завыла, сорвалась, по двору пошла, по городу пошла, плачет и рассказывает. Двор уродится, кривится, хохочет, плюется, ругательствами на Лёничку испражняется — парня, сердцем голого, на рану-мать, на отца-Чёлку. Просыпается в слезах Лёничка, недайбог узнают, недайбог узнают.
Слава — что? Слава — человек вольный, взрослый, двадцать-два от-роду, родители за тридевять-земель. Комнату нанимает с кроватью и полками. Сам давно все узнавший, не боится, что другие узнают. Молва пойдет? Ну и пёс с ней! Но раз Лёничка просит, значит, так тому и быть, хорониться будем. Не понимает Слава, к чему мучиться. Человек — вот, чувство — вот, счастье — вот. Лёничка на Славу смотрит-смотрит, и сам не верит: хорошо-то как, а недайбог про хорошо это кто дознается.
Рана-мать сыновье хорошо почуяла — чуть-чуть обрадовалась-затянулась: девушку нашел? Домой приводи. Лёничка молчит-мычит. Какие девушки? Учиться надо. Рана-мать хоть и рубцами глаз не видела, а болью — животом — вдруг понимать начала: «Не-то-что-то». Не-то-что-то, чего за радость сына пряталось, проявилося. Рана-мать — рана открытая. Защиты, прикрытия требует. И заладила мать Лёничкина всем рассказывать, что нашел он девушку хорошую-пригожую-работящую-премудрую, что очи у нее лучистые, волос как в крепость длинный-крепкий, а стан прямой и гибкий. А если не нашел — так найдёт обязательно, с дню-надень. Время идет, Лёничка девушку не приводит. Рана-мать от того еще въедливей, еще гнойней стала: Лёничке за каждую провинность выговаривает, работой порожней нагружает. Но лжи его крупной или мелкобисерной будто совсем не видит.
Отец-Чёлка висит, а жене в кроссворд удивляется: чего сына рушить, будто по клеткам-буквам раскладывать? Ум-пришей, от парня-отстань, совсем сбрендила? — тетка-Тамара между водками ране-матери молвит. Лёничка между раем и адом живет, между счастьем и страхом живет, между Славой и родителями, между правдой и ложью. А правда — вот: человек — вот, чувство — вот, счастье — вот. А ложь оттого, что о правде той никому знать не велено.
Слава глядел-слушал и молвит однажды Лёничке: давай-уедем-куда-глаза-глядят и куда-электричка-идет. А то сколько тебе еще так маяться? Я человек свободный и тебя освободить желаю. Думал-думал Лёничка, по ночам в постели катался, мысли катал. Как уехать-куда-глаза-глядят и куда-электричка-идет? Что сказать ране-матери и отцу-Чёлке? Ложь Лёничкина рядом в кровати сидела, косы чесала длинные, нежно на него глядела, себе живот круглый-плодовитый гладила. К утру понесла она от Лёнички ложиньку-такую: что поедет он якобы в Серпухов на завод на три-дня-практики. Слава на младенца лживого посмотрел и дальше правду додумал, что поедет он в соседнем вагоне и что в Серпухове они не выйдут, а дальше на перекладных в Симферополь покатятся. А Лёничка потом ложь-смс отправит, что устал он учиться-да-с-родителями-ютиться, уезжает в открытую жизнь себя-на-поиски.
Сговорились-условились. Стали ждать дня назначенного. Слава и Лёничка, Лёничка и Слава. Лёничка и правда себе практику в институте сговорил, ране-матери, отцу-Чёлке сказывал. Сам спокойный — его ложь прикрывает, большая-белая-плодовитая. Но рана-мать все равно почуяла, как перед дождем, заныла. Что-будет, что-будет, сама-не-ведает, но извелася вся. Места не найдет на себе живого, болит и ноет. Лжи не видит, ложь-большая-белая-необъятная, вблизи неразличимая, но рана-мать Лёничкин исход чувствует.
А Лёничка спокойный стал, не шебутной-не радостный. Сговорился с практикой, документы взял нужные. Даже со Славой неделю до побега не виделись-мучались. Вещи собрал заранее. А рана-мать-болит-чует. А Славе что — только подпоясаться: рюкзак за спину-надеть, гитару на плечо-повесить, домовой хозяйке в телефон улыбнуться.
И вот пришел день, пришел солнечный, день пришел за-нас-небо. Попрощался Лёничка с отцом-Чёлкой, попрощался с раной-матерью. Думает, нельзя уйти, с теткой-Томой-цветком не попрощавшись. Крикнул в окно ее Лёничка, из клумбы вызвал. А тетка со-вчера-горяча пришла, Лёничку не видит (он теперь для нее нелегкий стал, узнавший) и давай деньги на опохмел клянчить. Завелась тут мать Лёничкина, гноем фыркает, кровью кричит: «Обнаглела, пьянь!» Слава той порой Лёничку на вокзале дожидается. А рана-мать тетку-Тому-цветок ором рубит, словом косит. Никогда еще так сурово не косила. Тетка-Тома душа хоть пьяная, но голая. Всё давно узнавшая, но хрустальная, что графин ее пропитый. Упала, разбилась в падучую.
Слава той порой Лёничку на вокзале дожидается. А Лёничка на «скорой» от вокзала в другую сторону катит. Рюкзак-телефон дома-забыл. Чёлка-отец с крюка слез, рану-мать впервые в жизни по лицу ударяет. За Томочку, кровушку мою родную. Лёничкин телефон, чтоб не орал, разбивает. Слава той порой Лёничку на вокзале дожидается, другу звонит, дозвониться не может. Лёничка в приемном покое облезлый потолок глазами шкрябает. Слава той порой Лёничку на вокзале дожидается, другу звонит, дозвониться не может. Лёничке доктор про инсульт сказывает. Слава той порой с вокзала уходит. Закончился день солнечный, за-нас-день.
Закончился Лёничка, застопорился. Ложь — вон! Любовь — вон! Устал сказочнить. Тетку не за грех греха, а за грех лжи отнимают. Лёничка в больнице пропадущий стал. Решил: Славы — нет, лжи — нет, греха — нет. Не звони, не пиши, не ходи. Лёничка и раньше с теткой-Томой возился, а теперь и вовсе как привязанный. С ложки покормит, утку вынесет, медсестре-картонной денег даст. А внутри себя рушится: тебя — нет, лжи — нет, греха — нет, страха — нет. Счастья — нет!
Закончился Лёничка, застопорился. Слава молча-часто дышит, душу душит. На мосту день сидит, два сидит, глаза руками закрыл. Открыл — нету Лёнички, закрыл — Лёничка. Открыл — нету Лёнички, закрыл — Лёничка. Взвыл — люди от него разбежалися.
Слава гитару сломал-выкинул, без угла-по-друзьям пропал. Друзья-по́ют, кормят, по́ют-пою́т-уговаривают. Ну и не надобно. Ну и ладнобно. Ну и подумаешь. И чего ты так разлюбовился? Дальше лучше человек пойдет, посиди-подожди, на сердце подуй — поостынется.
Слава пил-кивал, пел-кивал. Через восемь дней после сна-души пробудился он, вышел в солнце, шел-шел-шел, никуда не сворачивал — прямо к Лёничке на глаза. Стоят, слова вымолвить не могут. Козырек больничный от дождя прикрывает. Слава молча молит, Лёничка молча нетует. Тебя — нет, лжи — нет, страха — нет, — Лёничка нетует. Я — вот, любовь — вот, счастье — вот-вот, — Слава молит. Лёничка упрямый: нет-нет-нетует.
Лёничка в себе душу держит, но сдержать не может. Расплясалась та в животе от радости: что мне твоя ложь, раз такое делается? С людьми бороться — да пожалуйста, с любовью — нипочем не справишься. Сам — нипочем не справишься. Выдохнул Лёничка, снова начался. Слава улыбнулся, глаза руками закрыл. Открыл — Лёничка, закрыл — Лёничка. Открыл — Лёничка, закрыл — Лёничка.
Снова началось-закрутилося. Теперь так: Слава-Лёничка, что ветер с лицом, каждый день по улицам, переулкам встречаются. Хозяйка племяннику комнату обещала — отписала, Славу без жилья оставила. По друзьям живет — раскладушечно: душой ладный, друзьям на радость. Теперь так: Слава отпоет, а Лёничка тетку-Тому с ложки покормит, утку вынесет, медсестре-картонной денег даст. На углу остром встретятся, молчат, дышать боятся. Недайбог тебя потеряю, как дальше выживу? Отец-Чёлка снова на крюк влез, а рана-мать опять загноилась. Кто, кроме Лёнички, за теткой ходить будет? Куда он теперь, куда-глаза-глядят? Слава не в обиде, он все давно узнавший, без-Лёнички поживший-да-не-выживший, всё понимает, всё стерпит. Но вот бы хоть разок с глазу на глаз свидеться. Человек — вот, чувство — вот, счастье — где?
И вот наступил новый за-нас-день. Собрались отец-Чёлка и рана-мать в богоугодный-дом про тетку-Тому-цветок договариваться, далеко поехали, в Тульскую область, чтоб дешевле. Решила рана-мать квартиру Томину продать, ту саму выкорчевать и в ведро-для-сорников-засунуть. Все равно лежит — с земли не встанет, к солнцу не потянется. А отец-Чёлка что? Он рану-мать слушает, она во всем ему истина. А садовник что? А садовник, стало быть, не прочь, раз ведро есть. Уехали родители, Лёничка Славу к себе позвал. Человек — вот, чувство — вот, счастье — вот-вот.
Слава гитару не взял, пошел к Лёничке. Встретились, друг на друга смотрят, сло́ва вымолвить не могут. Человек — вот, чувство — вот, счастье — вот. Вдруг из больницы — дзынь, тетка-Тома-цветок зовет, говорят Лёничке: очень капризная стала-расколотая. Вздохнул Лёничка — туда-обратно обернусь, благо ближний свет. И остался Слава в доме Лёничкином, дожидается Лёничку.
Прибежал в больницу Лёничка — утку сменить, тетку-помыть-покормить, кровать заправить. Лежит тетка-Томочка, цветок сломанный, с клумбы сорванный, не дышит. Испугался Лёничка, сердцем голым вздрогнул, к тетке подошел. Она глаз приоткрыла, племянника увидала — вдруг, ни с того ни возьмись, вскачет, милая, и как давай плясать! Как давай напевать, хорошая! «Я исполняю танец на цыпочках…» Лёничка так и сел. Вот садовник где, о всех цветах своих помнит, даже о гнилых и сломанных. Из ведра тетку-Тому вытащил и снова на землю поставил.
Той порой Слава друга в доме его дожидается. Скучно стало: думает, кино погляжу. Полез в дисках копаться, там как раз рана-мать деньги прятала. Смотрит Слава на пачку в своей левой, диву дается. Тут родители Лёничкины в квартиру заходят. Лёничка той порой с теткой-Томой в палате пляшет, садовника благодарит. Рана-мать и отец-Чёлка на Славу и деньги смотрят, шину треснувшую благодарят. Тут вдруг мать криком лопается, гноем Славе глаза брызгает, мужу в милицию звонить велит.
Лёничка домой приехал радостным, а там рана-мать и отец-Чёлка пропажи ищут, весь дом с ног на макушку. Рана-мать бьется, пульсирует — кольцо бабкино найти не может: забыла, как соседке год назад на шкаф выменяла. Лёничка как про вора услышал, сердце в ноги уронил, оно по полу волочится, больной след оставляет. Ночь не спит наш Лёничка — ложь дебелая косы свои заплетает и песни Славины до зари хрипит.
Слава утренний, в милиции запертый, ничего так и не сказал с самой квартиры Лёничкиной, только песню под носом тянет, что вчера ложь пела. Входит Лёничка, совсем сделался старый-проклятый. Сидят, друг на друга смотрят, слова вымолвить не могут. Человек — вот, чувство — вот, счастье — где? Родители Лёничкины, рана-мать и отец-Чёлка, тут же понатыканы. Мать ноет, отец-Чёлка молча виснет. Следователь Лёничку спрашивает: знаете ли вы того-этого? Лёничка молчит, Слава песню напевает. Мать пульсирует, отец вот-вот отвалится. Лёничка стопорится. Сам не мог — люди помогут, сам не мог — страх поможет, сам не мог — ложь вырежет. Не знаю того-этого, лжет всем Лёничка. Не знаю того-этого, лжет себе Лёничка. Избави, ложь, избави, ложь, от любви избави! Тебя — нет, лжи — нет, страха — нет. Человек — вот, правда — вот, вор — вот. Заплясала, закрутилась ложь, телесами толстыми зашатала, косами тяжелыми всех задевает, улюлюкает. Думал, ложью от лжи спасется, ложью любовь отскребет, — а сам с ложью остался. Без любви остался. Слава петь замолк. Увели его. Рана-мать в часы — щас молочный наш на замок, не пора ли нам дальше жить?
Жил-был Лёничка, парень шебутной, парень радостный. Дальше сердцем голый стал, осчастливленный. Потом без души остался — ложью сватанный, любовь предавший. Нынче чугунный ходит, из себя жизнь выдавливает — да выдавит. Рана-мать все воет да гноем плещется, отец-Чёлка все висит — кроссворды гадывает, тетка-Тома в клумбе растет и на мосту пляшет. Музыкантов уличных благо в городе много сыщется. Люди — вот, чувства — вот, было — вот. Тебя нет: страха — нет, лжи — нет, любви — нет, меня — нет.
Сказка не ложь — и нет в ней намека, а только правда. Кому ложь — ложка дёгтя, а кому ложь — ложка мёда. Всё одно: без лжи не обходился на свете ни один плохой, ни один хороший человек. Лгал-живал. Лгал-пропал.
Номинация Поэзия Второе место
Дана Курская Сборник стихотворений
Меланоцет Джонсона
В кабинете пыльном Джонсон кладет пинцет двигает микроскоп моет стеклянный сосуд Этим январским утром миру подарен меланоцет Джонсона стоп так отныне его зовут Если ты вечность жадно желаешь схватить за хвост дам я рецепт чтобы вы с ней сплелись открой, своей смерти этим замедлив рост, меланоцет именем поделись Хищный удильщик, ты мой отныне весь плыви, моя кроха лампочки на усах Каждый мечтает, как может, остаться здесь: Палочки Коха ленточки Мёбиуса А когда вдруг наступит, Джонсон, и твой черед уходи как январь тихо и не скорбя — Где-то в темных глубинах самых глубоких вод плавает тварь, обессмертившая тебя.МК-тупик
настигающий образ моря подкожный бойлер кровь стучит в висках как будто нога в трамплин пей из глаз моих только юные песни пой мне в тишине узнаю — «ДДТ», «Наутилус», «Сплин» их аккорды взлетают в космос, сбивая звезды словно ядерный взрыв, обрекающий пустовать образующий только пропасть и только пропасть и из пропасти прорастает диван-кровать за которой вздымают волны пустые скалы на остывших плитах вращает жерло воронка дна и засасывает сползшее одеяло снежный путь — начало и смерть как фонарь видна зажигалку во мне в этот миг заслони от ветра кремень высечет в сумраке молнией злую нить ты губами из пачки вытянешь сигаретку: «детка, слушай, надо это как-нибудь повторить»* * *
за гробом нету ни черта ни ангела с трубою какие там еще врата никто от люльки до креста не свяжется с тобою прощаться надо навсегда по вехам и минутам какого там еще суда ты ни туда и ни сюда и никого не ждут там и только пыльный василек Растущий за оградой хоть синий глаз его поблёк встает безверью поперек не тронь его не надоШкатулка
Под снежным шепотом чуть дремлет многоглавый, За несколько столетий подустав. И вздрогнет утро за Рогожскою заставой. На Тихорецкую отправится состав. Движенье повторяется веками — Погаснут на Арбате фонари. Но тут в окне на Коптевской механик Спасет нас всех, промолвив: «Отомри…» Казалось бы — зачем мешать земному? Чем сдержишь ритм пружины городской? Но снег уже ложится по-иному На крыши Долгопрудной и Тверской. Как будто в механической шкатулке Вдруг сбился стук стальных крученых жил. И заново змеятся переулки На карте города, в котором ты не жил. Ведь механизм отныне неисправен. Он прав был, эту шалость совершив. …По Красной площади стремглав идет Гагарин И повторяет в ужасе: «Я жив!»* * *
говорят, ее чувствуют как удар с чем-то часто путают Божий дар но ее не спутать в нервов тугой клубок не сложить как жужелку в коробок говорят, нависает штормом, бурлит рекой а у нас февраль в окне и покой а у нас в духовке брокколи и минтай — Почитать тебе сказки Пройслера? — Почитай. говорят… впрочем, пусть себе говорят пусть у них она словно импульс или разряд ведь у нас есть тоже своя беда — Почитать тебе Антокольского? — Никогда! но когда пора отходить ко сну я мой смысл обретаю во всю длину — Приготовить на утро яичницу? — Приготовь. …если здесь не любовь, тогда что — любовь?Ваганьково
Земля принимает с одиннадцати до шести В прочее время можно здесь погулять Легкий ветер в листьях прошелестит Если хочешь — пробуешь разгадать После двенадцатой рюмки выползет темнота И накроет край, где никто не считает дни Если хочешь — закрой глаза, посчитай до ста И тогда отовсюду выйдут к тебе они Вот тогда и расскажешь про гулкий свой бой часов Про панельный дом, где тебя ах никто не ждет В этот край оградочных адресов Ты пришел унять под ногами лед Расскажи им про деньги в стылой своей горсти Про холодную одноместку свою кровать Как ты принимаешь всех с одиннадцати до шести В прочее время стараешься погулять Как дрожит в больной руке твоей карандаш Как дрожит звезда по ночам у тебя в груди И тогда они скажут: «Ты тоже, ты тоже — наш. Вот поэтому больше не приходи».Непрощенные
Восемнадцать суток не ела и не пила воды. Не ходила во храм, пряла по-иному пряжу. Федеральный канал засигналил заставкой «Не ждите беды!» И страна взволновалась — а что там по радио скажут. В интернете скандал: папа Римский изрек, что прощают не всех. Трактовавший небесную твердь призывал к изменению фабул. …И стояла на шатком балконе, упрямо таращась наверх. В этот день был разбит объектив телескопа «Хаббл». Вскоре замерли фабрики. Схлопнули свет маяки. Банкоматы пищали в ночи: «Ожидайте расплаты!» …Молча терла виски, когда люди схватили штыки И толпой непрощенных направились вдруг к Арарату. И идут к изголовью горы, и сдают никому города. И за каждый шажок на телах проступает расправа. …Тихо спустится вниз. Я спрошу: «А меня-то — куда?» Но она всё молчит. Только крестит нас слева направо.Бабушка моя
Существуют мужья, подло обманывающие немолодых жен. Некоторые финансисты ловко подделывают цифры в годовых отчетах. Современные школьники умудряются затирать двойки цифровым ластиком в электронных дневниках. Все брешут кто во что горазд. Я — чудовищно вру своей бабушке. — Как ты, Мурзилка? — спрашивает она меня, наклонив голову вбок, как старая канарейка. И я с идиотской улыбкой ей вру: — Хорошо. — А как муж? — и бабушка щурится, чтобы лучше меня услышать. И я снова вру с идиотской улыбкой: — Так любит меня! Работает эм… замначальником… эм… на заводе. И бабушка удовлетворена — завод, замначальник, любовь. — А что там с работой? — Отлично! С работой отлично! Я просто купаюсь в купюрах, клиентах, заказах! — Откладывай в сберкассу! — в бабушке просыпается главный бухгалтер. Откладывать — это я люблю. — А как там стихи? Набираю в легкие побольше воздуха: — О, замечательно! Вчера меня публиковал «Новый мир». Но бабушка хмурится — код не прошел. Тогда по-другому. — Недавно звонил Максим Галкин, просил почитать в «Голубом огоньке». И бабуля довольно кивает — уж Галкин ей ясен. — Легко тебе, Даник? — Легко! Мне предельно свободно! Мне солнечно, радостно, весело! Все обожают меня! И бабушка подслеповато глядит на меня, как на солнце. И ей девяносто. И помнит она через раз. А завтра я снова приеду и всё повторится — Нучтотамсработой-амужкак-легколивмоскве. — Бабулик, давай о другом. Помнишь фильм «Дело было в Пенькове»? — Не помню. — А помнишь войну? — Нет, не помню. Давай о тебе. …Все мы врём, насколько позволяет нам наша подлость и нежность. И я здесь — банальный солдат на топком поле бессмысленной светлой лжи. Но ведь, если вдуматься, коварная старуха сама меня с детства приучала к вранью. В ответ на вопрос «Ты всегда будешь рядом?» Шептала: «Всегда».My Dan
вот потому и не сплю снится больная ересь черти по осени стали в два раза злей переведи меня через это через my dan и стопарик еще налей. нет, не засну снятся кресты да кочки папиным свитером выросший темный лес я ведь была когда-то любимой ночкой что? Заговариваюсь. Пьяная. интерес — — но если тебе позвонят, Мы ведь не снимем трубку Знаем мы кто звонит у них по ночам Горлышком новой бутылки труби побудку Что? Нет, не сплю. Слава вам, трубачам. Если засну — Считай, перевод окончен Ты меня, то есть, все-таки перевел Через my dan Через мрак И угрозы ночи На лишь тебе понятный язык времён. Вот и заснула I’m sorry I’m yes I’m no Мне не приснятся Клиенты Фейсбук аборт носом в твое плечо как будто дредноут что, непутево скитаясь, нашел свой порт.Жертвоприношение на прудах
Затем она уселась на пиджак, Свои ладони под себя поджав, И чем-то важным пах вечерний воздух. Священной дозой стали двести грамм. «Здесь все цветет, — сказал ей Амирам, — Совсем иначе было в девяностых. Здесь не было и трети здешних вод, А вдалеке не высился завод, И берег оглашался женским всхлипом. Здесь было мрачно, гулко и темно, Так длилось бы столетиями, но — Но Бог явился, и запахло липой…» Рассказ прервал далекий рыбий крик. Глубоководный не поймешь язык, Но Амирам вдруг улыбнулся ровно. «Эх, что-то раскричались на беду…» «А где же этот бог живет?» «В пруду. Но он спасает только хладнокровных. А я тебя запомню молодой». И, свесив ноги прямо над водой, Она молчала, думая о разном. Был берег светел, а закат бордов. И мутный бог Борисовских прудов Крестил ее ступни волнообразно.Бывальщина
Тили-тили-трали-вали Мы сюжет вам откопали Поиграл пацан в качели И его не откачали Плачет баба вся в печали И задержка две недели ламца дрица гоп цаца как рожать от мертвеца Ах ты мой придурок милый Ты не знал, что станешь папой переехал жить в могилу над тобой стоят с лопатой вот допился шалопай землю в яму за-сы-пай Баба всё ревет и плачет Как одной решить задачу Ночью снится женишок А на шее ремешок И она совсем не рада Что он в гости к ней зашел Поцелуев влажный шелк но мерещится ограда Не летай куда не надо Будет спаться хорошо Баба все шипит в пространство Хватит там гонять балду ты не спрячешься в аду я тебя и там найду за такое окаянство я сама к тебе приду вот такая кинолента за посмертные аферы за прекрасные моменты ты мне должен алименты хоть и смылся в стратосферу ламца дрица гоп цаца мы хотим обнять отца ну а если не смогу если мне не хватит сил то пожалуй к четвергу до тебя дойдет наш сын Приняла решение — вот И баюкает живот баю баю мальчик пай завтра к папе за-сы-пайГроза
Они вопрошали: «И с кем, Катерина, ты шлялась всю ночь?» Они утверждали: «Мы просто хотим помочь!» Шептали, косясь на Волгу: «Ты только скажи — зачем?» Отвечала, рыдая: «С Борисом Григоричеееем!» Они заставляли: «Покайся в своих грехах!» Крестилась пред каждым — дело, мол, не в стихах. И сверкала зарница в каждой ее слезе. «Быть грозе! — говорили они. — Быть грозе!» Дураки вы, это не та Катерина, это совсем другая. Эта приехала в Кунцево на трамвае. На скамейке бульвара сидеть удивительно хорошо. И ее снимает на камеру сам Меньшов. И она настоящий директор завода, не просто зам. И Москва не верит ни грозам и ни слезам. И в потоках воды чуть дрожат ее фонари. «Как я долго искала тебя», — говорит. И всё смотрит как дура ему в глаза. …Над Москвою в июле херашит гроза.Коррозия
Едва лишь месяц выйдет из-за туч И вниз протянет свой тоскливый луч, Позолотив карнизы ржавых крышек, Как ты проснешься в комнате одна, И в волосах проступит рыжина, Как ржавчина, что с каждой ночью ближе. Ты молишься: «О, хромовый оксид! Яви мне свою зелень и спаси! И ниспошли всем свет графитной смазки! Даруй мне солидоловый покой!» Но дальний скрежет свалки городской Напоминает о другой развязке. Таков удел любого вещества. И ржавчина, вступив в свои права, Сухою сукровицей оплетает тело, Став коркой на оржавленном виске. Ты воешь в металлической тоске. Но разве ты не этого хотела?Прогулка
что вы, я так гуляю город умылся весной те, кто казались прахом те, кто теперь связной те, кто взошли на плаху те, кто не умирал те, кто прошли по краю в небе поют хорал те, кто любил, неслышно шлют на мой лоб лучи я для них главный, беспечный, хоть и последний герой лет уже тридцать с лишним кто-то из сердца стучит двери недолговечны Боже, открой открой* * *
Теплый майский закат будет прерван дождем. Мы с тобою по рельсам куда-то идем. В рюкзаках наших — хлеб и вода. И по рельсам не едет беда. Говоришь: «Не печалься, мой глупенький друг. Видишь — в светлой траве рыщет маленький жук. По каким-то жучиным делам. Так и нам с тобой. Так и нам». …Эти рельсы уже никуда не ведут. И закат догорел: я не здесь, ты не тут. Мы наделали глупеньких дел. В рюкзаках теплый хлеб зачерствел. Знаю то, что случилось потом. Воду пью окровавленным ртом. Я хотела бы помнить про каждый синяк. Верить в каждый удар, каждый крик, каждый враг. Но декабрьское небо дрожит в синеве, И я помню про рельсы, Про жука по траве.Колыбельная для Гриши
если приснится смерть, не закрывай глаза будешь всю ночь смотреть — утром пройдет гроза в полдень пойдет снежок, к вечеру будет лед как мне с тобой хорошо — кто-нибудь пропоет Светел кабацкий ад — водочный запашок перешибает смрад трупов, с кем хорошо вот и пройдешь этап, сладостно согрешив слаб человек слаб жив человек живКрысоловка
Говорят, что я вовсе не умирала… …Те мальчишки, с которыми я играла, Повзрослев, со мной оставались мало, Обещав потом позвонить. Полагаю, что кто-то меня и помнит, В заоконном пространстве квартирных комнат Молча курит, из дома уже не выходит, И песочная рвется нить. Я играла для них на своей свирели, А они спасли себя, повзрослели. В опустевшем дворе дребезжат качели. Я на окна гляжу, как вор. Нам так нравилось в теплом песке валяться, А теперь эти люди меня боятся, Не пускают к окнам своих домочадцев И опасливо крестят двор. И у тех, за кого я была в ответе, Подрастают большие смешные дети, Их мамаши кладут засыпать при свете, Колыбель очертивши в круг. Их отцы им велят повзрослеть скорее, И в качели, свирель и песок не верить. И не дай им Бог приближаться к двери, Если ночью раздастся стук. И не сметь замок даже пальцем трогать. Кто стоит за дверью? Посланник Бога? Или странник, флейтой манящий в дорогу? Или серая злая рать?.. Мне так мало надо, чужие дети. И звучит за дверью на всей планете То ли детский плач, то ли просто ветер: «Выходи со мной поиграть…»Булка
Небо плечами проверив на прочность, Мрака громады из боли воздвигнув, Бездну потрогав минувшею ночью, Утром шагаешь за булкой с повидлом. Осень набросила на Подмосковье Газовый плат с ярким люрексом света. Все, что во тьме было чертано кровью, Стало бордовым кустом сухоцвета. То, что всю ночь в тебе билось и выло, Разом омылось в берлинской лазури. Сдобная булка, густое повидло — Мама такое на даче варила. Пенка на тазике, помнишь, — глазурью. …Парень, с тобой поступивший сурово, Рыцарь твой черный, ушедший за страстью, Злая подруга, предавшая снова. Калейдоскоп стекла плавит на части. Все они в осени этой — для счастья, Даже пусть ты для чего-то другого. В старом дворе чуть застыв осторожно, Ты наслаждаешься светом и тишью. Через секунду ты сладко простишь их. Спишешь им то, что их счастье возможно И без тебя и твоих сложностиший. И, улыбаясь прозрачным прохожим, Думаешь — больше не будет обидно. Каждый зачем-то действительно нужен. Ты здесь зачем-то действительно тоже. Может, для Бога ты булка с повидлом. фрактал Меж оградок шагаешь устало — Не допит, не допет, не умён. Ничего от людей не осталось, Кроме дат, фотографий, имен. Так шагай же, навеки прощаем, И во мне Никогда не умри. Как ты кладбища землю вращаешь — Я втройне Ощущаю внутри. Пусть шаги в этой злой амплитуде Неприемлемо будут легки. …Ведь в меня приходящие люди — Все уходят — как в землю — В стихи.Номинация Проза Третье место
Андрей Грачев Немного о семье Сборник рассказов
Муж
Алюминиевая труба двенадцать миллиметров диаметром, блестящая от масла, до упора скользнула в похожее на нору углубление. Ладонь в левой рукавице щелкнула переключатель вверх, станок вздрогнул, труба, спрятанная наполовину, трепыхнулась и замерла. Правый кулак костяшкой стукнул по красной кнопке в желтой прямоугольной оправе и отпрыгнул к аварийному стопу. Загудев, зашевелившись, станок с воем начал втягивать в себя трубу. Ву-у-у-у. Стоп. Зашипела гидравлика в шлангах, и алюминий начал гнуться под шестьдесят градусов. Снова стоп. Поворот на семьдесят градусов. Задний конец трубы выглянул, поднялся и жалостно посмотрел вверх и вбок на идущую под крышей линию окон. И снова гидравлика и гибка. Алюминий не стенал, не кричал, а молча и послушно принимал форму, к которой его безжалостно склоняли. Ролики завертелись и стали втягивать трубу внутрь, пока снаружи не остался торчать едва заметный конец. Как беличье колесо, только в сто раз медленнее, труба вращалась, пытаясь на месте убежать от наплывающего, точно нос корабля, резца. Стальная вершина на чугунном теле с протяжным свистом царапнула вращающуюся серебристо-белую поверхность. З-зын. З-зык. Зы-ы-ы-и-и-и… Подпрыгивая, полетела стружка. Конец трубы отвалился как плевок. Станок погудел и умолк. Плоский напильник прошелся по внешней кромке, снимая заусенцы. Круглый — по внутренней. Рукавица щелкнула переключатель вниз, и конец трубы чуть провалился между разъехавшимися прижимными оправами. Сафронов Алексей — высокий, крепкий мужчина с чуть выпирающим твердым животом — отнял трубу у станка и на глаз оценил проделанную работу. Довольный ею, он со звоном положил трубу на подпорки и взял новую, прямую. Снова все застонало и заскрежетало. Снова согнулся алюминий.
— Ах, зараза! — выругался Алексей и дал кулаком по аварийному стопу. Торчащая труба со вздохом опустилась, ладони в рукавицах вытащили ее из разжатых губ — на месте сгиба металл сжевало. — Тьфу ты! — плюнул Алексей. Посмотрел по сторонам, нет ли где начальника, и спрятал трубу за шкаф рядом: потом что-нибудь придумает. Затем, прищурившись, подкрутил циферблаты станка и сунул в «нору» новую трубу. На этот раз все прошло удачно.
Размеренно, не спеша, Алексей согнул пятнадцать труб, и сквозь гудение и стук цеха свистнул погрузчик. Подъехавший Серега ткнул пальцем в трубы, кивнул и подцепил груз легко и непринужденно. Неторопливо сдал назад и, развернувшись, покатил к воротам.
Сафронов подмел свой участок, перемешанную с грязью стружку высыпал в корыто, затем протер станок, выключил его и пошел в курилку. В ожидании обеда в каморке в центре цеха собралась половина бригады, одни мужики, почти все пенсионного возраста. Сидели и молдаване, которые обычно держались отдельно. Как всегда, за столом играли в дурака: трое — одной колодой, трое — другой. Остальные либо смотрели, либо дремали, либо читали газеты.
— Твое. И это твое. А это тебе на погоны. — Тощий старик с лицом, похожим на череп, положил две шестерки на плечи Кузьки и похлопал того по щеке. — Ниче, ниче, генералом скоро будешь.
Кузька обиженно убрал чужую руку от лица и снял «погоны» с плеч.
— Конечно, выиграл… Ты карты считаешь.
— А если и так? — сказал старик, разведя руками и склонив голову набок. — Кто же запрещает?
— Вон, Леха пришел, с ним играй. Ну вас… — Кузька встал, уступая свое место мастеру гибки. Алексей подтянул штаны и быстро, пока какой-нибудь расторопный не занял освободившееся место, сел на лавку.
— Что, Лешемсем, готов дураком остаться? — Старик, которого все, несмотря на возраст, называли Сашкой, улыбался. Его прищуренные хитрые глазки следили за новым игроком напротив, в то время как руки быстро тасовали карты. Сухие пальцы дробили колоду и вертели ее частями как им заблагорассудится. Настоящее представление, которое гипнотизировало всех в каморке.
— Дураком не останусь, коль не дурак, а вот с дураком — могу, если продолжишь языком чесать, вместо того чтобы в карты играть.
Сашка заулыбался, открывая голубоватые зубы. Колода, разбитая на четыре части, зажатая между указательными, средними и безымянными пальцами, с хлопком соединилась воедино. Сашка выставил колоду на ладони, и Алексей потянулся снять, но раздающий опередил его, сам большим пальцем поделив на две равные стопки. Положив верхнюю под нижнюю, Сашка принялся было метать, как Мишка, молодой бригадир, сказал:
— Давай двое на двое?
Сашка выпрямился.
— Ну-у-у, Мишунь, так дело не пойдет. Я уже раздавать начал. Давай со следующего кона.
— Ничего не начал, — ответил Михаил. — Ты только Лешке и Вовке кинул, а следующий я иду.
Сашка смотрел и не знал, что сказать.
— А он уж карты себе натасовал, вот и не хочет, чтобы ты присоединялся, — сказал Кузька; к лицу его от сигареты поднималась тонкая струйка дыма.
Сашка зло зыркнул на него, но Кузьма не отвернулся.
— Ладно, — сдался Сашка, — раз так хочешь… — И стал раздавать на четверых.
Козыри были бубны. Хищная птица на круглом щите глядела на них из-под колоды. Все посмотрели на нее, но вида никто не подал. Туз — еще не победа.
— У меня шестерка, — сказал бригадир, выставляя напоказ низший козырь.
— Ходи, ходи, — сказал старик, группируя по мастям карты в левой руке.
Михаил пошел с шестерок, и Сашка взял не задумываясь. Мастер гибки и Вовка подкинули ему.
Алексей пошел русым валетом с копьем в руках.
— Вон с каких карт ходит, — сказал Сашка, кивая на валета, — куда там натасовал…
Вовка отбился круглолицей дамой с петлями жемчуга вокруг шеи. Алексей подкинул еще одного валета. Михаил кивнул. Вовка отбил бубновой семеркой. Алексей подкинул крестовую семерку. Те, кто стоял вокруг стола, подвинулись ближе. Игра обещала быть интересной. Так и оказалось. За двадцать минут сыграли шесть конов. Три раза выиграли Сашка с Вовкой, три — Лешка с Мишкой. Подошло время обеда. Из каморки вышли те, кто не стал досматривать, чем все закончится, но были и те, кто решил остаться. Колоду уже всю разобрали. Козыри были пики. У Алексея на руках оставалось семь карт, у Вовки и Михаила — по пять, а у Сашки — одна. Тот держал ее на столе рубашкой вверх и под ладонью. Ход был Лешкин. Начал он с шестерки червей.
— У-у-у, — завыл Сашка, — у Лешемсема еще эти не ушли… Сдавайтесь, и пойдем обедать.
Никто ничего не ответил. Вовка взял шестерку.
Мишка пошел крестовой восьмеркой и не «вмастил» Сашке, у которого под ладонью прятался червовый туз. Старик, не говоря ни слова, взял карту и положил к своему тузу.
Снова ходил Алексей. Сначала положил крестовую девятку, подождал, пока ее побьют, и только затем положил бубновую. И первую, и вторую Вовка побил десятками тех же мастей.
— Бито, — сказал Алексей и одной рукой собрал и перевернул карты.
Настала Вовкина очередь ходить. Одним за другим он положил крестового и бубнового королей. Мишка побил крестовым и пиковым тузами.
Сашка не шевелился. Мишка повернулся к нему и сказал:
— Давай туза. Чего жалеешь?
— Ты в свои карты смотри, — огрызнулся Сашка.
— Я что, сквозь твою руку, что ли, смотреть могу? Я же твоим тузом под тебя и ходил…
— Бито, — буркнул Сашка и отвернулся.
Бригадир пошел сразу с двух дам и вышел.
— Козырная, — сказал Сашка, глядя на даму с цветком в руке, которая лежала по соседству с червовой подругой, — ну, тогда возьму.
Он поднял карты под ладонью, чтобы все четыре раскрыть веером.
Алексей ходил под Вовку. У того оставалась одна карта, и мастер гибки не знал какая.
— Валет! — сказал он, кладя валета с луком в руках.
Вовка побил козырной картой и тоже вышел. Остались Алексей с Сашкой. И у того и другого на руках было по четыре карты. Ходил старик.
— Дама, — произнес он, выкладывая на стол даму червей.
Алексей молча отбил червовым королем.
— Дама виней! — Карта с размаху шлепнулась поверх короля.
Алексей молча побил ее козырным королем.
— Бито, — сухо сказал Сашка.
И у того, и у другого оставалось по две карты.
— Ходи, Лешемсем, — сказал Сашка, улыбаясь.
В зеленом рабочем халате зашел Евгений Петрович, начальник цеха.
— А вы че еще не на обеде?
— Всё, всё, — ответил Сашка, бросая карты на стол рубашкой вверх и поднимая руки, — уже идем.
— Ща идем, Евгений Петрович, ток доиграем, — сказал Мишка.
— Играйте-играйте, — разрешил начальник, засовывая руки в карманы и придвигаясь ближе. — Я смотрю.
Сашка хмуро подобрал карты, жалея, что не кинул их лицом вверх.
— Шестерка крести — дураки на месте! — закричал Сашка, глядя на карту, которой под него пошли. Прятать свои карты не имело уже смысла, но он все равно держал их обеими ладошками, пытаясь при этом вспомнить, правильно ли он посчитал уходы. Сначала восьмерки были, потом шестерки и валеты. Козыри точно все ушли. У Сашки выходило, что у его противника была мелкая червушка. Либо восьмерка бубей. Нет, подумал Сашка, не может быть восьмерки, иначе он бы ее подбросил к крестовой…
— Ну что, Сашок, долго еще друг на друга смотреть будем? Обед уж заканчивается.
— Ты же не идешь на обед? — сказал кто-то из зрителей.
— Что не идешь-то? — улыбнулся Сашка. — Аппетит потерял?
— По семейным делам он сейчас уходит, — ответил за своего мастера начальник. — Он вчера еще отпросился.
— А заплóтят как за целый день, — с обидой сказал Сашка.
— Как работал — так и заработал, — ответил Алексей лозунгом с плаката советских времен, которых в цехе до сих пор хватало.
— Я квиток посмотрю, — пообещал Сашка.
— Ты на это посмотри, — сказал Алексей и, не дожидаясь, когда противник побьет его первую карту, бросил вторую — бубновую восьмерку — на стол.
Все зароптали и засмеялись. Хорошо Лешка сказал, прежде чем Сашку в дураках оставить.
Сашка кинул карты рубашкой вверх.
— Не считается, — сказал он, вставая. — Я на голодный желудок не умею играть — мозг без подпитки не работает.
Все засмеялись.
— Дурную голову корми не корми — умней не станет, — сказал Алексей, и все засмеялись еще раз.
Сашка молча закурил. Все остальные шумно повалили из каморки в заглохший цех и двинулись в столовую.
Начальник взял своего мастера гибки труб под руку и повел в раздевалку, оставив Сашку одного.
— Ну как там Танька-то? — спросил Евгений Петрович.
Они проходили мимо плаката с женщиной в красной косынке и с приложенным к губам пальцем. «Мастер! Всё ли ты сделал для безопасности работы?» — гласила подпись.
— Нормально, — отвернулся Сафронов.
— Ты ей там привет передавай. — Алексей подозрительно покосился на начальника. — Пускай быстрее выздоравливает, — пожал плечами тот.
— Передам, — буркнул мастер гибки.
— Я к тебе зачем подошел, Леша. В субботу выйдешь?
— Нет.
— Халтурка вырисовывается, — заговорщически сказал начальник мастеру.
Очередной плакат напоминал им: «Будь начеку, в такие дни подслушивают стены. Недалеко от болтовни и сплетни до измены».
— Давай в пятницу.
— Не, в пятницу нельзя. И в четверг нельзя. В субботу только трубы будут. Там работы на два часа. Выпишем тебе пропуск, как на уборку территории. Ну?
— В выходные отдыхать надо.
— А по средам — до четырех работать.
Алексей молча поднимался по ступеням. Начальник не отставал.
— Хорошо, — сказал мастер, — выйду. Но на два часа, не больше. Я серьезно говорю.
— Ну вот и договорились, — обрадовался Евгений Петрович. — Только не забудь, хорошо? Я тебе еще в пятницу напомню.
Алексей открыл шкафчик и стал раздеваться. Начальник еще что-то спросил про погоду и проезд и, только когда мастер разделся, словно этого он и ждал, ушел. С металлической плошкой в руках, в шлепанцах, голый Сафронов пошел в душевую. В раздевалке, как всегда, было прохладно, и мурашки покрыли крепкое белое тело мастера. Пару минут — и в душевой стал подниматься пар. Алексей взял из плошки жесткую мочалку и мыло, и белая пена окутала его с ног до головы.
Когда Алексей вышел обратно в раздевалку, досуха вытирая голову, оделся и стал искать кошелек, того нигде не оказалось. Он еще раз все проверил. Кошелька нет. Плюнув на пол и уперев руки в боки, Сафронов стал думать, где и как мог потерять бумажник. Нет, ну точно утром он его в ящик клал, думал он, рядом с биноклем лежал. Не украли же его. Евгений Петрович, что ли. Ну-у-у-у, не может такого быть. И тут все понял: Сашка. Пока Алексей был в душе. Как же он не закрыл дверцу? Ни на минуту нельзя отойти.
Вдоль рядов ящиков, мимо бюро пропусков, в сторону столовой пошел Алексей, загребая руками и заглядывая в каждую встречавшуюся по пути урну. В мусорном ведре на остановке, чуть-чуть не доходя до столовой, лежал кошелек. Алексей достал его, отряхнул, пересчитал — все оказалось на месте. Вздохнув, он вернулся в бюро, получил пропуск и двинулся в столовую. Сашка сидел вместе с остальными. Выглядел он довольным, но, увидев мастера, сразу притих.
— Приятного всем аппетита, — сказал Алексей.
— Спасибо, — хором ответили обедающие.
— А ты че решил зайти? — спросил Кузька.
— Да вот еще раз хочу Сашку в дураках оставить, — ответил Алексей и под смех товарищей больно хлопнул старика по плечу. Сашка никак не отреагировал: молча, исподлобья смотрел он куда-то вперед, пережевывая гречку. — Молоко да пирожок купить в дорогу, — продолжил мастер, доставая кошелек, и раскрыл его перед лицом старика. — Почём с повидлом?
— Восемнадцать.
Через минуту, проходя обратно с пирожком и молоком в руках, он кивнул товарищам за столом и пошел к выходу. «Чего хмурый, Санек?» — услышал Алексей, прежде чем за ним закрылась дверь.
Алексей вышел из автобуса и посмотрел по сторонам, задерживая взгляд на проходящих мужчинах. Погода стояла теплая и солнечная, что было хорошо: в прошлый раз на морозе он простудился.
От остановки Сафронов двинулся через сквер. Снег на газоне уже растаял, но земля была сырой, как мокрая половая тряпка: под подошвами поднималась и пузырилась вода. Алексей вышел на скользкую тропинку и пошел по ней, мимо островков неба в мутных лужах. В обед на улице народа было немного. На все еще голых деревьях сидели грачи. Сафронов пересек дорогу, вошел во двор и прошмыгнул к лавке на детской площадке. Оттуда медленно, как абордажной кошкой в воде, он обвел взглядом все вокруг — упаси бог зацепиться за что-нибудь. Крючья остались ни с чем.
Выдохнув, Алексей вытащил из сумки бинокль и сфокусировал его на зарешеченном окне почты, за которым женщина, чья красота была видна с любого расстояния, перебирала письма. С ее затылка тяжело свисала черная, толстая, как рука мужчины, коса. Лицо женщины было круглое, слегка смуглое; глаза голубые, чуть раскосые; нос небольшой, с плоской перегородкой; губы красные, полные, манящие. Тело пышное, фигуристое. Серый пиджак на черной водолазке, брюки темного цвета. В юбках женщина на работу не ходила.
Алексей кошачьими объективами следил за канарейкой в клетке, за каждым ее жестом, выражением лица. Женщина улыбнулась, и сердце его заколотилось. Что?! Почему? Почему заулыбалась? В чем причина? В КОМ причина?! Не отрываясь от окуляров, Алексей сделал шаг вперед, прикованный взглядом к почтовым окнам. Никого. С кем там она? С кем посмела смеяться? Вот кто-то вышел из-за стены. Мутная фигура. Сафронов слишком близко приблизил, ничего не разглядеть. Какая-то женщина, со спины не узнать. Алексей плюхнулся на скамейку. Он весь дрожал. Ему понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться и сдержаннее продолжить слежку.
За час ничего не поменялось. Только живот урчал, прося чего-нибудь съестного. Зря Алексей не пообедал с товарищами, а поспешил на пост. Оторвавшись от бинокля, он, щурясь, посмотрел на мир невооруженным взглядом. Над подъездом соседнего дома вывеска белыми буквами на зеленом гласила: «ПРОДУКТЫ». Бросив взгляд на окна почты, Алексей сорвался с места и поспешил в магазин. Через две минуты, не больше, он вернулся с запеканкой и киселем, — но лавку уже заняли мамы, чьи дети играли в песочнице. Сафронов досадливо скривил лицо и сел на соседнюю скамью. С нового места стол, за которым работала красивая женщина, был виден плохо, зато просматривалась та часть помещения, которая ранее была скрыта за стеной.
Следующий час работница почтамта перебирала и выдавала письма, болтала с коллегой и один раз вышла покурить на улицу. Когда Алексей увидел ее с сигаретой, ему захотелось подойти и выбить гадость из ее руки, но он заставил себя остаться и продолжить наблюдение, и, как оказалось, не зря.
Часам к четырем подъехала синяя газель с белой и красной полосой на борту; из кабины вышел молодой человек в кепке. Водитель зашел в заднюю дверь справа от окон, где работала красивая женщина. Алексей видел его улыбающуюся нахальную рожу. Не было прав у него так вести себя с ней, думал Сафронов, не было прав. Вошедший что-то проговорил и скрылся за стеной. Коллега красивой женщины вышла через противоположную дверь, оставив ту наедине с молодым человеком. Алексей сглотнул. Медленно, как в старом вулкане, паскаль за паскалем, в нем поднималось давление. Женщина широко улыбалась, но прикосновений водителя избегала. Он бы не стал распускать руки, если бы не ее лукавый взгляд чуть раскосых глаз, подумал Сафронов. Сердце его колотилось: он и хотел застать их за непристойным поведением, и боялся этого. Женщина рассмеялась, обнажив белые ровные ряды зубов и ямку между ними. Сафронов закусил кулак и издал похожий на хныканье звук. В помещение вернулась коллега женщины, и водителю пришлось разбираться с бумагами, после чего он пошел выгружать и снова загружать машину новыми посылками. Закончив, он ласково и елейно попрощался с красивой женщиной, так же — с ее коллегой, его соучастницей, и вернулся за руль. Но не успел он выехать со двора, как дорогу ему перекрыл крепкий мужчина. Алексей поднял руку, прося водителя не спешить, и подошел к машине. Молодой человек опустил стекло и спросил:
— Чего тебе?
Алексей спокойно, чуть с улыбкой, по-хозяйски положив руку на окно, сказал:
— Здорóво, меня Алексеем зовут. Не подскажешь, как к Танюхе пройти?
— А зачем она вам? — На лице водителя появилось недоумение.
— Навестить хочу.
— А вы ей кто, простите, будете? — спросил молодой человек, уже зная ответ.
— Муж ее. — И Алексей постучал золотым колечком по выступающему из двери стеклу.
— Черная дверь, — буркнул водитель.
— Спасибо, — ответил Алексей, — можешь езжать, Вадим.
Водитель отдернул пропуск на груди.
— Аккуратнее на дороге, — добавил Сафронов, — на пути кого только не встретишь.
Он отошел от двери машины и дал ей отъехать, взглядом провожая беспокойное лицо водителя в боковом зеркале. Потом постоял немного и вернулся на свой пост.
В конце рабочего дня Татьяна вышла из здания, улыбаясь своим мыслям. Она медленно спускалась по лестнице, придерживая ногу над каждой ступенькой. Когда она увидела Сафронова, на светящемся ее лице полыхнул испуг.
— Привет, — сказал он ей.
— Привет, дорогой, — улыбнулась она ему как ни в чем не бывало и продолжила спуск, на чуть подкашивающихся ногах. — Ты что тут делаешь?
— А то ты не знаешь.
Она подошла и поцеловала гладко выбритую щеку.
— Курила, — сказал он ей.
Она знала, что от нее не пахнет, и знала, что отрицать бессмысленно.
— Выкурила одну. День ужас какой тяжелый был.
Она взяла его под руку и, торопясь, потянула в сторону дома.
— Как у тебя день прошел? Давай зайдем в «Пятерочку», поможешь мне донести пакеты.
— Что за Вадим? — спросил он, не глядя на нее.
— Водитель наш. — Татьяна нервно рассмеялась.
— Что ты с ним лясы точишь? А?
Голос Алексея был негромким, но вибрирующим. Татьяна хорошо знала: когда он таким становился, ничего хорошего это не предвещало.
— Да ему лишь бы поболтать, работать совсем не хочет.
— А ты только рада, что он за тобой увивается? Давно не получала?
На чуть раскосых глазах Татьяны выступили слезы.
— Прости. — Она прикладывала силы, чтобы не зареветь при идущих навстречу прохожих. Она знала, что, в отличие от нее, Алексею до людей вокруг не было никакого дела. Их взгляды только могли подстегнуть его поднять на нее руку. — Ну ходит он ко мне и ходит, что я могу поделать, он же работает с нами.
— Увольняйся, — отрезал Алексей.
— Опять? Я только-только пообвыклась. Рядом с домом же. — Она взяла его ладонь в свои, прижала к груди и развернула к себе. — Ну не надо, прошу тебя.
Иногда жалость в нем все-таки пробуждалась. Может быть, мольбу «Лишь бы он поверил» он принял за мольбу «Сжалься надо мной», а может, уже поговорил с Вадимом, но она услышала:
— Даже не думай ему улыбнуться. А то нечем будет.
На этот раз он посмотрел ей прямо в глаза. Кончик языка Татьяны сам потянулся коснуться переднего искусственного зуба.
— Не буду, — заверила она мужа, — не буду, — повторила как заклинание. — Спасибо, — искренне благодарила она его.
Слово Татьяна сдержала. На следующий день, когда приехал Вадим, она опустила глаза в пол и не поднимала их, пока водитель не убрался. Уезжая, он заметил Алексея, который, скрестив руки на груди, коротко кивнул ему.
Наступила суббота. Алексей проснулся рано, тихо прошел в ванную, умыл лицо и, как всегда по выходным, растолкал жену. Той хотелось еще поваляться в постели, но муж повысил голос: не настолько, чтобы разбудить Андрюшу, спящего в той же комнате за сервантом, но достаточно, чтобы жена вяло поднялась и села в кровати. Ее голова сонно висела, спрятавшись за копной растрепанных волос. Пересилив себя, Татьяна встала и, шурша тапками, поплелась к зеркалу.
Через час все семейство ело побеленный сметаной борщ, откусывая ржаной хлеб с тонким слоем горчицы. На маленьком телевизоре «Sharp» шли мультики. На столе хлопотами Татьяны был порядок, к которому она была равнодушна. За несколько последних ложек супа, как по часам, она поставила перед мужем и сыном кружки с горячим чаем и забрала у них пустые тарелки. Вытерев рот чистым полотенцем, Алексей перешел к чаю, в котором плавала долька лимона. Восьмилетний Андрюша схватил конфету и убежал в комнату, на полпути, в коридоре, крикнув через плечо «спасибо».
Татьяна дотронулась до пустой чашки с нарисованным тельцом, посмотрела на мужа и, когда тот кивнул, убрала ее со стола. Алексей взглядом проводил ее спину до умывальника, затем опустил глаза чуть ниже. Причмокнув, он поднялся из-за стола и подошел к жене. Его нос нырнул в густоту ее волос на затылке и втянул зарытый в них аромат. Ладонь коснулась талии и медленно спустилась к бедру. Другая рука легла на грудь и сжала ее, от чего сжалась и вся Татьяна. Она откинула голову назад и приоткрыла влажный рот. Алексей поцеловал ее полные губы и просунул язык между ними. Ладонь от бедра проделала долгий путь к шее. Движения мужа стали напористее. Он развернул ее лицом к себе. Она обняла его и, заглянув в глаза, сказала, что посуда может подождать.
Сначала Алексей хотел кивнуть, согласиться, сказать «да» — но вдруг отпрянул и — как кулаком по столу — велел жене не отлынивать от дел. Татьяна какое-то время смотрела на него — то ли разочарованно, то ли вызывающе, надеясь, что муж передумает. Сдавшись, она послушно повернулась обратно к умывальнику, шумно пустила воду и начала греметь тарелками. Алексей постоял у нее за спиной, пытаясь успокоиться, и, не успокоившись, пошел в комнату, где с час не мог найти себе места, пока в животе не улеглась еда. Тогда он взял сына и на шведской стенке по очереди с ним стал подтягиваться на турнике, подход за подходом сжигая в себе энергию. Когда руки уже начали дрожать, а на спине и лице остыл пот — только тогда Сафронов пошел в душ.
Алексей насухо вытер тело, вернулся в комнату, сел и посмотрел от начала и до конца матч по футболу, после которого, не говоря ни слова, он переоделся, надел часы, причесался, поцеловал сына в черный водоворот на голове и, прежде чем уйти, зашел на кухню за мусором. За столом, пока в казане готовился плов, Татьяна подпиливала ногти.
— Ты куда? — спросила она, забыв о пилочке в руке.
— В гараж.
Он всегда говорил, что идет в гараж, что могло значить и «на десять минут», и «на целый день».
— Когда вернешься?
— Когда надо.
Он хлопнул дверью и, не дожидаясь, пока лифт поднимется на восьмой этаж, сбежал вниз по узким ступенькам. Татьяна встала у окна, чтобы муж заметил ее с улицы и сделал круг к гаражу. Тому так и пришлось поступить. Двадцать безуспешных минут он пытался завести «пятерку», пока не плюнул и не поспешил на завод пешком.
Из-за этого он опоздал. Но Евгений Петрович не осердился. Труб оказалось на час работы, и Алексей выполнил ее неторопливо и размеренно, словно и не спешил вернуться домой. Так же размеренно он убрал стружку и смазал маслом станок. Начальник долго благодарил и извинялся за то, что из-за такой ерунды вызвал мастера в выходной день, говорил, что не знал, что так мало работы будет, а знал бы — «сам бы все сделал». Сафронов посоветовал ему в следующий раз так и поступить и ушел в душевую, оставив сконфуженного начальника одного в раздевалке.
Все так же неспешно Алексей помылся, переоделся и дошел до проходной: в выходные автобусы на заводе не ездили. Но, как только он сделал шаг за территорию завода, он живо помчался домой.
Когда Сафронов вошел на кухню, тяжело дыша после подъема по лестнице, жена смотрела телевизор. Застывшие, чуть раскосые глаза украдкой наблюдали за ним. Ее молчание не понравилось Алексею. Но спрашивать что-либо было пока бесполезно. Он вымыл руки, переоделся, снял и положил в стеклянную миску в серванте часы и подошел к Андрюше, игравшему в компьютер.
— Привет, Андрюш, — сказал он сыну, присаживаясь рядом.
— Здоровались, пап, — ответил тот.
— Ничего, с хорошим человеком можно и два раза поздороваться. Гулять ходил?
— Ходил, — коротко ответил мальчик, не отрывая чуть раскосые, как у матери, глаза от экрана, где накачанная рука держала нацеленную на врага винтовку.
— С мамой?
— Не-е-е. С Костяном. Мама дома осталась.
Отец кивнул, хоть сын этого и не видел.
— Как дела у Константина?
— Нормально.
— Отец пьет?
— Пьет.
— И как Константин?
— Нормально. Грустный.
— Приглашай его в гости. Я давно его не видел.
— Ладно.
Отец растормошил волосы на голове так похожего на мать сына и двинулся на кухню. Там он сел напротив жены, посмотрел в чуть раскосые глаза и сказал:
— Чем занималась?
— Ничем. Дома целый день. С Людкой полдня по телефону болтала.
— Васька ее опять пьет.
— Знаю. Меня звал.
— Когда успел?
— Когда трубку у Людки отнял. Но я его послала. Сказала, что от нас если только ты придешь, люлей ему навешать. — Она заулыбалась. Алексей тоже улыбнулся, подсел ближе и обнял жену, выразив таким образом поощрение за хорошее поведение. Он не отпускал ее с минуту: просто хотел подержать жену в объятиях, почувствовать ее тепло. Потом носом повернул ее круглое лицо к своему и поцеловал полные губы. Все, что утром он подавил в себе на турнике, проснулось с новой силой. Он обернулся — нет ли сына рядом, — рукой смял тяжелую грудь под розовой толстовкой. Снова присосался к ее полным губам, медленно клоня голову то вправо, то влево.
— Пойдем в ванную, — прошептал он ей на ухо.
— Андрюшка дома, — заупрямилась она, будто ее это когда-то останавливало. Не иначе как за утро мстила.
— Он в компьютер свой уставился. Пойдем, пока ему в туалет не приспичило.
Татьяна лукаво улыбалась и не отвечала. Он взял ее за руку. Она сопротивлялась не больше мгновения — достаточного, чтобы сильнее прежнего разжечь предвкушение в муже. Они закрылись в ванной и прильнули друг к другу. Сафронов дрожал от нетерпения.
В коридоре раздался дверной звонок. Муж и жена замерли.
— Кто это? — спросил Алексей, не выпуская ее из объятий.
— Не знаю, — честно призналась она.
Он с прищуром смотрел на нее. В дверь снова позвонили. Алексей отпустил жену и, заправляя рубашку, поспешил открыть. Оттолкнув опередившего его Андрюшку, он заглянул в глазок и увидел незнакомого мужчину в косухе. На его растянутом в глазке лице играла широкая улыбка.
Это что еще за тип, подумал Алексей, открывая дверь.
Нерастянутое, лицо показалось ему знакомым.
— Кого? — спросил Алексей грубо.
— Оленя.
Андрюша, выглядывающий из-за спины отца, в изумлении открыл рот.
Алексей же, то ли по интонации, то ли по тому, как назвал его гость, узнал незнакомца.
— Пашка! — закричал он.
— Лешка! — закричал гость.
— А-а-а-а!!! — закричали они оба и обнялись.
— Пашка-Пашка… Сколько лет! Заходи. Олень? Сам ты олень рогатый!
Алексей провел старого друга в комнату и подвел к сыну.
— А это что за герой? — Гость присел на одно колено. — Не Андрюха ли? Давай лапу, мужик. Помнишь меня?
Андрей помотал головой, но руку пожал.
— Ого, руку мне отдавишь, силач.
Андрей еще сильнее сжал руку, закусив нижнюю губу. Гость только пуще рассмеялся.
— Всё-всё, сдаюсь. Нисколько меня не жалеешь, а я тебе из самого Екатеринбурга подарок вез.
Мальчик поспешно выпустил руку мужчины, вытаращив глаза.
— Подарок?
— Да. Вот. — Гость сдвинул на бок висевшую на одном плече спортивную сумку, открыл ее и достал автомат. — Держи. Как настоящий. Только пульки пластиковые.
— Ого! Кру-у-у-уто!
Павел засмеялся.
— Что надо сказать? — спросил отец.
— Спасибо! — выкрикнул Андрей.
— Можешь его поцеловать, — сказал отец, — это твой крестный.
Андрюшка вытаращил глаза. Крестный. Его крестный, с которым он всегда хотел познакомиться. Про которого папа говорил, что они сильно дружили, хоть и редко виделись, с которым только по телефону и общались. Андрюша сам с ним говорил по телефону один раз — на Новый год и один раз — в день рождения отца, но это было давным-давно. Он поцеловал крестного в колючую щеку и еще раз сказал спасибо, добавив на конце «крестный».
Из ванной вышла Татьяна, успевшая привести себя в порядок. Губы ее были накрашены. Как только она увидела гостя, сердце ее замерло. Друг ее мужа был красив, как только может быть красив мужчина такого типа. Волнистые короткие волосы, ореховые глаза, мужественный крупный нос и улыбка, которая могла очаровать кого угодно.
— Здравствуйте, Татьяна. — Гость сделал шаг, взял ее руку и поцеловал. — Рад наконец-то с вами познакомиться.
Трудно поверить, но они до сих пор не были знакомы. Не удалось им пересечься ни когда Павел работал в Норильске, ни когда он приезжал крестить Андрюшу. На свадьбе его тоже не было. Павел, как она знала, один раз видел ее за витриной продуктового магазина, где та когда-то работала, ей об этом рассказывал муж.
— Рада знакомству, — сказала Татьяна, улыбнувшись, и тут же почувствовала на себе тяжелый взгляд мужа. — Раздевайтесь, проходите, сейчас стол накрою.
Алексей стал снимать с друга куртку.
— Все в своей косухе ходишь?
— А ты все еще завидуешь, — рассмеялся гость.
Павел зашел в ванную, умылся и пришел на кухню. Под косухой на нем был легкий свитер. На плите грелось первое и ждало своей очереди второе.
— Тань, оставь все. Беги в магазин за бутылкой, — скомандовал Сафронов.
— Погодь бежать, — остановил Татьяну Пашка. — Ты что, думаешь, я с пустыми руками?
Он сходил в коридор и вернулся с бутылкой финской водки и свертком. В свертке лежали в несколько рядов бусы из речного жемчуга. Прямо как у червонной дамы на картах.
— Ой, ну не стоило, — смущенно сказала жена, одновременно протягивая руку и поглядывая на мужа.
Она тут же их надела и давай красоваться: то голову наклонит, то бедро выставит, то, обернувшись спиной, через плечо посмотрит.
— Хорош крутиться, — сказал муж, — не на балу. Суп наливай, Пашка с дороги.
Расстроенная Татьяна, опустив глаза, пошла относить ожерелье в шкатулку. Павел заметил ее выражение лица, но ничего не сказал — не его это было дело; и всё же быстро взглянул на друга. Алексей перехватил этот взгляд и сказал:
— Нормально все. С ней по-другому никак. Слышишь? — Из комнаты донесся голос жены, ругавшей Андрюшу за то, что тот рассыпал желтые пульки по ковру.
— Я уберу! — провыл Андрей.
— Знаю, как ты уберешь. Быстро собирай все в кучу, пока я шею не сломала.
— Слышишь? — повторил Алексей. — На ребенке отыгрывается. Жена! — крикнул он. — Отстань от Андрюшки, суп кипит. — А затем — снова другу: — В рукавицах ежовых держать надо.
Гость понимающе улыбнулся и подмигнул.
Татьяна молча вошла на кухню с высоко задранной головой, так же молча принялась разливать борщ по тарелкам. Поставив их на стол рядом с хлебом и сметаной, села подле мужа. Павел тем временем стал разливать водку, Алексей приподнял горлышко бутылки, не дав долить Татьяне доверху.
— Ей хватит.
Гость чуть было не возразил, но вовремя спохватился.
— Нельзя ей, — сказал с упреком муж. — Любит она это дело. Одну ей много, две — мало.
Татьяна стыдливо опустила глаза на неполную рюмку. Румянец заиграл на лице, полные губы сжались в тонкую красную линию.
— Ну, за встречу, — сказал Павел, поднимая рюмку и сглаживая неловкий момент.
Все чокнулись, влили водку в горло, вдохнули через нос и закусили.
— Селедочка, — сказал Павел, прежде чем отправить кусок в рот.
— Ну и гад же ты! — радостно хлопнул по столу Алексей. — Не предупредив, не позвонив. Я тыщу лет тебя не видел. Хоть повкуснее чего приготовили бы, встретили бы. Ты вообще откуда и куда?
Павел стал рассказывать, где был и что делал последние восемь лет. Вкратце Алексей всё это знал по редким телефонным разговорам, но слушал внимательно, облокотившись на стол. С не меньшим интересом слушали и остальные члены семьи. Даже Андрюша с пластиковым оружием в руках смирно сидел у отца на колене и не спешил пойти пострелять из новой игрушки. История за историей, мужчины выпили еще по одной, женщине же оставалось лишь жадно и с сожалением глядеть на свою пустую рюмку, лелея надежду, что муж разрешит выпить еще одну на ночь. «Нет, не даст, — думала она, — испугается, что не усну».
Не сильным будет преувеличением сказать, что Павел объехал всю страну. (Алексей всегда дивился другу, как тому это удается, и пришел к мнению, что человеку, которому не сидится на месте, дорога все равно что дом родной — всегда рада и открыта.) И даже на Северном полюсе Пашка побывал. И от Владивостока к Японии на корабле плавал.
— Эти японцы, — все время повторял он, — эти японцы… Инопланетяне. Интереснее народа я в жизни не встречал. Даже китайцы — и то понятнее, чесслово. Япоши всех иностранцев гайдзинами называют. Белых людей шугаются. Но это в селах, конечно, в городах люди привыкшие.
Ближе к ночи они с другом начали вспоминать былые времена. Холодный Норильск. Алексей тогда приехал на заработки. На четыре месяца. Смены по двенадцать часов, шесть дней в неделю, зато платили — как за целый год. Нужно было только выгружать продукты, которые для города завозили. Чего там только не было. В минералах и витаминах недостатка друзья не испытывали: замороженные мясо и фрукты привозили на любой вкус.
— А я тебя один раз все же видел, Татьяна, — сказал Павел, глядя на нее слегка окосевшими, блестящими глазами. — За прилавком. Лешка мне тебя показывал. Ох, и влюблен же он тогда в тебя был. Спать не мог. Двенадцать часов отпахали без перерыва, всем бы только до коек дотащиться, а он шагами комнату мерит, на мороз выходит, все о Таньке, блин, думает. Описывал тебя как эскимосскую принцессу. Сказал мне тогда, что либо с тобой останется, либо в Москву увезет. И увез-таки, с чем я его и поздравляю.
— Ладно, — сказал Алексей, спуская с ноги сынишку, — иди, Андрюш, с мамой в комнату, мужчинам поговорить надо.
Жена на него испытующе посмотрела. Он на нее — сердито, и она повиновалась.
— Дай, что ли, хоть посуду помою, — попыталась она.
— Я сейчас тебе шею намою. Иди в комнату, говорят. — Алексей был подвыпивший, и голос прозвучал громче, чем он того хотел, но это его, кажется, нисколько не расстроило. — И дверь закрой, — крикнул он ей вслед.
— Мда-а, строг ты со своей половинкой, — сказал Павел, когда женщина и ребенок скрылись в комнате.
— По-другому никак.
Пашка расхохотался.
— Я вспомнил, ты же стихи писал.
Улыбнулся Алексей.
— Тоже мне вспомнил. Скажешь уж, стихи… так, писульки да каляки-маляки с высокопарными словами. Завязал я с этим давно, как женился. Вдохновение пропало. Так, изредка ночью слова приходят, — сказал он и тяжко посмотрел в коридор.
— И все равно, не таким я тебя женатым представлял.
— Не суди, да не судим будешь, — сказал Алексей, наполняя рюмки. — Ты вот женат?
— Нет! — гордо ответил друг.
— Во-о-от. Хорошее дело браком не назовут. Женишься — и сам начнешь воспитывать свою жену.
— А зачем ее воспитывать, ей родители были на что?
— Ого-го. Родители. Сказал. Навестила нас как-то ее мамаша, белокурая, что солнце, только ясности в голове ей это не прибавляло. — Они рассмеялись удачному, как им показалось, сравнению. — Прогнал я ее обратно к своему эскимосу. И так тесно троим, а она еще свою жопу слоновью притащила. — Они снова рассмеялись. — Но отец у Таньки, правда, нормальный мужик, спокойный. Охотником был, пока в город не перебрался и с ее мамашей не связался. А еще и дочка в нее пошла, бедолага.
Они выпили и закусили.
— Мучаешься с ней? — прямо спросил друг.
— Мучаюсь. Каждый божий день мучаюсь. Как ты мне сказал, когда ее в витрине увидел? «Ты такую бабу не удержишь, слишком красива — уведут». Прав ты был тогда. Теперь сторожевым псом при ней работаю. А ей все гулять охота, мол, молода еще. Забрал я ее из Норильска, — Алексей пьяной закивал головой, — месяц не прошел, как задерживаться на работе стала. Я-то, блин, жалел ее, думал: заработалась дорогая, а она с мужиками на танцульки ходила. Один раз пришла в дрова, ели ноги дотащила, я и понял, в чем дело. С того дня спуску не давал. Глаз да глаз. Чуть отвлекся — и ищи ветра в поле. И не боится. Знает, что по башке получит, а удержаться не может. Пьющая мать — горе в семье.
— Ну и отпустил бы ее, ей беспутная жизнь милее. Развелся бы ты с ней, и дело с концом.
— Не дождется.
Пашка рассмеялся.
— И как тебя так угораздило влюбиться? Ты же шибко грамотный был. С твоей головой мог бы устроиться получше своего завода.
— Ты это мне говоришь? А то я не знаю. Я и сейчас могу, только сам другого не хочу. Меня мой завод устраивает. Начальство во мне нуждается, чуть ли не на руках носят, отпускают, когда мне надо, слова плохого в жизни не скажут. Где еще так будет? Ладно, Паш, не о чем тут говорить.
Татьяна взяла стакан из серванта, приставила его к стене и слышала все, что муж про нее говорил.
— Мам, нехорошо подслушивать, — сказал ей Андрюша, но она только цыкнула на него. Сын грустно смотрел на автомат на коленях.
Слова мужа разозлили: наговорил он на нее, в глаза гостю стыдно посмотреть. Когда друзья сменили тему, она начала взад-вперед по комнате ходить, не решаясь даже в туалет выйти. К вечеру, когда солнце за окном коснулось новостроек, ее позвали и сказали доставать матрас: Пашка остается на ночь. Ему завтра в Калининград лететь, и ни о каких гостиницах Алексей и слушать не хотел.
Друзья переместились в комнату. Гость следил за тем, как длинная и полная нога Татьяны качала матрас на полу. Жалко ему стало друга и жену его: такая красивая, а как в клетке живет. Смотрел он на нее, жалел, а поделать ничего не мог. Из-за женщин он уже друзей терял; женщины того не стоили.
Сидели друзья до поздней ночи. Андрюша за сервант спать ушел, Татьяна с ними на кухне сидела, просила гостя на губной гармошке сыграть, но муж не позволил, сказал, что соседи жаловаться будут. «Что тебе соседи, — подумала она, — друга сто лет не видел, нет чтобы порадоваться, повеселиться, сидит как в воду опущенный». Пашка, кажется, тоже так считал, но вида не подал, а старался и без музыки настроение всем поднять.
Матрас для гостя был постелен напротив входа. Андрюша спал слева от входа, родители — у стены, по правую руку от окна. Голова Пашки не успела коснуться подушки, как в комнате загремел храп.
— Конечно, не женился, — прошептал Алексей жене на ухо, — кто с таким рядом уснет.
«Сам всю ночь храпишь, как пилишь», — подумала Татьяна, а вслух сказала:
— Ох, я, наверно, не усну: не привыкла под такой шум спать. — И придвинулась к мужу ближе, но тот уже сам хрипел, разминая носоглотку для храпа.
Она легла на спину и стала глядеть в потолок. Вырубился. А ей не спалось: не дал он ей выпить с ними еще рюмку — сейчас бы спала как убитая. И на кухне ни капли не осталось: всё вылакали. Лешка специально выпил, чтобы у нее не было охоты ночью шататься, а вылить жаба задушила. Знала она его как свои пять пальцев. Десять лет вместе как-никак жили. И пронеслись эти года перед ней все как один. Никакого житья с таким мужем. Бьет ее, ругает, лишнюю минуту не разрешает нигде задержаться. Молодость на него угробила и зрелость угробит. Сколько так продолжаться может? Надо было послушаться маму и развестись. Только куда бы она пошла, он же ее от всех скрывает, от дома до работы провожает, разве нового жениха найдешь так? Татьяне смерть как выпить и покурить захотелось, даже слезы на глазах выступили. Она прямо сейчас готова была встать и пойти в магазин, знала один, который и в это время бы ей продал, но муж-сатана все до копейки же отнимает, на карточку свою кладет. Вместе за косметикой, прокладками и едой ходят. А ведь Пашке она приглянулась, она видела, как он на нее смотрел, когда матрас качала. Вот бы с ним уехать в Калининград. Поближе к Европе. Ох, как им вдвоем хорошо было бы. Она ему хорошей женой стала бы, не то что этому медведю под боком. И страшно вдруг ей стало от этой мысли. Она прислушалась — муж храпит — и чуть успокоилась. Приподняла голову и поглядела через него на Пашку. «Даже во сне красив», — подумала она, и сердце у нее защемило. Живо представилось ей, как проскальзывает она змеей к нему под одеяло, будит поцелуем в губы, как он просыпается, смотрит на нее, все понимает и целует в ответ. У Татьяны в груди и внизу запылало, и она откинула одеяло, но это не помогло. Огонь воздухом не тушат. Она снова приподняла голову и снова увидела в лунном свете запрокинутую лохматую голову и открытый рот. Рот ее манил сильнее, чем бутылка совсем недавно. Скатиться бы на пол и ужом к нему, и будь что будет. Муж дрыхнет, не проснется. Ей бы только дыхание Паши почувствовать. И все. Знала она, что не решится, а думать перестать не могла. Прислушалась к храпу мужа и не услышала его. Не успела испугаться, как мужская ладонь скользнула между ее грудей в ночнушке и легла на горло. «Даже и не думай, — прошептали губы Алексея в сантиметре от ее уха, — челюсть сломаю». Татьяна замерла, боясь вздохнуть, не то что пошевелиться. Так и пролежала до самого утра на спине и с лапой на горле.
Крестный перед отъездом захотел сводить Андрюшу в зоопарк. Отец только порадовался такому желанию: он бы пока как раз привел машину в порядок, чтобы после отвезти друга в аэропорт. Но когда Павел сказал, что и Танька должна составить им компанию, Сафронов посмурнел. Отпускать жену Алексей наотрез отказался, но друг его настоял. Под поручительство, скрепя сердце, Алексей дал себя уговорить.
В выходной, в погожий день зоопарк ломился от людей. К Андрюше присоединился Костя. Павел купил мальчикам сахарную вату, а Татьяне выиграл в конкурсе мягкую игрушку, сбив все до одной мишени. Та наградила его за это поцелуем в щеку, мокрым и долгим, как показалось Павлу, но он закрыл на это глаза (или сделал это от удовольствия). Дети бегали от одного вольера к другому, подолгу задерживаясь только у экзотических животных.
— Какая красивая, — обнимая руку Павла, сказала Татьяна, когда они все вместе подошли к вольеру с белой тигрицей. Та устало смотрела на посетителей, как на мух, облепивших прозрачную стенку. Павел покосился на детей, которые не сводили глаз с огромной хищной кошки.
— Очень, — сказал он ей. — Напоминает мне кого-то.
— Знакомую? — Татьяна лукаво посмотрела на него своими чуть раскосыми глазами. Оказывается, когда она улыбалась, у нее были ямочки на щеках, которых он не замечал раньше. А может, она просто впервые при нем искренне улыбнулась. Сегодня, в солнечный день, ее глаза напоминали скорее голубой огонь, нежели озера.
— Да, очень близкую знакомую, — ответил Павел, любуясь ее красивым лицом. — Знакомую, которая обнимает мою руку.
Татьяна, не ожидавшая, что друг мужа так открыто с ней заговорит, поспешно отвела взгляд.
— Что вы думаете о тигрице? — первое, что пришло в голову, спросила она, чтобы выиграть время и все обдумать.
— Что такая красота не должна томиться в неволе. Что она должна резвиться на свободе. Делать, что ей хочется. Быть, — он сделал ударение на этом слове, — кем ей хочется. Гулять, где ей хочется, — тихо завершил он.
— Например, по Калининграду? — спросила она с усмешкой, не поднимая глаз.
— Ты бы согласилась?
— Предлагаешь мне бросить мужа и сына?
— Предлагаю, — не побоялся ответить Павел.
Татьяна запнулась.
— Я люблю Алексея, — сказала она.
— Или боишься? — тут же нашелся Павел.
Она сильнее сжала его руку. Даже в такой жаркий день он оставался в своей косухе, горячей от солнца, как нагретое железо.
— Я не брошу Лешу.
— Думаешь, это он попросил меня проверить?
— Он может.
— А может, это наш шанс?
— Может быть, и наш шанс, — повторила она.
— И как мне доказать тебе?
Она стала размышлять, что бы ей такое придумать, но ничего в голову не приходило: везде возникал Алексей, сильный, неотступный, не знающий усталости и послаблений, гнущий свою линию. Вот ей предлагают то, чего она так сильно недавно желала, а она не может решиться. Десять лет в браке сломили ее. Или наоборот, если смотреть со стороны мужа — согнули как надо. Если смотреть под таким углом, Алексей не такой уж и плохой муж для нее. Татьяна выпустила руку Павла.
…Проводив друга в аэропорт, домой Алексей вернулся с бутылкой. Татьяна вопросительно посмотрела на него, но не замешкалась, чтобы достать рюмки. Находили на ее мужа вечера, когда он ненадолго ослаблял хватку. С чего он это делал, она не знала, но радовалась этому, как празднику. Пили они до последней капли. Завтра обоим на работу, и Алексей знал, что жене, хочет она того или не хочет, придется пойти на почту. Будь выходной, она бы пожелала продолжить.
— Согласилась бы с ним уехать, — сказал он ей холодным голосом в конце вечера, — уехала бы в больницу.
— Больно он мне нужен. — Она пересела к нему на колени, поцеловала и просунула язык в рот, но он ее остановил.
— Пьяная ты.
Она только расхохоталась. Алексей хмуро смотрел на пустую бутылку.
Уснула Татьяна без задних ног. После зоопарка крепко спал и Андрюша, то и дело бормоча во сне про ящериц и жирафов. Алексей пьян не был. Он потихоньку сливал рюмки в кружку, а затем выливал в раковину. Когда он удостоверился, что все спят, он встал с кровати, расшторил окно и впустил в комнату луну. Он опустился на колено подле спящей жены, взял ее руку в свои и посмотрел на круглое лицо в голубом свете.
— Люблю тебя, — негромко сказал он ей. — Люблю тебя больше жизни своей. Люблю, как может трава влагу любить. Как птица небо любит. Как огонь дерево любит — всей ненавистью могу. Невозможно жить без тебя мне. Каждый день готов носить тебя на руках. Каждый день говорить, как нужна мне, как любы мне черты твои. Всё готов сделать для тебя — и звезду с неба достать, только покажи какую. Сажал бы цветы на каждом клочке земли, где стопа твоя опускалась. Говорил бы стихами с тобой. Нет мне надежды, гнущему металлы, подобрать слова, достойные тебя. Так бы и касался тебя, нежно-нежно, как губами. Ноги бы твои целовал до конца дней моих. Всё-всё бы сделал для тебя, для тебя, кровопийца жизни моей. Но ничего тебе из этого не надобно от меня. Понимаешь ты язык только грубой силы моей. Нуждаешься в управленье моем. Излей я душу — посмеялась бы ты надо мной. Растоптала бы грезы мои, порывы мои. А я же сталью плавленой обливаюсь каждый раз, руку на тебя поднимая, язык мой иглами унизан, когда поносить тебя мне надо. Никак иначе быть со мной не хочешь ты. Легче стекло согнуть голыми руками, чем тебя исправить. В тягость жизнь такая мне. Удавиться проще, чем смотреть, как жизнь свою поганишь. Но не могу я так поступить, ибо люблю тебя я. И косу твою — черную, как грехи души твоей. И глаза твои — ясные, как небо, под которым Бог тебя прощает. И кожу твою — нежную, влекущую отребье разное. Нет мне покоя рядом с тобою. Но продолжу нести крест свой. Пусть тело мое дряхлеет, не остановлюсь я нипочем. Потому что образ твой в сердце храню как Пресвятой Девы Богородицы. Что мне жизнь теперь моя? Душу я свою давно дьяволу отдал — за тебя, бесстыдную, мною так любимую.
По щекам мужа текли слезы. Не в первый раз он говорил ей подобные слова, не в первый раз делился наболевшим, пока она спала. Он нагнулся к ее лбу и осторожно поцеловал. Погладил голову. Потом долго любовался красивым лицом, пока его щеки не высохли. Затем поднялся с колена, бережно выпустил безжизненную ладонь, зашторил окно и лег в кровать. Завтра нужно довести жену до работы.
Жена
Было еще темно. Холодно. Поставка пришла к девяти утра: шестнадцать больших коробок, доверху забитых новой и старой коллекциями одежды. Дима, кладовщик, на разгрузку не явился, на телефон не отвечал: вчера выдали зарплату, и долго гадать, что случилось, не приходилось — это была уже не первая его подстава. До десяти машину нужно было отпустить. Лидия, управляющая магазином, уговорила водителя помочь ей отвезти коробки наверх, но охранник торгового центра с ним без пропуска даже не стал разговаривать. Не помогло — впервые — и то, что она назвала водителя экспедитором. Пришлось ей самой, сорокадвухлетней тетке, трижды отвозить товар на рохле к погрузочному лифту, подниматься с ним на третий этаж, везти к себе на склад в магазине и разбирать башню из коробок вдвоем с продавцом-кассиром Катей, в чьи обязанности это не входило, о чем она неустанно напоминала Лидии.
Кладовщик позвонил ближе к обеду. Голосом, полным страдания, он сказался больным. Лидия проработала с ним больше пяти лет, и до последнего времени никаких нареканий в его адрес не было. На него всегда можно было положиться, когда дело касалось склада. Девочки, продавцы-кассиры, говорили, что это из-за того, что он в тридцать три живет с мамой, не женат, и из-за того, что он все еще кладовщик. Лидия говорила с ним и по душам, и серьезно, и какое-то время он работал без нареканий. До сегодняшнего дня.
Она уговорила его прийти к трем. Она сама отсканирует поставку и по полкам стеллажей раскидает что успеет. И первую половину сравнения остатков по складам сама соберет, ему останется только выдать ну и, естественно, со второй половиной разобраться, и то без «аксессов». Дима отпирался, жаловался на самочувствие. Намекнул, что мог бы себя пересилить, если бы она приписала ему лишние часы, те, которые он отсутствовал. Это было чересчур; Лидия решительно отказалась. Дима еще поупрямился и пообещал прийти. И пришел, помятый и с улыбкой, словно не опоздал на шесть часов, словно не пахло от него перегаром, словно девочки не косились на него.
Лидия осталась с ним наедине, тяжело вздохнула и, стараясь не дрожать, сказала, чтобы писал заявление; больше так продолжаться не может. Дима сначала опешил. Потом вспыхнул, начал кричать и разводить руками: «Уже и пару раз косякнуть нельзя?.. Да я тут лучше всех программу знаю… Я тут сто лет работаю… Да в рот такую работу». Лидия прикрыла дверь в зал, где бродили клиенты, и вкрадчивым голосом попросила его успокоиться. Он перешел на мат, и она внешне спокойно выстояла под потоком выливаемых на нее и на ее магазин помоев, хотя в какой-то момент думала, что не вытерпит и брызнет слезами. Когда кладовщик, красный и взмокший, закончил, она наконец объяснила ему, что долго закрывала глаза на его подставы, что достаточно дала времени решить свои проблемы и что она несет ответственность за каждый его косяк.
— Мне жаль, — заключила она, действительно сожалея о том, что так заканчивались их отношения, но это вызвало лишь второй поток оскорбительных слов. — Довольно, Дим, принимайся за работу.
Он расхохотался.
— Или мне придется уволить тебя по статье.
Лидия взяла свою сумочку и вышла, оставив его одного — успокоиться и хорошенько подумать.
Она укрылась от всех в одной из примерочных, где протерла подмышки влажными салфетками, затем сухими, после чего еще прошлась по впадинам роликом дезодоранта. К горлу подступала тошнота. Из зеркала на нее смотрела дрожащая от негодования женщина.
Обратно в зал Лидия вышла как ни в чем не бывало.
Через полчаса она заглянула на склад. Дима, погруженный в себя, сидел и выдавал «сравнение», машинально вытаскивая из пакета одежду, сканируя, клея ценник и прикрепляя черные круглые бейджи на шов. Удовлетворения от своей победы Лидия не чувствовала, но смесь спокойствия и вины — да. «Распустила, — подумала она, — нужно строже быть. Хочешь не хочешь, а надо».
Наконец-то она смогла заняться своими прямыми обязанностями: ответить на почту, составить всем график и отчет по продажам, сделать презентацию фотоотчета; объяснить в письме Ксении, управляющей «зеленой» линии, почему в четверг были такие низкие продажи — «Скидки в соседнем „Оджи“ до 30 %»; подать заявку на нового кладовщика; ну и подменить Катю, пока та шла на обед. Сама она толком так и не поела. Зато дважды пила чай с булками, стараясь не думать о том, как они отразятся на ее фигуре.
К концу рабочего дня от слабости кружилась голова, но Лидия задержалась еще на полчаса, дождавшись, когда Дима займется второй половиной «сравнения», и только тогда оставила администратора Свету за главного, предупредив ее, чтобы в случае чего сразу звонила на рабочий мобильник.
Солнце уже зашло. Прежде чем спуститься в подземку, Лидия набрала детям: сначала Маше, затем Косте. Дочь до восьми обещала заглянуть, но потом собиралась уйти ночевать к Вове. Дата свадьбы была назначена, институт пару месяцев назад окончен, но Лидия до сих пор не могла со спокойной душой слышать от своей дочки такое. Сын был на шесть лет младше дочери, учился на управляющего персоналом. Он уже был дома, но мать дожидаться не собирался. Обещал вернуться к одиннадцати — шел в клуб, а значит, раньше часа ждать его не приходилось. На вопрос, дома ли отец, робко, будто это была его вина, ответил, что еще нет. Она попросила его вести себя хорошо, попрощалась и позвонила мужу.
Леонид трубку не брал. Три раза она звонила, и все без толку. Лидия хотела уже зайти в метро, но все же набрала в четвертый раз. В динамике прогудело дважды, и раздался женский голос оператора, сообщивший, что абонент недоступен. «Скинул», — поняла Лидия.
Через восемь станций и один переход, выйдя на поверхность, она достала телефон и нажала на повторный вызов. На этот раз оператор ответил без гудков. «Отключил», — подумала она и пошла в «Пятерочку», где быстро набрала все, что нужно по списку, и поспешила домой, словно боялась куда-то опоздать.
В доме, где она прожила всю свою жизнь, двери квартир выходили на лестничную площадку. Поднявшись на свой этаж, она встретила сына, ее молодую мужскую копию: тот же птичий носик, чистая кожа, острый подбородок, узкие плечи. К сожалению, характером Костя больше пошел в отца.
— Ты все взял?
— Да.
— Телефон?
— Да, все норм.
— Денежка есть?
Сын уклончиво покачал головой, как бы говоря: есть что-то там.
— Олеся будет?
— Да.
Мать достала и дала сыну пятисотрублевую купюру. Тот неловко взял и сказал «спасибо».
— Чтоб в двенадцать как штык был дома, ясно?
Она подставила ему щеку для поцелуя, он быстро коснулся губами и тут же смылся: сбежал вниз, перепрыгивая через последние три ступеньки каждого пролета, словно устыдился проявленной нежности. Лидия слушала удаляющиеся топот и прыжки, пока со дна подъезда не докатился звук хлопнувшей металлической двери.
Она волновалась за него. Ей не нравилось, когда он уходил гулять допоздна, но она могла лишь сократить такие ночи до минимума. Полностью запретить их он бы не дал.
Переодевшись в домашнее и разложив покупки, она сполоснула курицу и положила ее на разделочную доску. Кухня была новая, выполнена в белых тонах, всё нужное лежало под рукой. Готовить на ней было одно удовольствие, а для того, кто это дело не любил, — сносно. Ремонт сделал муж, пока был на больничном. По дому он всегда все делал своими руками.
Нож Лидии ловко проходил между суставами курицы, отделяя крылья и ножки от тела. Само туловище Лидия, хрустя его ребрами и позвонками, разрезала на четыре части. На полпути она все бросила, вытерла руки и снова набрала мужу, оставляя на экране сальные отпечатки пальцев. Все то же. Она поджала губы, вытерла под носом тыльной стороной ладони, разделала курицу до конца и начала мыть в кастрюле розовато-голубые куски. В коридоре послышался шум. Она выключила воду и прислушалась. Кто-то пришел. Она поспешила в прихожую, вытирая на ходу руки о полотенце. На пороге снимала сапожки дочь.
— Привет, мам.
Маша ждала, что мать подойдет и поцелует ее, но та молча стояла и смотрела на дочь, как на непрошеную гостью. Пришлось ей самой подойти к матери.
В отличие от Кости, Маша походила на мать не только чертами лица, но и характером; по крайней мере, Лидия так считала. Впрочем, было в Маше и от Леонида. Например, то, что она жила с женихом до свадьбы. Лидия не так ее воспитывала, и в преждевременном уходе дочери из дома определенно угадывалось влияние отца. Жених Вова Лидии не нравился: он быстро нашел общий язык с Леонидом, и она боялась, что дочь наступит на те же грабли, что и сама Лидия двадцать четыре года назад.
— Ты же сам говорил, что ранний брак — фундамент второго, — сказала она мужу после переезда Маши.
— Для женщины в двадцать четыре — не ранний, — рассудил тот вслух, массируя ступню, закинутую на колено. — Пусть поживут вместе; может, еще и передумают расписываться, — философски заметил следом. — Потом спасибо скажут. Нам с тобой так не повезло.
Лидия сама выбрала его в отцы будущих детей; могла ли она теперь винить Машу и Костю за его влияние на них?
Она ответила на Машин поцелуй в щеку, стараясь не испачкать ее все еще сальными руками.
— Отец не пришел, — сказала она со вздохом и пошла обратно к раковине и курице.
Через минуту, засучивая рукава свитера, дочь вошла на кухню.
— Чем помочь?
— Сиди, я сама.
Дочь настояла. Она насыпала в большую кастрюлю картошку, залила водой и поставила на пол рядом с мусорным ведром. Включила первый попавшийся сериал, налила в другую кастрюлю воды и, сев с ножом на табуретку, стала тонко, как ее учила мать, срезать кожуру.
Две пары женских рук управились быстро: на плите стояли накрытые сковородки, из которых шел аппетитный аромат. Маша рассказывала, как Вова мало участвует в подготовке свадьбы, что он заранее со всем согласен. Мать посоветовала оставить как есть и все сделать самой, именно так она и поступила в свое время; нечего ругаться по пустякам.
— Если его что-то заинтересует, он обязательно даст знать. Просто продолжай держать его в курсе.
Поужинали они под девятичасовые новости. Обе поглядывали на часы. Обе съели немного.
Лидия говорила мало и больше спрашивала о родителях будущего зятя, с которыми, видимо, она познакомится в лучшем случае за пару дней до свадьбы.
Дочь помыла посуду, чуть ли не с силой оттащив мать от раковины.
Они пили чай, когда сумка Маши завибрировала.
— Да, Вов? Да, да, хорошо. Нет, папы нет. Я побежала, — убирая телефон, сказала она. — Вова заходить не станет, а то мы опаздываем, у нас сеанс.
Лидия все понимала, ничего не сказала и тихо подождала, когда дочь соберется. Улыбнуться ей она смогла только в дверях.
— Ладно, доченька, спасибо, что зашла. Приходите с Вовой.
— Ладно, мам. Передавай папе привет.
— Передам.
Они клюнули друг друга в щеку, и мать закрыла за ней дверь. На кухне продолжал работать телевизор. Лидия подошла и выключила его. Окна были закрыты и выходили во двор — в ее доме было тихо, как в склепе. Она достала из сумки рабочий мобильник и набрала мужу, не надеясь услышать его голос. Пошли гудки, много гудков, в которые она вслушивалась, словно в их нудном звучании для нее было скрыто послание. Никакого ответа. Позвонила со своего — и услышала писклявый, бьющий по перепонке сигнал, предвещающий отсутствие абонента в сети.
Она зашла в голубую ванную, где все было сделано руками мужа, пустила воду в покрытый лазурным акрилом чугун и пошла закрыть входную дверь с щеколды на ключ. Затем достала из шкафа свежий халат и наконец-то могла смыть с себя тяжелый день.
Набившийся в ванной пар липко ложился на голые полные руки, покатые плечи и спину. Ноги же чувствовали прохладу. Лидия сняла обручальное кольцо и золотые сережки, сложила их на полке, между зубной пастой и кремом. Добавила в воду соль и пену. Слегка помешав их, сполоснула руку под краном и умыла разгоряченное паром лицо. Выпрямившись, вытерла полотенцем запотевшее зеркало.
В отражении появилась чуть размытая женщина. Лидия сняла с затылка заколку и положила ее к украшениям. Длинные пальцы растрепали черные, без единого намека на седину волосы, дав взопревшей голове воздуху. Женщина в отражении оценивающе глядела на Лидию. Высокая, выше коренастого мужа. Груди, тяжелые, — торпеды, как их «ласково» называл муж, — годами спускались к краю грудной клетки и теперь угрожающе нависли над нижними ребрами. Живот похож на помятую подушку. Сильно он не выпирал, и складок не было, пока не нагнешься поднять что-нибудь с пола — тогда их соберется штук пять. Поворачиваться к зеркалу задом Лидия не стала. Она подумала, что ее фигура смахивает на грушу.
Упражнения с хулахупом больше не держали форму, а только замедляли распад.
На лице в отражении пробежала рябь гадливости. Лидия двумя поворотами выключила кран и шагнула в ванну. От кончиков пальцев на ногах и до впадинки под шеей она погрузилась в обжигающую, покрытую облаками пены воду. Закрыла глаза, позволяя теплу и аромату разморить ее.
Сполоснув ванну, Лидия круговыми движениями, с нажимом втерла крем в кожу на руках, шее, лице, груди. В гостиной легла в халате на вечно разложенный диван и включила телевизор, остановив выбор на старом английском фильме. Телефон лежал рядом. Она посмотрела на него, взяла в руку, словно он должен был зазвонить, и снова положила.
Ее взгляд пробежался по комнате в поисках того, что можно было поменять. Мебельная стенка еще не старая, в тон новым обоям, телевизор достаточно плоский. Люстра с ее флаконами в виде бутонов белых роз ей нравилась. Ковер? Ковер был в тон занавескам, но лет ему было уже около десяти. Это возраст для ковра? Лидия встала, включила свет, опустилась на колени, погладила рукой бархатистую поверхность и нашла, что цвет был недостаточно поблекшим. Не надо пока было ничего менять.
Она поднялась, постояла с упертыми в бока руками, глядя на лиственные узоры ковра, затем переоделась в ночнушку и, выключив свет, легла под одеяло. Фильм продолжал идти. Входная дверь осталась запертой на ключ. Завтра к девяти часам на работу. Выходные у нее — воскресенье и понедельник.
Она надеялась, что муж скоро вернется. Метро закрывается в час, но он мог поймать машину, если был уж совсем навеселе и готов был спускать деньги до копейки. Сын точно приедет до закрытия метро. Надо было спросить, на какой станции клуб. Если надо делать пересадку, то переход закрывается в час, и ему придется хоть немного, но раньше вернуться домой. Написала смс. Через восемь минут пришел ответ. Написал, что придет позже, чем рассчитывал. Кто бы сомневался. Все равно отправила сообщение, чтобы шел домой немедленно. Теперь она имеет право несколько недель держать его подальше от клубов.
К концу фильма Лидия клевала носом. В руке завибрировал телефон. Сон как рукой сняло. Муж снова доступен для звонка. Значит, скоро будет — наверняка сидит у подъезда и просматривает пропущенные.
Лидия выключила телевизор и стала дожидаться мужа в темноте.
Минут через пять до навостренного уха донесся хруст дверного замка. Тихо отворилась и закрылась входная дверь. Шебуршание — и в коридоре вспыхнул свет, упавший косым прямоугольником на ковер гостиной. Лидия поднялась и пошла встречать мужа.
— У меня телефон сел, — услышала она голос мужа.
Она подошла и молча взяла у него куртку. Пока муж снимал ботинки, она подняла глаза: короткие ноги, крепкие руки, круглый живот, пышные черные усы, сухие курчавые волосы — перед ней был совсем не тот бойкий коренастый юноша, за которого она выходила замуж. И не тот мужчина, который, разменяв четвертый десяток, продолжал отжиматься, стоя вверх ногами. Но даже теперь, стоило ему искренне улыбнуться, как она видела и того юношу, и того мужчину. Она одна на всем свете могла их видеть. Только теперь Леонид редко искренне улыбался.
Муж, чуть прихрамывая, двинулся в ванную помыть руки, а после вместе с женой прошел на кухню.
Тяжело вздохнул. Достал из кармана телефон с деньгами и положил их на стол, после чего снял и бросил брюки на пол. Жена отнесла и повесила их в шкаф за щипчики на вешалке. Обратно она вернулась с домашними штанами и тюбиком мази. Муж уже сидел без рубашки, в черных носках и в майке, обтягивающей пузо, на котором лежал его тяжелый взгляд. Металлические часы, браслет и золотой перстень он тоже не снял. Жена ненавидела его щегольские «аксессы», считала их смешными для того, кто работал простым инкассатором.
Она смочила тряпку и сняла носок с левой ноги мужа. Стопа была покрыта красными глубокими шрамами. Жена села на корточки и заботливо протерла их тряпкой. Затем насухо — полотенцем со стола. Когда она выдавила мазь себе на пальцы, муж скривил лицо:
— Не надо.
Жена посмотрела снизу вверх. Микроволновка истошно запищала — еда разогрета.
— Тебе же врач год наказал.
— Уже сто лет ничего не болит.
— Ну ты же хромаешь.
— Я всю жизнь хромать буду.
— Врачу виднее.
— Не надо, говорю. — Он убрал ногу под табуретку.
— Лёнь. Месяц остался.
Он коротко цокнул языком и выставил вперед ногу. Жена приподняла ее за пятку одной рукой и с усердием принялась втирать мазь другой. Закончив, она поцеловала щиколотку и аккуратно опустила на пол.
Пока муж надевал футболку, она поставила перед ним тарелку. Леонид не шевелился, пока жена не достала из холодильника бутылку «Хайнца» и не посыпала еду свежей нарезанной зеленью.
Вздохнув, изрядно поперчив, муж принялся за поздний ужин. Жена села на соседний табурет, перекинула ногу на ногу, зажав бедрами сложенные ладони. Губы под пышными усами мужа поблескивали маслом.
— Почему без поджарки? — спросил он про картошку.
— Как без? Я делала.
— Плохо делала. Сколько раз говорить: не надо красиво делать. Приготовь как попало, но так, как я сказал. Ну вот зачем так каждый кусочек нарезать? — Он показал на ровную картофельную соломинку. — Нафига?
— Это дочь делала.
Леонид умолк и стал жевать с закрытым ртом, прихлебывая кетчуп прямо из бутылки. Лидия взяла ее и вытерла с крышки масляные пятна.
— Я сигарет купила, — сказала она, подвигая обратно бутылку, — у тебя, как всегда, две пачки осталось.
— Костян дома?
— В клуб ушел. В час должен вернуться.
Он кивнул и опять хлебнул из бутылки.
Жена, по опыту выгадав благоприятную минуту для вопроса, спросила:
— С Пашей был?
— С проституткой.
Муж ответил не глядя.
Она отвернулась и чуть задрала голову кверху, словно пыталась влить обратно выступившие слезы.
— Да в бильярд, в бильярд с Пашкой и Олежкой ходили.
— А почему не сказал, не предупредил? Я же волнуюсь.
— А че ты волнуешься?
Он оторвался от тарелки и с набитым ртом посмотрел на нее.
— Я же твоя жена.
На это ему нечего было возразить, кроме как:
— К сожалению.
Лидия встала и включила чайник, оставшись стоять спиной к мужу на все время, что закипала вода. Леонид ел молча, неохотно и оставил половину. Он хотел вывалить остатки в общую сковороду и помыть тарелку, но жена отняла ее у него.
— Да я помою, — сказал он.
— Не надо, я сама, сама, я сама.
Он продолжал держать тарелку и глядеть на жену.
— Лид, — обратился он к ней, — иногда так и хочется дать тебе по башке.
— За что? За то, что накормила?
Он отдал тарелку и махнул руками, вернулся за стол и, вытерев полотенцем под усами, стал ждать чай.
Пока он курил на лестничной площадке, Лидия все вымыла, протерла стол, крышку кетчупа и легла в постель. Через минуту, шумно дыша, словно разминая носоглотку для храпа, рядом расположился и муж. Запахло табаком. Она лежала к нему спиной, лицом к зашторенному окну, со сложенными под щекой ладошками. Он подвинулся ближе, обнял ее за плечо и прижал к себе. Его пузо уперлось ей в поясницу, выгибая спину и выставляя зад. Теплый, чуть шевелящийся комок уперся ей в ягодицы. Сначала она почувствовала дыхание у себя на ушке и шее, затем их коснулись пышные усы, пустившие приятный электрический импульс во все концы ее тела.
— Лёнь, — прошептала она, — нет.
Он чуть отстранился. Она почувствовала на затылке вопросительный взгляд.
— От тебя перегаром пахнет.
— Три бокала всего.
«Три бокала, — повторила про себя Лидия, — и за руль сел. Опять. Ничему жизнь не учит».
Она услышала, как по горловине мужа поднялся утробный звук, вышедший вместе с дыханием. По щеке к носу перевалился тяжелый запах кетчупа, картошки, курицы, приправ и, конечно, пива.
— Лёнь, пожалуйста.
Он проигнорировал ее слова и снова прижал к себе. Жена повернулась к нему боком и, ориентируясь на запах изо рта, сказала:
— Не с пьяным.
Какое-то время она видела обиженный тусклый отблеск в его глазах. Затем последовал тяжелый вздох, муж отстранился и перевернулся на другой бок, спиной к ней. Она тоже легла как прежде и закусила губу. Лицо горело. Она подложила одеяло между ног, плотнее к верху.
Через пять минут, когда муж захрапел, Лидия легла на спину и уставилась в потолок, время от времени поглядывая на зеленый циферблат электронных часов. Она думала о свадьбе дочери, о сыне, о кладовщике.
Ровно в 1:00 она встала, накинула халат и пошла на кухню звонить сыну. В динамике загромыхали колеса вагона и вой входящего в туннель поезда. Костя прокричал, что будет через двадцать минут.
— Жду, — сказала мать и повесила трубку.
Все тридцать минут, что сын добирался до дома, она не вставала с табуретки, скрестив руки на груди. Ключ только коснулся замка, как Лидия уже бежала встречать сына.
— Ты во сколько обещал быть? — прошипела она, едва он переступил порог.
— Извини. — Он попытался перескочить часть разговора.
— Нет, во сколько? — настояла она полушепотом, чтобы не разбудить мужа.
— В двенадцать.
— А сейчас сколько?
— Полвторого.
— Почему опоздал?
— Олесю провожал.
— Не надо мне Олесю, — все так же полушепотом.
Сын поднял взгляд с отцовских ботинок и посмотрел на дверь гостиной, где спал их владелец. Дверь была закрыта.
— Так получилось, — всё, что мог сказать Костя.
— Все, хватит, нагулялся. После института теперь сразу домой. Задержишься — и я тебе такое устрою! — Она пригрозила пальцем для большей острастки.
— А Олеся?
— В институте будешь общаться, между парами. Этого достаточно.
— Ну мам…
— Не мамкай. Марш в постель.
Сын стал снимать обувь и стаскивать куртку, пряча наполненные гневом глаза.
Он зашел к себе в комнату, посидел за компьютером, сходил в душ, посмотрел телевизор — и все равно уснул раньше Лидии.
В семь утра Лидия быстро отключила будильник в полной темноте. Немного полежав с открытыми глазами, раскладывая по полочкам все предстоящие дела на день, она откинула одеяло и, стараясь не разбудить мужа, пошла в ванную. Там она умылась, расчесала волосы и собрала их в пучок на затылке. Вернувшись в гостиную, переодевшись в топик, она начала гнуться и тянуться: влево, вправо, вверх и вниз, назад, вперед, стоя и сидя на коврике для йоги. Затем достала из-за «стенки» обруч и начала крутить его на талии в мягком янтарном свете торшера. Десять минут спустя, разогнав в венах кровь, она легла на спину и начала крутить педали воображаемого велосипеда. Затем на весу сделала «ножницы». А потом были все виды приседаний и поднятий рук с гантельками. Вспотев, она убрала весь инвентарь и, тяжело дыша, задрала одеяло мужа, оголив ему ноги. Вытащив из топика груди, она приспустила семейники мужа и обхватила губами его член, проснувшийся раньше своего хозяина.
Через минут десять она оставила мужа досматривать сны, а сама пошла почистить зубы и ополоснуться. Вытираясь перед зеркалом, она посмотрела на женщину в отражении, чей оценивающий взгляд говорил: «Сколько ни старайся, а природа берет свое».
Зимним утром в субботу народ в метро почти отсутствовал, как и в магазине до полудня. Где-то за полчаса до наплыва клиентов Лидия пошла взбодриться чаем. Она нырнула за плотную занавеску (такие же висели в примерочных) в дальнем углу зала и оказалась перед дверью в комнату предварительной подготовки товара. Слева уходил коридор ко второму, дальнему входу на склад. Она набрала четырехзначный код и вошла в маленькую комнату три на четыре с обеденным и рабочим столами в противоположных по диагонали углах. Лидия оставила дверь распахнутой. Сбоку был еще ближний вход на узкий длинный склад, где в здоровую, не меньше чем от старого телевизора коробку кидал одежду и «аксессы» Кирилл. Он спустился с раскладной лестницы, держа перед собой листок «сравнения», половина которого была зачеркнута ручкой, что постоянно торчала у него за ухом.
— Кто раскидывал по местам? — спросил он.
— Половину я, половину Дима.
— Кто-то «АСХ» не забил. Я, конечно, и так знаю, где что лежит, но мы же договорились, что будем все по «АСХ» делать.
Лидия тяжело выдохнула.
— Это Дима. Мы с ним расстаемся… тебе не сказали?
— Нет. А че такое?
— Подводить стал часто.
— Но он же здесь пять лет работает. Сейчас новичок придет, и пока его обучишь… А ты ж знаешь, после праздников и так тухляк. Мы на сто процентов план не выполним. Мне позарез вся премия нужна.
— А кому не нужна? — спросила она, заваривая пакетик чая в кружке. — У меня дочь замуж выходит, сын в институте учится, муж взял машину в кредит, а мы по старой еще не расплатились. Но Дима в нашей сети работать не будет, — спокойным голосом сказала она, словно от этого разговора у нее не начинало сильнее биться сердце. — В перспективе увольнение Димы пойдет всем на пользу. А оставить его — значит подвести всех. Я так поступить не могу.
Суббота проходила как обычно, но Лидия то и дело поправляла манекены и стопки с одеждой, проверяла почту, спрашивала у девочек и Кирилла, все ли в порядке. В районе двух ей пришло сообщение от Ксении с вопросом, почему она не отвечает на звонки, и Лидия поняла, что за весь день ни разу не притронулась к рабочему телефону. Она стала копаться в сумочке — телефона нет. Она позвонила со своего, услышала гудки, убрала динамик от уха и прислушалась, где на складе играет мелодия, — нигде. Тогда она выключила музыку в зале, вышла и прошлась по магазину — тщетно. Лидия начала вспоминать, где в последний раз видела телефон, и одновременно писать ответ Ксении. Закончив стучать по клавиатуре, прежде чем отправить письмо, она закрыла глаза и силой воли попыталась уменьшить давление в висках. Открыв глаза, она машинально бросила взгляд на монитор видеонаблюдения, разбитого на восемь ровных осколков. На одном из них, на том, что показывал кассу, она увидела знакомую фигуру. Это был ее муж, облокотившийся на стойку и мило беседовавший с Катей.
Зазвонил стационарный складской телефон.
«…„Московский Рай“, здравствуйте, Кирилл слушает», — краем уха услышала она Кирилла, приглаживая на ходу юбку.
— Лид! — позвал ее кладовщик, нагнувшись к выходу. — Тебя. — Он протянул трубку застывшей вполоборота управляющей. — Ксения.
— Привет, Лид. Ты чего не отвечаешь? — раздалось в динамике.
Лидия смотрела на монитор. Леонид и Катя засмеялись: муж — не отрывая от кассира взгляд, Катя — запрокинув голову. Ее смех долетел даже до подсобки.
— Телефон не могу найти.
— А, понятно. Ну ладно. Перезвони, как найдешь.
— Хорошо.
Лидия хотела повесить трубку, как Ксения остановила ее:
— Погоди-погоди. Что у вас там с Димой произошло?
Лидия тяжело вздохнула и начала коротко пересказывать историю их с Димой отношений. Когда она закончила, Ксения поддержала ее решение и стала говорить о том, кто им нужен на его место и что можно будет изменить с новым человеком.
— Ой, меня кассир зовет, — перебила ее Лидия. — Ксюш, я тебе перезвоню.
— Конечно-конечно. Найди телефон и перезвони.
Лидия повесила трубку и побежала в зал — недолго, шагов пять, так как, перед тем как выйти из-за занавески в зал, она сбавила шаг. Муж грозился вот-вот перевалиться за кассу — и перевалился бы уже, если бы не спрятанное за стойкой пузо, перевешивающее на его сторону. Коренастая Катя, когда увидела подходящую выше ее на голову управляющую, отступила от Леонида к длинной высокой тумбочке со стопками футболок и джемперов, ждущих своей очереди на столики и полки.
— Привет, Лёнь, — тихо поздоровалась жена.
— Телефон принес. — Он кивнул на ее рабочий телефон на стойке. — В прихожей на столе лежал.
— Спасибо. Зачем же было приезжать? Позвонил бы.
— Да нормально. Мне самому хотелось прокатиться, посмотреть на то, где ты работаешь, — он коротко провел взглядом под потолком, словно вся коллекция одежды висела именно там, а не на уровне глаз покупателей, — на красоту поглядеть, — он лениво посмотрел на Катю и улыбнулся ей.
Катя, следившая за семейной парой, улыбнулась ему в ответ и тут же посмотрела на Лидию, уже без улыбки, но и без страха.
— Я пойду, — выдохнул Леонид. — Дома увидимся, — сказал он жене. — Динь-динь-динь, — сказал он с лукавой улыбкой кассиру. Лидия не знала, что это значит, но Катя расхохоталась на весь зал так, что несколько клиентов оторвались от ценников и расцветок и обернулись на ее заливистый смех. Лидия поджала губы и чуть раздула ноздри. Леонид увидел это, и его улыбка стала чуть шире. Он посмотрел на Катю взглядом: «Я же говорил». Кассир, сдержав смех, кивнула, пряча улыбку за ладошкой.
— Кать, смени, пожалуйста, Инну на примерке, — попросила Лидия.
Катя молча подчинилась. Муж скользнул взглядом снизу вверх по обтянутым джинсами двадцативосьмилетним ножкам, задержался на задних карманах и отвел взгляд. Лидия же провожала Катю взглядом, пока та не скрылась за углом. Пригладив на бедрах юбку, она посмотрела на Леонида.
— Тебя проводить? — спросила она.
— Да, до примерки, — сказал он, подождал ее реакции, но не дождался и, стараясь не прихрамывать, ушел.
В доме был лифт, но Лидия никогда им не пользовалась, а всегда поднималась по темной загаженной лестнице, считая, что это полезно для ее здоровья и фигуры. Медленно взбиралась по ступенькам, ставя одну ногу за другой. Под тяжестью двух полных пакетов из «Пятерочки» немели руки. Длинные надписи на зеленых стенах, точно змеи, легко скользили вверх, соблазняя бросить ношу и взбежать за ними на свой этаж.
Когда она остановилась перед своей дверью, руки готовы были отвалиться. Сделав несколько быстрых вдохов, какие делают тяжелоатлеты перед рывком, она задержала дыхание и подняла к звонку заходившую ходуном руку с грузом. Ткнула и, слава богу, попала — второй подход она бы не осилила, а ставить пакеты на грязный пол подъезда не желала.
Лидия ждала. Сын должен быть дома — после вчерашнего опоздания она запретила ему выходить вечером. Муж тоже должен был быть дома — вчера нагулялся. Но дверь никто не открывал.
Она нашла место почище, с болью в сердце опустила на него один из пакетов, достала из сумочки ключи и открыла дверь.
Ботинки сына в прихожей отсутствовали. В гостиной работал телевизор. Все еще стоя в прихожей, она набрала Косте и услышала в подъезде мелодию и приближающийся топот. Дверь открыл запыхавшийся сын.
Вслух она ничего не произнесла, но взглядом требовала ответа.
— Вышел на пять минут, — ответил он, глядя на одетую, еще не отдышавшуюся после подъема мать.
— Куда?
— Вот тут рядом, до Михи дошел.
Она начала искать в телефоне номер Миши, с которым ее сын учился в школе. Костя на мгновение остолбенел.
— Мам?
Она поднесла динамик к уху.
— Мам, ты чего? Не надо. Мне же уже восемнадцать.
Миша трубку не брал.
— Мне восемнадцать, мам, — повторил сын, словно пытался донести очень важную для всего мира истину. Истину, какую Лидия прекрасно знала и без него. — Вы, — он имел в виду родителей, — в восемнадцать Машку растили и в армии служили. А я в восемнадцать из дома не могу выйти?
— Женишься, и пусть жена с тобой возится.
— А как я женюсь, если ты меня за свою юбку заставляешь держаться? — Он произнес это тихо, но жестко, с упором на слово «юбку».
Они, все еще одетые, стояли в прихожей. В гостиной перестал работать телевизор — муж слушает их спор. Слушает и медленно закипает.
Лидия думала, что она не найдет, что ответить, но еще до того, как запинка переросла в бессильное молчание, произнесла:
— Само придет. Всему свое время. Для этого не надо пускаться во все тяжкие.
— И когда оно придет?
Поколебавшись, она назвала чуть меньше самой минимальной цифры, на которую рассчитывала.
— Двадцать два.
У сына упала челюсть.
— Может, раньше, — попыталась исправить ошибку она, но сын не отреагировал. Он молча снял ботинки, стянул куртку и, шатаясь не как пьяный, а скорее как оглушенный, прошел в свою комнату.
Лидия осталась одна. В тишине.
Она тяжело вздохнула, сняла пальто, сапоги и хотела было уже отнести пакеты на кухню, как из гостиной вышел муж. Он скрестил руки над животом и прижался плечом к косяку двери. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза: он — зло, она — боязно.
— Че к сыну пристала? — грубо спросил муж.
— Лёнь, ну а как еще? Надо же воспитывать.
— Сколько можно?
— Он же еще только на втором курсе.
— Нет. Сколько можно за мои грехи ему жить не давать?
— При чем тут ты? Ну, Лёнь, какие в восемнадцать лет могут быть мысли у парня? Вспомни себя в его возрасте. Таскаться — больше ничего и не хотел. А ему институт надо заканчивать. Сейчас же без образования никуда. Сразу диплом спрашивают. Нет диплома — и до свидания. Сам же знаешь.
Он смотрел на нее, нижней губой приподнимая верхнюю, нагруженную усами, думая, как бы насолить жене, взять верх. И придумает-таки, и не скажет, чтобы она не успела предотвратить задуманное.
— Как же ты всех за*****, — сказал муж, словно вывалил изо рта комок мерзости. Он толчком отстранился от косяка и вернулся в комнату. В гостиной снова заработал телевизор. Из комнаты сына не доносилось ни звука — подслушивает, догадалась мать.
Она взяла пакеты, отнесла их на кухню, всё из них достала и выкинула один из них в мусорное ведро — тот, что касался пола подъезда; после чего протерла намыленной тряпкой плитку, где он лежал.
Претендентов на место кладовщика приходило по три-четыре в день, почти все без «вышки». Те, что помоложе, обычно учились, те, что постарше, — нет и не собирались. Первые чаще всего не имели опыта работы на складе, вторые — наоборот. Но первые говорили учтиво, а вторые только пытались: они избегали жаргонных словечек, но говор скрыть не могли. Ни те, ни другие о карьере в сети магазинов одежды серьезно не думали. Некоторые сразу выдвигали требования или, как они говорили, «предупреждали заранее». Анкеты таких соискателей Лидия выбрасывала в ведро, как только те пересекали магнитные ворота на входе.
К закрытию вакансии определились два главных претендента: молодой человек, Максим, студент-очник, без опыта работы, и мужчина постарше, Валентин, женатик, с детьми и еще одной работой.
— Еще одна работа, а у вас семья. Вы будете успевать? — спросила Лидия Валентина, когда он заполнял анкету.
— Да.
— Точно?
— Точно. Мне нужна работа с вашим графиком.
Девочкам больше понравился студент: холостой, спортивный, с модным хаером.
— Будет покупательниц привлекать, — засмеялась Света.
— Сидя на складе будет, — сказала Лидия, возвращаясь к анкете Валентина.
— Ну не Валю же брать. Что это за имя такое?
Дима меж тем ушел тихо и мирно, ни с кем не попрощавшись. Некоторых даже удалил из друзей во «ВКонтакте». Наедине с Лидией он сказал, что, если она позовет обратно, он вернется и больше никаких подстав с его стороны не будет. Сказал — и тут же пожалел, разглядев снисходительность во взгляде управляющей. Утешением ему послужило лишь знание, что Лидия не такой человек, который разболтает о его минутной слабости.
Он в последний раз открыл рюкзак — показать, что ничего не прихватил со склада, — и направился к «воротам», двустворчатой двери с датчиком счета посетителей, количество которых статистики соотносили с данными продаж — поэтому все работники, чтобы не портить статистику, пересекая вход, нагибались под ним. Дима прошел через него прямой как жердь.
Лидия вернулась на склад и спросила у нового кладовщика:
— Получается, Валь?
— Можешь забирать.
Он показал на коробку, доверху забитую забейдженной одеждой. Лидия села на стул, перебрала ее и вытащила джинсы. Бейдж на штанине в районе коленки, бейдж в кармане.
— Клей еще мягкий.
Она достала бобину, отклеила квадратик от ленты и прикрепила на мешочек кармана, где он прилегал к штанине.
— Джинсы и куртки самые дорогие, и воруют их чаще всего, — пояснила она. — На них бейджи не жалей.
— Дима мне ничего про них не говорил, — сказал новый кладовщик, указывая на ленту.
— Потому что он их не клеил.
— Я буду, — сказал он.
— Он тоже так вначале говорил.
— Вот увидишь.
Лидия улыбнулась.
Сын с ней не разговаривал, только тихо благодарил каждый раз после еды и за деньги, которые она ему по чуть-чуть и часто совала, словно пытаясь подкупить его милость, но при этом боясь переплатить.
Дочь часто навещала их — и одна, и с женихом. До свадьбы было еще полгода, но подготовка шла полным ходом, словно ничем другим Маше заниматься не приходилось.
— Папа у тебя на работе был? — спросила она, когда мужчины пошли в гостиную выложить на «Авито» запчасти от разбитой в прошлом году машины. Сын от десерта отказался и ушел в комнату. Маша разреза́ла и раскладывала по тарелкам куски шоколадного торта, который принесла, и на мать не смотрела.
— Нет, — удивленно ответила ей Лидия, правда не помня ничего такого. — С чего ты взяла?
— А он твоего кассира в друзья добавил.
— Кассира? — спросила Лидия, все еще никак не понимая, о чем говорит ей дочь.
— Да, Катю, кажется.
Секунду Лидия смотрела непонимающе, затем моргнула и как ни в чем не бывало сказала:
— А, да, приходил, на пять минут, телефон привез…
— Пап! Вов! — крикнула дочь в коридор. — Чай!
Жених крикнул: «Щас».
Через минуту ответил так же. Еще через минуту Маша, громко топая, пошла за мужчинами в гостиную.
— Вов?! — услышала мать, оставшись одна на кухне разглядывать кольцо на безымянном пальце. Жених успокаивал Машу. Это муж виноват, поняла Лидия. Вова вызвался помочь ему и теперь расплачивался.
Послышались шаги по коридору. Дочь бранила жениха. Лидия подобралась, натягивая улыбку.
— Ну хватит, дочь, — ласково попросила мать. — Это Лёня его попросил.
— Он не маленький, у него своя голова на плечах, — отрезала Маша, но третировать жениха перестала.
Подостывший чай выпили быстро. Хозяйка разнесла кипяток по чашкам. На блюдце мужа лежал самый большой кусок торта, но он к нему даже не прикоснулся.
— Лёнь, начинай есть, пожалуйста.
— Не хочу, — бросил он и продолжил говорить с Вовой о машине.
Это что-то новое, подумала про себя жена.
— Лёнь, они же покупали, старались. Попробуй кусочек.
— Я на диете, — бросил он то ли в шутку, то ли всерьез.
— На диете? — изумилась дочь.
— Ага. Обруч каждый день кручу, — подмигнул он ей.
Они представили его — пузатого, кривоногого и усатого — крутящим обруч и засмеялись — все, кроме жены.
— Ну и как, получается? — спросила Маша.
— Никакого эффекта. Может, зря я его на палке верчу, может, на животе стоит попробовать. — Все засмеялись. — Хотя мать вон на животе крутит, а результат такой же.
Молодые смущенно посмотрели на хозяйку.
— Может, мне на йогу записаться? — спросил Леонид.
— На йогу не для похудения ходят, — сказала ему дочь. — А для хорошего самочувствия и хорошего настроения.
— Настроения? Тогда пусть мать твоя ходит.
Дочь и ее жених снова посмотрели на Лидию и, только когда та скривила шутливую рожицу, засмеялись.
— Ты сходи, я даже заплачу, — сказала Лидия. Это она так пошутила, но никто не смеялся, все только из вежливости улыбнулись и отвели взгляд. Главный юморист в их семье был Леонид. Из его уст даже самая глупая фраза звучала игриво и смешно. — Поешь тортик, — снова предложила она ему.
— Я сказал, что не хочу, — произнес он резко.
— Ничего, мам, — бросила дочь, пытаясь потушить пожар, чтобы он не разгорелся при Вове, — потом съест.
После ужина муж пошел провожать детей. В дверях она сказала ему, что они на машине, но он отмахнулся. Она осталась в доме вдвоем с сыном.
Лидия вернулась на кухню, села на табурет. Какое-то время она просто сидела на нем. Затем тяжело взглянула на грязную посуду, ждущую ее на столе и в раковине, на нетронутый кусок торта. Она слышала, как электричество бежало по кухне. Ветер обрушился на окно. Лидия взглянула на обручальное кольцо, вывернув правую кисть левой, — и расплакалась, негромко, но с большим потоком слез, смочивших и щеки, и полотенце. Изредка всхлипывая, она долго и тихо сотрясалась. Потом охнула, как охают, когда слезы иссякают, и вытерла лицо. Сделав глубокий, даже свободный вдох, она поднялась убрать со стола.
В гостиной она села за общий с мужем ноутбук. На страничке во «ВКонтакте» в поле «имя» она набрала «l», внизу под буквой вылезли два имени, начинающихся на «l»: ее и мужа. Замерев на секунду, она кликнула на имя мужа. У нее запросили пароль, и она тут же замотала головой, как бы извиняясь, что случайно выбрала не свое имя.
На страничку мужа она не заходила уже несколько недель — там редко что менялось. Три года, со дня его регистрации, на нее смотрела все та же отсканированная армейская фотография. Количество друзей у него никогда не превышало тридцати двух. И за все время он сделал всего семьдесят записей — в основном шутливые картинки, которые перепостил.
И сейчас ничего не поменялось, разве что друзей стало на одного больше. Лидия кликнула на маленькую фотку Кати и попала на ее страничку. Как и у Леонида: мало друзей, мало записей, мало фотографий. Лидия просмотрела все альбомы от последнего к первому, где ей уже было чуть за двадцать, совсем девочка, младше, чем Маша сейчас. Катя изменилась. Такая же коренастая и смуглая, но лицо повзрослело, округлилось, а напускную невинность в глазах сменило искреннее равнодушие.
Если бы муж хотел ей изменить, подумала Лидия, он бы не стал добавлять любовницу в друзья. Значит, он это сделал назло ей: чтобы она переживала и подозревала. И ему удалось добиться желаемого. Лидия закрыла крышку ноутбука, закуталась в плед, но он совсем не грел — холод с улицы просачивался сквозь бетон, как через картон. Она подошла к трубе отопления и обхватила в узком месте — горячо. Но почему же ей так холодно?
Она надела шерстяные носки, взяла еще одни, которые связала сыну и которые носил муж, и постучалась к Косте. Ответа не последовало, и она робко отворила дверь.
— Можно?
— Нет, — буркнул сын, сидя в темноте перед включенным монитором. Мать улыбнулась и включила свет. Стол сына располагался в дальнем левом углу. Справа, вдоль всей стенки, шли шкафы с книжками и одеждой, и лишь посредине, напротив дивана, их разделяла тумбочка с телевизором.
Лидия прошла и встала за спиной Кости. Пока она шла, отсвет монитора сменил оттенок, так, как если бы сын переключился на другое окно.
— Что делаешь? — спросила она.
— Сижу в интернете.
— Уроки сделал?
— Не спрашивай.
— Это еще почему?
— Незачем. Ты же все равно проверять не будешь. Поэтому если не сделал — просто совру. Ты хочешь, чтобы я тебе врал?
— Нет.
— Тогда не спрашивай.
— Ты можешь сделать уроки, и лгать тебе не придется.
Костя ничего на это не ответил. Мать смотрела на его затылок, сын — в неподвижный текст на мониторе. Мать запустила руку в его волосы. Он замотал головой, пытаясь освободиться, закружив ее руку в танце. Она отпустила его, нагнулась и поцеловала макушку. Голова и плечи сына не шевелились, только немного вибрировали из-за того, что его нога дергалась, как у неврастеника.
— Иди поешь тортик, — предложила мать.
На следующий день, сразу после обеда, Леонид позвал жену съездить с ним на диагностику автомобиля.
— Я? — переспросила она.
— Поедешь, нет?
Лидия не могла поверить, что он звал ее с собой. Но быстро догадалась, в чем дело: взяла из заначки денег и собралась за пятнадцать минут. Через двадцать они уже выезжали со двора. Небо чистое, голубое, с каплей золота на нем. Мир давил на глаза белизной и светом.
Лидия опустила на лицо тень с помощью противосолнечного козырька. Из зеркальца на нем смотрели счастливые женские глаза.
— А зачем новой машине диагностика? — спросила она.
— Так надо, — буркнул он. Подождал немного и все же объяснил: — Проверить у независимых экспертов. Чтобы проблем потом не возникло.
— После заедем в магазин за продуктами?
Муж кивнул, но не ей, а в благодарность пропустившему его на выезде водителю.
— Ты, кроме магазина, работы и дома, другие места знаешь? — спросил он.
Ты за нас двоих знаешь, подумала она про себя, но ничего не ответила.
Муж с заносом на гололеде вошел в поворот. Лидия положила одну руку на подлокотник, вторую на бардачок. Муж, заметив, рассмеялся.
— Лёнь? — попросила она. Не хватало еще умереть в машине, за которую она выплачивает кредит, подумала про себя Лидия.
— Не боись, — сказал он ей и надавил на педаль акселератора, — не успеешь почувствовать боль, как на том свете окажешься.
Лидия представила, как у нее появятся такие же шрамы, как у мужа, но не на ноге, под носком, а на лице.
— Лёнь! — Она выпустила бардачок и вцепилась в обивку кресла.
— Чего, боишься? — спросил он, боковым зрением видя, как она вжалась в кресло. — Разводись, — предложил он ей серьезным голосом. Жена закрыла глаза и выглядела уже не так испуганно. — Тут прямая и никого нет, — примирительно и устало сказал он. — Что может случиться? — Жена словно погрузилась в медитацию и не слышала его. Муж сбавил скорость.
В автосервисе они проторчали полдня. Названия терминов и услуг не задерживались в ее голове. Остались лишь: компьютерная диагностика двигателя и электронных систем, замена масла, тосол. Муж следил за всеми операциями, задавал вопросы, интересовался, постоянно повторял: «Ладно, не буду говорить под руку», — чтобы через минуту снова пристать с очередным вопросом или указанием к механику, который не отрывал взгляда от того, что делал.
Лидия то стояла рядом, то мерила шагами цех, то ходила в приемную, а в перерывах между всем этим поглядывала на часы. Оживилась она, только когда муж пошел расплачиваться. Она двинулась за ним, доставая на ходу кошелек, но, к ее удивлению, у мужа хватило.
Когда они выехали из автосервиса, Лидия увидела, что уже наступил вечер. Дома ее ждала куча дел, но она подумала, что не чувствует сожалений по потраченному впустую дню.
Входя в прихожую, она хотела только одного: погрузившись в горячую ванну, растворить и разлить мысли в клубах пара. Она включила воду и пошла в гостиную за халатом и бельем. И только на обратном пути, проходя мимо комнаты сына, смутно почувствовала тревогу. Она дошла до двери ванной, остановилась, посмотрела назад и быстро вернулась, чтобы без стука войти к Косте. Сына в комнате не было. Она обернулась назад — его обуви тоже. Снова обернулась — не было и компьютера под столом, и монитора на столе.
— Сына нет, — сказала она, вернувшись в гостиную с трубкой у уха, дрожа от бега крови в венах и мыслей в голове.
Муж лежал на кровати, смотрел телевизор и никак не отреагировал на новость.
— Алло, Кость, ты где?
— Я съехал от вас. — Голос сына был непростительно спокоен.
— Что-о-о-о-о?! Куда?
Он молчал.
— Куда ты съехал? Говори!
Сын не отвечал.
— …Костя, дорогой, возвращайся домой, — совсем другим голосом попросила она.
— Нет. Я хочу жить отдельно.
— Почему?
— Потому что хочу и могу.
— Где?
— Не скажу.
— А как же твои вещи?
— Я приеду за ними позже.
— Ну кто так делает, сын? Ни с того ни с сего, никому не говоря куда… Хочешь жить отдельно — хорошо. Снимем тебе квартиру. Будем знать, где ты, сможем тебя навещать.
— Нет, — твердо ответил сын.
На секунду у матери сперло дыхание.
— А на что ты жить будешь?
— Я устроился на работу.
— Кем еще?
— Кладовщиком.
Ноги Лидии чуть не подкосились.
— Тебе учиться надо. Или ты собрался всю жизнь на складе работать?
— Учиться я не брошу. Мам, мне пора. У меня все хорошо.
— Где ты?
— Не скажу.
— Скажи, или я в милицию пойду.
Сын заколебался.
— В общежитии от института, — все взвесив, ответил он.
— Я приеду.
— Нет.
— Приезжай сам.
— Нет!
— Приезжай сам, или я пойду в деканат.
— Иди. Если меня отсюда выселят, брошу институт, пойду в армию, но домой не вернусь.
Он бросил трубку. Лидия набрала снова и снова. Муж уставился в телевизор и не шевелился. Она подбежала к нему и ударила кулачком по усатому лицу. Муж с гневом посмотрел на нее вытаращенными глазами.
— Это ты надоумил, — сказала она и снова ударила. — Ты виноват.
Она била его кулаками и плашмя. Он закрывался и молчал, потом не вытерпел, схватил за локти и затряс жену, как тряпичную куклу. Та повисла у него в руках и зарыдала. Муж отшвырнул ее к двери, встал над ней и замахнулся. Она даже не пыталась закрыться, а подняла к нему красное зареванное лицо. Он медленно опустил кулак. Тогда жена с воем принялась бить его по коленям, голеням, и особенно по стопам, по покалеченной стопе. Но он даже не дернулся. Признав немощность своих ударов, она зубами вцепилась в его икру.
Муж с криком «А-ай» отдернул ногу и с силой опустил кулак ей на голову, подняв ворох волос. Следом и второй глухой удар опустился на ее голову. Он бил, пока она не перестала реветь и в прострации не отодвинулась от его ударов. Он посмотрел на то, как она водила головой из стороны в сторону, будто пьяная, не в силах понять, где и почему находится. Он закричал куда-то в потолок, соседям сверху. Прошагал в коридор, надел куртку и громко хлопнул дверью.
Лидия сидела на табуретке, отковыривая пластиковой вилкой маленькие кусочки шоколадного торта и медленно пережевывая их, чтобы осторожно проглотить. Даже слабая работа челюстью вызывала тупую боль во вздутых на голове шишках. Волосы были проводниками боли, напрямую подсоединенными к мозгу. Они вибрировали от любого колыхания, вызывая раскаленные очаги. Лидия старалась оставаться в статичном положении. Неаккуратное движение заставляло ее застыть и ждать, когда затухнут импульсы.
— Спасибо за тортик, — сказал Валентин, прихлебывая чай.
— Не за что. Все равно есть некому. Пропал бы, — медленно и с расстановкой сказала она.
— Ты чего? — спросил кладовщик, когда Лидия поморщилась. — Голова болит?
— Давление, — соврала она, желая закрыть тему.
— Мозг не чувствует боли. Но может сигнализировать о ней.
Она закрыла глаза и стала глубоко и неспешно дышать через нос.
Вчерашний вечер тут же проступил в побитой голове. Муж вернулся через три часа. Выглядел замерзшим и виноватым. Извинились по очереди: сначала он, затем она.
Лидия все еще сидела с закрытыми глазами. В подсобку кто-то вошел.
— Валь, выдашь такую же, XS-ку?
Голос Кати.
— Место не смотрела? — спросил кладовщик.
— Нет. Это «база». Не знаешь, где лежит?
— Он только устроился, — произнесла Лидия, открыла глаза и строго посмотрела на своего кассира. Та стушевалась, что было ей не свойственно, и Лидия поняла: она знает. Видимо, Леонид ей все рассказал. Когда успел? Вчера? Сегодня во «ВКонтакте»? Катя частенько, несмотря на запрет, торчала во время работы в телефоне.
Управляющая снова закрыла глаза. Вдобавок к пульсирующим шишкам у нее началась мигрень. Валентин выдал джемпер и снова хлебнул из чашки с чаем.
— А у меня уже есть скидка сотрудника? — спросил он. — Хочу детям чего-нибудь прикупить.
— Да, — ответила Лидия. Она спрятала глаза за козырьком из ладошки и начала массировать виски пальцами. — Сколько твоим? — спросила она его не глядя.
— Дочке восемь, сыну шесть, в сентябре пойдет в школу.
Лидия ничего не ответила.
— А твоим?
— Двадцать четыре и восемнадцать.
— О-о-о, совсем взрослые.
Она перестала массировать виски, но козырек из ладошки от лица не убрала.
— Не могу представить своих взрослыми. А Лена, жена, ждет не дождется, когда они вырастут. Говорит, тогда с ними можно будет нормально общаться.
Лидия убрала руку от лица, взяла вилку и отковырнула еще один маленький кусочек торта, но есть его пока не собиралась.
— Она не любит с ними возиться, только когда есть настроение, — продолжал Валентин. — Но они все равно ее любят, даже больше, чем меня. Меня они не видят, а Лена не работает и всегда рядом. Но когда им будет столько же, сколько твоим, они поймут…
Лидия не стала доедать свой кусок, бросила и вилку, и тарелку в ведро, резко встала, отчего к голове прилила кровь вперемешку с болью, и как в тумане двинулась в зал.
Лидия не сразу вошла в свой подъезд. Некоторое время она стояла на морозе, без шапки, наслаждаясь тем, как мерзнут шишки. Заканчивался январь и начинался февраль. Ночь уже месяц как шла на убыль, но все равно света не хватало. Так холодно в Москве не было почти год, с тех пор как муж заработал шрамы на ноге. Лидия задумалась: что было бы, если бы Леонид тогда умер? Наверно, сошла бы с ума от горя, подумала она, но недостаточно искренне, и потому поспешила спрятаться от мыслей в темноте подъезда. Но в кои-то веки вся лестница была увешана работающими лампочками. И весь путь до своей квартиры Лидия проделала под их пристальными взглядами.
В прихожей стояли чьи-то лыжи, с которых на пол натекла грязная вода. Это что-то новенькое, подумала Лидия, трогая деревянную планку, словно пытаясь убедиться в ее действительности. Затем замотала головой, как мотают, когда что-то привиделось, и начала раздеваться. Она открыла тумбочку, где Леонид обычно хранил сигареты, и, к своему удивлению, обнаружила четыре пачки, а не две, сколько обычно оставалось в конце рабочей недели. Такой поворот событий поразил ее не меньше лыж в прихожей.
Муж вышел из душа и сказал, что через час придут Сашка с Софьей.
— Ты не мог раньше предупредить? У меня ничего не готово.
— Они ненадолго.
Жена побежала на кухню готовить на скорую руку.
Сашка и Софья, муж и жена — два сапога пара. Они выросли в одной деревне с Леонидом, и он знал их сколько себя помнил. Лидия же с ними общалась только по случаю.
В холодильнике уже ждали коньяк, сырокопченая колбаса, сыр. Жена, конечно, этим ограничиваться отказалась. Она приготовила жаренные в сыре гренки и салат из капусты и колбасы. Муж, когда увидел, что она сделала с его закуской, хотел было выкинуть угощения вместе с тарелками в окно, и ее труд спас лишь звонок в дверь. Лидия побежала в прихожую открывать гостям и задержалась, лишь чтобы посмотреть в зеркало — на хмурую женщину.
Саша выглядел неплохо. Полысел, но вес не набрал, все такой же низкий и щуплый. Софья выглядела хуже: и без того круглое ее лицо стало чуть одутловатым. Ростом она была еще ниже Саши, но щуплой ее никак нельзя было назвать. Годы, подумала Лидия.
— Ой, Лид, как ты хорошо выглядишь, — сказала Софья с порога. — Ну совсем не меняешься.
Лидия, терпя головную боль, расцеловалась сначала с ней, затем с ее мужем в обе щеки.
— Ты тоже, ты тоже.
— Ой, куда мне, — махнула рукой Софья, посмотрела на Леонида — в школе они были парой — и засмеялась. — Мы тут рядом всю неделю работали, сегодня наконец закончили. Поэтому не при параде. — Она скромно поправила складки на рубашке.
Хозяйка просила не волноваться и пригласила всех за стол.
— О-о-о, коньяк, — сказал Саша, — мы же обещали, что не с пустыми руками придем.
Лидия поняла, что Леониду одной бутылки на трех с половиной человек будет мало, но ничего не сказала.
Все расселись по местам.
— Ой, какая кухня, — похвалила Софья. — Сам, Лёнь, делал?
Леонид бахвальски развел руки.
— Молодец какой. Саш, смотри на стены. — Она указала на безупречный ровный белый цвет. — Лучше, чем ты. А ты этим деньги, между прочим, зарабатываешь.
Лидия выкладывала гренки.
— Лёня час назад сказал, что вы придете, поэтому толком не успела ничего приготовить.
— Ой, да мы все равно ненадолго, да, Саш?
— Как всегда, — с улыбкой ответил тот. Обычно такие короткие визиты заканчивались у них поздним походом в магазин за добавкой.
Первую рюмку, за встречу, Лидия выпила. Вторую — пропустила. Салат и гренки гости уплетали за обе щеки. После третьей, пока все курили, Лидия осталась одна чуть прибраться. Из подъезда все вернулись, громко смеясь. Леонид рассказывал, как в школе он, Сашка и еще пара друзей поехали на рыбалку.
— Я пять штук поймал: двух подлещиков и карасей три штуки. Сашка, значит, ничего, молчит, меняет червей, плюет на них, вверх по течению пойдет, вниз, и в траву забросит, и на глубину — но не клюет, и все тут. — Они сели за стол, и Леонид стал тут же разливать. — Решил он тогда с обрыва попробовать, ну и мы за ним подтянулись, ему назло. Давайте, за здоровье. — Они чокнулись (Лидия пропустила), выпили и закусили. — На обрыве я еще сорожку вытащил. Сашка все молчит, смотрит на поплавок. А тот как на дно уйдет. Я думал, этот от волнения удочку выронит, а он как подсекнет, как выдернет сазана. Мы давай кричать наперебой, советы давать. У кого-то, у Глеба кажись, сачок был, которым никто никогда не пользовался. Тут он вспомнил про него, понял, что не зря его все лето с собой таскал, и давай им пытаться поддеть Сашкиного сазана. Этот влево — и тот влево, этот вправо — и тот вправо. И прям у самого края обрыва сачок как шибанет сазана, и тот слетел в реку. Он еще не успел воды коснуться, как Сашка уже налетел на Глеба. Б**, как он его материл, как бил. Я и оторвать его от Глебки хочу, и не могу, так хохочу…
— Он мне тогда всю рыбу свою отдал, — сказал Саша, глядя на друга пьяными добрыми глазами.
Налили еще по одной, и еще, и еще, уже из второй бутылки. Лидия ничего из этого не пила. Все давно захмелели.
— Так, пора собираться, — сказал Саша, глядя на заплывшие глаза жены.
— Давай еще по одной, — в тон запротестовали Леонид и Софья.
— Закончили же работу. Следующий заказ только через два дня, — нашла аргумент Софья.
Саша не стал спорить.
Леонид разлил на четыре рюмки. Лидия воспротивилась, когда он стал наливать ей.
— По последней, — сказал он и отвел ее руку. — За будущую встречу.
Все чокнулись и выпили пахучий коньяк. Все, кроме Лидии, — она совсем немного пригубила и тут же, морщась, закусила колбасой.
— Ты чего? — спросил муж.
— Не хочу.
— Не хочешь больше встречаться?
— Не хочу больше пить, мне хватит.
— Ой, да брось, Лёнь, раз не хочет, чего заставляешь?
Леонид некоторое время разглядывал жену осоловевшими глазами, затем вдруг обозвал ее дурой, отобрал рюмку, сам махнул, звонко стукнул дном об стол и задышал через нос.
— Зря ты, Лёнь, — сказала Софья, — так с женой. Ты ее на руках такую носить должен. А ты? Ой, пропадешь ты без нее, — добавила она, глядя на его отяжелевшую голову. — И как она тебя терпит?
— А не надо терпеть, — холодно заметил он.
Саша помог жене встать с табуретки, та обхватила его за шею и долго, пьяно целовала, а он и не против был.
Леонид поднялся проводить гостей молча; Лидия, наоборот, звала еще и благодарила за похвалы ее столу. Как только дверь закрылась, стало понятно, как шумно было с гостями — такая тишина повисла в квартире.
Муж пошел в гостиную, жена — на кухню.
На обратном пути она остановилась у двери сына и, не задумываясь о чем-то конкретном, вошла. В комнате было пусто, темно и холодно — кто-то не закрыл форточку. В темноте, без тапочек, оставляя на холодном полу влажные отпечатки, Лидия прошла закрыть окно. Стол сына без компьютера, тетрадей и учебников казался голым. Костя их все еще не навещал. Как он там, мать знала только с его слов по телефону. Она протянула руку и коснулась полки. Та была холодная как лед и уже покрыта тонким слоем пыли. В носу защипало, и Лидия вся содрогнулась, словно от укусов мороза.
— Чьи лыжи? — спросила она, ложась и кутаясь в одеяло. Муж сопел и не отвечал. Спит, подумала она и перевернулась на бок, к окну.
В комнате раздался рингтон «Вотсапа». Не успела Лидия подумать: посмотреть или оставить на завтра, — как вдруг муж встал и взял со столика свой телефон. Жена с удивлением пронаблюдала за тем, как муж, морщась от света, неловкими пальцами написал ответ, выключил экран и лег обратно.
— Т-ты есть в «Вотсапе»?
Муж, как и прежде, сопел и не отвечал. Она снова повернулась на бок, к окну, и долго не закрывала глаза, думая и думая, не в силах ничего понять.
Муж действительно был в «Вотсапе». Лидия сидела в подсобке и глядела на экран своего телефона, на аватар мужа, дорогую машину на перекрестке. Она ткнула на контакт, чтобы написать, но в голову ничего не пришло, и она погасила экран. На темной гладкой поверхности, как от зеркальца, отразились холодные глаза женщины. От экрана взгляд скользнул к монитору видеонаблюдения и на одном из осколков нашел Катю. Она стояла на примерке и, пока посетители переодевались, поглядывала в телефон, с кем-то активно переписываясь. Лидия прибавила музыку в зале, как всегда, когда кто-нибудь из девочек отвлекался от работы, но Катя не отреагировала, и управляющей пришлось самой встать и пойти к ней.
— Кать!
Катя подпрыгнула и спрятала телефон в задний карман.
— Господи, Лид, у меня чуть инфаркт не случился.
— У тебя совесть есть?
Девушка не знала, что сказать, будто ей задали серьезный вопрос, на который без долгих размышлений и не ответишь.
— Не слышала, как я музыку прибавила? Я что, каждый раз должна выходить, как вы в телефон залезете? — Она говорила громко, уперев руки в бока. Катя мысленно сравнила ее с голубем и не смогла не улыбнуться. — Мне что, опять запретить вам в зал с телефоном выходить? С кем ты переписываешься?
— Нет, Лид. Я больше не буду, — проигнорировала последний вопрос Катя.
Управляющая развернулась и пошла обратно в подсобку. Села перед монитором видеонаблюдения и увидела, что Катя стоит с руками по швам.
Но в течение остального дня, каждый раз заходя в подсобку попить, на обед или за очередной шмоткой, Катя тут же принималась строчить сообщения, улыбаясь, а порой и смеясь прочитанным ответам.
Лидия стояла на первом этаже и уже пять минут глядела на убегающую вверх темную лестницу. После работы она зашла в «Пятерочку», но ничего не купила, вспомнив, что в холодильнике полно еды: она по привычке готовила на троих, а в доме было только двое. Рядом с ней стояли лыжи — купила в спортивном магазине, выйдя из продуктового. Зачем? Она не знала. Она даже не знала, себе или мужу. Кажется, они были мужскими — значит, мужу.
Хлопнувшая позади дверь подъезда подстегнула начать подъем. Она наступила на первую ступень, опираясь одной рукой на перила, другой — на лыжи, как на посох.
Ботинки мужа в прихожей отсутствовали. Она вспомнила, что он сегодня в вечернюю смену, и звонить не стала.
На то, чтобы поесть и принять ванну, ушел час. Как занять остальную часть вечера, Лидия не знала. Она позвонила детям, сначала дочери, потом сыну. На вопрос, как у него дела, сын сказал, что все хорошо, но особой радости ей это не принесло — она рассчитывала на другой ответ. И все же она не заговорила о его возвращении домой. Уже прощаясь, Костя признался, что взял академ.
— Ты что, с ума сошел? — спросила мать.
— Все нормально, — спокойно ответил сын, не ожидавший никакой другой реакции матери. — Осенью восстановлюсь.
— Зачем берешь? Ты же сдал зимнюю сессию.
Лидия представила, как сын подделывает записи в зачетке, и ей стало дурно.
— Я решил перевестись на другой факультет. Хочу быть логистом. Я уже обо всем договорился с деканом, и до нового учебного года из общежития меня не выставят. В сентябре надо сдать экзамены, и тогда начну со второго курса, а не с первого — так я потеряю всего год. Но зато подзаработаю к тому времени. Я на следующей неделе навещу вас и все толком объясню.
— Ты заедешь?
— Соскучился по домашней еде.
Мать услышала смех сына в трубке.
— Приезжай, — все, что она сказала.
Заснула она рано, не дождавшись возвращения мужа, а на следующее утро проснулась за час до будильника. Она, как кошка, стала потягиваться в постели. Рука скользнула к мужу, но нашла лишь непотревоженное одеяло. Лидия встала на колени и из кошки превратилась в настороженную собаку. Она бросилась в коридор. Ботинки мужа стояли в прихожей. Вместо того чтобы бежать на кухню, где пару раз муж проводил ночь на полу, она зашла в комнату сына. Леонид тихо спал на его кровати. Шторы были не задернуты, и Лидия хорошо могла различить знакомые очертания.
На ее сердце чуть полегчало. Она осторожно подошла и подсела к мужу. Откинула одеяло и положила руку на живот. Ей показалось, он стал меньше. Действительно, майка больше не обтягивала пузо, как раньше, и можно было легко просунуть под нее ладонь. Диета и тренировки делали свое дело.
Что он тут забыл, подумала она, и почему не ночевал где обычно? За двадцать с лишним лет не было ни одной ночи, чтобы она его не дождалась и не встретила. Может, не хотел тревожить? Подобное проявление заботы вызвало улыбку. Ее ладонь скользнула по майке к трусам и взяла их с хозяйством мужа. Леонид тут же проснулся и положил свою руку поверх ее. Жена начала медленно массировать.
— Нет, — тихо произнес он. Она остановилась на несколько секунд и продолжила массировать чуть напористее. — Нет, — повторил он, тверже и громче.
Она прекратила, безмолвно спрашивая: «В чем дело?»
Он убрал ее руку и лег на бок, лицом к стене, спиной к ней.
— Лёнь?
Никакого ответа.
— Лёнь?
Снова.
— Пойдем к себе.
Тишина.
— Нет, — вдруг сказал он в стену.
— Почему?
— Я теперь здесь сплю, пока… пока квартиру не разменяем.
— Какую квартиру?
Он перевернулся обратно на спину и посмотрел на нее.
— Эту. На две однушки.
— Зачем ее менять?
— Чтобы разъехаться.
— Я… я… — Она как рыба стала ловить ртом воздух. — Я не собираюсь никуда съезжать, — наконец вымолвила она. — Это моя квартира.
— И моя.
— Ничего не твоя.
— Я двадцать пять лет здесь прожил. Дважды ремонт делал от гостиной до кухни. Теперь квартира общая.
— Квартира записана на меня. Я разменяю квартиру, когда сын закончит институт. Он будет жить в одной, мы с тобой в другой.
— Жить вдвоем мы больше не будем.
— Почему?
— Потому что я с тобой развожусь.
Она отвернулась и высоко подняла голову к потолку, как поднимают после оскорбления.
— Мы же через это уже проходили. — Она снова опустила голову.
— Теперь все по-другому.
— Ну зачем ты так? Зачем меня мучаешь?
— Я тебя не мучаю.
— Мучаешь. Чем я тебе не угодила? Что я не так сделала? За что ты со мной так?
— За всё, — сказал он, поднялся с постели и вышел в коридор. Когда он уже оделся и собрался выйти в подъезд, Лидия загородила собой проход.
— Уйди, — сказал он.
— Куда ты собрался?
— Прокачусь. Пока ты тут.
— Куда прокатишься?
— Никуда.
— К кому?
— Ни к кому.
— К Кате?
— Нет.
— А куда?
— Никуда.
— Она сегодня работает.
Он не ответил.
— Собрался квартиру менять? А ты о Косте подумал? Где он жить будет? Или эта б**** важнее сына?
— Сам разберется, не маленький.
— Ну что ты такое говоришь?
Он попытался сдвинуть ее с места, но она изо всех сил уперлась в косяк двери.
— Лид?
— Не пущу.
— Прекрати.
— Не пущу, — повторила она.
— Зачем доводишь?
— Ударить хочешь? Ударь.
Он схватил ее за запястье обеими руками и изо всех сил дернул на себя, словно заклинившую дверь. Лидия пошатнулась и сделала шаг в сторону. Муж воспользовался моментом и попытался проскочить. Жена зажала его между собой и косяком. Они недолго боролись, пока муж не просочился в подъезд. Не оглядываясь, он стал спускаться вниз. Жена кричала ему вслед, но он не оборачивался.
— Приживальщик! — крикнула она, но и тогда он не остановился, а, наоборот, зло ускорил спуск.
— Пиши заявление. — Это первое, что сказала Лидия Кате, когда та вошла в магазин.
— В смысле?
— Пиши заявление.
— В смысле?
— Больше ты здесь работать не будешь.
— В смы…
— Много сидишь в телефоне. Я предупреждала.
— Не больше Светки сижу.
— Эй! — возмутилась Света, не ожидавшая такой подставы.
— Ей можно, она администратор, — заступилась за нее управляющая.
— Мне заявки приходят на общий, — добавила Света.
— Че-о-о, какие заявки? В «Вайбере» она сидит.
— Эй! — снова возмутилась Света. — Пиши заявление.
— Пиши, — приказала Лидия. — Уйдешь одним днем.
— За что?
Катя поняла за что, как только встретила взгляд Лидии.
— Да пожалуйста, — сказала она ей, — сдалась мне эта говенная работа.
Она зашла за кассу и без шаблона написала все, что нужно. Бросила ручку и пошла на выход, ни с кем не прощаясь.
— Ты куда направилась? — спросила управляющая, имея в виду, что Кате необходимо было ехать в офис.
— П**** твоему мужу дать пососать, — бросила та через плечо и показала средний палец.
Магазин еще не открылся, и посетителей, слава богу, еще не было.
Лидия набрала Ксению, чтобы уволить Катю по статье.
— Погоди, — ответила Ксения. — Как статья? Что она такого сделала?
— Плохо работала, хамила клиентам, сидела в телефоне и, мне кажется, подворовывала.
— Кажется или подворовывала? Есть запись?
— Нету.
— Почему ты раньше не сообщила?
— Прикрывала.
— Что значит «прикрывала»? Как я могу ее по статье уволить, если ты сама ей все спускала?
— Ее надо уволить, и все. Она заслужила.
— Так, Лид, давай успокойся и нормально расскажи, что у вас там произошло.
Ничего толком объяснить она не смогла, и пришлось ей довольствоваться лишь тем, что она больше не увидит Катю в своем магазине.
Целый день она писала и пыталась дозвониться мужу, пока за полчаса до конца рабочего дня ей не позвонили с домашнего.
— Лёнь? — ответила она.
— Это я, мам.
— А, привет, дочь. Ты чего из дома звонишь?
— Я телефон у Вовы забыла.
— А-а-а. Ясно. А дома у нас что делаешь?
— Я у вас сегодня переночую.
Какое-то время на линии висела тишина.
— С чего вдруг?
— Просто у вас переночую, и все. Ты против? — с вызовом спросила Маша.
— Нет-нет, оставайся. Поесть что найдешь там?
— Найду.
На линии снова повисла тишина.
— Так ты зачем звонила-то?
— А, да, точно, насчет папы. Ты только не переживай, с ним все в порядке, он опять в аварию попал. На перекрестке. Говорит, не виноват и страховка все оплатит.
— Бог с ней, с машиной! Сам он как?
— Да нормально все. Легкое сотрясение, и то преувеличивают. Через пару дней выпишут.
— В какой он больнице?
— Он просил не говорить.
— Маша?!
Дочь назвала. Лидия оставила все на Свету и впервые ушла с работы раньше положенного, чтобы помчаться к мужу. По дороге она заскочила в аптеку за туалетными принадлежностями и в палатку с фруктами. Она набрала вишню, которую так любил Леонид, бананов и апельсинов. Еще взяла сок.
Из приемной ее отправили на пятый этаж. Лидия надела бахилы и поднялась на лифте, крепко держа пакет с фруктами. Она поправила в зеркале прическу. В отражении женщина с решительными глазами повторила за ней движение.
Лидии нужна была палата 512.
507, 508, 509, 510, 511…
Перед белой как снег дверью, из-за которой доносились мужские голоса, она снова, уже машинально, поправила волосы, постучала и вошла.
В палате было шесть коек: три слева, три справа. Общий свет не горел. Над двумя кроватями горели вделанные в стену длинные плафоны. Она сразу увидела Леонида. Он лежал с перебинтованной головой на второй койке слева, в полутьме, и стеклянными глазами глядел на окно.
— Здрасьте, — поздоровался с Лидией из дальнего правого угла сухой мужик. — Вы к кому?
— Я… вот… — Она рукой с пакетом показала на мужа.
— Лёнь, к тебе пришли, — сказал мужик и пошел к соседу, который играл на тумбочке в карты с другим своим соседом.
Муж оторвался от окна и устало повернул на подушке голову. Жена стояла с виноватым видом, не решаясь подойти. Он легонько покачал головой. Она сделала шаг вперед.
— Не подходи, — сказал он.
— Лёнь…
— Не подходи, я сказал.
Она сделала еще шаг. Он поднял ногу, как поднимают, когда отбиваются, лежа на земле.
— Ты зачем пришла? Тебя никто не звал.
Пять мужиков и юношей притихли. Они оторвались от карт и гаджетов и смотрели на встречу мужа и жены.
— Лёнь, прекрати. Я тебе вишни принесла. Давай помою и… — Она сделала шаг, но он закричал:
— Не подходи! Уйди, прошу, уйди, пожалуйста, ради бога.
Жена не сходила с места, пытаясь придумать, как успокоить мужа.
— Уйди, пожалуйста, — повторил он. — Ты только хуже делаешь. — Он изогнулся, словно его всего ломало изнутри. — Дай мне нормально отлежаться. По-человечески прошу.
— Лёнь? — Она стояла над ним, намереваясь сделать еще один шаг.
— Уйди! — во все горло заорал он. — Уйди, с***! Уйди, проклятая! За***** ты меня! Как ты за*****! Не люблю я тебя! Не люблю! Птица! Коршун! Тиран! Отпусти ты меня! А-а-а-а-а-а-а!
Он захныкал. Мужики в палате зашевелились, словно вдруг одновременно начав что-то искать на себе. Кто-то уставился в экран, боясь дернуться телом или глазом. Один так вообще встал и вышел. Лидии тоже было неловко, но она превозмогала себя, чтобы остаться на месте.
— Уйди, — просил он ее. — Будь человеком. Ради детей. Хочешь, я на колени встану? — Он посмотрел на нее. — Ты этого хочешь? — спросил он ее на полном серьезе и стал сползать с койки, не отрывая взгляд от жены. — Этого?
Лидия сделала еще один шаг, и Леонид издал звук, похожий одновременно и на крик, и на рыдание, и на стон.
В палату вошла медсестра. За открытой дверью собрались любопытные лица пациентов. Сначала медсестра опешила при виде ошалелого Леонида, но почти сразу же взяла себя в руки.
— Так, что здесь происходит? Кто потревожил пациента?
— Она, — Леонид показал на жену пальцем, как на явившегося из ада дьявола. — Она! Заберите ее! Уведите!
Медсестра взяла Лидию за руку.
— Так, оставьте-ка пациента в покое.
— Я его жена, — сопротивлялась она.
— Да хоть мать; видите, ему плохо. Придете, когда успокоится.
Лидия продолжала упираться, пока медсестра не пригрозила вызвать охрану, и тогда ее потом вообще не пустят. У самого выхода она положила пакет в стоявший тут же умывальник и вышла.
Без чьей-либо помощи, но под конвоем она дошла до лифта, спустилась на первый этаж и вышла на улицу, прошла по дорожке вдоль корпуса, завернула за угол, затем еще раз, прошлась по другой стороне, опять свернула, обошла здание и пришла к тому же главному входу, из которого вышла. Вошла в него и тут же вышла. Снова пошла по кругу.
Разговор
Он пришел домой за полночь, вымотанный тяжелым днем. Свет включать не стал — в темноте мозг чувствовал некую передышку. По старой памяти протянул руку влево — положить ключи на антикварную тумбу. Но той на месте не оказалось, и связка со звоном упала на пол. Из гостиной донеслось шуршание постельного белья, а затем приближающиеся шлепки босых ног по полу, остановившиеся в метре от него.
— Извини, — сказал он очертаниям в темноте. Ему ответил женский хриплый голос:
— Ничего; я только легла — книгу читала.
Фигура прильнула и поцеловала его в губы. Видимо, она лучше ориентировалась в темноте, чем он после светлого подъезда.
— Есть будешь?
— В это время? — спросил он, но, немного подумав, добавил: — Творог есть?
Она несколько секунд молчала, а затем засмеялась.
— Что? — спросил он, начиная улыбаться.
— Я тебе кивнула.
Они засмеялись вместе.
Снял туфли, пиджак и пошел в ванную умыться. На залитой светом кухне сел у окна. В микроволновке крутилась кружка молока. Это она себе грела, ему — налила холодного. На ней были только серые майка и стринги. Он рассматривал ее стройные ноги, худые руки и каре — все они непривычно смотрелись в его доме.
Поставив на стол миску с творогом, она вдруг резко ушла в зал.
В прихожей хлопнула дверь. Михаил потушил экран телефона, на котором была открыта общая фотография его подчиненных.
Анна с улыбкой вошла в просторную кухню, пряча руки за спиной. На ней было деловое серое платье с тремя большими пуговицами, идущими наискосок. Михаил сидел в брюках и белой рубашке, всё еще не переодевшийся после работы.
Она нагнулась и поцеловала его в край гладковыбритого подбородка.
— Угадай? — Голос ее, всегда мягкий и спокойный, сегодня немножко звенел.
— Что-то купила? — сказал он без какого-либо воодушевления.
У Анны был острый подбородок. Когда она распускала свои рыжие волосы, ее лицо напоминало белоснежное сердце в огненных струях. Она никогда не ходила в спортзал, у нее полные руки и небольшой живот, но она всегда следила за своим питанием. Еще она лучший в мире собеседник… Может, подумал Михаил, если бы она не была такой привлекательной, сейчас было бы проще, оправданнее, что ли. Но в следующую секунду понял, что это глупость: в такой ситуации просто быть не может.
Анна достала из-за спины пакет из «Tommy Hilfiger».
— Рубашка? — не заглядывая, спросил он.
— Мне не нравятся их рубашки. — Какой же мягкий и спокойный у нее голос, подумал Михаил. За пятнадцать лет она никогда не срывалась на крик.
Внутри пакета оказался голубой джемпер.
— Примерь.
Он покорно надел джемпер поверх майки. Анна подвела его под лампу, дернула за плечевые швы, за рукава, пригладила на животе и отошла к стене посмотреть со стороны. Михаил без выражения следил за ее сосредоточенным лицом, чувствуя вину за ту боль, которая на нем сегодня отразится.
— Ну как? — спросила она его.
Он не сразу понял, о чем она.
— Оставляем?
— Да. Спасибо.
Помешкав, он подошел и в благодарность неловко поцеловал ее в щеку.
— Мне тоже нравится.
Она пошла мыть руки после улицы.
— Твоя штанга опять в коридоре валяется.
Подождать, пока переоденется, или не дать ей окончательно почувствовать себя дома? Он провел рукой по бритому затылку, не зная, как будет лучше.
— Дети у мамы, — громко сказал он, стоя по центру кухни.
— Знаю, — сквозь шум льющейся воды донеслось из ванной. В ее голосе слышалась усмешка: будто она может не знать, где ее дети.
— Мама хочет твою тумбу? — крикнул он ей.
— Она покинет мой дом только вместе со мной, — выключив воду, ответила она.
Стало тихо. Сглотнув, он сказал чуть дрогнувшим голосом:
— Нам нужно поговорить.
Анна вышла из ванной, не глядя щелкнула выключателем и вернулась на кухню к мужу.
— Что случилось?
— Давай сядем.
Он сел на табуретку спиной к окну, она — напротив него. Ее взгляд бегал по его лицу, пытаясь понять, о чем предстоял разговор.
Михаил положил руки на стол. Они казались невесомыми. Он глубоко вздохнул и сказал:
— Анн… — Он все же запнулся, опять вздохнул и на выдохе выговорил: — Мне нужна другая.
Она застыла. Даже дышать перестала. Глаза больше не дрожали. Она не могла понять смысл его слов, но с каждым мгновением, к огромному ее сожалению, разъедающая уверенность проникала в сознание.
— У тебя кто-то есть?
— Нет.
Ответ ее удивил.
Он накрыл ее ладонь на столе. Она поморщилась, словно ей было неприятно его прикосновение, но руку не убрала.
— Ты нужна мне сейчас как никогда.
— Я ничего не понимаю, — выпалила она, и ее тело затряслось. Она затараторила: — Ты сказал мне самые ужасные слова в мире и при этом ведешь себя так, будто у них есть другой смысл. Объясни, наконец, что происходит! Тебе нужна другая женщина? Или ты хочешь, чтобы я стала другой?
Чуть помолчав, он сказал:
— Первое. — Он дал ей время переварить ответ, а затем продолжил: — Это не твоя вина, Анн. Ты прекрасная жена и прекрасная мать. Но я ничего не могу с собой поделать. Я… Мне… В общем, я хочу другую… Физически, — как есть выговорил он.
Анна поняла, чтó именно ему нужно, за несколько секунд до того, как он это произнес.
— Я не прощу тебе измену, — тихо и твердо сказала она.
— Сначала выслушай.
— Зачем?
— Затем, что наш брак распадается.
— Распадается? — Для нее это была новость. — Все равно это не дает тебе право… пойти налево.
— Анн.
— Нет, — не принимающим никаких возражений тоном отрезала она. Даже сейчас ее голос оставался мягок. — Нет.
— Значит, нужно начать разговор о разводе, — холодно ответил он на ее категоричность.
Она посмотрела на него так, словно он дал ей пощечину, и прикрыла рот рукой, пытаясь сдержать подступивший плач.
Анна побежала в ванную, донесся шум быстро текущей из крана воды. Михаил встал, прошел к двери в коридоре.
— Анн? — Он дернул ручку. Та не поддавалась. — Открой, Анн. Извини. Я вспылил. Я не собираюсь разводиться с тобой. Я люблю тебя. Между тобой и кем угодно я выберу тебя и наших детей. Я сказал сгоряча, больше этого не повторится. Анн?
Анна выключила воду. Он посчитал это за ответ и вернулся на кухню, где разблокировал телефон, на котором все еще была открыта общая фотография с подчиненными. Сам он расположился по центру. Справа от него, почти вплотную, стояла юная девушка. Снимок был сделан месяцев пять назад, но он до сих пор помнил, как приятно пахли ее волосы в тот день.
Анна вышла с красным лицом, но не подавленная, а, наоборот, даже чуть взбодрившаяся. Вернулась на место напротив Михаила, запустила пальцы в огненные струи и с минуту просидела так.
— Тебе нужна другая женщина? — спокойным голосом, явно готовая вести диалог, спросила она.
— Да.
— Я тебя не удовлетворяю?
Он накрыл глаза ладонью и начал массировать виски.
— Недостаточно, — подобрал слово он.
— Я не понимаю. В последний год у нас, кажется, все стало лучше… в плане секса. Разве нет?
Он покачал головой.
— Ну как нет! — снова начиная срываться, возразила она.
— Я пытался получить то, чего не мог.
Прямой ответ помог ей взять себя в руки.
— Что со мной не так? — спокойнее спросила она.
— Ничего с тобой не так.
— Тогда почему тебе нужна другая?
— Потому что она другая. Она по-другому пахнет, по-другому выглядит, по-другому смотрит, двигается, дышит, говорит, думает, и, что бы ты ни сделала, Анн, другим человеком ты не станешь.
— Ты говоришь ужасные вещи.
— Знаю.
— Представь, если бы я сказала тебе подобное. Что бы ты почувствовал?
— Я бы умер, — без пафоса ответил он.
— После твоей измены у меня будет полное моральное право поступить с тобой так же.
— Нет, — возразил он. — Тебе не нужен другой мужчина. Если ты переспишь с кем-то из мести, это погубит наш брак, а я пытаюсь спасти его. Если бы ты испытывала ту же потребность (по-другому я это никак не могу назвать), что и я, я бы хотя бы попытался переступить через себя, Анн. Хотя бы попытался понять тебя.
В ее глазах проступило отвращение. За пятнадцать лет она ни разу не смотрела на него так.
— Ты просишь от меня разрешения?
— Я не выбирал, что мне чувствовать. Если бы я только мог; но это во мне помимо моей воли. Я прошу у тебя помощи. Ты моя жена. Я люблю тебя. Мне жаль, что нашей семье приходится через это проходить, но, раз так вышло, давай пройдем вместе, попытавшись сохранить как можно больше того хорошего, что у нас есть.
Она отвернулась и посмотрела на холодильник, на фотографию детей и магнитики из разных стран.
— Почему ты не сделал это втайне, как это все делают. — Она не спрашивала. — Потому что не смог бы с этим жить? Так ведь? А позволить мне жить со знанием того, что ты собираешься сделать, ты можешь.
— Я не сделал этого втайне, потому что не хочу тебя обманывать. Ложь — она развращает. Винá — разъедает. Они скорее разрушат нашу любовь, чем правда.
— Тебе нужен психолог.
— Он мне не нужен. Скорее он нужен тебе, — без какой-либо резкости ответил Михаил.
Анна заподозрила мужа в садизме.
— Нет ничего ненормального в том, что мужик хочет другую женщину, — пояснил он свой ответ. — Иначе все мужики были бы ненормальными.
— Не все мужики изменяют женам.
— Не все мужики верны им. Некоторые при этом искренне любят свою семью. И почти все из них скрывают свои измены, из-за чего страдают, а когда правда вскрывается — еще и разводятся. То, о чем я тебя прошу, — это вопрос брака, Анн: либо приемлемо, либо нет.
От удивления у Анны открылся рот.
Для нее их разговор был катастрофой. Для него — очередным этапом. Оказывается, последние несколько месяцев они жили в двух разных мирах, и она даже не догадывалась об этом, даже не чувствовала.
— И таблетки не буду, — заранее предупредил ее он.
— Что? — Ей показалось, что она потеряла нить разговора.
— Есть препараты, подавляющие желание, — пояснил он. — Я не буду их принимать.
— Почему?! — наполняясь энергией и надеждой, спросила она. На его месте она приняла бы любые препараты не задумываясь.
Он тяжело вздохнул, и ее энтузиазм быстро начал гаснуть.
— Потому что не хочу.
— Ты же сам говорил, что если бы мог выбирать…
— Во-первых, это уже буду не я. Не Михаил. Не твой муж. Тебе нужен я или похожий на меня человек, который будет играть роль счастливого отца семейства?
— О господи, — она спрятала лицо в ладонях.
— А во-вторых, я не собираюсь становиться импотентом только для того, чтобы сохранить «священные» узы брака. Как будто секс — это такая, знаешь, — он размахивал руками, — такая незначительная часть жизни, разменная карта, которой всегда можно пожертвовать.
— Некоторые жертвуют, — убрала она ладони с лица.
— У некоторых не было выбора.
— Для некоторых в семейной жизни есть другие, более важные вещи, помимо секса.
— Для некоторых.
Анна почувствовала подступившую тошноту. Она встала, подошла и склонилась над раковиной, дыша через нос. На ней все еще было деловое платье, в котором стало душно.
Спустя какое-то время полегчало, она умылась холодной водой и вернулась на место обессиленная.
— Кто она? — спросила Анна сухо.
— Я же сказал, нет никого.
— Кто? Не было бы — ты бы продолжал терпеть.
Ее правда. Он разблокировал телефон и подвинул его. Она, волнуясь, с легким отвращением посмотрела на виновницу своего горя. Увеличенная на общей фотографии девушка смотрела четко в объектив. Прическа каре. Стройная — любую часть руки мужская ладонь может заключить в кольцо. Очень юная. Очень. Анна ожидала увидеть нечто подобное. Но, наверное, было бы больнее, если бы она увидела женщину своего возраста.
— Кажется, я ее знаю.
— Может, видела на каком-нибудь банкете?
— Она все еще у тебя работает?
— Я от греха подальше перевел ее на Цветной бульвар. Сейчас мы общаемся только по работе и в основном удаленно.
— Она знает, что ты женат, что у тебя есть дети?
— Да.
Анна хмыкнула:
— Еще бы.
— Она не виновата. Не она, так появилась бы другая, раньше или позже. Мое желание появилось задолго до нее.
— Что она за человек?
— В смысле?
— Что любит, какие у нее увлечения?
— Какие могут быть увлечения у двадцатилетней студентки? Только-только появились мозги, чтобы осмысливать мир вокруг. Самомнения выше крыши: считает себя самой умной и самой красивой. Думает, что может быть интересна мне как личность.
— Ее не жалко?
— Анн.
— Я хочу поговорить с ней.
— У меня с ней ничего не было… Твой разговор удивит ее.
— У нее есть имя?
— Кристина.
Анна пыталась заглянуть в душу девушке на фотографии и увидела лишь равнодушие к чужим бедам, амбициозность и уверенность в том, что мир лежит у ее ног. Правда ли она такая или Анне это только показалось? Она вернула телефон мужу. Тот ждал вердикта.
— Она займет мое место.
— Не говори ерунды.
— Вот увидишь.
— Я уверен, что нет.
Они оба замолчали. Он сглотнул и спросил:
— Ты сможешь меня простить?
— Дай мне время. — Чтобы все исправить, имела в виду она, чтобы не довести до беды, но он понял ее по-другому.
— Спасибо, — выдохнул Михаил.
Она промолчала. Падать ниже было некуда.
Он встал, обошел и обнял со спины. Она не отстранялась. Он поцеловал ее в щеку.
— Так сильно я тебя еще никогда не любил. Я сделаю все, чтобы мы остались вместе.
Ничего пошлее он ей в жизни не говорил.
Михаил развернул ее к себе, и на его поцелуй в губы она ответила.
Она вернулась из зала в тапочках и с накинутым на плечи пледом. Микроволновка истошно запищала о том, что молоко разогрето.
— Как твое горло? — спросил Михаил.
— Так же, как и звучит.
Она достала кружку из микроволновки и села за стол, делая мелкие горячие глотки. Он стал есть творог, добавив капельку меда, которая слабо помогла со вкусом.
— Могу сделать салат, — предложила она, глядя на его недовольное лицо.
Он мотнул головой, немного поковырял ложкой в белой массе, затем резко встал и двинулся в коридор, на ходу расстегивая рубашку. Без разминки пятнадцать раз поднял штангу на бицепс, отдохнул слегка и сделал пятнадцать раз на трицепс, и так трижды.
Вернулся на кухню запыхавшийся и с бóльшим аппетитом принялся за творог. Жена ждала, когда он посмотрит на нее, и, когда дождалась, согнула руку в локте, показав небольшое округление в области бицепса — результат двух месяцев тренировок. Михаил улыбнулся.
— Прежняя ты мне нравилась не меньше.
— Но ты же хотел другую.
Он поперхнулся.
— Анн, — обиженно произнес он. — Ты меня теперь всю жизнь этим попрекать будешь?
— Чем? Ты же сказал, что у вас ничего с ней не произошло.
— Так и есть.
— Просто поужинали и разошлись.
— Да.
— Наша любовь тебя остановила. Так ты сказал?
— Д-да.
Михаил сглотнул. Он не мог понять, играет она с ним или нет.
Анна шире улыбнулась, перегнулась через стол и поцеловала в белые от творога губы.
— Именно это я и хотела услышать, — сказала она в сантиметре от его лица.
Обещание
Из двустворчатой двери вышла женщина с непроницаемым лицом и с прямой спиной прошла к выходу.
— …Мама приедет за неделю до свадьбы. Остановится у нас, а ты тогда у родителей пока побудешь…
Андрей кивнул.
— …Светка и Надька приедут за три дня, помогут подготовить…
Он смотрел на список в руке.
— …Завен может чего-нибудь приписать ко второй половине. Скажи отцу, чтоб дал столько, сколько договаривались…
Девушка напротив, не стесняясь и не моргая, слушала Лизу. Андрей понял, что тоже давно не моргал.
— …Все спрашивают, почему так спешим. Болтают про беременность. Вот мы их удивим…
Тапочки Лизы были облачены в голубые бахилы.
— Тамада спрашивает, будут ли конкурсы на выбивку денег из гостей или нет.
Андрей посмотрел на нее, не понимая, о чем она говорит.
— Вот и я так на него посмотрела. Что за вопрос еще такой? Конечно, будут! Че тут такого? Мы же молодые, деньги нужны, а кто не хочет скидывать, пусть не участвует — никого не заставляют…
Андрей перевел взгляд на секундную стрелку в круглых часах на стене. Она честно делала один шаг в секунду, не забегая вперед и не притормаживая.
— …От живой музыки я все же отказалась: диджей лучше, все так говорят. Была бы знаменитая группа… а так — ну нафиг. Диджей тебе че хошь поставит.
Женщина в вязаном пальто и атласном шарфе, по-деловому закинув ногу на ногу, листала глянцевый журнал со столика рядом. В ее ушах блестели украшения. Андрей не мог понять, зачем они ей здесь. Что она вообще здесь забыла? Он потряс головой. Что за глупые вопросы он себе задает?
— …Церковь твоей мамы мне понравилась. Она мне предложила стать прихожанкой, и я согласилась. Хотя для венчания это не обязательно было…
Бледная девушка вышла из двустворчатой двери и пошла к выходу под пристальным вниманием сидящих в приемной. У них там что, конвейер, подумал Андрей, и от этой мысли чуть не закружилась голова.
— Ты в порядке?
— Да. — Он рассеянно кивнул.
— Точно?
— Просто волнуюсь за тебя.
Несколько девушек с интересом поглядели на него.
— Все будет в порядке, — сказала Лиза, взяв его за руку. — Сейчас все это делают. Почти как зуб выдернуть.
— Да-да…
— Прекрати, пожалуйста, переживать, — попросила она, — или я тоже начну. — Она постаралась сказать это с улыбкой, и у нее получилось, только голос немного подвел. Андрей подобрался.
— Ты права, извини.
Он всегда чувствовал, когда краснеет, и вот впервые почувствовал, как, наоборот, побледнел.
Они замолчали и стали ждать своей очереди. Андрей увидел сомнение в ее глазах.
— Мы можем уйти, — сказал он.
Лиза с благодарностью на него посмотрела, и сомнение растворилось.
Ее позвали.
— Ты ведь не отменишь свадьбу после этого, да? — спросила она, выдавливая улыбку.
— Не думай о таком. Думай о том, как мы пойдем в кино после этого.
Они встали, он обнял ее, и Лиза, придерживая живот, хоть он и не был большим, пошла к двустворчатой двери.
— Напиши, как все пройдет, — сказал Андрей ей вслед. Она обернулась. — Я буду тут, — пообещал он.
Лиза кивнула. Девушки и женщины, не таясь, с любопытством наблюдали за этой сценой.
Андрей сел.
Часы на стене продолжали исправно работать.
Пришла смс от друга. Пока не стал отвечать. Встал, походил и снова сел. Поглядел на выход. Снаружи стояла настоящая холодная зима. Кажется, солнце еще никогда не светило так ярко. Золотые квадраты на полу под окнами походили на проходы в Рай. Хотелось бросить все и выбежать на улицу, на свежий, кристально чистый воздух.
Андрей заставил себя остаться на месте.
Он посмотрел на листок со списком таблеток, которые нужно будет принимать Лизе. Почерк был некрасивым и незнакомым.
Зашел в интернет и стал читать рассказы девушек, которые прошли через подобное. Рассказы парней он не нашел.
Завибрировал телефон, Андрей похолодел. Смс была от Лизы. Все было сделано. Уже. Она в порядке.
Андрей выключил экран, не веря, что все позади. А казалось, что это только начало. Он на несколько секунд откинулся на стуле, затем встал и поглядел на двустворчатые двери. Вторая смс от Лизы: «Ты еще тут? ☺ Уже выхожу…».
Андрей оставил список на столике с журналами и, не оборачиваясь, поспешил к выходу.
Утро
Соня выключила будильник на телефоне и продолжила лежать, медленно просыпаясь в темноте комнаты. Дыхание мужа ненадолго затихло, а затем вновь вернулось к своему обычному сонному звучанию.
Выбираться из постели не хотелось. Не хотелось собирать и отводить сына в детский сад. Идти на работу не хотелось чуть меньше.
Соня откинула одеяло, перебросила ноги с кровати на пол и, оправдывая свое имя, со слипшимися глазами прошаркала в ванную. Свет больно и неприятно резал глаза. Ощущение, что ей снова восемь и надо идти в школу, — а говорили, что с возрастом вставать легче.
Она пустила холодную воду, набрала полные ладони и плеснула на лицо, хорошенько растирая кожу. Насухо вытерлась махровым полотенцем. Тщательно почистила зубы, перебирая в уме дела на сегодня.
Затем расчесала волосы и собрала их в толстый каштановый пучок на макушке. Придерживая его одной рукой, другой пробежалась по заколкам. Остановилась на серебряной бабочке.
Нанесла крем на лицо. Кожа на носу и лбу впитывала медленнее всего, а вокруг тонких губ — наоборот, быстрее.
Наконец, приспустила трусы до колен, намочила и намылила руку. Наспех подмылась и вытерла тем же махровым полотенцем. Открепила прокладку от трусов и заменила ее на свежую. Ночную же сложила и понесла в мусорное ведро на кухню. Выходя из ванной, столкнулась с идущим в туалет Семеном.
— Доброе, — сказал муж, как автомат.
Она поставила в микроволновку тарелку с едой и пошла обратно в комнату. Пока муж завтракал под включенный телевизор, заправила кровать и пошла будить Славу. Тот спал на спине с открытым ртом. Попытки научить его спать с закрытым окончились неудачей. Стоило ему опустить веки, как сжатые пухлые губки разлеплялись и отстранялись друг от друга тем дальше, чем глубже он засыпал. Семен говорил, что в детстве у него была та же проблема, и никто его не переучивал: само прошло. Соня как-то поделилась с ним мнением, почему их сыну часто снятся кошмары: ночью ему в открытый рот залетает нечистая сила. Вот когда он был в деревне, мама Сони привязывала ему нижнюю челюсть, и кошмары не мучили. Семен только посмеялся и попросил не ломать психику ребенку.
— Славик, вставай, — сказала Соня.
Славик закрыл рот, вздохнул и снова медленно стал открывать его. Каждое такое утро она обещала себе, что в ближайший выходной вдоволь полюбуется спящим сыном, а когда придет время вставать, ласковым голосом и неспешно разбудит его. Но в выходные либо он сам просыпался раньше нее, либо дел у нее было не меньше, чем в будни.
Она потрясла Славу за ногу, и тот ее отдернул.
— Слава, пора вставать.
Он простонал и перевернулся на бок к стене лицом, выше подтянув одеяло.
— Я кому сказала? — Времени терять терпение у нее не было. — Наказание, а не ребенок. Слава!
Соня стащила одеяло, подняла сына на ноги и как сомнамбулу повела к раковине в ванной. Она до красноты умыла ему лицо и сунула в руку щетку с пастой. Сама же пошла обратно в комнату — застелить кровать.
Когда она принялась укладывать одежду в детский сад, прибежал Славик.
— Нет! — запротестовал он, когда увидел, что мама кладет в пакет колготки. — Не хочу!
— Хочешь.
— Не хочу!
— Почему нет? Смотри, какие они мягенькие, приятные, — увещевала она. Показала на грузовики на икрах.
— Никто в саду в них не ходит. Только девочки.
— Они просто ничего не понимают в моде.
— Все равно не буду. Они не для мальчиков.
— Я еще раз тебе говорю, они крутые и удобные. Папа в таких же в детский сад ходил.
Слава замотал головой, но вслух ничего не сказал, так как любые слова и действия отца были слишком весомыми, чтобы возражать вслух.
— А человек-паук?
— Что человек-паук?
— А он в чем по крышам прыгает?
Слава задумался.
— В штанах, — неуверенно произнес он.
— В джинсах, скажи. В колготках, конечно же.
Сын колебался.
— Я шортики положу. Если не приглядываться, будет казаться, что ты не в колготках, а в гольфах.
— Всё они видят, — возразил он, уже один раз поддавшись на эту уловку.
— А ты скажи, что на тебе кальсоны.
— Кальсоны?
— Да, это не колготки.
Слава не согласился, но и не возразил, и колготки пошли в пакет вместе с шортами.
За дверью прошел муж и открыл в соседней комнате шкаф с одеждой.
— Надевай штаны, папа уже позавтракал.
Соня сходила на кухню, поставила новую порцию в микроволновку и вернулась в коридор проводить мужа. Тот надевал куртку.
— Че, сегодня я забираю Славку из сада?
— Да, только не забудь, как ты это любишь делать. Ключи взял?
Он проверил в кармане ключи от машины. Из комнаты выбежал попрощаться сын. Он обнял папу и крепко прижался к нему. Семен оторвал его от себя и высоко поднял над полом.
— Слушайся Галину Михайловну, — сказал он сыну. — Хорошо?
— Хорошо.
— Обещаешь?
— Обещаю.
— Лизе передавай привет.
— Я ее больше не люблю. Я теперь люблю Машу.
— Ну хорошо, что не Пашу, — посмеялся отец и вернул Славу на пол.
— Маша хорошая, помогает мне рисовать.
— Верю, покажешь мне ее сегодня. А сейчас я ухожу. До вечера.
Он пожал Славе руку, поцеловал жену в щеку и прикрыл за собой дверь.
Мать отвела сына на кухню, поставила перед ним тарелку с макаронами и сосисками. Включила пятнадцатиминутные мультики на планшете. Слава вилкой ломал сосиску, не глядя дул на кусок и отправлял его в рот.
Соня достала из холодильника бутерброды и быстро съела их, запивая чаем. В ванной подвела глаза и нанесла нюдовый лак на губы. Вернулась в свою комнату, вечно темную, так как окна выходили не на солнечную сторону. Щелкнула выключателем. Брюки и блузка висели на вешалке вместе с бейджем, с которым накануне она впопыхах ушла с работы. Нейлоновые носки ждали на полу.
— Надевай рубашку, — сказала она, вернувшись на кухню. Слава, выключив планшет и сказав «спасибо», пошел выполнять команду. Соня же, засучив рукава, наспех вымыла посуду.
Прошлась от кухни до зала, выключив и проверив всё. Слава медленно и старательно завязывал шнурки на ботиночках. Соня успела надеть сапоги и накинуть куртку, а тот только справился с левой ногой. Правую она завязала ему сама.
— Все взял? — Сын кивнул. — Бэтмена будешь брать? — Замотал головой. — Ну пошли.
Она погасила свет и вышла в подъезд. Сын вызвал лифт и смирно ждал, когда она запрет дверь на оба ключа.
— Мам, давай я на лифте, а ты по лестнице, кто быстрее.
— Нет.
— Ну мам!
— Нет, — повторила она, убирая ключи в сумку.
— Почему!
— В лифте бабайка живет. Ты один поедешь, я вниз вперед тебя прибегу, двери откроются, а тебя нет. Что я буду делать? Тебя даже дядя полицейский не найдет.
Кабина приехала, и мать подтолкнула упиравшегося сына внутрь.
Солнце только-только поднялось над горизонтом и гигантским золотым оком смотрело на раскинувшиеся пригородные многоэтажки, подпирая густой желтой бровью низкое серое небо. Машины одна за другой выезжали со двора.
Соня посмотрела на часы.
— Давай наперегонки.
— И-и-и-и-и-и, — радостно закричал сын и побежал. Мама не отставала ни на шаг, как он ни старался, словно она играла с ним и на самом деле в любой момент могла обогнать его.
На полпути оба выбились из сил и до самого сада не могли отдышаться. В раздевалке переодевались трое детишек. Слава поздоровался с ними и открыл свой шкафчик с лягушонком на дверце. Соня кивнула мамам.
Воспитательница, высокая милая женщина, отозвала Соню в сторонку. Она рассказала, что Слава, когда провинится, начинает себя бить кулаком по голове, креститься и просить у Бога прощения. Спросила, не в курсе ли Соня, откуда у него взялась такая привычка, ведь в саду он один, кто так поступает. Соня покраснела.
— Галина Михайловна, я вообще удивлена, что вы про Славу такое говорите. Мы с мужем обязательно поговорим с ним дома и выясним, откуда он этого понабрался.
Они договорились держать друг друга в курсе, если подобное поведение повторится.
Соня подошла к переодевшемуся сыну и опустилась на корточки попрощаться с ним. Тот слышал ее разговор с Галиной Михайловной и виновато опустил голову. Воспитательница нависла над ними, словно надзиратель.
— Я пошла.
— Пока, мам, — буркнул он и обнял ручками за шею.
— Веди себя хорошо, — наказала она. «Дома поговорим», — хотела добавить она, но только улыбнулась и отпустила сына.
Слава побежал к остальным детям. Соня кивнула воспитательнице и пошла на остановку. Маршрутка, как всегда, подъехала вперед автобуса.
— До метро.
Она отсыпала водителю сорок рублей и села к окну, думая, какой втык ей бы устроил муж, если бы сегодня он пошел провожать сына.
— Научила внука, — тихо прошипела она.
Артур закончил обрабатывать рисунок в Photoshop, сохранил его и, прежде чем закрыть, пробежался еще раз. Вроде все в норме, а если и нет, издатель потом укажет. Из колонок заканчивала течь «Shine on you crazy diamond» и начиналась «Ticket to the moon». Он убавил и без того тихое звучание до конца и накрыл лицо руками, широко зевая. Комнате возвращались краски. Артур повернул голову влево к окну и сквозь пальцы посмотрел на золотую кайму на горизонте. Когда-то он мечтал заканчивать работу на рассвете, и вот желание сбылось, а никакой эйфории или хотя бы радости он не испытывал. Только приятно-меланхолическое чувство в груди. Очередной погрязший в рутине мечтатель — избитая история, даже как-то неловко переживать за подобное.
Он поднес кружку под настольную лампу — от кофе остался только запах. Артур откинул голову назад и, качая ее из стороны в сторону, размял шею. Сил не было никаких. Развалившись в кресле, он настучал письмо издателю, не забыв прикрепить готовые рисунки.
Справа под рукой в кроватке с решетчатыми стенками послышалось детское хныканье: Нора проснулась. Наверное, из-за того что он выключил психоделический рок, который она так любит. Артур встал и заглянул к дочке. Та лежала на спине, дергая ручками и ножками. Из открытого беззубого рта не выходило ни звука, словно она тонула в кристально чистой воде. Он взял ее на руки и прижал к груди.
— Все хорошо, Нора.
Дикий рев вырвался из детских легких.
— Ты точно станешь звездой, — сказал он и на пару секунд поднес подгузник к носу. Не пахло. Он принялся качать ее на руках. — Будешь подпевать? — спросил он и прибавил звук на колонке. В комнате разлилась «Kingdom of heaven».
Дочка начала затихать.
— Какой же у тебя прекрасный вкус, — сказал он ей. — Вся в папу.
Он приблизил лицо к монитору — посмотреть время.
— Пойдем будить маму? — спросил он. — Пойдем? Пойдем.
Артур прошел в детскую, где на надувном матрасе спала Ника. Судя по дыханию, спала она крепко. Разметанные светлые волосы скрыли ее лицо. Их квартира располагалась на двенадцатом этаже, первые лучи уже светили в окна и ночник можно было не включать. Он аккуратно лег рядом с женой. Малышка распласталась на его груди.
— Привет, — тихо произнес он.
Ника резко приподняла голову, убрала прядь с глаз и, убедившись, что рядом муж (словно мог быть кто-то другой), снова плюхнулась на подушку.
— Уже утро? — хрипло спросила она. Ее аккуратный маленький носик теперь выглядывал из-под волос.
— Да.
Она перевернулась на спину и ногами спихнула с себя одеяло. На ее гладком бедре красовался здоровенный георгин — работа Артура пятилетней давности.
— Как Нора? — спросила Ника, приоткрыв едва заметную щелочку для глаз.
— Хорошо. У тебя опять груди протекли.
Ника приподнялась и посмотрела на майку.
— Б****. — Ее голова снова упала на подушку. — А, пофиг, все равно стирать. Ты когда кормил?
— Пару часов назад.
— Есть не хочет?
— Вроде нет.
— Как спала? Не капризничала?
— Не особо. Успел работу доделать.
— М-м-м. Это мы хорошо придумали: поделить день и ночь.
— Мы?
Она улыбнулась, при этом ни одна морщинка не прорезала кожу в уголках ее глаз, а ведь ей было уже тридцать.
— Я зубы почищу и заберу ее у тебя.
Она повернулась к ним на бок, поцеловала ребенка в темечко и пошла умываться.
— А почему до сих пор соски протекают? — спросил он вслед.
— Потому что дырявые.
Артур улыбнулся и стал ждать, когда сможет вырубиться часов на семь. На свете нет ничего лучше сна. Он снял резинку с волос и надел ее на запястье.
Нора тяжело дышала, и он сел, чтобы ей было легче. Затем встал и подошел к окну — показать дочке солнце, но на него она смотрела теми же глазами, как и на все остальное. Татуировка на шее отца и то больше привлекала ее внимание.
— Когда-нибудь ты придешь домой под утро только потому, что подбила друзей встретить рассвет, — сказал он ей. — Я на это очень надеюсь. Но, — совсем другим голосом добавил он, — скорее всего ты, как и все сейчас, полюбишь русский рэп и неоновые ночи.
На комоде зазвонил телефон. На экране высветился контакт заместителя Ники. Артур понес телефон в ванную. Жена встретила его на полпути.
— Лера, — сказал он.
— Алло. Что случилось?
Ника пошла на кухню, чтоб никто не стоял над душой. Артур остался на месте, качая ребенка и прислушиваясь к разговору, едва доносившемуся через закрытую дверь.
— Судя по всему, на работе у мамы проблемы, — тихо сказал он дочери. Та удивленно посмотрела на него, словно подумала: «Пап, ты что, правда со мной болтаешь? Надеюсь, что нет, так как мне только четыре месяца и я не могу понять ничего из того, что ты мне говоришь».
Ника перешла на крик — она всегда так делала, прежде чем дать четкий план действий. Так случилось и теперь.
— Перезвони мне, как переговоришь с ним, — сказала она, выходя с кухни, и одной рукой забрала ребенка. — Сразу! Поняла меня?
— Что? — спросил он.
— Ничего. Иди спи.
— Я могу еще посидеть с час, если тебе надо что-то срочно решить.
— Как я могу дома что-то решить?
— Мы это уже обсуждали.
— Раз так, иди на матрас.
— Хотя бы год с ребенком дома отсиди.
Ника не стала продолжать спор, потому что он был бессмысленный, потому что на руках у нее была Нора. Она ушла в их комнату, но только для того, чтобы оставить ребенка в кроватке и вернуться.
— Съезди на работу, — скорее приказала, нежели попросила она.
— Сейчас?
— Или с час посиди с Норой — съезжу я.
Одним часом она бы не обошлась, знал Артур.
— Я съезжу. Что надо?
— Точно? А то я могу…
— Оставайся с ребенком, я съезжу. Что надо?
— Забери у Леры папку.
— Что там? Документы? По почте их нельзя скинуть?
— Тебе что, сложно?
— Просто я не хочу убить час на поездку в центр только из-за того, что твоя попытка слинять на работу провалилась.
— Мне нужны эти документы.
Он развернулся и пошел в комнату переодеваться, на ходу собирая волосы в хвостик и надевая на них резинку.
Через три минуты он уже стоял в джинсах и косухе с молнией, ровно бегущей по правой стороне.
— Как подойдешь — позвони Лере, она вынесет на ресепшн.
— Ок.
— Спасибо, — сказала она, прежде чем отпустить.
— Все норм.
Артур включил музыку в наушниках и пошел вызывать лифт. Дожидаться, когда приедет кабина, Ника не стала, а поспешила вернуться к дочери.
Выйдя из подъезда, Артур пересек дорогу, поднялся по ступеням и у турникетов понял, что забыл проездной. Надо было или возвращаться, или за сотку купить две поездки. Был еще третий вариант: как в молодости, перемахнуть через турникет и вскочить в закрывающиеся двери вагона — благо станция была наземная и платформа начиналась тут же, всего в трех метрах от него.
Артур неуверенно стал копаться в карманах косухи. Контролер искоса глядела на него. Железнодорожные пути были не под навесом, и солнце светило сквозь широкие окна вагонов. Сердце стучало. Подмышки вспотели. Пошло объявление о том, что двери закрываются. Артур положил руки на вершины антизайцевых пирамид, напрягся и… остался на месте. Двери громко, словно с досады, захлопнулись, и поезд тронулся.
Артур сходил к кассе и честно, как и положено, как большинство, как унылая толпа вокруг, прошел через турникет на платформу.
Качаясь, подошел поезд. Артур последним переступил порог в конце вагона.
В углах не оказалось сидений, и, там, где он обычно садился, у противоположной стены стояла симпатичная девушка. В сантиметре от его лопаток захлопнулись двери. По хребту пробежал холодок. Артуру показалось, что он узнал девушку в углу.
Поезд тронулся, и по нутру вагона поползли тени.
Это была она. Точно она. Он узнал ее, несмотря на… Сколько? Двадцать лет? Столько прошло с их последней встречи. А казалось, что это было в другой жизни. Она нисколько не изменилась. Повзрослела, конечно, но от этого она только похорошела.
Тем далеким летом, расставаясь, они обещали, что если встретятся, то уже никогда не расстанутся. Кто бы мог подумать, что это действительно случится.
Артур быстро протиснулся между пятью или шестью пассажирами и почти вплотную подошел к ней. Она косо посмотрела на него и поспешно отвела взгляд.
— Привет, — сказал он. — Это я.
Она посмотрела на его лицо внимательнее и, не найдя ни одной знакомой черты, снова отвела взгляд.
— Сонь, это я.
Она с немалым удивлением посмотрела на него, затем на свою грудь, на бейдж, — и все поняла. Она глубже сунула его под куртку и застегнула молнию до самой шеи.
— Ты меня не узнала? — улыбнулся он, но и немного расстроился.
— Молодой человек, отстаньте от меня, я вас не знаю, у меня есть муж, — быстро, словно скороговоркой, проговорила она, не боясь, что их услышат.
Поезд вошел в тоннель, сгустив громыхание колес, спрятав вагоны от солнца.
— Я думал, что уже никогда не встречу тебя, — не унимался Артур. — Столько лет прошло. На Байкале, помнишь, ты и я, ночью, «Doors».
— Я не была на Байкале. Вы ошиблись, — строго глядя на него, ответила она.
Он ее как будто не слышал.
— Мы же каждый вечер смотрели на закат. На то, как солнце алым светом растекалось на поверхности озера. Заплывали на лодке далеко от берега, ложились на дно и смотрели на звезды. Жгли костер на берегу.
Соня делала вид, что не слышит его.
— Знаешь, ты почти не изменилась. Ты только похорошела. Как у тебя дела? Как твоя жизнь? Что нового? Чем занимаешься? Давно ли здесь? — один за другим задавал он вопросы и, не дождавшись ответа, вдруг сказал: — Я уже перестал надеяться. Думал, что мы уже никогда не встретимся.
Поезд остановился, и Соня поспешила выйти. Артур пошел за ней, не отставая ни на шаг. Она прошла вдоль следующего вагона, зашла в него и встала в таком же углу.
— Прекратите, — потребовала она. — Я вас не знаю. Вы ошиблись.
— Сонь, почему ты так говоришь?
— Я не та Соня, за которую ты меня принимаешь, — грубо ответила она. — Отстань, или я закричу.
— Кричи.
С пару секунд они смотрели друг другу в глаза. Первой сдалась Соня. Она не стала кричать и привлекать внимание других пассажиров.
— Молодой человек, — спокойно начала она, — у меня есть муж. Мы много лет в браке. У меня есть сын. Семья. Вам ничего не светит. Я не стану с вами знакомиться. У вас тоже есть кольцо на пальце. Вам не стыдно подходить с ним к незнакомой женщине и знакомиться с ней?
— Дело в семье? — грустно спросил он. — Ты из-за этого боишься признать наше прошлое? Что стала той, над кем мы так смеялись?
— Нет, это просто невыносимо, — начала терять терпение она. — А где ты сам был? Где ты был, когда твоя Соня была одна? Когда ей сделали предложение? Когда она хотела уйти от мужа? Когда смирилась, притиралась, терпела, привыкла, изменилась? — Последнее она произнесла с каким-то внутренним надрывом. — Где? Где ты все это время был? Ты искал ее? Она — искала, постоянно, в толпе, даже в день свадьбы, среди гостей. А тебя не было. Так чего ты теперь бесишься?
— Я просто жил. — Все, что он мог сказать в свое оправдание. — Еще не поздно.
Поезд вышел из тоннеля. Солнце ворвалось внутрь вагонов. Он увидел, что ее глаза блестят. Видимо, он только расстроил ее тем, что подошел. Нужно было оставить прошлое в прошлом.
— Извините, — едва слышно сказал он. — Я обознался.
Он пошел от нее, но она схватила его за руку.
— Артур. — Она уверенно назвала его имя, словно знала его всегда. Его мгновенно переполнили и удивление, и безумная радость. Он повернулся к ней и взял ее руки в свои.
— Увези меня, — вдруг выпалила Соня. — Прошу тебя. Он уезжает через месяц, — заговорщицки поведала она, — к матери в Тулу. Мы можем сбежать. Ты только все подготовь…
Артур почувствовал страх, похожий на тот, который испытал, когда собирался перемахнуть через турникет, — но на этот раз он ему не поддался.
— Подготовлю, — твердо обещал ей он.
У нее закружилась голова от его ответа, и она поцеловала его.
— Помнишь, — оторвавшись от него, сказала она со счастливой улыбкой, — как мы на чердаке с Кириллом и Любкой гадали на картах и вызывали матного гномика?
— Помню. — Он действительно помнил. Кирилл и Люба стояли перед ним, словно он видел их вчера. Мог даже пересчитать все веснушки на лице Любы и шрамы на пальцах Кирилла. — А помнишь, — в свою очередь окунулся в прошлое Артур, — как я сыграл песню на гитаре, а тебе она так понравилась, что ты не поверила, что это я ее сочинил.
Она смехом подтвердила, что все хорошо помнит.
— Там-та-тара-там…
— Парам-парам, — подхватил он. — Она самая.
Соня протянула руку к его шее и погладила на ней татуировку: бабочку с его именем на крыльях.
Солнце поднималось над городом, высвечивая то, что до этого скрывалось в тени. Поезд, набрав ход, вновь нырял в черноту тоннеля. Артур и Соня продолжали глядеть друг другу в глаза. Они никогда не были на Байкале. До сегодняшнего утра они даже не были знакомы.
Номинация Поэзия Третье место
Григорий Медведев Карманный хлеб Цикл стихов
* * *
Самое время по пояс кариатиде
Андрей Белый Две дубовые балки держат над головой потолок этот жалкий, уголок родовой. На покатые плечи русских кариатид он возложен — далече им идти предстоит. Неподвижные бревна, тот же вид за окном, но я вижу подробно, что уменьшился дом. Убывает как будто за хозяином вслед, потому — ни уюта, ни тепла уже нет. Сестрам время по пояс, они пробуют вброд, не загадывай, кто из них первой дойдет. Не утонут, не канут, если время — вода, — вровень с мрамором встанут, и теперь навсегда. Я один из последних провожаю их вдаль, не жилец, не наследник, да и гость тут едва ль. Ну да, плоховато жили, но хлеба к обеду нам вдоволь ложили. И в школьные наши карманы, как в закрома, от Родины крохи падали задарма. Ну да, широко не живали, но хлеб из-под парты жевали — вприкуску с наукой пресной и затяжной — вкуснейший, здесь неуместный мякиш ржаной. Я надевал в десятый топорщившийся, мешковатый пиджак (надевал и злился, все ждал, когда дорасту), в котором отец женился в 83-м году. И где он теперь, забытый, с крошками за подкладкой? Такой у меня вопрос. На уроках украдкой хлебом карманным сытый — отца я не перерос.Ломоносов
Солнце ходило по небу, как блесна, тучи глотали его, и была весна. А Ломоносов — рыб знаток и светил — бронзовым взором окрестности обводил. Детища своего отвернувшись от, отдохновенье обрел сочинитель од. Что ж, я Михайле повинной кивнул головой и восвояси отправился с Моховой. Тьма обступала город со всех сторон. Был я отвергнут, но счастием одарен! Так распадалась жизнь на неравные две. Змейкой кружила майская пыль по Москве. В будущее несло меня кувырком, гром провожал архангельским говорком. Я оглянулся кованых подле врат, привкус свободы и пыли был горьковат.* * *
То, что войной считалось, — в сорок пятом осталось. А если где-то стреляли, если десант и разведка кровавили каски, разгрузки, — по-другому именовали, по-русски, но войной называли редко. Помнили ту, большую, роковую, пороховую, на безымянных высотах священную, мировую, ее батальоны и батареи. А этих старались забыть скорее, напрасных своих «двухсотых».* * *
Хорошо созревает рябина, значит, нужен рябинострел, чтобы щёлкала резко резина и снарядик нестрашный летел. Здесь удобное мироустройство: вот — свои, а напротив — враги; место подвигу есть и геройству, заряжай и глаза береги. Через двор по несохнущим лужам, перебежками за магазин — я теперь не совсем безоружен, я могу и один на один. Дружным залпом в атаке последней понарошку убили меня, и все тянется морок посмертный до сих пор с того самого дня.* * *
Выпусти пса на детской площадке, где ржавая горка, песок, качели, турник, чьи низкие стойки шатки. Листья почти облетели. Это даже не середина жизни, и вокруг не лес, а гнильца, болотце; подойди к перекладине и повисни, подтянись, пусть сердце сильней забьется. Бывшим школьникам тонкокостным перед кем запоздалым успехом хвастать? Но вдыхая жадно октябрьский воздух все упорствуешь: девятнадцать, двадцать… Подростковая в общем-то зависть, обида, только зря — не разверзнется клумба, и герои дворовые из Аида не восстанут в час твоего триумфа.* * *
Научись дышать пустотой. Это отныне твой дом родной. Что-то подобное пел БГ, а ты ему подпевал. Выглядело смешно. Тогда еще не сдавали ЕГЭ и кассетник пленку жевал. Это время уже прошло. В новом времени, в пустоте, песенок нету, а наши — те — превращаются в белый шум. Он идет-гудёт, он идет-гудёт. Никаких не наводит дум.* * *
Я смотрю из окошка трамвая, как вторая идет моровая, и моя поднимается шерсть. Братец жизнь меня учит и братец смерть. Я котенок с улицы Мандельштама. Отвези меня, мама, в Ванинский порт, брось во терновый куст, будто чучелко смоляное. Только б не слышать косточек гиблый хруст и всё остальное.* * *
Яблоня плодоносит лет пятьдесят, если хватает сил. Мой дед, посадивший сад, его уже пережил. Мы вдвоем в запустелом сидим саду, август, трава ничком. Поднимаю и на скамейку кладу антоновку с битым бочком. Дед выпрямляется, гладит кору яблонь, кора жестка. Верю, приговоренные к топору, они узнают старика. Жалко тебе их? Кивает: да. Ветер доносит дым. Он все понимает и смотрит туда куда-то. И мы молчим.* * *
Как будто выморгал соринку и с оптикой, другой от слёз, впервые поглядел всерьёз сюда. И всё тебе в новинку. Уже, смотри-ка, дуб зазеленел, и комариный князь Болконский зазвенел, и братья муравейные сутулясь шагают среди трав своих и улиц. Оставь тяжеловесную печаль. Она здесь устарела, как пищаль, и через раз грозит осечкой. Не бойся: нас и так прикроют, защитят те, что в осоке медленно шуршат и, легкокрылые, висят над речкой.* * *
С возвышенья, с холма я вижу школу, дома, близкие купола, низкие колокола, серые небеса. Если закрыть глаза, здесь XVII век: только шуршащий снег, лай, перепалка ворон, ветер и перезвон сверху один для всех. Неспокойный весьма век — всё смута, резня; заметай-ка, зима, и его, и меня.* * *
Ну что, поговори со мной, моя печаль, моя попутчица. Попотчуй песенкой простой о том, что счастья не получится, привычную свою пропой. Я трудно, хорошо живу, надеждами себя не балую. Поскольку осень здесь — листву таджики поджигают палую. Белёсый дым слегка горчит, и дождь ладонью многопалою в такт старой песенке стучит.* * *
Жил каждый день, но почти ничего не помню из того времени — только, как после звонка вошла и, на нас не глядя, сказала: «Ночью Миша наш умер» учительница Валентина Егоровна и закрыла лицо руками. Неправда — второклассники не умирают. Не успев таблицу доучить умноженья, ни Родную — учебник синий — речь до конца освоить, ни с машинами вкладыши Turbo и Bombimbom целиком собрать, третью четверть, самую долгую, не пережил он. Через день или два повели нас всех попрощаться. Было начало марта. Мы входили туда, к нему. Какие-то причитали старухи. Миша лежал, не похож на себя, я видел, на лбу у него капельки пота и веки слегка приоткрытые. Мне не было страшно — было неправдоподобно всё это; когда его мать заголосила: «Воскресни, сынок, воскресни!», я наконец-то заплакал: второ — классники умирают. Неба, деревьев, птиц — многого, многого он не увидит больше. Лошадь тащила его по мерзлому полю почти километр, пока он в стремени бился. Похоронили Мишу на родине — в Курской, кажется, области или Орловской, не здесь. Долго я, до конца весны, всё думал о нем: что за сны ему снятся, видит ли он меня? Но стал забывать, когда наступило лето с насекомым царством своим и муравейным братством, с крыжовником, с яблоками такими, каких у нас не случалось ни до, ни после.Справки об авторах
Кристина Гептинг
1989, Новгородская область
Окончила отделение журналистики Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, работает копирайтером в агентстве комплексного контент-маркетинга «Флавита». Живет в Великом Новгороде. Прозу пишет с 7 лет. Первая публикация (рассказ «Папа — это навсегда») состоялась на сайте проекта «Сноб» в 2011 году.
Евгения Некрасова
1985, Астраханская область
Писатель и сценарист. Выросла в Подмосковье. Окончила сценарный факультет Московской школы нового кино. Печаталась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Урал», «Искусство кино», «Сценарист». Живет в Москве.
Андрей Грачев
1988, Москва
Выпускник Московского государственного индустриального университета по специальности «Автомобиле- и тракторостроение». Живет в Москве. В 2015 году окончил Высшие литературные курсы в Литературном институте имени А. М. Горького. Стипендиат Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд С. А. Филатова) по итогам XV и XVI Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Как прозаик дебютировал в журнале «Новый мир» (№ 9, 2016 г.) с рассказом «Муж».
Владимир Косогов
1986, г. Железногорск Курской области Окончил филологический факультет Курского государственного университета. Живет в Курске, работает в СМИ. Публиковался в журналах «Арион», «Знамя», «Нева», «Сибирские огни», «Москва». Лауреат международного литературного Волошинского конкурса. Победитель литературного конкурса «Заблудившийся трамвай» им. Николая Гумилёва. Член Союза писателей Москвы.
Дана Курская
1986, Челябинск
Основатель и главный редактор издательства «Стеклограф». Организатор всероссийского фестиваля современной поэзии MyFest. Живет с 2005 года в Москве. Публиковалась в журналах «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Юность», «Москва», «Кольцо А», «Бизнес и культура», «Автограф» и на интернет-порталах. Победитель международной поэтической телепрограммы «Вечерние стихи» (2014), победитель премии «Живая вода» (2015), финалист Григорьевской премии (2016), премии «Писатели 21 века» (2017). Член Союза писателей Москвы. Автор книги стихов «Ничего личного» (2016).
Григорий Медведев
1983, Петрозаводск
Вырос в Тульской области. По образованию — журналист, работает новостным редактором. Живет в подмосковном Пушкино. Стихи публиковались в журналах «Знамя» и «Новый мир».
Примечания
1
А? Да что ваш вирус? Не голод и не война — вот что главное. Я голода не знала, слава Богу. А вот мать мою чуть не съели. Ей было двадцать лет в тридцать втором году, она на Киевщине жила. За ней гнались-гнались, но она упала в овраг… Они подумали, что она умерла, разбилась, никто за ней не полез, да и откуда на это силы… А она выбралась… Хоть и пухла уже от голода… Потом её мой отец увидел и полюбил… Забрал к себе, туда, где не такой голод был, а с сорок пятого, уж когда отец отвоевал, они на Буковине обосновались — там я и родилась… А вы говорите — вирусы, вирусы… Да какие вирусы!.. Сейчас всё лечат. Главное, чтобы люди друг друга не ели… (Пер. с буковинского наречия укр. яз.)
(обратно)2
«Грозовой перевал», роман Эмили Бронте. — Примеч. ред.
(обратно)




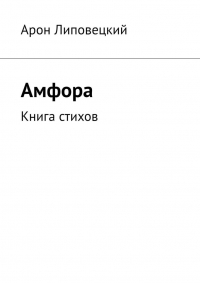
Комментарии к книге «Лицей 2017. Первый выпуск», Кристина Львовна Гептинг
Всего 0 комментариев