Владимир Высоцкий Я никогда не верил в миражи
Колыбельная
За тобой еще нет Пройденных дорог, Трудных дел, долгих лет И больших тревог. И надежно заглушен Ночью улиц гул. Пусть тебе приснится сон, Будто ты уснул. Мир внизу, и над ним Ты легко паришь, Под тобою древний Рим И ночной Париж. Ты невидим, невесом. Голоса поют. Правда, это – только сон… Но во сне растут. Может быть (все может быть), Много лет пройдет — Сможешь ты повторить Свой ночной полет. Над землею пролетишь Выше крыш и крон… А пока ты спи, малыш, И смотри свой сон. 1963Песня о звездах
Мне этот бой не забыть нипочем — Смертью пропитан воздух, А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды. Вот снова упала – и я загадал: Выйти живым из боя… Так свою жизнь я поспешно связал С глупой звездою. Я уж решил: миновала беда И удалось отвертеться… Но с неба свалилась шальная звезда — Прямо под сердце. Нам говорили: «Нужна высота!» И «Не жалеть патроны!» Вон покатилась вторая звезда — Вам на погоны. Звезд этих в небе – как рыбы в прудах, Хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда Тоже – Героем. Я бы Звезду эту сыну отдал, Просто на память… В небе висит, пропадает звезда — Некуда падать. 1964Штрафные батальоны
Всего лишь час дают на артобстрел — Всего лишь час пехоте передышки, Всего лишь час до самых главных дел: Кому – до ордена, ну а кому – до «вышки». За этот час не пишем ни строки — Молись богам войны артиллеристам! Ведь мы ж не просто так – мы штрафники, Нам не писать: «…считайте коммунистом». Перед атакой водку – вот мура! Свое отпили мы еще в гражданку. Поэтому мы не кричим «ура» — Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец — Коли-руби фашистского бродягу, И если не поймаешь в грудь свинец — Медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой — Оно надежней, да оно и тише, И ежели останешься живой — Гуляй, рванина, от рубля и выше! Считает враг: морально мы слабы — За ним и лес, и города сожжёны. Вы лучше лес рубите на гробы — В прорыв идут штрафные батальоны! Вот шесть ноль-ноль – и вот сейчас обстрел… Ну, бог войны, давай без передышки! Всего лишь час до самых главных дел: Кому – до ордена, а большинству – до «вышки»… 1964Братские могилы
На Братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают, К ним кто-то приносит букеты цветов, И Вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, А нынче – гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы — Все судьбы в единую слиты. А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, Горящие русские хаты, Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, Горящее сердце солдата. У Братских могил нет заплаканных вдов — Сюда ходят люди покрепче, На Братских могилах не ставят крестов… Но разве от этого легче?! 1964Бал-маскарад
Сегодня в нашей комплексной бригаде Прошел слушок о бале-маскараде. Раздали маски кроликов, Слонов и алкоголиков, Назначили всё это в зоосаде. «Зачем идти при полном при параде, Скажи мне, моя радость, Христа ради?» Она мне: «Одевайся!» — Мол, я тебя стесняюся, Не то, мол, как всегда, пойдешь ты сзади. «Я платье, – говорит, – взяла у Нади, Я буду нынче, как Марина Влади, И проведу, хоть тресну я, Часы свои воскресные, Хоть с пьяной твоей мордой, но в наряде!» …Зачем же я себя утюжил-гладил? Меня поймали тут же в зоосаде, Ведь массовик наш Колька Дал мне маску алкоголика — И на троих зазвали меня дяди… Я снова очутился в зоосаде. Глядь – две жены, – ну две Марины Влади! — Одетые животными, С двумя же бегемотами, Я тоже озверел – и встал в засаде. …Наутро дали премию в бригаде, Сказав мне, что на бале-маскараде Я будто бы не только Сыграл им алкоголика, А был у бегемотов я в ограде. 1964«В холода, в холода…»
В холода, в холода От насиженных мест Нас другие зовут города, Будь то Минск, будь то Брест… В холода, в холода… Неспроста, неспроста От родных тополей Нас суровые манят места, Будто там веселей… Неспроста, неспроста… Как нас дома ни грей, Не хватает всегда Новых встреч нам и новых друзей, Будто с нами беда, Будто с ними теплей… Как бы ни было нам Хорошо иногда, Возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может – здесь, может – там… 1965«Мой друг уехал в Магадан…»
Игорю Кохановскому
Мой друг уехал в Магадан — Снимите шляпу, снимите шляпу! Уехал сам, уехал сам — Не по этапу, не по этапу. Не то чтоб другу не везло, Не чтоб кому-нибудь назло, Не для молвы, что, мол, – чудак, А просто так. Быть может, кто-то скажет: «Зря! Как так решиться – всего лишиться! Ведь там – сплошные лагеря, А в них – убийцы, а в них – убийцы…» Ответит он: «Не верь молве — Их там не больше, чем в Москве!» Потом уложит чемодан, И – в Магадан, и – в Магадан. Не то чтоб мне не по годам — Я б прыгнул ночью из электрички, Но я не еду в Магадан, Забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон Про то, что будет видеть он, Про то, что в жизни не видал, — Про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой — С него довольно, с него довольно, Его не будет бить конвой — Он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан… А может, тоже – в Магадан? Уехать с другом заодно — И лечь на дно!.. 1965«То была не интрижка…»
То была не интрижка — Ты была на ладошке, Как прекрасная книжка В грубой суперобложке. Я влюблен был, как мальчик: С тихим трепетом тайным Я листал наш романчик С неприличным названьем. Были слезы, угрозы — Всё одни и всё те же, В основном была проза, А стихи были реже. Твои бурные ласки И все прочие средства — Это страшно, как в сказке Очень раннего детства. Я надеялся втайне, Что тебя не листали, Но тебя, как в читальне, Слишком многие брали. Не дождаться мне мига, Когда я с опозданьем Сдам с рук на руки книгу С неприличным названьем. 1965«Есть на земле предостаточно рас…»
Есть на Земле предостаточно рас — Просто цветная палитра. Воздуху каждый вдыхает за раз Два с половиною литра! Если так дальше, так – полный привет! — Скоро конец нашей эры: Эти китайцы за несколько лет Землю лишат атмосферы! Сон мне тут снился неделю подряд — Сон с пробужденьем кошмарным: Будто – я в дом, а на кухне сидят Мао Цзедун с Ли Сын Маном! И что – подают мне какой-то листок: На, мол, подписывай, ну же, Очень нам нужен ваш Дальний Восток, Ох, как ужасно он нужен!.. Только об этом я сне вспоминал, Только об нем я и думал: Я сослуживца недавно назвал Мао – простите – Цзедуном! Но вскорости мы на Луну полетим, А чего нам с Америкой драться — Мы: левую – нам, правую – им, А остальное – китайцам. 1965Песня завистника
Мой сосед объездил весь Союз — Что-то ищет, а чего – не видно. Я в дела чужие не суюсь, Но мне очень больно и обидно. У него на окнах плюш и шелк, Баба его шастает в халате. Я б в Москве с киркой уран нашел При такой повышенной зарплате! И сдается мне, что люди врут — Он нарочно ничего не ищет. А для чего? Ведь денежки идут — Ох, какие крупные деньжищи! А вчера на кухне ихний сын Головой упал у нашей двери — И разбил нарочно мой графин, Я – мамаше счет в тройном размере. Ему, значит, – рупь, а мне – пятак?! Пусть теперь мне платит неустойку! Я ведь не из зависти – я так, Ради справедливости – и только. …Ну ничего, я им создам уют — Живо он квартиру обменяет. У них денег – куры не клюют, А у нас – на водку не хватает! 1965О вкусах не спорят
О вкусах не спорят, есть тысяча мнений — Я этот закон на себе испытал. Ведь даже Эйнштейн – физический гений — Весьма относительно все понимал. Оделся по моде, как требует век, — Вы скажете сами: «Да это же просто другой человек!..» А я – тот же самый. Вот уж действительно: Всё относительно. Всё-всё! Набедренный пояс из шкуры пантеры. О да! Неприлично! Согласен! Ей-ей! Но так одевались все до нашей эры, А до нашей эры им было видней. Оделся по моде, как в каменный век, — Вы скажете сами: «Да это же просто другой человек!» А я – тот же самый. Вот уж действительно: Всё относительно. Всё-всё! Оденусь – как рыцарь я после турнира: Знакомые вряд ли узнают меня; И крикну, как Ричард, я (в драме Шекспира): «Коня мне! Полцарства даю за коня!» Но вот усмехнется и скажет сквозь смех Ценитель упрямый: «Да это же просто другой человек!» А я – тот же самый. Вот уж действительно: Всё относительно. Всё-всё! Вот трость, канотье – я из нэпа. Похоже? Не надо оваций – к чему лишний шум? Ах, в этом костюме узнали? Ну что же — Тогда я одену последний костюм. Долой канотье, вместо тросточки – стек. И шепчутся дамы: «Да это же просто другой человек!» А я – тот же самый. Вот уж действительно: Всё относительно. Всё-всё! Будьте же бдительны — Всё относительно! Всё-всё! Всё! 1966Песня о друге
Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а – так; Если сразу не разберешь, Плох он или хорош, — Парня в горы тяни – рискни! Не бросай одного его: Пусть он в связке в одной с тобой — Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, Если сразу раскис – и вниз, Шаг ступил на ледник – и сник, Оступился – и в крик, — Значит, рядом с тобой – чужой, Ты его не брани – гони. Вверх таких не берут и тут Про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл; Пусть он хмур был и зол, но шел, А когда ты упал со скал, Он стонал, но держал; Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, — Значит, как на себя самого, Положись на него! 1966Прощание с горами
В суету городов и в потоки машин Возвращаемся мы – просто некуда деться! И спускаемся вниз с покоренных вершин, Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры — Я себе уже все доказал: Лучше гор могут быть только горы, На которых еще не бывал, На которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один?! Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?! Но спускаемся мы с покоренных вершин… Что же делать – и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры — Я себе уже все доказал: Лучше гор могут быть только горы, На которых еще не бывал, На которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем Горы будят у нас – и зовут нас остаться! Но спускаемся мы (кто – на год, кто – совсем), Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры — Я себе уже все доказал: Лучше гор могут быть только горы, На которых еще не бывал, На которых никто не бывал! 1966Она была в Париже
Л. Лужиной
Наверно, я погиб: глаза закрою – вижу. Наверно, я погиб: робею, а потом Куда мне до нее – она была в Париже, И я вчера узнал – не только в нем одном! Какие песни пел я ей про Север Дальний! Я думал: вот чуть-чуть – и будем мы на ты, Но я напрасно пел «О полосе нейтральной» — Ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще – я думал, это ближе — «Про юг» и «Про того, кто раньше с нею был»… Но что ей до меня – она была в Париже, И сам Марсель Марсо ей что-то говорил! Я бросил свой завод – хоть, в общем, был не вправе, — Засел за словари на совесть и на страх… Но что ей до того – она уже в Варшаве, Мы снова говорим на разных языках… Приедет – я скажу по-польски: «Прошу, пани, Прими таким, как есть, не буду больше петь…» Но что ей до того – она уже в Иране, Я понял: мне за ней, конечно, не успеть! Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осло… Да, я попал впросак, да, я попал в беду!.. Кто раньше с нею был и тот, кто будет после, — Пусть пробуют они, я лучше пережду! 1966«Корабли постоят – и ложатся на курс…»
Корабли постоят – и ложатся на курс, Но они возвращаются сквозь непогоду… Не пройдет и полгода – и я появлюсь, Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, Кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе – еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, Что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и в мечтах, Я, конечно, спою – не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и в делах, Я, конечно, спою – не пройдет и полгода. 1966Скалолазка
Я спросил тебя: «Зачем идете в гору вы? — А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. — Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово…» Рассмеялась ты – и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая, Альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, Улыбалась ты, скалолазка моя! А потом за эти проклятые трещины, Когда ужин твой я нахваливал, Получил я две короткие затрещины, Но не обиделся, а приговаривал: «Ох, какая же ты близкая и ласковая, Альпинистка моя, скалолазка моя!..» Каждый раз меня по трещинам выискивая, Ты бранила меня, альпинистка моя! А потом, на каждом нашем восхождении — Ну почему ты ко мне недоверчивая?! Страховала ты меня с наслаждением, Альпинистка моя гуттаперчевая! Ох, какая ж ты неблизкая, неласковая, Альпинистка моя, скалолазка моя! Каждый раз меня из пропасти вытаскивая, Ты ругала меня, скалолазка моя. За тобой тянулся из последней силы я, До тебя уже мне рукой подать — Вот долезу и скажу: «Довольно, милая!» Тут сорвался вниз, но успел сказать: «Ох, какая же ты близкая и ласковая, Альпинистка моя, скалолазка моя!..» Мы теперь с тобой одной веревкой связаны — Стали оба мы скалолазами! 1966Про дикого вепря
В королевстве, где все тихо и складно, Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, Появился дикий вепрь огромадный — То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой: Только кашлем сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасный Коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас издал три декрета: «Зверя надо одолеть, наконец! Вот кто отважится на это, на это, Тот принцессу поведет под венец». А в отчаявшемся том государстве (Как войдешь – так прямо наискосок) В бесшабашной жил тоске и гусарстве Бывший лучший королевский стрелок. На полу лежали люди и шкуры, Пили меды, пели песни – и тут Протрубили во дворе трубадуры: Хвать стрелка – и во дворец волокут. И король ему прокашлял: «Не буду Я читать тебе морали, юнец, Вот если завтра победишь Чуду-юду, Так принцессу поведешь под венец». А стрелок: «Да это что за награда?! Мне бы – выкатить портвейну бадью! А принцессу мне и даром не надо — Чуду-юду я и так победю!» А король: «Возьмешь принцессу – и точка! А не то тебя раз-два – и в тюрьму! Ведь это все же королевская дочка!..» А стрелок: «Ну хоть убей – не возьму!» И пока король с им так препирался, Съел уже почти всех женщин и кур И возле самого дворца ошивался Этот самый то ли бык, то ли тур. Делать нечего – портвейн он отспорил: Чуду-юду уложил – и убег… Вот так принцессу с королем опозорил Бывший лучший, но опальный стрелок. 1966Песня-сказка о нечисти
В заповедных и дремучих страшных Муромских лесах Всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воют воем, что твои упокойники, Если есть там соловьи – то разбойники. Страшно, аж жуть! В заколдованных болотах там кикиморы живут, — Защекочут до икоты и на дно уволокут. Будь ты пеший, будь ты конный – заграбастают, А уж лешие – так по лесу и шастают. Страшно, аж жуть! А мужик, купец и воин, попадал в дремучий лес, Кто зачем – кто с перепою, а кто сдуру в чащу лез. По причине попадали, без причины ли, Только всех их и видали – словно сгинули. Страшно, аж жуть! Из заморского из лесу, где и вовсе сущий ад, Где такие злые бесы – чуть друг друга не едят, Чтоб творить им совместное зло потом, Поделиться приехали опытом. Страшно, аж жуть! Соловей-разбойник главный им устроил буйный пир, А от их был Змей трехглавый и слуга его – Вампир. Пили зелье в черепах, ели бульники, Танцевали на гробах, богохульники! Страшно, аж жуть! Змей Горыныч взмыл на древо, ну раскачивать его: «Выводи, Разбойник, девок, – пусть покажут кой-чего! Пусть нам лешие попляшут, попоют! А не то я, матерь вашу, всех сгною!» Страшно, аж жуть! Все взревели, как медведи: «Натерпелись – столько лет! Ведьмы мы али не ведьмы, патриотки али нет?! Налил бельма, ишь ты, клещ, – отоварился! Да еще на наших женщин позарился!..» Страшно, аж жуть! И Соловей-разбойник тоже был не только лыком шит, — Он гикнул, свистнул, крикнул: «Рожа, ты, заморский паразит! Убирайся, говорит, без бою, уматывай И Вампира с собою прихватывай!» Страшно, аж жуть! А вот теперь седые люди помнят прежние дела — Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела. Прекратилося навек безобразие — Ходит в лес человек безбоязненно, И не страшно ничуть! 1966Спасите наши души
Уходим под воду В нейтральной воде. Мы можем по году Плевать на погоду, А если накроют — Локаторы взвоют О нашей беде. Спасите наши души! Мы бредим от удушья. Спасите наши души! Спешите к нам! Услышьте нас на суше — Наш SOS все глуше, глуше. И ужас режет души Напополам… И рвутся аорты, Но наверх – не сметь! Там слева по борту, Там справа по борту, Там прямо по ходу Мешает проходу Рогатая смерть! Спасите наши души! Мы бредим от удушья. Спасите наши души! Спешите к нам! Услышьте нас на суше — Наш SOS все глуше, глуше. И ужас режет души Напополам… Но здесь мы на воле, Ведь это наш мир! Свихнулись мы, что ли, Всплывать в минном поле?! «А ну, без истерик! Мы врежемся в берег!» — Сказал командир. Спасите наши души! Мы бредим от удушья. Спасите наши души! Спешите к нам! Услышьте нас на суше — Наш SOS все глуше, глуше. И ужас режет души Напополам… Всплывем на рассвете — Приказ есть приказ! А гибнуть во цвете Уж лучше при свете! Наш путь не отмечен… Нам нечем… Нам нечем!.. Но помните нас! Спасите наши души! Мы бредим от удушья. Спасите наши души! Спешите к нам! Услышьте нас на суше — Наш SOS все глуше, глуше. И ужас режет души Напополам… Вот вышли наверх мы… Но выхода нет! Вот – полный на верфи! Натянуты нервы… Конец всем печалям, Концам и началам — Мы рвемся к причалам Заместо торпед! Спасите наши души! Мы бредим от удушья. Спасите наши души! Спешите к нам! Услышьте нас на суше — Наш SOS все глуше, глуше. И ужас режет души Напополам… Спасите наши души! 1967Песня о вещем Олеге
Как ныне сбирается вещий Олег Щита прибивать на ворота, Как вдруг подбегает к нему человек — И ну шепелявить чего-то. «Эх, князь, – говорит ни с того ни с сего, — Ведь примешь ты смерть от коня своего!» Но только собрался идти он на вы — Отмщать неразумным хазарам, Как вдруг прибежали седые волхвы, К тому же разя перегаром. И говорят ни с того ни с сего, Что примет он смерть от коня своего. «Да кто ж вы такие, откуда взялись?! — Дружина взялась за нагайки. — Напился, старик, так иди похмелись, И неча рассказывать байки И говорить ни с того ни с сего, Что примет он смерть от коня своего!» Ну, в общем, они не сносили голов — Шутить не могите с князьями! И долго дружина топтала волхвов Своими гнедыми конями: «Ишь, говорят ни с того ни с сего, Что примет он смерть от коня своего!» А вещий Олег свою линию гнул, Да так, что никто и не пикнул. Он только однажды волхвов помянул, И то саркастически хмыкнул: «Ну надо ж болтать ни с того ни с сего, Что примет он смерть от коня своего!» «А вот он, мой конь, – на века опочил, Один только череп остался!..» Олег преспокойно стопу возложил — И тут же на месте скончался: Злая гадюка кусила его — И принял он смерть от коня своего. …Каждый волхвов покарать норовит, А нет бы – послушаться, правда? Олег бы послушал – еще один щит Прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и с сего, Что примет он смерть от коня своего! 1967Дом хрустальный
Если я богат, как царь морской, Крикни только мне: «Лови блесну!» — Мир подводный и надводный свой, Не задумываясь, выплесну! Дом хрустальный на горе – для нее, Сам, как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, Золотые мои россыпи! Если беден я, как пес – один, И в дому моем – шаром кати, Ведь поможешь ты мне, Господи, Не позволишь жизнь скомкати! Дом хрустальный на горе – для нее, Сам, как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, Золотые мои россыпи! Не сравнил бы я любую с тобой — Хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любуюсь тобой — Как мадонной Рафаэлевой! Дом хрустальный на горе – для нее, Сам, как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, Золотые мои россыпи! 1967Песня о вещей Кассандре
Долго Троя в положении осадном Оставалась неприступною твердыней, Но троянцы не поверили Кассандре — Троя, может быть, стояла б и поныне. Без умолку безумная девица Кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах!» Но ясновидцев – впрочем, как и очевидцев — Во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на Трою Спустилась смерть (как и положено – крылата), Над избиваемой безумною толпою Кто-то крикнул: «Это ведьма виновата!» Без умолку безумная девица Кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах!» Но ясновидцев – впрочем, как и очевидцев — Во все века сжигали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, Когда сбылись все предсказания на славу, Толпа нашла бы подходящую минуту, Чтоб учинить свою привычную расправу. Без умолку безумная девица Кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах!» Но ясновидцев – впрочем, как и очевидцев — Во все века сжигали люди на кострах. Конец простой – хоть не обычный, но досадный: Какой-то грек нашел Кассандрину обитель И начал пользоваться ей не как Кассандрой, А как простой и ненасытный победитель. Без умолку безумная девица Кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах!» Но ясновидцев – впрочем, как и очевидцев — Во все века сжигали люди на кострах. 1967Лукоморья больше нет
Антисказка
Лукоморья больше нет, От дубов простыл и след. Дуб годится на паркет – так ведь нет: Выходили из избы Здоровенные жлобы, Порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска У меня в груди! Это – только присказка, Сказка – впереди. Распрекрасно жить в домах На куриных на ногах, Но явился всем на страх Вертопрах. Добрый молодец он был: Бабку Ведьму подпоил, Ратный подвиг совершил – дом спалил. Ты уймись, уймись, тоска У меня в груди! Это – только присказка, Сказка – впереди. Тридцать три богатыря Порешили, что зазря Берегли они царя и моря: Каждый взял себе надел, Кур завел – и в ём сидел, Охраняя свой удел не у дел. Ободрав зеленый дуб, Дядька ихний сделал сруб, С окружающими туп стал и груб — И ругался день-деньской Бывший дядька их морской, Хоть имел участок свой под Москвой. Ты уймись, уймись, тоска У меня в груди! Это – только присказка, Сказка – впереди. Здесь и вправду ходит Кот, Как направо – так поет, Как налево – так загнет анекдот. Но ученый, сукин сын: Цепь златую снес в торгсин И на выручку – один в магазин. Как-то раз за божий дар Получил он гонорар: В Лукоморье перегар – на гектар! Но хватил его удар! И чтоб избегнуть божьих кар, Кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска У меня в груди! Это – только присказка, Сказка – впереди. И Русалка – вот дела! — Честь недолго берегла И однажды, как смогла, родила. Тридцать три же мужика Не желают знать сынка, Пусть считается пока сын полка. Как-то раз один Колдун — Врун, болтун и хохотун — Предложил ей как знаток дамских струн: Мол, Русалка, все пойму И с дитем тебя возьму… И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый Черномор, Лукоморский первый вор, — Он давно Людмилу спер, ох хитер! Ловко пользуется, тать, Тем, что может он летать: Зазеваешься – он хвать – и тикать! Ты уймись, уймись, тоска У меня в груди! Это – только присказка, Сказка – впереди. А ковёрный самолет Сдан в музей в запрошлый год — Любознательный народ так и прет! И без опаски старый хрыч Баб ворует, хнычь не хнычь. Ох, скорей его разбей паралич! «Нету мочи, нету сил! — Леший как-то недопил, Лешачиху свою бил и вопил: – Дай рубля, прибью а то! Я добытчик али кто?! А не дашь, тады пропью долото!» «Я ли ягод не носил?! — Снова Леший голосил. — А коры по скольку кил приносил! Надрывался издаля — Все твоей забавы для, Ты ж жалеешь мне рубля. Ах ты, тля!» И невиданных зверей, Дичи всякой – нету ей: Понаехало за ней егерей… Так что, значит, не секрет: Лукоморья больше нет, Все, о чем писал поэт, – это бред. Ты уймись, уймись, тоска, Душу мне не рань! Раз уж это – присказка, Значит сказка – дрянь. 1967Деревянные костюмы
Как все мы веселы бываем и угрюмы, Но если надо выбирать и выбор труден, Мы выбираем деревянные костюмы, Люди, люди… Нам будут долго предлагать – не прогадать. – Ах! – скажут, – что вы, вы еще не жили! Вам надо только-только начинать… — Ну, а потом предложат: или-или. Или пляжи, вернисажи, или даже Пароходы, в них наполненные трюмы, Экипажи, скачки, рауты, вояжи… Или просто – деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, И будут в роли злых шутов иль добрых судей, Но нам предложат деревянные костюмы, Люди, люди… Нам могут даже предложить и закурить. – Ах! – вспомнят, – вы ведь долго не курили. Да вы еще не начинали жить… — Ну, а потом предложат: или-или. Дым папиросы навевает что-то… Одна затяжка – веселее думы. Курить охота, ох, курить охота! Но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько — Предложат жизнь счастливую на блюде. Но мы откажемся… И бьют они жестоко, Люди, люди, люди… 1967«Подымайте руки, в урны суйте…»
Подымайте руки, в урны суйте Бюллетени, даже не читав! Помереть от скуки! Голосуйте, Только, чур, меня не приплюсуйте — Я не разделяю ваш устав! 1967«Запретили все цари всем царевичам…»
Запретили все цари всем царевичам Строго-настрого ходить по Гуревичам, К Рабиновичам не сметь, тоже – к Шифманам! Правда, Шифманы нужны лишь для рифмы нам. В основном же речь идет за Гуревичей — Царский род ну так и прет к ихней девичьей: Там три дочки – три сестры, три красавицы… За царевичей цари опасаются. И Гуревичи всю жизнь озабочены: Хоть живьем в гробы ложись из-за доченек! Не устали бы про них песню петь бы мы, Но назвали всех троих дочек ведьмами. И сожгли всех трех цари их умеючи, И рыдали до зари все царевичи, Не успел растаять дым от костров еще — А царевичи пошли к Рабиновичам. Там три дочки – три сестры, три красавицы. И опять, опять цари опасаются… Ну, а Шифманы смекнули – и Жмеринку Вмиг покинули, махнули в Америку. 1967 или 1968Моя цыганская
В сон мне – желтые огни, И хриплю во сне я: – Повремени, повремени, — Утро мудренее! Но и утром все не так, Нет того веселья: Или куришь натощак, Или пьешь с похмелья. В кабаках – зеленый штоф, Белые салфетки. Рай для нищих и шутов, Мне ж – как птице в клетке! В церкви смрад и полумрак, Дьяки курят ладан. Нет! И в церкви все не так, Все не так, как надо. Я – на гору впопыхах, Чтоб чего не вышло. А на горе стоит ольха, А под горою – вишня. Хоть бы склон увить плющом, Мне б и то отрада, Хоть бы что-нибудь еще… Все не так, как надо! Я тогда по полю, вдоль реки. Света – тьма, нет Бога! А в чистом поле васильки, Дальняя дорога. Вдоль дороги – лес густой С Бабами-Ягами, А в конце дороги той — Плаха с топорами. Где-то кони пляшут в такт, Нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так, А в конце – подавно. И ни церковь, ни кабак — Ничего не свято! Нет, ребята, все не так, Все не так, ребята! Зима 1967/1968Две песни об одном воздушном бое
I. Песня летчика
Их восемь – нас двое, – расклад перед боем Не наш, но мы будем играть! Сережа, держись! Нам не светит с тобою, Но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину — Мне цифры сейчас не важны: Сегодня мой друг защищает мне спину, А значит – и шансы равны. Мне в хвост вышел «мессер», но вот задымил он, Надсадно завыли винты, — Им даже не надо крестов на могилы — Сойдут и на крыльях кресты! Я – «Первый», я – «Первый», – они под тобою! Я вышел им наперерез! Сбей пламя, уйди в облака – я прикрою! В бою не бывает чудес. Сергей, ты горишь! Уповай, человече, Теперь на надежность строп! Нет, поздно – и мне вышел «мессер» навстречу, — Прощай, я приму его в лоб!.. Я знаю – другие сведут с ними счеты, — Но, по облакам скользя, Взлетят наши души, как два самолета, — Ведь им друг без друга нельзя. Архангел нам скажет: «В раю будет туго!» Но только ворота – щелк, — Мы Бога попросим: «Впишите нас с другом В какой-нибудь ангельский полк!» И я попрошу Бога, Духа и Сына, — Чтоб выполнил волю мою: Пусть вечно мой друг защищает мне спину, Как в этом последнем бою! Мы крылья и стрелы попросим у Бога, — Ведь нужен им ангел-ас, — А если у них истребителей много — Пусть примут в хранители нас! Хранить – это дело почетное тоже, — Удачу нести на крыле Таким, как при жизни мы были с Сережей, И в воздухе и на земле.II. Песня самолета-истребителя
Ю. Любимову
Я – «ЯК», истребитель, – мотор мой звенит, Небо – моя обитель, — А тот, который во мне сидит, Считает, что он – истребитель. В этом бою мною «юнкерс» сбит — Я сделал с ним, что хотел, — А тот, который во мне сидит, Изрядно мне надоел! Я в прошлом бою навылет прошит, Меня механик заштопал, — А тот, который во мне сидит, Опять заставляет – в штопор! Из бомбардировщика бомба несет Смерть аэродрому, — А кажется – стабилизатор поет: «Мир вашему дому!» Вот сзади заходит ко мне «мессершмитт», — Уйду – я устал от ран!.. Но тот, который во мне сидит, Я вижу, решил – на таран! Что делает он?! Вот сейчас будет взрыв!.. Но мне не гореть на песке, — Запреты и скорости все перекрыв, Я выхожу из пике! Я – главный, а сзади… Ну, чтоб я сгорел! Где же он, мой ведомый? Вот он задымился, кивнул – и запел: «Мир вашему дому!» И тот, который в моем черепке, Остался один – и влип, — Меня в заблужденье он ввел – и в пике Прямо из мертвой петли. Он рвет на себя – и нагрузки вдвойне, — Эх, тоже мне – летчик-ас!.. Но снова приходится слушаться мне, — Но это – в последний раз! Я больше не буду покорным – клянусь! Уж лучше лежать на земле… Но что ж он не слышит, как бесится пульс: Бензин – моя кровь – на нуле! Терпенью машины бывает предел, И время его истекло, — И тот, который во мне сидел, Вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит! Наконец-то лечу налегке, Последние силы жгу… Но что это, что?! Я – в глубоком пике, И выйти никак не могу! Досадно, что сам я не много успел, — Но пусть повезет другому! Выходит, и я напоследок спел: «Мир вашему дому!» 1968Охота на волков
Рвусь из сил – и из всех сухожилий, Но сегодня – опять как вчера: Обложили меня, обложили — Гонят весело на номера! Из-за елей хлопочут двустволки — Там охотники прячутся в тень, — На снегу кувыркаются волки, Превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, Идет охота — На серых хищников Матерых и щенков! Кричат загонщики, и лают псы до рвоты, Кровь на снегу – и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками Егеря, но не дрогнет рука: Оградив нам свободу флажками, Бьют уверенно, наверняка. Волк не может нарушить традиций — Видно, в детстве, слепые щенки, Мы, волчата, сосали волчицу И всосали: нельзя за флажки! И вот – охота на волков, Идет охота — На серых хищников Матерых и щенков! Кричат загонщики, и лают псы до рвоты, Кровь на снегу – и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры — Почему же – вожак, дай ответ — Мы затравленно мчимся на выстрел И не пробуем через запрет?! Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое: Тот, которому я предназначен, Улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, Идет охота — На серых хищников Матерых и щенков! Кричат загонщики, и лают псы до рвоты, Кровь на снегу – и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел: За флажки – жажда жизни сильней! Только – сзади я радостно слышал Удивленные крики людей. Рвусь из сил – и из всех сухожилий, Но сегодня – не так, как вчера: Обложили меня, обложили — Но остались ни с чем егеря! Идет охота на волков, Идет охота — На серых хищников Матерых и щенков! Кричат загонщики, и лают псы до рвоты, Кровь на снегу – и пятна красные флажков. 1968Еще не вечер
Четыре года рыскал в море наш корсар, В боях и штормах не поблекло наше знамя, Мы научились штопать паруса И затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль – и не избегнуть встречи! А нам сказал спокойно капитан: «Еще не вечер, еще не вечер!» Вот развернулся боком флагманский фрегат — И левый борт окрасился дымами. Ответный залп – на глаз и наугад! Вдали – пожар и смерть! Удача с нами! Из худших выбирались передряг, Но с ветром худо, и в трюме течи, А капитан нам шлет привычный знак: «Еще не вечер, еще не вечер!» На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз — И видят нас от дыма злых и серых, Но никогда им не увидеть нас Прикованными к веслам на галерах! Неравный бой – корабль кренится наш. Спасите наши души человечьи! Но крикнул капитан: «На абордаж! Еще не вечер, еще не вечер!» Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, Готовьте ваши руки к рукопашной! А крысы пусть уходят с корабля — Они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали: «А чем не шутит черт!» — И тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт о борт… Еще не вечер, еще не вечер! Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза! Чтоб не достаться спрутам или крабам, Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах, Мы покидали тонущий корабль. Но нет, им не послать его на дно — Поможет океан, взвалив на плечи, Ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан: еще не вечер! 1968Оловянные солдатики
Н. Высоцкому
Будут и стихи, и математика, Почести, долги, неравный бой… Нынче ж оловянные солдатики Здесь, на старой карте, встали в строй. Лучше бы уж он держал в казарме их, Но – ведь на войне, как на войне — Падают бойцы в обоих армиях Поровну на каждой стороне. Может быть – пробелы в воспитании И в образованьи слабина, Но не может выиграть кампании Та или другая сторона. Совести проблемы окаянные — Как перед собой не согрешить? Тут и там солдаты оловянные — Как решить, кто должен победить? И какая, к дьяволу, стратегия, И какая тактика, к чертям! Вот сдалась нейтральная Норвегия Ордам оловянных египтян; Левою рукою Скандинавия Лишена престижа своего, Но рука решительная правая Вмиг восстановила статус-кво! Где вы, легкомысленные гении, — Или вам являться недосуг? Где вы, проигравшие сражения Просто, не испытывая мук? Или вы, несущие в венце зарю Битв, побед, триумфов и могил? Где вы, уподобленные Цезарю, Что пришел, увидел, победил?.. Сколько б ни предпринимали армии Контратак, прорывов и бросков, Все равно на каждом полушарии Поровну игрушечных бойцов. Мучается полководец маленький, Непосильной ношей отягчен, Вышедший в громадные начальники Шестилетний мой Наполеон. Чтобы прекратить его мучения, Ровно половину тех солдат Я покрасил синим – шутка гения. Утром вижу – синие лежат. Счастлив я успехами такими, но Мысль одна с тех пор меня гнетет: Как решил он, что погибли именно Синие, а не наоборот? 1969Песенка о переселении душ
Кто верит в Магомета, кто – в Аллаха, кто – в Иисуса, Кто ни во что не верит – даже в черта назло всем… Хорошую религию придумали индусы — Что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Стремилась ввысь душа твоя — Родишься вновь с мечтою, Но если жил ты как свинья — Останешься свиньею. Пусть косо смотрят на тебя – привыкни к укоризне, Досадно – что ж, родишься вновь на колкости горазд, И если видел смерть врага еще при этой жизни — В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько — Есть повод веселиться: Ведь, может быть, в начальника Душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь — прорабом, А после из прораба до министра дорастешь, Но если туп, как дерево, – родишься баобабом И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, Гадюкой с длинным веком… Не лучше ли при жизни быть Приличным человеком?! Да кто есть кто, да кто был кем? – мы никогда не знаем. С ума сошли генетики от ген и хромосом! Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, А этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, Я обхожу искусы — Удобную религию Придумали индусы! 1969«Ну вот, исчезла дрожь в руках…»
Ну вот, исчезла дрожь в руках, Теперь – наверх! Ну вот, сорвался в пропасть страх Навек, навек. Для остановки нет причин — Иду, скользя… И в мире нет таких вершин, Что взять нельзя! Среди нехоженых путей Один – пусть мой, Среди невзятых рубежей Один – за мной! И имена тех, кто здесь лег, Снега таят… Среди непройденных дорог Одна – моя! Здесь голубым сияньем льдов Весь склон облит, И тайну чьих-нибудь следов Гранит хранит… А я гляжу в свою мечту Поверх голов И свято верю в чистоту Снегов и слов! И пусть пройдет немалый срок — Мне не забыть, Что здесь сомнения я смог В себе убить. В тот день шептала мне вода: «Удач – всегда!..» А день… какой был день тогда? Ах да – среда!.. 1969Про любовь в каменном веке
А ну, отдай мой каменный топор! И шкур моих набедренных не тронь! Молчи, не вижу я тебя в упор — Сиди, вон, и поддерживай огонь! Выгадывать не смей на мелочах, Не опошляй семейный наш уклад! Не убрана пещера и очаг — Разбаловалась ты в матриархат! Придержи свое мнение: Я – глава, и мужчина – я! Соблюдай отношения Первобытно-общинныя. Там мамонта убьют – поднимут вой, Начнут добычу поровну делить… Я не могу весь век сидеть с тобой — Мне надо хоть кого-нибудь убить! Старейшины сейчас придут ко мне, Смотри еще – не выйди голой к ним! В век каменный – и не достать камней! Мне стыдно перед племенем моим! Пять бы жен мне – наверное, Разобрался бы с вами я! Но дела мои – скверные, Потому – моногамия. А все твоя проклятая родня! Мой дядя, что достался кабану, Когда был жив, предупреждал меня: Нельзя из людоедок брать жену! Не ссорь меня с общиной – это ложь, Что будто к тебе кто-то пристает, Не клевещи на нашу молодежь, Она надежда наша и оплот! Ну что глядишь – тебя пока не бьют! Отдай топор – добром тебя прошу! И шкуры где? Ведь люди засмеют!.. До трех считаю, после – задушу! 1969Человек за бортом
Анатолию Гарагуле
Был шторм: канаты рвали кожу с рук, И якорная цепь визжала чертом, Пел ветер песню грубую – и вдруг Раздался голос: «Человек за бортом!» И сразу – «Полный назад! Стоп машина! Живо! Спасти и согреть! Внутрь ему, если мужчина, Если же нет – растереть». Я пожалел, что обречен шагать По суше, – значит, мне не ждать подмоги: Никто меня не бросится спасать И не объявит шлюпочной тревоги. А скажут: «Полный вперед! Ветер в спину! Будем в порту по часам. Так ему, сукину сыну, Пусть выбирается сам!» И мой корабль от меня уйдет — На нем, должно быть, люди выше сортом. Впередсмотрящий смотрит лишь вперед — Не видит он, что человек за бортом. Я вижу: мимо суда проплывают — Ждет их приветливый порт. Мало ли кто выпадает С главной дороги за борт! Пусть в море меня вынесет, а там — Гуляет ветер вверх и вниз по гамме, За мною спустит шлюпку капитан, И обрету я почву под ногами. Они зацепят меня за одежду — Значит, падать одетому – плюс, В шлюпочный борт, как в надежду, Мертвою хваткой вцеплюсь. Я на борту – курс прежний, прежний путь, Мне тянут руки, души, папиросы, И я уверен: если что-нибудь — Мне бросят круг спасательный матросы. Правда, с качкой у них перебор там, В штормы от вахт не вздохнуть, Но человеку за бортом Здесь не дадут утонуть!1969
Он не вернулся из боя
Почему все не так? Вроде – все как всегда: То же небо – опять голубое, Тот же лес, тот же воздух и та же вода… Только – он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас В наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас — Когда он не вернулся из боя. Он молчал невпопад и не в такт подпевал, Он всегда говорил про другое, Он мне спать не давал, он с восходом вставал, — А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, – не про то разговор: Вдруг заметил я – нас было двое… Для меня – будто ветром задуло костер, Когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалось, будто из плена весна, — По ошибке окликнул его я: «Друг, оставь покурить!» А в ответ – тишина: Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, Наши павшие – как часовые… Отражается небо в лесу, как в воде, — И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, Нам и время текло – для обоих… Всё теперь – одному. Только кажется мне — Это я не вернулся из боя. 1969Ноль семь
Эта ночь для меня вне закона, Я пишу – по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона — Я набираю вечное ноль семь. «Девушка, милая, как вас звать?» – «Тома. Семьдесят вторая». Жду, дыханье затая… «Быть не может, повторите, я уверен – дома!.. Вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я!» Эта ночь для меня вне закона, Я не сплю – я прошу: «Поскорей!..» Почему мне в кредит, по талону Предлагают любимых людей? «Девушка, слушайте! Семьдесят вторая! Не могу дождаться, и часы мои стоят… К дьяволу все линии – я завтра улетаю!.. Вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я!» Телефон для меня – как икона, Телефонная книга – триптих, Стала телефонистка Мадонной, Расстоянье на миг сократив. «Девушка, милая! Я прошу: продлите! Вы теперь как ангел – не сходите ж с алтаря! Самое главное – впереди, поймите… Вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я!» Что, опять поврежденье на трассе? Что, реле там с ячейкой шалят? Мне плевать: буду ждать – я согласен Начинать каждый вечер с нуля! «Ноль семь, здравствуйте! Снова я». – «Да что вам?» — «Нет, уже не нужно – нужен город Магадан. Не даю вам слова, что звонить не буду снова, Просто друг один – узнать, как он, бедняга, там…» Эта ночь для меня вне закона — Ночи все у меня не для сна. А усну – мне приснится Мадонна, На кого-то похожа она. «Девушка, милая! Снова я». – «Да что вам?» — «Не могу дождаться – жду дыханье затая… Да, меня!.. Конечно, я!.. Да, я!.. Конечно, дома!» — «Вызываю… Отвечайте…» – «Здравствуй, это я!» 1969Семейные дела в Древнем Риме
Как-то вечером патриции Собрались у Капитолия Новостями поделиться и Выпить малость алкоголия. Не вести ж бесед тверезыми! Марк-патриций не мытарился — Пил нектар большими дозами И ужасно нанектарился. И под древней под колонною Он исторг из уст проклятия: «Эх, с почтенною матреною Разойдусь я скоро, братия! Она спуталась с поэтами, Помешалась на театрах — Так и шастает с билетами На приезжих гладиаторов! «Я, – кричит, – от бескультурия Скоро стану истеричкою!» — В общем, злобствует как фурия, Поощряема сестричкою! Только цыкают и шикают… Ох, налейте мне «двойных»! Мне ж – рабы в лицо хихикают. На войну бы мне, да нет войны! Я нарушу все традиции — Мне не справиться с обеими, — Опускаюсь я, патриции, Дую горькую с плебеями! Я ей дом оставлю в Персии — Пусть берет сестру-мегерочку, — На отцовские сестерции Заведу себе гетерочку. У гетер хотя безнравственней, Но они не обезумели. У гетеры пусть все явственней, Зато родственники умерли. Там сумею исцелиться и Из запоя скоро выйду я!» …И пошли домой патриции, Марку пьяному завидуя. 1969«Теперь я буду сохнуть от тоски…»
Теперь я буду сохнуть от тоски И сожалеть, проглатывая слюни, Что не доел в Батуми шашлыки И глупо отказался от сулгуни. Пусть много говорил белиберды Наш тамада – вы тамаду не троньте, — За Родину был тост алаверды, За Сталина. Я думал – я на фронте. И вот уж за столом никто не ест, И тамада над всем царит шерифом, Как будто бы двадцатый с чем-то съезд Другой – двадцатый – объявляет мифом. Пил тамада за город, за аул И всех подряд хвалил с остервененьем, При этом он ни разу не икнул — И я к нему проникся уваженьем. Правда, был у тамады Длинный тост алаверды За него, вождя народов, И за все его труды. Мне тамада сказал, что я – родной, Что если плохо мне – ему не спится, Потом спросил меня: «Ты кто такой?» А я сказал: «Бандит и кровопийца». В умах царил шашлык и алкоголь. Вот кто-то крикнул, что не любит прозы, Что в море не поваренная соль, Что в море – человеческие слезы. И вот конец – уже из рога пьют, Уже едят инжир и мандаринки, Которые здесь запросто растут, Точь-в-точь как те, которые на рынке. Обхвалены все гости, и пока Они не окончательно уснули — Хозяина привычная рука Толкает вверх бокал «Киндзмараули»… О как мне жаль, что я и сам такой: Пусть я молчал, но я ведь пил – не реже, Что не могу я моря взять с собой И захватить все солнце побережья. 1969Про любовь в эпоху возрождения
Может быть, выпив пол-литру, Некий художник от бед Встретил чужую палитру И посторонний мольберт. Дело теперь за немногим — Нужно натуры живой, — Глядь – симпатичные ноги С гордой идут головой. Он подбегает к Венере: «Знаешь ли ты, говорят — Данте к своей Алигьери Запросто шастает в ад! Ада с тобой нам не надо — Холодно в царстве теней… Кличут меня Леонардо. Так раздевайся скорей! Я тебя – даже нагую — Действием не оскорблю, — Дай я тебя нарисую Или из глины слеплю!» Но отвечала сестричка: «Как же вам не ай-яй-яй! Честная я католичка — И не согласная я! Вот испохабились нынче — Так и таскают в постель! Ишь – Леонардо да Винчи — Тоже какой Рафаэль! Я не привыкла без чувства — Не соглашуся ни в жисть! Мало что ты – для искусства, — Сперва давай-ка женись! Там и разденемся в спальной — Как у людей повелось… Мало что ты – гениальный! — Мы не глупее небось!» «Так у меня ж – вдохновенье, — Можно сказать, что экстаз!»— Крикнул художник в волненьи… Свадьбу сыграли на раз. …Женщину с самого низа Встретил я раз в темноте, — Это была Мона Лиза — В точности как на холсте. Бывшим подругам в Сорренто Хвасталась эта змея: «Ловко я интеллигента Заполучила в мужья!» Вкалывал он больше года — Весь этот длительный срок Все ухмылялась Джоконда: Мол, дурачок, дурачок! …В песне разгадка дается Тайны улыбки, а в ней — Женское племя смеется Над простодушьем мужей! 1969Песенка о слухах
Сколько слухов наши уши поражает, Сколько сплетен разъедает, словно моль! Ходят слухи, будто все подорожает – абсолютно, А особенно – штаны и алкоголь! И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! Их разносят по умам! – Слушай, слышал? Под землею город строют — Говорят, на случай ядерной войны! – Вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно, Навсегда – и эти сведенья верны! И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! Их разносят по умам! – А вы знаете, Мамыкина снимают — За разврат его, за пьянство, за дебош! – Кстати, вашего соседа забирают, негодяя, Потому что он на Берию похож! И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! Их разносят по умам! – Ой, что деется! Вчерась траншею рыли — Откопали две коньячные струи! – Говорят, евреи воду отравили, гады, ядом. Ну а хлеб теперь – из рыбной чешуи! И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! Их разносят по умам! Да, вы знаете, теперь все отменяют: Отменили даже воинский парад. Говорят, что скоро всепозапрещают, в бога душу, Скоро всех, к чертям собачьим, запретят. И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! Их разносят по умам! Закаленные во многих заварухах, Слухи ширятся, не ведая преград, — Ходят сплетни, что не будет больше слухов абсолютно, Ходят слухи, будто сплетни запретят! Но, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! Их разносят по умам! И поют друг другу шепотом ли, в крик ли — Слух дурной всегда звучит в устах кликуш, А к хорошим слухам люди не привыкли — Говорят, что это выдумки и чушь. И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! Их разносят по умам! 1969Я не люблю
Я не люблю фатального исхода, От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, Когда веселых песен не пою. Я не люблю открытого цинизма, В восторженность не верю, и еще, Когда чужой мои читает письма, Заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину Или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, Червей сомненья, почестей иглу, Или когда все время против шерсти, Или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, Уж лучше пусть откажут тормоза! Досадно мне, что слово «честь» забыто, И что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, Нет жалости во мне и неспроста — Я не люблю насилье и бессилье, Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, Досадно мне, когда невинных бьют, Я не люблю, когда мне лезут в душу, Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, На них мильон меняют по рублю, Пусть впереди большие перемены, Я это никогда не полюблю. 1969«Надо с кем-то рассорить кого-то…»
Надо с кем-то рассорить кого-то. Только с кем и кого? Надо сделать трагичное что-то. Только что, для чего? Надо выстрадать, надо забыться. Только в чем и зачем? Надо как-то однажды напиться. Только с кем, только с кем? Надо сделать хорошее что-то. Для кого, для чего? Это, может быть, только работа Для себя самого! Ну а что для других, что для многих? Что для лучших друзей? А для них – земляные дороги Души моей! 1970Бег иноходца
Я скачу, но я скачу иначе, По полям, по лужам, по росе… Говорят: он иноходью скачет. Это значит иначе, чем все. Но наездник мой всегда на мне, — Стременами лупит мне под дых. Я согласен бегать в табуне, Но не под седлом и без узды! Если не свободен нож от ножен, Он опасен меньше, чем игла. Вот и я оседлан и стреножен. Рот мой разрывают удила. Мне набили раны на спине, Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, Но не под седлом и без узды! Мне сегодня предстоит бороться. Скачки! Я сегодня – фаворит. Знаю – ставят все на иноходца, Но не я – жокей на мне хрипит! Он вонзает шпоры в ребра мне, Зубоскалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, Но не под седлом и без узды. Пляшут, пляшут скакуны на старте, Друг на друга злобу затая, В исступленьи, в бешенстве, в азарте, И роняют пену, как и я. Мой наездник у трибун в цене, — Крупный мастер верховой езды. Ох, как я бы бегал в табуне, Но не под седлом и без узды. Нет! Не будут золотыми горы! Я последним цель пересеку. Я ему припомню эти шпоры, Засбою, отстану на скаку. Колокол! Жокей мой на коне, Он смеется в предвкушеньи мзды. Ох, как я бы бегал в табуне, Но не под седлом и без узды! Что со мной, что делаю, как смею — Потакаю своему врагу! Я собою просто не владею, Я придти не первым не могу! Что же делать? Остается мне Вышвырнуть жокея моего И скакать, как будто в табуне, Под седлом, в узде, но без него! Я пришел, а он в хвосте плетется, По камням, по лужам, по росе. Я впервые не был иноходцем, Я стремился выиграть, как все! 1970«Я несла свою беду…»
Я несла свою беду По весеннему по льду. Надломился лед, душа оборвалася. Камнем под воду пошла, А беда – хоть тяжела — А за острые края задержалася. И беда с того вот дня Ищет по свету меня, Слухи ходят вместе с ней, с кривотолками. А что я не умерла, Знала голая земля Да еще перепела с перепелками. Кто из них сказал ему, Господину моему, Только выдали меня, проболталися. И, от страсти сам не свой, Он отправился за мной, А за ним беда с молвой привязалися. Он настиг меня, догнал, Обнял, на руки поднял. Рядом с ним в седле беда ухмылялася. Но остаться он не мог, Был всего один денек, А беда на вечный срок задержалася. 1970«Здесь лапы у елей дрожат на весу…»
Здесь лапы у елей дрожат на весу, Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, Пусть дождем опадают сирени, Все равно я отсюда тебя заберу Во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет Укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, Чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, Пусть луна с небом пасмурным в ссоре, Все равно я отсюда тебя заберу В светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу Ты выйдешь ко мне осторожно?.. Когда я тебя на руках унесу Туда, где найти невозможно?.. Украду, если кража тебе по душе, — Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, Если терем с дворцом кто-то занял! 1970«Переворот в мозгах из края в край…»
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве – масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений. Известный черт с фамилией Черток, Агент из Рая, ночью, внеурочно Отстукал в Центр: «В Аду черт знает что»; Что именно – Черток не знает точно. Еще ввернул тревожную строку Для шефа всех лазутчиков Амура: «Я в ужасе: сам Дьявол начеку И крайне ненадежна агентура». Тем временем в Аду сам Вельзевул Потребовал военного парада, Влез на трибуну, плакал и загнул — Говорит: «Рай, только рай – спасение для Ада!» Визжали черти и кричали: «Да! Мы рай в родной построим Преисподней! Даешь производительность труда! Пять грешников на нос уже сегодня!» — «Ну что ж, вперед! А я вас поведу! — Закончил Дьявол. – С богом! Побежали!» И задрожали грешники в Аду, И ангелы в Раю затрепетали. И ангелы толпой пошли к Нему — К тому, который видит все и знает, — А Он сказал: «Мне наплевать на тьму!» — И заявил, что многих расстреляет, Что Ангел, мол, подонок и кретин, Его возня и козни – все не ново, Что ангелы – ублюдки как один, А что Черток давно перевербован. «Не Рай кругом, а подлинный бедлам. Спущусь на землю – там хоть уважают! Уйду от вас к людям ко всем чертям — Пущай меня вторично распинают!..» И Он спустился. Кто он? Где живет?.. Но как-то раз узрели прихожане — На паперти у церкви нищий пьет. «Я Бог, – кричит. – Даешь на пропитанье!» Конец печальный (плачьте, стар и млад, — Что перед этим всем сожженье Трои!): Давно уже в Раю не рай, а ад, Но рай чертей в Аду зато построен! 1970Песенка про мангустов
«Змеи, змеи кругом – будь им пусто!» — Человек в исступленьи кричал. И позвал на подмогу мангуста, Чтобы, значит, мангуст выручал. И мангусты взялись за работу, Не щадя ни себя, ни родных, Выходили они на охоту Без отгулов и без выходных. И в пустынях, в степях и в пампасах Даже дали наказ патрулям: Игнорировать змей безопасных И сводить ядовитых к нулям. Приготовьтесь, сейчас будет грустно: Человек появился тайком И поставил силки на мангуста, Объявив его вредным зверьком. Он наутро пришел с ним, собака, И мангуста упрятал в мешок, А мангуст отбивался и плакал, И кричал: «Я полезный зверек!» Но зверьков в переломах и в ранах Всё швыряли в мешок, как грибы, — Одуревших от боли в капканах, Ну и от поворота судьбы. И гадали они: «В чем же дело, Ну почему нас несут на убой?» И сказал им мангуст престарелый С перебитой передней ногой, Что, говорит, козы в Бельгии съели капусту, Воробьи – рис в Китае с полей, А в Австралии злые мангусты Истребили полезнейших змей. Это вовсе не дивное диво: Раньше были полезны – и вдруг Оказалось, что слишком ретиво Истребляли мангусты гадюк. Вот за это им вышла награда От расчетливых наших людей, Видно, люди не могут без яда, Ну а значит – не могут без змей. 1971Про глупцов
Этот шум не начало конца, Не повторная гибель Помпеи — Спор вели три великих глупца: Кто из них, из великих, глупее. Первый выл: «Я физически глуп, — Руки вздел, словно вылез на клирос, — У меня даже мудрости зуб, Невзирая на возраст, не вырос!» Но не приняли это в расчет — Даже умному эдак негоже: «Ах, подумаешь, зуб не растет! Так другое растет – ну и что же?..» К синяку прижимая пятак, Встрял второй: «Полно вам, загалдели! Я способен все видеть не так, Как оно существует на деле!» — «Эх, нашел чем хвалиться, простак, — Недостатком всего поколенья!.. И к тому же все видеть не так — Доказательство слабого зренья!» Третий был непреклонен и груб, Рвал лицо на себе, лез из платья: «Я единственный подлинно глуп — Ни про что не имею понятья». Долго спорили – дни, месяца, — Но у всех аргументы убоги… И пошли три великих глупца Глупым шагом по глупой дороге. Вот и берег – дороге конец. Откатив на обочину бочку, В ней сидел величайший мудрец — Мудрецам хорошо в одиночку. Молвил он подступившим к нему: Дескать, знаю, зачем, кто такие, Одного только я не пойму — Для чего это вам, дорогие! Или, может, вам нечего есть, Или мало друг дружку побили? Не кажитесь глупее, чем есть, — Оставайтесь такими, как были. Стоит только не спорить о том, Кто главней, – уживетесь отлично, Покуражьтесь еще, а потом, Так и быть, приходите вторично. Он залез в свою бочку с торца — Жутко умный, седой и лохматый… И ушли три великих глупца — Глупый, глупенький и глуповатый. Удивляясь, ворчали в сердцах: «Стар мудрец, никакого сомненья! Мир стоит на великих глупцах — Зря не высказал старый почтенья!» Потревожат вторично его — Темной ночью попросят: «Вылазьте!» Всё бы это еще ничего, Но глупцы – состояли при власти… И у сказки бывает конец: Больше нет на обочине бочки — В «одиночку» отправлен мудрец. Хорошо ли ему в «одиночке»? 1971О фатальных датах и цифрах
Моим друзьям – поэтам
Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт, А если в точный срок, так в полной мере: На цифре 26 один шагнул под пистолет, Другой же – в петлю слазил в «Англетере». А в тридцать три Христу – он был поэт, он говорил: «Да не убий!» Убьешь – везде найду, мол… Но – гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, Чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас – как холодом подуло: Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль И Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37! Коварен Бог — Ребром вопрос поставил: или – или! На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, А нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, А в тридцать три распяли, но не сильно, А в тридцать семь – не кровь, да что там кровь! — и седина Испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться?! В пятки, мол, давно ушла душа?! Терпенье, психопаты и кликуши! Поэты ходят пятками по лезвию ножа И режут в кровь свои босые души! На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е». «Укоротить поэта!» – вывод ясен. И нож в него – но счастлив он висеть на острие, Зарезанный за то, что был опасен! Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, — Томитесь, как наложницы в гареме! Срок жизни увеличился – и, может быть, концы Поэтов отодвинулись на время! 1971«Целуя знамя в пропыленный шелк…»
Целуя знамя в пропыленный шелк И выплюнув в отчаянье протезы, Фельдмаршал звал: «Вперед, мой славный полк! Презрейте смерть, мои головорезы!» Измятыми знаменами горды, Воспалены талантливою речью, Расталкивая спины и зады, Одни стремились в первые ряды — И первыми ложились под картечью. Хитрец и тот, который не был смел, Не пожелав платить такую цену, Полз в задний ряд, но там не уцелел: Его свои же брали на прицел И в спину убивали за измену. Сегодня каждый третий – без сапог, Но после битвы заживут, как крезы. Прекрасный полк, надежный, верный полк — Отборные в полку головорезы! А третьи и средь битвы и беды Старались сохранить и грудь, и спину — Не выходя ни в первые ряды, Ни в задние, но, как из-за еды, Дрались за золотую середину. Они напишут толстые труды И будут гибнуть в рамах, на картине, — Те, кто не вышли в первые ряды, Но не были и сзади – и горды, Что честно прозябали в середине. Уже трубач без почестей умолк, Не слышно меди, тише звон железа… Прекрасный полк, надежный, верный полк — Отборные в полку головорезы. Но нет, им честь знамен не запятнать — Дышал фельдмаршал весело и ровно. Чтоб их в глазах потомков оправдать, Он молвил: «Кто-то должен умирать, А кто-то должен выжить, безусловно!» Пусть нет звезды тусклее чем у них — Уверенно дотянут до кончины, Скрываясь за отчаянных и злых, Последний ряд оставив для других, Умеренные люди середины. В грязь втоптаны знамена, славный шелк, Фельдмаршальские жезлы и протезы. Ах, славный полк!.. Да был ли славный полк, В котором сплошь одни головорезы?! 1971Песня микрофона
Я оглох от ударов ладоней, Я ослеп от улыбок певиц, — Сколько лет я страдал от симфоний, Потакал подражателям птиц! Сквозь меня многократно просеясь, Чистый звук в ваши уши летел. Стоп! Вот – тот, на кого я надеюсь, Для кого я все муки стерпел. Сколько лет в меня шептали про луну, Кто-то весело орал про тишину, На пиле один играл – шею спиливал, А я усиливал, усиливал, усиливал… На «низах» его голос утробен, На «верхах» он подобен ножу, — Он покажет, на что он способен, Но и я кое-что покажу! Он поет задыхаясь, с натугой, Он устал, как солдат на плацу, Я тянусь своей шеей упругой К золотому от пота лицу. Сколько лет в меня шептали про луну, Кто-то весело орал про тишину, На пиле один играл – шею спиливал, А я усиливал, усиливал, усиливал… Только вдруг: «Человече, опомнись — Что поешь?! Отдохни – ты устал. Это – патока, сладкая помесь! Зал, скажи, чтобы он перестал!..» Все напрасно – чудес не бывает. Я качаюсь, я еле стою, — Он бальзамом мне горечь вливает В микрофонную глотку мою. Сколько раз в меня шептали про луну, Кто-то весело орал про тишину, На пиле один играл – шею спиливал, А я усиливал, усиливал, усиливал… В чем угодно меня обвините, Только – против себя не пойдешь: По профессии я усилитель — Я страдал, но усиливал ложь. Застонал я – динамики взвыли, — Он сдавил мое горло рукой… Отвернули меня, умертвили — Заменили меня на другой. Тот, другой, – он все стерпит и примет, Он навинчен на шею мою. Часто нас заменяют другими, Чтобы мы не мешали вранью. …Мы в чехле очень тесно лежали — Я, штатив и другой микрофон, — И они мне, смеясь, рассказали, Как он рад был, что я заменен. 1971Мой Гамлет
Я только малость объясню в стихе — На все я не имею полномочий… Я был зачат, как нужно, во грехе — В поту и в нервах первой брачной ночи. Я знал, что, отрываясь от земли, Чем выше мы, тем жестче и суровей; Я шел спокойно – прямо в короли И вел себя наследным принцем крови. Я знал – все будет так, как я хочу. Я не бывал внакладе и в уроне. Мои друзья по школе и мечу Служили мне, как их отцы – короне. Не думал я над тем, что говорю, И с легкостью слова бросал на ветер. Мне верили и так, как главарю, Все высокопоставленные дети. Пугались нас ночные сторожа, Как оспою, болело время нами. Я спал на кожах, мясо ел с ножа И злую лошадь мучил стременами. Я знал – мне будет сказано: «Царуй!» — Клеймо на лбу мне рок с рожденья выжег. И я пьянел среди чеканных сбруй, Был терпелив к насилью слов и книжек. Я улыбаться мог одним лишь ртом, А тайный взгляд, когда он зол и горек, Умел скрывать, воспитанный шутом. Шут мертв теперь: «Аминь!» Бедняга Йорик!.. Но отказался я от дележа Наград, добычи, славы, привилегий: Вдруг стало жаль мне мертвого пажа, Я объезжал зеленые побеги… Я позабыл охотничий азарт, Возненавидел и борзых и гончих, Я от подранка гнал коня назад И плетью бил загонщиков и ловчих. Я видел – наши игры с каждым днем Все больше походили на бесчинства. В проточных водах по ночам, тайком Я отмывался от дневного свинства. Я прозревал, глупея с каждым днем, Я прозевал домашние интриги. Не нравился мне век и люди в нем Не нравились. И я зарылся в книги. Мой мозг, до знаний жадный как паук, Все постигал: недвижность и движенье, — Но толка нет от мыслей и наук, Когда повсюду – им опроверженье. С друзьями детства перетерлась нить. Нить Ариадны оказалась схемой. Я бился над словами – «быть, не быть», Как над неразрешимою дилеммой. Но вечно, вечно плещет море бед, В него мы стрелы мечем – в сито просо, Отсеивая призрачный ответ От вычурного этого вопроса. Зов предков слыша сквозь затихший гул, Пошел на зов, – сомненья крались с тылу, Груз тяжких дум наверх меня тянул, А крылья плоти вниз влекли, в могилу. В непрочный сплав меня спаяли дни — Едва застыв, он начал расползаться. Я пролил кровь, как все. И, как они, Я не сумел от мести отказаться. А мой подъем пред смертью есть провал. Офелия! Я тленья не приемлю. Но я себя убийством уравнял С тем, с кем я лег в одну и ту же землю. Я Гамлет, я насилье презирал, Я наплевал на Датскую корону,— Но в их глазах – за трон я глотку рвал И убивал соперника по трону. А гениальный всплеск похож на бред, В рожденье смерть проглядывает косо. А мы всё ставим каверзный ответ И не находим нужного вопроса. 1972Мы вращаем Землю
От границы мы Землю вертели назад — Было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат, Оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, Отбирать наши пяди и крохи, Но мы помним, как солнце отправилось вспять И едва не зашло на востоке. Мы не меряем Землю шагами, Понапрасну цветы теребя, Мы толкаем ее сапогами — От себя, от себя! И от ветра с востока пригнулись стога, Жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без рычага, Изменив направленье удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат, Судный день – это сказки для старших, Просто Землю вращают, куда захотят, Наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, Кочки тискаем зло, не любя, И коленями Землю толкаем — От себя, от себя! Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, Руки кверху поднявших. Всем живым ощутимая польза от тел: Как прикрытье используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет? Где настигнет – в упор или с тыла? Кто-то там, впереди, навалился на дот — И Земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил, Мимоходом по мертвым скорбя, Шар земной я вращаю локтями — От себя, от себя! Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, Принял пулю на вздохе. Но на запад, на запад ползет батальон, Чтобы солнце взошло на востоке. Животом – по грязи, дышим смрадом болот, Но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, Потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги – на месте ли, нет ли? Как на свадьбе росу пригубя, Землю тянем зубами за стебли — На себя! Под себя! От себя! 1972Тот, который не стрелял
Я вам мозги не пудрю — Уже не тот завод: В меня стрелял поутру Из ружей целый взвод. За что мне эта злая, Нелепая стезя — Не то чтобы не знаю, — Рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, Но кто-то на расстреле настоял — И взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая Давно наперекос. Однажды языка я Добыл, да не донес, И особист Суэтин — Неутомимый наш! — Еще тогда приметил И взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок Подколотый, подшитый матерьял — Никто поделать ничего не смог… Нет! Смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть С дурацким звуком: «Пли!» — И залп мне выдал пропуск В ту сторону земли. Но… слышу: «Жив, зараза! Тащите в медсанбат — Расстреливать два раза Уставы не велят!» А врач потом всё цокал языком И, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком С тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, Лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, В большом почете был — Ходил, в меня влюбленный, Весь слабый женский пол: «Эй, ты! Недострелённый! Давай-ка на укол!» Наш батальон геройствовал в Крыму, И я туда глюкозу посылал, Чтоб было слаще воевать ему. Кому? Тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, Со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, И я довоевал. В свой полк определили. «Воюй! – сказал комбат. — А что недострелили — Так я не виноват». Я очень рад был, но, присев у пня, Я выл белугой и судьбину клял: Немецкий снайпер дострелил меня, Убив того, который не стрелял. 1972Кони привередливые
Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю… Что-то воздуху мне мало – ветер пью, туман глотаю… Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю! Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Вы тугую не слушайте плеть! Но что-то кони мне попались привередливые — И дожить не успел, мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою — Хоть мгновенье еще постою на краю… Сгину я – меня пушинкой ураган сметет с ладони, И в санях меня галопом повлекут по снегу утром… Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони, Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту! Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Не указчики вам кнут и плеть! Но что-то кони мне попались привередливые — И дожить не успел, мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою — Хоть мгновенье еще постою на краю… Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами?! Или это колокольчик весь зашелся от рыданий, Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?! Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее! Умоляю вас вскачь не лететь! Но что-то кони мне попались привередливые… Коль дожить не успел, так хотя бы – допеть! Я коней напою, я куплет допою — Хоть мгновенье еще постою на краю… 1972«Прошла пора вступлений и прелюдий…»
Прошла пора вступлений и прелюдий, Все хорошо – не вру, без дураков: Меня к себе зовут большие люди, Чтоб я им пел «Охоту на волков»… Быть может, запись слышал из окон, А может быть, с детьми ухи не сваришь — Как знать, – но приобрел магнитофон Какой-нибудь ответственный товарищ. И предаваясь будничной беседе В кругу семьи, где свет торшера тускл, Тихонько, чтоб не слышали соседи, Он взял да и нажал на кнопку «Пуск». И там, не разобрав последних слов — Прескверный дубль достали на работе, Услышал он «Охоту на волков» И кое-что еще на обороте. И все прослушав до последней ноты, И разозлясь, что слов последних нет, Он поднял трубку: «Автора “Охоты…” Ко мне пришлите завтра в кабинет!» Я не хлебнул для храбрости винца И, подавляя частую икоту, С порога от начала до конца Я проорал ту самую «Охоту…». Его просили дети, безусловно, Чтобы была улыбка на лице, Но он меня прослушал благосклонно И даже аплодировал в конце. И об стакан бутылкою звеня, Которую извлек из книжной полки, Он выпалил: «Да это ж про меня! Про нас про всех – какие, к черту, волки!» …Ну все! Теперь, конечно, что-то будет — Уже три года в день по пять звонков: Меня к себе зовут большие люди, Чтоб я им пел «Охоту на волков». 1972Дорожная история
Я вышел ростом и лицом — Спасибо матери с отцом; С людьми в ладу – не понукал, не помыкал; Спины не гнул – прямым ходил, И в ус не дул, и жил как жил, И голове своей руками помогал… Бродяжил и пришел домой Уже с годами за спиной, Висят года на мне – ни бросить, ни продать. Но на начальника попал, Который бойко вербовал, И за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге – МАЗ, Который по уши увяз, В кабине – тьма, напарник третий час молчит, Хоть бы кричал, аж зло берет: Назад пятьсот, пятьсот вперед, А он зубами «Танец с саблями» стучит! Мы оба знали про маршрут, Что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело – сел, поехал. Ночь, полночь… Ну надо ж так! Под Новый год! Назад пятьсот, пятьсот вперед! Сигналим зря – пурга, и некому помочь! «Глуши мотор, – он говорит, — Пусть этот МАЗ огнем горит!» Мол, видишь сам – тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам – кругом пятьсот, И к ночи точно занесет, Так заровняет, что не надо хоронить! Я отвечаю: «Не канючь!» А он – за гаечный за ключ И волком смотрит (он вообще бывает крут). А что ему – кругом пятьсот, И кто кого переживет, Тот и докажет, кто был прав, когда припрут! Он был мне больше, чем родня, Он ел с ладони у меня, А тут глядит в глаза – и холодно спине. А что ему – кругом пятьсот, И кто там после разберет, Что он забыл, кто я ему и кто он мне! И он ушел куда-то вбок. Я отпустил, а сам прилег, Мне снился сон про наш «веселый» наворот. Что будто вновь – кругом пятьсот, Ищу я выход из ворот, Но нет его, есть только вход, и то не тот. …Конец простой: пришел тягач, И там был трос, и там был врач, И МАЗ попал, куда положено ему. И он пришел – трясется весь… А там – опять далекий рейс, Я зла не помню – я опять его возьму! 1972«Мосты сгорели, углубились броды …»
Мосты сгорели, углубились броды, И тесно – видим только черепа, И перекрыты выходы и входы, И путь один – туда, куда толпа. И парами коней, привыкших к цугу, Наглядно доказав, как тесен мир, Толпа идет по замкнутому кругу — И круг велик, и сбит ориентир. Дождем размыта и грязна палитра, Врываются галопы в полонез, Нет запахов, полутонов и ритмов, И кислород из воздуха исчез. Ничье безумье или вдохновенье Круговращенье это не прервет. Но есть ли это – вечное движенье, Тот самый бесконечный путь вперед? 1972«Я прожил целый день в миру потустороннем…»
Я прожил целый день в миру потустороннем. Я бодро крикнул поутру: «Кого схороним?» Ответ мне был угрюм и тих: «Всё – блажь, бравада». – «Кого схороним?» – «Нет таких!» – «Ну и не надо!» А я сейчас затосковал, хоть час оттуда — Вот уж где истинный провал – ну, просто чудо! Я сам больной и кочевой, но побожился: «Вернусь, мол, ждите – ничего, что я зажился. Так снова предлагаю вам, пока не поздно: Хотите ли ко всем чертям – вполне серьезно? Где кровь из вены, как река, а не водица. Тем, у кого она жидка, тем – не годится. А там не нужно ни гроша – хоть век поститься. Живет там праведна душа – не тяготится. Там вход живучим воспрещен, как посторонним… Не выдержу, спрошу еще: «Кого схороним?». Зову туда, где благодать и нет предела. Никто не хочет умирать – такое дело. И отношение ко мне, ну… как к пройдохе. Все стали умники вдвойне в родной эпохе. Ну я согласен побренчим спектакль и тронем. Ведь никого же не съедим, а так… схороним. Ну, почему же все того, как в рот набрали? Там встретятся, кто и кого тогда забрали. Там этот, с бляхой на груди, и тих, и скромен. Таких, как он, там пруд пруди… Кого схороним? Кто задается, в лак его – чтоб хрен отпарить. Там этот с трудной… как его? Забыл. Вот память! Скажи-кась, милый человек, я, может, спутал? Какой сегодня нынче век? Какая смута? Я сам вообще-то костромской, а мать из Крыма. Так если бунт у вас какой, тогда – я мимо. А если нет, тогда еще всего два слова. У нас там траур запрещен, нет, честно слово! И там порядок – первый класс – глядеть приятно. А наказание: сейчас прогнать обратно. У нас границ не перечесть: беги – не тронем. Тут может быть евреи есть? Кого схороним? В двадцатом веке я? Эва! Да ну вас к шутам! Мне нужно в номер двадцать два. Лаврентий спутал». 1973Чужая колея
Сам виноват – и слезы лью, И охаю — Попал в чужую колею Глубокую. Я цели намечал свои На выбор сам, А вот теперь из колеи Не выбраться. Крутые скользкие края Имеет эта колея. Я кляну проложивших ее, — Скоро лопнет терпенье мое, И склоняю как школьник плохой, Колею – в колее, с колеей… Но почему неймется мне? Нахальный я! Условья, в общем, в колее Нормальные. Никто не стукнет, не притрет — Не жалуйся. Захочешь двигаться вперед? Пожалуйста. Отказа нет в еде-питье В уютной этой колее, И я живо себя убедил — Не один я в нее угодил. Так держать! Колесо в колесе! И доеду туда, куда все. Вот кто-то крикнул сам не свой: – А ну, пусти! — И начал спорить с колеей По глупости. Он в споре сжег запас до дна Тепла души, И полетели клапана И вкладыши. Но покорежил он края, И шире стала колея. Вдруг его обрывается след — Чудака оттащили в кювет, Чтоб не мог он нам, задним, мешать По чужой колее проезжать. Вот и ко мне пришла беда — Стартер заел. Теперь уж это не езда, А ерзанье. И надо б выйти, подтолкнуть, Но прыти нет — Авось подъедет кто-нибудь — И вытянет… Напрасно жду подмоги я, — Чужая эта колея. Расплеваться бы глиной и ржой С колеей этой самой чужой, — Тем, что я ее сам углубил, Я у задних надежду убил. Прошиб меня холодный пот До косточки, И я прошелся чуть вперед По досточке. Гляжу – размыли край ручьи Весенние, Там выезд есть из колеи — Спасение! Я грязью из-под шин плюю В чужую эту колею. Эй, вы, задние! Делай, как я. Это значит – не надо за мной. Колея эта – только моя! Выбирайтесь своей колеей. 1973«Жил-был один чудак…»
Жил-был один чудак, Он как-то раз, весной, Сказал чуть-чуть не так — И стал невыездной. А может, что-то спел не то По молодости лет, А может, выпил два по сто С кем выпивать не след. Письмо не отправлял Простым и заказным, И не подозревал, Что стал невыездным. Да и не собирался он На выезд никуда — К друзьям лишь ездил на поклон В другие города. На сплетни он махнул Свободною рукой, — Сидел и в ус не дул Чудак невыездной. С ним вежливы – на вы! – везде Без спущенных забрал, Подписку о невыезде Никто с него не брал. Он в карточной игре Зря гнался за игрой — Всегда без козырей И вечно «без одной». И жил он по пословице: Хоть эта масть не та — Все скоро обеззлобится И встанет на места. И он пером скрипел — То злее, то добрей, — Писал себе и пел Про всяческих зверей: Что, мол, приплыл гиппопотам С Египта в Сомали — Хотел обосноваться там, Но высох на мели. И строки те прочлись Кому-то поутру — И, видимо, пришлись С утра не по нутру. Должно быть, между строк прочли, Что бегемот – не тот, Что Сомали – не Сомали, Что все наоборот. Прочли, от сих до всех Разрыв и перерыв, Закрыли это в сейф, И все – на перерыв. Чудак пил кофе натощак — Такой же заводной, — Но для кого-то был чудак Уже невыездной. Пришла пора – а то Он век бы не узнал, Что он – совсем не то, За что себя считал. И после нескольких атак, В июльский летний зной Ему сказали: «Ты, чудак, Давно невыездной!» Другой бы, может, и запил, А он – махнул рукой! Что я? Когда и Пушкин был Всю жизнь невыездной! 1973«Штормит весь вечер, и, пока…»
Штормит весь вечер, и, пока Заплаты пенные латают Разорванные швы песка, Я наблюдаю свысока, Как волны головы ломают. И я сочувствую слегка Погибшим им – издалека. Я слышу хрип, и смертный стон, И ярость, что не уцелели, — Еще бы: взять такой разгон, Набраться сил, пробить заслон — И голову сломать у цели!.. И я сочувствую слегка Погибшим им – издалека. Ах, гривы белые судьбы! Пред смертью словно хорошея, По зову боевой трубы Взлетают волны на дыбы, Ломают выгнутые шеи. И мы сочувствуем слегка Погибшим им – издалека. А ветер снова в гребни бьет И гривы пенные ерошит. Волна барьера не возьмет — Ей кто-то ноги подсечет, И рухнет взмыленная лошадь. Мы посочувствуем слегка Погибшей ей – издалека. Придет и мой черед вослед — Мне колют в спину, гонят к краю. В душе – предчувствие как бред, Что надломлю себе хребет И тоже голову сломаю. Мне посочувствуют слегка, Погибшему, – издалека. Так многие сидят в веках На берегах – и наблюдают Внимательно и зорко, как Другие рядом на камнях Хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка Погибшим, но – издалека. Но в сумерках морского дна, В глубинах тайных кашалотьих Родится и взойдет одна Неимоверная волна, На берег ринется она И наблюдающих поглотит. Я посочувствую слегка Погибшим им – издалека. 1973Памятник
Я при жизни был рослым и стройным, Не боялся ни слова, ни пули И в обычные рамки не лез. Но с тех пор как считаюсь покойным, Охромили меня и согнули, К пьедесталу прибив ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса И не вытащить из постамента Ахиллесову эту пяту, И железные ребра каркаса Мертво схвачены слоем цемента, Только судороги по хребту. Я хвалился косою саженью — Нате смерьте! Я не знал, что подвергнусь суженью После смерти. Но в привычные рамки я всажен — На спор вбили, А косую неровную сажень Распрямили. И с меня, когда взял я да умер, Живо маску посмертную сняли Расторопные члены семьи, И не знаю, кто их надоумил, Только – с гипса вчистую стесали Азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, И считал я, что мне не грозило Оказаться всех мертвых мертвей. Но поверхность на слепке лоснилась, И могильною скукой сквозило Из беззубой улыбки моей. Я при жизни не клал тем, кто хищный, В пасти палец, Подойти ко мне с меркой обычной Опасались, Но по снятии маски посмертной — Тут же, в ванной, — Гробовщик подошел ко мне с меркой Деревянной… А потом, по прошествии года, — Как венец моего исправленья — Крепко сбитый литой монумент При огромном скопленье народа Открывали под бодрое пенье, Под мое – с намагниченных лент. Тишина надо мной раскололась — Из динамиков хлынули звуки, С крыш ударил направленный свет. Мой отчаяньем сорванный голос Современные средства науки Превратили в приятный фальцет. Я немел, в покрывало упрятан — Все там будем! Я орал в то же время кастратом В уши людям. Саван сдернули! Как я обужен — Нате смерьте! Неужели такой я вам нужен После смерти?! Командора шаги злы и гулки. Я решил: как во времени оном, Не пройтись ли, по плитам звеня? И шарахнулись толпы в проулки, Когда вырвал я ногу со стоном И осыпались камни с меня. Накренился я, гол, безобразен, Но и падая – вылез из кожи, Дотянулся железной клюкой, И, когда уже грохнулся наземь, Из разодранных рупоров все же Прохрипел я: «Похоже, живой!» И паденье меня не согнуло, Не сломало, И торчат мои острые скулы Из металла! Не сумел я, как было угодно — Шито-крыто. Я, напротив, ушел всенародно Из гранита. 1973Баллада о короткой шее
Полководец с шеею короткой Должен быть в любые времена: Чтобы грудь – почти от подбородка, От затылка – сразу чтоб спина. На короткой незаметной шее Голове удобнее сидеть, И душить значительно труднее, И арканом не за что задеть. Но они вытягивают шеи И встают на кончики носков: Чтобы видеть дальше и вернее — Нужно посмотреть поверх голов. Всё, теперь он темная лошадка, Даже если видел свет вдали, Поза неустойчива и шатка, И открыта шея для петли, И любая подлая ехидна Сосчитает позвонки на ней. Дальше видно, но – недальновидно Жить с открытой шеей меж людей. Но они вытягивают шеи И встают на кончики носков: Чтобы видеть дальше и вернее — Нужно посмотреть поверх голов. Голову задрав, плюешь в колодец, Сам себя готовишь на убой. Кстати, настоящий полководец Землю топчет полною стопой. В Азии приучены к засаде — Допустить не должен полубог, Чтоб его прокравшиеся сзади С первого удара сбили с ног. А они вытягивают шеи И встают на кончики носков: Чтобы видеть дальше и вернее — Нужно посмотреть поверх голов. Чуть отпустят нервы, как уздечка, Больше не держа и не храня, — Под ноги пойдет ему подсечка И на шею ляжет пятерня. Можно, правда, голову тоскливо Спрятать в плечи и не рисковать, Только – это очень некрасиво Втянутою голову держать. И они вытягивают шеи И встают на кончики носков: Чтобы видеть дальше и вернее — Нужно посмотреть поверх голов. Вот какую притчу о Востоке Рассказал мне старый аксакал. «Даже сказки здесь – и те жестоки», — Думал я и шею измерял. 1973«Я бодрствую, но вещий сон мне снится…»
Я бодрствую, но вещий сон мне снится. Пилюли пью – надеюсь, что усну. Не привыкать глотать мне горькую слюну — Организации, инстанции и лица Мне объявили явную войну За то, что я нарушил тишину, За то, что я хриплю на всю страну, Чтоб доказать – я в колесе не спица, За то, что мне неймется и не спится, За то, что в передачах заграница Передает мою блатную старину, Считая своим долгом извиниться: – Мы сами, без согласья… Ну и ну! За что еще? Быть может, за жену — Что, мол, не мог на нашей подданной жениться?! Что, мол, упрямо лезу в капстрану И очень не хочу идти ко дну, Что песню написал, и не одну, Про то, как мы когда-то били фрица, Про рядового, что на дзот валится, А сам – ни сном ни духом про войну. Кричат, что я у них украл луну И что-нибудь еще украсть не премину. И небылицу догоняет небылица. Не спится мне… Ну, как же мне не спиться?! Нет! Не сопьюсь! Я руку протяну И завещание крестом перечеркну, И сам я не забуду осениться, И песню напишу, и не одну, И в песне той кого-то прокляну, Но в пояс не забуду поклониться Всем тем, кто написал, чтоб я не смел ложиться! Пусть чаша горькая – я их не обману. 1973Прерванный полет
Кто-то высмотрел плод, что неспел, неспел, Потрусили за ствол – он упал, упал… Вот вам песня о том, кто не спел, не спел И, что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой нелады, нелады И со случаем плохи дела, дела — А тугая струна на лады, на лады С незаметным изъяном легла. Он начал робко – с ноты «до», Но не допел ее, не до… Не дозвучал его аккорд, аккорд И никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот Мышей ловил… Смешно, не правда ли, смешно! Смешно! А он шутил – недошутил, Недораспробовал вино И даже недопригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, Неуверенно и не спеша, не спеша. Словно капельки пота из пор, из пор, Из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре, Еле-еле, едва приступил, Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до, Но не добрался он, не до… Ни до догадки, ни до дна, до дна, Не докопался до глубин И ту, которая ОДНА, Недолюбил, недолюбил, недолюбил, недолюбил! Смешно, не правда ли, смешно, смешно… А он шутил – недошутил? Осталось недорешено Все то, что он недорешил. Ни единою буквой не лгу, не лгу, Он был чистого слога слуга, слуга. Он писал ей стихи на снегу, на снегу — К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад И свобода писать на снегу — И большие снежинки, и град Он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо Он не добрался и не до… Не добежал бегун-беглец, беглец, Не долетел, не доскакал, А звездный знак его – Телец — Холодный Млечный Путь лакал. Смешно, не правда ли, смешно, смешно, Когда секунд недостает, — Недостающее звено И недолет, и недолет, и недолет, и недолет?! Смешно, не правда ли? Ну вот! И вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица влет — По чьей вине, по чьей вине, по чьей вине? 1973«Люблю тебя сейчас…»
М.В.
Люблю тебя сейчас Не тайно – напоказ. Не «после» и не «до» в лучах твоих сгораю. Навзрыд или смеясь, Но я люблю сейчас, А в прошлом – не хочу, а в будущем – не знаю. В прошедшем «я любил» — Печальнее могил, — Все нежное во мне бескрылит и стреножит, Хотя поэт поэтов говорил: «Я вас любил, любовь еще, быть может…» Так говорят о брошенном, отцветшем — И в этом жалость есть и снисходительность, Как к свергнутому с трона королю. Есть в этом сожаленье об ушедшем Стремленьи, где утеряна стремительность, И как бы недоверье к «я люблю». Люблю тебя теперь Без мер и без потерь, Мой век стоит сейчас — Я вен не перережу! Во время, в продолжение, теперь Я прошлым не дышу и будущим не брежу. Приду и вброд, и вплавь К тебе – хоть обезглавь! — С цепями на ногах и с гирями по пуду. Ты только по ошибке не заставь, Чтоб после «я люблю» добавил я, что «буду». Есть горечь в этом «буду», как ни странно, Подделанная подпись, червоточина И лаз для отступленья, про запас, Бесцветный яд на самом дне стакана. И словно настоящему пощечина — Сомненье в том, что «я люблю» – сейчас. Смотрю французский сон С обилием времен, Где в будущем – не так, и в прошлом – по-другому. К позорному столбу я пригвожден, К барьеру вызван я языковому. Ах, разность в языках! Не положенье – крах. Но выход мы вдвоем поищем и обрящем. Люблю тебя и в сложных временах — И в будущем, и в прошлом настоящем!.. 1973Смотрины
В. Золотухину и Б. Можаеву
Там у соседей – пир горой, И гость – солидный, налитой, Ну а хозяйка – хвост трубой — Идет к подвалам: В замок врезаются ключи, И вынимаются харчи; И с тягой ладится в печи, И с поддувалом. А у меня – сплошные передряги: То в огороде недород, то скот падет, То печь чадит от нехорошей тяги, А то щеку на сторону ведет. Там у соседа мясо в щах — На всю деревню хруст в хрящах, И дочь-невеста вся в прыщах — Дозрела, значит. Смотрины, стало быть, у них — На сто рублей гостей одних, И даже тощенький жених Поет и скачет. А у меня цепные псы взбесились — Средь ночи с лая перешли на вой, И на ногах моих мозоли прохудились От топотни по комнате пустой. Ох, у соседа быстро пьют! А что не пить, когда дают? А что не петь, когда уют И не накладно? А тут, вон, баба на сносях, Гусей некормленных косяк… Да дело, в общем, не в гусях, А все неладно. Тут у меня постены появились, Я их гоню и так и сяк – они опять, Да в неудобном месте чирей вылез — Пора пахать, а тут – ни сесть ни встать. Сосед маленочка прислал — Он от щедрот меня позвал, Ну, я, понятно, отказал, А он – сначала. Должно, литровую огрел — Ну и, конечно, подобрел… И я пошел – попил, поел. Не полегчало. И посредине этого разгула Я пошептал на ухо жениху — И жениха, как будто ветром, сдуло, Невеста вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, Что основной закон блюдет: Мол, кто не ест, тот и не пьет, — И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, Но тут малец с поправкой влез: «Кто не работает – не ест, Ты спутал, батя!» А я сидел с засаленною трешкой, Чтоб завтра гнать похмелие мое, В обнимочку с обшарпанной гармошкой — Меня и пригласили за нее. Сосед другую литру съел — И осовел, и опсовел, Он захотел, чтоб я попел — Зря, что ль, поили?! Меня схватили за бока Два здоровенных паренька. «Играй, – говорят, – паскуда, пой, пока Не удавили!» Уже дошло веселие до точки, Уже невеста брагу пьет тайком, — И я запел про светлые денечки, «Когда служил на почте ямщиком». Потом еще была уха И заливные потроха, Потом поймали жениха И долго били, Потом пошли плясать в избе, Потом дрались не по злобе, — И все хорошее в себе Доистребили. А я стонал в углу болотной выпью, Набычась, а потом и подбочась, — И думал я: «А с кем я завтра выпью Из тех, с которыми я пью сейчас?!» Наутро там всегда покой, И хлебный мякиш за щекой, И без похмелья перепой, Еды – навалом, Никто не лается в сердцах, Собачка мается в сенцах, И печка – в синих изразцах И с поддувалом. А у меня – и в ясную погоду Хмарь на душе, которая горит, Хлебаю я колодезную воду, Чиню гармошку, а жена корит. 1973«Я из дела ушел, из такого хорошего дела…»
Я из дела ушел, из такого хорошего дела! Ничего не унес – отвалился в чем мать родила. Не затем, что приспичило мне, – просто время приспело, Из-за синей горы понагнало другие дела. Мы многое из книжек узнаем, А истины передают изустно: «Пророков нет в отечестве своем, — Да и в других отечествах – не густо». Я не продал друзей, без меня даже выиграл кто-то. Лишь подвел одного, ненадолго, – сочтемся потом. Я из дела исчез, – не оставил ни крови, ни пота, И оно без меня покатилось своим чередом. Незаменимых нет, и пропоем Заупокой ушедшим – будь им пусто. Пророков нет в отечестве своем, — Да и в других отечествах – не густо… Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю Получили лишь те, кому я б ее отдал и так. Я по скользкому полу иду, каблуки канифолю, Подымаюсь по лестнице и прохожу на чердак. Пророков нет – не сыщешь днем с огнем, — Ушли и Магомет, и Заратустра. Пророков нет в отечестве своем, — Да и в других отечествах – не густо… А внизу говорят – от добра ли, от зла ли, не знаю: «Хорошо, что ушел, – без него стало дело верней!» Паутину в углу с образов я ногтями сдираю, Тороплюсь, потому что за домом седлают коней. Открылся лик – я стал к нему лицом, И он поведал мне светло и грустно: «Пророков нет в отечестве своем, Но и в других отечествах – не густо». Я взлетаю в седло, я врастаю в коня – тело в тело, — Конь падет подо мной, – но и я закусил удила! Я из дела ушел, из такого хорошего дела, Из-за синей горы понагнало другие дела. Скачу – хрустят колосья под конем, Но ясно различаю из-за хруста: «Пророков нет в отечестве своем, — Но и в других отечествах – не густо». 1973Баллада об уходе в рай
Вот твой билет, вот твой вагон — Всё в лучшем виде: одному тебе дано В цветном раю увидеть сон — Трехвековое непрерывное кино. Всё позади – уже сняты Все отпечатки, контрабанды не берем; Как херувим стерилен ты, А класс второй – не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, Уходит поезд в небеса – счастливый путь! Ах! как нам хочется, как всем нам хочется Не умереть, а именно уснуть. Земной перрон… Не унывай! И не кричи – для наших воплей он оглох. Один из нас уехал в рай, Он встретит Бога, если есть какой-то Бог. Он передаст Ему привет, А позабудет – ничего, переживем: Осталось нам немного лет, Мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, Уходит поезд в небеса – счастливый путь! Ах! как нам хочется, как всем нам хочется Не умереть, а именно уснуть. Не всем дано поспать в раю, Но кое-что мы здесь успеем натворить: Подраться, спеть… Вот я – пою, Другие – любят, третьи – думают любить. Уйдут, как мы, в ничто без сна И сыновья, и внуки внуков в трех веках… Не дай Господь, чтобы война, А то мы правнуков оставим в дураках. Вот и сбывается все, что пророчится, Уходит поезд в небеса – счастливый путь! Ах! как нам хочется, как всем нам хочется Не умереть, а именно уснуть. Тебе плевать, и хоть бы хны: Лежишь, миляга, принимаешь вечный кайф. Что до меня – такой цены Я б не дал даже за хороший книжный шкаф. Разбудит вас какой-то тип И впустит в мир, где в прошлом войны, вонь и рак, Где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Ну а пока – звенит звонок. Счастливый путь! Храни тебя от всяких бед!.. И если там и вправду Бог, Ты все же вспомни – передай Ему привет. 1973Кто за чем бежит
На дистанции – четверка первачей, Каждый думает, что он-то побойчей, Каждый думает, что меньше всех устал, Каждый хочет на высокий пьедестал. Кто-то кровью холодней, кто – горячей, Все наслушались напутственных речей, Каждый съел примерно поровну харчей, Но судья не зафиксирует ничьей. А борьба на всем пути — В общем, равная почти. «Э-э! Расскажите, как идут, бога ради, а?» — «Не мешайте! Телевиденье тут вместе с радио! Да нет особых новостей – все ровнехонько, Но зато накал страстей – о-хо-хо какой!» Номер первый рвет подметки как герой, Как под гору катит, хочет под горой Он в победном ореоле и в пылу Твердой поступью приблизиться к котлу. А почему высоких мыслей не имел? Да потому что в детстве мало каши ел, Ага, голодал он в этом детстве, не дерзал, Он, вон, успевал переодеться – и в спортзал. Ну что ж, идеи нам близки – первым лучшие куски, А вторым – чего уж тут, он все выверил — В утешение дадут кости с ливером. Номер два далек от плотских тех утех, Он из сытых, он из этих, он из тех. Он надеется на славу, на успех — И уж ноги задирает выше всех. Ох, наклон на вираже – бетон у щек! Краше некуда уже, а он – еще! Он стратег, он даже тактик – словом, спец; У него сила, воля плюс характер – молодец! Он четок, собран, напряжен И не лезет на рожон! Этот будет выступать на Салониках И детишков поучать в кинохрониках, И соперничать с Пеле в закаленности, И являть пример целеустремленности! Номер третий убелен и умудрен, Он всегда – второй, надежный эшелон. Вероятно, кто-то в первом заболел, Ну а может, его тренер пожалел. И назойливо в ушах звенит струна: «У тебя последний шанс, эх, старина!» Он в азарте, как мальчишка, как шпана, Нужен спурт – иначе крышка и хана: Переходит сразу он в задний старенький вагон, Где былые имена – предынфарктные, Где местам одна цена – все плацкартные. А четвертый – тот, что крайний, боковой, — Так бежит – ни для чего, ни для кого: То приблизится – мол, пятки оттопчу, То отстанет, постоит – мол, так хочу. Не проглотит первый лакомый кусок, Не надеть второму лавровый венок, Ну а третьему – ползти На запасные пути… Нет, товарищи, сколько все-таки систем в беге нынешнем! Он вдруг взял да сбавил темп перед финишем, Майку сбросил – вот те на! – не противно ли? Товарищи, поведенье бегуна – неспортивное! На дистанции – четверка первачей, Злых и добрых, бескорыстных и рвачей. Кто из них что исповедует, кто чей? Отделяются лопатки от плечей — И летит, летит четверка первачей. 1974«Водой наполненные горсти…»
Водой наполненные горсти Ко рту спешили поднести — Впрок пили воду черногорцы И жили впрок – до тридцати. А умирать почетно было — Средь пуль и матовых клинков, И уносить с собой в могилу Двух-трех врагов, двух-трех врагов. Пока курок в ружье не стерся, Стрелял и с седел, и с колен. И в плен не брали черногорца — Он просто не сдавался в плен. А им прожить хотелось до ста, До жизни жадным, – век с лихвой В краю, где гор и неба вдосталь И моря – тоже с головой. Шесть сотен тысяч равных порций Воды живой в одной горсти… Но проживали черногорцы Свой долгий век до тридцати. И жены их водой помянут, И прячут их детей в горах До той поры, пока не станут Держать оружие в руках. Беззвучно надевали траур, И заливали очаги, И молча лили слёзы в траву, Чтоб не услышали враги. Чернели женщины от горя, Как плодородная земля, За ними вслед чернели горы, Себя огнём испепеля. То было истинное мщенье — Бессмысленно себя не жгут — Людей и гор самосожженье Как несогласие и бунт. И пять веков, как божьи кары, Как мести сына за отца, Пылали горные пожары И черногорские сердца. Цари менялись, царедворцы, Но смерть в бою – всегда в чести. Не уважали черногорцы Проживших больше тридцати. Мне одного рожденья мало — Расти бы мне из двух корней! Жаль, Черногория не стала Второю родиной моей. 1974Песня про Джеймса Бонда, агента 07
Себя от надоевшей славы спрятав, В одном из их Соединенных Штатов, В глуши и в дебрях чуждых нам систем Жил-был известный больше, чем Иуда, Живое порожденье Голливуда — Артист, Джеймс Бонд, шпион, агент ноль семь. Был этот самый парень — Звезда ни дать ни взять — Настолько популярен, Что страшно рассказать. Да шуточное ль дело — Почти что полубог! Известный всем Марчелло В сравненьи с им – щенок. Он на своей на загородной вилле Скрывался, чтоб его не подловили, И умирал от скуки и тоски. А то, бывало, встретят у квартиры — Набросятся и рвут на сувениры Последние штаны и пиджаки. Вот так и жил, как в клетке, Ну а в кино – потел: Различные разведки Дурачил как хотел. То ходит в чьей-то шкуре, То в пепельнице спит, А то на абажуре Кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого – Джеймс Бонда — Товарищи из Госафильмофонда В совместную картину к нам зовут. Чтоб граждане его не узнавали, Он к нам решил приехать в одеяле: Мол, все равно, говорит, на клочья разорвут. Вы посудите сами: На проводах в ЮСА Все хиппи с волосами Побрили волоса; С него сорвали свитер, Отгрызли вмиг часы И растащили плиты Прям со взлетной полосы. И вот в Москве нисходит он по трапу, Дает доллар носильщику на лапу И прикрывает личность на ходу. Вдруг ктой-то шасть на «газике» к агенту, И – киноленту вместо документу, Что, мол, свои, мол, хау ду ю ду! Огромная колонна Стоит сама в себе, Но встречает чемпиона По стендовой стрельбе. Попал во все, что было, Тот выстрелом с руки — По нём ну все с ума сходило, И тоже мужики. Довольный, что его не узнавали, Он одеяло снял в «Национале», Но, несмотря на личность и акцент, Его там обозвали оборванцем, Который притворялся иностранцем И заявлял, что, дескать, он агент. Швейцар его – за ворот. Ну, тут решил открыться он, Говорит: «Ноль семь я!» – «Вам межгород — Так надо взять талон!» Во рту скопилась пена И горькая слюна, И в позе супермена Он уселся у окна. Но вот киношестерки прибежали И недоразумение замяли, И разменяли фунты на рубли. …Уборщица ворчала: «Вот же пройда! Подумаешь – агентишка какой-то! У нас в девятом – принц из Сомали!» 1974«Подумаешь – с женой не очень ладно…»
Подумаешь – с женой не очень ладно. Подумаешь – неважно с головой. Подумаешь – ограбили в парадном. Скажи еще спасибо, что живой. Ну что ж такого – мучает саркома. Ну что ж такого – начался запой. Ну что ж такого – выгнали из дома. Скажи еще спасибо, что живой. Плевать – партнер по покеру дал дуба. Плевать, что снится ночью домовой. Плевать – соседи выбили два зуба. Скажи еще спасибо, что живой. Да ладно – ну, уснул вчера в опилках. Да ладно – в челюсть врезали ногой. Да ладно – потащили на носилках. Скажи еще спасибо, что живой. Да, правда – тот, кто хочет, тот и может. Да, правда – сам виновен, бог со мной! Да, правда. Но одно меня тревожит — Кому сказать спасибо, что живой? 1974Очи черные
1. Погоня
Во хмелю слегка Лесом правил я. Не устал пока — Пел за здравие, А умел я петь Песни вздорные: «Как любил я вас, Очи черные…» То плелись, то неслись, то трусили рысцой, И болотную слизь конь швырял мне в лицо. Только – я проглочу вместе с грязью слюну, Штофу горло скручу и опять затяну: «Очи черные! Как любил я вас…» Но прикончил я То, что впрок припас, Головой тряхнул, Чтоб слетела блажь, И вокруг взглянул — И присвистнул аж: Лес стеной впереди – не пускает стена, Кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал – не видать ни рожна! Колют иглы меня, до костей достают. Коренной ты мой, Выручай же, брат! Ты куда, родной, — Почему назад?! Дождь – как яд с ветвей — Недобром пропах. Пристяжной моей Волк нырнул под пах. Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза! Ведь погибель пришла, а бежать – не суметь: Из колоды моей утащили туза, Да такого туза, без которого – смерть! Я ору волкам: «Побери вас прах!..» А коней в бока Подгоняет страх. Шевелю кнутом — Бью крученые И ору притом: «Очи черные!..» Храп, да топот, да лязг, да лихой перепляс — Бубенцы плясовую играют с дуги. Ах вы, кони мои, погублю же я вас! Выносите, друзья, выносите, враги! …От погони той Даже хмель иссяк. Мы на кряж крутой — На одних осях, В хлопьях пены мы — Струи в кряж лились; Отдышались, отхрипели Да откашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, Поклонился в копыта, до самой земли, Сбросил с воза манатки, повел в поводу… Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду! Сколько кануло, сколько схлынуло! Жизнь кидала меня – не докинула! Может, спел про вас неумело я, Очи черные, скатерть белая?!2. Старый дом
Что за дом притих, Погружен во мрак, На семи лихих Продувных ветрах, Всеми окнами Обратясь во мрак, А воротами — На проезжий тракт? Ох, устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги! Никого – только тень промелькнула в сенях Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь, как Все равно в кабак, А народишко: Каждый третий – враг. Воротят скулу — Гость непрошеный! Образа в углу — И те перекошены. И затеялся смутный, чудной разговор, Кто-то песню стонал да гармошку терзал, И припадочный малый – придурок и вор — Мне тайком из-под скатерти нож показал. «Кто ответит мне — Что за дом такой, Почему – во тьме, Как барак чумной? Свет лампад погас, Воздух вылился… Али жить у вас Разучилися? Двери настежь у вас, а душа взаперти. Кто хозяином здесь? Напоил бы вином». А в ответ мне: «Видать, был ты долго в пути И людей позабыл – мы всегда так живем: Траву кушаем — Век на щавеле, Скисли душами, Опрыщавели. Да еще вином Много тешились — Разоряли дом, Дрались, вешались». — «Я коней заморил, от волков ускакал. Укажите мне край, где светло от лампад. Укажите мне место, какое искал, — Где поют, а не плачут, где пол не покат». — «О таких домах Не слыхали мы, Долго жить впотьмах Привыкали мы. Испокону мы — В зле да шепоте, Под иконами В черной копоти». И из смрада, где косо висят образа, Я башку очертя шел, свободный от пут, Куда ноги вели да глядели глаза, Где нестранные люди как люди живут. …Сколько кануло, сколько схлынуло! Жизнь кидала меня – не докинула. Может, спел про вас неумело я, Очи черные, скатерть белая?! 1974Баллада о времени
Замок временем срыт и укутан, укрыт В нежный плед из зеленых побегов, Но… развяжет язык молчаливый гранит — И холодное прошлое заговорит О походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло: Оторвать от него верхний пласт Или взять его крепче за горло — И оно свои тайны отдаст. Упадут сто замков, и спадут сто оков, И сойдут сто потов с целой груды веков, И польются легенды из сотен стихов Про турниры, осады, про вольных стрелков. Ты к знакомым мелодиям ухо готовь И гляди понимающим оком, Потому что любовь — это вечно любовь Даже в будущем вашем далеком. Звонко лопалась сталь под напором меча, Тетива от натуги дымилась, Смерть на копьях сидела, утробно урча, В грязь валились враги, о пощаде крича, Победившим сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, В доброте сохраняли сердца, Защитив свое доброе имя От заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил удила И рука на копье поудобней легла, Хорошо, если знаешь, откуда стрела, Хуже, если по-подлому, из-за угла. Как у вас там с мерзавцами? Бьют? Поделом! Ведьмы вас не пугают шабашем? Но… не правда ли, зло называется злом Даже там – в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена Трус, предатель – всегда презираем, Враг есть враг, и война все равно есть война, И темница тесна, и свобода одна — И всегда на нее уповаем. Время эти понятья не стерло, Нужно только поднять верхний пласт — И дымящейся кровью из горла Чувства вечные хлынут на нас. Ныне, присно, во веки веков, старина, — И цена есть цена, и вина есть вина, И всегда хорошо, если честь спасена, Если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, Саги, сказки из прошлого тащим, Потому что добро остается добром — В прошлом, будущем и настоящем! 1975«Препинаний и букв чародей…»
Препинаний и букв чародей, Лиходей непечатного слова Трал украл для волшебного лова Рифм и наоборотных идей. Мы, неуклюжие, мы, горемычные, Идем и падаем по всей России… Придут другие, еще лиричнее, Но это будут не мы – другие. Автогонщик, бурлак и ковбой, Презирающий гладь плоскогорий, В мир реальнейших фантасмагорий Первым в связке ведешь за собой! Стонешь ты эти горькие, личные, В мире лучшие строки! Какие? Придут другие, еще лиричнее, Но это будут не мы – другие. Пришли дотошные «немыдругие», Они – хорошие, стихи – плохие. 1975Баллада о любви
Когда вода Всемирного потопа Вернулась вновь в границы берегов, Из пены уходящего потока На сушу тихо выбралась Любовь — И растворилась в воздухе до срока, А срока было – сорок сороков… И чудаки – еще такие есть! — Вдыхают полной грудью эту смесь И ни наград не ждут, ни наказанья, И, думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в такт Такого же неровного дыханья. Только чувству, словно кораблю, Долго оставаться на плаву, Прежде чем узнать, что «я люблю» — То же, что «дышу» или «живу». И вдоволь будет странствий и скитаний: Страна Любви – великая страна! И с рыцарей своих для испытаний Все строже станет спрашивать она: Потребует разлук и расстояний, Лишит покоя, отдыха и сна… Но вспять безумцев не поворотить — Они уже согласны заплатить: Любой ценой – и жизнью бы рискнули, — Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить Волшебную невидимую нить, Которую меж ними протянули. Свежий ветер избранных пьянил, С ног сбивал, из мертвых воскрешал, Потому что если не любил — Значит и не жил, и не дышал! Но многих захлебнувшихся любовью Не докричишься – сколько ни зови, Им счет ведут молва и пустословье, Но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье Погибших от невиданной любви… Их голосам всегда сливаться в такт, И душам их дано бродить в цветах, И вечностью дышать в одно дыханье, И встретиться со вздохом на устах На хрупких переправах и мостах, На узких перекрестках мирозданья. Я поля влюбленным постелю — Пусть поют во сне и наяву!.. Я дышу, и значит – я люблю! Я люблю, и значит – я живу! 1975Баллада о борьбе
Средь оплывших свечей и вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден Их возраст и быт — И дрались мы до ссадин, До смертных обид, Но одежды латали Нам матери в срок — Мы же книги глотали, Пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, И сосало под ложечкой сладко от фраз, И кружил наши головы запах борьбы, Со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь Мы, не знавшие войн, За воинственный клич Принимавшие вой, Тайну слова «приказ», Назначенье границ, Смысл атаки и лязг Боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут Столько пищи для маленьких наших мозгов! Мы на роли предателей, трусов, иуд В детских играх своих назначали врагов. И злодея следам Не давали остыть, И прекраснейших дам Обещали любить; И, друзей успокоив И ближних любя, Мы на роли героев Вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать: Краткий век у забав – столько боли вокруг! Попытайся ладони у мертвых разжать И оружье принять из натруженных рук. Испытай, завладев Еще теплым мечом И доспехи надев, — Что почем, что почем! Разберись, кто ты: трус Иль избранник судьбы — И попробуй на вкус Настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг И над первой потерей ты взвоешь, скорбя, И когда ты без кожи останешься вдруг Оттого, что убили его – не тебя, Ты поймешь, что узнал, Отличил, отыскал По оскалу забрал — Это смерти оскал! Ложь и зло – погляди, Как их лица грубы, И всегда позади Воронье и гробы! Если мяса с ножа Ты не ел ни куска, Если руки сложа Наблюдал свысока, А в борьбу не вступил С подлецом, с палачом, — Значит в жизни ты был Ни при чем, ни при чем! Если, путь прорубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на ус намотал, Если в жарком бою испытал что почем, — Значит, нужные книги ты в детстве читал! 1975Купола
Михаилу Шемякину
«Как засмотрится мне нынче, как задышится?! Воздух крут перед грозой, крут да вязок. Что споется мне сегодня, что услышится? Птицы вещие поют – да все из сказок. Птица сирин мне радостно скалится, Веселит, зазывает из гнезд, А напротив тоскует-печалится, Травит душу чудной алконост. Словно семь заветных струн Зазвенели в свой черед — Это птица гамаюн Надежду подает! В синем небе, колокольнями проколотом, Медный колокол, медный колокол То ль возрадовался, то ли осерчал… Купола в России кроют чистым золотом — Чтобы чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою, Пред великою да сказочной страною — Перед солоно- да горько-кисло-сладкою, Голубою, родниковою, ржаною. Грязью чавкая жирной да ржавою, Вязнут лошади по стремена, Но влекут меня сонной державою, Что раскисла, опухла от сна. Словно семь богатых лун На пути моем встает — То мне птица гамаюн Надежду подает! Душу, сбитую да стертую утратами, Душу, сбитую перекатами, — Если до крови лоскут истончал, — Залатаю золотыми я заплатами, Чтобы чаще Господь замечал! 1975Баллада о вольных стрелках
Если рыщут за твоею Непокорной головой, Чтоб петлей худую шею Сделать более худой, — Нет надежнее приюта: Скройся в лес – не пропадешь, — Если продан ты кому-то С потрохами ни за грош. Бедняки и бедолаги, Презирая жизнь слуги, И бездомные бродяги, У кого одни долги, — Все, кто загнан, неприкаян, В этот вольный лес бегут, Потому что здесь хозяин — Славный парень Робин Гуд! Здесь с полслова понимают, Не боятся острых слов, Здесь с почетом принимают Оторви-сорвиголов. И скрываются до срока Даже рыцари в лесах: Кто без страха и упрека — Тот всегда не при деньгах! Знают все оленьи тропы, Словно линии руки, В прошлом – слуги и холопы, Ныне – вольные стрелки. Здесь того, кто все теряет, Защитят и сберегут: По лесной стране гуляет Славный парень Робин Гуд! И живут да поживают Всем запретам вопреки, И ничуть не унывают Эти вольные стрелки. Спят, укрывшись звездным небом, Мох под ребра подложив. Им какой бы холод ни был, Жив – и славно, если жив! Но вздыхают от разлуки: Где-то дом и клок земли — Да поглаживают луки, Чтоб в бою не подвели. И стрелков не сыщешь лучших!.. Что же завтра? Где их ждут? Скажет первый в мире лучник — Славный парень Робин Гуд! 1975Гербарий
Чужие карбонарии, Закушав водку килечкой, Спешат в свои подполия Налаживать борьбу. А я лежу в гербарии, К доске пришпилен шпилечкой, И пальцами до боли я По дереву скребу. Корячусь я на гвоздике, Но не меняю позы. Кругом жуки-навозники И крупные стрекозы, По детству мне знакомые — Ловил я их, копал, Давил, но в насекомые Я сам теперь попал. Под всеми экспонатами — Эмалевые планочки, Всё строго по-научному — Указан класс и вид… Я с этими ребятами Лежал в стеклянной баночке, Дрались мы – это к лучшему: Узнал, кто ядовит. Я представляю мысленно Себя в большой постели, Но подо мной написано: «Невиданный доселе»… Я гомо был читающий, Я сапиенсом был, Мой класс – млекопитающий, А вид – уже забыл. В лицо ль мне дуло, в спину ли, В бушлате или в робе я — Стремился, кровью крашенный, Обратно к шалашу. И – на тебе! – задвинули В наглядные пособия — Я, злой и ошарашенный, На стеночке вишу. Оформлен, как на выданье, Стыжусь, как ученица,— Жужжат шмели солидные, Что надо подчиниться, А бабочки хихикают На странный экспонат, Личинки мерзко хмыкают, И куколки язвят. Ко мне с опаской движутся Мои собратья прежние — Двуногие, разумные, Два пишут – три в уме. Они пропишут ижицу — Глаза у них не нежные, Один брезгливо ткнул в меня И вывел резюме: «С ним не были налажены Контакты, и не ждем их,— Вот потому он, гражданы, Лежит у насекомых. Мышленье в ём не развито, С ним вечное ЧП, А здесь он может разве что Вертеться на пупе». Берут они не круто ли?! Меня нашли не во поле! Ошибка это глупая — Увидится изъян, Накажут тех, кто спутали, Заставят, чтоб откнопили, И попаду в подгруппу я Хотя бы обезьян. Но не ошибка – акция Свершилась надо мною, Чтоб начал пресмыкаться я Вниз пузом, вверх спиною. Вот и лежу, расхристанный, Разыгранный вничью, Намеренно причисленный К ползучему жучью. А может, все провертится И вскорости поправится… В конце концов, ведь досочка — Не плаха, говорят, Все слюбится да стерпится: Мне даже стала нравиться Молоденькая осочка И кокон-шелкопряд. А мне приятно с осами — От них не пахнет псиной, Средь них бывают особи И с талией осиной. Да кстати, и из коконов Родится что-нибудь Такое, что из локонов И что имеет грудь… Червяк со мной не кланится, А оводы со слепнями Питают отвращение К навозной голытьбе, Чванливые созданьица Довольствуются сплетнями, А мне нужны общения С подобными себе! Пригрел сверчка-дистрофика — Блоха сболтнула, гнида,— И глядь, два тертых клопика Из третьего подвида. Сверчок полузадушенный Вполсилы свиристел, Но за покой нарушенный На два гвоздочка сел. Паук на мозг мой зарится, Клопы кишат – нет роздыха, Невестой хороводится Красивая оса… Пусть что-нибудь заварится, А там – хоть на три гвоздика, А с трех гвоздей, как водится, — Дорога в небеса. В мозгу моем нахмуренном Страх льется по морщинам: Мне станет шершень шурином — А кто мне станет сыном?.. Я не желаю, право же, Чтоб трутень был мне тесть! Пора уже, пора уже Напрячься и воскресть! Когда в живых нас тыкали Булавочками колкими, Махали пчелы крыльями, Пищали муравьи. Мы вместе горе мыкали — Все проткнуты иголками, Забудем же, кем были мы, Товарищи мои! Заносчивый немного я, Но – в горле горечь комом: Поймите, я, двуногое, Попало к насекомым! Но кто спасет нас, выручит, Кто снимет нас с доски?! За мною – прочь со шпилечек, Товарищи жуки! И, как всегда в истории, Мы разом спины выгнули; Хоть осы и гундосили, Но – кто силен, тот прав. Мы с нашей территории Клопов сначала выгнали И паучишек сбросили За старый книжный шкаф. Скандал в мозгах уляжется, Зато у нас все дома И поживают, кажется, Уже не насекомо. А я – я тешусь ванночкой Без всяких там обид… Жаль, над моею планочкой Другой уже прибит. 1976«Наши помехи эпохе под стать…»
Наши помехи эпохе под стать, Все наши страхи причинны. Очень собаки нам стали мешать — Эти бездомные псины. Бред, говоришь… Но судить потерпи — Не обойдешься без бредней. Что говорить – на надежной цепи Пес несравненно безвредней. Право, с ума посходили не все — Это не бредни, не басни: Если хороший ошейник на псе — Это и псу безопасней. Едешь хозяином ты вдоль земли — Скажем, в Великие Луки, — А под колеса снуют кобели, И попадаются суки. Их на дороге размазавши в слизь, Что вы за чушь создадите? Вы поощряете сюрреализм, Милый товарищ водитель, Дрожь проберет от такого пятна! Дворников следом когорты Будут весь день соскребать с полотна Мрачные те натюрморты. Пса без намордника чуть раздразни, Он только челюстью лязгни — Вот и кончай свои грешные дни В приступе водобоязни! Не напасутся и тоненьких свеч За упокой наши дьяки… Все же намордник – прекрасная вещь, Ежели он на собаке! Мы и собаки – легли на весы! Всем нам спокойствия нету, Если бездомные шалые псы Бродят свободно по свету. И кругозор крайне узок у вас, Если вас цирк не пленяет: Пляшут собачки под музыку вальс — Прямо слеза прошибает! Гордо ступают, вселяя испуг, Страшные пасти раззявив, — Будто у них даже больше заслуг, Нежели чем у хозяев. Этих собак не заманишь во двор — Им отдохнуть бы, поспать бы. Стыд просто им и семейный позор — Эти собачие свадьбы. Или – на выставке псы, например, Даже хватают медали, Пусть не за доблесть, а за экстерьер, Но награждают – беда ли? Эти хозяева славно живут, Не получая получку, — Слышал, огромные деньги гребут За… извините – за случку. Значит, к чему это я говорю, Что мне, седому, неймется? Очень я, граждане, благодарю Всех, кто решили бороться! Вон, притаившись в ночные часы, Из подворотен укромных Лают в свое удовольствие псы — Не приручить их, никчемных. Надо с бездомностью этой кончать, С неприрученностью – тоже. Слава же собаколовам! Качать!.. Боже! Прости меня, Боже! Некуда деться бездомному псу? Места не хватит собакам? Это – при том, что мы строим вовсю, С невероятным размахом?! 1976Две судьбы
Жил я славно в первой трети Двадцать лет на белом свете – по влечению, Жил бездумно, но при деле, Плыл куда глаза глядели – по течению. Думал: вот она, награда, — Ведь ни веслами не надо, ни ладонями. Комары, слепни да осы Донимали, кровососы, да не доняли. Слышал, с берега вначале Мне о помощи кричали, о спасении. Не дождались, бедолаги, — Я лежал, чумной от браги, в расслаблении. Крутанет ли в повороте, Завернет в водовороте – все исправится, То разуюсь, то обуюсь, На себя в воде любуюсь – очень ндравится. Берега текут за лодку, Ну а я ласкаю глотку медовухою. После лишнего глоточку — Глядь: плыву не в одиночку – со старухою. И пока я удивлялся, Пал туман и оказался в гиблом месте я, И огромная старуха Хохотнула прямо в ухо, злая бестия. Я кричу – не слышу крика, Не вяжу от страха лыка, вижу плохо я, На ветру меня качает… «Кто здесь?» Слышу – отвечает: «Я, Нелегкая! Брось креститься, причитая, — Не спасет тебя Святая Богородица: Тех, кто руль да весла бросит, Тех Нелегкая заносит – так уж водится!» Я впотьмах ищу дорогу, Медовухи понемногу – только по сту пью. А она не засыпает — Впереди меня ступает тяжкой поступью. Вот споткнулась о коренья От большого ожиренья, гнусно охая. У нее одышка даже, А заносит ведь туда же, тварь нелегкая. Вдруг навстречу нам живая, Хромоногая, кривая – морда хитрая. «Ты, – кричит, – стоишь над бездной, Я спасу тебя, болезный, слезы вытру я!» Я спросил: «Ты кто такая?» А она мне: «Я Кривая – воз молвы везу». И хотя я кривобока, Криворука, кривоока – я, мол, вывезу… Я воскликнул, наливая: «Вывози меня, Кривая, – я на привязи! Я тебе и жбан поставлю, Кривизну твою исправлю – только вывези! И ты, Нелегкая маманя, На-ка истину в стакане – больно нервная! Ты забудь себя на время, Ты же толстая – в гареме будешь первая». И упали две старухи У бутыли медовухи в пьянь-истерику. Я пока за кочки прячусь И тихонько задом пячусь прямо к берегу… Лихо выгреб на стремнину: В два гребка – на середину! Ох, пройдоха я! Чтоб вы сдохли, выпивая, Две судьбы мои – Кривая да Нелегкая! 1976Притча о правде и лжи
В подражание Булату Окуджаве
Нежная Правда в красивых одеждах ходила, Принарядившись для сирых, блаженных, калек, Грубая Ложь эту Правду к себе заманила: Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная Правда спокойно уснула, Слюни пустила и разулыбалась во сне, Хитрая Ложь на себя одеяло стянула, В Правду впилась – и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью, — Баба как баба, и что ее ради радеть?! Разницы нет никакой между Правдой и Ложью, Если, конечно, и ту и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты И прихватила одежды, примерив на глаз; Деньги взяла, и часы, и еще документы, Сплюнула, грязно ругнулась – и вон подалась. Только к утру обнаружила Правда пропажу — И подивилась, себя оглядев делово: Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу, Вымазал чистую Правду, а так – ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали: «Ложь это все, и на Лжи одеянье мое…» Двое блаженных калек протокол составляли И обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой (Кстати, навесили Правде чужие дела): Дескать, какая-то мразь называется Правдой, Ну а сама пропилась, проспалась догола. Полная Правда божилась, клялась и рыдала, Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах, Грязная Ложь чистокровную лошадь украла — И ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за Правду воюет, Правда, в речах его правды – на ломаный грош: «Чистая Правда со временем восторжествует — Если проделает то же, что явная Ложь!» Часто, разлив по сту семьдесят граммов на брата, Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть – это чистая правда, ребята; Глядь – а штаны твои носит коварная Ложь. Глядь – на часы твои смотрит коварная Ложь. Глядь – а конем твоим правит коварная Ложь. 1977«Мне судьба – до последней черты, до креста…»
Мне судьба – до последней черты, до креста Спорить до хрипоты (а за ней – немота), Убеждать и доказывать с пеной у рта, Что не то это вовсе, не тот и не та, Что лабазники врут про ошибки Христа, Что пока еще в грунт не влежалась плита. Триста лет под татарами – жизнь еще та: Маета трехсотлетняя и нищета. Но под властью татар жил Иван Калита, И уж был не один, кто один – против ста. [Пот] намерений добрых и бунтов тщета, Пугачевщина, кровь и опять – нищета… Пусть не враз, пусть сперва не поймут ни черта, — Повторю даже в образе злого шута. Но не стоит предмет, да и тема не та: Суета всех сует – все равно суета. Только чашу испить – не успеть на бегу, Даже если разбить – все равно не могу; Или выплеснуть в наглую рожу врагу? Не ломаюсь, не лгу – все равно не могу; На вертящемся гладком и скользком кругу Равновесье держу, изгибаюсь в дугу! Что же с чашею делать?! Разбить – не могу! Потерплю – и достойного подстерегу. Передам – и не надо держаться в кругу И в кромешную тьму, и в неясную згу. Другу передоверивши чашу, сбегу! Смог ли он ее выпить – узнать не смогу. Я с сошедшими с круга пасусь на лугу, Я о чаше невыпитой – здесь ни гугу, Никому не скажу, при себе сберегу, А сказать – и затопчут меня на лугу. Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу! Может, кто-то когда-то поставит свечу Мне за голый мой нерв, на котором кричу, И веселый манер, на котором шучу… Даже если сулят золотую парчу Или порчу грозят напустить – не хочу! На ослабленном нерве я не зазвучу — Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу! Лучше я загуляю, запью, заторчу, Все, что ночью кропаю, – в чаду растопчу, Лучше голову песне своей откручу — Но не буду скользить, словно пыль по лучу! …Если все-таки чашу испить мне судьба, Если музыка с песней не слишком груба, Если вдруг докажу, даже с пеной у рта, — Я умру и скажу, что не всё суета! 1977Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное-невероятное» из сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачи
Дорогая передача, Во субботу, чуть не плача, Вся Канатчикова дача К телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, Уколоться и забыться, Вся безумная больница У экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и баламут Про бессилие науки Перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, Все извилины заплел, И канатчиковы власти Колют нам второй укол. Уважаемый редактор, Может лучше про реактор, Про любимый лунный трактор, Ведь нельзя же год подряд То тарелками пугают, Дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, То руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, Мы тарелки бьем весь год, Мы на них собаку съели, Если повар нам не врет. А медикаментов груды — В унитаз, кто не дурак, Вот это жизнь! И вдруг Бермуды, Вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, Нам вождя недоставало, Настоящих буйных мало, Вот и нету вожаков. Но на происки и бредни Сети есть у нас и бредни, Не испортят нам обедни Злые происки врагов. Это их худые черти Мутят воду во пруду, Это все придумал Черчилль В восемнадцатом году. Мы про взрывы, про пожары Сочиняли ноту ТАСС, Но примчались санитары И зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, Прикрутили к спинкам коек, Бился в пене параноик, Как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенце, Иноверы, изуверцы, Нам бермуторно на сердце И бермутно на душе. Сорок душ посменно воют, Раскалились добела, Во как сильно беспокоят Треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, Даже кто безумен был, И тогда главврач Маргулис Телевизор запретил. Вон он, змей, в окне маячит, За спиною штепсель прячет, Подал знак кому-то, значит, Фельдшер вырвет провода. И что ж, нам осталось уколоться И упасть на дно колодца, И там пропасть на дне колодца, Как в Бермудах, навсегда. Ну а завтра, спросят дети, Навещая нас с утра: «Папы, что сказали эти Кандидаты в доктора?» Мы откроем нашим чадам Правду, им не все равно, Мы скажем: «Удивительное рядом, Но оно запрещено». Вон дантист-надомник Рудик, У него приемник «Грюндик», Он его ночами крутит, Ловит, контра, ФРГ. Он там был купцом по шмуткам И подвинулся рассудком, К нам попал в волненьи жутком И с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне И сообщеньем нас потряс, Будто наш научный лайнер В треугольнике погряз. Сгинул, топливо истратив, Прям распался на куски, И двух безумных наших братьев Подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, Пребывают в пессимизме, Их вчера в стеклянной призме К нам в больницу привезли. И один из них, механик, Рассказал, сбежав от нянек, Что Бермудский многогранник — Незакрытый пуп Земли. «Что там было? Как ты спасся?» — Каждый лез и приставал, Но механик только трясся И чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, То щетинился, как еж, Он над нами издевался, Ну, сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, Матершинник и крамольник: «Надо выпить треугольник, На троих его даешь!» Разошелся, так и сыпет: «Треугольник будет выпит, Будь он параллелепипед, Будь он круг, едрена вошь». Больно бьют по нашим душам Голоса за тыщи миль, Мы зря Америку не глушим, Ой, зря не давим Израиль. Всей своей враждебной сутью Подрывают и вредят, Кормят, поят нас бермутью Про таинственный квадрат. Лектора из передачи, Те, кто так или иначе, Говорят про неудачи И нервируют народ. Нас берите, обреченных, Треугольник вас, ученых, Превратит в умалишенных, Ну а нас – наоборот. Пусть безумная идея, Не рубайте сгоряча, Вызывайте нас скорее Через гада главврача. С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то Если вы не отзоветесь, Мы напишем в «Спортлото». 1977Про речку Вачу и попутчицу Валю
Под собою ног не чую — И качается земля… Третий месяц я бичую, Так как списан подчистую С китобоя-корабля. Ну а так как я бичую, Беспартийный, нееврей, — Я на лестницах ночую, Где тепло от батарей. Это жизнь! Живи и грейся — Хрен вам пуля и петля! Пью, бывает, хоть залейся: Кореша приходят с рейса — И гуляют «от рубля»! Рупь не деньги, рупь – бумажка, Экономить – тяжкий грех. Ах, душа моя тельняшка — Сорок полос, семь прорех! Но послал Господь удачу — Заработал свечку он! Увидав, как горько плачу, Он сказал: «Валяй на Вачу! Торопись, пока сезон!» Что такое эта Вача — Разузнал я у бича: Он на Вачу ехал плача — Возвращался хохоча. Вача – это речка с мелью Во глубине сибирских руд, Вача – это дом с постелью, Там стараются артелью, Много золота берут! Как вербованный, ишачу — Не ханыжу, не «торчу»… Взял билет – лечу на Вачу, Прилечу – похохочу! Нету золота богаче — Люди знают, им видней! В общем, так или иначе, Заработал я на Ваче Сто семнадцать трудодней. Подсчитали, отобрали — За еду, туда-сюда, — Но четыре тыщи дали Под расчет – вот это да! Рассовал я их в карманы, Где и рупь не ночевал, И уехал в жарки страны, Где кафе да рестораны, — Позабыть, как бичевал. Выпью – там такая чача! — За советчика бича: Я на Вачу ехал плача — Возвращаюсь хохоча! …Проводник в преддверье пьянки Извертелся на пупе, То же и официантки, А на первом полустанке Села женщина в купе. Может, вам она – как кляча, Мне – так просто в самый раз! Я на Вачу ехал плача — Возвращаюсь веселясь! То да се да трали-вали… Как узнала про рубли… Слово по слову у Вали, Деньги по столу шныряли — С Валей вместе и сошли. С нею вышла незадача — Я и это залечу! Я на Вачу ехал плача, Возвращаюсь – хохочу!.. Суток шесть как просквозило, Море – вот оно, стоит. У меня что было – сплыло, Проводник воротит рыло И за водкой не бежит. Рупь последний в Сочи трачу — Телеграмму накатал: Шлите денег – отбатрачу, Я их все прохохотал. Где вы, где вы, россыпные, — Хоть ругайся, хоть кричи! Снова ваш я, дорогие, Магаданские, родные, Незабвенные бичи! Мимо носа носят чачу, Мимо рота – алычу… Я на Вачу еду, плачу — Над собою хохочу! 1977Попытка самоубийства
Подшит крахмальный подворотничок, На голенище серый шрам от стека, И вот легли на спусковой крючок Бескровные фаланги человека. Пора! Кто знает время сей поры! Но вот она воистину близка. Ах! Как недолог путь от кобуры До выбритого начисто виска. Закончилось движение и сдуло С назначенной мишени волосок. С улыбкой Смерть уставилась из дула На аккуратно выбритый висок. И перед тем, как ринуться, посметь — В висок… наискосок к затылку, Вдруг загляделась пристальная Смерть На жалкую взбесившуюся жилку. Промедлила она – и прогадала: Теперь обратно в кобуру ложись! Так Смерть впервые в жизни увидала С рожденья ненавидимую Жизнь. До 1978«Я спокоен – он мне все поведал…»
Я спокоен – Он мне все поведал. «Не таись», – велел. И я скажу: Кто меня обидел или предал — Покарает Тот, кому служу. Не знаю, как – ножом ли под ребро, Или сгорит их дом и все добро, Или сместят, сомнут, лишат свободы… Когда – опять не знаю, – через годы Или теперь, а может быть – уже… Судьбу не обойти на вираже И на кривой на вашей не объехать, Напропалую тоже не протечь. А я? Я – что! Спокоен я, по мне – хоть Побей вас камни, град или картечь. 1978Письмо к другу, или зарисовка о Париже
Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу — И то, что слышу, и то, что вижу, Пишу в блокнотик впечатлениям вдогонку: Когда состарюсь – издам книжонку Про то, что, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже Нужны – как в бане пассатижи. Все эмигранты тут второго поколенья — От них сплошные недоразуменья: Они всё путают – и имя, и названья, — И ты бы, Ваня, у них был – «Ванья». А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже Нужны – как в русской бане лыжи! Я сам завел с француженкою шашни, Мои друзья теперь – и Пьер, и Жан. И вот плевал я уже, Ваня, с Эйфелевой башни На головы беспечных парижан! Проникновенье наше по планете Особенно заметно вдалеке: В общественном парижском туалете Есть надписи на русском языке! 1978Райские яблоки
Я когда-то умру – мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам – чтобы в спину ножом: Убиенных щадят, отпевают и балуют раем… Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее набок — И ударит душа на ворованных клячах в галоп! В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок… Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Прискакали. Гляжу – пред очами не райское что-то: Неродящий пустырь и сплошное ничто – беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота, И огромный этап у ворот на ворота глядел. Как ржанет коренной! Я смирил его ласковым словом, Да репьи из мочал еле выдрал, и гриву заплел. Седовласый старик что-то долго возился с засовом — И кряхтел, и ворчал, и не смог отворить – и ушел. И огромный этап не издал ни единого стона, Лишь на корточки вдруг с онемевших колен пересел. Здесь малина, братва, – оглушило малиновым звоном! Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. И апостол-старик – он над стражей кричал-комиссарил — Он позвал кой-кого, и затеяли вновь отворять… Кто-то палкой с винтом, поднатужась, об рельсу ударил — И как ринулись все в распрекрасную ту благодать! Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых: Это Петр-старик – он апостол, а я остолоп. Вот и кущи-сады, в коих прорва мороженых яблок… Но сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Всем нам блага подай, да и много ли требовал я благ?! Мне – чтоб были друзья, да жена – чтобы пала на гроб, Ну а я уж для них наворую бессемечных яблок… Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. В онемевших руках свечи плавились, как в канделябрах, А тем временем я снова поднял лошадок в галоп. Я набрал, я натряс этих самых бессемечных яблок — И за это меня застрелили без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от мест этих гиблых и зяблых, Кони – головы вверх, но и я закусил удила. Вдоль обрыва с кнутом по-над пропастью пазуху яблок Я тебе привезу – ты меня и из рая ждала! 1978Конец «Охоты на волков», или Охота с вертолета
Михаилу Шемякину
Словно бритва, рассвет полоснул по глазам, Отворились курки, как волшебный сезам, Появились стрелки, на помине легки, И взлетели стрекозы с протухшей реки, И потеха пошла – в две руки, в две руки! Мы легли на живот и убрали клыки. Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки, Чуял волчие ямы подушками лап; Тот, кого даже пуля догнать не могла б, — Тоже в страхе взопрел, и прилег, и ослаб. Чтобы жизнь улыбалась волкам – не слыхал: Зря мы любим ее, однолюбы. Вот у смерти – красивый широкий оскал И здоровые, крепкие зубы. Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу — Псам еще не намылены холки! Но на татуированном кровью снегу Наша роспись: мы больше не волки! Мы ползли, по-собачьи хвосты подобрав, К небесам удивленные морды задрав: Или с неба возмездье на нас пролилось, Или света конец – и в мозгах перекос… Только били нас в рост из железных стрекоз. Кровью вымокли мы под свинцовым дождем — И смирились, решив: все равно не уйдем! Животами горячими плавили снег. Эту бойню затеял не Бог – человек: Улетающим – влет, убегающим – в бег… Свора псов, ты со стаей моей не вяжись, В равной сваре – за нами удача. Волки мы – хороша наша волчая жизнь! Вы собаки – и смерть вам собачья! Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу, Чтобы в корне пресечь кривотолки. Но на татуированном кровью снегу Наша роспись: мы больше не волки! К лесу – там хоть немногих из вас сберегу! К лесу, волки, – труднее убить на бегу! Уносите же ноги, спасайте щенков! Я мечусь на глазах полупьяных стрелков И скликаю заблудшие души волков. Те, кто жив, затаились на том берегу. Что могу я один? Ничего не могу! Отказали глаза, притупилось чутье… Где вы, волки, былое лесное зверье, Где же ты, желтоглазое племя мое?! …Я живу, но теперь окружают меня Звери, волчьих не знавшие кличей. Это псы, отдаленная наша родня, Мы их раньше считали добычей. Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу, Обнажаю гнилые осколки. А на татуированном кровью снегу Тает роспись: мы больше не волки! 1978Летела жизнь
Я сам с Ростова, я, вообще, подкидыш — Я мог бы быть с каких угодно мест, И если ты, мой Бог, меня не выдашь, Тогда моя Свинья меня не съест. Живу везде – сейчас, к примеру, в Туле. Живу и не считаю ни потерь, ни барышей. Из детства помню детский дом в ауле В республике чечено-ингушей. Они нам детских душ не загубили, Делили с нами пищу и судьбу. Летела жизнь в плохом автомобиле И вылетала с выхлопом в трубу. Я сам не знал, в кого я воспитаюсь, Любил друзей, гостей и анашу. Теперь чуть что-чего – за нож хватаюсь, Которого, по счастью, не ношу. Как сбитый куст, я по ветру волокся, Питался при дороге, помня зло, но и добро. Я хорошо усвоил чувство локтя, Который мне совали под ребро. Бывал я там, где и другие были — Все те, с кем резал пополам судьбу. Летела жизнь в плохом автомобиле И вылетала с выхлопом в трубу. Нас закаляли в климате морозном — Нет никому ни в чем отказа там, Так что чечены, жившие при Грозном, Намылились с Кавказа в Казахстан. А там Сибирь – лафа для брадобреев: Скопление народов и нестриженных бичей, — Где место есть для зэков, для евреев И недоистребленных басмачей. В Анадыре что надо мы намыли, Нам там ломы ломали на горбу. Летела жизнь в плохом автомобиле И вылетала с выхлопом в трубу. Мы пили всё, включая политуру: И лак, и клей, стараясь не взболтнуть. Мы спиртом обманули пулю-дуру — Так, что ли, умных нам не обмануть?! Пью водку под орехи для потехи, Коньяк – под плов с узбеками (по-ихнему – пилав), В Норильске, например, в горячем цехе Мы пробовали пить стальной расплав. Мы дыры в деснах золотом забили, Состарюсь – выну, денег наскребу. Летела жизнь в плохом автомобиле И вылетала с выхлопом в трубу. Какие песни пели мы в ауле! Как прыгали по скалам нагишом! Пока меня с пути не завернули, Писался я чечено-ингушом. Одним досталась рана ножевая, Другим – дела другие, ну а третьим – третья треть… Сибирь, Сибирь – держава бичевая, Где есть где жить и есть где помереть. Я был кудряв, но кудри истребили — Семь пядей из-за лысины во лбу. Летела жизнь в плохом автомобиле И вылетала с выхлопом в трубу. Воспоминанья только потревожь я — Всегда одно: «На помощь! Караул!..» Вот бьют чеченов немцы из Поволжья, А место битвы – город Барнаул. Когда дошло почти до самосуда, Я встал горой за горцев, чье-то горло теребя. Те и другие были не отсюда, Но воевали, словно у себя. А тех, кто нас на подвиги подбили, Давно лежат и корчатся в гробу, — Их всех свезли туда в автомобиле, А самый главный вылетел в трубу. 1978«Давайте я спою вам в подражанье радиолам…»
Давайте я спою вам в подражанье радиолам Глухим и хриплым тембром из-за плохой иглы — Пластиночкой на ребрах в оформленье невеселом, Какими торговали пацаны из-под полы. Ну, например, о лете, – которого не будет, Ну, например, о доме, – что быстро догорел, Ну, например, о брате, – которого осудят, О мальчике, которому – расстрел! Сидят больные легкие в грудной и тесной клетке. Рентгеновские снимки – смерть на черно-белом фоне. Разбалтывают пленочки о трудной пятилетке И продлевают жизнь себе, вертясь на патефоне.Между 1977 и 1979
«Мне скулы от досады сводит…»
Мне скулы от досады сводит: Мне кажется который год, Что там, где я, – там жизнь проходит, А там, где нет меня, – идет! А дальше – больше, каждый день я Стал слышать злые голоса: – Где ты – там только наважденье, Где нет тебя – всё чудеса! Ты только ждешь и догоняешь, Врешь и боишься не успеть, Смеешься меньше ты и, знаешь, Ты стал разучиваться петь! Как дым твои ресурсы тают, И сам швыряешь все подряд. Зачем? Где ты – там не летают, А там, где нет тебя, – парят. Я верю крику, вою, лаю, Но, все-таки, друзей любя, Дразнить врагов я не кончаю, С собой в побеге от себя. Живу, не ожидая чуда, Но пухнут жилы от стыда — Я каждый раз хочу отсюда Сбежать куда-нибудь туда. Хоть все пропой, протарабань я, Хоть всем хоть голым покажись, Пустое все: здесь – прозябанье, А где-то там – такая жизнь! Фартило мне, Земля вертелась, И, взявши пары три белья, Я шасть – и там! Но вмиг хотелось Назад, откуда прибыл я. 1979«Я верю в нашу общую звезду…»
Я верю в нашу общую звезду, Хотя давно за нею не следим мы, — Наш поезд с рельс сходил на всем ходу — Мы все же оставались невредимы. Бил самосвал машину нашу в лоб, Но знали мы, что ищем и обрящем, И мы ни разу не сходили в гроб, Где нет надежды всем в него сходящим. Катастрофы, паденья, – но между — Мы взлетали туда, где тепло, Просто ты не теряла надежду, Мне же – с верою очень везло. Да и теперь, когда вдвоем летим, Пускай на ненадежных самолетах, — Нам гасят свет и создают интим, Нам и мотор поет на низких нотах. Бывали «ТУ» и «ИЛы», «ЯКи», «АН», — Я верил, что в Париже, в Барнауле — Мы сядем, – если ж рухнем в океан — Двоих не съесть и голубой акуле! Все мы смертны – и люди смеются: Не дождутся и вас города! Я же знал: все кругом разобьются, Мы ж с тобой – ни за что никогда! Мне кажется такое по плечу — Что смертным не под силу столько прыти: Что на лету тебя я подхвачу — И вместе мы спланируем в Таити. И если заболеет кто из нас Какой-нибудь болезнею смертельной — Она уйдет, – хоть искрами из глаз, Хоть стонами и рвотою похмельной. Пусть в районе Мэзона-Лаффита Упадет злополучный «Скайлаб» И судьба всех обманет – финита, — Нас она обмануть не смогла б! 1979Одна научная загадка, или почему аборигены съели Кука
Не хватайтесь за чужие талии, Вырвавшись из рук своих подруг! Вспомните, как к берегам Австралии Подплывал покойный ныне Кук, Как, в кружок усевшись под азалии, Поедом – с восхода до зари — Ели в этой солнечной Австралии Друга дружку злые дикари. Но почему аборигены съели Кука? За что – неясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука: Хотели кушать – и съели Кука! Есть вариант, что ихний вождь – большая бука — Сказал, что очень вкусный кок на судне Кука… Ошибка вышла – вот о чем молчит наука: Хотели – кока, а съели – Кука! И вовсе не было подвоха или трюка — Вошли без стука, почти без звука, Пустили в действие дубинку из бамбука: Тюк! прямо в темя – и нету Кука! Но есть, однако же, еще предположенье, Что Кука съели из большого уваженья, Что всех науськивал колдун – хитрец и злюка: «Ату, ребята, хватайте Кука! Кто уплетет его без соли и без лука, Тот сильным, смелым, добрым будет – вроде Кука!» Комуй-то под руку попался каменюка, Метнул, гадюка, — и нету Кука! А дикари теперь заламывают руки, Ломают копия, ломают луки, Сожгли и бросили дубинки из бамбука — Переживают, что съели Кука! 1971, редакция 1979«Меня опять ударило в озноб…»
Меня опять ударило в озноб, Грохочет сердце, словно в бочке камень,— Во мне живет мохнатый злобный жлоб С мозолистыми цепкими руками. Когда, мою заметив маету, Друзья бормочут: «Скоро загуляет»,— Мне тесно с ним, мне с ним невмоготу! Он кислород вместо меня хватает. Он не двойник и не второе «я» — Все объясненья выглядят дурацки,— Он плоть и кровь, дурная кровь моя,— Такое не приснится и Стругацким. Он ждет, когда закончу свой виток — Моей рукою выведет он строчку, — И стану я расчетлив и жесток, И всех продам – гуртом и в одиночку. Я оправданья вовсе не ищу — Пусть жизнь уходит, ускользает, тает,— Но я себе мгновенья не прощу — Когда меня он вдруг одолевает. Но я собрал еще остаток сил,— Теперь его не вывезет кривая: Я в глотку, в вены яд себе вгоняю — Пусть жрет, пусть сдохнет – я перехитрил! 1979«Я никогда не верил в миражи…»
Я никогда не верил в миражи, В грядущий рай не ладил чемодана — Учителей сожрало море лжи И выплюнуло возле Магадана. Но, свысока глазея на невежд, От них я отличался очень мало — Занозы не оставил Будапешт, А Прага сердце мне не разорвала. А мы шумели в жизни и на сцене: Мы путаники, мальчики пока. Но скоро нас заметят и оценят. Эй! Против кто? Намнем ему бока! Но мы умели чувствовать опасность Задолго до начала холодов. С бесстыдством шлюхи приходила ясность И души запирала на засов. И нас хотя расстрелы не косили, Но жили мы поднять не смея глаз — Мы тоже дети страшных лет России, Безвременье вливало водку в нас. 1979 или 1980«Мой черный человек в костюме сером…»
Мой черный человек в костюме сером!.. Он был министром, домуправом, офицером, Как злобный клоун он менял личины И бил под дых, внезапно, без причины. И, улыбаясь, мне ломали крылья, Мой хрип порой похожим был на вой, И я немел от боли и бессилья И лишь шептал: «Спасибо, что живой». Я суеверен был, искал приметы, Что, мол, пройдет, терпи, все ерунда… Я даже прорывался в кабинеты И зарекался: «Больше – никогда!» Вокруг меня кликуши голосили: «В Париж мотает, словно мы в Тюмень, — Пора такого выгнать из России! Давно пора, – видать, начальству лень». Судачили про дачу и зарплату: Мол, денег прорва, по ночам кую. Я все отдам – берите без доплаты Трехкомнатную камеру мою. И мне давали добрые советы, Чуть свысока похлопав по плечу, Мои друзья – известные поэты: Не стоит рифмовать «кричу – торчу». И лопнула во мне терпенья жила — И я со смертью перешел на «ты», Она давно возле меня кружила, Побаивалась только хрипоты. Я от суда скрываться не намерен: Коль призовут – отвечу на вопрос. Я до секунд всю жизнь свою измерил И худо-бедно, но тащил свой воз. Но знаю я, что лживо, а что свято, — Я это понял все-таки давно. Мой путь один, всего один, ребята, — Мне выбора, по счастью, не дано. 1979 или 1980«По речке жизни плавал честный Грека…»
По речке жизни плавал честный Грека И утонул, иль рак его настиг. При Греке заложили человека, А Грека – «заложил за воротник». В нем добрая заложена основа, Он оттого и начал поддавать. «Закладывать» – совсем простое слово, А в то же время значит: «предавать». Или еще пример такого рода: Из-за происхождения взлетел, Он вышел из глубинки, из народа, И возвращаться очень не хотел. Глотал упреки и зевал от скуки, Что оторвался от народа – знал, Но «оторвался» – это по науке, На самом деле – просто убежал. Между 1970 и 1980Две просьбы
М. Шемякину – другу и брату —
посвящен сей полуэкспромт







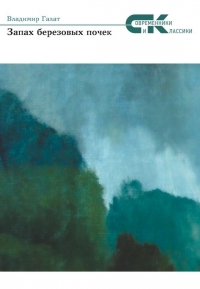
Комментарии к книге «Я никогда не верил в миражи», Владимир Семенович Высоцкий
Всего 0 комментариев