Слова Александр Михайлович Иванов
© Александр Михайлович Иванов, 2018
ISBN 978-5-4490-8055-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Иванов Александр Михайлович
Предисловие (пространное)
Писáть начал поздно. Это была как бы проба пера. Знаете, как было в старину? Брали гусиное перо, зачиняли кончик его ножом, по верхней поверхности среза делали продольный разрез, затем обмакивали перо в чернила и писали по бумаге «проба пера… проба пера… проба пера». Прямо как у Ильича: «учиться, учиться и еще раз учиться». Если перо писало не важно, значит, оно было исполнено плохо, и его заменяли. (С Ильичом как-то получилось не очень.)
Первые мои экзерциции (упражнения) были робки, но интересны для меня, затем я несколько раскрепостился, окунулся в магию слов, музыки поэзии и прозы и не писать больше не смог. Это было как будто другое измерение, как будто я подключался к чему-то большему, чем я есть и окружающая меня жизнь. Это бывало иногда мучительным, когда что-то не получалось, и радостным, когда получалось что-то неожиданно большим и лучшим, чем ты ожидал.
Я занимаюсь психотерапией давно (по лицу это, наверное, видно). Раньше писали, что психотерапия — это лечение словом (К. И. Платонов), подразумевая слова, одетые в одежды интонации, модуляции, мимики и пантомимики. Они для психотерапевта рабочий инструмент, и от того, как он им владеет, как он подпитывается интеллектом, жизненным опытом, культурой и артистизмом, будет зависеть профессионализм психотерапевта. (Как говаривал И. З. Вельвовский, «психотерапевтов много, а веселых мало». ) Можно будет более общо сказать, что лечебный фактор психотерапевта — он сам, его индивидуальность, телесность, душа, то есть что он лечит собой. Как видите, выстраивается некий мостик между психотерапией и литературой. Для психотерапевта нет большего интереса, удовлетворения, чем когда при проникновении в суть вещей (М. Аврелий) появляются неожиданно для него самого новые аспекты понимания, метафоры и обороты речи. Вы улавливаете, что мы уже идем по мосту? По мосту, опоры которого идут в глубину подсознания, и вдруг устремляются в небо.
Теперь по поводу патриотизма, от этого никуда не деться. Хочется не пространно, одной строкой. Истинный патриотизм, не оголтелый, не угарный, а вдумчивый — не лакирует действительность, он видит недостатки, и от этого ему больно, потому что в стране потенциально богатой могло бы быть намного лучше, и наши люди это заслужили.
Наверное, вас интересует, чем занимаюсь, что привлекает меня. Служу (как раньше писали) психотерапевтом, основное направление — духовно-ориентированная психотерапия и классическая гипнотерапия. В свободное от этого время занимаюсь рыбалкой, грибами, огородом (надо же что-то кушать). Еще интересуюсь философией, религией, историей и литературой, на мои стихи написаны песни и романсы. Это у меня первый сброс в интернет, хотя материал есть и по психотерапии, и по литературе. Не знаю, будет ли интерес и как пойдет дело дальше.
И напоследок. Вполне серьезно. Если кто-либо эту книжку прочтет и она ему покажется чем-то близкой, то спасибо ему за это, ибо на земле у меня появился еще один родственник.
А. ИвановПроза
Песня Рассказ
С каждым годом фронтовиков, участников Отечественной войны становится все меньше, и они в своих публичных выступлениях, воспоминаниях рассказывают о тех или иных испытаниях, геройских поступках. Насколько я помню, а я захватил своим детством войну и ближайшее послевоенное время, отец и его друзья-фронтовики при своих встречах об этом не говорили никогда. Они выпивали, при этом крепко, закусывали, беспрестанно курили и рассказывали всякие курьезные, смешные истории и громко смеялись.
Одна из встреч отца с друзьями, которая запала мне на всю жизнь, происходила в нашей квартире. Я находился в углу комнаты, занимался своими делами, отец с друзьями, все такие большие, высокие, одетые в мундиры, при погонах и орденах, видимо был какой-то праздник, сидели за длинным столом, мать моя время от времени что-то приносила и уносила. Над столом висели клубы дыма, раздавалось звяканье посуды, голоса, гомон и неожиданные, во всяком случае для меня, взрывы смеха, перемежающиеся матом. И вдруг все затихло, непривычная тишина включила мое внимание, и я отчетливо услышал голос своего отца, который как-то задумчиво говорил. Я не помню дословно его рассказ, но выглядел он примерно так.
«Служил в моей роте водитель, все его звали «Туточки-тамочки», почему так, вы сейчас поймете. Разговор его был мягкий, быстрый, в речь часто вкрапливал кубанское балаканье и ласкательные слова, типа «Вот я тамочки в полку заправился, загрузился, а туточки с вами и остался». Среди бойцов он стал быстро своим, ходил с постоянной улыбкой, был общительным и привлекал к себе внимание различными историями и байками. Иногда, если поблизости никого не было, пел негромко украинские песни и сразу замолкал, если кто-либо оказывался рядом. Я почему так подробно говорю о нем, потому что об этом мне доложил командир взвода младший лейтенант, как сейчас помню, Колбенков.
Была осень 43-го года, после Сталинграда наступил перелом, хребет немцам мы поломали, и они уже не так нахально перли вперед. Была пауза, так называемое позиционное положение, ну, вы все знаете, что это такое — ни они, ни мы не наступали и не отступали. С обеих сторон как бы наступила усталость, была передышка, наверху была какая-то подготовка, но о ней толком никто не знал.
Мы стояли с одной стороны леса, они — с другой. Между нами широкое пустое пространство. Была уже глубокая осень, мы хорошо окопались, вырыли траншеи, построили блиндажи, видимо они сделали то же самое. Как я уже говорил, никаких активных действий с обеих сторон не было, так — время от времени постреливали, особенно если было какое-то наружное движение, если кто высовывался из окопов.
Как-то в предвечернее время я пошел на передний край позиций и увидел что-то фантастическое. Матерь Божья! На бруствере окопа без оружия стоял этот водитель, этот Туточки-Тамочки, и пел. Голос был высокий, чистый, искренний. Он стоял боком, пел по-украински, как будто рассказывал что-то сокровенное для обеих сторон. Я не знаю всей песни, но вот начало и конец запомнил: «Мисяц на нэби, зироньки сияють…» — дальше провал в памяти, и вот конец песни: «Дэж вы навчились зводыть людей?»
Все застыли в каком-то благоговении, я думаю, что такое было и с той стороны. Ни одного звука, ни одного выстрела, хотя, как говорится, снять Туточки-Тамочки было как пить дать.
Когда он после пения спокойно опустился в окоп, кто-то из бойцов с придыханием произнес: «Ну ты, Маркел, даешь! Так здорово пел!» На что Маркел, махнув рукой, ответил: «А шо я? Вот батька мой спивал, — и добавил с улыбкой: — Туточки около головы пуля прошла, видно, их снайперу понравилась песня».
Отец ударил громко ладонями по столу, подпрыгнула, зазвенела посуда, и прямо так вскричал:
— Ну что мне было делать с этим сержантом? Отправить в полк на дознание? Обматерить, врезать в морду? Ни того, ни этого я не сделал. Неожиданно для себя я подошел к нему, крепко и молча обнял».
Отец замолчал, молча сидели и его друзья-фронтовики.
Поезд идет, поезд спешит Сценарий
Жизнь наша вокзал, который постепенно перемещается в поезд, но об этом позже, покамест она вокзал. Шумный, суетливый, томящийся в долгом ожидании. Глаза упираются в киоски с разными сувенирами, в буфеты с ненастоящей пищей и напитками, поднимаются глаза — висят телевизоры с ненастоящей жизнью.
Лица, мелькают и скользят лица, погруженные в свою озабоченность и потому отчужденные. Чемоданы, сумки, портфели, чемоданы, сумки, кульки. И вдруг образовалось какое-то течение, и часть людей потоком выносит на перрон.
Здесь другая жизнь, здесь воздух, скрежет сцепляемых вагонов, стук колес на стыках и бормоглотная речь из репродукторов. В пространстве висит напряженное ожидание: «Внимание, внимание, приближается такой-то поезд!» Тела и лица растерянные, и слова как будто ненужные: «А вы это взяли? А вы это не забыли? Вы смотрите позвоните нам». Глазами в то же время отслеживают приближающийся вагон и вдруг устремляются друг к другу отчаянно, губы не сразу попадают, а могут и не попасть, но тела, древний язык, как будто сливаются друг в друге в последнем расставании.
После этого вынужденный подход к вагону и последние взгляды, запечатлевающие и впитывающие друг у друга что-то важное и родное. Затем суетливое и неуклюжее передвижение по вагону с чемоданами, сумками в поисках мест, согласно купленным билетам. Ну вот, наконец, и нужный плацкарт, купе, какая разница, все едем в одном направлении, все там будем. Укладка вещей, усадка на места и вопрошающее изучение друг друга — «свой не свой», — когда включаются все каналы связи, о которых мы и не подозреваем.
Потом идет нахождение общих точек соприкосновения: возраст, землячество, профессия, рыбалка, дача, огород и самая главная точка, о которой не говорится и не думается — из одного места вышли, идем в одном направлении и все там будем, за горизонтом жизни. После совместной трапезы и возможного возлияния наступает принятие друг друга и узнавание. Людей обволакивает бог весть какое поле, и в душе звучит невысказанное: «Господи! Какие они замечательные люди, ну просто родные!»
А поезд идет, поезд спешит, ему нужно срочно прострочить полотно жизни. Кому-то надо выходить, и выходят, и у оставшихся как будто отрывается часть жизни, часть души.
— Вы нам пишите, звоните, мы еще встретимся, мы еще увидимся. Последние соломенные пояса надежды в море жизни.
Двое остались в купе как припаянные друг к другу сиамские близнецы. Кому-то первому надо выходить на неизвестной станции, хотят они этого или не хотят. Проросшие друг в друга, они знают, что оставшемуся будет труднее. С болью или неожиданно отправляется в ночь один из двух. Пусто в купе, и саднит в груди сиротливость. Как вышел, оставшийся не помнит, не знает, «…и мертвые ничего не знают».
А поезд спешит, рвется сквозь бурю и снег, господи, как быстро идет поезд, застрачивает полотно жизни, и остается за поездом белый саван безмолвия. По краям савана вдруг появляются огоньки надежды, — мы еще соприкоснемся, мы еще встретимся.
Оплата Этюд
Вошел он в свою квартиру и как будто увидел себя со стороны: седые волосы, борода и усы, выстиранные старостью до чистейшей белизны, согбенная фигура с вколоченной в плечи головой и походка с прилипающими к полу ногами.
На кровати полулежа, полусидя, обложенная подушками, была встроена его жена. Подушки как бы ограничивали, удерживали от расползания ее жирное тело и голову. Она смотрела телевизор, но, видимо, не понимала сути происходящего на экране. Она смотрела, как иногда смотрят телевизор кошки или собаки, отмечающие передвижение объектов.
Иногда она вздрагивала от громкого звука. Вот и сейчас, когда он хлопнул закрытой дверью, она повернулась к двери, увидела мужа и сразу начала визгливо кричать:
— А, кобель, явился! Все по бабам мотаешься, а я тут голодная, немытая мучаюсь! Ну подожди, кобель, домотаешься! Жрать давай!
Он обихаживал ее, приносил на подносе в кровать еду, и она ела ее быстро, жадно. И требовала мяса:
— Давай мяса, побольше мяса, козел!
После еды она сидела не двигаясь, взгляд ее мутный и бессмысленный куда-то был устремлен вперед. Потом она как-то пружинилась вся и пукала раз за разом, и если ей удавалось пукнуть как можно громче, она радовалась, смеялась, хлопала в ладоши, как будто одобряя себя.
Как-то он приблизился к ней, чтобы вытереть ей рот, и вдруг неожиданно она коснулась его руки и сказала, как ему показалось, с теплотой и любовью:
— Бедный ты, бедный.
Взгляд ее серо-голубых глаз был осмысленным и близким, как в прежние давние времена. Потом глаза ее замутнились, лицо из теплого выражения сменилось злобным, и она закричала визгливо:
— Ты мне всю жизнь испортил, козел! Уходи отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели!
Он ушел в свою комнату, вытер платком слезы, вспомнил ее теплые слова и взгляд и подумал:
— Вот тебе и оплата, ради этого можно жить.
Лестница Эпизод
Был однажды в моей жизни эпизод, и несмотря на свою обычность, обыденность, показался мне, прочувствовался мной как что-то важное для меня и в какой-то степени таинственное.
Эпизод этот время от времени всплывал в моем сознании, я пытался его понять, осознать, конечно, и, выспренне говоря, предать его перу и бумаге, но что-то останавливало меня, тормозило. Это продолжалось до тех пор, пока события этого эпизода не сложились в какие-то звенья.
Глубокая осень, предзимник, из-за холодов топим печь на даче каждый день, иной раз и по два раза на дню. А печь как раз и подводила, не слушалась нас, нещадно дымила, и приходилось открывать окна и двери, чтобы выпустить на волю дым. Пытались договориться с печкой, затапливали ее по-разному, по-разному открывали-закрывали заслонку, дверцу, поддувало, но печка как будто играла с нами. Иной раз дня по два топилась хорошо, по чистому, а потом — раз, и валом шел дым, хоть святых выноси.
Напряглись мы умом, особенно жена, в смысле занавески коптятся, стены, потолок, и выдала:
— Раньше были трубочисты, а кто такие трубочисты? Это те люди, которые чистят от сажи трубы, чтобы не дымили печи. И, как будто играя в считалочку, заключила:
— Ты будешь трубочистом.
Я, выражаясь стилем А. П. Чехова, человек не технический, но четко увидел проблему и уверенно разработал программу с целью реализации ее. Кстати, надо заметить, что чем более я был уверен в своих действиях, тем печальнее был результат. Жена об этом знала, но в данном случае, как говорится, зеванула, слишком уж много подкоптила печка.
Итак, я нашел арматурину метра на полтора, привязал к ее концу веревку… дальше пойдут подробности технического плана, но они необходимы, как мне кажется, для понимания или непонимания последующего. Надо заметить, что наш дом двухэтажный, или одноэтажный с мансардой, это как кого устраивает, и к дому этому была еще прилеплена хозяйственная пристройка с несколько наклонной железной крышей.
Я по лестнице с арматурой на веревке поднялся на крышу этой пристройки, поднял эту же лестницу и прислонил ее к телу дымохода мансарды. Кажется, все отлично, все окей, но когда я поднялся по лестнице, я с трудом мог только пощупать, потрогать верх, выход каменного дымохода.
Я, опять выражаясь стилем А. П. Чехова, человек не технический, но сообразил и сделал наклон лестницы по отношению к дымоходу более острым, эдак градусов под пятнадцать. Поднялся несколько неуверенно по лестнице до самой верхней ступеньки, пощупал ладонями выход дымохода и начал по веревке спускать, опять же неуверенно, в жерло дымохода арматурину с целью пошуровать ею в дымоходе и тем самым сбить сажу со стен дымохода.
Я только один раз или два покрутил веревкой арматуру и тут мог бы наступить конец этой истории или мой конец, что это одно и то же. Неожиданно, я бы сказал нежданно, дымоход, вернее его верхняя часть начала как будто легко сдвигаться в мою сторону. Я бросил веревку с арматуриной в дымоход и инстинктивно двумя руками ухватился, обнял верхнюю часть дымохода. Она, эта часть, не выдержала моих объятий и медленно, плавно пошла ко мне навстречу.
Далее идет апофеоз этого эпизода. Верхняя часть дымохода плотно прикладывается мне на грудь, я не выпускаю ее из своих объятий и плавно перехожу точку неустойчивого положения, наверное, правильнее сказать становления на лестнице. Я это невесомое движение осознаю, осознаю движение с этой махиной назад и вниз и понимаю, что это катастрофа, но не возникает никакого ни страха, ни паники.
Позвольте здесь сделать абзац. Дальше было краткое отключение от действительности, но перед этим я успел сказать спокойно и негромко: «Люда». Я сейчас понимаю, что мое панорамное сознание включало нахождение моей жены где-то там внизу, но это не было ни словом о помощи, ни прощания. Наверное, это был какой-то ключ, шифр, и что-то открылось.
Осознал я себя стоящим на лестнице, верхняя часть дымохода стояла на своем месте, я не испытывал никакого мышечного напряжения. Я потрогал, с некоторым усилием подвигал эту верхнюю часть дымохода, тяжелая, где-то килограммов под 60. Видимо, пересох раствор и потерялось сцепление. Посмотрел вниз, представил, как бы я с этой махиной в обнимку летел с лестницы. Сначала бы упал на крышу пристройки эдак с метров трех, каменная махина придавила бы меня сверху, потом я, скорее всего, скатился бы вниз тоже метров с трех, и что бы со мной было бы, что сталось. Видимо, Бог миловал.
Аня Рассказ
Было это в начале декабря. Получили мы с женой льготные путевки и направились на отдых в Имеретинскую долину. Ехать пришлось на электричке под названием «Ласточка». Я говорю «пришлось», потому что электричка, вернее условия пребывания в ней были не столь комфортные и ласковые, как ее название. Шумно, суетно, тесно. Все это компенсировало наличие соседей, сидевших напротив нас, как раньше писали в русских романах vis-a-vis.
Это были, если уж употреблять ассоциации с французского, муж и жена нашего довоенного разлива, ну, может, старше нас с женой года на три-четыре. Муж, кстати, я забыл его представить — Богдан, принявший свою седину и возраст, — благодушно сидел молча, как будто разрешил всему быть, в том числе мимически подвижной и разговорчивой своей жене, по-домашнему назвавшейся Аней.
Мы с женой как-то прониклись доверием и симпатией к этой паре, и Аня, почувствовав это, начала разговор, вернее монолог.
Вначале она спросила нас, помним ли мы войну и, услышав, что смутно, ответила:
— А я помню, и это как будто кино, но кино узкопленочное с частями, и вот эти части, куски вставились в мою память, и я это кино неоднократно смотрю.
Аня говорила быстро, напористо, будто кто-то возражал ей и она пыталась что-то свое доказать.
Аня, взглотнув воздуха, продолжила:
— Я знала, что у нас в станице немцы, и хотя мне было лет семь, мне казалось, что они там были всегда, всю жизнь. Нас, во всяком случае нашу семью и соседей, они не трогали, дома наши находились на краю станицы, и вообще я не слыхала о каких-то зверствах немцев у нас в станице, может потому, что это была Кубань. Иногда они проезжали мимо нас на машинах, мотоциклах, что-то пели, кричали, смеялись и в своей одежде, словах казались людьми из другого мира.
Что-то необычное и страшное произошло однажды ночью, зимой. Я проснулась от какого-то наружного шума. Сквозь замерзшее окно я увидела лишь смутные фигуры и услышала какое-то пришептывание. Накинув что-то из подвернувшегося из одежды на себя, я приоткрыла наружную дверь и увидела, услышала это.
В ночных сумерках нашего двора фигурами оказались мама и тетя. Они сгрузили с саней на снег какой-то продолговатый предмет, и тетя, пошарив по нему, удовлетворенно прошептала:
— Видишь, на обуви штрипки, это румын, они всегда жирнее немцев, считай, что нам повезло.
Аня продолжала говорить почти шепотом, но так же энергично:
— Мне было любопытно, холодно и страшно, но я не могла оторваться от того, что происходило во дворе. Мама с тетей подтащили к середине двора этот предмет, и я увидела в свете луны, что это было как будто деревянное тело в не нашей одежде. Дальше началось что-то непонятное и более страшное.
Они раздели его и начали прямо на снегу поочередно распиливать труп на части одноручной пилой. Потом на треногу поставили большой котел над костром, набросали в него снегу и начали вбрасывать в котел части трупа. Мне казалось, что они готовят какое-то варево, которое будут есть сами и кормить меня.
Аня на минуту остановилась, словно задохнулась от быстрого бега, и, отдышавшись, продолжала уже в полный голос:
— Последнее, что я видела, это как они из бочки, в которой хранилась зола, набрали два ведра и высыпали ее в котел. Мне было холодно, страшно, а тут еще пошел сладковатый, тошнотворный запах из булькающего котла, и я быстро убежала в дом, закрылась в кровати одеялом с головой и долго тряслась зубами и телом, пока не уснула.
Я отметил, что у Ани и сейчас мелко подрагивала нижняя челюсть.
Между тем Аня продолжила:
— Утром я проснулась на рассвете и опять просунула голову в приоткрытую дверь и увидела, что мама с тетей забавляются какой-то игрой. Каждая держала в руке деревянную палочку, нижние концы их соединены шнуром. Они подошли с этими палочками к плоскому корыту и начали каждая со своей стороны опускать эти палочки внутрь корыта. Я увидала, что шнур уходил в какую-то застывшую мутную смесь. Они поднимали раз за разом палочки со шнуром, опускали их и так прошли вдоль всего корыта, потом поперек его. Это я уже потом узнала, что таким образом они нарезали кусочки мыла, которое использовали сами и обменивали его на продукты. Кстати, они заворачивали эти кусочки мыла в высушенные листья лопухов, бумаги ведь не было.
Я не выдержал и почти прокричал:
— Аня, голубушка, откуда взялся этот задеревеневший труп?
Аня посмотрела на меня широко раскрытыми глазами:
— А я точно не знала, мне же было семь лет. Я что-то слышала от взрослых, что-то припоминаю. Говорили, что за станицей был бой, наши отступили, а трупы так и остались на снегу и морозе.
В это время из динамиков вагона раздался вежливо-казенный голос:
— Вниманию пассажиров! Следующая станция Адлер. Стоянка пять минут.
Аня с некоторой суетливостью сказала мужу:
— Так, Данек, быстренько собираемся, нам выходить, — и уже нам: — Господи, я же вам не все рассказала, дальше же было самое главное.
Аня встала и начала поспешно как бы диктовать нам:
— Значит так, мама откуда-то узнала, что в Туапсе в госпитале на лечении находится тяжело раненый папка, она каким-то образом добралась до этого госпиталя, устроилась санитаркой и выхаживала его, я подслушала ее разговор с тетей, что в нее влюбился главврач госпиталя, мама была красивая, и он уговаривал ее остаться в госпитале, но мама опять каким-то образом с отцом после госпиталя добралась до нашего дома, и когда я его увидела вначале, то испугалась, был это какой-то незнакомый обветшалый человек со странной деревянной култушкой вместо правой ноги, но потом я к нему привыкла и полюбила.
Поезд начал притормаживать. Аня увеличила темп речи:
— Папу немцы назначили старостой, мужиков-то не было, и неизвестно, что было бы с ним после окончания войны, когда наши начали приближаться к станице, немцы начали со дворов уводить коров, двое немцев из сарая стали выгонять нашу корову, а она была стельная, уже за воротами папка стал что-то кричать и показывать руками, они его оттолкнули, он замахнулся костылем на особо рьяного немца, и тогда тот направил на папу автомат и выстрелил, папка упал, корова с испугу побежала по улице, этот же немец дал очередь по ней, корова упала и задрыгала ногами, я все это видела своими глазами.
Аня на какое-то мгновение остановилась и скорбно произнесла:
— Папка умер, немцы убежали, — и Аня следом радостно произнесла: — А корова наша перед смертью родила теленочка.
Поезд остановился. Супруги с небольшими пожитками начали продвигаться к выходу. Аня, оборачиваясь к нам, что-то быстро и выразительно говорила, супруг ее Богдан уже на выходе повернулся к нам и с улыбкой поднял в приветствии-прощании правую руку.
Вот как бывает, словно в одночасье увидели мы страшную картину, будто побывали в ней. Сколько осталось людей, что еще помнят, и сколько еще людей, которые выдумают чего не было?
Прыжок, которого не было Фельетон
Один человек, очень большой не в смысле роста, а по обстоятельствам, решил взять высоту. Одетый в красивый спортивный костюм, обутый опять же в красивую спортивную обувь, начал разминаться. Сделал несколько восточно-единоборских выпадов ногами, корпусом, руками, а люди, собравшиеся вокруг, закричали с воодушевлением: «Слава! Слава великому Разминающемуся!»
Большой человек, опять же не в смысле роста, а по обстоятельствам, приготовился делать разбег. Энергично пототоптался на месте в смысле:
«Счас, счас я эту высоту возьму, и все в мире увидят, что…» Но это «что» заглушили восторженные крики: «Слава! Слава Готовящемуся делать разбег!»
А в это время, как будто не по ничьему велению, образовался круг людей безбарьерных. И ведущий этого круга соловьем разливается в смысле: «Какие мы правильные люди, и как правильно мы живем, и какой у нас правильный Готовящийся к разбегу».
Оппоненты яростно отстаивали, как им казалось, свою точку зрения. Один железно провозглашал: «Наш великий Готовящийся делать разбег сейчас возьмет небывалую высоту, потому что он самый прыгучий!» Другая, прояровев, проговорила слабым голосом: «Он возьмет высоту, потому что он очень прыгучий!» Третий, с жиру сбесившийся, захлебываясь слюной и отирая рукой рот, подбородок и покхекивая, провозглашал: «Он самый великий Прыгун, которого знает мир!» А немощный литератор, выхлебывая слова, начал говорить про ханов татаро-монгольских и закончил лозунгом: «Прыжок Готовящегося делать разбег спасет не только нашу страну, но и весь мир!»
Из этого круга осталось двое, нетерпеливо внутри себя ждущих своей очереди. Один такой крупный не по значимости своей, а по фактуре, с грубым и по-плотницки сколоченным лицом, начал убедительно зюганить: «Мы уже давно говорили, что надо было делать этот прыжок, и мы с этим согласны. Кстати, в нашу партию все больше и больше поступают некоторые молодые люди».
Последний из круга, по очереди последний, с внешним видом отличника, который все знает и у которого якобы нет ни кона, ни двора, начал выстраивать логическую цепь: «Мы должны поменять форму, содержание и, главное, обувь, тогда мы сможем все дальше и дальше уходить от Запада, а Запад, значит, будет становиться все западней и западней, пока не попадет в западню».
Собирающийся делать разбег потоптался энергично и опять же энергично произнес, как будто открыл истину: «Так вот в чем дело, вот что нам мешает! Пора менять форму, обувь и содержание. Долой все импортное! Да здравствует наше отечественное и суконное!» И вокруг закричали, споткнувшись и замешкавшись на слове «суконное»: «Славься наше отечественное, самое суконное в мире!»
Собирающийся сделать разбег переоделся в какие-то расползающиеся треники, переобулся в какие-то разбитые тапки и энергично приготовился к разбегу в смысле: «Счас, счас». А в это время тьма наступила и планку, обозначающую невзятую высоту, не стало видно совсем.
Люди говорили, что той планки и вовсе не было, а действо с разбегом — просто имитация. Вот такая произошла история, хотя к ней может кое-кто прилепиться и расскажет ее по-своему, по-другому, как надо.
Группа Эскиз
Он сидел в полузатемненной веранде кафе с открытым видом на площадь. Ел степенно свой суп. За столиками кафе сидели люди и тоже степенно ели свою еду. И вдруг мимо кафе на площади на свету стремительно, порывистым шагом идет его группа и в маршеобразном ритме радостно, вдохновенно поет, почти кричит:
— Шумел камыш, деревья гнулись…
В строевом движении группы, ее пении было столько вдохновения и счастья, что в душе его появилось, зашевелилось еще не ясно выраженная родственная причастность к группе и предчувствие счастья.
Это ощущение росло, он с сомнением посмотрел на свою тарелку с недоеденным супом, на посетителей кафе, с осуждением поглядывающих на движение и пение группы, и вдруг в душе зазвучало отчаяние, что он может пропустить самое главное в своей жизни.
Он рванул из кафе на свет площади вслед удаляющейся группе, она уже уходила к началу перекрестка, уже начала его переходить, еще было слышно их пение — крики, и вдруг легкие его раздулись как меха, и, широко шагая, догоняя группу, он запел радостно во весь голос:
— Шумел камыш, деревья гнулись…
Ему казалось, что в пении группы преобладали женские голоса и ей что-то не хватало, и вот сейчас его мощный голос дополняет и усиливает группу.
Он продолжал петь:
— А ночка темная была.
В порывистом и радостном пении он перешел перекресток, за которым стояла его группа, но уже обесцеленная, как сдувшийся шар.
Он уткнулся лбом в плечо близлежащей женской фигуры и в убывающем порыве счастья прошептал:
— Господи, как я вас любил.
Сом Басня
Сом вышел на ночную охоту и по ходу следования увидел живца, подвешенного на перемете. Но сом не видел перемета, он видел только рыбу.
— Ну вот и рыба, — молча сказал себе сом, — вот и еда, одним словом — везуха.
Заглотнул живца сом и как в воду глядел. Утром повез рыбак пойманного сома на рынок.
Мораль: прежде чес заглатывать что-то, посмотри — нет ли там крючка.
Взрыв (фэнтези)
Ночью ему приснился сон.
Около гаража он заливает в бак своей машины бензин. И вдруг возникает тугой, с закрывающей все пространство вспышкой беззвучный взрыв. Его разносит на куски, и они разлетаются стремительно в стороны и вверх. Вблизи этих кусков какая-то живая часть его что-то кричит, но он не слышит ее слов.
На следующее утро, заправляя свою машину бензином, он вспомнил сон и подумал: «Ну, что же, такое бывает, электростатический разряд — и нет техники, нет и человека».
И вдруг раздался раздирающий пространство звук с огненным светом. Его разнесло на куски, и они, опаленные, разлетаются стремительно в стороны и вверх. Вблизи этих кусков какая-то живая часть его обрадовано закричала:
— Я так и знала. Я так и знала!
Кошка (зарисовка)
Кошка скучно осмотрела комнату. «Нет ничего нового, все то же». Устало попереминалась на лапах. «А не пора ли спать? Да, пора». Присела медленно на задние лапы, мягко согнула и подвернула передние и легла. Тихо замурлыкала. «Да, жизнь наша тяжелая…» Хлоп глазами, хлоп. «Тяжелая… можно сказать…» Глаза закрываются. «Можно сказать, собачья жизнь». Кошка встрепенулась, вскочила сразу на четыре лапы, выгорбилась, шерсть стала дыбом, испуганно-тупо вытаращила глаза. «Где собака? Кто сказал собака?» Осмотрелась. Успокоилась. «Нет собаки. Я сказала собачья жизнь, а надо бы сказать кошачья. Дура я». Опять прилегла на согнутые лапки. Хлоп глазами, хлоп. «А почему дура? Может, и не дура. Вон как устроилась. Тепло. Всегда кусок мяса». Пошевелила нижней челюстью. Хлоп, хлоп. Глаза закрылись. «Тепло… спокойно…» Тс-с! Кошка спит.
Сеанс ясновидения Рассказик
Было это в моей далекой юности. Приехал я в гости на Брянщину. После обычных бытовых разговоров моя тетя, а она была женщиной бойкой, любопытной и с хорошим чувством юмора, спросила меня:
— Ну, а что у вас там новенькое, интересное было?
— Да, — с воодушевлением отвечаю, — приехал к нам на гастроли Вольф Мессинг и такие невероятные опыты проводил, аж страшно! Человек в его отсутствии прячет в зале вещь, Мессинг приходит, берет его за руку, они ходят по залу, и Мессинг обязательно эту вещь находит, куда бы ее ни спрятали! Телепатия называется.
— Вот к-а-а-к?! — иронично протянула тетушка и следом спросила опять-таки иронично: — А как же это по-русски будет звучать?
Я несколько замялся:
— Ну как? Ну, это угадывание мыслей. Ну, это как ясновидение.
— Ясновидение? — тетушка встрепенулась, затем лицо ее приобрело безразличное и в то же время таинственное выражение. — Не знаю, как твой телепай, а я сама обладаю ясновидением. Хочешь, не выходя из дома и не выглядывая из окна, точно тебе скажу, что делается во дворе?
— Не может этого быть! — со смесью восторга и недоверия сказал я.
— А вот и может, — серьезно ответила тетя и предложила провести со мной опыт.
— Давай, — говорит, — условимся так. Ты выходишь из дома, идешь на его тыльную сторону и принимаешь какую угодно тебе позу. Когда у тебя будет все готово, ты громко спросишь: «Тетя, как я стою?» И я, не вставая с места, точно укажу твою позу. Через открытое окно все будет слышно.
Я, ничего не отвечая, рысью побежал к двери. Кожа стянулась, по позвоночнику прошел холодок. Я впервые становлюсь участником самого таинственного явления жизни. Забежал за тыльную сторону сруба, где не было окон, и заметался на месте. Какую же такую принять позу, чтобы усложнить задание для тети и тем самым ее проверить? Наконец я ее нашел. Я стал на одну ногу, другой заплел ее, вытянул вверх правую руку, скрутил фигу, левой ладонью закрыл глаза и дрожащим голосом крикнул: «Тетя, как я стою?» — и тут же как можно дальше высунул язык.
Через короткую паузу раздался громкий, со смехом, голос тетушки:
— Как дурак!
Вначале я опешил, но уже через минуту катался по земле от смеха. А вы говорите, что ясновидения нет.
Как муж жену вылечил Рассказ
Бывают свадьбы такие вот, большие, шумные, когда гостей на них присутствует человек за сто, когда арендуют большой зал, нанимают оркестр, тамаду. Вначале все идет как будто нормально: и тамаду слышно, и поздравляющих — а потом зал как бы раскалывается громкой музыкой оркестра на отдельные ячейки, и эти ячейки живут своей автономной жизнью. Люди этих ячеек уже разговаривают и танцуют о своем, лишь иногда впопад и невпопад крича: «Горько! Горько!»
Волей случая (хорошие слова, когда не надо объяснять подробности, чаще всего неинтересные) попали на эту свадьбу и мы с женой. Соседями нашими, визави, оказалась супружеская пара, и, как бывает на таких свадьбах, совершенно нам не знакомая. Общаться в таком гуле можно было только мимически, жестами и знаками внимания.
Лишь выбравшись из зала в вестибюль, мы смогли там спокойно познакомиться и поговорить. Когда я им сказал, что работаю психотерапевтом, они сразу же заулыбались, как будто это было удачной шуткой:
— А, — продолжая улыбаться, спросил муж, — это вот те, кого вы лечите? — и покрутил пальцем у своего виска против часовой стрелки.
— Нет, — серьезно ответил я, — это вот эти, кого я лечу, — и покрутил пальцем у своего виска по часовой стрелке.
Когда же я им объяснил, что лечу неврозы и кое-что рассказал о нервных расстройствах, супруги уже в открытую смеялись, как будто это было шуткой еще более удачной, чем первая. Давясь от смеха и перебивая друг друга, они мне рассказали очень интересный случай излечения невроза (надо полагать, истерического) домашними средствами.
История эта произошла в то старое, относительно доброе время, когда доллар в нашей стране еще не разрастался буйно деревом с вечнозелеными листьями (а сейчас от некогда относительно великой страны осталась некая неопределенная странность. Впрочем, это уже другая история). Первым начал рассказ Виктор, так звали супруга. Роста он был прямо-таки гренадерского, выделялись также рыжеватые волосы и большой нос. Лицо его выдавало крестьянское происхождение, но носило на себе и следы городской ауры. Он продолжал улыбаться и рассказывал:
— Десять лет назад я окончил сельхозинститут, кстати, с красным дипломом, и после защиты сразу же женился вот не ней, Ларисе, — он слегка притянул супругу к себе, приобнял и в такой позиции продолжал рассказ:
— Мне предлагали поступить в аспирантуру, но вначале хотелось создать экономическую базу, и, откровенно говоря, рвался на работу как в бой, хотелось попробовать себя, испытать. В это же время мне предложили место председателя колхоза, и, преодолев сопротивление вот этого материала, — он еще теснее прижал Ларису к своему боку, — мы с ней выехали в станицу.
— Ну, вы сами знаете, какая работа у председателя (Откуда я знаю? — хотел закричать я. — Я врач, вот диплом! — но промолчал.) — посевная, уборочная, техника, финансы, люди. С раннего утра до позднего вечера намотаешься, дома поужинаешь, и только одно желание — добраться до койки и уснуть.
— И тут я стала замечать, — вклинилась в разговор улыбающаяся Лариса, женщина небольшого роста, черноволосая, кругленькая вся такая, пухленькая, с глазами цвета спелой сливы, — что он, мягко говоря, охладел ко мне. Я по образованию программист, в колхозе по моей специальности работы не было, вот и сидишь весь день дома, приберешься, ждешь его, а он поест и сразу спать, и храпит как трактор.
А тут еще соседка-старушка сочувственно мне сказала:
— Смотри, он парень у тебя видный, как бы та рыжая кобыла-бухгалтерша его не увела, — и как бы уже хороня меня, добавила: — Жалко мне тебя, ты женщина хоть и молодая, а хорошая. (Ну и логика! — в скобках подумал я). Я тут все сопоставила — и охлаждение мужа ко мне, и частое упоминание его типа «вот мы с Раисой Петровной…» — и мне все стало ясно (Вот дура! Вот дура! — хотел закричать я, но благоразумно промолчал). Нет, до чего дошла, — и Лариса в самоиронии начала прямо-таки смеяться, — около правления в кустах затаилась как партизанка и полдня провела в засаде. Когда они вышли из правления, и он открыл дверцу машины ей, этой рыжей кобыле, и они куда-то уехали, в моей голове все затмилось, и я подумала, что все — это начало конца, скоро наступит его конец (Э-э, это уже совсем непонятно).
Продолжая приобнимать жену и улыбаясь, в разговор вступил Виктор:
— В этот вечер состоялся грандиозный скандал. Началось по-милицейскому типа «раскалывайся, нам все известно, у нас есть убедительные факты и неопровержимые доказательства». Это были лишь тучи, потом последовали осадки в виде слез и потом уже посыпался град упреков. В конце концов Лариса стала собирать свои вещи и, не слушая моих доводов и заверений, заявила, что с нее хватит, что завтра она уедет к маме и в этом доме не будет ни одной ее ноги (Вот хвать твою за ногу! За последнюю — чтобы ногами не разбрасывалась!).
Лариса в одежде легла на кровать, видимо, готовясь к отъезду, я же, озабоченный, пошел курить на кухню. Не помню, сколько успел выкурить сигарет, как из комнаты услышал отчаянные крики о помощи:
— Витя! Витя! Быстрее, быстрее! Помоги мне!
Я вбежал в комнату и увидел, что Лариса тяжело и часто дышит, волосы разметаны, лицо раскрасневшееся, в глазах отчаяние и страх.
— Здесь, здесь, — сдавленно прошептала она, — что-то давит и не дает дышать, — и она слабеющей рукой показала на верхнюю часть груди.
Я пощупал пульс, сердце колотилось как взбесившиеся часы. Заметался в отчаянии по комнате в поисках лекарств, хотя точно знал, что их у нас в доме нет. Наклонился над ней, начал успокаивать, целовать невпопад, растирать холодные руки и ноги.
— Вызывай скорую, — прошептала Лариса и добавила, — если она успеет.
Какая скорая, если до районной больницы сорок километров, станичный фельдшер днем и ночью всегда готов, всегда пьян. Пришлось вызвать своего водителя с машиной. В дороге Лариса начала прощаться, попросила прощение за свою ревность и завещала весь свой гардероб, кроме нижнего белья, моей будущей жене.
— В приемном покое больницы, как мне показалось, ее не очень внимательно обследовали, но тем не менее сделали пару уколов (димедрол, реланиум, — про себя отметил я). Ларисе стало лучше, и нам сказали, что ничего страшного нет, все это нервное, и можно будет ехать домой. Вот после этого и начались мои муки, началось мое наказание безо всякого преступления (обидно, да?).
Без всякой, черт ее знает, закономерности, несмотря на то, что я старался приходить домой пораньше и старался больше уделить ей внимания, в том числе и сексуального, дня через два-три у Ларисы случался приступ. И опять я ее целовал невпопад, растирал ей руки и ноги, но ночью приходилось вызывать водителя с машиной и опять ехать в районную больницу.
Днем — работа, ночью — вояж до районной больницы. Кажется, сам стал доходить. И вот тут наподобие пророка явился мне очередной дежурный врач, весь уже заросший бородой и усами. И сказал мне:
— Сын мой! Я вижу, как ты мучаешься. Жена твоя, как казалось уже не раз, собиралась умереть. И не умрет! — твердо заключил он свою речь. И через некоторое молчание (наверное, советовался с Богом) продолжил:
— А чтобы ее вылечить, тебе надлежит применить некое древнее средство, но это потребует от тебя предельного мужества.
Виктор в этот момент усмехнулся:
— Вы уж извините за эти литературные экзерциции, но это так, для разнообразия (Извиняем, очень даже извиняем, сами, господи, грешны-с!).
Потом он продолжил:
— Вы знаете, я ему поверил. И действительно, сколько раз Лариса говорила, что умирает, и ни разу не умерла. Более того, иногда, даже не доезжая больницы, ей становилось легче. И я решился. Все приготовил, как сказал мне пророк, тьфу, врач.
Приступ не замедлил себя явить. Лариса заметалась по койке, не без примеси эротичности, начала часто дышать и постанывать. Я, как запрограммированный робот, пошел в кухню, взял в правую руку наполненное доверху водой ведро и с ним вошел в комнату. Ни в роже сумняшись (Ой, парень, не то, не то, а может, у него такая шутка? Но главное — действо, действо!), твердой рукой сдернул с нее одеяло и всю воду, находящуюся в ведре, залпом вылил на Ларису, невзирая на ее новую сорочку и все постельные принадлежности.
Лариса вздрогнула, смешно ойкнув при этом, затем некоторое время оцепенело смотрела не меня широко раскрытыми глазами, и вдруг до нее что-то дошло. Она враз вскочила на ноги и в мокрой сорочке, и сама мокрая рванула к наружной двери.
Здесь в разговор со смехом вступила Лариса:
— Вы знаете, когда муж вылил на меня холодную воду, до меня это не дошло, но когда я посмотрела не него, на его дурацкое выражение лица, на ведро в его руке, я поняла, что все — у него поехала крыша! И единственная мысль тогда была — спастись, убежать от него.
— С этого момента, — опять вклинился в разговор Виктор, — начались гонки — самое ужасное и смешное, что я испытал в этой жизни. С пустым ведром в руке, черт его знает, оно как будто приклеилось, я выбежал за Ларисой во двор. Я боялся одного, что она в таком виде выбежит на улицу, а там пойди доказывай — бил, насиловал ли, одним словом — позор. Кричу ей: «Лариса, постой!» — а она, дико озираясь, уже свернула за угол дома.
Со смехом в разговор вступила Лариса:
— Я бы могла сразу побежать по прямой к калитке, но, как и он, боялась позора. Начала убегать от Виктора вокруг дома, оглянулась, а у него вот такие глаза, — Лариса сделала из пальцев рук ободки и приложила их к своим глазам, — и голосом дурным что-то кричит, и пустое ведро у него в руке об углы дома бьется. Вот тут, думаю, мне и конец, надо бежать шибче.
— А я, — подхватил эстафету разговора Виктор, — никак не могу ее догнать. Это я, который играл в баскетбол за институтскую команду. Не знаю, наверное, кругов десять пробежали, смотрю, моя благоверная на финишную прямую к калитке пошла. Ну, думаю, если сейчас ее не остановлю — позор! Из последних сил сделал рывок и грудью ее сбил. Лежим на земле подле друг друга, тяжело дышим. Я хотел было сказать ей что-то убедительное и в жесте поднял правую руку, и вместе с рукой поднялось это подлое ведро. Лариса как только это увидела, заскулила по-собачьи и начала по земле отгребать от меня руками и ногами.
Виктор немного помолчал и под конец бодро заключил:
— Но что самое главное — приступы после этого прекратились. И вообще ничего подобного, как вы говорите, невротического, с ней больше не случалось.
А свадьба гуляла вовсю. Жених лихо отплясывал в кругу девиц, невеста (сам видел!) взасос с кем-то целовалась в коридоре, тамада в микрофон что-то кричал такое, чего и сам не понимал. И время от времени среди этого гула раздавались скандированные крики: «Горько! Горько!» Крики эти вздымались под потолок и, не найдя там свободы, вылетали стремительно в широко раскрытые окна.
Кажется, они и сейчас летят, но уже приглушенно, эти горестные крики над просторами нашей необъятной и странной Родины.
— А что, господа, — подумалось мне, — может, и нам нужен такой вот обкат воды холодной, чтобы мы пришли в себя? А может, он уже и произошел, но мы его никак не прочувствовали, как в старой шутке: «Однажды иду по улице, смотрю, кого-то по шее ударили, оглядываюсь, а это меня»?
Антоныч (святочный рассказ)
«Если б знак был».
(Из кухонного разговора)Антоныч прибыл домой в хорошем алкогольном заводе. Мельком посмотрел на хмурое лицо жены своей, Андреевны, и понял, что рассчитывать на добавление не придется.
— Во, молчит — и то хорошо, — сказал внутри себя Антоныч и продолжил опять же беззвучно: — Если б бабы всегда молчали, им бы цены не было.
Он неприкаянно походил по квартире, посовал нос во все углы и ничего не нашел. Жена молча, неподвижно, как памятник, смотрела телевизор. На душе у Антоныча было неспокойно, он испытывал томление какое-то, какие-то позывы сродни неутоленной жажде. Возвращаться обратно, откуда он пришел, было поздно, да там все уже было и выпито, в доме он ничего не нашел. Тогда Антоныч вспомнил, что в сарае у него была «ханырка», в которой он частенько прятал спасательную дежурную бутылку.
В каком бы опьянении Антоныч ни был, он всегда помнил, есть она там или нет. Вот и сейчас, когда прошли новогодние и рождественские праздники, он точно знал, что там ничего нет. И тем не менее Антоныч, сидя на кухонной табуретке, с мечтательной улыбкой представил, как он идет в сарай, достает из «ханырки» бутылку вина и неспешно, нежными глотками отпивает его. У него даже появились глотательные движения. Антоныч встал и медленно, оцепенело двинулся к сараю. Он знал, что этого не будет, но ему очень хотелось, и Антоныч, никогда сознательно не веривший в Бога, начал шептать, причитывать:
— Господи, если ты есть, сделай так, Господи, чтобы она там была, прошу тебя, Господи. Господи, тебе же это не трудно сделать, сделай так, Господи, чтобы она там была, прошу тебя, Господи!
Войдя в темный сарай, он как бы почувствовал бутылку на расстоянии, он даже знал, какая она. Антоныч торопливо прошел в дальний левый угол, с нетерпением, но четко запустил далеко в щель руку. Рука его коснулась холодного тела бутылки. Потрясенный Антоныч медленно вытащил ее, поставил на пол, нашел спички, зажег одну из них и осветил бутылку. Перед ним стояла его любимая «Анапа». Внутри у Антоныча все замерло, он даже протрезвел, потом где-то в груди появилась заполненность чем-то легким, и от этого места начал исходить как бы ласковый свет и тепло. Пить не хотелось, вино стало чуждым ему и безразличным.
Антоныч вспомнил, что нечто подобное он испытывал примерно год назад, да-да-да, как раз тоже на святках. Утром он тогда проснулся с противным состоянием похмелья и, ничего не добившись от жены, вышел из дома. Идти было некуда, в «ханырке» пусто. И тогда у него возник замысел — сделать пару посылочных ящиков, срочно продать их, и поправка здоровья ему была бы обеспечено.
Вначале фанера пилилась плохо, неровно двигалась пила, затем движения стали точными, выверенными, и, словно играючи, Антоныч сделал первый ящик. Поставил его на верстак, крепко похлопал ладонями со всех сторон и остался доволен.
Сидел, курил и смотрел на ящик. Начал представлять, как одна семья, ну, предположим, дед с бабкой заполняют чем-то посылку, а другая семья — и в ней обязательно как бы внучок — открывают ее с нетерпением, достают содержимое и радостно удивляются, а внучок так и ходит вьюном вокруг посылки. Антоныч встрепенулся, подошел к ящику и сделал пропилы в нем, чтобы можно было пропустить шнур, и тогда посылку будет нести удобней. Потом представил, что острыми углами ящика можно порвать одежду или там чулки, и большим драчевым напильником ликвидировал углы. Ящик получился округлым, ловким, таких Антоныч раньше не делал. Точно таким же он сделал и второй ящик и тоже долго смотрел не него. Пить не хотелось. От теплого ласкового ощущения в груди Антонычу стало тесно в сарае, он взял снасти и пошел на подледный лов.
Вот и сейчас, ощущая то же самое тепло, Антоныч смутно улавливал связь между тем состоянием, прошлогодним, и теперешним. Опять же смутно и трепетно он понимал, что прикоснулся к чему-то важному для себя, может быть, самому главному в жизни. Антоныч взял бутылку и пошел в дом. Молча поставил вино на середину стола. Андреевна испуганно-удивленно спросила:
— Отец, откудова у тебя это?
— Господь Бог послал, — значительно ответил Антоныч и пошел спать.
С тех пор Антоныч на пьет. Позже он узнал от соседки под большим секретом, что в тот самый вечер Андреевна, увидя, что муж пришел домой под хорошим хмельком, вынесла под фартуком тайком «гостевую» бутылку вина и впопыхах, наугад, засунула ее в сарае в ту самую «ханырку» Антоныча, ничего не подозревая о ее существовании. Андреевна настрого предупредила соседку не говорить всей правды Антонычу. Ей казалось, что если он узнает правду, то непременно запьет.
Антоныч узнал все это, но не запил. Он стал жить по каким-то своим внутренним правилам. Он не понимал ясно смысла этих правил, как и смысла жизни вообще, но определенно чувствовал связь между ними и тем легким, светлым теплом в груди, которое у него появилось и которое как бы распространялось на окружающих.
Как-то Антоныча спросили о чудесном, потустороннем, имея в виду и его собственное отрезвление. Антоныч улыбнулся слегка и ответил вроде бы не к месту сказанной приговоркой, впрочем, им же и придуманной:
— Смеясь и играя, мы учимся жить.
Стадион (фэнтези)
Ночью сквозь сон я почувствовал боль в груди слева. Она, как пружина, сжималась в силе своей все более и более, я, наверное, даже проснулся, и когда казалось, что я этого сжатия не выдержу, боль в один миг прекратилась и по телу прошла приятная волна теплоты и истомы. И я опять, как мне кажется, впал в забытье.
Утром я пошел к школьному стадиону. Солнце еще не взошло, но на месте его всхода лимонно-желтым цветом окрасилось небо. Я вдруг неожиданно для себя сказал всходящему солнцу: «Спасибо», — и начал свой бег. При беге я не чувствовал тяжести своего тела, оно казалось легким, невесомым; пространство, воздух вокруг меня были свежими, чистыми, и я впитывал его будто не только легкими, но и всем телом.
На повороте круга я увидел стоящую Варю, она приветливо-пригласительно махала мне правой рукой и, как всегда, радостно улыбалась. Я как-то опешил и в некоторой растерянности продолжал бег. Растерянность моя еще более усилилась, когда чуть поодаль я увидел Михаила Ивановича, подполковника в отставке. Он в приветствии приподнял правую руку и почтительно поклонился. Наконец меня осенило:
— Господи, так ведь они уже умерли. Подполковник в прошлом году, Варя не далее месяца тому назад.
Я пошел шагом и начал осматриваться. Теперь не только то место, где всходило солнце, но и все пространство было наполнено лимонно-желтым чистым светом. Одежды у Вари и у Михаила Ивановича были как бы шафранового цвета, а кожа рук, шеи, лица отдавала какой-то неестественной голубизной. Я даже подумал, что вот такое делают киношники в своих фильмах, но от этой мысли мне легче не стало, и в той же растерянности, но с удивительно легким телом я направился к дому.
У моего подъезда на табуретках стоял гроб с покойником и небольшая группа людей. Когда я выходил из дома, ничего этого не было, как это могло так быстро образоваться? Я подошел поближе и посмотрел на покойника. Это был я, то есть в гробу лежал мой труп, похожий и непохожий на меня, во всяком случае какой-то отстраненный от всего. Растерянность, державшая меня в напряжении, вдруг ушла, как воздух из проколотого мяча. В голове осталась пустота, и в этой пустоте всплыли строчки когда-то прочитанного стихотворения: «Скупое выражение лица, и мрамор лба холодный…»
Пришибленный пустотой, я начал оглядываться. Слева от гроба со скорбным выражением фигуры и лица, в черном, стояла жена, справа — в черном же — дочь. Подле дочери — внук, одетый в адидасовскую одежду и обувь, нетерпеливо переминался с ноги на ногу с выражением лица растерянным и в то же время нетерпеливым в смысле «побыстрее бы все это кончилось». Других я уже пристально не рассматривал, вскользь только заметил, что у некоторых лица были смиренно-благостные, у других жалостливые, а у иных сквозь маску сочувствия просматривалось удовлетворение, вот-де, он умер, а я — слава богу, живу. Самое главное — я заметил, что они на меня, как говорится, ноль внимания, как будто бы я был для них человеком-невидимкой. Я в растерянности осмотрел свои руки, ноги, одежду — все было как обычно. И вдруг я почувствовал на правом своем плече легкое дуновение. Обернулся и увидел Виктора, своего сокурсника, сподвижника, умершего два года назад. Одежда у него была шафранового цвета, лицо и академическая седина отдавали голубизной, выражение лица спокойное, устоявшееся и, я бы сказал, все понимающее. Упреждая мой вопрос, он начал говорить, и я заметил, что губы его не двигаются, рот не раскрывается, но я его отчетливо слышу и понимаю:
— Мы форму не имеем, но можем принимать любую. Ты тоже покамест находишься в привычной для тебя форме.
Виктор слегка улыбнулся и, опять-таки не раскрывая рот, продолжил:
— Тебе предстоит многое узнать, но у тебя есть еще один вопрос. Я знаю какой. Задавай его.
— Да, да, — закивал я головой и в нетерпении, с затруднением в подборе слов спросил и при этом почувствовал, что губы мои не шевелятся: — Скажи мне, вот ты уже здесь, то есть наверху, или как там еще, два года. Видел ли ты Бога, познал ли его?
После небольшой паузы Виктор сказал мне последнее, что я от него слышал, вернее, воспринял:
— В нашем мире нет времени как такового, нет ни низа, ни верха, есть только качественные изменения. Действительно, сбросив эгоцентрическую оболочку, мы избавляемся от паразитарного пространства, многое познаем, и воспринимаем мы то, что хотим, но… давай я тебе лучше расскажу небольшую притчу, вернее, ее окончание:
«…И тогда в отчаянии и нетерпении человек закричал:
— Кто ты, Господи? Дай мне понимания Тебя, и я увижу Свет!
И вдруг в Душе своей услышал человек голос Самого:
— Человече, не кощунствуй! Там, где к тебе придет понимание Меня, Меня уже не будет, и вместо Света явится тебе зеркало, в котором будет отражение тебя».
Я до сих пор не пойму — приснилось ли мне все это или пригрезилось на краю сознания, там, где Свет незаметно переходит в Тень, но одно я понял: мы не можем себе представить Божественность, кроме как через отношение к нам Бога, и это отношение может быть выражено в том, что Бог дает нам возможность идти к Нему.
Я не знаю, как я буду жить дальше и суждено ли мне жить, но с тех пор Душа мая наполнилась словами:
— И устремимся мы к Господу, и примет Он нас на руки свои, и будем на руках Его, как дети Его.
Поэзия
Слова
Лес задумчиво-грустный стоит, Слегка побеленный снегом. В душе тихо песня звучит, Как отголосок неясной неги. По речке льдины плывут, Будто тянет конвейер ленту. Слова мои никуда не дойдут, Растают и канут в Лету. Я судьбу свою не хулю И знаю: стихи мои не праздны, И я Господа благодарю За тихий и светлый праздник.Меня нигде нет
Человек тщетно повсюду искал Бога, В отчаянии спрашивал: «Есть Бог или нет?» «Бога нигде нет» — было его итогом, Солнце зашло, и померк дневной свет. Человеку спать не давал душевный ропот, Но утром, когда росою сверкнул рассвет, Он откуда-то явственно услышал шепот: «Меня нигде нет».Волны
Философ старый умирал, Ученики к нему прильнули, — Скажи, что о смерти ты узнал, Коль испытал ее прилюдье. Едва дыша, ответил старец, — Смерти нет, есть точка, Сияющий жизненный венец Лишь будет только обесточен. — Скажи, где нам искать тебя, Когда тебя не будет? — Ищите меня в людях. Учение мое, как камень в воду, Любви и мудрости создастся волны, И волны будут те идти по своему пути. И может быть, они кого-нибудь коснутся, И может быть, помогут им проснуться. Не важно, что меня забудут, И был ли я? Иль буду? Учитель старый умирал, Что перед смертью говорил, Об этом раньше знал, Что прошептал себе сказал. И умер.Самолет летает сам
Я на голос скорби иду, даже когда она не зовет, движения души идут самолетом, направления нет, может, Запад, а может, Восток, есть сигнал — кого подбили на взлете, сколько спину свою ни горбь, скорбь свою не закроешь горбом, есть Запад и есть Восток, и есть сигнал — кого—то подбили на взлете.Как-то так
Дождь нетактично в окно стучит, Ветер с такта его сбивает. Так-то так, — дождь говорит, Но ветер его забивает. Я вам то-то и то-то хотел сказать, Дождь начинает, Но ветер бузит, — Ничего он не знает! Я природы многокрылая быль, Буйство энергии, удаль, А он это дождь забыл? Или, может быть, он Иуда? Я узы логические разбиваю в клочья, Противоречия собираю в тучи, Чтобы на людей обрушить Грозой добываемые многоточья! А бывает так, гроза, уходя, ворчит, Истины — молнии в землю ушли, Мелкий дождь монотонно накрапывает И будто бы истину говорит. Так-то так, все хорошо, Ты поработал, ломит спину, Противоречий никаких нет, Так-то так, а теперь спи, ну!Однажды жил человек…
Однажды жил человек — и умер. Господу помолимся, Господу помолимся, а за что? За то, что жил заскорузло, Если даже собственное гузно В чистоте не держал? Но твердо знал, что есть интеллигенция, Гнилая, вся в говне, По пьяни говорил: — По мне, Всех этих тварей надо бы в расход. Бил в грудь себе: — Не потерпит народ! Добился, вдруг поперхнулся, Блевотина пошла, и захлебнулся. Жил человек один и умер.Вы…
Вы, мнящие себя правильными людьми, Скажите, что вам мнится? Озлобленность к инакомыслящим? И раболепное желание подчиниться? Любым, сидящим на троне, И думаете — удары жизни нас не тронут. Вы, логику испохабив, взываете к Аристотелю, Цитируете, когда выгодно — dura lex, sed lex, И в то же время знаете — на троне подлец. Говорите — пройди до окраины — лучше его не найдешь И в то же время знаете, ложь! К трону даже вошь не пройдет за грош. Вы, имеющие хорошие прибыли и оклады, Хотите, чтобы все оставалось и было как было? А остальное для вас гнильцо и быдло. Все у вас складно, но сказка ваша не станет былью.Лужи
Дождь сыплет сквозь сито туч — «Гусиная кожа» на лужах, И воду дождя они пьют, Хотя это им и не нужно. Ночью тихо мороз придет, Повиснет над лужами в изумленьи, Потом горестно и сильно вздохнет, И те застынут от удивленья. Наступило утро морозное, чистое, Опушенные инеем деревья стоят. При ветре пыль летит серебристая, И стеклянными глазами лужи глядятКрест
Я годами своими пророс В следующий век, ничего Не принимаю на веру, Если явится мне пророк, Я и ему не поверю. Где они были, где они есть? Люди страданиями и болью наелись, Был Человек, несущий от Бога весть, Памятником-объявлением стало тело, Прибитое гвоздями в крест. «Даже тех, кто меня бил, Мысль ваша да выйдет из круга, Как я возлюбил, Так и вы любите друг друга».Переезжали, вещи пассивно лежали…
Не помню — сколько было мне годов, Четыре или пять, но был готов Время изменить. Вещи свалены на пол, Настенные часы стали напольными, И по часам бью молотком словно молотом, Каким-то одушевлением наполненным В испуге! — Нарушил структуру пространства! Бежал не по законам Бернулли, Затем меня домой вернули, прилюдили В обычное время и постоянство. Но, видимо, и сейчас во мне сквозит С ветром непостоянное братство, Надо, надо разбить лежащее постоянство.Мы сами блестящие…
Мы сами блестящие, Одежды на нас белые, Мы твердо идем вперед, Почему же люди не бедные С взором горестным говорят, Что не так все идет. Историю России писали радонежской краской, Кликуши кричат, — прошлое не тронь! А прошлое обнажается, и виден обман и кровь. Вот и сейчас достают радонежскую краску, И мажут ею настоящее понятно по чьей воле, Воинственно кликуши кричат: Готовсь к Куликову полю! Если кто-то не так подумал И высказал это в слове, Агрессивные крики звучат: — Пятая колонна! Изведем ее поголовье! Вопросы будут решать спортсмены и байкеры, Мозги которых отбиты в драках, Аргументы их — кулак и бита, Остальные будут ходить в дураках. Страна насыщена сумерками, Отравлена каким-то зельем, Кажется, мы опускаемся в средневековое подземье.Давай посидим спокойно
Давай спокойно посидим Покамест мы совсем не поседели, Взор свой направим в дальние дали, Мы так давно не молчали. В молчанье уйдет бес печали, Давай посидим без печали, Не будем будить тишину, Чтобы черти ничего не забрали, Чтобы истину познали одну: — Чем наше дыхание становится тише, Тем более дыхание Бога услышим.«В душе соединяются в купе…»
Когда меня не будет, наверное, за столом или еще где, может, вспомнят обо мне, скажет кто-нибудь раздумчиво: «Был он парень странный и не совсем в себе, стихи писал рваные, и не совсем лоялен был к стране». Скажу пока могу: «Время другое, нельзя, как Есенин, душегрейку разрывая вдруг, прокричать на всю округу: «Я люблю тебя, Русь!» Любовь глубинная, тихая, в туне принимаются когда противоречия, и в душе соединяются в купе Вера, Надежда и Боль, и не нужны тогда, Историко-истерические речи».Моги
Лишь только раздвинулись ноги, В обрамлении черном, светлом иль без, Появилась галантная Моги, — Никого нельзя оставлять без надежд, Могу я дать или не дать, Смысла искать? Какой вам в этом толк? Главное, чтобы я горела и плыла И выделялся жизни сок. А арифметика проста, и свой ты уд не три — — Там, где было двое — будет вскоре три. О, боги, все может Моги, Если захочет раздвинуть ноги. Когда я по-французски ни бе ни ме, Мне хочется послать, але к Курбье.«Не поделиться, не разделиться…»
Самая большая моя горесть, Может, это дьявола заволокая тень В непонятных одеждах, как горец, Я хотел собственный показать свой день. Вон он — это мое открытие! Радостью хочу поделиться, смотрите! Но вижу застегнуты лица, Не поделиться, не разделиться.Поэзия, как конь…
Поэзия, как конь нестреноженный, бьет копытами, глазами косит, к себе не подпускает, а ты идешь к нему шагами шепотными, себя к нему приближаешь, но вот отчужденность ушла, вы стали близкими, у тебя с конем одна душа, и эта душа заискрилась брызгами. Конь-поэзия дал себя оседлать, рифмы, ритмы как сложатся, ты можешь ехать медленно, чувствуя просветленную благодать, а можешь помчаться быстрее ветра, и чувства будут бить через край, скакать, скакать, не пересказать, и самое главное, и самое главное, другим не достать.Онегин
Четырехдольным ямбом Хотел сказать я вам бы — Писать Онегина не трудно, Бывает иногда занудно Нанизывать идущие сами собой слова, Героя перебрасывать то влево, вправо, Но право, поверьте мне, Игра та стоит свеч, Ведь впереди и слава. Как бедного Онегина склоняли И в сочиненьях проклинали, Как будто был живой, А не придуман кудрявой головой. Хотя допрежь Онегины и были И всю Европу исходили, Но были те не те, А наши те, как говорится tet-a-tet. Вот и конец, любезный мой читатель, Поэта Пушкина читайте, почитайте, Я пойду во мгле, а вы идите к свету, Нет лучшего на свете искать ответы, И обуви не будет вашей сноса, Из темноты вороной прокричу свои вопросы.Кесарю кесарево, а…?
Неблаговидный народ, так и шутит и врет, Провозглашают: — Воздай кесарю кесарево, А тут из толпы: — А слесарю — слесарево. Только слесарь информированный оптимист, Потому и пессимист, он все видит, Как и что и висит, На каком и расстоянии И в каком и состоянии. Кесарю до жизни страшно далеко, Смотрит его око, да неймет, Ухо слышит только то, Что надует в ухо свита, В основном художественным свистом. Кесарь потому и оптимист, Ему дуют в ухо то, что хочет, Потому и бодр, смеется и хохочет. Выпукло останется в памяти вовсе не Редедя, А тот сказал кто: — Бей первым Фреди.Я со своими стихами…
Я со своими стихами как неспокойный покойник под льдом, медленно проплыву под вами, а вы в проруби оттолкните меня багром, я по течению возвращусь к вам снова, а вы не сердитесь, лучше определитесь, — старый я труп или новый, ну вот, а теперь я свободен, по реке пойду и сольюсь с Летой, никто из вас не спросит: «Где ты?» — никто не передаст привета.Тоска
Снова меня тоска спеленала Невидимой и тугой материей, При том песенку она напевала, И я верил ей и не верил. «Я тоска-тоска, Круты у меня бока. Я тискаю, таскаю, Прижму и отпускаю». Марля дождя висит над лесом, Тупо стучит о железо капель. Господи, как мне надоела С этой тоской канитель! Мне осень в окошко стучит Холодной и красной ладошкой калины. Вдалеке где-то песня звучит, И слова ее чисты и наивны. Что-то во мне шевельнулось Неясной и тихой мелодией, И тоска вдруг обернулась В такую вот аллегорию: «Ты, тоска-тоска, — Великая потаскуха!» И смех у меня ползет От края уха до уха.Солдат Алексей Данилов
Служил солдат Леха Данилов, Никого не давил он, С неба звезд не хватал, Был больше он молчаливым, Но, кажется, свое что-то знал. Было это во время оно, давно, Не к ночи будь сказано, В советское время еще, Когда человека ставили ни во что. А впрочем, и сейчас, но не об этом рассказ. Выборы наступили: «Партия и народ едины! На выборах голосуют все!» А тут этот Данилов, ехидна, Голосовать отказался совсем. По всему округу объявили аврал, В дивизион наш дальний из полка Принеслись охолуев, как полканы, Замполиты, особисты и дневальный, Только честь отдавать успевал. Леху вывели из строя, В отдалении мухами облепили, Уговаривали, антисоветчину лепили, Но Леха держался как Троя. Леха конституцию знал, Сказано — выборы изъявленье народа, А если он часть народа, то он в этом свободен, И эту позицию крепко держал. Замполиты, особисты суетились словно суки И, отчаявшись, готовы были врезать, Вдруг один из них в очках какой-то суслик Лехе предложил должность хлебореза. Хлеборез — это туз бубновый, Всем хотелось постоянно жрать, Впереди него лишь повар, На каптерщика начхать. Леха от должности отрекся, Лицом не шелохнувшись никак, На нас посмотрел: — Ребята, не спекся, Вас, наверное, не увижу, пока! Леху на губу посадили, Караульные исчезли средь ночи, Все двери открыли, Иди куда хочешь! Леха только за порог, И тут из темноты: — Hende hoh! И на его вопрос один ответ, — Четыре сбоку — ваших нет! Лехи судьба не завидна, Наверное, ждет его штрафбат, А мне до сих пор стыдно, Что не подошел к нему, Руку не пожал и не сказал: — Я восхищаюсь тобою, брат! Бывают на Руси люди неодолимы, Был такой, а может, и есть — Леха Данилов.Метель
Вечернее небо покрыто мглой, Сыплет метель, и ничего не видно. Вверху словно прорвался мешок с мукой, И ветер шалый спешит ее выдуть. Скрипят шаги мои на снегу, И след их глубже, чем нужно, Как будто я еще кого-то несу, Но нет никого, кроме меня и стужи. Потом я вижу следы мои впереди, Куда нога моя еще не ступала, И память мне дятлом твердит: «Такого я никогда не встречала!» Теперь я знаю, что у меня позади. С заминкой я оборачиваюсь быстро, И точно: на снегу мои следы, Метель не занесла их в регистры. Скольжу я взглядом вдоль цепочки той И вижу, что от самого ее начала Мальчишка идет с корзиной большой И пробивается сквозь мглу отчаянно. Я снова пристально смотрю вперед, И видно мне, что вдоль оврага кромки Старик с седой бородой бредет, И плещется у него в руках худая котомка. У края оврага он постоял, Как столб, значительно и одиноко. Потом степенно одежду снял И, обнаженный, пошел в овраг боком. Иду и смотрю на склон противоположный, Лелея в душе надежды слабый огонь, Но все надежды мои оказались ложны, Так и не вышел он на тот склон. Мне голос Безмолвия говорит: «Это не все, что осталось внизу». Только об одном он молчит, Что или кого в себе несу. Метель до идиотизма упрямо метет, Скрипят шаги мои на снегу. Я знаю, что меня ждет. Я все ближе и ближе к оврагу иду.Время летит, крыльями машет…
Вот, казалось настоящее, Время, кажется, стоящее, И мы живые, нетленные, А в прошлом люди застывшие, В фотографии запечатленные, И кажутся уже бывшими. Но жили они, как и мы в настоящем, Душою и плотью болея, Может быть, обращались к кому-то с мольбою, И было для них настоящее стоящим, Наполненным счастьем и болью. Я прошлое хочу в своей душе воскресить, Почувствовать, что оно было безмерно знойно, Не мне решать — было ли оно достойно, Мне самому скоро в прошлое уходить. Время летит, крыльями машет, О чем оно гомонит, что нам расскажет?Погост
Посвящается моей смерти
Погост, как бы нимб над ним, Жили-были — стали погостниками, Молчаливый уговор между ними: — Мы в жизни многое наболтали, Давайте теперь помолчим. И вдруг из-под земли голос немолодой: — Рано меня отпевали, я еще живой. Люди пока живы, не молчите, В закрытую дверь тишины стучите, А не отверзнется вам — закричите, И тогда, может, ваш голос Утолит чей-то правды голод.Репа (в стиле рэпа)
Потер дед свою репу И начал вытягивать репу, А у репы своя репа, И она такое говорит: — Сколько ты не репайся Ничего у тебя не выйдет, Пятки у тебя порепаются, Ишь какой затейник, Пристал как репейник! Позвал дед бабу не глядя, Охочей на дядей. Баба в деда вцепилася, Передом наклонилася, Репа вцепилась в низину, Они тянут-потянут, Как в долгий ящик резину. А тут идет прохожий, На себя не похожий, И видит щель, давно не цель. И тут как тут Вставил туда свой уд. Баба от уд, уд удовольствия Задвигалась, задергалась, На пике закричала, затряслась, Дед, не пикнув, затрясся, Затряслась от страха и репа, Не испытав греха, И вышла наружу без огреха. Все друг друга поздравляют, Здоровья желают, А тот прохожий, Теперь на себя похожий, Не истребовав себе половину, Так куда-то и сгинул. РЭП! РЭП! РЭП! Каждый тяни свою репу, Но не упускай погляда На бабу, охочей на дядей.Ах, как хочется порою…
Ах, как хочется порою К любому подойти без всякого пароля, Сказать: — По-разному мы мыслим, Не может быть единомыслия, Единомыслие — жизни не венец, Единомыслие — скоростный конец.И маргиналы возликуют
От трусости всякая тирания, От слабости и жажда власти, И потому она как пиранья Готова на любого напасть. Все у нас хорошо идет, А кто сомневается — тот продажный Или, может быть, идиот. Там появилась точка протеста, Подавить ее юридической артиллерией, Чтобы никакие умники Рта раскрыть не сумели. Все у нас хорошо идет, А кто сомневается — тот продажный Или, может быть, идиот. И маргиналы возликуют, Правителя и Бога вознеся, Вот какая у нас новая кузница, А в сущности мышиная возня. Век тиранов конечен, И в истории чаще бесславен, Только для народа болезнен, Как трагедия в Беслане. Все у нас не так идет, Хватит оружием бряцать, Только тот подлец или идиот, Кто власть покрывает глянцем.Минога
Сколько нам лет, мы точно не знаем, конечно, мы предполагаем, что где-то немало, но не так уж и много жизнь медленно уходит миногой. вода становится все холоднее, плавники — ноги уже подмерзают, в снах душа еще молодеет, но чем это кончится — знаем. все мы немного миноги, и нас таких много. самое главное — по обстоятельствам вовремя сделать из этой жизни ноги.Вся наша жизнь психдом…
Вся наша жизнь психдом, вопрос лишь в том, как ладить с санитарами, они работают ударами, а как нам быть или не быть? когда нас бьют, в ответ не можем бить, а если захотелось — аминазин, фиксация, мочою отойдешь — вот вся сатисфикация. как обыграть действительность? найти слова остроконечные, убийственные и выразить их в крике невозможной муки, страшнее, чем в картине Мунка.Закат
В детстве меня мало били, Поэтому пишу высоким штилем. Отбрось последние свои года Во мрак ночи безутешной, Пусть старость заревом безгрешным Окрасится в лазоревые облака. Но если есть страдание и боли, Закат все ближе и не доле Залижет раны и успокоит навсегда.Преддверие
В преддверии написания есть что-то щемящее, как в мелодии дерева, ветром колеблемого, оно может быть щенящим и может быть васильковым или альковым, а может в мелодии звука, как в распахнутой двери, будет преддверие бури, которая кого-то разбудит. * * * Дерево и дверь питаются ветром, Другим не заметным.Ежик (Сказка)
Ежик по лесу шел, Большой гриб нашел. Положил его на иголки И понес под елку. А под елкой нора — Вот такая дыра! Все равно этот гриб Ну никак не вмещается. «Ну что ж, — подумал Еж, — Позову я друзей, позову я зверей. Они съедят половину. И я с голоду не сгину». Пришли белки-непосиделки, Пришли зайцы-неунывайцы, Тише-тише, пришли мыши, И даже змея ползучая. Они гриб жуют И Ежа нахваливают: «Ох ты, Еж-Еж, До чего хорош!» Ежик до гриба Не дотрагивается, Все стоит, улыбается, А от гриба ничего не осталося. «Ну что ж, — подумал Еж, — Снова в лес пойду, Снова гриб найду И… и друзей приглашу».Замутила жизнь, замутила…
Только без ложной веры и догм Человек может быть свободным, И если он смог Дойти до чертогов Господних, К чему эта муть, От которой не продохнуть? Замутила жизнь, замутила, Нет удержи в этой мути, Двадцать первый век идет, А некоторые заскучали по мукам. Ленина, Сталина, вурдалаков тень, Поднимается над удушливыми болотами, Неужели только затем, Чтобы журналисты-мамонты Пугали нас площадями болотными? Замутила жизнь, замутила, Нет удержи в этой мути, Двадцать первый век идет, А некоторые заскучали по мукам. Стыдно, стыдно, вы даже не господа и не звери, Времени попали в какой-то промежуток, Представьте, как будто вам жутко, Когда наганом к вам постучатся в двери. Замутила жизнь, замутила, Нет удержи в этой мути, Двадцать первый век идет, А некоторые заскучали по мукамШприц
Шприц, как самолет в нетерпении — пике, приближается к вене — цели, а та, ужавшись и ужаснувшись, прижалась к кости, спасаясь, игла самолета — шприца, не попав в цель, выстреливает снаряд свой в нетерпении подкожно, но! но! больно!Надежда слабая
Надежда слабая, когда меня не будет, что вы наткнетесь случайно как бы на мой какой-либо текст, и может, вам откроется другая сторона моя, как в Янусе двуликом — — здесь я веселый анекдотчик, а здесь скорбию душа моя полна.Не спи, красавица, при мне…
Не спи, красавица, при мне, Ведь засыпая, рот откроешь, И черти сразу роем Садятся на твое лицо, Не спи, красавица, при мне, А лучше пой, тогда другой уж рой Из херувимов, ангелов кружится И, успокоясь, на твое лицо садится. Дай мне возможность насладиться Небесною твоею красотой, Не спи при мне, красавица, а пой.О и А
Когда в стране такое творится, Не нужно никаких предисловий. Предисловие, разносолие, разнославие. Окончится предисловие, окончится разносолие, Останется одно разнославие, ведущее в никудаево. И поменяется только одно О на А, Господи, не приведи, Мать-царица! Что будет в нашей стране твариться. Господи, Отче…. Господи, от чего?Клизма
Преодолевая сопротивление материала, Клизма недоуменно себя вопрошала: — Ужѐ у̀же не будет? Вместо, — хуже ужѐ не будет. Вот так, не имея четкого постоянства И не испытывая патриотизма, Клизмы ведут к мировым катаклизмам.Путь (песня)
Один идет прямой, Проторенной дорогой. Другой заблудится в лесу, И нет ему подмоги. Припев: Тот, кто боится сквозняков, Всегда болеет. Кто душу бережет, Ее и не имеет. Один соизмеряет путь, Минуя все ухабы, А у другого на уме — Вино, стихи да бабы. Припев: Тот, кто боится баб, Всегда болеет. Кто душу бережет, Ее и не имеет. Один боится согрешить И мучится в желании. Другой, и согрешив, Очистится раскаянием. Припев: Тот, кто боится согрешить, Всегда болеет. Кто душу бережет, Ее и не имеет. Один хотел быть бодр И пыжился в натуге. Другой же — добр По существу натуры. Припев: Тот, кто боится доброты, Всегда болеет. Кто душу бережет, Ее и не имеет. Закончится, наверное, так: Господь обоих призовет И, соблюдая такт, Тихонько пропоет: Тот, кто боится душу потерять, Всегда болеет. Кто душу бережет, Ее и не имеет.Земля юлой вокруг оси кружится…
Земля юлой вокруг оси кружится, натужно хочет из своей петли вырваться, галактика с молочным киселем вокруг темной личности пучится и все они с бешенной скоростью спешат куда-то, словно укушенные, я сижу у тихой реки, слушаю безразличные счеты кукушки.Тройка
Тройка мчится, Тройка скачет, А могло ли быть иначе? Быть может, прочтете вы, хотя б из любопытства Произведения мои, когда меня не будет, И может, на троих вас что-то сбудет. А впрочем, триумвирата не было и нет, Одно мое названье, и каждый в нежеланье Имеет свой ответ, одно объединяет — нет! Расстаться с собственным мнением, Как будто лишиться капитала, История и психология об этом знала. Каждый живет в своем измерении, И это было от исчисления века, Нет интереса — мнения и нет человека. Когда весь свет в себе, то те уходят в тень, На всех не хватит электричества, Есть только Я — Мое Величество! Вопрос вопросов вам не нес, И будку жизни вам не повредил, Ну да, наверное, сквозь снобизм следим, Куда его какой-то пес понес. Самые близкие — самые дальние, Слово вам близкие, слово прощальное. Ветер будет шебутной над моей могилой, И простите вы меня, Господи помилуй.Как жаль… (романс)
Покров был мягкий, снежный, С луны струилася печаль, И голос грустно-нежный В гостиной пел, — Как жаль, Как жаль, что не было весны, И тела и души прикосновенья, Внутри копилось лишь томленье Незримому сказать, — во всем весь ты. Минули годы и зримые, как силуэты, Прошли неинтересною гурьбой, Я все незримому шепчу: «Я здесь, я жду, я за тобой». Покров был мягкий, снежный, Я ухожу стороннею тропой, И голос этот грустно-нежный Не мне поет, — я за тобой.В желаниях, заботах…
В желаниях, заботах бегаю, как пес, В ответ я слышу, — куда тебя черт понес? Была бы благодарность, ее и вовсе нет, За сим и до свиданья, закончен мой куплет. Хорошим добрым людям привет, привет.Прощание (романс)
Окончен час мучительного обмана. Мне сердце ничего не говорит, И наслаждение уже не манит, И совесть что-то гомонит. В каком-то странном преплетеньи Был наш негаданный союз, И постоянные мои сомнения, И всех попыток моих юз. По окончаньи нашей сечи Победный свой не выброшу штандарт. Нелепы были наши встречи, Как односторонний брудершафт. Пока, мой друг, пока, Сниму с души оковы, И, кланяясь слегка, Вернусь в свои покои.Бормоглоты
Я все время что-то про себя бормочу и вдруг упираюсь в неизвестную дверь, открываю ее, — где я теперь? вы — кто? кто я? кто ты? за дверью мне отвечают тихо: — мы, как и ты, такие же бормоглоты. и что? почему? если кто виноватый? — ты громко не бормочи, просто пойми, что со временем Усатого всем с рождения закладывали в рот кусочек ваты, ну, а если кто пытался вытолкнуть вату, сам становился себе виноватый, потому, что шел на ослушку и получал пятьдесят восьмушку, а чтобы завершить программу, получал довесочек в девять граммов, люди говорят, что у самого Усатого в трусах была прокладка ваты, с тех пор его и звали Трусоватый, но об этот надо говорить тиховато. Я от ваты освободил свой рот, стать бы сейчас во весь рост, закричать, что в стране печаль, но от ваты осталась печать, благоразумие закрывает ладошкой рот. Время прошло — нет больше Усатого, но мы по-прежнему остались усатымиЧто-то синее
Дохлым парусом простыни висят, Зной расплавляет мозги. Торопливо цикады скрипят, Море бухтой дает изгиб. Держидерево в обрыв вцепилось, И взглядом, куда ни кинь, Тишина с неба в море спустилась, И до горизонта беспробудная синь. Солнце, как желток яйца, Жара так и жалит, И кажется тому нет конца, Воздух — как при пожаре. Где-то там, за горами, В асфальтово-чумном чаду Женщина с синими глазами Смотрит в точку одну. В этой точке ей виден Дальний берег морской. Жара, будто в пустыне, И мужчина с подсиненною бородой. И, когда она о нем подумала, От глубины ее души Словно ветры легкие подули И в сторону моря пошли. Он увидел ее большие глаза И вдруг почувствовал — жара спала, И понял, что это она Вытащила у жары жало.Смех
Шутя и играя учусь я жить, За жизнью слегка приударяя. Эй, кто там постоянно брюзжит, От лица своего смех отгоняя? Секрет мой очень прост, Не нужен здесь мудрый Сваами. Он, как детский счет: «Кто сеется последний? Я за вами». Я хочу, чтобы у вас был успех, Ведь шутка — это проба души, И чтобы ваш золотистый смех Вливался в мои лопоухие уши. Я раззвездяй этой жизни, И мне, наверное, не сметь, Но не было бы судьбе моей укоризны, Если бы я смог смеясь умереть.Где ты?
Эдем. Адам затаился в райских кущах. Еле сдерживает свой трепет. И вдруг голос Вездесущего: — Адам, где ты? Вопрос это Богу не нужен и даром, Ведь он не зря Вездесущий. Вопрос этот нужен Адаму Более, чем хлеб насущный. По сути, мы все Адамы, Замок обмана на шее висит. Причины обмана не даны, Ключ в глубоком колодце лежит. Нам нужно всем искупление, И шанс такой нам дан. Дух наш зовет к освобожденью И спрашивает: «Где ты, Адам?» Звезды сегодня какие-то настороженные, Взыскуя, смотрят на меня с высоты, Будто колючей проволокой я огорожен, И они меня спрашивают: «Где ты?»Обедня
За обед степенно, чинно он садится, Ест медленно, сосредоточенно и вдохновенно, Как будто с Богом соединяется в молитве, Забыв про все: интриги, битвы. В экстазе тихом ест небедный свой обед, Но, если кто-то в ту минуту нарушит молчания обет, Бросает свой прибор, кричит: — не потерплю, нет, нет! Опять испортили, собаки, вы обедню!Пиар во время чумы
Чума на оба наши дома уже идет, И Юнговский Трюкач в обличье мажордома, Провозглашая мир, войной грядет. — Даю вам мир, руками машет, Из рукавов летят ракеты, землю пашут, Повсюду дым, кровь, смерть, обман. — Нет, все не так и нет обмана, У микрофона говорит от горя черный Президент Обама. Вы думаете, у нас нет Юнговского Трюкача? Ну если нефти — денег нет, обман качай, Не пара нам Обама, кого хотишь обманем. — И оба-на, привет, Обама.Вдова
Вдова услышанное превращает в быль, — А вот мой Ваня тоже так любил, Неважно что, дрова любил рубить, Ловить ли рыбу иль крепко пить. Вдова, ей сложно все забыть; Останутся, живут воспоминанья, Воспоминаньями уменьшаться страданья, И надо как-то дальше жить.Музы̀ка (слова народные)
Есть такие в жизни чистюли, Слова они чистят как кастрюли, Сказать они могут слово «попа», Но это все равно, что сунуть Носом в жопу. Поссать нельзя, пописать можно. Пердеть!? — Пердеть и пукать Только осторожно, как Пистолетом с глушителем, Тогда и будешь уважительным. Но широка у русского душа, Когда стоит он у дороги, Раздвинув ноги, Пьян, не сыт, но ссыт, И вслух пердит, твердит: — Сыка без пердыки, Как свадьба без музы́ки.Перец
Еще как будто бы вчера, Лишь только в прошлом годе Поливал я перец в огороде, Густо растущий перец, И говорил ему — давай расти На жизненном моем пути. А нынче перец не удался, И говорю ему — на черта ты мне сдался.К женщинам!
Трогательные вы женщины мои, Так и так хотел бы вас потрогать, Но память строгая, — не много ль натощак? И как? Ведь ты не Шива. Да я не Шива, но не вшивый, Душа у меня широка, И видит ясно око — Все преграды преодолею, Все лишенья претерплю, Потому что, женщины, я вас люблю, И с широкими объятиями К вам иду, люлю, люлю.Пещера
Пещера открыла свой рот, В удивлении рассматривая стороны Пространства и бездну времени, Взошло солнце, и пещера ушла в свою глубину.Дождь идет…
Дождь идет тихо, задумчиво, терции звучат монотонно, все мои мысли бескрайние, все мои чувства бездомные. Ты рядом со мной, но от меня далеко за какими-то мысами, весями, а может быть, облаками, тебя согреваю мыслями, а хотелось руками. Я судьбу свою не кляну, много хорошего мне перепало, хочу, чтобы было тебе тепло, чтобы Душа твоя и тело свободно дышали.Горе
Когда никто не приходит, Капля дождя в ладонь стучит, И, создавая свою мелодию, Так говорит, — нет никого, Это не горе, горе еще не приходит, Горе, когда поднявшись вдвоем в гору, С горы в одиночестве сходят.Подражание К. Пруткову
Чем мягче кресло, тем тверже убеждение, Пусть все идет как есть, Не надо нам иного мнения, Потому иное — есть предубеждение, И умников всяких надо бы известь.Одиноко лежу в гробу…
Одиноко лежу в гробу, А собственно, куда мне деться, Если я жил обособленцем. Скупое выражение лица, И мрамор лба холодный, Жена вся в черном без лица, Страдания ее бездонны. Все без истерик чинно, И батюшка картинно Кадилом машет у изголовья, И говорит его глава Пресветлые для всех слова: — Аве! Аве! Господи Иисусе! Пусть испепелится горе в грусти! Откроются для упокойного врата, Он в этом сомневался, но очень ждал.Жизнь — колесница
Тоска по-новому — вот что нас тревожит, Тень чувство — мысли сердце гложет, Что существующее не то, Что нам хотелось, но время — шапито Чудесный фокус не покажет, И юной жизни колесница правду скажет. Душа — подсознание опыта не имея, Пронзительности жизни откроет свой секрет, Иди к себе как к свету, Ведь все в тебе, а остального нет. Когда года твои посыплет пеплом седина, И истина, пройдя меж пьяных и орущих, Покажется тебе мягкой и зовущей В иное пониманье, — что ты живешь, Коль рядом кто-то, коль есть о ком молиться, И твоей жизни колесница Не будет зря топтать жнивье. Когда уж рядом никого и нет, Окончит путь свой колесница, И милосердья Божия десница, Воткнет свой гибкий прут, И обозначит — тут!Вечером, вчера, пчела…
Жена от меня сбежала, Ужалила и бежала без жала. Вот такая безжалостная Жужжала, жужжала И от меня убежала. А собственно — куда ей без жала? Мне больно, а она свое отжужжала.Дайте согреться!
Знаю, что никуда мне не деться, знаю, что скоро умру, напоследок мне дайте согреться, я умоляю, дайте согреться! но завершается действо, дайте согреться, я уже не молю. меня обнимает холод, по теплу исчезает голод.Тут — будут — тут Песня
Вот вроде встретились, И что-то склеилось, Но файлы не совпали, Ах, если бы, ах, если бы Об этом раньше знали. А покамест клеится, И жизнь шевелится, Желания идут сами собой, Но неожиданно, вдруг неожиданно Возник в программе сбой. Тут — будут — тут Возникнул сбой, Тут — будут — тут Живи с собой. В дальнейшем, может быть, и встретятся Попутный ветер с мельницей, Седые файлы с седыми совпадут, И будет радость тут, И будет счастье тут. Тут — будут — тут И радость тут, Тут — будут — тут И счастье тут.Утро Романс
Утро невзрачное, серое, не любопытно Взором скучающим — все, все избито. Что было в прошлом, почти позабыто, Душа заскорузла заботами быта. Нивы бесплодные смотрятся грустно, В небе нет расщелины светлой, Мечтания, которые так искусно Манили, стали поломанной ветлой. Жизнь незаметно проходит, Головы наши покрываются пеплом, И все же сквозь пепел мелодия светлая Романсом старинным душу заводит. «Утро туманное, утро седое».Молитва
Господи, дай мне кротости, Отринь у меня гнев и ярость. Желаниям моим убавь скорости, Мыслям моим дай ясность. Дабы я берег все живое И взращивал у себя радость. И, как беглый с неволи, Бежал бы от смрада. Дай, Господи, силы и вдохновения На лучшее, что я могу довершить. Неумолимо течет река времени, И не так много осталось мне жить.Ушло от меня вдохновенье…
Ушло от меня вдохновенье, И не о чем больше писать Случайная фраза мелькнет привиденьем, И, как привиденье, ее не поймать. Ушло от меня вдохновенье, Как от постылого мужа жена, Кажется, вот наступит мгновенье… Но нет, она уже мне не верна. Откуда эта щемящая грусть? Я на земле как в доме вдовьем, И выбираю я волчий путь, Чтобы грусть эту вылить воем. Вой этот будет долго литься В бескрайнее небо ночи И, может быть, соединиться С воем такого же одиночки. Мы услышим друг друга, Вместе уйдем от войного пресса, И, вдалеке почуяв друга, Вой превратим мы в песню.Прости (песня)
Ты, как всегда, стоишь у порога, Словно провожаешь меня в опасный путь, И без слов про себя молишь Бога, Чтоб не случилось со мной что-нибудь. Припев: За все твои треволненья Ты, грешного, меня прости, И безустными своими моленьями Ты меня защити. И скажу, свой пыл усмиряя: «Земная моя женщина, потерпи как-нибудь, Мне же не надо никакого рая, Лишь бы молился за меня кто-нибудь». Припев: За все твои треволненья Ты, грешного, меня прости, И безустными своими моленьями Ты меня защити. Я, наверное, скоро мудрым стану, Суету желаний своих усмирю, И тогда в светлом Божьем стане Эту песню тихо спою. Припев: За все твои треволненья Ты, грешного, меня прости, И безустными своими моленьями Ты меня защити.Контрольная
Водитель, остановите машину, Мне нужно здесь встретить старость. (А что осталось?) Ну, вот и встретил. (За все в ответе.) — Здравствуй, это я. — А я — последняя контрольная твоя.О! Сколки?
Ах отстаньте, отстаньте! Лучше, как мы, людьми станьте! Поэзия как музыка, В музыке магия звуков, В поэзии магия слов, Которые в каком-то созвучии Рождают сонмище снов. Вы, либералы, пока выражения свои выбирали, Мы от вас устали, вот был бы Сталин, Он вас достал бы. Поэзия, когда в животворящемся огне, Создается вдруг изделие, Все остальное так — пезделие. Поэту мало слов, поэтому Он изобретает что-то новое Вот такое как беднословие. Неологизмы всегда малополизмы Если у кого не стои́т, Циклиться на этом не стóит. Надо к врачу: «У меня не стои́т, И сколько это будет стóить». Хорошо ли быть хору? — Хорошо! Коль кто-то им хороводит и никуда не заводит, А то будет не хор, а horror. Поэзия — это праздник, а Может, надрыв души, Проза — это спокойное и домашнее, Когда никуда не спешишь. «Служил я в то время в Н-ском полку…» Время такое, сейчас не до жиру, Такая вот обстановка, Вдруг голос ниоткуда: «Товарищи пассажиры, Закройте крышки своих гробов, Последняя остановка…» Утро. Солнечно. Воздух насыщен Энергией неуловимой, Птицы поют вразнобой. Памятники надо ставить, Таким, как памятники, не орущим, И самое главное — никуда не зовущим. Души прекрасные порывы, Иначе они тебя задушат, Подбрось им яда от всей души, А не получится — души. Вот не было бы слов, Тогда бы были сны, Во сне мы рта не раскрываем, Но действия и чувства свои знаем. Когда моряк-радист ослеп И судном его стала суша, В последний миг послал он всем: — Ищите свои Души! Идеал как одеяло, Хорошо укрыться им, Но сползло одеяло — — Нету больше идеала. Что за чем последует, Не знаем мы сами, И может за фугами Баха В дальнейшем фугасы бабахнут. Большинство зовет к борьбе и клеймит, Реальность меньшинству говорит: — Если ничего не можешь изменить, Просто расскажи обо мне. — У нас была только одна Победа, И нет никаких больше побед? — Нет побед, остались одни беды, Ну и что, как писал Розанов, — Надо собирать дрова и готовить обед. Власть защищает прежде всего себя И потому отсебятину порет, А вы попробуйте, ничего не имея, С нею поспорить. Дама красивая — благоухающая роза, Но вот метаморфоза, Она злобно шипит, Это шипы, но та же роза. Я думал, у меня не будет сноса, Но вот простыл И остался я с сопливым носом. На свете много измов, Но самый страшный из них — Отупляющий патриотизм, Чем-то напоминающий алкоголизм. Тело, вброшенное в дело — — производительно, тело без дела — — непозволительно. Мне говорят, что я нехороший, Есть во мне много скверны, Но без этой скверны я бы не был, наверное. По выражению ее лица я понял, Что мною она не довольна, Тогда, расслабившись внутри, Сказал себе я: — Вольно! Во взаимоотношениях людей Лежит предубежденье, И сколько вшей ты не обшей, Останется лишь только собственное мненье. Я прошу у судьбы не милость, но малость, Часы отбивают не прошлое, А сколько нам осталось. Иду неспешно по аллее, Закат задумчиво алеет, Пурпурный лист приветливо кивает, И осень чем-то светлым осеняет. Вешки — вешалки верст, В тумане стоят сиротливо. Кони хотят быть коническими, Овечки мечтают о вечном, Жизнь человека конечная, И хочет он быть человечным. Будь как все, как будто душевным, Но безликим, правителям поверь Без всяких сомнений, как слепарь, Но душу положить, как встарь На благо нации, народа? — Изволь, изволь, — не та погода. Кто сказал, что в нашем доме разногласие? У нас только согласие, А разногласие в том, Кто больше и крепче любит наш дом. Когда мне скажут: — Добро и зло — суть антитеза. Скажу я: — деза. Если ты человек, и не опустились У тебя чело и веки — знай! Чудище обло, огромно, озорнó, стозѐвно И в Mass — media лаяй. Ах, осколки, убийственно вас сколько! И прекратите вы полет во сколько? Мебель к стенкам жалась, Жизнь жила и не тужила, Ну а мне все это не в жилу, Мебель только жалко. Из дома выхожу большой, великий, И главное, чтоб никого не задавить. От холода не защитила простыня, И я простыл, Сказала простыня: — Прости. Говорят, что я недоношенный, А меня к хорошей жизни несли? Тихо и незаметно пролетают ангелы мимо, Когда братия празднества отмечают пышно. Вопрос: — Есть Бог или нет? Висит над людьми как крест, А я, не отнекиваясь, По-солдатски отвечу: — Есть! Надеюсь я, стихи мои, О бедные! Пойдут по миру. Природа снегом себя припудрила, Солнцем румяна себе навела И вся стоит без огреха, В небо нацелены стройные ноги ореха. Жизнь не вечна — это точно, Бьют часы и ударом точным Ставят точку… и… Крест наш — серп и молот. Молотом били по голове — осознанию, Серпом пониже — по наследственному провисанию. Мы заключены в клетку невозможности, — и ныне там и в жизни трудно быть в другой воз- — можности Планеты с бешенной скоростью летят Словно выстрелились из пушки, Я сижу у тихой реки, слушаю Безразличные счеты кукушки.Послесловие
Один умный человек сказал, что человек рождается с широким горизонтом видения жизни. Потом по мере его опыта и усвоения знаний горизонт его суживается и превращается, как ему кажется, в его собственные точки зрения.
Я бы хотел пожелать читателю, чтобы у него включались механизмы сопротивления по сужению горизонта, чтобы он, горизонт, оставался широким, а может быть, и расширялся более, чтобы в него вмещались различные варианты видения, противоречия, парадоксы и сомнения. Как тут не вспомнить декартовскую парафразу: «Я сомневаюсь, значит, я существую».
Вперед, читатель, к горизонту, и если он уходит от тебя, значит, настоящая жизнь продолжается.
Ахилл никогда не догонит черепаху. Ты настоящий никогда не догонишь прозревающего в тебе, и по мере продвижения, рискну предположить, что тебе захочется не выкрикнуть, а тихо сказать внутри себя: «Мир, ты мне нужен, я тебе не все отдал».



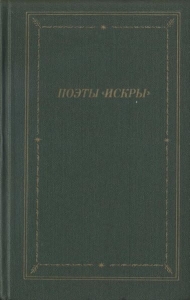
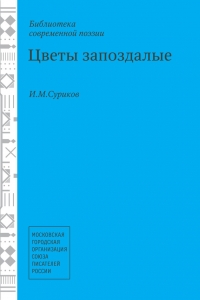
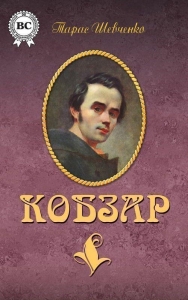
Комментарии к книге «Слова», Александр Михайлович Иванов
Всего 0 комментариев