Вера Полозкова Непоэмание
Маме
Йовану
Трёпе
Лене
Косте
Гро
Русу
Бергеру
Лёше
Тиму
Володе
«Губы плавя в такой ухмылке…»
Губы плавя в такой ухмылке, Что на зависть и королю, Он наколет на кончик вилки Мое трепетное “люблю”. И с лукавством в медовом взоре Вкус божественным наречёт. И графу о моем позоре Ему тоже запишут в счёт.24 октября 2003 года
Люболь. История болезни
Голос – патокой жирной. Солоно. Снова снилось его лицо. Символ адова круга нового — Утро. Дьявола колесо. «Нет, он может – он просто ленится!» «Ну, не мучает голова?» Отчитаться. Удостовериться — Да, действительно, Ты жива. Держит в пластиковом стаканчике Кофе – приторна как всегда. А в ночную? – Сегодня Танечке Подежурить придётся – да? Таня – добрая, сверхурочная — Кротость – нету и двадцати… Попросить бы бинтов намоченных К изголовью мне принести. Я больная. Я прокажённая. Мой диагноз – уже пароль: «Безнадёжная? Заражённая? Не дотрагиваться – Люболь». Солнце в тесной палате бесится И Голгофою на полу — Крест окна. Я четыре месяца Свою смерть по утрам стелю Вместо коврика прикроватного, — Ядом солнечного луча. Таня? Тихая, аккуратная… И далекой грозой набатною — Поступь мерная главврача. Сухо в жилах. Не кровь – мазутная Жижа лужами разлита По постели. Ежеминутное Перевязыванье бинта Обнажает не ткань багровую — Черный радужный перелив Нефти – плёнкой миллиметровою — Будто берег – меня накрыв. Слито. Выпарено. Откачано Все внутри – только жар и сушь. Сушь и жар. Горло перехвачено. Голос как у шальных кликуш. Слезы выжаты все. Сукровицу Гонит слёзная железа По щекам – оттого лиловятся И не видят мои глаза. День как крик. И зубцами гнутыми — Лихорадочность забытья. День как дыба: на ней рас-пнуты мы — Моя память – и рядом я. Хрип, Стон, — Он. Он. День как вихрь в пустыне – солоно, А песок забивает рот. Днём – спрессовано, колесовано — И разбросано у ворот. Лязг. Звон. Он. Он. Свет засаленный. Тишь пещерная. Мерный шаг – пустота идёт. Обходительность предвечерняя — А совсем не ночной обход. Лицемерное удивленьице: «Нынче день у Вас был хорош!» — Отчитаться. Удостовериться — Да, действительно, Ты умрёшь. Просиявши своей спасённостью, «Миновала-чаша-сия» — Не у ней же мы все на совести — Совесть Есть И у нас Своя. …Утешения упоительного Выдох – выхода брат точь-в-точь, — Упаковкой успокоительного: После вечера Будет ночь. Растравляющее, Бездолящее Око дня – световой капкан. Боже, смилостивись! – обезболивающего — Ложку тьмы На один стакан. Неба льдистого литр — В капельницу Через стекла налить позволь. Влагой ночи чуть-чуть отплакивается Моя проклятая Люболь. Отпивается – как колодезной Животворной святой водой. Отливается – как в палящий зной Горной речкою молодой — Заговаривается… Жалится!.. Привкус пластиковый во рту. Ангел должен сегодня сжалиться И помочь перейти черту. Пуще лести велеречивыя, Громче бегства из всех неволь — Слава, слава, Неизлечимая Безысходность Твоя, Люболь! Звонче! – в белом своем халатике Перепуганная сестра — Воспеваю – Хвала, Хвала Тебе, Будь безжалостна и остра! Пулей – злою, иглою – жадною! Смерти Смертью и Мукой Мук! Я пою тебя, Беспощадная Гибель, Преданный мой Недуг!.. Сто «виват» тебе, о Великая… Богом… посланная… чума… Ах, как солоно… Эта дикая Боль заставит сойти с ума… Как же я… ненавижу поздние Предрассветные роды дня… Таня! Танечка! Нету воздуха! Дверь балконную для меня Отворите… Зачем, зачем она Выжигает мне горло – соль… Аллилуйя тебе, Священная Искупительная Люболь.Ночь с 12 на 13 января 2004 года
Покер
Надо было поостеречься. Надо было предвидеть сбой. Просто Вечный хотел развлечься И проверить меня тобой. Я ждала от Него подвоха — Он решил не терять ни дня. Что же, бинго. Мне правда плохо. Он опять обыграл меня. От тебя так тепло и тесно… Так усмешка твоя горька… Бог играет всегда нечестно. Бог играет наверняка. Он блефует. Он не смеётся. Он продумывает ходы. Вот поэтому медью солнце Заливает твои следы, Вот поэтому взгляд твой жаден И дыхание – как прибой. Ты же знаешь, Он беспощаден. Он расплавит меня тобой. Он разъест меня чёрной сажей Злых волос твоих, злых ресниц. Он, наверно, заставит даже Умолять Его, падать ниц — И распнёт ведь. Не на Голгофе. Ты – быстрее меня убьёшь. Я зайду к тебе выпить кофе. И умру У твоих Подошв.Ночь с 23 на 24 апреля 2004 года
Банкиры
Портят праздник городу разодетому. Вместо неба – просто густое крошево. Ты на море, мама, и вот поэтому Не идет на ум ничего хорошего. Знаешь, мама – Бога банкиры жирные Нам такие силы дают кредитами! Их бы в дело! Нет, мы растем транжирами, Вроде бы богатыми – но сердитыми, Прожигаем тысячами – не центами Божье пламя – трепетное, поэтово! Но они потребуют всё. С процентами. И вот лучше б нам не дожить до этого. Их-то рыла глупо бояться пшённого — Только пальцем будут грозить сарделечным. Но оставят перечень несвершённого. И казнят нас, в общем-то, этим перечнем. И пришпилят кнопочками к надгробию — Что им с нами, собственно, церемониться. У тебя ж поэтому, мама, фобия Брать взаймы. И еще бессонница — Ты ведь часто видишься с кредиторами. Их не взять подачками и вещичками. За тобой идут они коридорами И трясут бумагами ростовщичьими. А в меня кошмарные деньги вложены. И ко мне когда-нибудь тоже явятся. Мне теперь – работать на невозможное. А иначе, мама, никак не справиться.Ночь с 9 на 10 мая 2004 года
Недопуск к сессии
– Ваше имя Нигде не значится. – Я – богиня? – Вы неудачница.13 мая 2004 года
Анне Заболотной, на 19-летие
Взглядом снимет скальп – но умеет плакать, И тем бесценна. Фронт борьбы – от Таллинна до Одессы. Под ногами нашими просто слякоть, Под нею – сцена: Каждый день – сюжет одноактной пьесы. Табуны лихие хрипят устало В её моторе. И любую фальшь она чует кожей. Бог следит за ней по сигналу На мониторе — Это называется искрой Божьей.4 июня 2004 года
Девушки
Нет, мужчины дерутся лбами да кулачищами — А не рвут артерий ногтем у ворота. Ты же чуть заденешь локтями хищными — И брюшная полость до сердца вспорота. Мы убить могли бы – да нет, не те уже. Все-таки циничные. И свободные. В том, как люто девушки любят девушек — Что-то вечно чудится Безысходное.13 июня 2004 года
Малютка
Я отвечу завтра им на экзамене, Пальцы стискивая в кольцо — Перед боем, верно, на древнем знамени Рисовали твоё лицо. Все твои автографы – видишь, клеймами Запекаются на груди. Мне так больно, дитятко. Пожалей меня. Не губи меня. Пощади. Я ведь вижу – я не сошла с ума ещё, Ещё чую ногами твердь — Сквозь тебя капризно, непонимающе Хмурит бровки Малютка Смерть.Ночь с 14 на 15 июня 2004 года
Боль
Подарили боль – изысканный стиль и качество. Не стихает, сводит с ума, поётся. От неё бессовестно горько плачется. И катастрофически много пьётся. Разрастётся, волей, глядишь, надышится. Сеточкой сосудов в глазах порвётся. От тебя немыслимо много пишется. Жалко, что фактически не живётся.16 июня 2004 года
Змея
– Жизнь-то? Да безрадостна и пуста. Грязь кругом, уродство и беспредел. – Ты живешь за пазухой у Христа! – Значит, Он змею на груди пригрел.22 июня 2004 года
Питер
Я уеду завтра – уже билет. Там колонны – словно колпак кондитера. Да, вот так – прожить восемнадцать лет И ни разу не видеть Питера. Сорван голос внутренний – только хрип. Мы шипим теперь, улыбаясь кобрами. Москоу-сити взглядами нежит добрыми, А потом врастает в людей как гриб. Разве что, в ответ на моё письмо, Появляясь вдруг из толпы послушников, Счастье здесь – находит меня само И часами бьётся потом в наушниках; Здесь почти нет поводов для тоски — Но амбиций стадо грохочет стульями, И сопит, и рвёт меня на куски, Челюстями стискивая акульими, Так что я уеду – уже ключи, Сидиплеер, деньги, всё, сопли вытерли — И – “Стрелой” отравленной – москвичи, Вы куда, болезные, уж не в Питер ли?..1 июля 2004 года
Биографы
Тяжело с такими ходить по улицам — Все вымаливают автографы: Стой и жди поодаль, как угол здания. Как ты думаешь – ведь ссутулятся Наши будущие биографы, Сочиняя нам оправдания? Будут вписывать нас в течения, Будут критиков звать влиятельных, Подстригут нас для изучения В школах общеобразовательных: Там Цветаевой след, тут – Хлебников: Конференции, публикации — Ты-то будешь во всех учебниках. Я – лишь по специализации. Будут вчитывать в нас пророчества, Возвеличивать станут бережно Наше вечное одиночество, Наше доблестное безденежье. Впрочем, всё это так бессмысленно — Кто поймёт после нас, что именно Пётр Первый похож немыслимо На небритого Костю Инина? Как смешно нам давать автографы — И из банок удить клубничины? Не оставят же нам биографы, Прав на то, чтобы быть обычными. Ни на шуточки матерщинные, Ни на сдавленные рыдания. Так что пусть изойдут морщинами, Сочиняя нам оправдания.15 июля 2004 года
Солнце
В схеме сбой. Верховный Электрик, то есть, Постоянно шлёт мне большой привет: Каждый раз когда ты садишься в поезд, — У меня внутри вырубают свет. Ну, разрыв контакта. Куда уж проще — Где-то в глупой клемме, одной из ста. Я передвигаюсь почти наощупь И перестаю различать цвета. Я могу забыть о тебе законно И не знать – но только ты на лету Чемодан затащишь в живот вагона — Как мой дом провалится в темноту. По четыре века проходит за день — И черно, как в гулкой печной трубе. Ходишь как слепой, не считаешь ссадин И не знаешь, как позвонить тебе И сказать – ты знаешь, такая сложность: Инженеры, чёртовы провода… Моё солнце – это почти как должность. Так не оставляй меня никогда.Ночь с 21 на 22 июля 2004 года
За тобой
По салютам, ракетным стартам, По воронкам и перестрелкам — Я слежу за тобой по картам. Я иду за тобой по стрелкам. Между строк, по чужим ухмылкам, По аккордам, по первым звукам — Я хожу за тобой по ссылкам, Я читаю тебя по буквам; Терпкой кожей своей барханьей, В звоне полупустых бутылок — Ты ведь чуешь мое дыханье, Обжигающее затылок? Разворачиваешься круто, Гасишь фары и дышишь тяжко? Позабыв, что твои маршруты — Все мои: мы в одной упряжке. Закольцованы, как в цепочке, И, как звенья, литы и жестки. Мы столкнёмся в конечной точке. На решающем перекрёстке.Ночь с 1 на 2 августа 2004 года
Сны
Всё топлюсь вроде в перспективах каких-то муторных — Но всегда упираюсь лбом в тебя, как слепыш. Я во сне даже роюсь в папках твоих компьютерных, Озверело пытаясь выяснить, с кем ты спишь. Пронесёт, может быть, всё думаю, не накинется — Но приходит, срывая дамбы, стеклом звеня — Ты мне снишься в слепяще-белой пустой гостинице, Непохожим, задолго, видимо, до меня; Забываюсь смешными сплетенками субботними, Прячусь в кучи цветастых тряпочек и вещиц — Твоё имя за мною гонится подворотнями, Вылетая из уст прохожих и продавщиц, Усмехается, стережёт записными книжками, Подзывает – не бойся, девочка, я твой друг, И пустыни во сне скрипят смотровыми вышками, Ты один там – и ни единой души вокруг; Не отмаливается – исповеди да таинства, Только всё ведь начнётся снова, едва вернусь. Мы, наверное, никогда больше не расстанемся, Если я вдруг однажды как-нибудь Не проснусь.6–7 августа 2004 года
Хлороформ
Писать бы на французском языке — Но осень клонит к упрощённым формам, Подкрадываясь сзади с хлороформом На полосатом носовом платке. Поэтом очень хочется не быть. Ведь выдадут зарплату в понедельник — Накупишь книг и будешь жить без денег. И только думай, где их раздобыть. Я многого не стала понимать. Встречалась с N – он непривычно тощий. Он говорит по телефону с тёщей И странно: эта тёща мне не мать. Друзья повырастали в деловых Людей, весьма далёких от искусства. Разъехались. И пакостное чувство, Что не осталось никого в живых. И осень начинается нытьём И вообще противоречит нормам. Но в воздухе запахло хлороформом, А значит, долгожданным забытьём.Ночь с 14 на 15 августа 2004 года
Дальше
С таких войн, как ты, никогда не прийти назад. Впрочем, знаешь, тебе не стоит об этом думать. С цифровых моих фотографий и пыль не сдунуть. И не надо; я обойдусь без имён и дат. Как на вечный огонь придут на тебя смотреть — Ты останешься от меня, когда я остыну. Но пока я ещё иду, я прошла лишь треть, Пока солнце лучистой плетью сечёт мне спину, Пока я собираюсь к морю, но что с того — Мне и там выводить стихи твои на обоях. Я люблю тебя больше, чем ангелов и Самого, И поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих – [1] Ещё дальше; пока саднит, пока голос дан, Пока прочь бегу, но до пикселей помню лица, И ещё – не забыть Спасителя в чемодан. Чтоб нигде не переставать за тебя молиться.Ночь с 19 на 20 августа 2004 года
Наскальное
Сайде – на чай
Свиться струйкой водопроводной — Двинуть к морю до холодов. Я хочу быть такой свободной, Чтобы не оставлять следов. Наблюдая, как чем-то броским Мажет выпуклый глаз заря, Я хочу быть немного Бродским — Ни единого слова зря.* * *
«Все монеты – в море. Чтоб не пропить» — И швыряют горстями из Драных сумок деньги. И стало быть — Вы приехали в Симеиз. Два народа: семьи смешных мещан, Что на море сварливят «Ляжь!» И безумцы – бесятся сообща, Убегают на голый пляж, — Их глаза вращаются как шасси, Заведённые ЛСД. Я же пью свой кофе в «Дженнет кошеси», Что сварила моя Сайде.* * *
Сумасшествием дышит ветер — Честно, в городе карантин: Здесь, наверное, каждый третий — Из кустурицевых картин. Всяк разморен и позитивен. Джа здесь смотрит из каждых глаз — По полтиннику мятых гривен Стоит правильный ганджубас. Улыбаются; в пляжных тапках Покоряют отвесный склон. И девицы в цветастых шапках Стонут что-то про Бабилон.* * *
Рынок, крытый лазурным небом — И немыслимо пахнет всё: Заглянуть сюда за тандырным хлебом — И уйти навьюченной, как осёл. Здесь кавказцы твердят всегда о Том, что встречи хотят со мной. У меня на плече иероглиф «Дао», Нарисованный чёрной хной.* * *
Кроме нас и избранных – тех, кто с нами Делит побережье и пьёт кагор, Есть все те, кто дома – а там цунами, И мы чуем спинами их укор. Отче, скрась немного хотя бы часть им Неисповедимых Твоих путей. Ты здесь кормишь нас первосортным счастьем — А на нашей родине жжёшь детей.* * *
Море: в бурю почти как ртуть, В штиль – как царская бирюза. Я: медового цвета грудь И сандалового – глаза.* * *
Жить здесь. Нырять со скал на открытом ветре. В гроты сбегать и пережидать грозу. В плотный туман с седой головы Ай-Петри Кутать худые плечи – как в органзу. Долго смотреть, пока не начнёт смеркаться, Как облака и камни играют в го. А мужчины нужны для того, чтобы утыкаться Им в ключичную ямку – больше ни для чего.* * *
Кофе по-турецки, лимона долька, Сулугуни и ветчина. Никого не люблю – тех немногих только, На которых обречена. Там сейчас мурашками по проспекту Гонит ветер добрых моих подруг. И на первых партах строчат конспекты По двенадцать пар загорелых рук. Я бы не вернулась ни этим летом, Ни потом – мой город не нужен мне. Но он вбит по шляпку в меня – билетом, В чемодане красном, на самом дне. Тут же тополя протыкают бархат Сюртука небес – он как решето; Сквозь него холодной Вселенной пахнет И глядит мерцающее ничто. Ночи в Симеизе – возьми да рухни С гор в долину – и никого в живых. И Сайде смеётся из дымной кухни И смешно стесняется чаевых.8–10 сентября 2004 года
Войлок
Жить надо без суфлёров, зато с антрактами — Пусть все уйдут есть булки и шоколад. Я буду слушать, кутаясь в свой халат, Как он берёт дыхание между тактами Самой простой и искренней из баллад. Небо поизносилось и прогибается, Пузом накрыв обломки больших держав. Дыры в нём – с море Беринга или Баренца! — Я ощущаю, как она улыбается, Ночью, на кухне, трубку плечом зажав. Поизносилось, служит бедняцким пологом, Даже стекляшки реденькие дрожат. Время за воротник меня тащит волоком. И голова набита тоской как войлоком, Словно у старых плюшевых медвежат.21 сентября 2004 года
Три цента
Да что у меня, нормально всё, так, условно. Болею уже, наверно, недели две. Мы вроде и говорим с тобой, а дословно Известно всё, как эпиграф к пустой главе. Не видимся совершенно, а чувство, словно Ношу тебя, как заложника, в голове. Пора, моё солнце, слишком уж много разниц Растрескалось – и Бог ведает, почему. И новое время ломится в дом и дразнит И хочет начаться, тычется носом в тьму. Как будто к тебе приходит нежданный праздник, А ты разучилась радоваться ему. Пора, моё солнце, глупо теперь прощаться, Когда уже всё сказали, и только стон. Сто лет с тобой не могли никак натрещаться, И голос чужой гудел как далёкий фон, И вот наконец нам некуда возвращаться, И можно спокойно выключить телефон. И что-то внутри так тянется неприятно — Страховочная верёвка или плацента, И резать уже бы, рвать бы – давай-ка, ладно, Наелись сцен-то, А дорого? – Мне бесплатно, Тебе три цента. Пора, моё солнце, – вон уже дует губки Подружка твоя и пялится за окно. Как нищие всем показываем обрубки Своих отношений: мелочно и смешно. Давай уже откричимся, отдёрнем трубки И, воду глотая, камнем уйдём на дно.Ночь с 29 на 30 сентября 2004 года
Францу Кафке
Резво и борзо, Выпучив линзы, Азбукой Морзе, Пластикой ниндзя, Донельзя близко, Лезвийно резко, Чтоб одалиской — За занавеску; Пулей сквозь гильзу, Нет, безобразней: Смёрзшейся слизью, Скомканной грязью, Чтоб каждый сенсор Вздрогнул, как бронза: «Боль – ты – мой – цензор, Боль – ты – мой – бонза»; Медленно, длинно, Словно он сам – за, В панцирь хитина Бросят вонзаться (Вот бы хребтину Перегрызать за!..) Яблоко в спину Грегора Замзы. Как в самом деле Просто до жути: Боли хотели — Так торжествуйте. Небо как пемза. Окна без солнца. Боль – ты – мой – цензор. Боль – ты – мой – бонза. Будто угрозу, Видно не сразу Зоркую язву, Что одноглаза; Казнь вызывала Стыдные слезы: Сеет заразу Злая заноза — Вьёт свои гнёзда, Ширится бездной. И стало поздно. И бесполезно. Вырвался. Взвился. Тельце, как пнули — Лязгнуло гильзой Пущенной пули.Ночь с 7 на 8 октября 2004 года
«Без всяких брошенных невзначай…»
Без всяких брошенных невзначай Линялых прощальных фраз: Давай, хороший мой, не скучай, Звони хоть в недельку раз. Навеки – это всего лишь чай На верхние веки глаз. Всё просто, солнце – совьёт же та Гнездо тебе наконец. И мне найдётся один из ста Красавчик или наглец. Фатально – это ведь где фата И блюдечко для колец. И каждый вцепится в свой причал Швартовым своим косым. И будет взвизгивать по ночам Наверное даже сын. «Любовь» – как «обувь», не замечал? И лучше ходить босым.19 октября 2004 года
Кому-то
Впитать – и всё унести под кожей. И ждать расстрела auf dem Hof. Сутуло слушать в пустой прихожей Густое эхо твоих духов. Инфинитивами думать. Слякоть Месить и клясться – я не вернусь. И кашлять вместо того, чтоб плакать, И слушать горлом проклятый пульс, Что в такт ударным даёт по шее, Пытаясь вырваться изнутри. Из тесных «здравствуй», как из траншеи, Хрипеть – оставь меня. Не смотри. Фотографировать вспышкой гнева Всё то бессчётное, что не мне. И сердцу будто бы – ты вот, слева! А ну-ка быстро лицом к стене! И хохотать про себя от злобы, В прихожей сидя до темноты: Со мной немыслимо повезло бы Кому-то, пахнущему, как ты.1–2 ноября 2004 года
Сиренами
Парализуя солнечным «Ну, в четверг?» — Опытно, аккуратно, до костных тканей. Самым необратимым из привыканий, Где-то внутри всплывающим брюхом вверх. А они говорят: Не лезь! А они говорят: Уважь, Что в тебе за резь? Что в тебе за блажь? Где в тебе тайник? Где в тебе подвох? Ты мой первый крик. И последний вздох. Глядя в глаза с другой стороны воды. Шейкером для коктейля полов и наций. Самой невозмутимой из интонаций, Вывернутой в синоним большой беды. А они говорят: Не здесь! А они говорят: Не трожь! Что в тебе за спесь? Что в тебе за дрожь? Это что за взгляд? Это что за тон? Ты мне верный яд И предсмертный стон. Спутавшимся дыханием, как у двух Мальчиков, засыпающих в позе ложек. Выстрелами. Сиренами неотложек, Чтобы от страха перехватило дух. А они говорят: Позволь! А они тычут пальцем: Вон! Что в тебе за боль? Что в тебе за звон? Побежишь – мы в бок Сыпанем свинца. Если ты мне бог — Значит, до конца.10 ноября 2004 года
Жреческое
Город стоит в метельном лихом дурмане — Заспанный, индевеющий и ничей. Изредка отдаваясь в моём кармане Звонкой связкой твоих ключей. К двери в сады Эдема. Или в Освенцим. Два поворота вправо, секунд за пять. Встреть меня чистым выцветшим полотенцем. И футболкой, в которой спать.* * *
Что-то, верно, сломалось в мире. Боги перевели часы. Я живу у тебя в квартире И встаю на твои весы. Разговоры пусты и мелки. Взгляды – будто удары в пах. Я молюсь на твои тарелки И кормлю твоих черепах. Твои люди звонками пилят Тишину. Иногда и в ночь. Ты умеешь смотреть навылет Я смотрю на тебя точь-в-точь, Как вслед Ною глядели звери, Не допущенные в Ковчег. Я останусь сидеть у двери. Ты уедешь на саундчек.* * *
Словно догадка Вздрогнет невольно — Как же мне сладко. Как же мне больно. Как лихорадка — Тайно, подпольно — Больно и сладко, Сладко и больно, Бритвенно, гладко, Хватит, довольно — Больно и сладко, Сладко и больно. Мертвая хватка. К стенке. Двуствольно. Было так сладко. Стало Так Больно…* * *
Всё логично: чем туже кольца, тем меньше пульса. Я теперь с тоской вспоминаю время, когда при встрече Я могла улыбчиво говорить тебе: «Не сутулься», Расправляя твои насупившиеся плечи, Когда чтобы зазвать на чай тебя, надо было Засвистеть из окна, пока ты проходишь мимо. Чем в нас меньше простой надежды – тем больше пыла. Чем нелепее всё – тем больше необходимо. И чем дальше, тем безраздельнее мы зависим, Сами себя растаскиваем на хрящики. Здравствуйте, Вера. Новых входящих писем Не обнаружено в Вашем почтовом ящике.* * *
Ставками покера. Тоном пресвитера: Вечером рокеры — Днем бэбиситтеры. Чтобы не спятили. Чтобы не выдали. Утром приятели — Вечером идолы.* * *
Я ведь не рабской масти – будь начеку. Я отвечаю требованьям и ГОСТам. Просто в твоем присутствии – по щелчку — Я становлюсь глупее и ниже ростом. Даже спасаться бегством, как от врагов, Можно – но компромиссов я не приемлю. Время спустя при звуке твоих шагов Я научусь проваливаться сквозь землю. Я не умею быть с тобой наравне. Видимо, мне навеки стоять под сценой. Эта любовь – софитовая, извне — Делает жизнь бессмысленной. И бесценной.P.S.
Хоть неприлично смешивать кантату с Частушками – мораль позволю тут: С годами мной приобретётся статус, И чаши в равновесие придут. Согреем шумный чайник, стол накроем И коньяку поставим посреди. Устанешь быть лирическим героем — Так просто пообедать заходи.Ночь с 28 на 29 ноября 2004 года
Спецагенты
Братья силятся в опечатках Разглядеть имена зазноб — Я влюбляюсь без отпечатков Пальцев. Правда, с контрольным в лоб. Сёстры спрашивают о личном Светским шёпотом Их сиятельств — Я влюбляюсь всегда с поличным. Без смягчающих обстоятельств. Фразы верхом, а взгляды низом. Трусость клопиков-кровопийц. Я влюбляюсь всегда с цинизмом Многократных самоубийц.* * *
Целоваться бесшумно, фары Выключив. Глубиной, Новизной наполнять удары Сердца, – что в поцелуй длиной. Просыпаться под звон гитары, Пусть расстроенной и дрянной. Серенады одной струной. Обожаю быть частью пары. Это радостней, чем одной. Но в любви не как на войне, А скорее всего как в тайной Агентуре: предатель не Осуждается, а случайной Пулей потчуется во сне; Ты рискуешь собой вдвойне. И, подрагивая виском, Словно ягодное желе я, Сладким девичьим голоском Металлическим – сожалею, Но придётся, – метнуть куском Стали в спину. Давись песком, Будто редкостным божоле, и Как подденут тебя носком, — Улыбайся им, тяжелея. Так и буду одна стоять, Оседая внутри клубами. Память – это глагол на «ять». Памю. Памяли. Памишь. Пами.14 декабря 2004 года
Мужчины
Анне Заболотной
Наши мужчины – в сущности это ведь Комкать рукав ладонями без перчаток (Контур нечёток: утро из опечаток) Льнуть, капюшонно хмуриться – и трезветь. Через плечо смотреть на асфальт и вслед. Плюс тебе дует. И восемнадцать лет.27 декабря 2004 года
Глобус
Евгении Махиной
Они уезжают группами, Вгрызаются в карты лупами; Затылочными скорлупами, Носами своими глупыми — Под купами! И из самолётов трапами Выкатываются с граппами, Друзьями, детьми и папами — Счастливыми, косолапыми Арапами! А мы при мечтах и ропоте: Не ждут нас пока Европы те, Чтоб мы на своем бы опыте: – Дыра этот ваш Париж! Дыра, говоришь? Ну да, нувориш — Смотри ж! Не ждут нас пока и в Азии — Спокойствие, узкоглазие, Мне б «Иншалла!» в каждой фразе и — В экстазе я. Безобразие. А друзья у меня – без визы Смотрят мир, пока я скучаю. Им для этого – телевизор И коробка дрянного чаю. Выпускают дымок сквозь губы И посмеиваются звонко. Там у них ну такая Куба, Что фактически Амазонка. – Я в Египте! – А я в Кувейте! – Мне насыпьте! – И мне забейте! – Штат Вирджиния! Стейк на гриле! – Что, дружинники, Раскурили? – Эй, соседка, А я в Огайо! – Больше, детка, Не предлагаю. – Я на Мальте! – Я на Гаити! – Шмальте, шмальте. Еще хотите? – Эй, попутчики! Было клёво! С добрым утречком В Бирюлёво!* * *
Чтобы ты вникнул: Путаем злобу с Жаждой каникул; Мучаем глобус. – Дивные дивы Эти Мальдивы! – Как Вы замшелы! Я – на Сейшелы! – Монастыри бы… – Нет, на Карибы! – Рай, если грубо, Это Аруба! – Мальчик, заткнись! Съезди в Тунис! Гибель турфирмам, Виски и крабам: – Вот бы мне к финнам! – Мне бы – к арабам! – Плюю на вопли ваши я. Милей всего – Чувашия. А еще зовёт душа За верховья Иртыша. – Стоп. Подождите-ка, а это где? – Где-то в Америке? – Вы не поверите! В Караганде!* * *
А поэт – у него болит. Он крылат. Он космополит. Он со всею планетой слит И поэтому не скулит. Ходит там, где очнётся мысль его. И прохожий начнёт завистливо — От же хитрый какой народ Рифмоплёты! – и этим кислого В ликование подольёт. Да ускачет за поворот.* * *
Тут у них салют. Тут у них балет. Мне бы чуть валют — И простыл бы след. Календарь жесток. Чтобы жить без вьюг — Надо на восток, А потом на юг. Кто крутит Бьорк, Кто-то ставит Стрим. Я хочу в Нью-Йорк. Или лучше в Рим. Кочевая рать. Смуглая орда. Я люблю играть Только в города.Ночь с 3 на 4 января 2005 года
Отпуск
– Веришь их козням? Веришь их басням? – Мне так легко с ним. Я бы жила с ним. – Будет бездельник Да при невесте! – Я и без денег. Только бы вместе. – Ох ты! Добро бы!.. Кольца примерьте! – Я бы до гроба. И после смерти. – Ну а – оставил? Боль же – тюрьма без Сроков и правил! – Переломаюсь. – Был же вот прошлый — Из преисподней! – Нет, он хороший. Он благородней. – Вот недотёпой Стала тряпичной! – Донышком тёплой Ямки ключичной. – Принц будто! Отпрыск Чей-нибудь княжий! – Нет, просто отпуск. Мне. От себя же.6 января 2005 года
«Очень спокойно, мелочью не гремя…»
Очень спокойно, мелочью не гремя, Выйти навстречу, пальчиками тремя Тронув курок, поближе стрелять к межбровью; Если и вправду это зовут любовью, — Господи Святый Боже, помилуй мя. Страсть – это шаткий мост от друзей к врагам; Если фанатик – значит, и моногам: Ты ему дышишь в шею, едва осмелясь, А в голове отточенным хуком в челюсть Складываешь бесшумно к своим ногам. Страсть – это очень технологичный дар Чуять его за милю нутром – радар Встроен; переговариваться без раций. Хочешь любить – научишься доверяться. Фирменный отрабатывая удар.Ночь с 23 на 24 января 2005 года
Суженое-ряженое
Гадание
Чуши не пороть. Пораскованней. – Дорогой Господь! Дай такого мне, Чтобы был свиреп, Был как небоскрёб, Чтобы в горле рэп, А во взгляде стёб, Чтоб слепил глаза, Будто жестяной; Чтоб за ним как за Каменной стеной; Туже чтоб ремней, Крепче, чем броня: Чтобы был умней И сильней меня; Чтобы поддержал, Если я без сил, Чтобы не брюзжал, Чтобы не бесил, Чтобы был холен, Чтобы был упрям, Чтоб «У этой вон — Идеальный прям!» Чтобы, пыль вокруг Каблуком клубя, Он пришел и вдруг — «Я люблю тебя».* * *
По реке плывет топор Вдоль села Валуева. Он не видит и в упор, Как же я люблю его.* * *
– Рассказать ему? – Бровь насупит. Да и делать-то будешь что потом? – А исчезнуть? Как он поступит? – Не умрёт. Всё приходит с опытом. – А не любит? – Ну значит – stupid, Пусть тогда пропадает пропадом.* * *
– Уходить от него. Динамить. Вся природа ж у них – дрянная. – У меня к нему, знаешь, память — Очень древняя, нутряная. – Значит, к черту, что тут карьера? Шансы выбиться к небожителям? – У меня в него, знаешь, вера; Он мне – ангелом-утешителем. – Завяжи с этим, есть же средства; Совершенно не тот мужчина. – У меня к нему, знаешь, – детство, Детство – это неизлечимо.* * *
Шалостью бризовой, Шелестью рисовой — Поговори со мной, Поговори со мной, Солнечной, лиственной Вязью осмысленной — Ну поделись со мной Тяжкими мыслями, Тёмными думами, Мрачной кручиною — Слушать угрюмыми Соснами чинными Буду; как рай земной Под кипарисами — Поумирай со мной, Поговори со мной, Слеёы повылей чуть — Я ведь как оттепель, Я тебя вылечу, Станет легко тебе, Будто бы сызнова Встанешь из пламени, Только держись меня, Не оставляй меня. А коль решишь уйти, Вот те пророчество: Будешь искать пути, Да не воротишься.28–29 января 2005 года
Обстановочка
В трубке грохот дороги, смех, «Я соскучился», Бьорк, метель. Я немного умнее тех, С кем он делит свою постель. В почте смайлики, списки тем, Фото, где я сижу в гостях; Мне чуть больше везёт, чем тем, Кто снимается в новостях. В сумке книжка с недорогим Телефоном, медведь, тетрадь: Мне спокойнее, чем другим, Кому есть уже, что терять. В сердце вставлен её альбом, Кровь толкается чуть быстрей. Там безлюдней вспотевших лбом Подворотен и пустырей.Ночь с 12 на 13 февраля 2005 года
Сиамские близнецы
Целуемся хищно И думаем вещно; Внутри меня лично Ты будешь жить вечно, И в этой связи мы Единей скелета, — На долгие зимы, На многие лета; В нас ширится мощно Грудная геенна — И денно и нощно, И нощно и денно; Сиамское темя У двух иностранцев — Мы вместе на время. Но не на пространство. И да не возропщем, Пока не остынем. Найдемся по общим Подкожным пустыням.Ночь с 16 на 17 февраля 2005 года
«А где я? Я дома, в коме, зиме и яме…»
А где я? Я дома, в коме, зиме и яме. Мурлыкаю в ванной медленно Only you, Пишу себе планы, тут же на них плюю; А кожа сидит на креме как на клею И, если не мазать, сходит с тебя слоями. А он где? Никто не знает; по веществу ведь Он ветер; за гранью; без вести; вне игры. Пусть солнце бесстыдно лижет ему вихры, Пусть он устаёт от женщин и от жары, — Его, по большому счёту, не существует. Ведь, собственно, проходимцы тем и бесценны. Он снится мне между часом и десятью; Хохочет с биллбордов; лезет ко мне в статью. Таджики – как саундтрек к моему нытью — В соседней квартире гулко ломают стены. Такая болезнь хоть раз, но бывает с каждым: Я думала: я забыла сказать о важном, Я вывернусь, я сбегу, полечу в багажном, Туда же, всё с той же бирочкой на руке. Я думала: я ворвусь и скажу: porque?!.. Но Вечный грустит над очередью к реке, В которую никого не пускает дважды.Ночь с 18 на 19 февраля 2005 года
«И триединый святой спецназ…»
И триединый святой спецназ Подпевает мне, чуть фальшивя. Все, что не убивает нас, Просто делает Нас Большими.10 марта 2005 года
Журфак
Три родинки как Бермудский архипелаг. Четыре кольца взамен одного кастета. А выглянешь из окна университета — Всё башенки, купола и трёхцветный флаг. Михайло похож на шейха в тени чинар. Подруга пьёт чай под лестницей, поджидая Родного короткостриженного джедая, С которым пойдёт прогуливать семинар. Речь пряна и альма-матерна – по уму. Покурят – и по редакциям: сеять смуту В людских головах. Заглядываешь – в минуту Друзья тебя топят в едком густом дыму. Моргать – мерить кадры веками: вот, смотри. Улыбкой пугать как вспышкой; жить просто ради Момента, когда зажгутся на балюстраде Магические, как в Хогвартсе, фонари. Ты лёгкими врос: пыль, кофе, табак и мел, Парфюмы – как маячки, как густой в ночи след Фарного света; если тебя отчислят, Ты сдохнешь, как кит, что выбросился на мель.26 марта 2005 года
Песня ваганта
Звёзд рассыпанная сотня — Сеть у месяца на спице. Ночь прекрасна. Мне сегодня Страшно хочется напиться. Жизнь докучливая сводня, Но изрядная тупица: Выпить не с кем. Но сегодня Я планирую напиться. Сыр и, если вам угодней, Остывающая пицца. Если вы вагант – сегодня Вам предписано напиться. Ночь безмолвная субботня. По карнизу ходит птица. – Отче, я один сегодня. Ты мне можешь пригодиться. Мне нужна Твоя Господня Всемогущая десница. Ты устал. Тебе сегодня Тоже следует напиться.Ночь с 31 марта на 1 апреля 2005 года
Тринадцать строф
От богатых господ Золотыми гостиными Уношу тебя под Ногтевыми пластинами, За подкладкой – как гаш, Мысли взглядами робкими Отсылая в багаж Черепными коробками; Мимо тех, кому лжём, Шефу, маме ли, Кате ли — Перочинным ножом Сквозь металлоискатели, Из-под острых ресниц Глядя, будто бы клад ища — Мимо старых гробниц Или нового кладбища; От срывающих куш — Или рвущихся в дебри те — Мимо грязных кликуш И холёных селебрити, Что галдят ни о чём — Каблучищами гордыми, Льдом, песком, кирпичом, Мостовыми, биллбордами, Уношу, словно ком Снежный – в горле – не выстою — Как дитя под платком Уносила Пречистая; Вместо пуль и камней, Сквозь сердечную выжженность, Мимо тех, кто умней, Или, может быть, выше нас, Волочу, как босяк Ногу тащит опухшую. Мимо тех, кто иссяк, Или тех, кого слушаю, Посекундно платя — Обещая, что в пыль сотру. Уношу, словно стяг, Что полощется по ветру — Во весь дух. Во всю прыть — Как горючее кровь ещё — Уношу, чтоб зарыть, Утопить, как сокровище, И доверить воде Бескорыстно, по-вдовьему: Чтоб на Страшном суде Бросить в чашу весов Ему. В банк? Проценты с него? Чтобы я – да тетрадь вела?.. Отче, я ничего, Ничего не потратила.9 апреля 2005 года
«Первой истошной паникой по утрам…»
Пройду, любовищу мою волоча. В какой ночи, бредовой, недужной, Какими Голиафами я зачат — Такой большой И такой ненужный? В. Маяковский, 1916 Первой истошной паникой по утрам — Как себя вынести, Выместить, вымести; Гениям чувство кем-то-любимости — Даже вот Богом при входе в храм — Дорого: смерть за грамм. Впрочем, любая доза для нас горька Ломками острыми; Странное чувство рождённых монстрами: Если не душит собственная строка — Изредка доживаем до сорока. Загнанно дышим; из пузырька драже Сыплем в ладонь, от ужаса обессилев. Лучший поэт из нынешних – Саш Васильев, И тому тридцать шесть уже. Впрочем, мы знаем каждый про свой черёд — Кому из верности Нас через дверь нести; Общее чувство несоразмерности — Даже с Богом, который врёт — Ад, данный наперёд: Мощь-то близкого не спасла б, Тенью хоть стань его. Нету смертельнее чувства титаньего, Тяжелей исполинских лап — Хоть ты раним и слаб. Масть Кинг-Конгова; дыбом шерсть. Что нам до Оскара, Мы – счёт веков с кого; До Владимира Маяковского Мне – всего сантиметров шесть. Царь? Так живи один, не калечь ребят. Негде? Так ты прописан-то сразу в вечность. Вот удивится тот, кто отправит в печь нас: Памятники! Смеются! И не горят!..Ночь с 18 на 19 апреля 2005 года
Ромул и Рем
Я была Ромулом, ты был Ремом. Перемигнулись, создали Рим. Потом столкнула тебя в кювет. Привет. Я пахну тональным кремом. Ты разведён со своим гаремом. Мы вяло, медленно говорим. Кто сюзереном был, кто вассалом? Прошло как минимум пару эр. Друг другу, в общем, давно не снимся. Лоснимся. Статусом. Кожным салом. Ты пьёшь Варштайнер, я пью пуэр. Цивилизацию в сталь одело И хром – докуда хватает глаз. И, губы для поцелуя скомкав, Мы не найдём тут родных обломков. Я плохо помню, как было дело — Прочти учебник за пятый класс. И, кстати, в целости самовластье. Там пара наших с тобой имён. Ты был мне – истинный царь и бог. Но стены Рима сжевал грибок, А впрочем, кажется, увлеклась я Усталым трёпом в конце времен. Потомки высекли нас. В граните. Тысячелетьям дано на чай. Мы – как Джим Моррисон и Сед Вишез. Я выковыриваю, скривившись, Посредством нити В зубах завязнувшее «прощай».Ночь с 4 на 5 мая 2005 года
Благовест
В этой мгле ничего кромешного нет — Лишь подлей в неё молока. В чашке неба Господь размешивает Капучинные облака. В этом мае у женщин вечером Поиск: чьё ж это я ребро? Я питаюсь копчёным чечилом. Сыр – и белое серебро. Этот город асфальтом влагу ест Будто кожей. А впереди Тётя встала послушать благовест, Что грохочет в моей груди.Ночь с 14 на 15 мая 2005 года
«Лето в городе, пыль столбом…»
Лето в городе, пыль столбом. Надо денег бы и грозу бы. Дни – как атомные грибы: Сил, накопленных для борьбы, Хватит, чтобы почистить зубы, В стену ванной уткнувшись лбом. Порастеряны прыть и стать. Пахнет зноем и свежим дёрном, Как за Крымским за перешейком. Мозг бессонницу тянет шейком — И о бритве как о снотворном Начинаешь почти мечтать. Как ты думаешь, не пора ль? Столько мучились, столько врали. Память вспухла уже, как вата — Или, может быть, рановато? Ты, наверное, ждёшь морали. Но какая уж тут мораль.29 мая 2005 года
«Что-то клинит в одной из схем…»
Что-то клинит в одной из схем. Происходит программный сбой. И не хочется жить ни с кем, И в особенности с собой. Просто срезать у пяток тень. Притяжение превозмочь. После – будет всё время день. Или лучше всё время ночь.* * *
Больно и связкам, и челюстным суставам: – Не приходи ко мне со своим уставом, Не приноси продуктов, проблем и денег — Да, мама, я, наверное, неврастеник, Эгоцентрист и злая лесная нежить — Только не надо холить меня и нежить, Плакать и благодарности ждать годами — Быть искрящими проводами, В руки врезавшимися туго. Мы хорошие, да – но мы Детонируем друг от друга, Как две Черные Фатимы. – Я пойду тогда. – Ну пока что ль. И в подъезде через момент Еёкаторжный грянет кашель Как единственный аргумент.* * *
О, швыряемся так неловко мы — – Заработаю я! Найду! — Всеми жалкими сторублёвками, Что одолжены на еду, Всеми крошечными заначками, Что со вздохом отдал сосед — Потому что зачем иначе мы Вообще рождены на свет, Потому что мы золочёная, Но трущобная молодёжь. Потому что мы все учёные И большие поэты сплошь. Пропадёшь, Коли попадёшь в неё — Ведь она у нас ещё та — Наша вечная, безнадёжная, Неизбывная нищета.* * *
Уж лучше думать, что ты злодей, Чем знать, что ты заурядней пня. Я перестала любить людей, — И люди стали любить меня. Вот странно – в драной ходи джинсе И рявкай в трубку, как на котят — И о тебе сразу вспомнят все, И тут же все тебя захотят. Ты независим и горд, как слон — Пройдёт по телу приятный зуд. Гиены верят, что ты силён — А после горло перегрызут.* * *
Я совсем не давлю на жалость — Само нажалось. Половодьем накрыло веки, не удержалось. Я большая-большая куча своих пожалуйст — Подожгу их и маяком освещу пути. Так уютнее – будто с козырем в рукаве. С тополиной опухолью в листве; – Я остаюсь летовать в Москве. – Значит, лети. Лети.17 июня 2005 года
Сливы
Ты умело сбиваешь спесь — Но я справлюсь, куда деваться; Ночью хочется напиваться, Утром хочется быть не здесь. Свален в кучу и гнил на треть, Мир подобен бесхозным сливам; Чтобы сделать Тебя счастливым, Нужно вовремя умереть. Оступиться, шагая по Нерву – hey, am I really gonna Die? – не освобождать вагона, Когда поезд пойдёт в депо. В землю падаль педалью вжать, Чтоб не радовалась гиенья Свора пакостная; гниенья Коллективного избежать. И другим, кто упруг и свеж, Объяснить все как можно чётче; Я уже поспеваю, Отче. Забери меня в рай и съешь.Ночь с 25 на 26 июня 2005 года
Маленький рок-н-ролл
P. S.
И не то чтоб прямо играла кровь Или в пальцах затвердевал свинец, Но она дугой выгибает бровь И смеётся, как сорванец. Да ещё умна, как Гертруда Стайн, И поётся джазом, как этот стих. Но у нас не будет с ней общих тайн — Мы останемся при своих. Я устану пить и возьмусь за ум, Университет и карьерный рост, И мой голос в трубке, зевая к двум, Будет с нею игрив и прост. Ведь прозрачен взор её, как коньяк, И приветлив, словно гранатомёт, — Так что если что-то пойдёт не так, То она, боюсь, не поймёт. Да, её черты выражают блюз Или босса-нову, когда пьяна; Если я случайно в неё влюблюсь — Это будет моя вина. Я боюсь совсем не успеть того, Что имеет вес и оставит след, А она прожектором ПВО Излучает упрямый свет. Этот свет никак не даёт уснуть, Не даёт себя оправдать ни в чем, Но зато он целится прямо в суть Кареглазым своим лучом.Ночь 28–29 июня 2005 года
Disk World
Мир это диск, как некогда Терри Пратчетт Верно подметил; в трещинах и пиратский. Каждую ночь приходится упираться В то, что вино не лечит, а мама плачет, Секс ничего не значит, а босс тупит; И под конец мыслительных операций Думать: за что же, братцы? – и жать repeat. Утро по швам, как куртку, распорет веки, Сунет под воду, чтобы ты был свежее; Мы производим строки, совсем как греки, Но в двадцать первом треке – у самых шей Время клубится, жарким песком рыжея, Плюс ко всему, никто не видал Диджея, И неизвестно, есть ли вообще Диджей. И мы мстительны, как Монтекки, И смеёмся почти садистски — А ведь где-то другие деки. И стоят в них другие диски. Там ладони зеркально гладки — Все живут только настоящим, Там любовь продают в палатке По четыре копейки ящик; Солнце прячет живот под полог Океана – и всходит снова; Пляж безлюден, и вечер долог, Льётся тихая босса-нова, И прибой обнимает ноги, Как весёлый щенок цунами, И под лёгкими нет тревоги, И никто не следит за нами; Просто пена щекочет пятки, И играют в бильярд словами, В такт покачивают мулатки Облакастыми головами; Эта музыка не калечит, Болевой вызывая шок — Она легче — Её на плечи И несёшь за собой, как шёлк. Мы же бежим, белки закатив, как белки, Кутаемся в родной пессимизм и косность; Воздух без пыли, копоти и побелки Бьёт под ребро как финка и жжёт нутро. …Новое утро смотрит на нас, раскосых, Солнечной пятернёй тонет в наших космах И из дверей роняет в открытый космос, Если пойти тебя провожать к метро.25 июля 2005 года
«В освещении лунном мутненьком…»
В освещении лунном мутненьком, Проникающем сквозь окно, Небольшим орбитальным спутником Бог снимает про нас кино. Из Его кружевного вымысла Получился сплошной макабр. Я такая большая выросла, Что едва помещаюсь в кадр.Ночь 28–29 июля 2005 года
«Доктор, как хорошо, что Вы появились…»
Доктор, как хорошо, что Вы появились. Доктор, а я волнуюсь, куда ж Вы делись. Доктор, такое чувство, что кто-то вылез И по лицу сползает из слёзных желёз. Доктор, как Вы живёте, как Ваши дети? Крепко ли спите, сильно ли устаёте? Кресло тут в кабинете, Господь свидетель, Прямо такое точно, как в самолёте. Доктор, тут к Вам приходят все словно к Будде. Доктор, у Вас в газете – всё на иврите? Доктор, прошу Вас, просто со мной побудьте. Просто со мной немножко поговорите.* * *
Что меня беспокоит? На-ка вот: Я хочу, чтоб на Рождество Сделал Бог меня одинаковой, Чтоб не чувствовать ничего. Острый локоть — В грудную мякоть: Чтоб не ёкать И чтоб не плакать; Чтоб не сохнуть И чтоб не вякать — Чтобы охнуть И рухнуть в слякоть.* * *
Лечь, лопатки впечатать в дно И закутаться в ил, древнея. Вот тогда станет все равно. А со временем – все равнее.* * *
Что молчите, не отвечая мне? И качаете головой? Может, чая мне? от отчаянья? С трын-травой? У меня, может, побываете? Перейдем на другой тариф мы? Запретите слагать слова эти В эти рифмы? Приласкаете? Отругаете? Может, сразу удочерите? Доктор, что Вы мне предлагаете? Говорите! В дверь толкнёшься на нервной почве к Вам — Руки свяжут, как два ремня!.. Что Вы пишете птичьим почерком? Вы выписываете меня?..Ночь 13–14 августа 2005 года
Игры
Ну давай, давай, поиграй со мной в это снова. Чтобы сладко, потом бессильно, потом хреново; Чтобы – как же, я не хотел ничего дурного; Чтоб рычаг, чтобы три семёрки – и звон монет. Ну давай, давай, заводи меня, трогай, двигай; Делай форвардом, дамкой, козырем, высшей лигой; Я на старте, я пахну свежей раскрытой книгой; Ставки сделаны, господа, ставок больше нет. Раз охотник – ищи овцу, как у Мураками; Кулаками – бумага, ножницы или камень — Провоцируй, блефуй, пытай меня не-звонками; Позвонками моими перебирай в горсти. Раз ты вода – так догони меня и осаль, но Эй, без сальностей! – пусть потери и колоссальны, Мы, игрушечные солдаты, универсальны. Пока не умираем, выхрипев «отпусти». Пока нет на экране баллов, рекордов, блёсток; Пока взгляд твой мне жарит спину, лазурен, жёсток; Пока ты мое сердце держишь в руке, как джойстик, Пока ты никого на смену не присмотрел; Фишка; пешечка-партизан; были мы лихими, Стали тихими; привыкать к добровольной схиме И ладони, глаза и ружья держать сухими; От Е2–Е4 в сторону шаг – расстрел. Я твой меч; или автомат; дулом в тёплый бок — Как губами; я твой прицел; я иду по краю, Как сапёр, проверяю кожей дорогу к раю На руке у тебя – и если я проиграю, То тебя самого в коробку уложит – Бог.27 августа 2005 года
«Просыпаешься – а в груди горячо и густо…»
Просыпаешься – а в груди горячо и густо. Всё как прежде – но вот внутри раскалённый воск. И из каждой розетки снова бежит искусство — В том числе и из тех, где раньше включался мозг. Ты становишься будто с дом: чуешь каждый атом, Дышишь тысячью лёгких; в поры пускаешь свет. И когда я привыкну, чёрт? Но к ручным гранатам — Почему-то не возникает иммунитет. Мне с тобой во сто крат отчаяннее и чище; Стиснешь руку – а под венец или под конвой, — Разве важно? Граната служит приправой к пище — Ты простой механизм себя ощущать живой.* * *
И родинки, что стоят, как проба, На этой шее, и соус чили — Опять придётся любить до гроба. А по-другому нас не учили.* * *
Я твой щен: я скулю, я тычусь в плечо незряче, Рвусь на звук поцелуя, тембр – что мглы бездонней; Я твой глупый пингвин – я робко прячу Своё тело в утёсах тёплых твоих ладоней; Я картограф твой: глаз – Атлантикой, скулу – степью, А затылок – полярным кругом: там льды; that’s it. Я ученый: мне инфицировали бестебье. Тебядефицит. Ты встаёшь рыбной костью в горле моём – мол, вот он я. Рвёшь сетчатку мне – как брусчатку молотит взвод. И – надцатого мартобря – я опять животное, Кем-то подло раненное в живот.Ночь с 17 на 18 сентября 2005 года
Пятиэтажка
Да, я дом теперь, пожилая пятиэтажка. Пыль, панельные перекрытия, провода. Ты не хочешь здесь жить, и мне иногда так тяжко, Что из круглой трубы по стенам течёт вода. Дождь вчера налетел – прорвался и вдруг потёк на Губы старых балконов; бил в водосточный нос. Я всё жду тебя, на дорогу таращу окна, Вот, и кровь в батареях стынет; и снится снос.* * *
Мальчик мой, как ты, сколько минуло чисел? Вуза не бросил? Скорости не превысил? Хватит наличных денег, машинных масел? Шторы развесил? Волосы перекрасил? Мальчик мой, что с тобой, почему не весел? Свет моей жизни, жар моих бедных чресел! Бросил! – меня тут мучают скрипом кресел, Сверлят, ломают; негде нажать cancel; В связке ключей ты душу мою носил — И не вернул; и всё; не осталось сил.* * *
Выйдешь, куртку закинешь на спину и уйдёшь. И отключится всё, и повылетают пробки. И останется грохотать в черепной коробке Жестяной барабан стиральный машины “Бош”: Он ворочает мысли скомканные – всё те, Что обычно; с садистской тщательностью немецкой. И тревога, как пульс, вибрирует в животе — Бесконечной неоткрываемой эсэмэской.20 сентября 2005 года
Бабьелетнее
Октябрь таков, что хочется лечь звездой Трамваю на круп, пока контролёр за мздой Крадётся; сражён твоей верховой ездой, Бог скалится самолётною бороздой. Октябрь таков, что самба звенит в ушах, И нет ни гроша, хоть счастье и не в грошах. Лежишь себе на трамвае и шепчешь – ах, Бог, видишь, я еду в город, как падишах!* * *
Как у него дела? Сочиняешь повод И набираешь номер; не так давно вот Встретились, покатались, поулыбались. Просто забудь о том, что из пальца в палец Льется чугун при мысли о нем – и стынет; Нет ничего: ни дрожи, ни темноты нет Перед глазами; смейся, смотри на город, Взглядом не тычься в шею – ключицы – ворот, Губы – ухмылку – лунки ногтей – ресницы — Это потом коснётся, потом приснится; Двигайся, говори; будет тихо ёкать Пульс где-то там, где держишь его под локоть; Пой; провоцируй; метко остри – но добро. Слушай, как сердце перерастает рёбра, Тестом срывает крышки, течёт в груди, Если обнять. Пора уже, всё, иди. И вот потом – отхлынуло, завершилось, Кожа приобретает былой оттенок — Знай: им ты проверяешь себя на вшивость. Жизнеспособность. Крепость сердечных стенок. Ты им себя вытёсываешь, как резчик: Делаешь совершеннее, тоньше, резче; Он твой пропеллер, двигатель – или дрожжи, Вот потому и нету его дороже; С ним ты живая женщина, а не голем; Плачь теперь, заливай его алкоголем, Бейся, болей, стихами рви – жаркий лоб же, Ты ведь из глины, он – твой горячий обжиг; Кайся, лечи ошпаренное нутро. Чтобы потом – спокойная, как ведро, — «Здравствуй, я здесь, я жду тебя у метро».* * *
Схватить этот мир, взболтать, заглотать винтом, Почувствовать, как лавина втекает ртом, — Ликующая, осенняя, огневая; Октябрь таков – спасибо ему на том — А Тот, Кто уже придумал мое «потом», — Коснулся щекой спины моего трамвая.Ночь с 4 на 5 октября 2005 года
Проебол
Вера любит корчить буку, Деньги, листья пожелтей, Вера любит пить самбуку, Целоваться и детей, Вера любит спать подольше, Любит локти класть на стол, Но всего на свете больше Вера любит проебол. Предлагали Вере с жаром Политическим пиаром Заниматься, как назло — За безумное бабло. Только дело не пошло — Стало Вере западло. Предлагали Вере песен Написать, и даже арий, Заказали ей сценарий, Перед нею разостлав Горизонты, много глав Для романа попросили — Прямо бросились стремглав, Льстили, в офис пригласили — Вера говорит «Всё в силе!» И живёт себе, как граф, Дрыхнет сутками, не парясь, Не ударив пальцем палец. Перспективы роста – хлеще! Встречу, сессию, тетрадь — Удивительные вещи Вера может проебать! Вера локти искусала И утратила покой. Ведь сама она не знала, Что талантище такой. Прямо вот души не чает В Вере мыслящий народ: Все, что ей ни поручают — Непременно проёбет! С блеском, хоть и молодая И здоровая вполне, Тихо, не надоедая Ни подругам, ни родне! Трав не курит, водк не глушит, Исполнительная клуша Белым днём, одной ногой — Все проёбывает лучше, Чем специалист какой! Вере голодно и голо. Что обиднее всего: Вера кроме проебола Не умеет ничего. В локоть уронивши нос, Плачет Вера-виртуоз. «Вот какое я говно!» — Думает она давно Дома, в парке и в кино. Раз заходит к Вере в сквер Юный Костя-пионер И так молвит нежно: – Вер, — Ей рукавчик теребя, – Не грусти, убей себя. Хочешь, я достану, Вер, Смит-и-вессон револьвер? Хочешь вот, верёвки эти? Или мыло? Или нож? А не то ведь всё на свете Всё на свете Проебёшь!14 октября 2005 года
Бабочкино
Я обещала курить к октябрю – и вот Ночь мокрым носом тычется мне в живот, Смотрит глазами, влажными от огней, Джаз сигаретным дымом струится в ней, И всё дожить не чаешь – а чёрта с два: Где-то в апреле только вздремнёшь едва — Осень. И ты в ней – как никогда, жива. Где-то в апреле выдохнешься, устанешь, Снимешь тебя, сдерёшь, через плечи стянешь, Скомкаешь в угол – а к октябрю опять: Кроме тебя и нечего надевать. Мысли уйдут под стёкла и станут вновь Бабочками, наколотыми на бровь Вскинутую твою – не выдернешь, не ослабишь. Замкнутый круг, так было, ты помнишь – как бишь? — Каждый день хоронить любовь — Это просто не хватит кладбищ. Так вот и я здесь, спрятанная под рамы, Угол урбанистической панорамы, (Друг называл меня Королевой Драмы) В сутки теряю целые килограммы Строк – прямо вот выплёскиваю на лист; Руки пусты, беспомощны, нерадивы; Летом здорова, осенью – рецидивы; Осень – рецидивист. Как ты там, солнце, с кем ты там, воздух тёпел, Много ли думал, видел, не всё ли пропил, Сыплется ли к ногам твоим терпкий пепел, Вьётся у губ, щекочет тебе ноздрю? Сыплется? – ну так вот, это я курю, Прямо под джаз, в такт этому октябрю, Фильтром сжигая пальцы себе, – uh, damn it! — Вот, я курю, Люблю тебя, Говорю — И ни черта не знаю, Что с этим делать.Ночь с 17 на 18 октября 2005 года
Давай будет так
Давай будет так: нас просто разъединят, Вот как при междугородних переговорах — И я перестану знать, что ты шепчешь над Её правым ухом, гладя пушистый ворох Волос её; слушать радостных чертенят Твоих беспокойных мыслей, и каждый шорох Вокруг тебя узнавать: вот ключи звенят, Вот пальцы ерошат челку, вот ветер в шторах Запутался; вот сигнал sms, вот снят Блок кнопок; скрипит паркет, но шаги легки, Щелчок зажигалки, выдох – и всё, гудки. И я постою в кабине, пока в виске Не стихнет пальба невидимых эскадрилий. Счастливая, словно старый полковник Фрилей, Который и умер – с трубкой в одной руке. Давай будет так: как будто прошло пять лет, И мы обратились в чистеньких и дебелых И стали не столь раскатисты в децибелах, Но стоим уже по тысяче за билет; Работаем, как нормальные пацаны, Стрижём как с куста, башке не даём простою — И я уже, в общем, знаю, чего я стою, Плевать, что никто не даст мне такой цены. Встречаемся, опрокидываем по три Чилийского молодого полусухого, И ты говоришь – горжусь тобой, Полозкова! И – нет, ничего не дёргается внутри. – В тот август ещё мы пили у парапета, И ты в моей куртке – шутим, поём, дымим… (Ты вряд ли узнал, что стал с этой ночи где-то Героем моих истерик и пантомим); Когда-нибудь мы действительно вспомним это — И не поверится самим. Давай чтоб вернули мне озорство и прыть, Забрали бы всю сутулость и мягкотелость, И чтобы меня совсем перестало крыть И больше писать стихов тебе не хотелось; Чтоб я не рыдала каждый припев, сипя, Как крашеная певичка из ресторана. Как славно, что ты сидишь сейчас у экрана И думаешь, Что читаешь Не про себя.1–2–3 ноября 2005 года
Ноябрьское
Он вышел и дышит воздухом, просто ради Бездомного ноября, что уткнулся где-то В колени ему, и девочек в пёстрых шапках. А я сижу в уголочке на балюстраде, И сквозь пыльный купол милого факультета Виднеются пятки Бога В мохнатых тапках. И нет никого. И так нежило внутри, Как будто бы распахнули брюшную полость И выстудили, разграбили беззаконно. Он стягивает с футболки мой длинный волос, Задумчиво вертит в пальцах секунды три, Отводит ладонь и стряхивает с балкона. И все наши дни, спрессованы и тверды, Развешены в ряд, как вздёрнутые на рею. Как нить янтаря: он тёмный, густой, осенний. Я Дориан Грей, наверное – я старею Каким-нибудь тихим сквериком у воды, А зеркало не фиксирует изменений. И всё позади, но под ободком ногтей, В карманах, на донцах теплых ключичных ямок, На сгибах локтей, изнанке ремней и лямок Живет его запах – тлеет, как уголек. Мы вычеркнуты из флаеров и программок, У нас не случится отпуска и детей Но – словно бинокль старый тебя отвлек — Он близко – перевернешь – он уже далек. Он вышел и дверь балконную притворил. И сам притворился городом, снизив голос. И что-то еще все теплится, льется, длится. Ноябрь прибоем плещется у перил, Размазывает огни, очертанья, лица — И ловит спиной асфальтовой темный волос.13 ноября 2005 года
Детское
Я могу быть грубой – и неземной, Чтобы дни – горячечны, ночи – кратки; Чтобы провоцировать беспорядки; Я умею в салки, слова и прятки, Только ты не хочешь играть со мной. Я могу за Стражу и Короля, За Осла, Разбойницу, Трубадура, — Но сижу и губы грызу, как дура, И из слёзных желез – литература, А в раскрасках – выжженная земля. Не губи: в каком-нибудь ноябре Я ещё смогу тебе пригодиться — И живой, и мёртвой, как та водица — Только ты не хочешь со мной водиться; Без тебя не радостно во дворе. Я могу тихонько спуститься с крыш, Как лукавый, добрый Оле-Лукойе; Как же мне оставить тебя в покое, Если без меня ты совсем не спишь? (Фрёкен Бок вздохнёт во сне: «Что такое?» Ты хорошим мужем ей стал, Малыш.) Я могу смириться и ждать, как Лис — И зевать, и красный, как перец чили Язычок вытягивать; не учили Отвечать за тех, кого приручили? Да, ты прав: мы сами не береглись. Я ведь интересней несметных орд Всех твоих игрушек; ты мной раскокал Столько ваз, витрин и оконных стекол! Ты ведь мне один Финист Ясный Сокол. Или Финист Ясный Аэропорт. Я найду, добуду – назначат казнь, А я вывернусь, и сбегу, да и обвенчаюсь С царской дочкой, а царь мне со своего плеча даст… Лишь бы билась внутри, как пульс, нутряная чьятость. Долгожданная, оглушительная твоязнь. Я бы стала непобедимая, словно рать Грозных роботов, даже тех, что в приставке “Денди”. Мы летали бы над землёй – Питер Пэн и Венди. Только ты, дурачок, не хочешь со мной играть.Ночь 18–19 ноября 2005 года
Лунная соната
Я не то чтобы много требую – сыр Дор Блю Будет ужином; секс – любовью; а больно – съёжься. Я не ведаю, чем закончится эта ложь вся; Я не то чтоб уже серьёзно тебя люблю — Но мне нравится почему-то, как ты смеёшься. Я не то чтоб тебе жена, но вот где-то в шесть Говори со мной под шипение сигаретки. Чтоб я думала, что не зря к тебе – бунты редки — Я катаюсь туда-сюда по зеленой ветке, Словно она большой стриптизёрский шест. Я не то чтобы ставлю всё – тут у нас не ралли, Хотя зрелищности б завидовал даже Гиннесс. Не встреваю, под нос не тычу свою богинность — Но хочу, чтоб давали больше, чем забирали; Чтобы радовали – в конце концов, не пора ли. Нас так мало ещё, так робко – побереги нас. Я не то чтоб себя жалею, как малолетки, Пузырём надувая жвачку своей печали. Но мы стали куда циничнее, чем вначале — Чем те детки, что насыпали в ладонь таблетки И тихонько молились: «Только бы откачали». Я не то чтоб не сплю – да нет, всего где-то ночи с две. Тысячи четвёртого. Я лунатик – сонаты Людвига. Да хранит тебя Бог от боли, от зверя лютого, От недоброго глаза и полевого лютика — Иногда так и щиплет в горле от «я люблю тебя», Еле слышно произносимого – в одиночестве.13 декабря 2005 года
Босса нова
В Баие нынче закат, и пена Шипит как пунш в океаньей пасти. И та, высокая, вдохновенна И в волосах её рдеет счастье. А цепь следов на снегу – как вена Через запястье. Ты успеваешь на рейс, там мельком Заглянут в паспорт, в глаза, в карманы. Сезон дождей – вот ещё неделька, И утра сделаются туманны. А ледяная крупа – подделка Небесной манны. И ты уйдёшь, и совсем иной Наступит мир, как для иностранца. И та, высокая, будет в трансе, И будет, что характерно, мной. И сумерки за твоей спиной Сомкнёт пространство. В Баие тихо. Пройдёт минута, Машина всхлипнет тепло и тало. И словно пульс в голове зажмут, а Между рёбер – кусок металла. И есть ли смысл объяснять кому-то, Как я устала. И той, высокой, прибой вспоровшей, Уже спохватятся; хлынет сальса. Декабрь спрячет свой скомороший Наряд под ватное одеяльце. И всё закончится, мой хороший. А ты боялся.21 декабря 2005 года
Письмо далёкому другу
Эльвира Павловна, столица не изменяется в лице. И день, растягиваясь, длится, так ровно, как при мертвеце электро-кардиограф чертит зелёное пустое дно. Зимою не боишься смерти – с ней делаешься заодно. Эльвира Павловна, тут малость похолодало, всюду лёд. И что-то для меня сломалось, когда Вы сели в самолёт; не уезжали бы – могли же. Зря всемогущий Демиург не сотворил немного ближе Москву и Екатеринбург. Без Вас тут погибаешь скоро от гулкой мерзлоты в душе; по телевизору актёры, политики, пресс-атташе – их лица приторны и лживы, а взгляды источают яд. А розы Ваши, кстати, живы. На подоконнике стоят. Эльвира Павловна, мне снится наш Невский; кажется, близка Дворцовая – как та синица – в крупинках снега и песка; но Всемогущая Десница мне крутит мрачно у виска. Мне чудится: вот по отелю бежит ребенок; шторы; тень; там счастье. Тут – одну неделю идет один и тот же день. Мне повторили многократ но, что праздник кончился, увы; но мне так хочется обратно, что я не чувствую Москвы. Мне здесь бессмысленно и душно, и если есть минуты две, я зарываюсь, как в подушку, в наш мудрый город на Неве. Саднит; и холод губы вытер и впился в мякоть, как хирург. Назвать мне, что ли, сына Питер – ну, Питер Пэн там, Питер Бург. Сбегу туда, отправлю в ясли, в лицей да в университет; он будет непременно счастлив и, разумеется, поэт. Мне кажется, что Вы поймёте: ну вот же Вы сидите, вот. Живёте у меня в блокноте и кошке чешете живот. Глотаете свои пилюли, хихи каете иногда и говорите мне про “блюли“ и про “опилки Дадада”. И что бы мне ни возражали, просунувшись коварно в дверь: Вы никуда не уезжали, и не уедете теперь. Мы ведь созвучны несказанно, как рифмы, лепящие стих; как те солдаты, партизаны, в лесу нашедшие своих. Связь, тесность, струн ность, музык помесь – неважно, что мы говорим; как будто давняя искомость вдруг стала ведома двоим; как будто странный незнакомец вот-вот окажется твоим отцом потерянным – и мнится: причалом, знанием, плечом. Годами грызть замок в темнице – и вдруг открыть своим ключом; прозреть, тихонько съехать ниц и – уже не думать ни о чём. Вы так просты – вертелось, вязло на языке, но разве, но?.. – как тот один кусочек паззла, как то последнее звено, что вовсе не имеет веса и стоимости: воздух, прах, – но сколько без него ни бейся, всё рассыпается в руках. От Вас внутри такое детство, такая солнечность и близь – Вам никуда теперь не деться, коль скоро Вы уже нашлись. Вы в курсе новостей и правил и списка действующих лиц: любимый мой меня оставил, а два приятеля спились, я не сдаю хвостов и сессий, и мне не хочется сдавать, я лучше буду, как Тиресий, вещать, взобравшись на кровать; с святой наивностью чукотской и умилением внутри приходят sms Чуковской, и я пускаю пузыри, а вот ухмылка друга Града, подстриженного как морпех – вот, в целом, вся моя отрада, и гонорар мой, и успех. И, как при натяженьи нити (мы будто шести струнный бас) – Вы вечерами мне звоните, когда я думаю о Вас. И там вздыхаете невольно и возмущаетесь смешно – и мне становится не больно, раскаянно и хорошо. Вы мой усталый анестетик, мой детский галлюциноген – спи, мой хороший, спи, мой светик, от Хельсинки и до Микен все спят, и ежики, и лоси, медведь, коричневый, как йод, спи-спи, никто тебя не бросил, никто об ванную не бьёт твою подругу; бранью скотской не кроет мальчика, как пёс, и денег у твоей Чуковской всенепременно будет воз; спи-спи, малыш, вся эта слякоть под землю теплую уйдёт, и мама перестанет плакать о том, что ты такой урод, и теребить набор иконок. Да чёрт, гори оно огнем — Когда б не этот подоконник и семь поникших роз на нём.Ночь 15–16 января 2006 года
Одно утро
Город носит в седой немытой башке гирлянды И гундит недовольно, как пожилая шлюха, Взгромоздившись на барный стул; и все шепчут: глянь ты! Мы идем к остановке утром, закутав глухо Лица в воротники, как сонные дуэлянты. Воздух пьётся абсентом – крут, обжигает ноздри И не стоит ни цента нам, молодым легендам (Рока?); Бог рассыпает едкий густой аргентум, Мы идем к остановке, словно Пилат с Га-Ноцри, Вдоль по лунной дороге, смешанной с реагентом. Я хотела как лучше, правда: надумать наших Общих шуток, кусать капризно тебя за палец, Оставлять у твоей кровати следы от чашек, Улыбаться, не вылезать из твоих рубашек, Но мы как-то разбились. Выронились. Распались. Нет, не так бы, не торопливо, не на бегу бы — Чтоб не сдохнуть потом, от боли не помешаться. Но ведь ты мне не оставляешь простого шанса, И слова на таком абсенте вмерзают в губы И беспомощно кровоточат и шелушатся. Вот всё это: шоссе, клаксонная перебранка, Беспечальность твоя, моя неживая злость, Трогать столб остановки, словно земную ось, Твоя куртка саднит на грязном снегу, как ранка, — Мне потребуется два пива, поёт ДиФранко, Чтобы вспомнить потом. И пять – чтобы не пришлось.23 января 2006 года
Автоответчик: [почти жизнь в семи строфах]
Упругая, Легконогая, С картинками, без врагов — Пологая Мифология: Пособие для богов. Юное, тайное, Упоительное, Первым номером всех программ: Посткоитальное Успокоительное Очень дорого: смерть за грамм. Дикие Многоликие, Приевшиеся уже Великие религии — Загробное ПМЖ. Дурная, Односторонняя, Огромная, на экран — Смурная Самоирония: Лечебная соль для ран. Пробные, Тупые, Удары внутри виска. Утробная Энтропия — Тоска. Глаз трагические Круги — Баблоделы; живые трупы. Летаргические Торги, Разбивайтесь на таргет-группы. Чугунная, Перегонная, Не выйти, не сойти — Вагонная Агония — С последнего пути.* * *
Мы вплываем друг другу в сны иногда – акулами, Долгим боком, пучинным облаком, плавниками, Донным мраком, лежащим на глубине веками, Он таскает, как камни, мысли свои под скулами, Перекатывает желваками, Он вращает меня на пальце, как в колесе, в кольце — Как жемчужину обволакивает моллюск, Смотрит; взгляд рикошетит в заднего вида зеркальце, На которое я молюсь; Это зеркальце льёт квадратной гортанной полостью Его блюзовое молчание, в альфа-ритме. И я впитываю, вдыхаю, вбираю полностью Всё, о чём он не говорит мне. Его медную грусть, монету в зелёной патине, Что на шее его, жетоном солдата-янки — Эту девушку, что живёт в Марианской впадине Его смуглой грудинной ямки. Он ведь вовсе не мне готовится – сладок, тёпленек, Приправляется, сервируется и несётся; Я ловлю его ртом, как пёс, как сквозь ил утопленник Ловит Плавленое солнце.* * *
Утро близится, тьма все едче, Зябче; трещинка на губе. Хочется позвонить себе И услышать, как в глупом скетче: – Как ты, детка? Так грустно, Боже! – Здравствуйте, я автоответчик. Перезвоните позже. Куда уж позже.* * *
Я могу ведь совсем иначе: оборки-платьица, Мысли-фантики, губки-бантики; ближе к массам. Я умею; но мне совсем не за это платится. А за то, чтобы я ходила наружу мясом. А за то, что ведь я, щенок, молодая-ранняя — Больше прочих богам угодна – и час неровен. А за то, что всегда танцую на самой грани я. А за это мое бессмертное умирание На расчетливых углях взрослых чужих жаровен. А за то, что других юнцов, что мычат «а чё ваще?» Под пивко и истошный мат, что б ни говорили — Через несколько лет со мной подадут, как овощи — Подпечённых на том же гриле.* * *
Деточка, зачем тебе это всё? Поезжай на юг, почитай Басё, Поучись общаться, не матерясь — От тебя же грязь. Деточка, зачем тебе эти все? Прекрати ладони лизать попсе, Не питайся славой, как паразит — От тебя разит. Деточка, зачем тебе ты-то вся? Поживи-ка, в зеркало не кося. С птичкой за окном, с чаем с имбирём. Всё равно умрём.12 февраля 2006 года
Стишище
А факт безжалостен и жуток, как наведённый арба лет: приплыли, через трое суток мне стукнет ровно двадцать лет. И это нехреновый возраст – такой, что Господи прости. Вы извините за нервозность – но я в истерике почти. Сейчас пойдут плясать вприсядку и петь, бокалами звеня: но жизнь у третьего десятка отнюдь не радует меня. Не то[ркает]. Как вот с любовью: в секунду – он, никто другой. Так чтоб нутро, синхронно с бровью, вскипало вольтовой дугой, чтоб сразу все острее, резче под взглядом его горьких глаз, ведь не учили же беречься, и никогда не береглась; все только медленно вникают – стой, деточка, а ты о ком? А ты отправлена в нокаут и на полу лежишь ничком; чтобы в мозгу, когда знакомят, сирены поднимали вой; что толку трогать ножкой омут, когда ныряешь с головой? Нет той изюминки, интриги, что тянет за собой вперёд; читаешь две страницы книги – и сразу видишь: не попрёт; сигналит чуткий, свой, сугубый детектор внутренних пустот; берёшь ладонь, целуешь в губы и тут же знаешь: нет, не тот. В пределах моего квартала нет ни одной дороги в рай; и я устала. Так устала, что хоть ложись да помирай. Не прёт от самого процесса, все тычут пальцами и ржут: была вполне себе принцесса, а стала королевский шут. Всё будто обделили смыслом, размыли, развели водой. Глаз тускл, ухмылка коромыслом, и волос на башке седой. А надо бы рубиться в гуще, быть пионерам всем пример – такой стремительной, бегущей, не при знающей полумер. Пока меня не раззвездело, не вы било, не занесло – найти себе родное дело, какое-нибудь ремесло, ему всецело отдаваться – авось бабла поднимешь, но – навряд ли много. Черт, мне двадцать. И это больше не смешно. Не ждать, чтобы соперник выпер, а мчать вперёд на всех парах; но мне так трудно делать выбор: в загривке угнездился страх и свесил ножки лили путьи. Дурное, злое дежавю: я задержалась на распутье настолько, что на нём живу. Живу и строю укрепленья, врастая в грунт, как лебеда; тяжёлым боком, по-тюленьи, ворочаю туда-сюда и мню, что обернусь легендой из пепла, сора, барахла, как Феникс; благо юность, гендер, амбиции и бла-бла-бла. Прорвусь, возможно, как-ни будь я, не будем думать о плохом; а может, на своем распутье залягу и покроюсь мхом и стану камнем (не громадой, как часто любим думать мы) – простым примером, как не надо, которых тьмы и тьмы и тьмы. Прогнозы, как всегда, туманны, а норов времени строптив – я не умею строить планы с учётом дальних перспектив и думать, сколько Бог отмерил до чартера в свой пэрадайз. Я слушаю старушку Шерил – ее Tomorrow Never Dies. Жизнь – это творческий задачник: условья пишутся тобой. Подумаешь, что неудачник – и тут же проиграешь бой, сам вечно будешь виноватым в бревне, что на пути твоём; я в общем-то не верю в фатум – его мы сами создаём; как мыслишь – помните Декарта? – так и живёшь; твой атлас – чист; судьба есть контурная карта – ты сам себе геодезист. Всё, что мы делаем – попытка хоть как-нибудь не умереть; так кто-то от переизбытка ресурсов покупает треть каких-нибудь республик нищих, а кто-то – бесится и пьёт, а кто-то в склепах клады ищет, а кто-то руку в печь суёт; а кто-то в бегстве от рутины, от зуда слева под ребром рисует вечные картины, что дышат изнутри добром; а кто-то счастлив как ребёнок, когда увидит, просушив, тот самый кадр из кипы плёнок – как доказательство, что жив; а кто-нибудь в прямом эфире свой круглый оголяет зад, а многие твердят о мире, когда им нечего ска зать; так кто-то высекает риффы, поёт, чтоб смерть переорать; так я нагромождаю рифмы в свою измятую тетрадь, кладу их с нежностью Прокруста в свою строку, как кирпичи, как будто это будет бруствер, когда за мной придут в ночи; как будто я их пришарашу, когда начнётся Страшный суд; как будто они лягут в Чашу, и перетянут, и спасут. От жути перед этой бездной, от этой истовой любви, от этой боли – пой, любезный, беспомощные связки рви; тяни, как шерсть, в чернильном мраке из сердца строки – ох, длинны!; стихом отплёвы вайся в драке как смесью крови и слюны; ошпаренный небытием ли, больной абсурдом ли всего – восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею Его и, обходя моря и земли, сей всюду свет и торжество. Ты не умрёшь: в заветной лире душа от тленья убежит. Черкнёт статейку в «Новом мире» какой-нибудь седой мужик, пере издастся старый сборник, устроят чтенья в ЦДЛ – и, стоя где-то в кущах гор них, ты будешь думать, что – задел; что достучался, разглядели, прочувствовали волшебство; и, может быть, на самом деле всё это стоило того. Дай Бог труду, что нами начат, когда-нибудь найти своих, пусть все стихи хоть что-то значат лишь для того, кто создал их. Пусть это мы невроз лелеем, невроз всех тех, кто одинок; пусть пахнет супом, пылью, клеем наш гордый лавровый венок. Пусть да, мы дураки и дуры, и поделом нам, дуракам. Но просто без клавиатуры безумно холодно рукам.27–28 февраля 2006 года
Недогумилев
Погляди: моя реальность в петлях держится так хлипко — Рухнет. Обхвачу колени, как поджатое шасси. Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка. Не проси об этом счастье, ради Бога, не проси. Дышишь мерно, пишешь мирно, всё пройдет, а ты боялась, Скоро снова будет утро, птичка вон уже поёт; А внутри скулит и воет обессилевшая ярость, Коготком срывая мясо, словно маленький койот; Словно мы и вовсе снились, не сбылись, не состоялись — Ты усталый дальнобойщик, задремавший за рулём; Словно в черепной коробке бдит угрюмый постоялец: Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём. Слушай, нам же приходилось вместе хохотать до колик, Ты же был, тебя предъявят, если спросит контролёр? Я тебя таскаю в венах, как похмельный тебяголик, Всё ещё таскаю в венах. Осторожней, мой соколик. У меня к тебе, как видишь, истерический фольклор. Из внушительного списка саркастических отмазок И увещеваний – больше не канает ничего. Я грызу сухие губы, словно Митя Карамазов, От участливых вопросов приходя в неистовство. Ведь дыра же между ребер – ни задраить, ни заштопать. Ласки ваши бьют навылет, молодцы-богатыри. Тушь подмешивает в слезы злую угольную копоть. Если так черно снаружи – представляешь, что внутри. Мальчик, дальше, здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ. Но я вижу – ты смеёшься, эти взоры – два луча. Ты уйдёшь, когда наешься. Доломаешь. Обескровишь. Сердце, словно медвежонка, За собою Волоча.19 марта 2006 года
Продолжение следует
Дробишься, словно в капле луч. Как кончики волос секутся — Становишься колючей, куцей, Собой щетинишься, как бутсой, Зазубренной бородкой – ключ. И расслоишься, как ногтей Края; истаешь, обесценясь. Когда совсем теряешь цельность — Безумно хочется детей. Чтоб вынес акушер рябой Грудного Маленького Принца, — Чтоб в нём опять соединиться Со всей бесчисленной собой. Чтоб тут же сделаться такой, Какой мечталось – без синекдох, Единой, а не в разных нектах; Замкнуться; обрести покой. Свыкаешься в какой-то миг С печальной мудростью о том, как Мы продолжаемся в потомках, Когда подохнем в нас самих.Ночь 11–12 апреля 2006 года
Хорошо, говорю
Хорошо, говорю. Хорошо же, я им шепчу. Все уже повисло на паутинке. Д. Быков – Хорошо, говорю. Хорошо, говорю Ему, – Он бровями-тучами водит хмуро. – Ты не хочешь со мной водиться не потому, что обижен, а потому, что я просто дура. Залегла в самом отвратительном грязном рву и живу в нем, и тщусь придумать ему эпитет. Потому что я бьюсь башкой, а потом реву, что мне боль но и все кругом меня ненавидят. Потому что я сею муку, печаль, вражду, слишком поздно это осознавая. Потому что я мало делаю, много жду, нетрудолюбива как таковая; громко плачусь, что не наследую капитал, на людей с деньгами смотрю сердито. Потому что Ты мне всего очень много дал, мне давно пора отдавать кредиты, но от этой мысли я ощетиниваюсь, как ёж, и трясу кулаком – совсем от Тебя уйду, мол!.. Потому что Ты от меня уже устаёшь. Сожалеешь, что вообще-то меня придумал. Я тебе очень вряд ли дочь, я скорее флюс; я из сорных плевел, а не из зёрен; ухмыляюсь, ропщу охотнее, чем молюсь, всё глумлюсь, насколько Ты иллюзорен; зыбок, спекулятивен, хотя в любой русской квартире – схемка Тебя, макетик; бизнес твой, поминальный и восковой – образцовый вполне маркетинг; я ношу ведь Тебя распятого на груди, а Тебе дают с Тебя пару центов, процентов, грошей? – Хорошо, говорю, я дура, не уходи. Посиди тут, поговори со мной, мой хороший. Ты играешь в огромный боулинг моим мирком, стиснув его в своей всемогущей руце, катишь его орбитой, как снежный ком, чувством влеком, что все там передерутся, грохнет последним страйком игра Твоя. Твой азарт уже много лет как дотлел и умер. А на этом стеклянном шарике только я и ценю Твой гигантоманский усталый юмор. А на этом стеклянном шарике только Ты мне и светишь, хоть Ты стареющий злой фарцовщик. Думал ли Ты когда, что взойдут цветы вот такие из нищих маленьких безотцовщин. Я танцую тебе, смеюсь, дышу горячо, как та девочка у Пикассо, да-да, на шаре. Ты глядишь на меня устало через плечо, Апокалип сис, как рубильник, рукой нашаря. И пока я танцую, спорю, кричу «смотри!» – даже понимая, как это глупо, – всё живет, Ты же ведь стоишь ещё у двери и пока не вышел из боулинг-клуба.Ночь 17–18 апреля 2006 года
Одесское
Вечер душен, мохито сладок, любовь навек. Пахнет йодом, асфальтом мокрым и мятной Wrigley. Милый мальчик, ты весь впечатан в изнанку век: Как дурачишься, куришь, спишь, как тебя постригли, Как ты гнёшь уголками ямочки, хохоча, Как ты складываешь ладони у барных стоек. Я наотмашь стучу по мыслям себя. Я стоик. Мне ещё бы какого пойла типа Хуча. Я вся бронзовая: и профилем, и плечом. Я разнеженная, раскормленная, тупая. Дай Бог только тебе не знать никогда, о чём Я тут думаю, засыпая. Я таскаюсь везде за девочками, как Горич За женою; я берегу себя от внезапных Вспышек в памяти – милый мальчик, такая горечь От прохожих, что окунают меня в твой запах, От людей, что кричат твое золотое имя — Так, на пляже, взрывая тапком песочный веер. Милый мальчик, когда мы стали такими злыми?.. Почему у нас вместо сердца пустой конвейер?.. Я пойду покупать обратный билет до ада плюс Винограду, черешни, персиков; поднатужась Я здесь смою, забуду, выдохну этот ужас. …Милый мальчик, с какого дня я тебе не надоблюсь? Это мой не-надо-блюз. Будет хуже-с. Ранним днём небосвод здесь сливочен, легок, порист. Да и море – такое детское поутру. Милый мальчик, я очень скоро залезу в поезд И обратной дорогой рельсы и швы сотру. А пока это все – so true.7 июля 2006 года
Медленный танец
ТБ
С ним ужасно легко хохочется, говорится, пьётся, дразнится; в нём мужчина не обретён ещё; она смотрит ему в ресницы – почти тигрица, обнимающая детёныша. Он красивый, смешной, глаза у него фисташковые; замолкает всегда внезапно, всегда лирически; его хочется так, что даже слегка подташнивает; в пальцах колкое электричество. Он немножко нездешний; взор у него сапфировый, как у Уайльда в той сказке; высокопарна речь его; его тянет снимать на плёнку, фотографировать – ну, бессмертить, увековечивать. Он ничейный и всехний – эти зубами лязгают, те на шее висят, не сдерживая рыдания. Она жжёт в себе эту детскую, эту блядскую жажду полного обладания и ревнует – безосновательно, но отчаянно. Даже больше, осознавая свое бесправие. Они вместе идут; окраина; одичание; тишина, жаркий летний полдень, ворчанье гравия. Ей бы только идти с ним, слушать, как он грассирует, наблюдать за ним, «вот я спрячусь – ты не найдёшь меня»; она старше его и тоже почти красивая. Только безнадёжная. Она что-то ему читает, чуть-чуть манерничая; солнце мажет сгущёнкой бликов два их овала. Она всхлипывает – прости, что-то перенервничала. Перестиховала. Я ждала тебя, говорит, я знала же, как ты выглядишь, как смеёшься, как прядь отбрасываешь со лба; у меня до тебя всё что ни любовь – то выкидыш, я уж думала – всё, не выношу, несудьба. Зачинаю – а через месяц проснусь и вою – изнутри хлещет будто чёрный горячий йод да смола. А вот тут, гляди, – родилось живое. Щурится. Улыбается. Узнаёт. Он кивает; ему и грустно, и изнуряюще; трётся носом в её плечо, обнимает, ластится. Он не любит её, наверное, с января ещё – но томим виноватой нежностью старшеклассника. Она скоро исчезнет; оба сошлись на данности тупика; «я тебе случайная и чужая». Он проводит её, поможет ей чемодан нести; она стиснет его в объ ятиях, уезжая. И какая-то проводница или уборщица, посмотрев, как она застыла женою Лота – остановится, тихо хмыкнет, устало сморщится – и до вечера будет маяться отчего-то.Ночь 13–14 июля 2006 года
Смс
Жаль, в моих смс-архивах программы нету, Что стирала бы слой отмерший в режиме «авто». Я читаю «ну я же рядом с тобой» – а это Уже неправда. Недействительные талоны; ущерб немыслим. Информация неверна; показанья лживы. Он писал мне «я тут умру без тебя», но мы с ним Остались живы. Я читаю: «Я буду после работы сразу И останусь» – но не останется. Нестыковки. Пусть указывают срок годности каждой фразы На упаковке. Истечёт ведь куда быстрее, чем им поверишь. И за это им даже, в общем-то, не предъявишь. Сколько нужно, чтоб написать их? Минуты две лишь И десять клавиш. Сколько нужно, чтоб обезвредить их, словно мину У себя в голове?.. Сапёр извлечёт из почвы, Как из почты, и перережет, как пуповину Проводочек: «Эй, половина. Спокойной ночи».11 августа 2006 года
Прощание с юностью
Летит с ветвей ажурный лист Приходит осень. Зябко ёжась, Садится юный журналист Искать фуллтаймовую должность. Да, он, трепло и егоза, Берётся, наконец, за дело. Не хочет быть как Стрекоза, Что лето красное пропела, А тут зима катит в глаза. Он алчет славы и бабла. Свою визитку; пропуск; статус. Сменить весёлую поддатость На деловое бла-бла-бла. Сменить куртёнку на гвозде На пиджачок, лэптоп и туфли. Пельмени, что давно протухли — На шведские столы везде. Он спит до трёх и пьёт до ста Бутылок в год, но – не тоска ли? — Он хочет, чтоб его пускали В партеры и на вип-места. Так сладко жизнь его течёт И так он резв и беззаботен. Но хочет в месяц двести сотен И чтоб везде ему почёт. Чтоб офис, годовой баланс, А не друзья, кабак и танцы. Ему так мил его фриланс — Но толку что с его фриланса? Да, прозы требуют года. Он станет выбрит и хозяйствен. Сегодня с милым распиздяйством Он расстаётся навсегда.14 августа 2006 года
То заплачет, как дитя
Ревёт, и чуть дышит, и веки болезненно жмурит, Как будто от яркого света; так стиснула ручку дверную — Костяшки на пальцах белеют; рука пахнет мокрой латунью. И воду открыла, и рот зажимает ладонью, Чтоб не было слышно на кухне. Там сонная мама. А старенькой маме совсем ни к чему волноваться. Ревёт, и не может, и злится, так это по-бабьи, Так это дурацки и детски, и глупо, и непоправимо. И комьями воздух глотает, гортанно клокочет Слезами своими, как будто вот-вот захлебнётся. Кот кругло глядит на неё со стиральный машины, Большой, умноглазый, печальный; и дёргает ухом — Снаружи-то рыжим, внутри – от клеща почерневшим. Не то чтоб она не умела с собою справляться – да сдохли Все предохранители; можно не плакать годами, Но как-то случайно Обнимут, погладят, губами коснутся макушки — И вылетишь пулей, И будешь рыдать всю дорогу до дома, как дура, И тушью испачкаешь куртку, как будто штрихкодом. Так рвёт трубопровод. Истерику не перекроешь, как вентилем воду. На улице кашляет дядька. И едет машина, По камешкам чуть шелестя – так волна отбегает. И из фонаря выливается свет, как из душа. Зимой из него по чуть-чуть вытекают снежинки. Она закусила кулак, чтобы не было громко. И правда негромко. Чего она плачет? Чёрт знает – вернулась с работы, Оставила сумку в прихожей, поставила чайник. – Ты ужинать будешь? – Не буду. – Пошла умываться, А только зашла, только дверь за собой затворила — Так губы свело, И внутри всю скрутило, как будто Бельё выжимают. И едет по стенке, и на пол садится, и рот зажимает ладонью, И воздухом давится будто бы чадом табачным. Но вроде легчает. И ноздри опухли, и веки, Так, словно избили; глядит на себя и кривится. Ещё не прошло – но уже не срывает плотины. Она себя слушает. Ставит и ждёт. Проверяет. Так ногу заносят на лёд молодой, неокрепший, И он под подошвой пружинит. Выходит из ванной и шлепает тапками в кухню, Настойчиво топит на дне своей чашки пакетик Имбирного чаю. Внутри нежило и спокойно, Как после цунами. У мамы глаза словно бездны – и всё проницают. – Я очень устала. – Я вижу. Достать шоколадку?.. А вечер просунулся в щелку оконную, дует Осенней прохладой, сложив по-утиному губы. Две женщины молча пьют чай на полуночной кухне, Ломают себе по кирпичику от шоколадки, Хрустя серебристой фольгою.18 августа 2006 года
Last Summer Evening
Друг друговы вотчины – с реками и лесами, Долинами, взгорьями, взлётными полосами; Давай будем без туристов, а только сами. Давай будто растворили нас, погребли В биноклевой мгле. Друг друговы корабли. Бросаться навстречу с визгом, большими псами, Срастаться дверьми, широтами, адресами, Тереться носами, Тросами, Парусами, Я буду губами смугло, когда слаба, Тебя целовать слегка в горизонтик лба Между кожей и волосами. В какой-нибудь самой крошечной из кают, Я буду день изо дня наводить уют, И мы будем слушать чаечек, что снуют Вдоль палубы, и сирен, что из вод поют. Чтоб ветер трепал нам чёлки и флаги рвал, Ты будешь вести, а я отнимать штурвал, А на берегу салют чтоб и карнавал. Чтоб что-то брать оптом, что-то – на абордаж, Чтоб нам больше двадцати ни за что не дашь, А соль проедает руки до мяса аж. Чтоб профилем в синь, а курсом на юго-юг, Чтоб если поодиночке – то всем каюк, Чтоб двое форева янг, расторопных юнг, И каждый задира, бес, баловник небес, На шее зубец Акулий, но можно без, И каждый влюбленный, злой, молодой балбес. В подзорной трубе пунктиром, едва-едва — Друг друговы острова. А Бог будет старый боцман, гроза морей, Дублёный, литой, в наколках из якорей, Молчащий красноречиво, как Билл Мюррей, Устроенный, как герой. Мы будем ему отрадой, такой игрой Дельфинов или китят, где-то у кормы. И кроме воды и тьмы нет другой тюрьмы. И нету местоимения, кроме «мы». И, трюмы заполнив хохотом, серебром Дождливым московским – всяким таким добром, Устанем, причалим, сядем к ребру ребром И станем тянуть сентябрь как тёмный ром И тихо теплеть нутром. И лунья ладонь ощупает нас, строга — Друг друговы берега. И вечер перчёным будет, как суп харчо. Таким, чтоб в ресницах колко и горячо. И Боцман легонько стукнет тебя в плечо: – До скорого, брат, попутных. Вернись богатым. И бриз в шевелюре будет гулять, игрив. И будет назавтра ждать нас далёкий риф, Который пропорет брюхо нам, обагрив Окрестную бирюзу нами, как закатом.31 августа 2006 года
«А что, говорю, вот так, говорю, любезный…»
А что, говорю, вот так, говорю, любезный. Не можешь любить – сиди, говорю, дружи. Я только могу тебя обнимать, как бездной. Как пропасть ребенка схватывает во ржи. А что, говорю я, дверь приоткрыв сутуло. Вот терем мой, он не низок и не высок. Я буду губами трогать тебя, как дуло Беретты – между лопаток или в висок. А что, говорю, там город лежит за дверью. Пустыня, и в каждом сквере по миражу, В руке по ножу, на лавочке по бомжу. А я все сижу, гляжу и глазам не верю. Сижу, говорю, и глаз с тебя не свожу.* * *
У сердца отбит бочок. Червоточинка, ранка, гнилость. И я о тебе молчок, А оно извелось, изнылось; У сердца ободран край, Подол, уголок, подошва. Танцуй вот теперь, играй, — С замочной дырой в подвздошье; У сердца внутри боксёр. Молотит в ребро, толкает. Изводит меня, костяшки до мяса стёр. А ты поглядишь – а взор у тебя остёр, Прищурен, глумлив – и там у него нокаут.* * *
Я буду писать стихи ему – может он Расслышит их, возвращаясь под утро с пьянки. На шею себе повесит их, как жетон, Стальной, именной, простого сержанта янки. И после, какой ни будь он подлец и хам, Кому ни клади в колени башку патлату — Ведь не одна ж, — Господь его опознает по тем стихам, Хитро подмигнёт, возьмёт под крыло по блату. Мол: «Этот – наш».Ночь 10–11 сентября 2006 года
Остаточные явления
Никто из нас не хорош, и никто не плох. Но цунами как ты всегда застают врасплох, А районы как я нищи и сейсмоопасны. Меня снова отстроят – к лету или скорей — А пока я сижу без окон и без дверей И над крышей, которой нет, безмятежно ясно. Мир как фишечка домино – та, где пусто-пусто. Бог сидит наверху, морскую жует капусту И совсем не даёт мне отпуску или спуску, А в попутчики посылает плохих парней. И мы ходим в обнимку, бедные, как Демьян, Ты влюбленная до чертей, а он просто пьян, И бесстыжие, and so young, and so goddamn young, И, как водится, чем печальнее, тем верней.* * *
Всех навыков – целоваться и алфавит. Не спится. Помаюсь. Яблочко погрызу. Он тянет чуть-чуть, покалывает, фонит — Особенно к непогоде или в грозу. Ночь звякнет браслетом, пряжечкой на ремне. Обнимет, фонарным светом лизнет тоска. Он спит – у его виска, Тоньше волоска, Скользит тревога не обо мне.* * *
Ну всё уже: шепоток, белый шум, пустяк. Едва уловимый, тлеющий, невесомый. Звонка его ждёшь не всем существом, а так Одной предательской хромосомой. Скучаешь, но глуше, вывернув звук к нулю. Как с краю игла слегка шипит по винилу. Всё выдохнула, распутала, извинила, Но ручку берёшь, расписываешь уныло — И там, На изнанке чека «люблюлюблю».2–3–4 октября 2006 года
Поговорить
Суть не в том, чтоб не лезть под поезд или знак «Не влезай – убьёт». Просто ты ведь не Нео – то есть, не вопи потом, как койот. Жизнь не в жизнь без адреналина, тока, экшена, аж свербит – значит, будет кроваво, длинно, глазки вылезут из орбит. Дух захватывало, прохладца прошибала – в такой связи, раз приспичило покататься, теперь санки свои вози. Без кишок на клавиатуру и истерик по смс – да, осознанно или сдуру, ты за этим туда и лез. Ты за этим к нему и льнула, привыкала, ждала из мглы – чтоб ходить сейчас тупо, снуло, и башкой собирать углы. Ты затем с ним и говорила, и делила постель одну – чтобы вцепляться теперь в перила так, как будто идёшь ко дну. Ты ещё одна самка; особь; так чего поднимаешь вой? Он ещё один верный способ остро чуять себя живой. Тебя что, не предупреждали, что потом тошнота и дрожь? Мы ж такие видали дали, что не очень-то и дойдёшь. Мы такие видали виды, что аж скручивало в груди; ну какие теперь обиды, когда всё уже позади. Это матч; среди кандидаток были хищницы ещё те – и слетели; а с ним всегда так – со щитом или на щите. Тебе дали им надышаться; кислородная маска тьмы, слов, парфюма, простого шанса, что какое-то будет «мы», блюза, осени, смеха, пиццы на Садовой, вина, такси, – дай откашляться, Бог, отпиться, иже еси на небеси, – тебя гладили, воскрешая, вынимая из катастроф, в тебе жили, опустошая, дров подкидывая и строф; маски нет. Чем не хороша я, ну ответь же мне, Боже мой, – только ты ведь уже большая, не пора ли дышать самой. Бог растащит по сторонам нас; изолирует, рассадив. Отношения как анамнез, возвращенья – как рецидив. Что тебе остаётся? С полки взять пинцетик; сядь, извлеки эти стёклышки все, осколки, блики, отклики, угольки. Разгрызи эту горечь с кофе, до молекулок, до частиц – он сидит, повернувшись в профиль, держит солнце между ресниц. Он звонит, у него тяжёлый день – щетину свою скребя: «я нашел у скамейки жёлудь, вот, и кстати люблю тебя». Эти песенки, «вот теперь уж я весь твой», «ну ты там держись». Все сокровища. Не поверишь, но их хватит тебе на жизнь.12 октября 2006 года
Тык, пык, мык
Из лета как из котла протекла, пробилась из-под завала. А тут всё палят дотла, и колокола. Сначала не помнишь, когда дома последний раз ночевала, Потом – когда дома просто была. Однако кроме твоих корабля да бала Есть ещё другие дела. Есть мама – на корвалоле, но злиться в силе, От старости не загнувшись, но огребя. Душа есть, с большим пробегом – её носили Ещё десятки других тебя, Да и в тебе ей сидеть осталось не так уж долго, Уже отмотала срока примерно треть, Бог стиснул, чревовещает ей – да без толку, Самой смешно на себя смотреть. Дурацкая, глаз на скотче, живот на вате, Полдня собирать детали, чтоб встать с кровати, Чтоб Он тебя, с миллиардом других сирот, Стерёг, муштровал и строил, как в интернате. Но как-нибудь пожалеет И заберёт.16 октября 2006 года
Life As It Goes
Перевяжи эти дни тесёмкой, вскрой, когда сделаешься стара: Калашник кормит блинами с сёмгой и пьёт с тобой до шести утра; играет в мачо, горланит блюзы – Москва пустынна, луна полна (я всех их, собственно, и люблю за то, что все как один шпана: пусть образованна первоклассно и кашемировое пальто, – но приджазованна, громогласна и надира ется как никто). Кумир вернулся в свой Копенгаген, ехиден, стрижен и большеглаз; а ты тут слушаешь Нину Хаген и Диаманду ещё Галас, читаешь Бродского, Йейтса, Йитса, днем эта книга, на вечер – та, и всё надеешься просветлиться, да не выходит же ни черта – всё смотришь в лица, в кого б залиться, сорваться, голо ву очертя. Влюбиться – выдохнуть как-то злобу, что прёт ноздрями, как у быка: одну отчаянную зазнобу – сто шуток, двадцать три кабака, – с крючка сорвали на днях; похоже, что крепко держат уже в горсти; а тот, кого ты забыть не можешь, ни «мсти», ни «выпусти», ни «прости» – живёт, улыбчив, холён, рекламен и любит ту, что погорячей; благополучно забыв про пламень островитянских твоих очей. Ты, в общем, целую пятилетку романов втиснула в этот год: так молодую легкоатлетку швыряет наземь в секунде от рекорда; встанешь, дадут таблетку, с ладоней смоешь холодный пот; теперь вот меряй шагами клетку своих раздумий, как крупный скот, мечись и громко реви в жилетку тому, кто верил в иной исход. Да впрочем, что тебе: лет-то двадцать, в груди по жар, в голове фокстрот; Бог рад отечески издеваться, раз уж ты ждёшь от Него острот; Он дал и страсти тебе, и мозга, и, в целом, зрелищ огрёб сполна; пока, однако, ты только моська, что заливается на Слона; когда ты станешь не просто куклой, такой, подкованной прыткой вшой – тебя Он стащит с ладони смуглой и пообщается, как с большой. Пока же прыгай, как первогодок, вся в чернозёме и синяках: беги ловушек, сетей, разводок; все научились, ты всё никак; взрослей, читай золотые книжки, запоминай всё, вяжи тесьмой; отрада – в каждом втором мальчишке, спасенье – только в тебе самой; не верь сомнениям беспричинным; брось проповедовать овощам; и не привязывайся к мужчинам, деньгам, иллюзиям и вещам. Ты перестанешь жить спешно, тряско, поймёшь, насколько была глуха; с тебя облезет вся эта краска, обложка, пёстрая шелуха; ты сможешь сирых согреть и слабых; и, вместо модненькой чепухи — Когда-нибудь в подворотне лабух споёт романс на твои стихи.2–3 ноября 2006 года
Беда
Беда никогда не приходит одна. Обычно она дерзей. Беда приносит с собой вина, Приводит с собой друзей, Берет гитару, глядит в глаза, Играет глумливый джаз, И сердце вниз оседает, за Стеночку не держась. Да, зарекайся, не доверяй, — Но снизу, пар изо рта, Беда звонит – значит отворяй Железные ворота. Жди, что триумф над тобой трубя После сраженья-двух, Беда загонит себя в тебя И вышибет разом дух. Ты пропадать станешь чёрти где, Бутылки сметать с лотка, И братья бросят тебя в беде — Настолько она сладка. А коль придут вызволять – ты не Откроешь. – Спасайся! – Ой, Оставьте девку наедине С её молодой бедой. Когда минует она – опять Все раны затянут льды — Девица будет часы считать До следующей беды.Ночь 5–6 ноября 2006 года
Пшшш
Роме К.
Помолчи меня, полечи меня, поотмаливай. Пролей на меня прохладный свой взор эмалевый. Умой меня, замотай мне повязкой марлевой Дурную, неостывающую башку. Укрой меня, побаюкай, поуговаривай, Дай грога или какого другого варева; Потрогай; не кожа – пламя; у ока карего Смола закипает; всё изнутри пожгу. Такая вступила осень под сердце точненько — Пьёшь горькую, превращаешься в полуночника, Мешком оседаешь в угол, без позвоночника, Как будто не шёл – волок себя на горбу. Да гложут любовь-волчица, тоска-захватчица — Стучит, кровоточит, снится; поманит – спрячется; Так муторно, что и хочется – а не плачется, Лишь брови ломает, скобкой кривит губу. И кажется – всё растеряно, всё упущено. Всё тычешься лбом в людей, чтобы так не плющило, Да толку: то отмороженная, то злющая, Шипящая, как разбуженная гюрза. Становишься громогласной и необузданной, И мечешься так, что пот выступает бусиной У кромки волос. Останься еще. Побудь со мной. И не отводи целительные глаза.11 ноября 2006 года
Так, просто
А не скосит крейза, не вылетят тормоза — Поневоле придётся вырасти Ихтиандром. Я реальность свою натягиваю скафандром Каждый день, едва приоткрыв глаза. Она русифицирована; к ней спичек дают и пойла. Снизу слякоть кладут, наверх – листовую жесть. В ней зима сейчас – как замедленное, тупое Утро после больших торжеств. И модель у меня простейшая: сумки, сырость, Рынки, кошки, бомжи, метро; иногда – весна. Мне дарили её с чужого плеча, на вырост, И теперь вот она становится мне тесна. Натирает до красноты; чертыхаясь, ранясь, Уставая от курток, затхлости и соплей, Страшно хочется бросить всё и найти реальность Подобротнее, подороже и потеплей. Чтоб надеть – а она второй облегает кожей. Не растить к ней сантиметровый защитный слой. Чтоб оттаять в ней, перестать быть угрюмой, злой, И – поспеть, распрямиться, стать на себя похожей. Посмуглеть, посмешливеть, быстро освоить помесь, Европейского с местным; сделаться звонче, но… Но ведь только в моей, задрипанной, есть окно, За которым – бабах – Вселенная. Невесомость. Только в этих – составе воздуха, тьме, углу Я могу отыскать такой рычажок, оттенок, Что реальность сползает, дрогнув, с дверей и стенок И уходит винтом в отверстие на полу.20 ноября 2006 года
Одному мальчику, чтобы ему не было так холодно
Моё солнце, и это тоже ведь не тупик, это новый круг. Почву выбили из-под ног – так учись летать. Журавля подстрелили, синичку выдернули из рук, И саднит под ребром, и некому залатать. Жизнь разъяли на кадры, каркас проржавленный обнажив. Рассинхрон, все помехами; сжаться, не восставать. Пока финка жгла между рёбер, ещё был жив, А теперь извлекли, и вынужден остывать. Моё солнце, Бог не садист, не Его это гнев и гнёт, Только – обжиг; мы все тут мечемся, мельтешим, А Он смотрит и выжидает, сидит и мнёт Переносицу указательным и большим; Срок приходит, нас вынимают на Божий свет, обдувают прах, Обдают ледяным, как небытием; кричи И брыкайся; мой мальчик, это нормальный страх. Это ты остываешь после Его печи. Это кажется, что ты слаб, что ты клоп, беспомощный идиот, Словно глупая камбала хлопаешь ртом во мгле. Моё солнце, Москва гудит, караван идёт, Происходит пятница на земле, Эта долбаная неделя накрыла, смяла, да вот и схлынула тяжело, Полежи в мокрой гальке, тину отри со щёк. Это кажется, что всё мёрзло и нежило, Просто жизнь даже толком не началась ещё. Это новый какой-то уровень, левел, раунд; белым-бело. Эй, а делать-то что? Слова собирать из льдин? Мы истошно живые, слышишь, смотри в табло. На нем циферки. Пять. Четыре. Три. Два. Один.Ночь 24–25 ноября 2006 года
Ярмарка
Ну хочешь – постой, послушай да поглазей. Бывает, заглянет в очи своих друзей — И видит пустой разрушенный Колизей. А думала, что жива. Кругом обойди, дотронься – ну, вот же вся. Тугая коса да вытертая джинса. Хмелеет с винца да ловится на живца, На кудри да кружева. Два дня на плаву, два месяца – на мели, Дерет из-под ног стихи, из сырой земли, И если бы раны в ней говорить могли — Кормила бы тридцать ртов. Не иду, – говорит, – гряду; не люблю – трублю, Оркестром скорблю вслед каждому кораблю, С девиц по слезинке, с юношей – по рублю, Матросик, руби швартов. На, хочешь, бери – глазищи, как у борзой. Сначала живёшь с ней – кажется, свергли в ад. Но как-то проснёшься, нежностью в тыщу ватт Застигнутый, как грозой.30 ноября 2006 года
Декабрь
Декабрь – и вдруг апрелем щекочет ворот, Мол, дёрнешься – полосну. С окраин свезли да вывернули на город Просроченную весну. Дремучая старость года – но пахнет Пасхой, А вовсе не Рождеством. Бесстыжий циклон. Прохожий глядит с опаской И внутренним торжеством. Ты делаешься спокойный, безмолвный, ветхий. На то же сердцебиенье – предельно скуп. Красотка идёт, и ветер рвёт дым салфеткой С её приоткрытых губ. Мальчонка берёт за плечи, целует мокро Подругу – та пучит глазки, оглушена. А ты опустел: звенело, звенело – смолкло. И тишина. Ты снова не стал счастливым – а так хотел им Проснуться; хрипел фальцетиком оголтелым, Тянулся; но нет – оставленный, запасной. Год дышит всё тяжелей. Ты стоишь над телом. Лежалой несёт весной.7 декабря 2006 года
Ис-комы-е
Рифмоплётство – род искупительного вранья. Так говорят с людьми в состояньи комы. Гладят ладони, даже хохмят, – влекомы Деятельным бессилием. Как и я. «Ездил на дачу к деду, прибрал в избе. Крышу стелил. Грибов собирают – вёдра! Митька щенка взял, выглядит очень бодро». Цель этого всего – доказать себе, Что всё как прежде – выдержал, не подох. В мире поют, грозят, покупают платья. Ты вроде жив формально – как тут, в палате: Пульс там, сердцебиение, выдох-вдох. Так вот и я. «Ну как я? Усталый гном. В гневе смешон; безвкусно накрашен; грешен. Как черенками сросшимися черешен Челка моя ложится теперь углом». Ты похудел; дежурная смотрит зло. Пахнет больницей, въедливо и постыло. Что мне сказать такого, чтоб отпустило? Что мне такого сделать, чтоб помогло? Нежностью докричаться – ну а про что ж, Как не про то – избыток её, излишек. Те живут ожиданьем, что их услышат. Я живу твердой верой, что ты прочтёшь. Ну а покуда тело твоё – дупло. Все до востребованья хранится, слова, объятья. В мире поют, грозят, покупают платья. Он без тебя захлопнут – ну, вот опять я — Будто бы подпол: влажно. Темно. Тепло.13–14 декабря 2006 года
Свобода
Всё бегаем, всё не ведаем, что мы ищем; Потянешься к тыщам – хватишь по голове. Свобода же в том, чтоб стать абсолютно нищим — Без преданной острой финки за голенищем, Двух граммов под днищем, Козыря в рукаве. Все ржут, щеря зуб акулий, зрачок шакалий — Родители намекали, кем ты не стал. Свобода же в том, чтоб выпасть из вертикалей, Понтов и регалий, офисных зазеркалий, Чтоб самый асфальт и был тебе пьедестал. Плюёмся люголем, лечимся алкоголем, Наркотики колем, блядскую жизнь браня. Свобода же в том, чтоб стать абсолютно голым, Как голем, Без линз, колец, водолазок с горлом, — И кожа твоя была тебе как броня.17 декабря 2006 года
Осточерчение
Да, тут не без пощёчин и зуботычин, Впрочем, легчайших, так что не кличь врачей. Сколько б ты ни был зычен и предназначен — А всё равно найдутся погорячей. Мальчик, держись за поручень, мир не прочен. Ладно, не увенчают – так хоть учтут. Выставочен как ни был бы, приурочен — А всё равно же вымучен, что уж тут. Звонче не петь, чем Данте для Беатриче. Нынче – ни Дуче, ни команданте Че. Как бы ты ни был вычерчен – ты вторичен; Тысячен, если мыслить в таком ключе. Ты весь из червоточин, из поперечин, Мелочен очень, сколько ни поучай. Как бы ты ни был точен и безупречен — Вечности не оставят тебе на чай. И не мечтай, что Бог на тебя набычен, Выпучен, как на чучело, на чуму. Как бы ты ни был штучен – а ты обычен. А остальное знать тебе ни к чему.19 декабря 2006 года
Хронофобия
Время – знаток, стратег тыловых атак, Маленький мародер, что дрожит, пакуя Краденое – оставь мою мать в покое. Что она натворила, что ты с ней так. Время с кнутом, что гонит одним гуртом, Время, что чешет всех под одну гребёнку — Не подходи на шаг к моему ребёнку. Не улыбайся хищным бескровным ртом. Ты ведь трусливо; мелкое воровство — Всё, что ты можешь. Вежливый извращенец. Ластишься, щерясь, – брось: у меня священность Самых живых на свете. А ты – мертво.22 декабря 2006 года
Стишок, написанный в поезде
А что меня нежит, то меня и изгложет. Что нянчит, то и прикончит; величина Совпала: мы спали в позе влюблённых ложек, Мир был с нами дружен, радужен и несложен. А нынче пристыжен, выстужен; ты низложен А я и вовсе отлучена. А сколько мы звучны, столько мы и увечны. И раны поют в нас голосом человечьим И голосом волчьим; а за тобой братва Донашивает твоих женщин, твои словечки, А у меня на тебя отобраны все кавычки, Все авторские права. А где в тебе чувство, там за него и месть-то. Давай, как кругом рассеется едкий дым, Мы встретимся в центре где-нибудь, посидим. На мне от тебя не будет живого места, А ты, как всегда, окажешься невредим.30–31 декабря 2006 года
Выговор с занесением в личное дело
Ну вот так и сиди, из пальца тоску высасывая, чтоб оправдывать лень, апатией зарастать. И такая клокочет непримиримость классовая между тем, кто ты есть и тем, кем могла бы стать. Ну сиди так, сквозь зубы зло матерясь да всхлипывая, словно глина, что не нашла себе гончара, чтоб крутилась в башке цветная нарезка клиповая, как чудесно всё было в жизни еще вчера. Приключилась опять подстава, любовь внеплановая, тектонический сдвиг по фазе – ну глупо ведь: это жизнь по тебе катается, переламывая, а ты только и можешь дёргаться и реветь. Вера-Вера, ты не такая уж и особенная, это тоже отмазка, чтоб не пахать как все; а война внутри происходит междоусобная, потому что висишь на чёртовом колесе, и повсюду такое поле лежит оранжевое, и дорог сотня тысяч, и золотая рожь, и зрелище это так тебя завораживает, что не слезешь никак, не выберешь, не допрёшь; тот кусок тебе мал и этот вот не хорош. Да, ты девочка с интеллектом да с горизонтом, с атласной лентой, с косой резьбой; и такой у тебя под сердцем любовный склеп там, весь гарнизон там, и все так счастливы не с тобой; потому что ты, Вера, жерло, ты, Вера, пекло, и все бегут от тебя с ожогами в пол-лица; ты читаешь по пальцам смугло, ресницам бегло, но не видишь, где в этот раз подложить сенца. Выдыхай, Вера, хватит плакать, кося на зрителя, это дёшево; встань, умойся, заправь кровать. Все ответы на все вопросы лежат внутри тебя, наберись же отваги взять и пооткрывать. Бог не требует от тебя становленья быстрого, но пугается, когда видит через стекло – что ты навзничь лежишь полгода и, как от выстрела, под затылком пятно волос с тебя натекло. Ты же славно соображаешь, ты вихрь, ты гонщица, только нужен внутри контакт проводков нехитрых. Просто помни, что вот когда этот мир закончится – твое имя смешное тоже должно быть в титрах.20 января 2007 года
Здравица
За всех, которые нравились или нравятся, Хранимых иконами у души в пещере, Как чашу вина в застольной здравице Подъемлю стихами наполненный череп. В. Маяковский Серёжа бомбой на сцену валится, она вскипает под ним, дымя. Она трясётся под ним, страдалица, а он, знай, скалится в микрофон тридцатью двумя. Ритм отбивает ногами босыми, чеканит чёрной своей башкой – и мир идёт золотыми осами, алмазной стружкой, цветной мошкой. Сергеич – это такое отчество, что испаряет во мне печаль; мне ничего от него не хочется, вот только длился б и не молчал; чтоб сипло он выдыхал «спасибо» нам – нам, взмок шей тысяче медвежат, чтоб к звёздам, по потолку рассыпанным, кулак был брошен – и вдруг разжат; вот он стоит, и дрожат басы под ним, грохочут, ропщут и дребезжат. А это Лена, ехидный светоч мой, арабский мальчик, глумливый чёрт; татуировка цветущей веточкой течёт по шее ей на плечо. Она тщеславна, ей страшно хочется звучать из каждого утюга; она едва ли первопроходчица, о нет, – но хватка её туга. И всяк любуется ею, ахая, догадки строит, как муравей – что за лукавство блестит в глазах её, поёт в рисунке её бровей; зачем внутри закипает олово, дышать становится тяжелей, когда она, за прокинув голову, смеётся хищно, как Бармалей; жестикулирует лапкой птичьею, благоухает за полверсты – и никогда тебе не постичь ее, не уместить её красоты, – путем совместного ли распития, гулянья, хохота о былом; тебе придётся всегда любить её и быть не в силах объять умом. Я выхожу, новый день приветствую, январь, на улице минус семь, слюнявит солнышко Павелецкую, как будто хочет сожрать совсем; стою, как масленичное чучело, луч лижет влажно, лицо корёжа, и не сказать, чтоб меня не мучило, что я не Лена и не Серёжа. И я хочу говорить репризами, кивать со сцены орущим гущам – надоедает ходить непризнанным, невсесоюзным, не всемогущим; и я бы, эх, собирала клубики, и все б толпились в моей гримёрке; но подбираю слова, как кубики, пока не выпадут три семёрки. Пока не включит Бог светофора мне; а нет – зайду под своим логином на форум к Богу, а там на форуме все пишут «Господи, помоги нам». Он помогает, Он ведь не врёт же, таких приходит нас полный зал – допустим, Леной или Серёжей Он мне вполне себя доказал. И я гляжу вокруг завороженно, и моё сердце не знает тлена, пока тихонько поёт Серёжа мне, пока мне в трубку хохочет Лена; пока они мне со сцены-палубы круги спасательные швыряют, без них я не перезимовала бы, а тут почти конец января ведь. Один как скрежет морского гравия, другая будто глинтвейн лимонный. А я так – просто листок за здравие, где надо каждого поимённо.26, 28 января 2007 года
Про любовь
Посвящается юзеру susel_times
Морозно, и наглухо заперты двери. В колонках тихонько играет Стэн Гетц. В начале восьмого, по пятницам, к Вере, Безмолвный и полный, приходит пиздец. Друзья оседают по барам и скверам И греются крепким, поскольку зима. И только пиздец остается ей верным. И в целом, она это ценит весьма. Особо рассчитывать не на что, лёжа В кровати с чугунной башкою, и здесь Похоже, всё честно: у Оли Серёжа, У Кати Виталик, у Веры пиздец. У Веры характер и профиль повстанца. И пламенный взор, и большой аппетит. Он ждёт, что она ему скажет «Останься», Обнимет и даже чайку вскипятит. Но Вера лежит, не встаёт и не режет На кухне желанной колбаски ему. Зубами скрипит. Он приходит на скрежет. По пятницам. Полный. И сразу всему.2 февраля 2007 года
Двухминутка ненависти
Да, я верю, что ты её должен драть, а ещё её должен греть и хранить от бед. И не должен особо врать, чтоб она и впредь сочиняла тебе обед. И не должен ходить сюда, открывать тетрадь и сидеть смотреть, как хрустит у меня хребет. Да, я вижу, что ей написано на роду, что стройна она как лоза, что и омут в ней, и приют. Ни дурного словца, ни в трезвости, ни в бреду, я ведь даже за, я не идиот, на таких клюют. Так какого ты чёрта в первом сидишь ряду, наблюдаешь во все глаза, как во мне тут демоны вопиют. Да, я чувствую, её гладить – идти по льну, у неё золотой живот, тебе надо знать, что она таит. И тебе уютно в её плену, тебе нужен кров и громоотвод, она интуит. Если хочется слышать, как я вас тут кляну, то пожалуй вот: на чём свет стоит. Да, я знаю, что ты там счастлив, а я тут пью, что ты победил, я усталый псих. Передай привет паре мелочей, например, тряпью, или no big deal, лучше выбрось их. Ай спасибо Тому, кто смыть мою колею тебя отрядил, всю её расквасить от сих до сих. Это честно – пусть Он мне бьёт по губам указкой, тупой железкой, она стрекочет тебе стрекозкой. Подсекает тебя то лаской, блестящей леской, а то сугубой такой серьёзкой, тончайшей вязкой, своей рукой. Ты молись, чтобы ей не ведать вот этой адской, пустынной, резкой, аж стариковской, аж королевской – смертельной ненависти такой. Дорогой мой, славный, такой-сякой. Береги там её покой.5 февраля 2007 года
Как будто бы
Девочка – чёрный комикс, ну Птица Феникс, ну вся прижизненный анекдот. Девочка – чёрный оникс, поганый веник-с, и яд себе же, и антидот. Девочка – двадцать конниц, две сотни пленниц, кто раз увидит, тот пропадёт. Девка странна малёхо – не щеголиха, а дядька с крыльями за плечом. Девочка-как-всё-плохо, гляди, фунт лиха, вот интересно, а он почём. Девочка – поволока, и повилика — мы обручим, то есть обречём. Думает, что при деле: сложила дули и всем показывает, вертя. Все о любви трындели, и все надули, грудную клетку изрешетя. Двадцать один годок через две недели, не на беду ли она дурачится, как дитя.* * *
И пока, Вера, у тебя тут молодость апельсиновая, И подруги твои сиятельны и смешливы, — Время маму твою баюкает, обессиливая. – Как её самочувствие? – Да пошли вы. И пока, Вера, ты фехтуешь, глумясь и ёрничая, Или глушишь портвейн с ребятами, пригорюнясь, Время ходит с совочком, шаркая, словно горничная, И прибирает за вами юность. И пока, Вера, ты над паззлом исходишь щёлочью, Силишься всю собрать себя по деталькам, — Твой двадцать первый март поправляет чёлочку. Посыпает ладони тальком.* * *
Время быстро идёт, мнёт морды его ступня. И поёт оно так зловеще, как Птица Рух. Я тут крикнула в трубку – Катя! – а на меня Обернулась старуха, вся обратилась в слух. Я подумала – вот подстава-то, у старух Наши, девичьи, имена. Нас вот так же, как их, рассадят по вертелам, Повращают, прожгут, протащат через года, И мы будем квартировать по своим телам, Пока Боженька нас не выселит В никуда. Какой-нибудь дымный, муторный кабинет. Какой-нибудь длинный, сумрачный перегон. А писать надо так, как будто бы смерти нет. Как будто бы смерть – пустой стариковский гон.20 февраля 2007 года
Гумилев Updated
To MJ
Милый Майкл, ты так светел; но безумие заразно. Не щадит и тех немногих, что казались так мудры. Ты велик, но редкий сможет удержаться от соблазна Бросить радостный булыжник в начинателя игры. Очень скоро твоё слово ничего не будет весить; Так, боюсь, бывает с каждой из прижизненных икон. Ты ведь не перекричишь их; и тебя уже лет десять Как должно не быть на свете. Неприятно, но закон. Что такое бог в отставке? Всех давно уже распяли. Все разъехались по небу, разошлись на горний зов; Очень страшно не дождаться той одной фанатской пули, Рокового передоза, неисправных тормозов. Это всё, что нужно людям, чтоб сказали «аллилуйя!», Чтоб раскаялись, прозрели и зажгли бы алтари. Чтоб толпа сказала – «Майкл, вот теперь тебя люблю я», Чтобы мир шептался скорбно о тебе недели три; Милый Майкл, это участь всех, кто Богом поцелован, Золотой венец пиара, шапка первой полосы. А пока ты жив – ты жертва, пожилой печальный клоун: Тыкать пальцами, кривиться, морщить глупые носы. Ну, ходи в очках да космах, при своих сердечных спазмах; Каково быть старой куклой? Дети делаются злей И с какого-то момента поднимают – только на смех; Время закругляться, Майкл, человек и мавзолей. Это, знаешь ли, последний и решающий экзамен; Лакмус; тест на профпригодность; главный одиночный бой. У тебя ещё есть время что-то сделать с тормозами. И тогда я буду первой, кто заплачет над тобой.24 февраля 2007 года
Новые сказки о главном
Живет моя отрада в высоком терему, А в терем тот высокой нет хода никому. Тебя не пустят – здесь всё по спискам, а ты же международным сыском пришпилен в комнатки к паспортисткам, и все узнают в тебе врага; а я тем более суверенна, и блокпосты кругом, и сирены, беги подальше от цесаревны, уж коли жизнь тебе дорога. А сможешь спрятаться, устраниться да как-то пере сечёшь границу – любой таксист или проводница тебя узнает; мне донесут. Не донесут – так увидят копы, твоих портретов сто тысяч копий повсюду вплоть до степей и топей – тебя поймают, и будет суд. И ладно копы – в газетах снимки, и изучаются анонимки, кто сообщит о твоей поимке – тому достанется полказны. Подружкам бывшим – что ты соврёшь им? Таких как ты мы в салатик крошим; ты дёшев, чтобы сойти хорошим, твои слащавости показны. А криминальные воротилы все проницательны как тортилы, оно конечно, тебе фартило, так дуракам и должно везти; а если ты им расскажешь хитрость, что вообще-то приехал выкрасть меня отсюда – так они вытрясть сумеют мозг из твоей кости. Шпана? – да что б ты ни предлагал им, ни лгал им – ты бы не помогал им; они побьют тебя всем кагалом, едва почуют в тебе гнильцу. А в забегаловку к нелегалам – так ты не спрячешься за бокалом, они читают все по лицу. Да, к эмигрантам – так сколько влезет, они ведь только деньгами грезят, что пакистанец, что конголезец – тебя немедленно спустят с лестниц и у подъезда сдадут властям. Что бабка, согнутая к кошёлкам, что зеленщик, что торговка шёлком – все просияют, что ты пришёл к нам, здесь очень рады таким гостям. И если даже – то здесь всё строго; тут от порога одна дорога, вокруг на мили дремучий лес; забор высокий, высоковольтка, охраны столько, овчарок столько, что сам бы дьявол не перелез; и лазер в каждом из перекрестий напольной плитки; да хоть ты тресни; ну правда, милый, так интерес ней, почти военный ввела режим; я знаю, детка, что ты всё помнишь, всё одолеешь и всё исполнишь, и доберёшься, и ровно в полночь мы с хода чёрного убежим.27 февраля 2007 года
Чёлка
Это последний раз, когда ты попался В текст, и сидишь смеёшься тут между строк. Сколько тебя высасывает из пальца — И никого, кто был бы с тобою строг. Смотрят, прищурясь, думают – something’s wrong here: В нём же зашкалит радостью бытия; Скольким ещё дышать тобой, плавить бронхи, И никому – любить тебя так, как я. День мерить от тебя до тебя, смерзаться В столб соляной, прощаясь; аукать тьму. Скольким ещё баюкать тебя, мерзавца. А колыбельных петь таких – никому. Чёлку ерошить, ворот ровнять, как сыну. Знать, как ты льнёшь и ластишься, разозлив. Скольким ещё искать от тебя вакцину — И только мне её продавать в розлив. Видишь – после тебя остаётся пустошь В каждой глазнице, и наступает тишь. «Я-то всё жду, когда ты меня отпустишь. Я-то всё жду, когда ты меня простишь».* * *
А ведь это твоя последняя жизнь, хоть сама-то себе не ври. Родилась пошвырять пожитки, друзей обнять перед рейсом. Купить себе анестетиков в дьюти-фри. Покивать смешливым индусам или корейцам. А ведь это твоё последнее тело, одноместный крепкий скелет. Зал ожидания перед вылетом к горним кущам. Погоди, детка, ещё два-три десятка лет — Сядешь да посмеёшься со Всемогущим. Если жалеть о чём-то, то лишь о том Что так тяжело доходишь до вечных истин. Моя новая чёлка фильтрует мир решетом, Он становится мне чуть менее ненавистен. Всё, что ещё неведомо – сядь, отведай. Всё, что с земли не видно – исследуй над. Это твоя последняя юность в конкретно этой Непростой системе координат. Легче танцуй стихом, каблуками щёлкай. Спать не давать – так целому городку. А ещё ты такая славная с этой чёлкой. Повезёт же весной какому-то Дураку.2 марта 2007 года
* * *
И когда вдруг ему казалось, что ей стало больше лет, Что она вдруг неразговорчива за обедом, Он умел сгрести её всю в охапку и пожалеть, Хоть она никогда не просила его об этом. Он едет сейчас в такси, ему надо успеть к шести. Чтобы поймать улыбку её мадонью, Он любил её пальцы своими переплести И укрыть их другой ладонью. Он не мог себе объяснить, что его влечёт В этой безлюдной женщине; километром Раньше она клала ему голову на плечо, Он не удерживался, торопливо и горячо Целовал её в темя. Волосы пахли ветром.4 марта 2007 года
«И пока он вскакивает с кровати, ещё нетрезвый…»
И пока он вскакивает с кровати, ещё нетрезвый, Борется в кухне с кофейной джезвой, В тёмной ванной одним из лезвий Морщит кожу на подбородке и на щеке — Всех её дел – быть выспавшейся да резвой, Доплывать до линии волнорезовой; Путешествовать налегке. И пока он грызёт губу, выбирая между простым и клетчатым, Готовит наспех что-то из курицы и фасоли, Идёт отгонять машину из гаража; Всех забот её на день – ну, не обуглить плечи там, Не наглотаться соли, Не наступить в морского ежа. И когда под вечер в кафе он думает – тальятелле Или – вот кстати – пицца; Она остёется, ужинает в отеле, Решает в центр не торопиться. Приобретает в жестах некую величавость, Вилку переворачивает ничком. Арабы все улыбаются ей, курчавясь, Как Уго Чавес, И страстно цокают язычком. И пока город крепко держит его когтями И кормит печалью, а иногда смешит — Она хочет думать, что её здесь оттянет, Отъегиптянит, РазШармашит. Нет, правда, её раскутали здесь, раздели И чистят теперь, изгвазданную в зиме. Не нужно ей знать, кто там у него в постели, на самом деле. И на уме.9 марта 2007 года
Sharm el-Sheikh
Встречу – конечно, взвизгну да обниму. Время подуспокоило нас обоих. Хотя всё, что необходимо сказать ему До сих пор содержится В двух Обоймах.* * *
Это такое простое чувство – сесть на кровати, бессрочно выключить телефон. Март, и плюс двадцать шесть в тени, и я нет, не брежу. Волны сегодня мнутся по побережью, Словно кто-то рукой разглаживает шифон. С пирса хохочут мальчики-моряки, Сорвиголовы все, пиратская спецбригада; Шарм – старый город, центр, Дахаб, Хургада. Красное море режется в городки. Солнце уходит, не доигравши кона. Вечер в отеле: тянет едой и хлоркой; Музыкой; Федерико Гарсиа Лоркой — «Если умру я, не закрывайте балкона». Всё, что привёз с собой – выпиваешь влет. Всё, что захочешь взять – отберет таможня; Это халиф-на-час; но пока всё можно. Особенно если дома никто не ждёт. Особенно если лёгкость невыносимая – старый бог Низвергнут, другой не выдан, ты где-то между. А арабы ведь взглядом чиркают – как о спичечный коробок. Смотрят так, что хочется придержать на себе одежду. Одни имеют индейский профиль, другие похожи на Ленни Кравитца — Нет, серьёзно, они мне нравятся, Глаз кипит, непривычный к таким нагрузкам; Но самое главное – они говорят «как деля, красавица?» И ещё, может быть – ну, несколько слов на русском. Вот счастье – от них не надо спасаться бегством, Они не судят тебя по буковкам из сети; Для них ты – нет, не живая сноска к твоим же текстам, А девочка просто. «Девочка, не грусти!»* * *
Засахарить это всё, положить на полку, В минуты тоски отламывать по куску. Арабский мальчик бежит, сломя голову, по песку. Ветер парусом надувает ему футболку.14–15 марта 2007 года
Just In Case
И я не знаю, что у тебя там — У нас тут солнышко партизанит, Лежит на крыше и целит в глаз. Заедешь? Перезвони ребятам, Простите, братцы, сегодня занят, Не в этот раз. Мы будем прятаться по кофейням, Курить кальян с табаком трофейным, Бродить по зелени шерстяной. Ты будешь бойко трещать о чём-то И вряд ли скажешь, какого чёрта Ты так со мной. А с самолёта ведь лес – как ломкий Подробный почерк, река как венка. И далеко не везде весна. Озера льдистой белёсой пленкой Закрыты словно кошачье веко Во время сна. What you’ve been doing here since I left you? Слетай куда-нибудь, it will lift you. Из всех широт – потеплее в той: Там, знаешь, женщины: волос нефтью, Ресницы черной такой финифтью, Ладонь тафтой. На кухне вкусное толстый повар Из незнакомого теста лепит, И пять котлов перед ним дымят. Лежи и слушай арабский говор Да кружевной итальянский лепет Да русский мат. И воздух там не бывает пресен, И бриз по-свойски за щёчку треплет, И совершенно не снятся те, Кто научил двум десяткам песен, Вину, искусству возвратных реплик И пустоте. Тут мама деток зовёт – а эти ж Печеньем кормят отважных уток Буквально с маленьких грязных рук. И ты, конечно же, не заедешь. И кто сказал бы мне, почему так, Мой юный друг.30 марта 2007 года
Камлать
Жаль, такая милая, а туда же, где таких берут, их же нет в продаже; по большому счёту, не люди даже, а научные образцы. Может только петь об Армагеддоне, о своем прекрасном царе Гвидоне, эти маленькие ладони, выступающие резцы. Может только петь, отбывать повинность, так, как будто кто-то все рёбра вынес, горлово и медленно, как тувинец, или горец, или казах. У того, кто слушает больше суток, потихоньку сходит на нет рассудок, и глаза в полопавшихся сосудах, и края рукавов в слезах. Моя скоба, сдоба, моя зазноба, мальчик, продирающий до озноба, я не докричусь до тебя до сноба, я же голос себе сорву. Я тут корчусь в запахе тьмы и прели, мой любимый мальчик рождён в апреле, он разулыбался, и все смотрели, как я падаю на траву. Этот дробный смех, этот прищур блядский, он всегда затискан, всегда обласкан, так и тянет крепко вцепиться в лацкан и со зла прокусить губу. Он растравит, сам того не желая, как шальная жёнушка Менелая, я дурная, взорванная и злая, прямо вены кипят на лбу. Низкий пояс джинсов, рубашки вырез, он мальчишка, он до сих пор не вырос, он внезапный, мощный, смертельный вирус, лихорадящая пыльца; он целует влажно, смеётся южно, я шучу так плоско и так натужно, мне совсем, совсем ничего не нужно, кроме этого наглеца. Как же тут не вешаться от тоски, ну, он же ведь не чувствует, как я стыну, как ищу у бара родную спину, он же здесь, у меня чутьё; прикоснись к нему, и немеет кожа; но Господь, несбычи мои итожа, поджимает губы – и этот тоже. Тоже, девочка, не твоё.3 апреля 2007 года
Робот-плакальщик
Сколько их сидит у тебя в подрёберье, бриллиантов, вынутых из руды, сколько лет ты пишешь о них подробные, нескончаемые труды, да, о каждом песенку, декларацию, книгу, мраморную скрижаль – пока свет очей не пришлёт дурацкую смску «Мне очень жаль». Пока в ночь не выйдешь, зубами клацая, ни одной машины в такой глуши. Там уже их целая резервация, этих мальчиков без души. Детка-детка, ты состоишь из лампочек, просто лампочек в сотню ватт. Ты обычный маленький робот-плакальщик, и никто здесь не виноват. Символы латинские, буквы русские, глазки светятся лучево, а о личном счастье в твоей инструкции не написано ничего. Счастье, детка – это другие тётеньки, волчья хватка, стальная нить. Сиди тихо, кушай антибиотики и пожалуйста, хватит ныть. Чёрт тебя несёт к дуракам напыщенным, этот был циничен, тот вечно пьян, только ты пропорота каждым прищуром, словно мученик Себастьян. Поправляйся, детка, иди с любыми мсти, божьи шуточки матеря; из твоей отчаянной нелюбимости можно строить концлагеря. Можно делать бомбы – и будет лужица вместо нескольких городов. Эти люди просто умрут от ужаса, не останется и следов. Вот такого ужаса, из Малхолланда, Сайлент Хилла, дурного сна – да, я знаю, детка, тебе так холодно, не твоя в этот раз весна. Ты боишься, что так и сдохнешь, сирая, в этот вторник, другой четверг – всех своих любимых экранизируя на изнанке при крытых век. Так и будет. Девочки купят платьишек, твоих милых сведут с ума. Уже Пасха, маленький робот-плакальщик. Просто ядерная зима.7 апреля 2007 года
Гонево
Нет, придётся всё рассказать сначала, и число, и гербовая печать; видит Бог, я очень давно молчала, но теперь не могу молчать – этот мальчик в горле сидит как спица, раскалённая докрасна; либо вымереть, либо спиться, либо грёбаная весна. Первый начал, заговорил и замер, я еще Вас увижу здесь? И с тех пор я бледный безумный спамер, рифмоплётствующая взвесь, одержимый заяц, любой эпитет про лисицу и виноград – и теперь он да, меня часто видит и, по правде, уже не рад. Нет, нигде мне так не бывает сладко, так спокойно, так горячо – я большой измученный кит-касатка, лбом упавший ему в плечо. Я большой и жадный осиный улей, и, наверно, дни мои сочтены, так как в мире нет ничего сутулей и прекрасней его спины за высокой стойкой, ребром бокала, перед монитором белее льда. Лучше б я, конечно, не привыкала, но уже не денешься никуда. Всё, поставь на паузу, Мефистофель. Пусть вот так и будет в моём мирке. Этот старый джаз, ироничный профиль, сигарета в одной руке. Нету касс, а то продала бы душу за такого юношу, до гроша. Но я грустный двоечник, пью и трушу, немила, несносна, нехороша. Сколько было жутких стихийных бедствий, вот таких, ехидных и молодых, ну а этот, ясно – щелбан небесный, просто божий удар поддых. Милый друг, – улыбчивый, нетверёзый и чудесный, не в этом суть – о тебе никак не выходит прозой. Так что, братец, не обессудь.9 апреля 2007 года
«А и всё тебе пьётся-воется…»
А и всё тебе пьётся-воется, но не плачется, хоть убей. Твои мальчики – божье воинство, а ты выскочка и плебей; там за каждым такая очередь, что стоять тебе до седин, покучнее, сукины дочери, вас полгорода, я один; каждый светлый, красивый, ласковый, каждый носит внутри ледник – неудачники вроде нас с тобой любят пыточки вроде них. Бог умеет лелеять, пестовать, но с тобой свирепеет весь: на тебе ведь живого места нет, ну от куда такая спесь? Стисни зубы и будь же паинькой, покивай Ему, подыграй, ты же съедена тьмой и паникой, сдайся, сдайся, и будет рай. Сядь на площади в центре города, что ж ты ходишь-то напролом, ты же выпотрошена, вспорота, только нитки и поролон; ну потешь Его, ну пожалуйста, кверху брюхом к Нему всплыви, все равно не дождёшься жалости, облегчения и любви. Ты же слабая, сводит икры ведь, в сердце острое сверлецо; сколько можно терять, проигрывать и пытаться держать лицо. Как в тюрьме: отпускают влёгкую, если видят, что ты мертва. Но глаза у тебя с издевкою, и поэтому чёрта с два. В целом, ты уже точно смертница, с решетом-то таким в груди. Но внутри ещё что-то сердится. Значит, всё ещё впереди.17 апреля 2007 года
Перехокку
Как они тебя пробивают, такую тушу? Только войдёт, наглец, разоритель гнёзд — Ты уже сразу видишь, по чью он душу. Ты же опытный диагност. Да, он всегда красивый, всегда плохой, Составом, пожалуй, близкий к небесной манне. А ты сидишь золотой блохой В пустом, дырявом его кармане — Бликуешь в глаза бесценной своей подковкой — Всё мельче булавки, тоньше секундной стрелки, Теплее всего рукам – у него под кофтой, Вкуснее всего – таскать из его тарелки; Все даришь ему подарки, Лепишь ему фигурки, Становитесь стеариновые огарки, Солнечные придурки. Морской песок, веселящий газ, Прессованный тёплый воздух — Как будто в городе свет погас, А небо – в пятикаратных звёздах. А без него начинаешь зябнуть, Скулить щенком, выть чугунным гонгом, И он тогда говорит – нельзя быть Таким ребёнком. Становится крайне вежлив и адекватен. Преувеличенно мил и чуток. И ты хрипишь тогда – ладно, хватит. Я не хочу так. С твоих купюр не бывает сдачи. Сидишь в углу, попиваешь чивас: Ну вот, умела так много значить — И разучилась. Опять по кругу, всё это было же, Пора, пора уже быть умней — Из этих мальчиков можно выложить Сад камней. Все слова твои будут задаром розданы, А они потом отнесут их на барахолку. Опять написала, глупенькая, две простыни, Когда могла обойтись и хокку.21 апреля 2007 года
Маленький мальчик
Маленький мальчик, углом резцы, крахмальные рукава. Водит девочек под уздцы, раз приобняв едва. Сколько звёзд ни катай в горсти – рожа твоя крива. Мальчик серии не-расти-после-меня-трава. Маленький мальчик, танталовы муки, хочется и нельзя. Пешка, которая тянет руки к блюду с башкой ферзя. Приставучий мотив, орнамент внутренних алтарей. Снится будто нарочно нанят, манит из-за дверей. Маленький мальчик, калёный шип, битые тормоза. Взрыв химический, с ног не сшиб, но повредил глаза. Крепко лёгкие пообжёг, но не задел лица. Терпкий пепел, дрянной божок, мышечная гнильца. Мальчик – медленное теченье, пальцы узкие, бровь дугой. Мир, что крошится как печенье, осыпается под ногой. Южный, в венах вино и Терек, гонор, говор как белый стих. Важный; только вот без истерик, забывали и не таких. Маленький мальчик, бухло и прозак, знай, закусывай удила. Вот бы всыпать хороших розог за такие его дела. Что ему до моих угрозок, до кровавых моих стишат, Принцы, если ты отморозок, успокаивать не спешат. Маленький мальчик, могли бы спеться, эх, такая пошла бы жисть. Было пресно, прислали специй, вот поди теперь отдышись. Для тебя всё давно не ново, а для прочих неуловим Тот щелчок: не хотел дурного, а пришёлся под сход лавин. Маленький мальчик, жестокий квиддич, сдохнем раньше, чем отдохнём. Бедный Гарри, теперь ты видишь, что такое играть с огнём. Как уходит в смолу и сало тугоплавкий и злой металл. Нет, я этого не писала. Нет, ты этого не читал.25–29 апреля 2007 года
Чёрный блюз
Чего они все хотят от тебя, присяжные с мониторами вместо лиц? Чего-то такого экстренного и важного, эффектного самострела в режиме блиц. Чего-то такого веского и хорошего, с доставкой на дом, с резной тесьмой. А смысл жизни – так ты не трожь его, вот чаевые, ступай домой. Вот и прикрикивают издатели да изводят редактора. Но ещё не пора, моя девочка. Все ещё не пора. Страшно достаёт быть одной и той же собой, в этих заданностях тупых. Быть одной из вскормленных на убой, бесконечных брейгелевских слепых. Всё идти и думать – когда, когда, у меня не осталось сил. Мама, для чего ты меня сюда, ведь никто тебя не просил. Разве только врать себе «всё не зря», когда будешь совсем стара. И ещё не пора, моя девочка. Всё ещё не пора. Что за климат, Господи, не трави, как ни кутайся – неодет. И у каждого третьего столько смерти в крови, что давно к ней иммунитет. И у каждого пятого для тебя ледяной смешок, а у сотого – вовсе нож. Приходи домой, натяни на башку мешок и сиди, пока не уснёшь. Перебои с цикутой на острие пера. Нет, ещё не пора, моя девочка. Всё ещё не пора. Ещё рано – еще так многое по плечу, не взяла кредитов, не родила детей. Не наелась дерьма по самое не хочу, не устала любить людей. Ещё кто-то тебе готовит бухло и снедь, открывает дверь, отдувает прядь. Поскулишь потом, когда будет за что краснеть, когда выслужишь, что терять. Когда станет понятно, что безнадёжно искать от добра добра. Да, ещё не пора, моя девочка. Всё ещё не пора. Остальные-то как-то учатся спать на ветоши, и безропотно жрать из рук, и сбиваться в гурт. Это ты все бегаешь и кричишь – но, ребята, это же — это страшное наебалово и абсурд. Правда, братцы, вам рассказали же, в вас же силища для прекрасных, больших вещей. И надеешься доораться сквозь эти залежи, все эти хранилища подгнивающих овощей. Это ты мала потому что, злость в тебе распирающая. Типа, все по-другому с нынешнего утра. И поэтому тебе, девочка, не пора ещё. Вот поэтому тебе всё ещё не пора.4–5 мая 2007 года
Старая песня
Звонит ближе к полвторому, подобен грому. Телефон нащупываешь сквозь дрёму, И снова он тебе про Ерёму, А ты ему про Фому. Сидит где-то у друзей, в телевизор вперясь. Хлещет дешёвый херес. Городит ересь. И все твои бесы рвутся наружу через Отверстия в трубке, строго по одному. «Диски твои вчера на глаза попались. Пылищи, наверно, с палец. Там тот испанец И сборники. Кстати, помнишь, мы просыпались, И ты мне всё время пела старинный блюз? Такой – уа-па-па… Ну да, у меня нет слуха». Вода, если плакать лёжа, щекочет ухо. И падает вниз, о ткань ударяясь глухо. «Давай ты перезвонишь мне, когда просплюсь». Бетонная жизнь становится сразу хрупкой, Расходится рябью, трескается скорлупкой, Когда полежишь, зажмурившись, с этой трубкой, Послушаешь, как он дышит и как он врёт — Казалось бы, столько лет, а точны прицелы. Скажите спасибо, что остаётесь целы. А блюз этот был, наверно, старушки Эллы За сорок дремучий год.8 мая 2007 года
Ближний бой
Разве я враг тебе, чтоб молчать со мной, как динамик в пустом аэропорту. Целовать на прощанье так, что упрямый привкус свинца во рту. Под рубашкой деревенеть рукой, за которую я берусь, где-то у плеча. Смотреть мне в глаза, как в дыру от пули, отверстие для ключа. Мой свет, с каких пор у тебя повадочки палача. Полоса отчуждения ширится, как гангрена, и лижет ступни, остерегись. В каждом баре, где мы – орёт через час сирена и пол похрустывает от гильз. Что ни фраза, то пулемётным речитативом, и что ни пауза, то болото или овраг. Разве враг я тебе, чтобы мне в лицо, да слезоточивым. Я ведь тебе не враг. Теми губами, что душат сейчас бессчётную сигарету, ты умел ещё улыбаться и подпевать. Я же и так спустя полчаса уеду, а ты останешься мять запястья и допивать. Я же и так умею справляться с болью, хоть и приходится пореветь, к своему стыду. С кем ты воюешь, мальчик мой, не с собой ли. Не с собой ли самим, ныряющим в пустоту.21–22 мая 2007 года
* * *
Тим, Тим. Южный город-побратим. Пусть нас встретит тёплый ветер Там, куда мы прилетим. Тим, Тим. Пьеса в стиле вербатим. Словно жизнь, непредсказуем, Словно смерть, необратим. Тим, Тим. Мальчик в лавочке «интим». Окружён лютейшим порно И притом невозмутим.28 мая 2007 года
Отчерк
Было бельё в гусятах и поросятах – стали футболки с надписью «Fuck it all». Непонятно, что с тобой делать, ребёнок восьмидесятых. В голове у тебя металл, а во рту ментол. Всех и дел, что выпить по грамотной маргарите, и под утро прийти домой и упасть без сил. И когда орут – «ну какого черта», вы говорите – вот не дрогнув – «никто рожать меня не просил». А вот ты – фасуешь и пробиваешь слова на вынос; насыпаешь в пакет бесплатных своих неправд. И не то что не возвращаешь кредитов Богу – уходишь в минус. Наживаешь себе чудовищный овер драфт. Ты сама себе чёрный юмор – ещё смешон, но уже позорен; все ещё улыбаются, но брезгливо смыкают рты; ты всё ждёшь, что тебя отожмут из чёрных блестящих зёрен. Вынут из чёрной, душной твоей руды. И тогда все поймут; тогда прекратятся муки; и тогда наконец-то будет совсем пора. И ты сядешь клепать всё тех же – слона из мухи, много шума из всхлипа, кашу из топора. А пока все хвалят тебя, и хлопают по плечу, и суют арахис в левую руку, в правую – ром со льдом. И ты слышишь тост за себя и думаешь – Крошка Цахес. Я измученный Крошка Цахес размером с дом. Слышишь всё, как сквозь долгий обморок, кому, спячку; какая-то кривь и кось, дурнота и гнусь. Шепчешь: пару таких недель, и я точно спячу. Ещё пару недель – и я, наконец, свихнусь. Кризис времени; кризис места; болезни роста. Сладко песенка пелась, пока за горлышко не взяла. Из двух зол мне всегда достаётся просто Абсолютная, окончательная зола.«В какой-то момент…»
В какой-то момент душа становится просто горечью в подъязычье, там, в междуречье, в секундной паузе между строф. И глаза у неё всё раненые, все птичьи, не человечьи, она едет вниз по воде, как венки и свечи, и оттуда ни маяков уже, ни костров. Долго ходит кругами, раны свои врачует, по городам кочует, мычит да ног под собой не чует. Пьёт и дичает, грустной башкой качает, да все по тебе скучает, в тебе, родимом, себя не чает. Истаивает до ветошки, до тряпицы, до ноющей в горле спицы, а потом вдруг так устаёт от тебя, тупицы, что летит туда, где другие птицы, и садится – её покачивает вода. Ты бежишь за ней по болотам топким, холмам высоким, по крапиве, по дикой мяте да по осоке – только гладь в маслянистом, лунном, янтарном соке. А души у тебя и не было никогда.21 июня 2007 года
«Моё сердце тоже – горит как во тьме лучина…»
И сердце моё горячо, и уста медовы, А все-таки не заплачут обо мне мои вдовы. Барышни, имейте в виду: если затанцую перед вами весенней птахой, шлите меня бестрепетно нахуй, И я пойду. Саша Маноцков Моё сердце тоже – горит как во тьме лучина. Любознательно и наивно, как у овцы. Не то чтоб меня снедала тоска-кручина, Но, вероятно, тоже небеспричинно Обо мне не плачут мои вдовцы. Их всех, для которых я танцевала пташкой, — Легко перечесть по пальцам одной руки; Не то чтоб теперь я стала больной и тяжкой, Скорее – обычной серой пятиэтажкой, В которой живут усталые старики. Объект; никакого сходства с Кароль Буке, Летицией Кастой или одетой махой. Ни радуги в волосах, ни серьги в пупке. И если ты вдруг и впрямь соберёшься нахуй, — То мы там столкнёмся в первом же кабаке.24 июня 2007 года
«Где твоё счастье…»
Где твоё счастье, что рисует себе в блокноте в порядке бреда? Какого слушает Ллойда Уэббера, Дэйва Мэтьюса, Симпли Рэда? Что говорит, распахнув телефонный слайдер, о толстой тетке, разулыбавшейся за прилавком, о дате вылета, об отце? Кто ему отвечает на том конце? Чем запивает горчащий июньский вечер — нефильтрованным тёмным, виски с вишнёвым соком, мохито, в котором толчёный лед (обязательно чтоб шуршал как морская мокрая галька и чтоб, как она, сверкал) Что за бармен ему ополаскивает бокал? На каком языке он думает? Мучительнейший транслит? Почему ты его не слышишь, на линии скрип и скрежет, Почему даже он тебя уже здесь не держит, А только злит? Почему он не вызовет лифт к тебе на этаж, не взъерошит ладонью чёлку и не захочет остаться впредь? Почему не откупит тебя у страха, не внесёт за тебя задаток? Почему не спросит: – Тебе всегда так Сильно хочется умереть?28 июня 2007 года
Крестик
Меня любят толстые юноши около сорока, У которых пуста постель и весьма тяжела рука, Или бледные мальчики от тридцати пяти, Заплутавшие, издержавшиеся в пути: Бывшие жёны глядят у них с безымянных, на шеях у них висят. Ну или вовсе смешные дядьки под пятьдесят. Я люблю парня, которому двадцать, максимум двадцать три. Наглеца у него снаружи и сладкая мгла внутри; Он не успел огрести той женщины, что читалась бы по руке, И никто не висит у него на шее, ну кроме крестика на шнурке. Этот крестик мне бьётся в скулу, когда он сверху, и мелко крутится на лету. Он смеётся и зажимает его во рту.8 июля 2007 года
Одесса
На пляже «Ривьера» лежак стоит сорок гривен. У солнышка взгляд спокоен и неотрывен, Как у судмедэксперта или заезжего ревизора. Девушки вдоль по берегу ходят топлесс, Иногда прикрывая руками область, Наиболее лакомую для взора. Я лежу кверху брюхом, хриплая, как Тортила. Девочки пляшут, бегают, брызгаются водою — Я прикрываю айпод ладонью, Чтоб его не закоротило. Аквалангисты похожи на сгустки нефти – комбинезон-то Чёрен; дядька сидит на пирсе с лицом индейского истукана. Я тяну ледяной мохито прозрачной трубочкой из стакана И щурюсь, чтобы мальчишки не застили горизонта. Чайки летят почему-то клином и медленно растворяются в облаках. Ночью мне снится, что ты идёшь из воды на сушу И выносишь мне мою рыбью душу, Словно мёртвую женщину, на руках.10 июля 2007 года
«И тут он приваливается к оградке, грудь ходуном…»
И тут он приваливается к оградке, грудь ходуном. Ему кажется, что весь мир стоит кверху дном, А он, растопырив руки, упёрся в стенки. Он небрит, свитерок надет задом наперёд, И уже ни одно бухло его не бёрет, Хотя на коньяк он тратит большие деньги. Он стоит, и вокруг него площадь крутится, как волчок. В голове вертолётик, в кабиночке дурачок Месит мозги огромными лопастями. «Вот где, значит, Господь накрыл меня колпаком, Где-то, кажется, я читал уже о таком». И горячий ком встаёт между челюстями. «Вот как, значит, оно, башка гудит как чугун. Квартирный хозяин жлоб, а начальник лгун, Хвалит, хвалит, а самого зажимает адски; У меня есть кот, он болеет ушным клещом, А ещё я холост и некрёщен. Как-то всё кончается по-дурацки. Не поговорили с тех пор, отец на меня сердит. А ещё я выплачиваю кредит, А ещё племянник, теперь мне вровень». И тут площадь, щелчком, вращаться перестаёт. Дурачина глушит свой вертолёт. И когда под лёгкими сходит лёд — Он немного даже разочарован.18 июля 2007 года
Простая история
Хвалю тебя, говорит, родная, за быстрый ум и весёлый нрав. За то, что ни разу не помянула, где был неправ. За то, что все люди груз, а ты антиграв. Что Бог живёт в тебе, и пускай пребывает здрав. Хвалю, говорит, что не прибегаешь к бабьему шантажу, За то, что поддержишь все, что ни предложу, Что вся словно по заказу, по чертежу, И даже сейчас не ревёшь белугой, что ухожу. К такой, знаешь, тетё, всё лохмы белые по плечам. К её, стало быть, пельменям да куличам. Ворчит, ага, придирается к мелочам, Ну хоть не кропает стишки дурацкие по ночам. Я, говорит, устал до тебя расти из последних жил. Ты чемодан с деньгами – и страшно рад, и не заслужил. Вроде твоё, а всё хочешь зарыть, закутать, запрятать в мох. Такое бывает счастье, что знай ищи, где же тут подвох. А то ведь ушла бы первой, а я б не выдержал, если так. Уж лучше ты будешь светлый образ, а я мудак. Таких же ведь нету, твой механизм мне непостижим. А пока, говорит, еще по одной покурим И так тихонечко полежим.21–22 июля 2007 года
Поплакаться
Что же ты, Вера, водишься с несогретыми, Носишь их майки, пахнешь их сигаретами, Чувствуешь их под кожей зимой и летом – и Каждый памятный перелом. Что же ты всё на черные дыры заришься, На трясины, пустоши да пожарища, Там тебе самой-то себя не жаль ещё, Или, может быть, поделом? Всей и любви, что пятьсот одна ветряная мельница, И рубиться, и очень верить, что всё изменится; Настоящие девочки уезжают в свои именьица И не думают ни о ком. И читают тебя, и ты дьявольски развлекаешь их. Юбка в мелкую сборку, папеньки в управляющих, И не надо пить болеутоляющих С тёплым утренним молоком. Ну а ты кто такая, Вера? Попса плакатная, Голь перекатная, Пыль силикатная, Чья-то ухмылка неделикатная, Кривоватая, с холодком.28–30 июля 2007 года
Страшный сон
Такая ночью берёт тоска, Как будто беда близка. И стоит свет погасить в квартире — Как в город группками по четыре Заходят вражеские войска. Так ночью эти дворы пусты, Что слышно за три версты, — Чуть обнажив голубые дёсны, Рычит земля на чужих как пёс, но Сдаёт безропотно блокпосты. Как в объектив набралось песка — Действительность нерезка. Шаг – и берут на крючок, как стерлядь, И красной лазерной точкой сверлят Кусочек кожи вокруг виска. Идёшь в ларёк, просишь сигарет. И думаешь – что за бред. Ну да, безлюдно, к утру туманней, Но я же главный противник маний, Я сам себе причиняю вред. Под бок придёшь к ней, забыв стрельбу. Прильнёшь, закусив губу. Лицом к себе повернёшь – и разом В тебя уставится третьим глазом Дыра, чернеющая на лбу.4 августа 2007 года
Прямой репортаж из горячих точек
Без году неделя, мой свет, двадцать две смс назад мы ещё не спали, сорок – даже не думали, а итог – вот оно и палево, мы в опале, и слепой не видит, как мы попали и какой в груди у нас кипяток. Губы болят, потому что ты весь колючий; больше нет ни моих друзей, ни твоей жены; всякий скажет, насколько это тяжёлый случай и как сильно ткани поражены. Израильтянин и палестинец, и соль и перец, слюна горька; август-гардеробщик зажал в горсти нас, в ладони влажной, два номерка; время шальных бессонниц, дрянных гостиниц, заговорщицкого жаргона и юморка; два щенка, что, колечком свернувшись, спят на изумрудной траве, сомлев от жары уже; всё, что до – сплошные слепые пятна, я потом отрежу при монтаже. Этим всем, коль будет Господня воля, я себя на старости развлеку: вот мы не берём с собой алкоголя, чтобы всё случилось по трезвяку; между джинсами и футболкой полоска кожи, мир кренится всё больше, будто под ним домкрат; мы с тобой отчаянно непохожи, и от этого всё забавней во много крат; волосы жёстким ворсом, в постели как Мцыри с барсом, в голове бурлящий густой сироп; думай сердцем – сдохнешь счастливым старцем, будет что рассказать сыновьям за дартсом, прежде чем начнёшь собираться в гроб. Мальчик-билеты-в-последний-ряд, мальчик-что-за-роскошный-вид. Мне плевать, что там о нас говорят и кто Бога из нас гневит. Я планирую пить с тобой ром и колдрекс, строить жизнь как комикс, готовить тебе бифштекс; что до тех, для кого важнее моральный кодекс – пусть имеют вечный оральный секс. Вот же он ты – стоишь в простыне, как в тоге, и дурачишься, и куда я теперь уйду. Катапульта в райские грёбаные чертоги – специально для тех, кто будет гореть в аду.16 августа 2007 года
Что-то библейское
Вероятно, так выглядел Моисей Или, может быть, даже Ной. Разве только они не гробили пачки всей За полдня, как ты, не жгли одну за одной, Умели, чтоб Бог говорил с ними, расступалась у ног вода, Хотя не смотрели ни чёрно-белых, ни звуковых. И не спали с гойками – их тогда Не существовало как таковых.* * *
Мальчик-фондовый-рынок, треск шестерёнок, высшая математика; мальчик-калькулятор с надписью «обними меня». У августа в лёгких свистит как у конченого астматика, он лежит на земле и стынет, не поднимайте-ка, сменщик будет, пока неясно, во сколько именно. Мальчик-ýже-моей-ладони, глаза как угли и сам как Маугли; хочется парное таскать в бидоне и свежей сдобой кормить, да мало ли хочется – скажем, выкрасть, похитить, спрятать в цветах гибискуса, где-то на Карибах или Гавайях – и там валяться, и пить самбуку, и сладко тискаться в тесной хижине у воды, на высоких сваях. Что твоим голосом говорилось в чужих мобильных, пока не грянуло anno domini? Кто был главным из многих, яростных, изобильных, что были до меня? Между темноволосыми, кареглазыми, между нами – мир всегда идет золотыми осами, льётся стразами, ходит рыжими прайдами, дикими табунами. Всё кругом расплёскивается, распугивается, разбегается врассыпную; кареглазые смотрят так, что слетают пуговицы – даже с тех, кто приносит кофе; я не ревную.* * *
А отнимут – не я ли оранжерейщик боли, Все они сорта перекати-поля, Хоть кричи, Хоть ключи от себя всучи. А потребуют – ради Бога, да забирайте. Заклеймённого, копирайтом на копирайте, Поцелуями, как гравюры Или мечи.30 августа 2007 года
Письмо Косте Бузину, в соседний дом
Ты его видел, он худ, улыбчив и чернобров. Кто из нас первый слетит с резьбы, наломает дров? Кто из нас первый проснётся мёртвым, придёт к другому – повесткой, бледен и нарочит? Кто на сонное «я люблю тебя» осечётся и замолчит? Ты его видел, – он худ, графичен, молочно-бел; я летаю над ним, как вздорная Тинкер Белл. Он обнимает меня, заводит за ухо прядь – я одно только «я боюсь тебя потерять». Бог пока улыбается нам, бессовестным и неистовым; кто первый придёт к другому судебным приставом? Слепым воронком, пожилым Хароном, усталым ночным конвоем? Ну что, ребята, кого в этот раз хороним, по чью нынче душу воем? Костя, мальчики не должны длиться дольше месяца – а то ещё жить с ними, ждать, пока перебесятся, растить внутри их неточных клонов, рожать их в муках; печься об этих, потом о новых, потом о внуках. Да, это, пожалуй, правильно и естественно, разве только все ошибаются павильоном – какие внуки могут быть у героев плохого вестерна? Дайте просто служанку – сменить бельё нам. Костя, что с ними делать, когда они начинают виться в тебе, ветвиться; проводочком от микрофона – а ты певица; горной тропкой – а ты всё ищешь, как выйти к людям; метастазами – нет, не будем. Давай не будем. Костя, давай поднимем по паре, тройке, пятёрке тысяч – и махнём в Варанаси, как учит мудрый Борис Борисыч. Будем смотреть на индийских кошек, детишек, слизней – там самый воздух дезинфицирует от всех жизней, в том числе и текущей – тут были топи, там будет сад. Пара практикующих Бодхисаттв. Восстанием невооружённым – уйдём, петляя меж мин и ям; а эти все возвратятся к жёнам, блядям, наркотикам, сыновьям, и будут дымом давиться кислым, хрипеть, на секретарей крича – а мы-то нет, мы уйдем за смыслом дорогой жёлтого кирпича. Ведь смысл не в том, чтоб найти плечо, хоть чьё-то, как мы у Бога клянчим; съедать за каждым бизнес-ланчем солянку или суп-харчо, ковать покуда горячо и отвечать «не ваше дело» на вражеское «ну ты чо». Он в том, чтоб ночью, задрав башку – Вселенную проницать, вверх на сотню галактик, дальше веков на дцать. Он в том, чтобы всё звучало и шло тобой, и Бог дышал тебе в ухо, явственно, как прибой. В том, что каждый из нас запальчив, и автономен, и только сам – но священный огонь ходит между этих вот самых пальцев, едва проводишь ему по шее и волосам.7–8 сентября 2007 года
«Манипенни, твой мальчик, видно, неотвратим…»
Манипенни, твой мальчик, видно, неотвратим, словно рой осиный, Кол осиновый; город пахнет то мокрой псиной, То гнилыми арбузами; губы красятся в светло-синий Телефонной исповедью бессильной В дождь. Ты думаешь, что звучишь даже боево. Ты же просто охотник за малахитом, как у Бажова. И хотя, Манипенни, тебя учили не брать чужого — Объясняли так бестолково и так лажово, — Что ты каждого принимаешь за своего. И теперь стоишь, ждёшь, в каком же месте проснётся стыд. Он бежит к тебе через три ступени, Часто дышит от смеха, бега и нетерпенья. Только давай без глупостей, Манипенни. Целевая аудитория не простит.10 сентября 2007 года
Неправильный сонет
Мой добрый Бузин, хуже нет, Когда перестают смеяться: Так мы комический дуэт Из дурочки и тунеядца, Передвижное шапито, Массовка, творческая челядь. А так-то, в общем, – сказ про то, Как никогда не стоит делать, Коли не хочешь помереть — Не бравым командиром Щорсом, Не где-то в Киево-Печерском, В беленой келье – а под чёрствым Тулупом, что прогнил на треть, На лавке в парке, чтобы впредь Все говорили – да и чёрт с ним, В глаза стараясь не смотреть.17 сентября 2007 года
Кричалка
Буду реветь, криветь, у тебя же ведь Времени нет знакомить меня с азами. Столько рыдать – давно уже под глазами И на щеках лицо должно проржаветь. Буду дружна, нежна, у тебя жена, Детки, работа, мама, и экс-, и вице-, Столько народу против одной девицы, Даром что атлетически сложена. Буду Макс Фрай, let’s try, Айшварья Рай, Втиснулись в рай, по впискам, поддельным ксивам, Если б ещё ты не был таким красивым — Но как-то очень, – ляг да и помирай. Буду тверда, горда, у тебя всегда Есть для меня не более получаса — Те, у которых вздумало получаться, Сделались неотложными, как еда: – «Эй, беляши, горячие беляши» — Просто не перестанешь об этом думать. Просто пришла судьба и сказала – ну, мать, Вот ты теперь поди-ка Да попляши.25 сентября 2007 года
Для неровного счёта
Девятнадцатый стишок про Дзе
Тэмури – маленький инквизитор, не для того ли запаян в темя, с сетчаткой слит. Не убивает – пускает корни в височной доле, нервной системе – и муки длит. Парализует мышцы, лишает воли и гибнет с теми, кого спасти соблаговолит. Тэмури – риф-кораблекрушитель, за дальним мысом, за зеленеющим маяком. Ему наплевать, что вы ему разрешите, не разрешите — он потрошитель, он поступает со здравым смыслом, как с тем окурком – в кусты зашвыривает щелчком. Это вам при нём сразу нужен огнетушитель, дым коромыслом – а он не думает ни о ком. Тэмури – мой образок нательный, едва увидим друг друга – прыснем и окружающих развлечём. Он станет сварщиком из котельной, вселенским злом или Папой Римским, комедиографом, силачом — И мы даже выберем день отдельный, и под мартини поговорим с ним, о том, что любим друг друга зверски — но вновь получится ни о чём.27–28 сентября 2007 года
Сёстры
любовь и надежда ходят поодиночке, как будто они не одной мамы дочки, как будто не сёстры вере, и в каждой строчке вера шифрует для них: я тут! но они не читают (глаза закрыты) и, несмотря на твои заметные габариты, вера, они же не видят тебя, и не дури ты — они нескоро тебя найдут. вера говорит, шевеля ноздрями, ходит с нами, как человек со зверями, как не съеденный ещё капитан кук с дикарями, в смутном предчувствии злой судьбы; вряд ли найдётся имя бездонней, она наяву с нами, а не на иконе, и мы тянем к жару её ладоней низенькие свои мохнатые лбы Саша Маноцков Чем полны их глазницы – пороха ли, песка ли? Любовь и Надежда умнее Малдера или Скалли: Они никогда меня не искали — К ним нужно долго идти самой. Я старшая дочь, с меня спросят гораздо строже. Нас разлучили в детстве, но мы похожи: Папа взял три отреза змеиной кожи И сотворил нас на день седьмой. Они, как и я, наделали много дряни, Дурачатся, говорят, шевеля ноздрями, Но сестры слепы, а я вот зря не: Все время видеть – мой главный долг. А им не ведать таких бессонниц, красот, горячек, Которыми, как железом, пытают зрячих — Папа проектировщик, а я подрядчик. Три поросёнка – и Серый Волк.1 октября 2007 года
Эрзац
Ну нет, чтоб всерьёз воздействовать на умы – мой личный неповоротлив и скуден донельзя; я продавец рифмованной шаурмы, работник семиотического МакДональдса; сорока-воровка, что тащит себе в стишок любое строфогеничное барахло, и вечно – «дружок, любезный мой пастушок, как славно всё было, как больно, что всё прошло». Не куплетист для свадеб и дней рождений, но и не тот, кто уже пересёк межу; как вера любая, ищу себе подтверждений, вот так – нахожу, но чаще не нахожу. Конструктор колядок, заговоров, уловок – у снобов невольно дёргается ноздря; но каждому дню придумывать заголовок – появится чувство, будто живёшь не зря. Я осточертёжник в митенках – худ и зябок, с огромным таким планшетом переносным. Я жалобщик при Судье, не берущем взяток, судебными исполнителями тесним. Я тот, кто всё время хнычет: «Со мной нельзя так» – но ясно, что невозможно иначе с ним. А что до амбиций – то эти меня сожрут. Они не дают мне жить – чтоб не привыкала. Надо закончить скорбный сизифов труд, взять сто уроков правильного вокала, приобрести себе шестиструнный бас. Жизнь всегда поощряла таких строптивых: к старости я буду петь на корпоративах мебельных фабрик и продуктовых баз. Начинается тем, что нянькаешься с мерзавцами – и пишешь в тетрадку что-то, и нос не суйте; кончается же надписанными эрзаца ми – и, в общем-то, не меняет при этом сути. Мой мощный потенциал, в чем бы ни был выражен, – беспомощен. Эта мысль меня доканала. (Хотя эту фразу мы, если надо вырежем – святое, для федерального-то канала.)12 октября 2007 года
Бытопись
И если летом она казалась царевна Лыбедь, То к осени оказалась царевна-блядь — И дни эти вот, как зубы, что легче выбить, Чем исправлять. Бывший после случайного секса-по-старой-памяти Берёт ее джинсы, идя открывать незваному визитёру. Те же стаканы в мойке, и майки в стирке, и потолки. И уголки у губ, и между губами те же самые кольца дыма; она надевает его, и они ей впору. А раньше были бы велики. Старая стала: происходящее всё отдельнее и чужей. Того и гляди, начнёт допиваться до искажений, до миражей, до несвоих мужей, До дьявольских чертежей. Всё одна плотва: то угрюмый псих, то унылый хлюпик. В кои-то веки она совсем никого не любит, Представляя собою актовый зал, где погашен свет. Воплощая Мёртвое море, если короткой фразой — Столько солей, минералов, грязей — А жизни нет. Ну, какое-то неприкаянное тире Вместо стрелочки направленья, куда идти, да. Хорошая мина при этой её игре Тянет примерно на килограмм пластида, Будит тяжкие думы в маме и сослуживцах. Осень как выход с аттракциона, как долгий спад. Когда-то-главный приходит с кухни в любимых джинсах И ложится обратно спать.22 октября 2007 года
Only Silence Remains
Да не о чем плакать, Бога-то не гневи. Не дохнешь – живи, не можешь – сиди язви. Та смотрит фэшн-тиви, этот носит серьгу в брови, — У тебя два куба тишины в крови. Не так чтобы ад – но минималистский холод и неуют. Слова поспевают, краснеют, трескаются, гниют; То ангелы смолкнут, то камни возопиют — А ты видишь город, выставленный на mute. И если кто-то тебя любил – значит, не берёг, Значит, ты ему слово, он тебе – поперёк; В правом ящике пузырёк, в пузырьке зверёк, За секунду перегрызающий провода. Раз – и звук отойдёт, вроде околоплодных вод, Обнажив в голове пустой, запылённый сквот, Ты же самый красноречивый экскурсовод По местам своего боевого бесславия – ну и вот: Гильзы, Редкая хроника, Ломаная слюда.31 октября 2007 года
В кафе
Он глядит на неё, скребёт на щеке щетину, покуда несут соте. «Ангел, не обжившийся в собственной красоте. Ладно фотографировать – по-хорошему, надо красками, на холсте. Если Господь решил меня погубить – то Он, как обычно, на высоте». Он грызёт вокруг пальца кожу, изводясь в ожидании виски и овощей. «Мне сорок один, ей семнадцать, она ребёнок, а я кащей. Сколько надо ей будет туфель, коротких юбочек и плащей; Сколько будет вокруг неё молодых хлыщей; Что ты, кретин, затеял, не понимаешь простых вещей?» Она ждёт свой шейк и глядит на пряжку его ремня. «Даже больно не было, правда, кровь потом шла два дня. Такой вроде взрослый – а пятка детская прямо, узенькая ступня. Я хочу целоваться, вот интересно, он еще сердится на меня?» За обедом проходит час, а за ним другой. Она медленно гладит его лодыжку своей ногой.4 ноября 2007 года
Колыбельная
А ты спи-усни, моё сердце, давай-ка, иди ровнее, прохожих не окликай. Не толкай меня что есть силы, не отвлекай, ты давай к хорошему привыкай. И если что-то в тебе жило, а теперь вот ноет – оно пускай; где теперь маленький мальчик Мук, как там маленький мальчик Кай – то уже совсем не твои дела. Ай как раньше да всё алмазы слетали с губ, ты всё делало скок-поскок; а теперь язык стал неповоротлив, тяжёл и скуп, словно состоит из железных скоб. И на месте сердца узи видит полый куб, и кромешную тишину слышит стетоскоп. Мук теперь падишах, Каю девочка первенца родила. Мы-то раньше тонули, плавились в этом хмеле, росли любовными сомелье; всё могли, всем кругом прекословить смели, так хорошо хохотать умели, что было слышно за двадцать лье; певчие дети, все закадычные пустомели, мели-емели, в густом загаре, в одном белье – и засели в гнилье, и зеваем – аж шире рта. И никто не узнает, как всё это шкворчит и вьется внутри, ужом на сковороде. Рвётся указательным по витрине, да зубочисткой по барной стойке, не важно, вилами по воде; рассыпается корианд ром, пшеничным, тминным зерном в ворде, — Мук, как водится, весь в труде, Кай давно не верит подобной белиберде. У тебя в электрокардиограмме одна сплошная, Да, разделительная черта.16 ноября 2007 года
«Ну и что, у Борис Борисыча тоже…»
Ну и что, у Борис Борисыча тоже много похожих песен. И от этого он нисколько не потерял. Он не стал от этого пуст и пресен, Но остался важен и интересен, Сколько б сам себя же ни повторял — К счастью, благодарный материал. Есть мотивы, которые не заезжены – но сквозны. Логотип служит узнаваемости конторы. Они, в общем, как подпись, эти само повторы. Как единый дизайн банкноты ддля всей казны — Он не отменяет ценности наших денег и новизны. Чтоб нащупать другую форму, надо исчерпать текущую до конца. Изучить все её возможности, дверцы, донца. Вместо умца-умца начать делать онца-онца. Или вовсе удариться в эпатажное гоп-ца-ца.* * *
Над рекой стоит туман. Мглиста ночь осенняя. Графоман я, графоман. Нету мне спасения.17 ноября 2007 года
Точки над «i»
Нет, мы борзые больно – не в Южный Гоа, так под арест. Впрочем, кажется, нас минует и эта участь — Я надеюсь на собственную везучесть, Костя носит в ухе мальтийский крест. У меня есть чёрная нелинованная тетрадь. Я болею и месяцами лечу простуду. Я тебя люблю и до смерти буду И не вижу смысла про это врать. По уму – когда принтер выдаст последний лист, Надо скомкать все предыдущие да и сжечь их — Это лучше, чем издавать, я дурной сюжетчик. Правда, достоверный диалогист. Мы неокончательны, нам ногами болтать, висеть, Словно Бог ещё не придумал, куда девать нас. Всё, что есть у нас – наша чёртова адекватность И большой, торжественный выход в сеть. У меня есть мама и кот, и это моя семья. Мама – женщина царской масти, бесценной, редкой. Ну а тем, кто кличет меня зарвавшейся малолеткой — Господь судья.19 ноября 2007 года
Каравай, каравай
Как на Верины именины Испекли мы тишины. Вот такой нижины, Вот такой вышины. И легла кругом пустыня Вместо матушки-Москвы. Вот такой белизны, Вот такой синевы. И над нею, как знамена, Облака водружены. Вот такой ширины, Вот такой ужины. А все верины печали Подо льдом погребены, Вот такой немоты, Вот такой глубины. «В том, что с некоторой правдой Жить совсем не можешь ты, — Нет ни божьей вины, Ни твоей правоты».22 ноября 2007 года
Продлёнка
И когда она говорит себе, что полгода живет без драм, Что худеет в неделю на килограмм, Что много бегает по утрам и летает по вечерам, И страсть как идёт незапамятным этим юбкам и свитерам, Голос пеняет ей: «Маша, ты же мне обещала. Квартира давно описана, ты её дочери завещала. Они завтра приедут, а тут им ни холодка, ни пыли, И даже ещё конфорочки не остыли. Сядут помянуть, коньячок конфеткою заедая, А ты смеёшься, как молодая. Тебе же и так перед ними всегда неловко. У тебя на носу новое зачатие, вообще-то, детсад, нулёвка. Маша, ну хорош дурака валять Нам еще тебя переоформлять». Маша идёт к шкафам, вздыхая нетяжело. Продевает руку свою В крыло.28 ноября 2007
«Или, к примеру…»
Или, к примеру, стоял какой-нибудь поздний август, и вы уже Выпивали на каждого граммов двести, — Костя, Оленька, Бритиш, и вы вдвоём. Если он играл, скажем, на тринадцатом этаже — То было слышно уже в подъезде, Причем не его даже, а твоём. Что-то есть в этих мальчиках с хриплыми голосами, дрянными басами да глянцевитыми волосами, — Такие приходят сами, уходят сами, В промежутке делаются твоей Самой большой любовью за всю историю наблюдений. Лето по миллиметру, как муравей, Сдает границы своих владений. А он, значит, конкистадурень, так жизнерадостен и рисков, Что кто ни посмотрит – сразу благоговейно. Режет медиаторы из своих недействительных пропусков, И зубы всегда лиловые от портвейна. Излученье от вас такое – любой монитор рябит. Прохожий губу кусает, рукавчики теребит. Молодой Ник Кейв, юный распиздяистый Санта Клаус, — «Знать, труба позвала нас, судьба свела нас, Как хороший диджей, бит в бит». И поёте вы, словно дикторы внеземных теленовостей, Которых земляне слушают, рты раззявив. Когда осенью он исчезнет, ты станешь сквотом: полно гостей, Но – совсем никаких хозяев.* * *
И пройдёт пять лет, ты войдёшь в свой зенит едва. Голос тот же, но петь вот как-то уже не тянет. У тебя ротвейлер и муж-нефтяник. У него – бодрящаяся вдова. Тебе нужно плитки под старину и всю кухню в тон. Разговор было завязался на эту тему, но скоро замер. «У вас есть какой-нибудь там дизайнер?» И приедет, понятно, он. Ну ты посидишь перед ним, покуришь, как мел, бела. Та же харизма, хриплость и бронебойность. Он нарисует тебе макет и предложит бонус, Скажет: «Ну ты красавица». Бог берёт на слабо нас. Никаких больше игр в разбойников и разбойниц. Ну, проводишь до лифта. Ну, до подъезда. Ну, до угла. У нефтяника кухня, в общем, так и останется, как была.3 декабря 2007
Хью
Старый Хью жил недалеко от того утеса, на Котором маяк – как звёздочка на плече. И лицо его было словно ветрами тёсано. И морщины на нём – как трещины в кирпиче. «Позовите Хью! – говорил народ, – Пусть сыграет соло на Гармошке губной и песен споёт своих». Когда Хью играл – то во рту становилось солоно, Будто океан накрыл тебя – и притих. На галлон было в Хью пирата, полпинты ещё – индейца, Он был мудр и нетороплив, словно крокодил. Хью совсем не боялся смерти, а все твердили: «И не надейся. От неё даже самый смелый не уходил». У старого Хью был пёс, его звали Джим. Его знал каждый дворник; кормила каждая продавщица. Хью говорил ему: «Если смерть к нам и постучится — Мы через окно от неё сбежим». И однажды Хью сидел на крыльце, спокоен и деловит, Набивал себе трубку (индейцы такое любят). И пришла к нему женщина в капюшоне, вздохнула: «Хьюберт. У тебя ужасно усталый вид. У меня есть Босс, Он меня и прислал сюда. Он и Сын Его, славный малый, весь как с обложки. Может, ты поиграешь им на губной гармошке? Они очень радуются всегда». Хью всё понял, молчал да трубку курил свою. Щурился, улыбался неудержимо. «Только вот мне не с кем оставить Джима. К вам с собакой пустят?» – Конечно, Хью. Дни идут, словно лисы, тайной своей тропой. В своём сказочном направленьи непостижимом. Хью играет на облаке, свесив ноги, в обнимку с Джимом. Если вдруг услышишь в ночи – подпой.6 декабря 2007 года
Всё могут короли
Поднимается утром, берёт халат, садится перед трюмо. Подставляет шею под бриллиантовое ярмо. Смотрит на себя, как на окончательное дерьмо. «Королева Элизабет, что у тебя с лицом? Поздравляю, ты выглядишь нарумяненным мертвецом. Чтоб тебя не пугаться, следует быть дебилом или слепцом. Лиз, ты механический, заводной августейший прах». В резиденции потолки по шесть метров и эхо – ну как горах. Королеве ищут такую пудру, какой замазывался бы страх. «Что я решаю, кому моя жертва была нужна? Мне пять пенсов рекомендованная цена. Сама не жила, родила несчастного пацана, Тот наплодил своих, и они теперь тоже вот – привыкают. Прекрасен родной язык, но две фразы только и привлекают: Shut the fuck up, your Majesty, Get the fuck out. Лиз приносят любимый хлеб и холодное молоко. «Вспышки, первые полосы, «королеве платьице велико». Такой тон у них, будто мне что-то в жизни далось легко. А мне ни черта, Ни черта не далось легко. Либо кривятся, либо туфли ползут облизывать, Жди в гримёрке, пока на сцену тебя не вызовут, Queen Elizabeth, Queen Elizabeth, Принимай высоких своих гостей, Избегай страстей, Но раз в год светись в специальном выпуске новостей. Чем тебе спокойнее и пустей, Тем стабильнее показатели биржевые. Ты символизируешь нам страну и ее закон». Королева выходит медленно на балкон, Говорит «С Рождеством, дорогой мой народ Британии,» как и водится испокон, И глаза её улыбаются. Как живые.10 декабря 2007 года
Катя
Поэма
Катя пашет неделю между холёных баб, до сведённых скул. В пятницу вечером Катя приходит в паб и садится на барный стул. Катя просит себе еды и два шота виски по пятьдесят. Катя чернее сковороды и глядит вокруг, как живой наждак, держит шею при этом так, как будто на ней висят. Рослый бармен с серьгой ремесло свое знает чётко и улыбается ей хитро. У Кати в бокале сироп, и водка, и долька лайма, и куантро. Не хмелеет; внутри коротит проводка, дыра размером со всё нутро. Катя вспоминает, как это тесно, смешно и дико, когда ты кем-то любим. Вот же время было, теперь, гляди-ка, ты одинока, как Белый Бим. Одинока так, что и выпить не с кем, уж ладно поговорить о будущем и былом. Одинока страшным, обидным, детским – отцовским гневом, пустым углом. В бокале у Кати текила, сироп и фреш. В брюшине с монету брешь. В самом деле, не хочешь, деточка – так не ешь. Раз ты терпишь весь этот гнусный тупой галдёж – значит, всё же чего-то ждёшь. Что ты хочешь – благую весть и на ёлку влезть? Катя мнит себя Клинтом Иствудом как он есть. Катя щурится и поводит плечами в такт, адекватна, если не весела. Катя в дугу пьяна, и да будет вовеки так, Кате хуйня война – она, в общем, почти цела. У Кати дома бутылка рома, на всякий случай, а в подкладке пальто чумовой гашиш. Ты, Господь, если не задушишь – так рассмешишь.* * *
У Кати в метро звонит телефон, выскакивает из рук, падает на юбку. Катя видит, что это мама, но совсем ничего не слышит, бросает трубку.* * *
Катя толкает дверь, ту, где написано «Выход в город». Климат ночью к ней погрубел. Город до поролона вспорот, весь жёлт и бел. Фейерверк с петардами, канонада; рядом с Катей тётка идёт в боа. Мама снова звонит, ну чего ей надо, «Ма, чего тебе надо, а?». Катя даже вздрагивает невольно, словно кто-то с силой стукнул по батарее: «Я сломала руку. Мне очень больно. Приезжай, пожалуйста, поскорее». Так и холодеет шалая голова. «Я сейчас приду, сама тебя отвезу». Катя в восемь секунд трезва, у неё ни в одном глазу. Катя думает – вот те, милая, поделом. Кате страшно, что там за перелом. Мама сидит на диване и держит лёд на руке, рыдает. У мамы уже зуб на зуб не попадает. Катя мечется по квартире, словно над нею заносят кнут. Скорая в дверь звонит через двадцать и пять минут. Что-то колет, оно не действует, хоть убей. Сердце бьётся в Кате, как пойманный воробей. Ночью в московской травме всё благоденствие да покой. Парень с разбитым носом, да шоферюга с вывернутой ногой. Тяжёлого привезли, потасовка в баре, пять ножевых. Вдоль каждой стенки ещё по паре покоцанных, но живых. Ходят медбратья хмурые, из мглы и обратно в мглу. Тряпки, от крови бурые, скомканные, в углу. Безмолвный таджик водит грязной шваброй, мужик на каталке лежит, мечтает. Мама от боли плачет и причитает. Рыхлый бычара в одних трусах, грозный, как Командор, из операционной ломится в коридор. Садится на лавку, и кровь с него льётся, как пот в июле. Просит друга Коляна при нём дозвониться Юле. А иначе он зашиваться-то не пойдёт. Вот ведь долбаный идиот. Все тянут его назад, а он их расшвыривает, зараза. Врач говорит – да чего я сделаю, он же здоровее меня в три раза. Вокруг него санитары и доктора маячат. Мама плачет. Толстый весь раскроен, как решето. Мама всхлипывает «за что мне это, за что». Надо было маму везти в ЦИТО. Прибегут, кивнут, убегут опять. Катя хочет спать. Смуглый восточный мальчик, литой, красивый, перебинтованный у плеча. Руку баюкает словно сына, и чья-то пьяная баба скачет, как саранча. Катя кульком сидит на кушетке, по куртке пальчиками стуча. К пяти утра сонный айболит накладывает лангеты, рисует справку и ценные указания отдаёт. Мама плакать перестаёт. Загипсована правая до плеча и большой на другой руке. Мама выглядит, как в мудацком боевике. Катя едет домой в такси, челюстями стиснутыми скрипя. Ей не жалко ни маму, ни толстого, ни себя.* * *
«Я усталый робот, дырявый бак. Надо быть героем, а я слабак. У меня сел голос, повыбит мех, и я не хочу быть сильнее всех. Не боец, когтями не снабжена. Я простая баба, ничья жена». Мама ходит в лангетах, ревёт над кружкой, которую сложно взять. Был бы кто-нибудь хоть – домработница или зять.* * *
И Господь подумал: «Что-то Катька моя плоха. Сделалась суха, ко всему глуха. Хоть бывает Катька моя лиха, но большого нету за ней греха. Я не лотерея, чтобы дарить айпод или там монитор ЖК. Даже вот мужика – днём с огнём не найдёшь для неё хорошего мужика. Но Я не садист, чтобы вечно вспахивать ей дорогу, как пулемёт. Катерина моя не дура. Она поймёт». Катя просыпается, солнце комнату наполняет, она парит, как аэростат. Катя внезапно знает, что если хочется быть счастливой – пора бы стать. Катя знает, что в ней и в маме – одна и та же живая нить. То, что она стареет, нельзя исправить, – но взять, обдумать и извинить. Через пару недель маме вновь у доктора отмечаться, ей лангеты срежут с обеих рук. Катя дозванивается до собственного начальства, через пару часов билеты берёт на юг. …Катя лежит с двенадцати до шести, слушает, как прибой набежал на камни – и отбежал. Катю кто-то мусолил в потной своей горсти, а теперь вдруг взял и кулак разжал. Катя разглядывает южан, плещется в лазури и синеве, смотрит на закаты и на огонь. Катю медленно гладит по голове мамина разбинтованная ладонь. Катя думает – я, наверное, не одна, я зачем-то ещё нужна. Там, где было так страшно, вдруг воцаряется совершенная тишина.26 ноября 2007 года
Счастье
На страдание мне не осталось времени никакого. Надо говорить толково, писать толково Про Турецкого, Гороховского, Кабакова И учиться, фотографируя и глазея. Различать пестроту и цветность, песок и охру. Где-то хохотну, где-то выдохну или охну, Вероятно, когда я вдруг коротну и сдохну, Меня втиснут в зелёный зал моего музея. Пусть мне нечего сообщить этим стенам – им есть Что поведать через меня; и, пожалуй, минус Этой страстной любви к работе в том, что взаимность Съест меня целиком, поскольку тоталитарна. Да, сдавай ей и норму, и все избытки, и все излишки, А мне надо давать концерты и делать книжки, И на каждой улице по мальчишке, Пропадающему бездарно. Что до стихов – дело пахнет чем-то алкоголическим. Я себя угроблю таким количеством, То-то праздник будет отдельным личностям, Возмущённым моим расшатываньем основ. – Что ж вам слышно там, на такой-то кошмарной громкости? Где ж в вас место для этой хрупкости, этой ломкости? И куда вы сдаёте пустые емкости Из-под всех этих крепких слов? То, что это зависимость – вряд ли большая новость. Ни отсутствие интернета, ни труд, ни совесть Не излечат от жажды – до всякой рифмы, то есть Ты жадна, как бешеная волчица. Тот, кто вмазался раз, приходит за новой дозой. Первый ряд глядит на меня с угрозой. Что до прозы – я не умею прозой, Правда, скоро думаю научиться. Предостереженья «ты плохо кончишь» – сплошь клоунада. Я умею жить что в торнадо, что без торнадо. Не насильственной смерти бояться надо, А насильственной жизни – оно страшнее. Потому что счастья не заработаешь, как ни майся, Потому что счастье – тамтам ямайца, Счастье, не ломайся во мне, Вздымайся, Не унимайся, Разве выживу в этой дьявольской тишине я; Потому что счастье не интервал – кварта, квинта, секста, Не зависит от места бегства, состава теста, Счастье – это когда запнулся в начале текста, А тебе подсказывают из зала. Это про дочь подруги сказать «одна из моих племянниц», Это «пойду домой», а все вдруг нахмурились и замялись, Приобнимешь мальчика – а у него румянец, Скажешь «проводи до лифта» – а провожают аж до вокзала. И не хочется спорить, поскольку всё уже Доказала.15 декабря 2007 года
Примечания
1
Иосиф Бродский «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…»
(обратно)



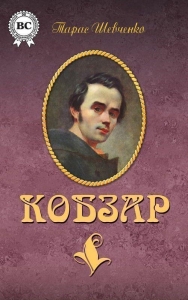




Комментарии к книге «Непоэмание», Вера Николаевна Полозкова
Всего 0 комментариев