Анатолий Найман Экстерриториальность
Свой мир
«Быть под знаком, под дланью, под властью…»
Быть под знаком, под дланью, под властью незнакомца, который один учит жизни как хрупкому счастью, но велит себя звать господин, о, я за! Я-то за! Да и кто же против?.. Кроме него одного — в истонченной носящего коже золотое мое вещество. Рад служить – но плениться нельзя им до конца как возлюбленным. Рад жизнь отдать ему, но не хозяин ей, а раб я. Так может ли раб? Грош цена мне – но что ж с недоверья начинать и, вспоров в Рождество, выпускать из подушек, как перья, неземное мое существо?«О каллиграфии и кляксах…»
О каллиграфии и кляксах ни-ни – ле неж д’антан. Молю, преподавайте в младших классах мой почерк. Стиль. Судьбу мою. Чертите детям сетку линий, написанную на роду как клинопись лучей и ливней руки, сходящихся в звезду. В ней есть узор, а что извивы от точки А до точки Б сложны, то это танец Шивы, напечатленный на судьбе. Все дело в правильном наклоне пера и глаза, на ходу оставивших намек в ладони татуировкой на роду.«Жму на клавишу и на педаль…»
Жму на клавишу и на педаль ну стони, фисгармония! Отвращенье мое передай к торжеству беззакония, а точней, к торжеству хоть чего, хоть неведомой сущности. Что за рабский восторг, что число отчуждает от штучности! В современный надрыв и напряг свой скулеж под ударами перекачивай с помощью тяг, сколь бы ни были старыми. Потому что и музыка сфер без тебя, фисгармония, не аккорд пустоты, а обмер. Барабан. Церемония.«Траурным шарфом клетка обвита…»
Траурным шарфом клетка обвита, спит канарейка, полночь в кавычках. Несправедливо, fuga et vita, жизнь, убегая, время ей вычла. Ведь и всего-то петь ничего ей, даже у моря в климате жарком — что ж ты, хозяин, собственной волей свист ее душишь шелковым шарфом. Участь и так уж пленной испанки меньше пропета, больше забыта — не досаждай ей в стужу, по пьянке, жизнь, убегая, fuga et vita.Самоубийство сумасшедшего
Всмотрись внимательно в того, кто наконец уходит. Как зайчик солнечный сверкнул, как ласочка и рысь. Не клянчил больше, да и что – дадут часочек, годик. Кто, улыбнувшись, подмигнул, и был таков – всмотрись. Он прав. Не говорите мне, что Бог им недоволен — им, ужасавшимся, что скат карнизов тянет вниз, что петлями ложится звон на землю с колоколен, — и сам, зажав в губах язык, как колокол, повис. На лишний вздох, на лишний миг, на лишний полдень жадным нам – он, дивясь, передает лицом, что быть в гробу небоязно, да и пора когда-то, если ангел давным-давно раз навсегда остановил судьбу.«Какую роскошную панихиду…»
Какую роскошную панихиду поют межсезонные менестрели, когда каждой твари по паре и виду их вдруг под окном соберется в апреле: по снегу небесному, гревшему землю, по углям, погаснувшим в печке, по дыму, по пеплу Помпеи, по сгнившему стеблю поют: упокой, кто ты есть, эту зиму. Из клюва взорвавшейся почки Везувий струну одуряет дымком поцелуя, у певчих затем и застрявшую в клюве, чтоб «памяти вечной» звенеть «аллилуйа». Еще бы денек к тридцати – и на пляску свернуло, какая не снилась Давиду. И так уже слишком похоже на Пасху, и слез не хватает допеть панихиду.«Скажите хоть, кто умер-то?…»
Скажите хоть, кто умер-то? Никто, мой милый. Просто пригрезилось под Шуберта, под опус 90. Не то чтоб это реквием, нет, скворушьи экспромты, пока мы кукарекаем, что, дескать, все умрем-то. Но переходит струнная брань с магией всевластной, ненужная, безумная, в гипноз четырехчастный. И тем, кто лепет и полет, сведенный к венской смете, с цикутой соль-минорной пьет, не обойтись без смерти.Джаз на радио «Свобода»
Играя, Чарли для себя мнет контрабас, а не для публики, а даже если и на запись спускает струны, как курок, он это делает сопя, сводя в одно, как беби кубики, самой мелодии на зависть, и спит за пазухой сурок. У ритма есть своя стезя, он ищет одобренья общества постольку лишь, чтоб дали ужин и на ночь черный алкоголь, и, деку тонкую тузя, негр должен притворяться дюжим, пока на кухне тушат овощи, кайенский перец и фасоль. Звук будет короток и туп, как ни елозь ладонь по струнам. Подумаешь, какие барыни — бычачьи жилы, медный нерв! Выстраивает трио куб, а не квадрат, дымя сигарами, и негру быть не нужно умным, когда играет соло негр. Эй, Боб, эй, Билл, под утро стейк с какой такой отбили дури вы? Светает – туш! Уж лампы тушат. Потек луизианский зной. Рассвет – и никого из тех, со мной смолил кто это курево, из тех, со мной кто это слушал перед последней тишиной.«Что за блаженство – у окна…»
Что за блаженство – у окна сидеть, когда за ним луна, принадлежащая ландшафтам, какие ты назначишь сам, и в то же время небесам, тьме, вакууму, астронавтам. Взять хоть из сна сосновый бор в фольге из жухлых серебёр в час, как и череп твой стал жухлым, а все равно и за версту поблескивал, как бы в поту, подобно статуям и куклам. А сон-то, он ведь был про зной, но изливаемый луной, пустой, как замок, и прохладной, куда попасть найдет манёвр любой, кто жил. Кто жил – и мертв. Измучившийся. Ненаглядный.Détroit
Для тебя, лежащего в палате, но не отдающего концы, виснут синусоидой в закате поперек всего окна скворцы. А еще садятся и взлетают за лесочком, где аэродром, точно по прямой и не плутают пчелы с механическим нутром. Это сердце маленькое в роли всадника и лошади труда, стершееся до зубцов в короне на руках внесло тебя сюда. Вот и все. И этого довольно. Что вы нас пытаете, мсье де ла Мот, про то, что сердцу больно? Маленькому сердцу больно все.Госпиталь
А.Ш., D.G.
1
Где зима начинается в декабре на пустом – только дуб и рябина – дворе с белками, от дупла до дупла скачущими, как ртуть, моя кровь стежками из-за угла проложила по снегу путь. Это было в госпитале Сент-Джон. Группы чаек, синиц, снегирей, ворон. Хочешь не хочешь, едешь верхом вдоль подернутых тонким ледком глубин, и не очень трудно взобраться на холм, когда в норме гемоглобин. Это было на озере Клары Святой — голый дуб да рябина, да дворик пустой. И я чаще не тем, с кем съедал обед, а с кем прежде ел, но чье время прошло, просыпаясь твердил при встречах привет. И мне было с ними тепло. И скакала кровь, как рябины дробь, и опять попадала не в глаз, а в бровь, и хоть день и ночь говори я им привет и имя: привет, имена! — на уме оставалась Мария одна, и не знал я, что за Мария.2
В окно хирургии, горстями в стекло и, как на молебне, с размаху окрест кропильницы и себя самого одними ударными, сухо оркестр в бесчисленный раз репетирует соч. для шума соломы и пороха туч, и ритм их, без сна оставляющий ночь, смешно сказать, не текуч, а тягуч. Дождь льет до утра, и с ним до утра с одним, потому что один он шустр, кокетничает за пультом сестра, чья очередь в списке ночных дежурств. И птичкам и прочеркам в клетках графы бубнит, отбывая часы, санитар: – В какую струну ни затягивай швы, смешно выздоравливать, когда стар.«Вздорное, только вздорное…»
Вздорное, только вздорное пробирается в сны. Но внутри его черное пламя ночной вины. Из него-то и множатся, чуть поглубже спустись, скалящиеся рожицы, и никак не спастись — ибо и ты, бессонница, жжешь аутодафе. Видишь, куда все клонится, сдайся на ночь, на две. Жизнь субстанция нервная — верно. Но ведь не вся. Есть же еще резервная у нее полоса. Тех, в какие закутались бабочки до весны, дай мне одну из путаниц размотать не на сны. Кануть дай от усталости просто в ночь, в никуда. Но пусть дрожит – пожалуйста — там хоть одна звезда.Кусты
1
Еще из жизни прежней следят за мной глаза, а я уже нездешний, прозрачная лоза. Меня возводит в степень созвездий – и в костер ботвы кладет, как стебель, ночной смятенный двор. Туннель прута безбытен, суха внутри струя — признайтесь, что невиден вам даже тенью я. Тогда и я, хоть слов нет, скажу, что воспален зрачок мой, как шиповник, шиповник, мой шпион. Шиповник вне сезона, вне замысла и чувств, в твой короб, Персефона, зерно стряхнувший куст — чей корень рвет мне сердце, как пурпурный шифон, к потусторонней дверце приколотый шипом.2
Куст, изгибы судьбы, как Минотавр и Минюст, выводящий в шипы, больше не куст, а Пруст. Сгинул лес, где его дядя Том как фантом окружающего звал, пугаясь, кустом. То, как, дрожью пронзен, прыскал он кровь и тряс белый прах в чернозем, было не битвой рас, а франтовской примеркой слов корневого гнезда, скрытого бутоньеркой аристократа-куста.«После северозападного, ночью вывшего «у!»…»
После северозападного, ночью вывшего «у!», стало бело и ровно и, так сказать, красиво. Но все равно летунью, севшую на метлу, утром еще, как пьяную, боком к метро сносило. В городе снежная буря – развлеченье, эффект. Фары и в окнах свет тут компаньоны плохие, как для небесного пламени – тусклые догмы сект. Что тебе люки, снег? Что вам асфальт, стихии? Только и радость, что ночь, только пурге и надежд, что балдахин, обрушивающий кружево паутины: белые вспышки хлопьев – и слепота промеж, как экран за мгновение до начала картины. Что ж это нам показывали? То ли, как хороши стены цивилизации? То ли, как плющат сушу кости воды и воздуха? То ли, что у души у мировой есть способы сплачивать наши души.«Здесь кукушка из лесу благовестит…»
Здесь кукушка из лесу благовестит, дескать, вот, пощусь и тащусь. И глотает гусеница пестицид, от себя, мол, сама лечусь. Это в городе пьют с карамелью чай, но пути туда топь да гать, топь да гать километров тыща, считай, не видать отсель, не слыхать. Это там телевизорный есть король, на все руки мастак-мудрец. А у нас он ноль, босота и голь, на дырявой дуде игрец. А ведь мы уж не то чтоб совсем куку, не шаляй-валяй – ведь у нас жмудь-страна приснилась раз мужику и не Шауляй – Каунас! И хоть наша кровь не из тех европ, а сама собой по себе, но на вкус и запах она – укроп, истолченный с солью к зиме. Да не с той, что под веки сует себя, солью зренья. А с той, что с век вдруг слетает на теплую пыль, шипя, как сухой не вовремя снег.Ars poetica
Ю.К.
Исторгни тост не тост Из говорения: – За безответственность Стихотворения! За звук, не в очередь На штамп ко вкладышу, Не чтобы речь тереть, Упавший на душу. Не за в морщинах лоб И палец к темени — За вереницу слов Без роду-племени. За все, что числится Как безыдейное — Пей за бессмыслицу, Возню постельную, Бузу базарную… За непохожее На жизнь! Чтоб шарм ее Почуять кожею.«Что-то глаз и ухо дразнит…»
Что-то глаз и ухо дразнит, мелко-мелко мельтеша: дескать, глория сик транзит, — и давай кряхтеть душа. Как в котле у юной ведьмы, вскиснувшее вещество: не иметь бы, не иметь бы, не иметь бы ничего. Ни готовить тайной встречи, ни шутя орехи грызть, ни роскошествовать в речи, ни сосчитывать корысть. …А куда же ты глядела, когда девочкой была? Для чего искала дела и узор, как сеть, плела? Вот и колет твой же острым плавником тебя улов. Щиплет йод. Не пир, не постриг жизнь. Не память. Жизнь из слов.На Волге
Волна набегает, и берег давай говорить — о веслах, винтах, парусах и канатных паромах. Она отвечает, но речи потеряна нить. Доносится лишь: – Я не дура. – Я тоже не промах. И было б забавно взаимное их хвастовство, не бейся там сдавленный всхлип и мольба. Опозданье — от века в ней свойство натуры, тогда как его натуры ядро – неназначенных встреч ожиданье. Лаская губу ль его заячью, волчью ли пасть, щекочет она изъязвленное ею же нёбо. И чья, непонятно, в их кашле натуга, чья власть. И кто задохнулся, она или он? Или оба?«Коровки божьей, жука и мухи…»
Коровки божьей, жука и мухи трепещут крылышки и дребезжат, и застревает в безвольном ухе, чего не ловит надменный взгляд. Ты, желтосиняя в алмазной крошке стрекозья выставленность арт-нуво, когда фацетки двуглазой брошки и есть искусство – да ну его! Вы – цацки, вы – ни на что не годный без толку мечущийся блеск и гул, изображающие то почетный, то стерегущий нас караул. Рука, прихлопни их, по треску дроби в параде казнь признав. Но не угробь улитку пламени и кокон крови. Неповторимы огонь и кровь.«Всё, я уже ничего не знаю…»
Всё, я уже ничего не знаю. Не слышу даже того, что сам бормочу. Из дел – заснув в октябре и очнувшись к маю, сдать кровь и мочу – единственное по плечу. Мне кто-то знаком, но кто, я не уверен. Я что-то должен, только не помню что. Не разберу, кто ангелом смотрит, кто зверем. Несу, что ни попадя. Но хоть не вру зато. Потому что не различаю неправду, правду. Путаюсь, что мерещится, что наяву. Всё отбирают. Взамен оставляют мантру: «жив – выживаю – жизнеспособен – живу».Из Беранже
Здравствуйте, дорогие. А где сестра? В шапке кудрей, с антрацитовыми глазами. Дома оставили, слишком стала стара. Маска морщин с пепельными волосами. Зря. Замысел, он как свет: всегда милосерд. Вы, например – не хотели, а ведь пришли же. Белая ковка локонов, татуировка черт — вот что в фокусе. И никого нет ближе. Правда: ступайте за ней, будьте уж так добры. Пусть увидит, что согнут, но что встречаю стоя. И ничего, что не было никогда у меня сестры. Нынче она единственная в точности знает, кто я.«Свистит, но звука не расщеплет…»
Свистит, но звука не расщеплет на смысл, восторг и молодечество дрозд, подобрав по слуху щебет: отцовство-отчество-отечество. Свист, стерший имя. Пташку-имя без места, без семьи, без времени унесший изо льда в полымя и онемевший, скажем, в Йемене. Вздор, писк – но стоящий усилий, с какими атмосфера плотная пружинит, если над Россией взмывает стая перелетная. Им лапки всасывает мякоть, урчащая: вот червь, позавтракай, еще успеешь покалялкать с родней, трепещущей над Африкой. А те ей: мы другого духа — что делать здесь ночами зимними комочкам щебета и пуха, лишенным родины и имени? А та: дождись, останься, ну же! В конце концов – отцовство, отчество. А те: ну да, но стужи, стужи — без струй, без музыки, без общества.Свой мир
Хотя и стоит этого-того (пусть будет: этажерки и толкушки) свой мир, нам остается только «сво» от сводничества – ни души, ни тушки. Сшить, сострочить – вот цель. Соединить. Собой. Одним собою. Не надеясь ни на кого. Ведь струйка крови-нить и мысль-иголка никуда не делись. И съесть – как тот пророк – не своего пера и почвы книжку и картошку. Собой – и только, сделать вещество, под кожуру проникнув и обложку. Короче, опровергнуть пустоту. И, плоть в конце концов на оболочку пустив, обить небесную плиту сафьяном атомарным. В одиночку.Астры
Небо за миг растворило созвездия в спирте утра. Отчего немедленно поголубело. Но поднеси, как спичку, себя к нему, вспыхни, и на полмига сделается оно бело. Спрячься в нору – пусть отпылает свиток времени. И если там будет воздух, выгляни только на выдохе – видеть купол, монтируемый на новых звездах. Это к тому, что стоит ли сеять весной рассаду астр в предвосхищенье сентябрьской продажи цветов, от века подобных застрявшему стаду, не знающему, что щипать – не самих себя же. Во-первых, может не оказаться петлицы, в которую их втыкают. А самое главное – царства огненно-траурного, в котором могли распуститься, как блеклые звезды неба, осенью астры.Сенокос
Кóсу и грабли взять как гитару и гусли, чтобы травинка к травинке ложилась сама строчкой, звеня стебельками, как струйками в русле тканного, что ли, струнного, что ли, письма. Ибо трава эта – лен. И рубаха льняная — то ли папирус, то ли гребенка сродни той, на которой, губами папирус гоняя, в кровь их стирают, а он все гони да гони. Это как каторжник, жизнь проходивший в оковах, в пламени ярости плющит – плевать, что тюрьма, — уз примитив в примитив духовых и щипковых. Разницы нет, когда тянет в воронку псалма.«Заключенный глядит на небо…»
Заключенный глядит на небо, потому что оно свободно, за любую выходит зону и все целое, а не пайка. А больной с него глаз не сводит, потому что оно здорово, кровью вен и аорт играет, даже слезы льет не горюя. Взгляд вперяет в него ребенок, потому что оно как царство — все сверкает золотом в полдень, и в серебряных бусах ночью. Сумасшедший смотрит на небо, потому что оно нелепо, как ломоть несъедобного хлеба, Богом брошенный внутрь склепа. А поэт взирает на небо, потому что оно бесцельно, драгоценно, пусто, нетленно и его рифмовать не надо.«Когда возницы колесниц…»
А.О.
Когда возницы колесниц, пуская радиусом малым в путь жеребцов и кобылиц, искусно действуют стрекалом, их по дистанции накал схож с рыболовным у извива заросшей речки, где стрекал роль на себя берет крапива. Клюет у всех, но как во сне. Подсечь подсек, но нет, что вынешь, гарантии. Что на блесне не тина. Что не пройден финиш.«Принесите мне юность, воздушные струи…»
Принесите мне юность, воздушные струи с лукоморья, всегда мой студившие лоб, принесите ветренность и поцелуи, с губ сдуваемые, как обрывки слов. Принеси мне, мой западный, мглу и запах пляжных водорослей и сухого вина под биенье плащей и под хлопанье флагов. В общем, юность – ты знаешь, какая она. Принеси мне, северный, мою зрелость, не замеченную, когда была — когда сердце к жженью так притерпелось, что, оплавясь, едва не сгорело дотла. А тебе, восточный, поклон за старость. Незаслуженную. За нежданный привар. За отличный отмер – чтоб к концу не осталось ничего. За глазунью как Божий дар. И еще надышанного мне, южный, пассажирами, вышедшими из такси, я ни долгом с которыми не был, ни дружбой прежде связан, тепла хоть на миг принеси. Ну а если не врут, что тебя не упросишь, что как щедр ты и зноен, так нищ и зловещ, принеси-ка мне то, что без просьбы приносишь, — без названья, без свойств, без подробностей вещь.Деревенский философ
Когда вы думаете, что у Петрова на том, на дальнем конце села кричит, потому что рожает, корова, то это, скорей всего, бензопила. Не наговаривайте – мол, то медведица — на грубый в семь точек чертеж ковша. А что они, как гирлянда, светятся то к ним электричество подвел Левша. И греческая ли мерещится гамма в галочьем грае, еврейский ли гимл, не выйдет из их истеричного гама трагический хор, пророческий гимн. И, в общем, я жизни доволен итогами, смотря с крыльца, как здоровые лбы под водоотталкивающими тогами отправляются с девственницами по грибы.14 августа 2004
Когда Иосиф переехал в США, приветственный мессаж он получил от Чеслава — прибытье чье теперь за Cтикс его душа, освоившаяся в том крае, чествует. Сиренная их речь, словно из зала в зал, из мира в мир эфир переходя, как посуху, для нас – лишь эха тембр. А знать бы, что сказал Иосиф Чеславу и Чеслав что Иосифу! Возможно, и без слов. Подняв аперитив на свет и медленно сухим печеньем хрустая. Забыв, как говорят, забыв язык, забыв, где польская тоска о прожитом, где русская. Изящество и ум – на бешенство и нерв. Догадка, что тот свет уже чуть-чуть Америка. Что все херня. Не так? – Не. Все, что не пся крев. Что срока в самый раз судьба отмерила.«Мои дела – как сажа бела. А ваши…»
Мои дела – как сажа бела. А ваши? Я обращаюсь к тем, кто словил успех. Как она, жизнь и какие цвета у сажи? И у молитв у ваших какой распев? Было ли вам знаменье с небосвода? Не дай, говорите, бог и вобще аминь? Так же и я. А черти из дымохода? Я обращаюсь к тем, у кого камин. Лазал ли кто с шаром свинца на крышу тягу наладить – или был зван трубочист? Нажил ли кто, глобус вертя, себе грыжу? Шел ли на свист сесть с паханами в вист? А лучше: река, круиз, пароход на угле. К тем обращаюсь, с кем мы на нем гудим. Что если кончить с палуб глядеть на джунгли и, за борт перевалясь, в них уйти, как дым? Нет? А без этого бизнес соборный лажа. Карта успеха – наш обольстительный блеф. Что уже удалось, то зола и сажа. Все впереди. Сдайте мне даму треф.«Заело молнии ресниц…»
Заело молнии ресниц, так что зарниц бессильны залпы. Где кто-то, кто с застывших лиц ночь, как пустой чулок, скатал бы? — ночь, ночь, кроящую чадру растерянному христианству с тем, чтоб в свою согнать к утру барашков бритотелых паству. Где кто-то, кто под видом дня хоть как – открыто или втайне — придет, чтоб, расстегнув, с меня содрать чехол солнцестоянья? — плед, космос, гипс, комбинезон, ночь, ночь, безвидность в разных видах. Единственное средь времен невремя. Ночь. Без вдоха выдох.«Сад в провинциальном городке…»
Сад в провинциальном городке яблоневый, он в провинциальном сентябре на тинистой реке выглядит и над– и сверхреальным. Не бравада елочная форм культуризма, твердого на мягком, а обилья рог и плавки горн с двух сторон над задремавшим Вакхом. Что в деревне – косный урожай, здесь – искусство: сквозь провинциальность праздничную улиц даже жаль узнавать крестьянскую банальность. Городок не жизнь, а ритуал: жертва, пламя, чад, фазаньи перья… Вот и сад бояться перестал: неподвижность – вечности преддверье.ЭР-200
В пейзаже из окна дневного экспресса все старó: разъезд, лесок. Но точно так же ново. И то и то вошло в реестр. Вид… вид… Дай волю равнодушью. Двумерен вид. К траве впритык река, закат. Набросок тушью, внутрь не попасть, все только штрих. Но узнаваем. Волю страсти дай. Кто б ни вышел на крыльцо избы мелькнувшей – той же масти валет, что ты: одно лицо. А с ним… Офелия?!.. Да плюнь ты. Стеклянного экспресса прыть — метла под ведьмой. Дробь секунды твердит, что «быть» и есть «не быть».Предутренняя депрессия
Предутренняя депрессия с разбором вчерашних бед полна готической прелести, переходящей в бред, где бьют нефтяные скважины, в единой сходясь струе, подземной тоской заряжены, приплясывающей на острие. Куда свой шар ни покатите, не в лузу идет – в тупик, и вместо туза со скатерти подмигивает дама пик. И жизнь проходит меж пьяными, беспомощная, одна, и, задохнувшись туманами, лопается, как струна. Осколки ее и черточки от радости вне себя снуют, как живые чертики: мы, дескать, ее семья — пока набухает за шторами, как выигранное очко, не здешнее и не горнее белесое не важно что.Поминки по веку
«Во «Франкфуртер Альгемайне»…»
Во «Франкфуртер Альгемайне» известья о русских делах. Нормально, нормально, нормально, бормочет синайский феллах, живущий по временной визе, суэцкой войны ветеран. Россия – сюрприз на сюрпризе, ей-богу, страна между стран. Ей-богу, ей-богу, ей-богу, зачем я родился не в ней — где снег засыпает эпоху и времени – климат древней. Где память – лишь фото. На фото — простор, на просторе – семья обветренных сфинксов, и кто-то моргнул, и всегда это – я. Он лезет под маску мне: кто он, в картинку попавший за так? Пустяк, неудавшийся клоун, не вид человека, а знак. Металл, на котором он выбит, рассыпчат, как соль серебра, и дни его выпил Египет песчаной струей из горла. Пустыня, в пустыне могила, утопленник, всосанный в ил. Зачем ты с землей Исмаила смешал свою кровь, Самуил! Затем что мы ищем не гроба, а грезы на зыбких путях и жарко лепечем: Европа, Коммуна, Вселенная, ах!Перечитывая старые письма
1
Сгнила клетчатка, колер потух. Только где ты проходила, облачко виснет, щекочущий дух греческого кадила. Не задержать ни свистком, ни сачком, ни птицеловной сеткой ту, что боярышниковым цветком пахнет, листом и веткой. Пурпур кровей и кишок перламутр бритвы напрасно пороли в ней, добровольно вкопавшей внутрь куст безымянной боли. Вешняя плоть, нежная слизь, Евой зовись, природой, юностью, садом, жизнью зовись, мучай себя, уродуй — есть только ты, ты одна, сама, счастлива, неуязвима — в хрупкой бумаге хмельного письма, в пенье из рощ Элевзина.2
Подумаешь, даль, Камчатка. В классе любом есть камчатка. Ну, последние парты. Но тут, чтобы знать, что жив человек, не дом надо искать его, а, развернув карты, взрезáть конверт. Трава выше всадника, где пишутся письма. Где говорят «лóжить» вместо «класть». И есть, стало быть, те, кто говорит. И есть, стало быть, лошадь. Не обсуждается, что седло трет. Сёдла трут, если такой вышел расклад. И хотя потом человек умрет, какое счастье, что он сейчас выжил.3
«Мы с мамой испечем пирог и ждем тебя на Рождество». Был холод. Я в пальто продрог. В ботинках. Было мне всего шестнадцать. Мать совсем забыл. Дочь в блузке. Разомлел в тепле. Пирог был с луком. Что-то пил. Спал, подбородком на столе. Как ее звали? Подпись «З.». Давно, чуть не при мамонтах. Над чаем – кукла. Торт безе. И почему же с мамой-то?4
Текст телеграммы: «очень обижен». Штрих вместо точки. Отсутствует подпись. Дескать, вот тáк – дескать, вóт как мы пишем. Дальний прицел, но не тянет на «Сотбис». Несколько писем – точно таких же: все, кто не я, – ну-ка, ну-ка на место! Речь седока к благодарному рикше, ночь отдежурившему у подъезда. Я – да не я, ибо я – это я же. Речь о себе, как о серии фото: я крупным планом, с бокалом, на пляже, с удочкой. Я – это сам, но и кто-то. Проза, стихи – о стихах и о прозе собственных. Курс на величье и славу. То есть слова. Он держался на дозе слов. На интимности по телеграфу. Пил только водку. Любил только виски: был такой Хэм – ну так вот как у Хэма. Тайн не бывает, когда в переписке — тождество: тайны – когда теорема. Азбука Морзе; звонок: «Телеграмма»; я открываю – он все это видел. В то, что обидел, не верю ни грамма. Правда: ну помнил бы, если обидел.5
Как если бы почерком запечатлен был голос – в себе неуверенный тенор, — слова от абзаца к абзацу наклон меняют, колеблемы тоном и темой. Эстонская лыжная база. Следы на первом снегу он рельефной подошвой оставил, прибыв, – и узору слюды туземец дивился. Туземец здесь дошлый, но честный. Бордель в общежитии: класс желать оставляет. Но множество комнат сдается. Зато состояние трасс отменное, есть вездеход и подъемник. Кир с тренером сборной страны. Кутерьма с конфеткой, подаренной им секретарше. И двадцатилетним несет от письма всецелым здоровьем – которому старше не стать, впечатленье. Знакомым привет. Привет со значеньем – Лариске, Тамарке и Алке. С известной дояркой конверт и штампом доплаты, поскольку без марки. Морщин не связать с ним, не тот это сорт — бронхита, пособий, долгов, меблирашек. Но зимний нетрудно представить курорт и в санках развозит туристов он. Рашн.Литература
Чтоб не выступить крови на рубле из клейма, есть простое условье: человек и зима. Он проверил наличность и на писчую страсть отпустил свою личность, и она туда шасть. Ради мест самых общих и за нищий барыш льдину плюснами топчешь, над поземкой паришь. Изрубцованность снега — вся и книга. Зима задыханья и бега — весь и оттиск ума.«О чем и пишутся стихи…»
О чем и пишутся стихи, как не о жизни, милой жизни — от снов ее и чепухи во вдохновенье, в детском визге? От сумерек ее в слезах, от беспощадной ласки в стонах. От милоты в ее глазах — без памяти. Вечнозеленых. Особенно когда она вдруг расшибается об Аушвиц и – в пыль. Не то собой пьяна, не то не в меру разогнавшись.«Как выпускаемое из пращи…»
Как выпускаемое из пращи, как оставляемое на чай, как доставаемое из печи, нас поражает словцо «прощай» — не ухо ловит, а ребер клеть всю плазму звука, все вещество, какому, щерясь, сперва лететь из рта Давида, потом в него. Что толку в звуке, когда умолк, причем униженно, невзначай? Не дань признательности, а долг — чему «привет» сказал, сказать «прощай». Так забивают гортань псалма и ты, и труп твой, и враг, и Бог, чтоб жизнь изъять, не сойдя с ума, и голос – главный ее вещдок. Итак, прощай все вокруг. Прощай сам я. Но ведь кто-то же говорит словцо вот это. Так не стращай меня немотой, баритон Давид. И снег ораторствует, и дождь, и, всасывая, облепляя, пыля, включает из склоки циклонов и рощ «прощай» в свой гул бессмертный земля.«Отнеси свою милостыню…»
Отнеси свою милостыню, сущие пустяки, в рощу, солнцами выблистанную, вниз по теченью реки. Все, что тобой жаловано, вытащено на горбе, что от куска отломано, ссыпано в горсть тебе. Вниз по реке – чтоб вынесла к устью, к болоту, к пню отсебятину, вымыслы, сорванные на корню, вымыслы, бред, отсебятину тех, кто глуп и умен, горла соскоб – и патину калифорнийских времен. Спрячь намытое золото в грязь обратно, в ручей. В рощу, где было молодо жизни – еще ничьей. Ссыпь к капризам и фокусам, выбита чья руда. В место, куда автобусом подвозили года. Отнеси свою милостыню, как кошелек ни тощ, сколько чеков ни вылистано с банковских вешних рощ, вниз по теченью, к скважине, где миллионы жил наших сделались вашими, как их кто ни прожил.«Двор наполняется снизу вверх – точь-в-точь стакан…»
Двор наполняется снизу вверх – точь-в-точь стакан — сумраком, словно дымом, он даже горек. Гуще и гуще тень – не завернут кран. От подорожника к сливам. Бедный мой дворик. Все это я запишу – правда, сверху вниз — на обороте записанного накануне, только зажгу фонарь на крыльце. Стал лыс тот же участок, что был волосат в июне. Бедный июнь, отсверкавший, как фейерверк: сливы еще цвели, арматурой зданья лез подорожник, низ выталкивал верх из темноты – и уперлись в солнцестоянье. Было – прошло, было – прошло… Бредь чем-нибудь лучше этого, более шалым. Хватит про время. Чем-то, на что смотреть можно лишь сверху вниз, без тоски, без жалоб. Лето – как фильм про наци: все шнелль и шнелль. Старость зверей узнают, умножая на шесть возраст. Но сколько прожил сентябрьский шмель, на полпути к фонарю побеждая тяжесть?«Я видел во сне документ…»
Я видел во сне документ — от жизни и смерти отдельно. Всегда и на каждый момент он следовал им параллельно. Как клавиши немец кропил сon brio и скусывал ноготь — таким документ этот был, чтоб жизни и смерти не трогать. Он был протокол. Протокол мгновений и шага за шагом. Он все их булавкой сколол — лукав и до фактов не лаком. Я помню, сильнее, чем спать, хотелось сойтись с ним поглубже. Стать милым ему – чтоб читать себя он давал мне по дружбе. Тем более тем, что затих, вальс требовал слова и жеста взамен себе. Точных. Таких, чтоб сами вставали на место — на то, что назначили им в инструкции, если не спится, чернила и перьев нажим с пленительных лент самописца.«Дети здесь хороши, розовые, в кудрямх…»
Дети здесь хороши, розовые, в кудрямх, вздрагивающих, как под легким дождиком гиацинты. И старики, которые каждый, как камень, дряхл, выветренный до трещин, вычерченных как цифры. Как на надгробье. Или – в справочном словаре. Первые три-четыре – заросли сада в детстве. Три-четыре последних – золотая в старье пуговица с гербом, грош, запеченный в тесте. В общем, восточный точный, то и другое – рай. Что-то всегда промотанное – и кой-какой запасец. Счастье – но от и до, воля – но не за край. Зной, дыханье пустыни. Плещущий ключ, оазис.Поминки по веку
Кто висел, как над трубами лагеря дым, или падалью лег в многосуточных маршах, или сгнил, задохнувшись на каторжных баржах, обращается к молодым через головы старших — тоже что-то бубнящих, с сюсюком нажим чередующих этаким быстрым, особым, наглым, модным, глумливым, угодливым стебом, что от воя казенного не отличим над публичным пустым его гробом. До свиданья, идея идеи идей. Спи спокойно, искусство искусства, величье пустоты, где со сцены ничтожным злодей уходя, возвращается в знаках отличья от людей. От людей. Дух эпохи, счастливо. Знакомым привет. Незнакомым – тем более: ходят в обнимку те и эти, слыхать, соответствуя снимку, хоть засвеченному, хоть которого нет, но ведь был же – а что еще век, как не снимки? Будь, фотограф. Будь, свет: ляг, где лег, холодей. До свидания, сами поминки. И до скорого, мать, и до встречи, отец. С богом, мной обернувшееся зачатье в спешке, в августе, в схватке без цели. И счастье от ключами во мне закипавших телец, мной клейменых… Пока, но отнюдь не прощайте. Факт, увидимся. Здесь не конец. Закругляйтесь. Кто хочет добавить, то есть кто-то другой, не как я, не такой, добавляй. А столетию – вечный покой. Веку – вечная память. Веку то, веку се, веку Богом отпущенный век — и в архив! Как альбом, как досье, как кассету – на полку. Потому что в раскопках искать его после – без толку: он был цель, то есть будущее и разбег, просто множил число человек на число километров и ставил под оперный снег, засыпающий действие, как новогоднюю елку. Сам уют – симуляция ласк и индустрия нег — для культуры не слой. Обернем мокрой тряпкой метелку и протрем на прощанье светелку. И загоним под плинтус просроченный чек и иголку — ту, которой нам Хронос навел на запястье наколку, ставя нас на ночлег.«Утренние пустые ангары…»
Утренние пустые ангары, сумрака взвесь, холодка и росы, необъяснимо наводят чары на настенные и ручные часы: спичкой ли чиркать, жать ли на кнопку подсветки, все циферблаты – бельмо, как если бы время ночное в подсобку под голую лампочку удалено. Ради такого, как мы, отребья ночью разыгрывая эмансипе, время от времени и на время время свидетельствует о себе: голосовые разомкнуты связки, стянуто судорогой лицо тех, кто придуманное не для огласки в трансе выкрикивает словцо — «время»! Вранья подъяремное лоно, как племя – пламени, как темя – тьмы. Взвесь ничего, вещество вне закона, вакуум, наши взрывающий лбы. Шарм и наркоз и косметика краха. Бремя бессонницы – но не кошмар. Фабрика страха, пакгаузы страха, страха сырого гулкий ангар.Вождю как таковому
I
Ну ты и тип же, ну и гусь! Вития, лидер из фанеры. Тогда как есть – я не смеюсь — герой! Ну, скажем, был – до эры тех, выдает кого язык, свисающий, как у легавой, когда добычи не настиг нюх, увязавшийся за славой. Так что кончай, мужик. В словарь сперва залезь, вот этажерка. Найди «герой», к нему нашарь как однокоренное – «жертва» и пальцы веером не строй: сверхчеловеком – слишком круто быть, оставаясь жить. Герой — и тот кончает в виде трупа.II
Уж ты не баск ли, не чечен, а? – из себя крутого корча; ариец – но как если б в ген арийскости пробралась порча. Я не смеюсь, герой не блажь, кто-кто, а я-то за героя. Ты рекрут зренья, кадр, типаж, в эпоху, где лишь то и Троя, что снято. И состав твой хил, минутная звезда экрана. Крут – царь Давид бывал. Ахилл был крут. И маленькая Жанна. Герой под градом ядр – ядро сам. И, полет кончая круто, крушит не образ, а нутро. Себе. И миру. Вот минута!«Цезий, ванадий – как ты, наш брат-металл…»
Цезий, ванадий – как ты, наш брат-металл, едущий в Венгрию из заполярных зон? Как ты брат-бог, брат-герой наш – кадмий, тантал? Август, сентябрь – как ты, наш брат-сезон? Как ты, кузен наших блатных судеб, тетки-природы дальняя кровь, племяш редких земель и полнозвездных неб, пестрый ландшафт? Как ты, спектральный наш? Ты, ультрасиний, ты, инфракрасный, как? Мы же родня, а вся заодно родня. Даром что вы наждак, а на мне пиджак — если родня, как же вы без меня? Я не любви прошу – хороша любовь свекра к заре! Но прахом идут миры, если принять, что не родственница моя кровь братьев азота, стронция. Солнца-сестры.«Последним блюдом подают пирожное…»
Последним блюдом подают пирожное здесь на поминках, полагая, что оно, как лак, покроет натюрморт, поскольку прошлое усопших не блестяще. Но евреям умирать в Германии, хоть и привычно, а совсем несладко. Им в общественном внимании род мании мерещится. Увы, пекарен горек дым, кондитерски дурманящий купечество, чей нос торчит крючком и в обрамленье астр, на их пути в небесное отечество, где Нибелунг и Зиг и Фриц и Зороастр.«Не следует убеждать. В особенности, меня…»
Не следует убеждать. В особенности, меня. А вообще-то всех, все мы родные братья. Ну еще пьянь и бомжа пусть попилит семья — больно они… А прочих – бессмысленное занятье. Пьянь и бомжи бесстыжи: грязь напоказ и вонь. Попрошайки, зверье. Тут паденье наглядно. Прочие же в порядке. Тебя не глупей. Не тронь прочих: знают, как жить. А нет – прижились и ладно. В особенности, меня. Что на что мне менять? О милосердье скулеж – на подготовку к сиянью? А прочие как? К примеру, умершие. Скажем, мать. И сам я – стать не сумевший даже бомжом и пьянью.«Медленно мимо лба пролетает комар…»
Медленно мимо лба пролетает комар. Индифферентно: сентябрь – не до игр, не до лакомств. Просто гудит, он один тут такой неформал. Но не кадит – а звезда был сезонных диаконств. То есть ни вправо, ни влево, ни стоп, ни зигзаг. Ни на природу, распластанную на гробе собственном, неподвижно, маняще, в слезах, не покушаясь: сентябрь – не до игл, не до крови.«Пока сохраняют грузины…»
Т.
Пока сохраняют грузины эдемскую графику лиц, германцы ссыпают в корзины гончарную лепку яиц. Но сметан на нитку живую ковчег наш и с якоря снят. В булыжную бить мостовую копытцем нет сил у ягнят. Колхида нищает. Европа блестит роговицей глазищ лощеного теле-циклопа… Но нищий не беден – он нищ. Он – он. Цель не в том, чтобы выжить, а выжить таким. То есть в том, чтоб лик, как морщинами, вышить сухим виноградным крестом.

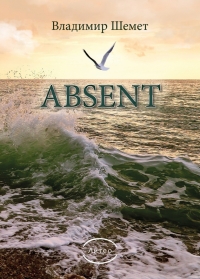






Комментарии к книге «Экстерриториальность», Анатолий Генрихович Найман
Всего 0 комментариев