А.С. Пушкин Брак холостит душу (сборник)
От составителя
Об чем цензуру ни прошу,
Ото всего Тимковский ахнет.
Теперь едва, едва дышу
От воздержанья муза чахнет,
И редко, редко с ней грешу
А.С. Пушкин «Дельвигу»Традиционно имя Александра Сергеевича Пушкина ассоциируется с высочайшими образцами поэтического искусства. Однако академизм, с которым подходят к изучению его творческого наследия скрывает другую, не менее интересную грань его поэзии. Озорство и юмор, с которыми он подходил к вопросам человеческой природы и естества.
Нередко бесовскую натуру отца русской поэзии прикрывают, как нечто постыдное, однако именно в ней кроется истинное его отношение к поэзии, женщинам и любви, которая совмещает в себе не только «высокий», но и «низкий штиль».
Еще в лицейские годы можно было заметить глубокий эротизм и ироничность поэта. Ими пронизаны многие «первые пробы пера». Сам поэт не скрывал свой «африканский темперамент» и с юности отмечал собственное хулиганство, как главенствующую черту своего характера. Так, он описывает себя в лицейском стихотворении «Мой портрет», написанном на французском языке:
Сущий бес в проказах,
Сущая обезьяна лицом
Много, слишком много ветрености —
Да, таков Пушкин.
Почти все творчество поэта пронизано чувственностью. Ему принадлежит целый букет женских образов. Но далеко не все они – пленительные божественные создания. Хрестоматийное представление, навязываемое нам в школах, о возвышенности воспеваемых женщин Пушкина не более, чем романтизированная для школьников версия правильного гения Пушкина.
На самом же деле, муза Пушкина была далека от идеала и нередко вырывалась из оков благоразумия, из банального желания совершить шалость ради шалости. Греша и доставляя немало работы Николаевским цензорам, она парила вне Божественных вопросов и законов самодержавия.
Надо сказать, что именно по этой причине с цензурой у поэта были сложные отношения, а с цензорами – исключительными, почти интимными. От цензоров зависела его дальнейшая жизнь, но и к ним Пушкин относился с иронией. Поэт находил особую привлекательность в крепком русском слове и скабрезностях. По существу, они относились к тому разряду вольностей, которые поэт не мог не позволить себе ввиду глубокой внутренней свободы. Возможно, именно поэтому, особое значение для него имела запрещенная «эротическая» лирика, которая, по его мнению, лишь ждала своего часа. По воспоминаниям П.П. Вяземского осенью 1936 года Пушкин предрекал успех этому скрытому на тот момент для широких масс жанру: «Для меня сомнений нет <…> первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будут полное собрание стихотворений Баркова…»
Лирика, отобранная к публикации в этом издании лишена вопросов морали и нравственности. В ней нет ни ученичества, ни дидактики, ни ложного пафоса, а лишь полет фантазии великого поэта. На стихотворения Пушкина нужно смотреть не с моральной, а литературной стороны. Важно понимать, что единственное, что имело значение для поэта, – это его интимные переживания. Именно они были основой его поэтической жизни.
Пестрый калейдоскоп событий, мыслей и бесконечных любовных развлечений не всегда поддается однозначной интерпретации.
Помимо блистательных стихотворений, поэт создавал поразительную графику. Поля его многочисленных рукописей усыпаны портретами друзей и женщин, карикатурами и художественными образами из стихотворений и поэм. Все рисунки, публикуемые в книге, принадлежат руке Пушкина. Мы намеренно расставили их в хаотичном порядке, практически не соотнося с публикуемыми текстами поэта. Графонаж поэта всегда носил бессознательный характер, а многие иллюстрации, отобраны из рукописей, тексты которых не входят в данное собрание.
По мнению искусствоведа А.М. Эфроса эти иллюстрации являются своеобразным дневником поэта, «это зрительный комментарий Пушкина к самому себе, особая запись мыслей и чувств, своеобразный отчёт о людях и событиях».
Мой портрет[1]
Вы просите у меня мой портрет, Но написанный с натуры; Мой милый, он быстро будет готов, Хотя и в миниатюре. Я молодой повеса, Еще на школьной скамье, Не глуп, говорю, не стесняясь, И без жеманного кривлянья. Никогда не было болтуна, Ни доктора Сорбонны — Надоедливее и крикливее, Чем собственная моя особа. Мой рост с ростом самых долговязых Не может равняться; У меня свежий цвет лица, русые волосы И кудрявая голова. Люблю свет и его шум, Уединение я ненавижу; Мне претят ссоры и препирательства А отчасти и учение. Спектакли, балы мне очень нравятся, И если быть откровенным, Я сказал бы, что я ещё люблю… Если бы не был в Лицее. По всему этому, мой милый друг, Меня можно узнать. Да, каким Бог создал, Таким и хочу казаться я. Сущий бес в проказах, Сущая обезьяна лицом, Много, слишком много ветрености — Да, таков Пушкин… 1814Автопортрет из альбома Ушаковых, помещённый сразу после перечня женщин поэта. Подпись: «Не искушай (сай) меня без нужды».
Список близких поэту женщин, составленный А.С. Пушкиным в 1829 году в альбоме Е.Н. Ушаковой. Впервые списки были напечатаны в 1887 году в «Альбоме Пушкинской выставки 1880 года», где в «Биографическом очерке» А.А. Венкстерна было указано: «по объяснению П.С. Киселева [мужа одной из сестёр Ушаковых] – это дон-жуанский список поэта, то есть перечень всех женщин, которыми он увлекался». Первой посвящённой спискам работой явилась статья Н.О. Лернера «Дон-Жуанский список». Популярность термин получил после одноимённой работы П.К. Губера (1923).
Сфера интимных отношений Пушкина с окружавшими его женщинами неизменно привлекает к себе повышенное внимание. О сексуальности первого русского поэта публикуется немало претендующих на сенсационность материалов. Как ни банальны рассуждения о бурном «африканском» темпераменте Пушкина, но по сути всё его творчество – гимн чувственной любви.
Список близких поэту женщин, написанный поэтом 1829 году в альбоме подруги Е.Н. Ушаковой.
В первой части находятся имена, которые, по общему мнению пушкинистов, отражают глубокие впечатления от встреч с их носительницами. Вот они: Наталья I, Катерина I, Катерина II, NN, Кн. Авдотия, Настасья, Катерина III, Аглая, Калипсо, Пулхерия, Амалия, Элиза, Евпраксея, Катерина IV, Анна, Наталья.
Во второй части оказались те, увлечения которыми носили, по столь же общему мнению, легкий, поверхностный характер: Мария, Анна, Софья, Александра, Варвара, Вера, Анна, Анна, Анна, Варвара, Елизавета, Надежда, Аграфена, Любовь, Ольга, Евгения, Александра, Елена.
Суммируя сказанное исследователями биографии Пушкина по поводу расшифровки списка и учитывая собственные соображения на эту тему, постараемся назвать тех, кто скрывается за перечисленными именами.
Итак, первая часть пушкинского Дон-Жуанского списка:
Наталья I – либо Наталья Викторовна Кочубей (в замужестве Строганова), либо актриса Наталья, либо Наталья Степановна Апраксина (в замужестве Голицына)1;
Катерина I – Екатерина Павловна Бакунина2;
Катерина II – на наш взгляд, это, безусловно, Екатерина Андреевна Карамзина3;
NN – «утаенная любовь» Пушкина, разгадка имени которой более всего занимает исследователей;
Кн. Авдотия – Евдокия Ивановна Измайлова (в замужестве Голицына);
Настасья – до сих пор неизвестно, кто эта женщина;
Катерина III – либо Екатерина Раевская (в замужестве Орлова), либо актриса Екатерина Семенова;
Аглая – Аглая Антоновна Де-Грамон (в замужестве Давыдова);
Калипсо – Калипсо Полихрони;
Пулхерия – Пулхерия Варфоломей;
Амалия – Амалия Ризнич;
Элиза – Елизавета Михайловна Хитрово; в письмах только ее Пушкин называет Элизой, Лизой;
Евпраксея – Евпраксия Николаевна Вульф;
Катерина IV – Екатерина Николаевна Ушакова;
Анна – Анна Алексеевна Оленина;
Наталья – Наталья Николаевна Гончарова.
А вот расшифровка имен второй части списка:
Мария – либо Мария Суворова (в замужестве Голицына), либо Мария Раевская (в замужестве Волконская), либо Мария Урусова (в замужестве Мусина-Пушкина);
Анна Урусова – Анна Гирей;
Софья – либо Софья Потоцкая (в замужестве Киселева), либо Софья Пушкина (в замужестве Панина); либо Софья Урусова (в замужестве Радзивилл):
Александра – Александра Осипова (Алина);
Варвара – вероятно, Варвара Черкашенинова;
Вера – Вера Федоровна Вяземская;
Анна – Анна Николаевна Вульф;
Анна – Анна Ивановна Вульф;
Анна – Анна Петровна Керн;
Варвара – либо Варвара Ермолаева, либо Варвара Суворова;
Елизавета – Елизавета Ксаверьевна Воронцова;
Надежда – Надежда Святополк-Четвертинская;
Аграфена – Аграфена Закревская;
Любовь – возможно, Любовь Суворова;
Ольга – возможно, Ольга Потоцкая (в замужестве Нарышкина);
Евгения – до сих пор неизвестная женщина;
Александра – либо Александра Римская-Корсакова, либо Александра Смирнова-Россет;
Елена – либо Елена Раевская, либо Елена Завадовская.
Еще раз заметим, что в большей степени пушкинистов интересует, кто же сокрыт под шифром NN.
Ряд исследователей выдвигает свои предположения относительно загадочного объекта любви поэта.
Л. Гроссман высказал мнение, что «утаенной любовью» Пушкина была Софья Потоцкая (Киселева). Однако во второй части Дон-Жуанского списка есть имя Софья. Ею вполне может быть и Софья Потоцкая. Правда, о ней Пушкин писал Вяземскому (ноябрь 1823 г.) как о «похотливой Минерве», что значительно снижает образ «утаенной» любви: «Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма… Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай… Еще просьба: припиши к «Бахчисараю» предисловие или послесловие, если не ради меня, то ради твоей похотливой Минервы, Софьи Киселевой». Заметим, не просто «похотливой», не «моей», а «твоей похотливой Минервы». Вряд ли после этих строк Пушкин мог сохранить возвышенные чувства к ней на протяжении почти всей своей жизни.
Видимо, незачем было скрывать под NN и имя Екатерины Орловой. Едва ли увлечение ею было сильным, тем более благоговейным. На это наталкивают строки из пушкинского письма тому же Вяземскому: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова». Властность и честолюбие, определяющие в драме «Борис Годунов» характер Марины Мнишек, поэт отмечает в Екатерине Орловой. Хотя он и восхищался Екатериной, однако вышеназванные черты никогда не привлекали поэта, не внушали особой любви к женщине. По воспоминаниям тонко чувствующей людей Анны Петровны Керн, Пушкина очаровывало в женщинах остроумие, блеск и внешняя красота…
Эпиграммы
Иной имел мою Аглаю
Аглая Давыдова – дочь французского эмигранта герцога де Граммона, жена А.Л. Давыдова, адресат нескольких иронических эпиграмм.
Прибыв в ссылку в Кишинев в середине сентября 1820 года, Пушкин уже меньше чем через два месяца получил разрешение своего опекуна генерала Инзова, отправиться в Киевскую губернию – в Каменку в имение Давыдовых. Именно о хозяине этого имения, Александре Львовиче Давыдове, Пушкин писал в «Евгении Онегине»: «И рогоносец величавый, / всегда довольный сам собой, / своим обедом и женой». Жена же его, Аглая Антоновна, и есть адресат эпиграммы «Иной имел мою Аглаю». Из письма Пушкина к Н.И. Гнедичу в декабре 1820 года: «…Теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократичными обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразной и веселой смесью умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов». Женщин действительно было мало, однако Аглая Антоновна могла дать фору целому десятку добрых барышень. Француженка, из старого герцогского рода де Грамонов, представитель которого описан в известных воспоминаниях Гамильтона первейшим волокитой и распутником. Аглая, что называется, держала марку, продолжая родовые традиции. Так её описывал один из сыновей Дениса Давыдова: «Весьма хорошенькая, ветреная и кокетливая, как настоящая француженка, искала в шуме развлечений средства не умереть со скуки в варварской России. Она в Каменке была магнитом, привлекавшим к себе железных деятелей Александровского времени. От главнокомандующих до корнетов – всё жило и ликовало в Каменке, но – главное – умирало у ног прелестной Аглаи».
Аглае Антоновне на тот момент было тридцать три. По предпочтениям того времени она действительно была красавицей – пухленькое личико, подвижные толстые губы, курноса, но лишь настолько, чтобы быть ещё обаятельнее. Пушкин, конечно, не мог её пропустить, однако Аглая, всегда имевшая возможность выбирать и капризничать, «дала поэту отставку», едва он только начал ухаживания. Самолюбие поэта было задето. Дошло до того, что Пушкин выносил план мести: он начал флиртовать со старшей дочерью Давыдовой, которая, надо сказать, также была прелестна в свои двенадцать. Вот что по этому поводу пишет революционер Якушин в своих «Записках»: «Пушкин вообразил себе, что он в неё влюблен, беспрестанно на неё заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бледная, не знала, что делать и готова была заплакать; мне стало её жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: «Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя». – «Я хочу наказать кокетку, – отвечал он, – прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня». С большим трудом мне удалось обратить всё это в шутку и заставить его улыбнуться». Конечно, это была игра, рассчитанная на Аглаю Давыдову.
История ничем кончилась, Аглая увезла дочерей во Францию, отдала Адель в монастырь (видимо, как слишком сведущую о похождениях матери), а сама вышла замуж за наполеоновского генерала Оранса-Франсуа Себастиани де ла Порта. Пушкин же, отправляя стихотворение в письме брату Леве в 1821 году, оставляет комментарий: «Если хочешь, вот тебе ещё эпиграмма, которую ради Христа не распускай, в ней каждый стих – правда».
Иной имел мою Аглаю
Иной имел мою Аглаю За свой мундир и чёрный ус, Другой за деньги – понимаю, Другой за то, что был француз, Клеон – умом её стращая, Дамис – за то, что нежно пел. Скажи теперь, мой друг Аглая, За что твой муж тебя имел?Мансурову
Эпиграмма не имеет точной даты, однако скорее всего, была написана в 1819 году. Крылова – Мария Михайловна – на тот момент была пятнадцатилетней танцовщицей, ученицей балетного училища. Увлечены ею были многие, в том числе и друзья Пушкина – Волконский и Мансуров. Мансуров Павел Борисович – поручик лейб-гвардии конно-егерского полка, товарищ поэта по кружку «Зелёная лампа». В письме от 27 октября 1819 года Пушкин пишет Мансурову в Новгород: «Мы не забыли тебя и в 7 часов каждый день поминаем в театре рукоплесканиями, вздохами – и говорим: свет-то наш Павел! Что-то делает он теперь в Великом Новгороде? Завидует нам – и плачет о Кр… (разумеется, нижним проходом)». Далее в письме идут такие строки: «Каждое утро крылатая дева летит на репетицию мимо окон нашего Никиты, по-прежнему подымаются на неё телескопы и [кое-что ещё] – но увы… ты не видишь её, она не видит тебя». Существуют две версии, о ком именно говорит поэт. По одной из них под «крылатой девой» подразумевается другая танцовщица – Овощникова. Однако схожесть фамилии Марии Михайловны с прозвищем «крылатая дева» делает другую версию не менее правдоподобной.
Казасси Мария Францевна – главная надзирательница Театрального училища Петербурга, где учились и Крылова, и Овощникова, а Ласси – актриса французской труппы в Петербурге, за которой, как и за Марией Михайловной, волочился Мансуров. Несмотря на воздыхания своих друзей по Крыловой, Пушкин увлечен ею не был.
Мансурову
Мансуров, закадышный друг, Надень венок терновый, Вздохни – и рюмку выпей вдруг За здравие Крыловой. Поверь, она верна тебе, Как девственница Ласси, Она покорствует судьбе И госпоже Казасси. Но скоро счастливой рукой Набойку школы скинет, На бархат ляжет пред тобой И ноженьки раздвинет.Анне Вульф
Датируется 1825 годом. Впервые опубликовано в «Библиографических записках» в 1861 году. Автографа, однако, не сохранилось.
Анна Ивановна Вульф – дочь помещика из тверской губернии И.И. Вульфа, племянница первого мужа П.А. Осиповой.
Знакомство поэта с Анной случилось в Тригорском у её тети П.А. Осиповой. Обоим тогда было по восемнадцать лет, Анна Ивановна была не только прелестной, но ещё умной и образованной. А Пушкин… Пушкин был собой. В письме брату Льву в 1825 году поэт признавался: «Я влюбился и миртальничаю». Ухаживания Пушкина нашли ответ, однако ответ этот был совсем иного толка, которого, возможно, хотелось поэту. Скорее, это было похоже на очень нежную дружбу, иногда отдававшую флиртом. Пушкин, по всей видимости, надеялся на большее. У них завязалась переписка, и на протяжении семи лет (с 1826-го по 1833-й) они непременно встречались при приезде поэта в Тверскую губернию.
Однако Нетти, как называл Пушкин Анну Ивановну, была девушкой стойкой и честной, хотя в поклонниках у неё недостатка не было. Осенью 1829 года Пушкин пишет своему другу А.Н. Вульфу об очередной поездке в Берново: «Зато Нетти нежная, томная, истерическая, потолстевшая Нетти – здесь. Вы знаете, что Миллер (улан Владимирского полка) – из отчаяния кинулся к её ногам, но она сим не тронулась. Вот уже третий день как я влюблен… Недавно узнали мы, что Нетти, отходя ко сну, имеет привычку крестить все предметы, окружающие её постелю. Постараюсь достать (как памятник непорочной моей любви) сосуд, ею освященный».
Судя по всему, под сосудом Пушкин имеет в виду ночной горшок Анны Ивановны, однако, взглянув на текст эпиграммы, можно предположить, что «освещенный Нетти сосуд» поэту не достался.
В 1834 году Анна Ивановна Вульф вышла замуж за поручика корпуса инженеров путей сообщения В.И. Трувеллера и через полтора года умерла при родах.
Была в жизни Пушкина ещё одна Анна Вульф – Анна Николаевна – старшая дочь П.А. Осиповой от первого брака. Анна Николаевна была безответно влюблена в поэта, но он предпочел её Анне Керн.
Однако, судя по переписке и влюбленности Анны Николаевны, можно предположить, что эпиграмма «Анне Вульф» посвящена не ей, а Нетти, хотя была записана в альбоме именно Анны Николаевны. Примечательно также, что Пушкин скрыл два последних стиха эпиграммы точками. Эти две строки были впоследствии восстановлены Анной Керн и записаны её вторым мужем.
Анне Вульф
Увы! напрасно деве гордой Я предлагал свою любовь! Ни наша жизнь, ни наша кровь Её души не тронет твердой. Слезами только буду сыт, Хоть сердце мне печаль расколет. Она на щепочку нассыт, Но и понюхать не позволит.Орлов с Истоминой в постеле
При жизни Пушкина эпиграмма не была напечатана. Содержится в списках, а принадлежность перу поэта основывается на свидетельствах друга Пушкина – С.А. Соболевского: «Написано только что по выходе из лицея», то есть в конце июня – первых числах июля 1817 года». Впервые было опубликовано в 1930 году (издательство «Красная Нива») – через 113 лет после создания. Михаил Федорович Орлов – генерал, участник Наполеоновских войн, декабрист, член общества «Арзамас». Евдокия Ильинична Истомина – балерина, с которой Пушкин встречался между 1816-м и 1819 годами. Евдокия была капризной, избалованной красавицей, которой никто не отказывал ни в признании, ни во внимании. Истомина танцевала до 1836 года. Пушкин вспоминал «…Когда-то волочился подобно кавказскому пленнику». Также Истоминой посвящено стихотворение «Лаиса, я люблю твой смелый, вольный взор…».
Пушкин писал: «Истомина в моде, она становится содержанкой, выходит замуж. Её сестра в отчаянии – она выходит замуж за суфлера. Истомина в свете. Её там не принимают…»
Также Истомина танцевала партии Людмилы в балете «Руслан и Людмила» Пушкина, впервые поставленном в Петербурге.
Она же танцевала черкешенку в балете «Кавказский пленник», который поставил Дидло по мотивам одноименной поэмы. Пушкин писал брату из Кишинева в 1823 году: «Пиши мне о Дидло, о черкешенке Истоминой, за которой я когда-то волочился…» Её содержал В.В. Шереметьев, в год госпожа Истомина «обходилась» родовитому боярину в 300 тыс. Также её близким другом был не кто иной, как А.С. Грибоедов – из-за неё он стрелялся с другим её содержателем, господином Завадовским, и получил на этой дуэли ранение в руку, по которому его труп и опознали в Тегеране в январе 1829 года.
О самом романе и подробностях флирта Пушкина с Истоминой не сохранилось ничего, кроме редких и скудных упоминаний об увлечении поэта танцовщицей. Орлов же появляется в эпиграмме почти случайно, даже не как соперник. Поэт по выходу из лицея имел взгляды на тот момент крайне либеральные, а Орлов слыл консерватором и ретроградом.
Орлов с Истоминой в постеле
Орлов с Истоминой в постеле В убогой наготе лежал. Не отличился в жарком деле Непостоянный генерал. Не думав милого обидеть, Взяла Лаиса микроскоп И говорит: «Позволь увидеть, Чем ты меня, мой милый, ёб».Юрьеву
Эпиграмма была напечатана ещё при жизни Пушкина самим её адресатом, другом Пушкина по обществу «Зелёная лампа» Федором Филипповичем Юрьевым. Однако в публикации не была указана дата. Таких первопечатных листков с этим текстом дошло до нас два экземпляра. На оттиске, принадлежащему Пушкинскому дому, есть надпись Юрьева «А. Пушкин 1821 года». Именно эту дату принято считать правильной, потому как в послание включены стихи из незаконченного Пушкиным стихотворения «В кругу семьи, в пирах счастливых». Метафорой «на лёгких крыльях Терпсихоры» Пушкин намекает на увлечение Юрьевым балетом. Возможно, это их и объединяло с поэтом (не балет, конечно, а танцовщицы).
Существует ещё одна эпиграмма, посвященная Юрьеву: «Здорово, Юрьев именинник», датируемая 1819 годом. Эпиграмма не печаталась при жизни Пушкина, автограф был найден в бумагах «Зеленой лампы». Стихотворение было написано по поводу перевода Юрьева в лейб-уланский полк и его именин 20 сентября. В приложении к собранию сочинений Пушкина изд. П.В. Анненкова «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина», изданных в 1855 году, есть свидетельство о том, что поэт Батюшков, прочитав эти стихи, сжал листок со стихотворением и произнес «О! Как стал писать этот злодей». Однако ни в одной из эпиграмм нет упоминаний конкретных женщин, упомянут только «бордель». Можно предположить, что отношения с Юрьевым у Пушкиным были не столь близки, чтобы друзья могли делиться переживаниями или подробностями своих увлечений.
Юрьеву
Любимец ветреных Лаис, Прелестный баловень Киприды — Умей сносить, мой Адонис, Её минутные обиды! Она дала красы младой Тебе в удел очарованье, И черный ус, и взгляд живой, Любви улыбку и молчанье. С тебя довольно, милый друг. Пускай, желаний пылких чуждый, Ты поцелуями подруг Не наслаждаешься, что нужды? В чаду веселий городских, На лёгких играх Терпсихоры К тебе красавиц молодых Летят задумчивые взоры. Увы! Язык любви немой, Сей вздох души красноречивый, Быть должен сладок, милый мой, Беспечности самолюбивой. И счастлив ты своей судьбой. А я, повеса вечно праздный, Потомок негров безобразный, Взращённый в дикой простоте, Любви не ведая страданий, Я нравлюсь юной красоте Бесстыдным бешенством желаний; С невольным пламенем ланит Украдкой нимфа молодая, Сама себя не понимая, На фавна иногда глядит.Стихотворения
Раззевавшись от обедни…
Стихотворение написано в апреле-мае 1821 года, при жизни Пушкина напечатано не было. Впервые (не полностью) опубликовано в 1881 г. в «Русском Архиве», полностью – в 1884 г. В то время Пушкин находился в Кишиневе, где он кутил, скучал, нищенствовал и всячески предавался праздности.
Пушкин писал из Кишинева Нащокину: «Все хорошенькие женщины имеют здесь мужей; чичизбеев, а кроме их, ещё кого-нибудь, чтобы не скучать…» Стихотворение посвящено молдавским боярам, в чьей культуре было много забавной эклектики: жён одевали по последней европейской моде, к дочерям брали гувернанток-француженок, сыновей посылали учиться за границу, а вот прислуга ходила грязная и оборванная. Пушкин написал этим стихотворением своеобразный живописный портрет молдавских дам, цветущих на диванах в полумраке душных, богато обставленных комнат. Но даже эти пухленькие молчаливые, все как одна похожие на цыганочек, дамы соблазнили неугомонное либидо поэта. Князь В.П. Горчаков писал в воспоминаниях: «Пушкин охотно принимал приглашения на все праздники и вечера, и все его звали. На этих балах он участвовал в неразлучных с ними занятиях – любил карты и танцы. <…>Танцы любил как общественный проводник сердечных восторжений. Да и верно, с каждого вечера Пушкин собирал новые восторги и делался поклонником новых, хотя мнимых, богинь своего сердца. Нередко мне случалось слышать: «Что за прелесть! Жить без неё не могу!» – а назавтра подобную прелесть сменяли другие. Что делать – таков юноша, таков поэт: его душа по призванию ищет любви и, обманутая туманным призраком, стремится к новым впечатлениям, как путник к блудящим огням необозримой пустыни».
В это время Пушкин волочился за семнадцатилетней дочерью председателя врачебной управы П.И. Шрейбера Марией, за женой полковника Вакара – духовной Викторией Ивановной, за веселой брюнеткой Аникой Сандулаки, за женой крупного военного Головкина – Еленой Федеров-ной, за молдаванкой Россети, чьи ножки ему снились по ночам ещё очень долго, некоей мадам Прункул, за какой-то цыганкой, за какой-то еврейкой…
Раззевавшись от обедни
Раззевавшись от обедни, К Катакази еду в дом. Что за греческие бредни, Что за греческий содом! Подогнув под жопу ноги, За вареньем, средь прохлад, Как египетские боги, Дамы преют и молчат. «Признаюсь пред всей Европой, — Хромоногая кричит: — Маврогений толстожопый Душу, сердце мне томит. Муж! вотще карманы грузно Ты набил в семье моей. И вотще ты пятишь гузно, Маврогений мне милей». Здравствуй, круглая соседка! Ты бранчива, ты скупа, Ты неловкая кокетка, Ты плешива, ты глупа, Говорить с тобой нет мочи — Все прощаю! Бог с тобой; Ты с утра до тёмной ночи Рада в банк играть со мной. Вот еврейка с Тадарашкой. Пламя пышет в подлеце, Лапу держит под рубашкой, Рыло на её лице. Весь от ужаса хладею: Ах, еврейка, бог убьёт! Если верить Моисею, Скотоложница умрёт! Ты наказана сегодня, И тебя пронзил амур, О, чувствительная сводня, О, краса молдавских дур. Смотришь: каждая девица Пред тобою с молодцом, Ты ж одна, моя вдовица, С указательным перстом. Ты умна, велеречива, Кишиневская Жанлис, Ты бела, жирна, шутлива, Пучеокая Тарсис. Не хочу судить я строго, Но к тебе не льнет душа — Так послушай, ради бога, Будь глупа, да хороша.Христос воскрес
Стихотворение написано на Святой неделе с 3-го по 9 апреля 1821 года (предположительно в Пасхальное воскресение!). Оно является одним из трех творений так называемого «антицерковного цикла», в который также входят поэма «Гаврилиада», и послание к В.Д. Давыдову. Пушкин, как и другие чиновники, был обязан соблюдать все церковные обряды – от поста во всю Страстную неделю до посещения всех церковных служб. В тот год до Пушкина доходили тревожные вести о провале греческой революции, все эти обязательные походы в церковь, ненависть к ссылке вгоняли поэта в злость и агрессию. Пушкин высмеивал Церквь не оттого, что он подвергал серьезной критике религию, был недоволен философией, православными догмами, попами или чем бы то ни было ещё, а оттого, что его заставляли в неё ходить, его раздражала необходимость быть ангелом, что с его развратным образом жизни и вовсе представлялось абсурдным. Ему хотелось быть дьяволом, из протеста отсюда и стихи, и поэма. Для него никогда не существовало религиозной проблемы – он просто любил высмеивать то, что его возмущало, насмешка была главным спутником его мировоззрения. Позже, когда его жизнь будет всё более упираться в драму, он не откажется от этой привычки – верного спутника для любых передряг. Существует предположение, что стихотворение появилось в результате того, что Мария Эйхфельдт, любовница Пушкина в это время, попросту заказала поэту стихотворение для своего альбома. К счастью, у Пушкина помимо злобного остроумия была и другая поэтическая сторона – в то же время он работал над прекрасной поэмой «Бахчисарайский фонтан».
Христос Воскрес
Христос воскрес, моя Реввека, Сегодня следуя душой Закону бога-человека, С тобой целуюсь, ангел мой. А завтра к вере Моисея За поцелуй я не робея Готов, еврейка, приступить — И даже то тебе вручить, Чем можно верного еврея От православных отличить.Красавице, которая нюхала табак
Стихотворение написано в 1814 году и при жизни поэта напечатано не было. Пушкину было пятнадцать лет, он учился в Царскосельском лицее и переживал личностное становление, экспериментируя с любовными переживаниями и поэтическими формами – так он не обошел жанр мадригала и стиля рококо. Уже в то время в стихотворении прослеживается знаменитое сплетение иронии и развратности, которые позже с блеском превратятся в пушкинский стиль. В рококо входит: культ галантных отношений, гедонистическая философия, ощущение жизни как иллюзии, острота и мимолетность впечатлений, внешняя красота. Всё это вкупе очень похоже на дальнейшую философию жизни самого Пушкина, очертания которой проявились уже сейчас, на балах в лицее и поэтических опытах. По общепринятой версии, стихотворение обращено к замужней сестре товарища Пушкина по лицею А.М. Горчакова – Елене Михайловне Кантакузен. Пушкин познакомился с Еленой Михайловной в 1814 году, она часто навещала брата в Царскосельском лицее и посещала знаменитые лицейские балы. Немного позже она вышла замуж за участника Отечественной войны 1812 года князя Георгия Кантакузина и уехала с ним жить в Кишинев, где Пушкин снова стал с ней видеться во время своей южной ссылки. Они жили в одном доме – два брата Кантакузины с женами и… поэт, ставший любимцем и завсегдатаем дома. Позже Георгий Кантакузин увез жену в маленькую глухую деревню в Молдавии, где Елена Михайловна прожила почти тридцать лет – вдали от общества и светской жизни. Молодой и красивой Леной Горчаковой увлекался и лучший друг Пушкина И.И. Пущин, именно благодаря ему и известно, кому посвящено стихотворение «Красавице, которая нюхала табак». Исследователи также отмечают метаморфозу, которую претерпела история этого стихотворения – от сомнений в авторстве до безоговорочного его признания, от неуклюжести шуток до магического юмора.
Красавице, которая нюхала табак
Возможно ль? вместо роз, Амуром насаждённых, Тюльпанов, гордо наклонённых, Душистых ландышей, ясминов и лилей, Которых ты всегда любила И прежде всякий день носила На мраморной груди твоей, — Возможно ль, милая Климена, Какая странная во вкусе перемена!.. Ты любишь обонять не утренний цветок, А вредную траву зелёну, Искусством превращённу В пушистый порошок! Пускай уже седой профессор Геттингена, На старой кафедре согнувшися дугой, Вперив в латинщину глубокий разум свой, Раскашлявшись, табак толчёный Пихает в длинный нос иссохшею рукой; Пускай младой драгун усатый Поутру, сидя у окна, С остатком утреннего сна, Из трубки пенковой дым гонит сероватый; Пускай красавица шестидесяти лет, У граций в отпуску и у любви в отставке, Которой держится вся прелесть на подставке, Которой без морщин на теле места нет, Злословит, молится, зевает И с верным табаком печали забывает, — А ты, прелестная!.. но если уж табак Так нравится тебе – о, пыл воображенья! — Ах! если, превращённый в прах, И в табакерке, в заточенье, Я в персты нежные твои попасться мог, Тогда б в сердечном восхищенье Рассыпался на грудь под шалевый платок И даже… может быть… Но что! мечта пустая. Не будет этого никак. Судьба завистливая, злая! Ах, отчего я не табак!..Дельвигу
Стихотворение является начало письма Пушкина к близкому своему другу барону Антону Антоновичу Дельвигу, отправленного из Кишинева 23 марта 1821 года. Антон Дельвиг был другом поэта ещё в Царскосельском лицее. Дельвиг происходил из древнего рода немецких баронов (давно обрусевших, поскольку немецкого Дельвиг уже не знал) и почти всю жизнь прослужил в Министерстве внутренних дел, умер молодым, от тифа, в возрасте тридцати двух лет. Если судить по количеству произведений, обращенных к Дельвигу, Пушкина связывали с другом особенные отношения. «Праздный мир не самое лучшее состояние жизни. Даже и Скарментадо кажется неправ[2] – самого лучшего состояния нет на свете, но разнообразие спасительно для души!» – пишет поэт другу. Также в письме Пушкин просит Дельвига узнать, что «творится» с его братом Львом, шутит над Кюхельбекером и его поездкой в Париж, упоминает «девственную Людмилу», а также с невыразимой нежностью обращается к самому Дельвигу: «В твоем отсутствии сердце напоминало о тебе, о твоей музе – журналы. Ты всё тот же – талант прекрасный и ленивый. Долго ли тебе шалить, долго ли тебе разменивать свой гений на серебряные четвертаки. Напиши поэму славную, только не четыре части дня и не четыре времени, напиши своего «Монаха»[3]. Поэзия мрачная, богатырская, сильная, байроническая – твой истинный удел – умертви в себе ветхого человека – не убивай вдохновенного поэта». Упомянутый в тексте Тимковский Иван Осипович – это петербургский цензор в 1804–1821 гг. С цензурой у поэта были сложные отношения, а с цензорами – исключительными, почти интимными, поскольку от них зависела его дальнейшая жизнь, но и к ним Пушкин относился с иронией. На Тимковского у Пушкина есть целая эпиграмма (почти признание в любви), написанная в 1824 году:
«Тимковский царствовал – и все твердили вслух,
Что в свете не найдёшь ослов подобных двух.
Явился Бируков, за ним вослед Красовский, —
Ну, право, их умней покойный был Тимковский!»
Из-за восстания в Греции в Кишинев хлынул поток сербов, румынов, албанцев, болгар и греков в сопровождении дам известного поведения. Из дневника Пушкина 2 апреля 1821 года: «Вечер провел у H.G. – прелестная гречанка». Существует предположение, что Пушкин имел в виду Елену Гартинг, которая, правда, гречанкой не была, а принадлежала к старинному молдавскому роду. После, когда Пушкин разочаровался в восстании, свою энергию он перебросил (как всегда) в ухаживания за женщинами. Дошло до того, что Пушкин стал смущать барышень во время церковной службы. А однажды, завидев в одном из кишиневских магазинов премилую даму, въехал в магазин прямо на коне. В этот период известны более 15 романов Пушкина, поэтому невозможно представить достоверные факты о героине стихотворения. Существуют сведения, что меньше чем за год, Пушкин уславливался более чем на десять дуэлей, хотя, конечно, не все они были из-за женщин (треть из-за карт).
Дельвигу
Друг Дельвиг, мой парнасский брат, Твоей я прозой был утешен, Но признаюсь, барон, я грешен: Стихам я больше был бы рад. Ты знаешь сам: в минувши годы Я на брегу парнасских вод Любил марать поэмы, оды, И даже зрел меня народ На кукольном театре моды. Бывало, что ни напишу, Всё для иных не Русью пахнет; Об чём цензуру ни прошу, Ото всего Тимковский ахнет. Теперь едва, едва дышу, От воздержанья муза чахнет, И редко, редко с ней грешу. К неверной славе я хладею; И по привычке лишь одной Лениво волочусь за нею, Как муж за гордою женой. Я позабыл её обеты, Одна свобода мой кумир, Но всё люблю, мои поэты, Счастливый голос ваших лир. Так точно, позабыв сегодня Приказы младости своей, Глядит с улыбкой ваша сводня На шашни молодых блядей.Мой друг, уже три дня
Стихотворение написано в марте 1822 года, тогда же у Пушкина вышел скандал с молдавским боярином Тодором Балшем, за тринадцатилетней дочерью которого пытался ухаживать поэт. Повздорив с женой Балша, Пушкин отправился к боярину и потребовал сатисфакцию за поведение его жены. Тодор Балш, будучи членом Верховного совета Бессарабии, что давало ему право носить длинную бороду, был взбешён: «Вы требуете от меня удовлетворения, а сами позволяете себе оскорблять мою жену?» Тогда Пушкин по привычке, свойственной многим нервным карточным игрокам, схватил массивный медный подсвечник и замахнулся на боярина. Однако подоспевшие друзья развели их. На следующий день Тодор Балш, поддавшись настояниям друзей Пушкина, пришёл к поэту с извинениями, а тот дал ему пощечину и вытащил пистолет. К счастью, дуэли удалось избежать. После этого случая, генерал Инзов, под чьей порукой Пушкин пребывал в Кишинёве, посадил его под арест – он запирал его в комнате и, страхуясь от побега, прятал сапоги поэта.
Позже, в письме А.И. Тургеневу от 14 июля 1824 года Пушкин рассказывал: «Старичок Инзов сажал меня под арест всякий раз, как мне случалось побить молдавского боярина». Действительно, это был не последний случай, когда генералу приходилось запирать Пушкина. Подобные скандалы выходили у поэта с молдаванами часто, и Инзов сажал Пушкина под арест, чтобы успокоить возмущённых жалобщиков, а иногда, вероятно, и уберечь от них.
Мой друг, уже три дня
Мой друг, уже три дня Сижу я под арестом И не видался я Давно с моим Орестом. Спаситель молдаван, Бахметьева наместник, Законов провозвестник, Смиренный Иоанн, За то, что ясский пан, Известный нам болван Мазуркою, чалмою, Несносной бородою — И трус, и грубиян — Побит немножко мною, И что бояр пугнул Я новою тревогой, — К моей канурке строгой Приставил караул. Невинной суеты, А именно – мараю Небрежные черты, Пишу карикатуры, — Знакомых столько лиц, Восточные фигуры Ёбаных куковиц И их мужей рогатых, Обритых и брадатых!Рефутация[4] г-на Беранжера
Стихотворение написано в 1827 году и впервые было опубликовано В.П. Гаевским в «Отечественных Записках», в 12-м номере за 1861 год. Исследователи считают, что оно не предназначалось для печати. Злые стихи пародируют знаменитую в то время бонапартистскую песню «T’en souviens-tu, disait un capitaine…» («Ты помнишь ли, говорил капитан…»), которую Пушкин ошибочно приписывал популярному французскому сатирику Беранже, тогда как в действительности текст песни принадлежит перу не менее популярного во Франции поэта Поля Эмиля Дебро. О популярности французской песенки в России свидетельствует нахождение текста с нотами в одном семейном альбоме романсов среди произведений Глинки, Варламова и Титова[5]. (SOUVENIR D’UN MILITAIRE).
Вернувшись из ссылки в Михайловском, поэт находился под пристальным наблюдением агентов Бенкендорфа. Пушкин вел разгульную жизнь и, как многим тогда казалось, променял поэзию на карты. Из донесения начальника 2-го округа корпуса жандармов генерал-майора А. Волкова Бенкендорфу от 5 марта 1827 года: «О поэте Пушкине, сколько краткость времени позволила мне сделать разведании – он принят во всех домах хорошо и, как кажется, не столько теперь занимается стихами, как карточной игрой и променял Музу на Муху, которая теперь из всех игр в большой моде». Пушкин не раз упоминал, что несвобода ему опротивела. Вероятно поэтому, возвратившись из ссылки, Пушкин не только не давал повода агентам Бенкендорфа выслужиться, но даже пытался представить себя как самого благонадежного представителя русского дворянского общества и поборника монархи. Из записки фон Фока в октябре 1827 года: «Поэт Пушкин ведет себя отлично, хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит государя и даже говорит, что ему обязан жизнию, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании и вечных привязках, что он хотел умереть […] Во время дружеских излияний он совершенно откровенно признается, что никогда не натворил бы столько безумия и глупостей, если бы не находился под влиянием Александра Раевского, который, по всем описаниям… должен быть человеком весьма опасным». Следили за Пушкиным настолько усердно, что когда в июне 1827 года поступили в продажу «Цыганы», внимание Бенкендорфа привлекла виньетка, украшавшая обложку. На ней были изображены перевернутый кубок, кинжал, змея, обрывок цепи, лист пергамента и ветви лавра. Глава петербургской жандармерии даже делал специальный запрос, не могут ли являться эти рисунки символами мятежа или готовившегося покушения на государя.
Рефутация г-на Беранжера
Ты помнишь ли, ах, ваше благородье, Мусье француз, говенный капитан, Как помнится у нас в простонародье Над нехристем победы россиян? Хоть это нам не составляет много, Не из иных мы прочих, так сказать; Но встарь мы вас наказывали строго, Ты помнишь ли, скажи, ебана мать? Ты помнишь ли, как за горы Суворов Перешагнув, напал на вас врасплох? Как наш старик трепал вас, живодеров, И вас давил на ноготке, как блох? Хоть это нам не составляет много, Не из иных мы прочих, так сказать; Но встарь мы вас наказывали строго, Ты помнишь ли, скажи ебана мать? Ты помнишь ли, как всю пригнал Европу На нас одних ваш Бонапарт-буян? Французов видели тогда мы многих жопу, Да и твою, говеный капитан! Хоть это нам не составляет много, Не из иных мы прочих, так сказать; Но встарь мы вас наказывали строго, Ты помнишь ли, скажи, ебана мать? Ты помнишь ли, как царь ваш от угара Вдруг одурел, как бубен гол и лыс, Как на огне московского пожара Вы жарили московских наших крыс? Хоть это нам не составляет много, Не из иных мы прочих, так сказать; Но встарь мы вас наказывали строго, Ты помнишь ли, скажи, ебана мать? Ты помнишь ли, фальшивый песнопевец, Ты, наш мороз среди родных снегов И батарей задорный подогревец, Солдатский штык и петлю казаков? Хоть это нам не составляет много, Не из иных мы прочих, так сказать; Во встарь мы вас наказывали строго, Ты помнишь ли, скажи, ебана мать? Ты помнишь ли, как были мы в Париже, Где наш казак иль полковой наш поп Морочил вас, к винцу подсев поближе, И ваших жён похваливал да ёб? Хоть это нам не составляет много, Не из иных мы прочих, так сказать; Но встарь мы вас наказывали строго, Ты помнишь ли, скажи, ебана мать?К кастрату раз пришёл скрипач
Стихотворение написано в Михайловском в сентябре 1835 года, сохранился беловой автограф, который и был опубликован в 1916 году. В сентябре 1836 года Пушкин снова оказался в Михайловском в окружении обстоятельств, которые, возможно, нашли отражение в шутливом стихотворении поэта. Пушкин испытывал сильные материальные трудности, в письме Наталье Гончаровой от 25 сентября жаловался: «А о чём я думаю? Вот о чём: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имение, он его уже вполовину промотал; ваше имении на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000». Помимо этого, Пушкину попросту тосковал и скучал, поскольку все, с кем мог общаться поэт, к этому времени вернулись в Петербург. Лишенный общества и привычных (в том числе и любовных) приключений и развлечений, он тратил избытки своей энергии на верховую езду. Влияло отсутствие общества и на работоспособность Пушкина – он не находил вдохновения, о чем признавался в другом письме Гончаровой от 14 сентября: «Вот уже неделя, как я тебя оставил, милый мой друг, а толку в том не вижу. Писать не начинал и не знаю, когда начну […]. Вот уже три дня как я только что гуляю то пешком, то верхом. Эдак я и осень мою прогуляю, и коли Бог не пошлет нам порядочных морозов, то возвращусь к тебе, не сделав ничего». Вероятно, Пушкин пытался подбодрить самого себя, оказавшегося в безденежном положении, изобразив в анекдотичной форме человека нищего, но полного достоинства и уверенности в себе.
К кастрату раз пришел скрипач
К кастрату раз пришёл скрыпач, Он был бедняк, а тот богач. «Смотри, – сказал певец безмудый, Мои алмазы, изумруды — Я их от скуки разбирал. А! кстати, брат, – он продолжал, — Когда тебе бывает скучно, Ты что творишь, сказать прошу». В ответ бедняга равнодушно: – Я? я муде себе чешу.Недавно тихим вечерком
Стихотворение написано в 1819 г., а опубликовано в 1884 г. Сохранился черновой автограф. Предположительно в стихотворении под образом Наташи скрывается горничная Наташа, с которой в годы отрочества у Пушкина были связаны одни из первых эротических переживаний. Также этот образ может включать в себя другую Наташу – крепостную актрису Наталью, которой Пушкин посвятил стихотворения «К Наталье» (1813) и «К молодой актрисе» (1815). Переживание Пушкина обострялось ревностью её хозяина – графа В.В. Толстого, чьей любовницей она была. Однако в период, когда было написано стихотворение «Недавно тихим вечерком» Пушкин был увлечен Евдокией Овошниковой. В тот год Пушкин близко сошёлся с членом молодежного общества «Зелёная лампа» Никитой Всеволжским, который был влюблен в молодую танцовщицу, ученицу балетного училища Овошникову. Пушкин часто ходил со своим новым другом в церковь при училище – не столько затем, чтобы молиться, сколько полюбоваться прелестной барышней. Нередко двое друзей, устроившись у окна и вооружившись лорнетами, наблюдали затем, как легконогая актриса проносится мимо. Из письма Пушкина к Мансурову от 27 октября 1819 года: «Каждое утро крылатая дева летит на репетицию мимо окон нашего Никиты, по-прежнему подымаются на неё телескопы и (кое-что ещё) – но увы… ты не видишь её, она не видит тебя». Гораздо позже, будучи узником Михайловского в 1824 году он писал Всеволжскому, предаваясь воспоминаниям: «Не могу поверить, чтобы ты забыл меня, милый Всеволжский – ты помнишь Пушкина, проведшего с тобою столько весёлых часов, Пушкина, которого ты видел и пьяного, и влюблённого, не всегда верного твоим субботам, но неизменного твоего товарища в театре, наперсника твоих шалостей, того Пушкина, который отрезвил тебя в страстную пятницу и привел тебя под руку в церковь театральной дирекции, да помолишься господу богу и насмотришься на госпожу Овошникову…» Пушкин ещё долго не мог «отпустить» Евдокию – она упоминается ещё в нескольких письмах, из чего следует, что эта привязанность (не в пример другим) важная в жизни поэта. Впрочем, Пушкин и в этой истории полностью остается собой: поэт пишет в этот период ещё несколько десятков стихотворений, посвящённых… разным дамам.
Недавно тихим вечерком
Недавно тихим вечерком Пришёл гулять я в рощу нашу И там у речки под дубком Увидел спящую Наташу. Вы знаете, мои друзья, К Наташе вдруг подкравшись, я Поцеловал два раза смело, Спокойно девица моя Во сне вздохнула, покраснела; Я дал и третий поцелуй, Она проснуться не желала, Тогда я ей засунул хуй — И тут уже затрепетала.Вишня
До сих не существует доказательств авторства, но в собрания сочинений стихотворение включается с 1857 года под заголовком «Приписываемое Пушкину». Начальные стихи, дополненные Л.Н. Модзалевским, приобрели популярность в качестве детских стихов и неоднократно перепечатывались в детских хрестоматиях[6]. Датируется примерно 1815 годом.
Сюжет «Вишни» строится на казусе, неожиданном повороте и счастливом конце. В 1815 году в жизни юного лицеиста произошла презабавная история. Поэту было шестнадцать лет, и его первые опыты любовных познаний тогда ещё не влекли за собой измен и ревности, салонных скандалов и смертей на дуэлях. У старой фрейлины императора княгини В.М. Волконской была прехорошенькая горничная Наташа, к которой бегали все лицеисты и с ними юный Пушкин. Как-то вечером лицеисты шли к гауптвахте послушать военный оркестр по темному дворцовому коридору. Пушкин, разумеется, не раз сталкивался с хорошенькой Наташей во мраке коридора и, конечно же, не раз ему удавалось пощипать и потискать популярную горничную под её негромкие испуганные возгласы. И вот во мраке коридора прошуршало платье, поэт вздрогнул – конечно, это Наташа! Отстав от друзей, Пушкин увлёк девицу, обнимая её и целуя. В это время где-то открылась дверь, выпустив луч света под своды коридора, и – какой кошмар! Пушкин целовал старуху Волконскую! Надо сказать, Пушкин повел себя не так пылко и задиристо, как мы привыкли о нём читать. С воплями, сверкая пятками, юный поэт побежал прочь от испуганной фрейлины.
Княгиня пожаловалась брату, а тот – Александру I. Царь вызвал директора лицея Е.А. Энгельгардта и потребовал разъяснений. Началось разбирательство, историю удалось замять как неудачную шутку. Впрочем, никто, кроме Пушкина, сильно не расстроился. После всего Александр I сказал Энгельгардту: «…Я беру адвокатство Пушкина на себя, но скажи ему, чтоб это было в последний раз. Между нами, старушка, быть может, в восторге от ошибки молодого человека». Этой чудесной девушке Пушкин посвятил «серьёзное» стихотворение «К Наташе»:
Так, Наталья! признаюся, Я тобою полонён, В первый раз ещё, стыжуся, В женски прелести влюблён. Целый день, как ни верчуся, Лишь тобою занят я; Ночь придет – и лишь тебя Вижу я в пустом мечтанье, Вижу в лёгком одеянье — Будто милая со мной;Вишня
Румяной зарёю Покрылся восток, В селе за рекою Потух огонёк. Росой окропились Цветы на полях, Стада пробудились На мягких лугах. Туманы седые Плывут к облакам, Пастушки младые Спешат к пастухам. С журчаньем стремится Источник меж гор, Вдали золотится Во тьме синий бор. Пастушка младая На рынок спешит И вдаль, припевая, Прилежно глядит. Румянец играет На полных щеках, Невинность блистает На робких глазах. Искусной рукою Коса убрана, И ножка собою Прельщать создана. Корсетом прикрыта Вся прелесть грудей, Под фартуком скрыта Приманка людей. Пастушка приходит В вишенник густой И много находит Плодов пред собой. Хоть вид их прекрасен Красотку манит, Но путь к ним опасен — Бедняжку страшит. Подумав, решилась Сих вишен поесть, За ветвь ухватилась На дерево взлезть. Уже достигает Награды своей И робко ступает Ногой меж ветвей. Бери плод рукою — И вишня твоя, Но, ах! что с тобою, Пастушка моя? Вдали усмотрела, — Спешит пастушок; Нога ослабела, Скользит башмачок. И ветвь затрещала — Беда, смерть грозит! Пастушка упала, Но, ах, какой вид. Сучок преломленный За платье задел; Пастух удивленный Всю прелесть узрел. Среди двух прелестных Белей снегу ног, На сгибах чудесных Пастух то зреть мог, Что скрыто до время У всех милых дам, За что из эдема Был изгнан Адам. Пастушку несчастну С сучка тихо снял И грудь свою страстну К красотке прижал. Вся кровь закипела В двух пылких сердцах, Любовь прилетела На быстрых крылах. Утеха страданий Двух юных сердец, В любви ожиданий Супругам венец. Прельщенный красою, Младой пастушок Горячей рукою Коснулся до ног. И вмиг зарезвился Амур в их ногах; Пастух очутился На полных грудях. И вишню румяну В соку раздавил, И соком багряным Траву окропил.Сводня грустно за столом
Датируется между 10 августа и предположительно 10 октября 1827 года, опубликовано в 1884 году.
В конце июля 1827 года Пушкин вновь едет в Михайловское, пробыв в Петербурге и Москве всего несколько месяцев. Поездка, которую он так ждал, разочаровала его. С восторгом говорил в письме Пушкин брату Лёвушке: «Завтра еду в Петербург – увидеться с дражайшими родителями comme on dit[7] и устроить свои денежные дела». Но оказалось, что Петербург Пушкину также пуст, глуп, скучен и невыносим, как и Москва. В начале июня 1827 года поэт пишет хозяйке имения Тригорское: «Что же мне вам сказать, сударыня, о пребывании моём в Москве и о моём приезде в Петербург – пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны, и так как я притязаю на беспристрастие, то скажу, что если бы мне дали выбирать между обеими, я выбрал бы Тригорское – почти как Арлекин, который на вопрос, что он предпочитает: быть колесованным или повешенным? – ответил: я предпочитаю молочный суп. Я уже накануне отъезда и непременно рассчитываю провести несколько дней Михайловском».
Пушкин по своей старой привычке и в Москве, и в Петербурге вел образ жизни разгульный, однако былого азарта в охоте за юбками он уже не проявлял. Друзей в столицах у поэта не осталось (кроме Антона Дельвига, который «возымел глупость жениться»), и Пушкин коротко сошёлся с Соболевским, который, по свидетельству фон Фока, «возит его [Пушкина. – прим. ред.] по трактирам, кормит и поит на свой счет. Соболевского прозвали «брюхом Пушкина». Однако поддержка и поощрения Соболевским ведение разгульного и бесшабашного существования не могла избавить Пушкина от хандры. Из записей Алексея Вульфа, относящихся к этому периоду: «Вчера обедал у Пушкина в селе его матери, недавно бывшем ещё месте его ссылки, куда он недавно приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жизни столиц и чтобы писать на свободе (другие уверяют, что он приехал оттого, что проигрался)». Разгульность наскучила Пушкину, любовные похождения нагоняли тоску, а легкомысленные барышни известного поведения из увеселительных домов (как, впрочем, и весь столичный свет) вызывали у поэта зевоту. По всей видимости, это временное затишье в озорстве, затишье в любовных интрижках и флирте и позволили Пушкину высказаться о некогда любимых им занятиях и времяпровождениях, как о пустой трате, не приносящей уже ни малейшего удовольствия и даже не вызывавшей желания.
Сводня грустно за столом
Сводня грустно за столом Карты разлагает. Смотрят барышни кругом, Сводня им гадает: «Три девятки, туз червей И король бубновый — Спор, досада от речей И притом обновы… А по картам – ждать гостей Надобно сегодня». Вдруг стучатся у дверей; Барышни и сводня Встали, отодвинув стол, Все толкнули целку, Шепчут: «Катя, кто пришёл? Посмотри хоть в щелку». Что? Хороший человек… Сводня с ним знакома, Он с блядями целый век, Он у них, как дома. Бляди в кухню руки мыть Кинулись прыжками, Обуваться, пукли взбить, Прыскаться духами. Гостя сводня между тем Ласково встречает, Просит лечь его совсем. Он же вопрошает: «Что, как торг идет у вас? Барышей довольно?» Сводня за щеку взялась И вздохнула больно: «Хоть бывало худо мне, Но такого горя Не видала и во сне, Хоть бежать за море. Верите ль, с Петрова дня Ровно до субботы Все девицы у меня Были без работы. Четверых гостей, гляжу, Бог мне посылает. Я блядей им вывожу, Каждый выбирает. Занимаются всю ночь, Кончили, и что же? Не платя, пошли все прочь, Господи мой боже!» Гость ей: «Право, мне вас жаль. Здравствуй, друг Анета, Что за шляпка! что за шаль, Подойди, Жанета. А, Луиза, – поцелуй, Выбрать, так обидишь; Так на всех и встанет хуй, Только вас увидишь». «Что же, – сводня говорит, — Хочете ль Жанету? У неё пизда горит Иль возьмёте эту?» Бедной сводне гость в ответ: «Нет, не беспокойтесь, Мне охоты что-то нет, Девушки, не бойтесь». Он ушел – все стихло вдруг, Сводня приуныла, Дремлют девушки вокруг, Свечка вся оплыла. Сводня карты вновь берёт, Молча вновь гадает, Но никто, никто нейдёт — Сводня засыпает.Тень Баркова
Баллада написана примерно в 1814–1815 гг. и относится к периоду лицейских поэтических опытов. Судьба рукописи поистине захватывающая: содержание блекнет перед историей пути произведения от пера автора до читателя. Баллада «Тень Баркова известна по нескольким спискам. Последнюю он [Пушкин. – Прим. ред.] выдавал сначала за сочинение князя Вяземского, но, увидев, что она пользуется большим успехом, признался, что написал её сам. Это стихотворение, неудобное вполне для печати, представляет местами пародию на балладу Жуковского «Громобой»[8]. О её существовании впервые сообщил в 1863 г. В.П. Гаевский. В случае, когда автограф автора не сохраняется, ставится вопрос атрибуции[9]. Поскольку баллада является скандальной, дискуссия об атрибуции не получила своего развития и вновь возобновилась только в 1928 году, когда рукопись «Монаха» наконец обнаружилась в архиве Горчаковых, о создании которой в одно время с «Тенью Баркова» также говорил Гаевский. Анализ позволил исследователям доказать, что баллада все-таки написана Пушкиным, после чего встал вопрос о публикации с историко-литературным комментарием и обширной базой аргументов в пользу авторства Пушкина. Дело поручили великому русскому филологу М.А. Цявловскому, одному из самых авторитетных и ведущих пушкинистов. Было решено издать балладу вместе с комментариями (обширнейшим кропотливым трудом) Цявловского в виде приложения к Академическому изданию. Цявловский закончил комментарии в 1931 году, полностью реконструировав текст по сохранившимся спискам. И началось! На пути к изданию возникли специфические трудности: как печатать текст, как предотвратить его распространение, неизбежное после сдачи рукописи в набор, и т. д. (Даже перепечатывание на пишущей машинке заняло много времени, поскольку «ни одной машинистке нельзя было поручить эту работу», и перед М.А. Цявловским встала проблема поисков машиниста!»)[10] Невероятными путями удалось найти наборщиков: в типографии НКВД работали всего два наборщика – глухонемые муж и жена. Рукопись набрали, сверстали – и в это время произошел пожар, сгорела типография, а вместе с ней и труд Цявловского (копии которого не осталось), и сверстанная рукопись. Прошло девять или десять лет, и в магазине московского букиниста А.И. Фадеева произошло следующее: посетитель спросил, сколько будет стоит «книжка», которой оказалась вёрстка «Тени Баркова»! Пока букинист решал вопрос цены, в магазин подтянулся знаток книги Д.С. Айзенштадт вместе с Цявловским.
И снова мистика: в это же самое время в магазине присутствовала собирательница редких книг В.Д. Богданова, которая начала скандалить затем, чтобы рукопись продали ей. Для разрешения этого спора специально созвали заседание Правления Союза писателей! Рукопись бесплатно отдали Цявловскому, а расходы на себя взял Литфонд СССР. Прошло ещё несколько лет, на дворе стоял 1943 год, когда на пороге квартиры Цявловских оказалась женщина, поведавшая совершенно удивительную историю. Цявловский тяжело болел и не вставал с постели.
«Я по важному делу, мне непременно нужно с ним поговорить!..» Войдя в спальню, женщина замялась: «Мне неловко говорить… у меня оказалась одна рукопись – там стоит Ваша фамилия». «Рукопись?! Как она к вам попала?» – экспансивный Мстислав Александрович подскочил на кровати. Она, учительница, была мобилизована в начале войны на лесозаготовки, по соседству с которыми расположена воинская часть. По вечерам она слышала, что «лес стонет от хохота, мужского и женского». Когда она поинтересовалась, «из-за чего стонут деревья», оказалось, что солдаты просвещают молодых учительниц чтением «Тени Баркова». Героиня рассказа потребовала у солдат рукопись, но те не пожелали расстаться со своей драгоценностью. Тогда «она пошла на крупнейшую жертву». Собрав имевшиеся у неё талоны, по которым отпускалась водка, она выменяла их на рукопись. Когда она вернулась в Москву, то «держала рукопись под матрацем» («У меня сын шестнадцати лет»). Кто такой Цявловский, она не знала, но однажды, прочитав фамилию в газете, выяснила адрес. Как было благодарить эту женщину? Были собраны все деньги, что имелись в доме («А у Мстислава Александровича никогда не было денег!»). Всего набрали двести рублей и уговорили их принять[11].
После смерти Цявловских рукопись была передана в Рукописный отдел Пушкинского дома, который всё так же не посчитал нужным как следует издать балладу с удивительным исследованием М.А. Цявловского (и всё по той же причине «скабрезности» содержания).
Тень Баркова
1 Однажды зимним вечерком В бордели на Мещанской Сошлись с расстриженным попом Поэт, корнет уланский, Московский модный молодец. Подьячий из Сената Да третьей гильдии купец, Да пьяных два солдата. Всяк, пуншу осушив бокал, Лег с блядью молодою И на постели откатал Горячею елдою. 2 Кто всех задорнее ебет? Чей хуй средь битвы рьяной Пизду кудрявую дерёт Горя как столб багряный? О землемер и пизд и жоп, Блядун трудолюбивый, Хвала тебе, расстрига поп, Приапа жрец ретивый В четвёртый раз ты плешь впустил, И снова щель раздвинул, В четвёртый принял, вколотил И хуй повисший вынул! 3 Повис! Вотще своей рукой Ему милашка дрочит И плешь сжимает пятернёй, И волосы клокочет. Вотще! Под бешеным попом Лежит она, тоскует И ездит по брюху верхом, И в ус его целует. Вотще! Елдак лишился сил, Как воин в тяжей брани, Он пал, главу свою склонил И плачет в нежной длани. 4 Как иногда поэт Хвостов, Обиженный природой, Во тьме полуночных часов Корпит над хладной одой, Пред ним несчастное дитя — И вкривь, и вкось, и прямо Он слово звучное, кряхтя, Ломает в стих упрямо, — Так блядь трудилась над попом, Но не было успеха, Не становился хуй столбом, Как будто бы для смеха. 5 Зарделись щеки, бледный лоб Стыдом воспламенился, Готов с постели прянуть поп. Но вдруг остановился. Он видит – в ветхом сюртуке С спущенными штанами, С хуиной толстою в руке, С отвисшими мудами Явилась тень – идёт к нему Дрожащими стопами, Сияя сквозь ночную тьму Огнистыми очами. 6 «Что сделалось с детиной тут?» — Вещало привиденье. – «Лишился пылкости я муд, елдак в изнеможеньи, Лихой предатель изменил, Не хочет хуй яриться». «Почто ж, ебана мать, забыл Ты мне в беде молиться?» – «Но кто ты?» – вскрикнул Ебаков, Вздрогнув от удивленья. «Твой друг, твой гений я – Барков!» Сказало привиденье. 7 И страхом пораженный поп Не мог сказать ни слова, Свалился на пол будто сноп К портищам он Баркова, «Восстань, любезный Ебаков, Восстань, повелеваю, Всю ярость праведных хуев Тебе я возвращаю. Поди, еби милашку вновь!» О чудо! Хуй ядрёный Встает, краснеет плешь, как кровь, Торчит как кол вонзённый. 8 «Ты видишь, – продолжал Барков, Я вмиг тебя избавил, Но слушай: изо всех певцов Никто меня не славил; Никто! Так мать же их в пизду Хвалы мне их не нужны, Лишь от тебя услуги жду — Пиши в часы досужны! Возьми задорный мой гудок, Играй им как попало! Вот звонки струны, вот смычок, Ума в тебе не мало. 9 Не пой лишь так, как пел Бобров, Ни Шелехова тоном. Шихматов, Палицын, Хвостов Прокляты Аполлоном. И что за нужда подражать Бессмысленным поэтам? Последуй ты, ебана мать, Моим благим советам, И будешь из певцов певец, Клянусь я в том елдою, — Ни черт, ни девка, ни чернец Не вздремлют под тобою». 10 – «Барков! доволен будешь мной!» Провозгласил детина, И вмиг исчез призрак ночной, И мягкая перина Под милой жопой красоты Не раз попом измялась, И блядь во блеске наготы Насилу с ним рассталась. Но вот яснеет свет дневной, И будто плешь Баркова, Явилось солнце за горой Средь неба голубого. 11 И стал трудиться Ебаков: Ебет и припевает Гласит везде: «Велик Барков!» Попа сам Феб венчает; Пером владеет как елдой, Певцов он всех славнее; В трактирах, кабаках герой, На бирже всех сильнее, И стал ходить из края в край С гудком, смычком, мудами. И на Руси воззвал он рай Бумагой и пиздами. 12 И там, где вывеской елдак Над низкой ветхой кровлей, И там, где с блядью спит монах, И в скопищах торговли, Везде затейливый пиит Поёт свои куплеты. И всякий день в уме твердит Баркова все советы. И бабы, и хуястый поп Дрожа ему внимали, И только перед ним подол Девчонки подымали. 13 И стал расстрига-богатырь Как в масле сыр кататься. Однажды в женский монастырь Как начало смеркаться, Приходит тайно Ебаков И звонкими струнами Воспел победу елдаков Над юными пиздами. У стариц нежный секелёк Зардел и зашатался. Как вдруг ворота на замок И пленным поп остался. 14 Вот в келью девы повели Поэта Ебакова. Кровать там мягкая в пыли Является дубова. И поп в постелю нагишом Ложиться поневоле. И вот игуменья с попом В обширном ебли поле. Отвисли титьки до пупа, И щель идет вдоль брюха. Тиран для бедного попа, Проклятая старуха! 15 Честную матерь откатал, Пришлец благочестивый И в думе страждущей сказал Он с робостью стыдливой – «Какую плату восприму?» «А вот, мой сын, какую: Послушай, скоро твоему Не будет силы хую! Тогда ты будешь каплуном, А мы прелюбодея Закинем в нужник вечерком Как жертву Асмодея». 16 О ужас! бедный мой певец, Что станется с тобою? Уж близок дней твоих конец, Уж ножик над елдою! Напрасно еть усердно мнишь Девицу престарелу, Ты блядь усердьем не смягчишь, Под хуем поседелу. Кляни заебины отца И матерну прореху. Восплачьте, нежные сердца, Здесь дело не до смеху! 17 Проходит день, за ним другой, Неделя протекает, А поп в обители святой Под стражей пребывает. О вид, угодный небесам? Игуменью честную Ебёт по целым он часам В пизду её кривую, Ебёт… но пламенный елдак Слабеет боле, боле, Он вянет, как весенний злак, Скошенный в чистом поле. 18 Увы, настал ужасный день. Уж утро пробудилось, И солнце в сумрачную тень Лучами водрузилось, Но хуй детинин не встаёт. Несчастный устрашился, Вотще муде свои трясет, Напрасно лишь трудился; Надулся хуй, растёт, растёт, Вздымается лениво… Он снова пал и не встаёт, Смутился горделиво. 19 Ах, вот скрипя шатнулась дверь, Игуменья подходит, Гласит: «Еще пизду измерь» И взорами поводит, И в руки хуй… но он лежит, Лежит и не ярится, Она щекочет, но он спит, Дыбом не становится… «Добро», – игуменья изрекла И вмиг из глаз сокрылась. Душа в детине замерла, И кровь остановилась. 20 Расстригу мучила печаль, И сердце сильно билось, Но время быстро мчится вдаль, И тёмно становилось. Уж ночь с ебливою луной На небо наступала, Уж блядь в постели пуховой С монахом засыпала. Купец уж лавку запирал, Поэты лишь не спали И, водкою налив бокал, Баллады сочиняли. 21 И в келье тишина была. Вдруг стены покачнулись, Упали святцы со стола, Листы перевернулись, И ветер хладный пробежал Во тьме угрюмой ночи, Баркова призрак вдруг предстал Священнику пред очи. В зелёном ветхом сюртуке С спущёнными штанами, С хуиной толстою в руке, С отвисшими мудами. 22 – «Скажи, что дьявол повелел», – «Надейся, не страшися», – «Увы, что мне дано в удел? Что делать мне?» – «Дрочися!» И грешный стал муде трясти Тряс, тряс, и вдруг проворно Стал хуй все вверх и вверх расти, Торчит елдак задорно. И жарко плешь огнем горит, Муде клубятся сжаты, В могучих жилах кровь кипит, И пышет хуй мохнатый. 23 Вдруг начал щёлкать ключ в замке, Дверь громко отворилась, И с острым ножиком в руке Игуменья явилась. Являют гнев черты лица, Пылает взор собачий, Но вдруг на грозного певца, На хуй попа стоячий Она взглянула, пала в прах, Со страху обосралась, Трепещет бедная в слезах И с духом тут рассталась. 24 – «Ты днесь свободен, Ебаков!» Сказала тень расстриге. Мой друг, успел найти Барков Развязку сей интриге – «Поди! Отверзты ворота, Тебе не помешают, И знай, что добрые дела Святые награждают. Усердно ты воспел меня, И вот за то награда» — Сказал, исчез – и здесь, друзья, Кончается баллада.Желал я душу освежить
При жизни Пушкина напечатано не было, сохранился автограф. Датируется предположительно декабрем (не позднее 21) 1832 г. Опубликовано в 1903 г.
Как известно, Пушкин ревновал свою супругу Наталью Гончарову совсем не без оснований. Гончарова была знатной кокеткой и любительницей флирта. Она со слишком очевидным удовольствием слушала комплименты (иногда весьма нескромные) своих партнёров по танцам, принимала кавалеров в отсутствии супруга, играла веером с заинтересованной улыбкой при других мужчинах. Пушкин же на это не стеснялся проповедовать мораль в письмах к Наталье, прикрывал страх за свою репутацию и простую ревность шутливой досадой и нежным дружеским подтруниванием.
Из писем Пушкина Наталье, осень 1832 года: «Кстати, смотри, не брюхата ли ты, а в таком случае береги себя на первых порах. Верхом не езди, а кокетничай как-то иначе» (25 сентября). «Спасибо, жена. Спасибо и за то, что ложишься рано спать. Нехорошо только, что ты пускаешься в разные кокетства; принимать Пушкина[12] тебе не следовало, во-первых, потому что при мне он у нас ни разу не бывал, во-вторых, хотя я в тебе уверен, но не должно свету подавать повод к сплетням» (27 сентября). Надо сказать, что ревность была взаимной, поскольку Гончарова никак не могла не только выбросить из головы, но и простить Пушкину его многочисленные увлечения юности. «Я ждал от тебя грозы […], а ты так тиха, так снисходительна, так забавна, что чудо. Что это значит? Уж не кокю[13] ли я? … Грех тебе меня подозревать в неверности к тебе» (ок. 30 сентября). «Кокетничаешь со всем дипломатическим корпусом, ты ещё жалуешься на свое положение, будто бы подобное нащокинскому! Жёнка, жёнка!..» (Не позднее 3 октября).
Существуют свидетельства, указывающие на то, что Наталья Гончарова не испытывала к Пушкину физического влечения, отдаваясь супругу лишь формально. Об этой холодности Пушкин сокрушался в стихотворениях «Когда в объятия мои…» и «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем», где «Безмолвно, от стесненных рук / освобождая стан свой гибкой, / ты отвечаешь, милый друг, / мне недоверчивой улыбкой»
Или:
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаёшься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!
Стоит ли удивляться, что Пушкин все чаще стал вспоминать о своих бывших любовницах и пытался искать эротических утех на стороне? В стихотворении, написанном в октябре 1832 года, Пушкин пытается оправдать свои мысли о супружеской неверности: «…Ужель не можно мне / любуясь девою в печальном сладострастье / глазами следовать за ней и в тишине / благословлять её на радость и на счастье». Эти строки поэт посвятил молодой и красивой графине Н.Л. Соллогуб, за которой он волочился. Пушкин успокаивал Наталью Гончарову в письме от 21 октября: «Охота тебе, жёнка, соперничать с Гр. Сол. Ты красавица, ты бой-баба, а она шкурка. Чего тебе перебивать у ней поклонников». Также известно об интимной связи Пушкина с женой австрийского посла Долли Фикельмон, которая на тот момент имела четвёртый месяц беременности. Разочарования в интимных отношениях с Гончаровой, её холодность к супругу, ревность, желание восполнить недостаток женского внимания на стороне – всё это отразилось в стихотворении «Желал я душу осветить».
Желал я душу освежить
Желал я душу освежить, Бывалой жизнию пожить В забвеньи сладком близ друзей Минувшей юности моей. Я ехал в дальные края; Не шумных блядей жаждал я, Искал не злата, не честей, В пыли средь копий и мечей.Леда
Датировано 1814 годом. Впервые опубликовано В.А. Жуковским посмертном издании сочинений Пушкина. Стихотворение является вариацией античного мифа о Леде и лебеде. Леда была дочерью этолийского царя Фестия и женой спартанского царя Тиндарея. Зевс, пленённый красотой Леды, явился к ней в виде лебедя и овладел ею, и Леда родила яйцо (по другим вариантам мифа она снесла несколько яиц), из которого родилась Елена Прекрасная, причина падении Трои. Из-за сильной эротической составляющей миф о Леде и лебеде невероятно популярен у художников и скульпторов. Поэтому не только уроки латинского в лицее повлияли на Пушкина, куда более сильнее повлияла чувственная, глубокая эротика живописи на мотив этого простого, на первый взгляд, мифа.
С самого раннего детства Пушкин чувствовал своё влечение к женщинам. К четырнадцати годам он испытал не одну влюбленность. Поэт приударял за Натальей Кочубей, которая была частой гостьей в Царскосельском лицее, юной прелестной Ворожейкиной, актрисой крепостного театра графа Толстого Натальей, что подарила ему украдкой несколько поцелуев, горничной фрейлины Волконской Наташей. Вот как вспоминал о Пушкине в тот период соученик поэта Сергей Комовский: «Любил подчас, тайно, от своего начальства, приносить некоторые жертвы Бахусу и Венере, волочась за хорошенькими актрисами графа В. Толстого и за субретками приезжавших туда на лето семейств. […] Пушкин до того был женолюбив, что ещё будучи 15–16 лет, от одного прикосновения к руке танцующей во время лицейских балов, взор его пылал, и он пыхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна». По всей видимости, пубертатный возраст Пушкина, чтение французских эротических романов и академическая программа лицея слились не в дикую какофонию, а во вполне идиллический мотив мифа о Леде и лебеде.
Леда кантата
Средь тёмной рощицы, под тенью лип душистых, В высоком тростнике, где частым жемчугом Вздувалась пена вод сребристых, Колеблясь тихим ветерком, Покров красавицы стыдливой, Небрежно кинутый, у берега лежал, И прелести её поток волной игривой С весельем орошал. Житель рощи торопливый, Будь же скромен, о ручей! Тише, струйки говорливы! Изменить страшитесь ей! Леда робостью трепещет, Тихо дышит снежна грудь, Ни волна вокруг не плещет, Ни зефир не смеет дуть. В роще шорох утихает, Все в прелестной тишине; Нимфа далее ступает, Робкой вверившись волне. Но что-то меж кустов прибрежных восшумело, И чувство робости прекрасной овладело; Невольно вздрогнула, не в силах воздохнуть. И вот пернатых царь из-под склонённой ивы, Расправя крылья горделивы, К красавице плывет – веселья полна грудь, С шумящей пеною отважно волны гонит, Крылами воздух бьёт, То в кольцы шею вьёт, То гордую главу, смирясь, пред Ледой клонит. Леда смеётся. Вдруг раздается Радости клик. Вид сладострастный! К Леде прекрасной Лебедь приник. Слышно стенанье, Снова молчанье. Нимфа лесов С негою сладкой Видит украдкой Тайну богов. Опомнясь наконец, красавица младая Открыла тихий взор, в томленьях воздыхая, И что ж увидела? – На ложе из цветов Она покоится в объятиях Зевеса; Меж ними юная любовь, — И пала таинства прелестного завеса. Сим примером научитесь, Розы, девы красоты; Летним вечером страшитесь В тёмной рощице воды: В тёмной рощице таится Часто пламенный Эрот; С хладной струйкою катится, Стрелы прячет в пене вод. Сим примером научитесь, Розы, девы красоты; Летним вечером страшитесь В тёмной рощице воды.Фавна и пастушка
Опубликовано без разрешения Пушкина Б. Федоровым в альманахе «Памятник отечественных муз на 1827 год». Пушкин писал под влиянием французского стихотворения «Les deguisements de Venus» («Превращения Венеры») Парни. В первоначальной редакции стихотворение называлось: «Картины». В не дошедшем до нас автографе Пушкина каждая из восьми картин сопровождалась нарисованными пером иллюстрациями, сообразно с которыми главы назывались: «I. Пастушка. II. Пещера. III. Фавн. IV. Река. V. Чудо. VI. Фиал. VII. Очередь. VIII. Философ».
В этой маленькой шутливой поэме – идиллии Пушкин выводит свой роман с Марией Смит, который происходил ещё во время учёбы в лицее. Мария Смит (урожденная Шарон-Лароз) была дальней родственницей директора лицей Энгельгардта. Смит – француженка, по воспоминаниям В.П. Гаевского, «весьма миловидная, любезная и остроумная женщина». Вдова, однако, была молода и внешне очень привлекательна. По некоторым сведениям, Пушкин увлекся Смит в то время, когда та была беременной. Директор Энгельгардт часто устраивал у себя дома «семейные вечера», куда приглашал и лицеистов. По всей видимости, молодой ученик Пушкин заметил Марию Смит на одном из таких вечеров, где предавались типичным для того времени развлечениям – вроде игры в шарады и музицированию. Однако если пользоваться стихами как документом, то выходит, что Пушкин достиг своей цели и соблазнил вдову. Разобрать, где фрагменты, написанные с натуры, а где полёт пушкинской фантазии, нет никакой возможности. В своей поэзии Пушкин выводил Марию Смит под именем Лилы и Лиды, посвятил ей ряд стихотворений в период с 1816-го по 1817 год: «Слово милой» (1816), «Послание Лиде» (1816), «Письмо к Лиде» (1817), «К молодой вдове» (1817). Последнее и послужило поводом для скандала между Пушкиным и директором Энгельгардтом. Стихотворение «К молодой вдове», где поэт рассказывает о тайных ночных свиданиях и о страхе красивой вдовы перед загробной местью мертвого мужа за то, что та бесстыдно принимает молодого любовника, быстро разошлось по лицею и попало в руки сначала самой Марии Смит, а после и Энгельгардту.
Кроме этого, существуют сведенья, что Смит пожаловалась своему родственнику на такое компрометирующее стихотворение.
Но поскольку сама Смит была не робкого десятка, остроумной и острой на язык, а также весьма прилично владела пером, то вместо скандала предпочла ответить Пушкину его же оружием. Её небольшой стихотворный опус «Когда поэт в своем экстазе…» разошёлся по лицею так же быстро, как и стихи самого Пушкина. После этого они ещё несколько раз обменивались стихотворными посланиями, но вскоре Энгельгардт, будучи человеком старых нравов, предпочел не дожидаться развязки весьма скользкой ситуации и удалил Марию Смит из Царского Села.
Впоследствии Пушкин никогда больше не обращался ни к образу Лилы в стихах, ни к воспоминаниям о её прототипе Марии Смит в своих письмах и дневниках. Никаких воспоминаний – они ушли вместе с лицейской эпохой, и эта интрижка навсегда ушла из памяти поэта. Само затухание всех чувств по поводу Смит и отразились в истории «Фавна и пастушки».
Мария Смит вышла замуж во второй раз и стала носить фамилию Паскаль, а Пушкин, закончив Лицей, приехал в Петербург, где по свидетельствам А.И. Тургенева, «скакал по бульварам и по бл. м» и заимел гонорею.
Фавна и пастушка
I С пятнадцатой весною, Как лилия с зарёю, Красавица цветёт; Всё в ней очарованье: И томное дыханье, И взоров томный свет, И груди трепетанье, И розы нежный цвет — Всё юность изменяет. Уж Лилу не пленяет Весёлый хоровод: Одна у сонных вод, В лесах она таится, Вздыхает и томится, И с нею там Эрот. Когда же ночью тёмной Её в постеле скромной Застанет тихий сон, С волшебницей мечтою; И тихою тоскою Исполнит сердце он — И Лила в сновиденьи Вкушает наслажденье И шепчет «О Филон!» II Кто там, в пещере тёмной, Вечернею порой, Окован ленью томной Покоится с тобой? Итак, уж ты вкусила Все радости любви; Ты чувствуешь, о Лила, Волнение в крови, И с трепетом, смятеньем, С пылающим лицом, Ты дышишь упоеньем Амура под крылом. О жертва страсти нежной, В безмолвии гори! Покойтесь безмятежно До пламенной зари. Для вас поток игривый Угрюмой тьмой одет, И месяц молчаливый Туманный свет лиет; Здесь розы наклонились Над вами в тёмный кров; И ветры притаились, Где царствует любовь… III Но кто там, близ пещеры В густой траве лежит? На жертвенник Венеры С досадой он глядит; Нагнулась меж цветами Косматая нога; Над грустными очами Нависли два рога. То Фавн, угрюмый житель Лесов и гор крутых, Докучливый гонитель Пастушек молодых. Любимца Купидона — Прекрасного Филона Давно соперник он…. В приюте сладострастья Он слышит вздохи счастья И неги томный стон. В безмолвии несчастный Страданья чашу пьёт, И в ревности напрасной Горючи слезы льёт. Но вот ночей царица Скатилась за леса, И тихая денница Румянит небеса; Зефиры прошептали — И фавн в дремучий бор Бежит сокрыть печали В ущельях диких гор. IV Одна поутру Лила Нетвёрдою ногой Средь рощицы густой Задумчиво ходила. «О, скоро ль, мрак ночной, С прекрасною луной Ты небом овладеешь? О, скоро ль, тёмный лес, В туманах засинеешь На западе небес?» Но шорох за кустами Ей слышится глухой, И вдруг – сверкнул очами Пред нею бог лесной! Как вешний ветерочек, Летит она в лесочек: Он гонится за ней. И трепетная Лила Все тайны обнажила Младой красы своей; И нежна грудь открылась Лобзаньям ветерка, И стройная нога Невольно обнажилась. Порхая над травой, Пастушка робко дышит; И Фавна за собой Всё ближе, ближе слышит. Уж чувствует она Огонь его дыханья… Напрасны все старанья: Ты Фавну суждена! Но шумная волна Красавицу сокрыла: Река – её могила… Нет! Лила спасена. V Эроты златокрылы И нежный Купидон На помощь юной Лилы Летят со всех сторон; Все бросили Цитеру, И мирных сёл Венеру По трепетным волнам Несут они в пещеру — Любви пустынный храм. Счастливец был уж там. И вот уже с Филоном Веселье пьёт она, И страсти легким стоном Прервалась тишина… Спокойно дремлет Лила На розах нег и сна, И луч свой угасила За облаком луна. VI Поникнув головою, Несчастный бог лесов Один с вечерней тьмою Бродил у берегов: «Прости, любовь и радость! — Со вздохом молвил он: — В печали тратить младость Я роком осуждён!» Вдруг из лесу румяный, Шатаясь, перед ним Сатир явился пьяный С кувшином круговым; Он смутными глазами Пути домой искал И козьими ногами Едва переступал; Шел, шел и натолкнулся На Фавна моего, Со смехом отшатнулся, Склонился на него…. «Ты ль это, брат любезный?» — Вскричал Сатир седой: — В какой стране безвестной Я встретился с тобой?» «Ах! – молвил Фавн уныло, — Завяли дни мои! Всё, всё мне изменило, Несчастен я в любви». «Что слышу? От Амура Ты страждешь и грустишь, Малютку-бедокура И ты боготворишь? Возможно ль? Так забвенье В кувшине почерпай, И чашу в утешенье Наполни через край!» И пена засверкала И на краях шипит, И с первого фиала Амур уже забыт. VII Кто ж, дерзостный, владеет Твоею красотой? Неверная, кто смеет Пылающей рукой Бродить по груди страстной, Томиться, воздыхать И с Лилою прекрасной В восторгах умирать? Итак, ты изменила? Красавица, пленяй, Спеши любить, о Лила! И снова изменяй. VIII Прошли восторги, счастье, Как с утром лёгкий сон; Где тайны сладострастья? Где нежный Палемон? О Лила! вянут розы Минутныя любви: Познай же грусть и слезы, И ныне тёрны рви. В губительном стремленьи За годом год летит, И старость в отдаленьи Красавице грозит. Амур уже с поклоном Расстался с красотой, И вслед за Купидоном Веселья скрылся рой. В лесу пастушка бродит Печальна и одна: Кого же там находит? Вдруг Фавна зрит она. Философ козлоногий Под липою лежал И пенистый фиал, Венком украсив роги, Лениво осушал. Хоть Фавн и не находка Для Лилы прежних лет, Но вздумала красотка Любви раскинуть сеть: Подкралась, устремила На Фавна томный взор И, слышал я, клонила К развязке разговор. Нo Фавн с улыбкой злою, Напеня свой фиал, Качая головою, Красавице сказал: «Нет, Лила! я в покое — Других, мой друг, лови; Есть время для любви, Для мудрости – другое. Бывало я тобой В безумии пленялся, Бывало восхищался Коварной красотой. И сердце, тлея страстью, К тебе меня влекло. Бывало…. но, по счастью, Что было – то прошло».Две надписи к картинкам из «Онегина», приложенными к «Невскому альманаху»
Записи стихов предшествует такое сообщение Пущина: "В память нескольких недель, проведенных со мною на водах, Пушкин написал стихи на виньетках из «Евгения Онегина» в бывшем у меня «Невском Альманахе». Альманах этот не сохранился, но сохранились в памяти некоторые стихи, карандашом им тогда написанные. Вот они:» Заглавия к этому и к следующему стихотворениям переписчиками давались самые разнообразные. Печатается по записи Соболевского. Датируется предположительно 7 августа – 8 сентября 1829 г. Опубликовано за границей в 1859 г.
I
Вот перешедши чрез мост Кокушкин, Опершись жопой о гранит, Сам Александр Сергеевич Пушкин С мосье Онегиным стоит. Не удостоивая взглядом Твердыню власти роковой, Он к крепости стал гордо задом: Не плюй в колодезь, милый мой!II
Пупок чернеет сквозь рубашку, Наружу титька – милый вид! Татьяна мнёт в руке бумажку Зане живот у ней болит: Она затем поутру встала При бледных месяца лучах И на подтирку изорвала Конечно «Невский альманах».Автопортрет с Онегиным на набережной Невы: автоиллюстрация к гл. 1 романа «Евгений Онегин». Помета под рисунком: «1 хорош. 2 должен быть опершися на гранит. 3. лодка, 4. Крепость Петропавловская». В письме к Л. С. Пушкину. ПД, № 1261, л. 34. Нег. № 7612. 1824 г., начало ноября. Библиографические записки, 1858, т. 1, № 4 (рисунок воспроизведен на листе без пагинации, после столбца 128; публикация С. А. Соболевского); Либрович, 1890, с. 37 (воспр.), 35, 36, 38; Эфрос, 1945, с. 57 (воспр.), 98, 100; Томашевский, 1962, с. 324, примеч. 2; Цявловская, 1980, с. 352 (воспр.), 351, 355, 441.
От всенощной
Написано ещё в лицейскую бытность Пушкина в период с 1814-го по май 1817 года. Впервые стихотворение было опубликовано И.И. Пущиным в восьмом номере альманаха «Анатея» в 1859. Автограф неизвестен, однако сохранилось две копии: копия Пущина и копия в тетради княгини Н.А. Долгоруковой. В своих «Записках о Пушкине» лицейский друг поэта Пущин так рассказал историю возникновения этого стихотворения: «Сидели мы с Пушкиным однажды вечером в библиотеке у открытого окна. Народ выходил из церкви от всенощной; в толпе я заметил старушку, которая о чем-то горячо с жестами рассуждала с молодой девушкой, очень хорошенькой. Среди болтовни я говорю Пушкину, что любопытно бы знать, о чём так горячатся они, о чём так спорят, идя от молитвы? Он почти не обратил внимания на мои слова, всмотрелся, однако, в указанную мною чету и на другой день встретил меня стихами: «От всенощной вечор идя домой…» (и т. д.). «Вот что ты заставил меня написать, любезный друг», – сказал он, видя, что я несколько призадумался, выслушав его стихи, в которых поразило меня окончание. В эту минуту подошёл к нам Кайданов (лицейский профессор исторических наук), мы собирались в его класс. Пушкин и ему прочёл свой рассказ. Кайданов взял его за ухо и тихонько сказал ему: «Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать её». Пушкин, надо сказать, последовал совету, но Пущина так позабавила и эта история, и само стихотворение, что он опубликовал его.
От всенощной
От всенощной вечор идя домой, Антипьевна с Марфушкою бранилась; Антипьевна отменно горячилась. «Постой, – кричит, – управлюсь я с тобой; Ты думаешь, что я уж и забыла Ту ночь, когда, забравшись в уголок, Ты с крестником Ванюшкою шалила? Постой, о всём узнает муженёк!» – Тебе ль грозить! – Марфушка отвечает: Ванюша – что? Ведь он ещё дитя; А сват Трофим, который у тебя И день, и ночь? Весь город это знает. Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна, А всякого словами разобидишь; В чужой пизде соломинку ты видишь, А у себя не видишь и бревна.Поэмы
Гаврилиада
Поэма «Гаврилиада» написана на Святой неделе апреля 1821 года в Кишиневе. Вскоре Пушкин написал и отправил копии своим друзьям, и к 1826 году произведение было уже известно.
Вяземский называл её «прекрасной шалостью». «Гаврилиада» оказалась настолько демонической и скандальной, что её авторство не все готовы были признать за Пушкиным. Пушкин, сам Пушкин опустился до осмеяния Девы Марии, архангела и всей христианской веры! Сложность ситуации была связана ещё и с тем, что всю жизнь и сам поэт открещивался от авторства.
Из-за преследования Пушкина цензурой сохранился только собственноручный отрывок плана.
«…На листе № 28 тетради № 2365, среди грудящихся друг на друге рисунков – женских профилей, силуэтов и портрета Гёте – значатся несколько изобличающих слов: «Святой дух призывает Гавриила, открывает ему свою любовь и производит в сводники. Гавриил влюблен. (Это вычеркнуто.) Сатана и Мария»[14].
К концу жизни поэт принял меры по уничтожению всех известных ему списков (писем с упоминаниями, копий), и до нас поэма дошла большей частью по испорченным спискам.
В поэму заложен недвусмысленный политический подтекст – критика самодержавия. Именно царская власть использовала в качестве средства против свободомыслия религию, мистику и суеверия. «Переосмысленный» рассказ о благовещении и библейское предание о грехопадении являются подражанием Вольтеру и его антирелигиозным произведениям («Орлеанская девственница»), отмечено и влияние Парни («Война богов» и «Потерянный рай»), из которого поэт заимствовал стихотворный размер и некоторые эпизоды. В 1828 году «богомерзкое» творение попало в руки петербургского митрополита по доносу штабс-капитана Митькова, который читал эту поэму вслух. Дело передали в следственную комиссию, и протекало оно под непосредственным контролем Николая I, когда же вызвали самого Пушкина, он отрекся от текста, заявив, что поэму эту он видел ещё в лицее, переписал её, но впоследствии сжёг. Поднялся громкий скандал, возбудили дело: Александру Сергеевичу вменялось богохульство, оскорбление религии, и всё могло закончиться новой ссылкой. Мистическим образом произошло некое объяснение с царем, в результате которого поэт был «прощён». Пушкин написал письмо на имя Николая I, которое было передано ему нераспечатанным – считается, что в нём содержалось признание. Скорее всего, «прощение» было связано с какими-то серьёзными обстоятельствами.
Пушкин писал Вяземскому: «Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла наконец «Гаврилиада»; приписывают её мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дмитрий Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами». По указанию Бенкендорфа всю корреспонденцию читала полиция, о чём Пушкин знал, поэтому, запутывая следы, поэт писал Вяземскому о якобы авторстве Горчакова, но по иронии судьбы именно у Вяземского и хранился оригинал поэмы.
В том же письме Вяземскому: «Я пустился в свет, потому что бесприютен. Если б не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер. Но она утешительна, смешна и мила. Я ей пишу стихи. А она произвела меня в свои сводники (к чему влекли меня и всегдашняя склонность, и нынешнее состоянье моего Благонамеренного, о коем можно сказать то же, что было сказано о его печатном тезке: ей-ей намерение благое, да исполнение плохое). Ты зовёшь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее. Прямо, прямо на восток…».
Судьба Пушкина похожа на восточный ковер: бесконечный хаотичный узор, где постоянно повторяются элементы, на первый взгляд, бесхитростные, но являющие собой систему событий, переживаний, мыслей и, конечно же, нескончаемых любовных развлечений.
Весь этот пёстрый калейдоскоп складывается в весьма сложную гармонию со своими порядками, закономерностями и не всегда поддающимися однозначной интерпретации ситуациями.
«Медная Венера», которую упоминает Пушкин, никто иная как А.Ф. Закревская, урожденная Толстая, дочь брата деда Л.Н. Толстого, жена министра внутренних дел А. А. Закревского – «женщина умная, бойкая и имевшая немало любовных приключений…» У Пушкина был роман с Аграфеной Федоровной летом и осенью 1828 года. Пушкин был сильно ею увлечен: писал стихи и «сходил с ума». Поэт посвятил ей «Портрет», «Наперсник», «Счастлив, кто избран своенравно…», «Когда твои младые лета», она же Нина в «Евгении Онегине», она же Клеопатра…
Пушкину принадлежит целый букет женских образов, для поэта всегда были важны интимные переживания, так как они были основой его поэтической жизни.
На полях черновика «Полтавы» он нарисовал её фигуру. Аграфена приходила проститься с Пушкиным в склеп Коннюшенной церкви. Незадолго до его последней дуэли они виделись, и Пушкин на прощание шепнул на ухо: «Может быть, вы никогда меня больше не увидите».
Но пока до этого далеко – в 1821 году у Пушкина один роман шёл за другим, а иногда и параллельно. В год написания «Гаврилиады» он встречался с Аглаей Давыдовой: «Весьма хорошенькая, ветреная и кокетливая, как истая француженка, искала в развлечениях средство не умереть со скуки в варварской России». Пушкин посвятил ей стихотворения «Кокетке», «A son amant Egler» и злую эпиграмму «Иной имел мою Аглаю». Пока был в Кишиневе, познакомился с ревнивой женщиной по имени Екатерина Альбрехт. Пушкин писал: «Женщина историческая и пылкой страсти».
Потом была Людмила Инглези – цыганка, которая, если верить тогдашним слухам, вскоре после разлуки с поэтом умерла от тоски и неразделенного чувства.
А потом у Пушкина была феерическая Калипсо Полихрони – пятнадцатилетняя любовница Байрона, гречанка, говорившая на шести языках и приехавшая в Кишинев из Одессы в середине 1821 года с матерью.
Мать Калипсо славилась как колдунья-предсказательница будущего – у неё на голове был бархатный черный колпак с каббалистическими знаками, а когда она входила в транс, её волосы вставали дыбом и приподнимали колпак. Калипсо была плоскогрудой, с орлиным носом, маленькой и тощей. Чёрные густые волосы красиво контрастировали с нарумяненными по турецкой моде щеками. Она прекрасно пела: «У неё голос был нежный, увлекательный не только, когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные, мрачные турецкие песни». Одну из них, прямо с её слов Пушкин переложил на русский язык под названием «Чёрная шаль». Что касается любовной страсти, Пушкина к ней тянула носившаяся по Кишиневу легенда о том, что Калипсо познавала страсть в объятьях самого лорда Байрона!
Когда Пушкин предавался любви с маленькой Калипсо, он впадал в экстатическое состояние, ибо ему казалось, что так он вступает в контакт со своим кумиром, собратом и «духовным наставником».
Пушкин писал Вяземскому: «Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь ли ты в Кишенёв? Я познакомлю тебя <…> и с гречанкою, которая целовалась с Байроном». Поэт посвятил ей стихотворения «Гречанке» и «Иностранке».
Гаврилиада
Воистину еврейки молодой Мне дорого душевное спасенье. Приди ко мне, прелестный ангел мой, И мирное прими благословенье. Спасти хочу земную красоту! Любезных уст улыбкою довольный, Царю небес и господу Христу Пою стихи на лире богомольной. Смиренных струн, быть может, наконец Её пленят церковные напевы, И дух святой сойдет на сердце девы; Властитель он и мыслей, и сердец. Шестнадцать лет, невинное смиренье, Бровь тёмная, двух девственных холмов Под полотном упругое движенье, Нога любви, жемчужный ряд зубов… Зачем же ты, еврейка, улыбнулась, И по лицу румянец пробежал? Нет, милая, ты право обманулась: Я не тебя – Марию описал. В глуши полей, вдали Ерусалима, Вдали забав и юных волокит (Которых бес для гибели хранит), Красавица, никем ещё не зрима, Без прихотей вела спокойный век. Её супруг, почтенный человек, Седой старик, плохой столяр и плотник, В селенье был единственный работник, И день, и ночь, имея много дел То с уровнем, то с верною пилою, То с топором, не много он смотрел На прелести, которыми владел, И тайный цвет, которому судьбою Назначена была иная честь, На стебельке не смел ещё процвесть. Ленивый муж своею старой лейкой В час утренний не орошал его; Он как отец с невинной жил еврейкой, Её кормил – и больше ничего. Но, братие, с небес во время оно Всевышний бог склонил приветный взор На стройный стан, на девственное лоно Рабы своей – и, чувствуя задор, Он положил в премудрости глубокой Благословить достойный вертоград. Сей вертоград, забытый, одинокий, Щедротою таинственных наград. Уже поля немая ночь объемлет; В своем углу Мария сладко дремлет. Всевышний рек, – и деве снится сон: Пред нею вдруг открылся небосклон Во глубине своей необозримой; В сиянии и славе нестерпимой Тьмы ангелов волнуются, кипят, Бесчисленны летают серафимы, Струнами арф бряцают херувимы, Архангелы в безмолвии сидят, Главы закрыв лазурными крылами, — И, яркими овеян облаками, Предвечного стоит пред ними трон. И светел вдруг очам явился он… Все пали ниц… Умолкнул арфы звон. Склонив главу, едва Мария дышит, Дрожит как лист и голос бога слышит: «Краса земных любезных дочерей, Израиля надежда молодая! Зову тебя, любовию пылая, Причастница ты славы будь моей: Готова будь к неведомой судьбине, Жених грядёт, грядёт к своей рабыне». Вновь облаком оделся божий трон; Восстал духов крылатый легион, И раздались небесной арфы звуки… Открыв уста, сложив умильно руки, Лицу небес Мария предстоит. Но что же так волнует и манит Её к себе внимательные взоры? Кто сей в толпе придворных молодых С неё очей не сводит голубых? Пернатый шлем, роскошные уборы, Сиянье крыл и локонов златых, Высокий стан, взор томный и стыдливый — Всё нравится Марии молчаливой. Замечен он, один он сердцу мил! Гордись, гордись, архангел Гавриил! Пропало всё. Не внемля детской пени, На полотне так исчезают тени, Рождённые в волшебном фонаре. Красавица проснулась на заре И нежилась на ложе томной лени. Но дивный сон, но милый Гавриил Из памяти её не выходил. Царя небес пленить она хотела, Его слова приятны были ей, И перед ним она благоговела, — Но Гавриил казался ей милей… Так иногда супругу генерала Затянутый прельщает адъютант. Что делать нам? Судьба так приказала, — Согласны в том невежда и педант. Поговорим о странностях любви (Другого я не смыслю разговора). В те дни, когда от огненного взора Мы чувствуем волнение в крови, Когда тоска обманчивых желаний Объемлет нас и душу тяготит, И всюду нас преследует, томит Предмет один и думы, и страданий, — Не правда ли? В толпе младых друзей Наперсника мы ищем и находим. С ним тайный глас мучительных страстей Наречием восторгов переводим. Когда же мы поймали на лету Крылатый миг небесных упоений И к радостям на ложе наслаждений Стыдливую склонили красоту, Когда любви забыли мы страданье И нечего нам более желать, — Чтоб оживить о ней воспоминанье, С наперсником мы любим поболтать. И ты, господь, познал её волненье, И ты пылал, о боже, как и мы. Создателю постыло все творенье, Наскучило небесное моленье, — Он сочинял любовные псалмы И громко пел: «Люблю, люблю Марию, В унынии бессмертие влачу… Где крылия? К Марии полечу И на груди красавицы почию!..» И прочее… всё, что придумать мог, — Творец любил восточный, пестрый слог. Потом, призвав любимца Гавриила, Свою любовь он прозой объяснял. Беседы их нам церковь утаила, Евангелист немного оплошал! Но говорит армянское преданье, Что царь небес, не пожалев похвал, В Меркурии архангела избрал, Заметя в нём и ум, и дарованье, — И вечерком к Марии подослал. Архангелу другой хотелось чести: Нередко он в посольствах был счастлив; Переносить записочки да вести Хоть выгодно, но он самолюбив. И славы сын, намеренья сокрыв, Стал нехотя услужливый угодник Царю небес… а по-земному сводник. Но, старый враг, не дремлет сатана! Услышал он, шатаясь в белом свете, Что бог имел еврейку на примете, Красавицу, которая должна Спасти наш род от вечной муки ада. Лукавому великая досада — Хлопочет он. Всевышний между тем На небесах сидел в унынье сладком, Весь мир забыл, не правил он ничем — И без него всё шло своим порядком. Что ж делает Мария? Где она, Иосифа печальная супруга? В своем саду, печальных дум полна, Проводит час невинного досуга И снова ждет пленительного сна. С её души не сходит образ милый, К архангелу летит душой унылой. В прохладе пальм, под говором ручья Задумалась красавица моя; Не мило ей цветов благоуханье, Не весело прозрачных вод журчанье… И видит вдруг: прекрасная змия, Приманчивой блистая чешуею, В тени ветвей качается над нею И говорит: «Любимица небес! Не убегай, я пленник твой послушный…» Возможно ли? О, чудо из чудес! Кто ж говорил Марии простодушной, Кто ж это был? Увы, конечно, бес. Краса змии, цветов разнообразность, Её привет, огонь лукавых глаз Понравились Марии в тот же час. Чтоб усладить младого сердца праздность, На сатане покоя нежный взор, С ним завела опасный разговор: «Кто ты, змия? По льстивому напеву, По красоте, по блеску, по глазам — Я узнаю того, кто нашу Еву Привлечь успел к таинственному древу И там склонил несчастную к грехам. Ты погубил неопытную деву, А с нею весь адамов род и нас. Мы в бездне бед невольно потонули. Не стыдно ли?» – Попы вас обманули, И Еву я не погубил, а спас! «Спас! от кого?» – От бога. «Враг опасный!» – Он был влюблен… «Послушай, берегись!» – Он к ней пылал… «Молчи!» – …любовью страстной, Она была в опасности ужасной. «Змия, ты лжешь!» – Ей-богу! «Не божись». – Но выслушай… Подумала Мария: «В час утренний не орошал его; Он как отец с невинной жил еврейкой, Её кормил – и больше ничего. Не хорошо в саду, наедине, Украдкою внимать наветам змия, И кстати ли поверить сатане? Но царь небес меня хранит и любит, Всевышний благ: он, верно, не погубит Своей рабы, – за что ж? за разговор! К тому же он не даст меня в обиду, Да и змия скромна довольно с виду. Какой тут грех? где зло? пустое, вздор!» Подумала и ухо приклонила, Забыв на час любовь и Гавриила. Лукавый бес, надменно развернув Гремучий хвост, согнув дугою шею, С ветвей скользит – и падает пред нею; Желаний огнь во грудь её вдохнув, Он говорит: «С рассказом Моисея Не соглашу рассказа моего: Он вымыслом хотел пленить еврея, Он важно лгал, – и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный, Стал Моисей известный господин, Но я, поверь, – историк не придворный, Не нужен мне пророка важный чин! Они должны, красавицы другие, Завидовать огню твоих очей; Ты рождена, о Скромная Мария, Чтоб изумлять Адамовых детей, Чтоб властвовать их легкими сердцами, Улыбкою блаженство им дарить, Сводить с ума двумя-тремя словами, По прихоти – любить и не любить… Вот жребий твой. Как ты – младая Ева В своем саду скромна, умна, мила, Но без любви в унынии цвела; Всегда одни, глаз-на-глаз, муж и дева На берегах Эдема светлых рек В спокойствии вели невинный век. Скучна была их дней однообразность. Ни рощи сень, ни молодость, ни праздность — Ничто любви не воскрешало в них; Рука с рукой гуляли, пили, ели, Зевали днем, а ночью не имели Ни страстных игр, ни радостей живых… Что скажешь ты? Тиран несправедливый, Еврейский бог, угрюмый и ревнивый, Адамову подругу полюбил, Её хранил для самого себя… Какая честь и что за наслажденье! На небесах как будто в заточенье, У ног его молися да молись, Хвали его, красе его дивись, Взглянуть не смей украдкой на другого, С архангелом тихонько молвить слово; Вот жребий той, которую творец Себе возьмет в подруги наконец. И что ж потом? За скуку, за мученье, Награда вся дьячков осиплых пенье, Свечи старух докучная мольба, Да чад кадил, да образ; под алмазом, Написанный каким-то богомазом… Как весело! Завидная судьба! Мне стало жаль моей прелестной Евы; Решился я, создателю на зло, Разрушить сон и юноши, и девы. Ты слышала, как все произошло? Два яблока, вися на ветке дивной, (Счастливый знак, любви символ призывный), Открыли ей неясную мечту, Проснулося неясное желанье: Она свою познала красоту, И негу чувств, и сердца трепетанье, И юного супруга наготу! Я видел их! Любви – моей науки — Прекрасное начало видел я. В глухой лесок ушла чета моя… Там быстро их блуждали взгляды, руки… Меж милых ног супруги молодой, Заботливый, неловкий и немой, Адам искал восторгов упоенья, Неистовым исполненный огнём, Он вопрошал источник наслажденья И, закипев душой, терялся в нём… И, не страшась божественного гнева, Вся в пламени, власы раскинув, Ева, Едва, едва устами шевеля, Лобзанием Адаму отвечала, В слезах любви, в бесчувствии лежала Под сенью пальм, – и юная земля Любовников цветами покрывала. Блаженный день! Увенчанный супруг Жену ласкал с утра до тёмной ночи, Во тьме ночной смыкал он редко очи, Как их тогда украшен был досуг! Ты знаешь: бог, утехи прерывая, Чету мою лишил навеки рая. Он их изгнал из милой стороны, Где без трудов они так долго жили И дни свои невинно проводили В объятиях ленивой тишины. Но им открыл я тайну сладострастья И младости веселые права, Томленье чувств, восторги, слезы счастья. И поцелуй, и нежные слова. Скажи теперь: ужели я предатель? Ужель Адам несчастлив от меня? Не думаю, но знаю только я, Что с Евою остался я приятель». Умолкнул бес. Мария в тишине Коварному внимала сатане. «Что ж? – думала, – быть может, прав лукавый. Слыхала я: ни почестьми, ни славой, Ни золотом блаженства не купить; Слыхала я, что надобно любить… Любить! Но как, зачем и что такое?…» А между тем вниманье молодое Ловило всё в рассказах сатаны: И действия, и странные причины, И смелый слог, и вольные картины… (Охотники мы все до новизны). Час от часу неясное начало Опасных дум казалось ей ясней, И вдруг змии как будто не бывало — И новое явленье перед ней: Мария зрит красавца молодого У ног её, не говоря ни слова, К ней устремив чудесный блеск очей, Чего-то он красноречиво просит, Одной рукой цветочек ей подносит, Другая мнет простое полотно И крадется под ризы торопливо, И лёгкий перст касается игриво До милых тайн… Все для Марии диво, Все кажется ей ново, мудрено, — А между тем румянец нестыдливый На девственных ланитах заиграл — И томный взор, и вздох нетерпеливый Младую грудь Марии подымал. Она молчит: но вдруг не стало мочи, Закрылися блистательные очи, К лукавому склонив на грудь главу, Вскричала: ах! – и пала на траву… О милый друг! Кому я посвятил Мой первый сон надежды и желанья, Красавица, которой был я мил, Простишь ли мне мои воспоминанья? Мои грехи, забавы юных дней, Те вечера, когда в семье твоей, При матери докучливой и строгой Тебя томил я тайною тревогой И просветил невинные красы? Я научил послушливую руку Обманывать печальную разлуку И услаждать безмолвные часы, Бессонницы девическую муку. Но молодость утрачена твоя, От бледных уст улыбка отлетела, Твоя краса во цвете помертвела… Простишь ли мне, о милая моя! Отец греха, Марии враг лукавый, Ты стал и был пред нею виноват; Ах, и тебе приятен был разврат… И ты успел преступною забавой Всевышнего супругу просветить И дерзостью невинность изумить. Гордись, гордись своей проклятой славой! Спеши ловить… но близок, близок час! Вот меркнет свет, заката луч угас. Всё тихо. Вдруг над девой утомленной Шумя парит архангел окрыленный, — Посол любви, блестящий сын небес. От ужаса при виде Гавриила Красавица лицо своё закрыла… Пред ним восстав, смутился мрачный бес И говорит: «Счастливец горделивый, Кто звал тебя? Зачем оставил ты Небесный двор, эфира высоты? Зачем мешать утехе молчаливой, Занятиям чувствительной четы?» Но Гавриил, нахмуря взгляд ревнивый, Рек на вопрос и дерзкий, и шутливый: «Безумный враг небесной красоты, Повеса злой, изгнанник безнадежный, Ты соблазнил красу Марии нежной И смеешь мне вопросы задавать! Беги сейчас, бесстыдник, раб мятежный, Иль я тебя заставлю трепетать!» «Не трепетал от ваших я придворных, Всевышнего прислужников покорных, От сводников небесного царя!» — Проклятый рек и, злобою горя, Наморщив лоб, скосясь, кусая губы, Архангела ударил прямо в зубы. Раздался крик, шатнулся Гавриил И левое колено преклонил; Но вдруг восстал, исполнен новым жаром, И сатану нечаянным ударом Хватил в висок. Бес ахнул, побледнел — И ворвались в объятия друг другу. Ни Гавриил, ни бес не одолел: Сплетённые, кружась, идут по лугу, На вражью грудь опершись бородой, Соединив крест-накрест ноги, руки, То силою, то хитростью науки Хотят увлечь друг друга за собой. Не правда ли? Вы помните то поле, Друзья мои, где в прежни дни, весной, Оставя класс, играли мы на воле И тешились отважною борьбой. Усталые, забыв и брань, и речи, Так ангелы боролись меж собой. Подземный царь, буян широкоплечий, Вотще кряхтел с увертливым врагом, И, наконец, желая кончить разом, С архангела пернатый сбил шелом, Златой шелом, украшенный алмазом. Схватив врага за мягкие власы, Он сзади гнёт могучею рукою К сырой земле. Мария пред собою Архангела зрит юные красы И за него в безмолвии трепещет. Уж ломит бес, уж ад в восторге плещет: По счастию проворный Гавриил Впился ему в то место роковое (Излишнее почти во всяком бое), В надменный член, которым бес грешил. Лукавый пал, пощады запросил И в тёмный ад едва нашел дорогу. На дивный бой, на страшную тревогу Красавица глядела чуть дыша; Когда же к ней, свой подвиг соверша, Приветливо архангел обратился, Огонь любви в лице её разлился, И нежностью исполнилась душа. Ах, как была еврейка хороша!.. Посол краснел и чувствия чужие Так изъяснял в божественных словах: «О радуйся, невинная Мария! Любовь с тобой, прекрасна ты в женах; Стократ блажен твой плод благословенный Спасёт он мир и ниспровергнет ад… Но признаюсь душою откровенной, Отец его блаженнее стократ!» И перед ней коленопреклоненный Он между тем ей нежно руку жал… Потупя взор, прекрасная вздыхала, И Гавриил её поцеловал. Смутясь, она краснела и молчала, Её груди дерзнул коснуться он… «Оставь меня!» – Мария прошептала, И в тот же миг лобзаньем заглушен Невинности последний крик и стон… Что делать ей? Что скажет бог ревнивый? Не сетуйте, красавицы мои, О, женщины, наперсницы любви, Умеете вы хитростью счастливой Обманывать вниманье жениха И знатоков внимательные взоры И на следы приятного греха Невинности набрасывать уборы… От матери проказливая дочь Берёт урок стыдливости покорной И мнимых мук, и с робостью притворной Играет роль в решительную ночь: И поутру, оправясь понемногу, Встает бледна, чуть ходит, так томна. В восторге муж, мать шепчет: слава богу! А старый друг стучится у окна. Уж Гавриил с известием приятным По небесам летит путём обратным. Наперсника нетерпеливый бог Приветствием встречает благодатным: «Что нового?» – Я сделал всё, что мог, Я ей открыл. – «Но что ж она?» – Готова! И царь небес, не говоря ни слова, С престола встал и манием бровей Всех удалил, как древний бог Гомера, Когда смирял бесчисленных детей; Но в Греции навек погасла вера, Зевеса нет, мы сделались умней! Упоена живым воспоминаньем, В своём углу Мария в тишине Покоилась на смятой простыне. Душа горит и негой, и желаньем, Младую грудь волнует новый жар. Она зовет тихонько Гавриила, Его любви готовя тайный дар, Ночной покров ногою отдалила, Довольный взор с улыбкою склонила, И, счастлива в прелестной наготе, Сама своей дивится красоте. Но между тем в задумчивости нежной Она грешит, прелестна и томна, И чашу пьёт отрады безмятежной. Смеёшься ты, лукавый сатана! И что же? Вдруг мохнатый, белокрылый В её окно влетает голубь милый, Над нею он порхает и кружит И пробует веселые напевы, И вдруг летит в колени милой девы, Над розою садится и дрожит, Клюет её, колышется, вертится, И носиком, и ножками трудится. Он, точно, он! – Мария поняла, Что в голубе другого угощала; Колени сжав, еврейка закричала, Вздыхать, дрожать, молиться начала, Заплакала, но голубь торжествует, В жару любви трепещет и воркует, И падает, объятый лёгким сном, Приосеня цветок любви крылом. Он улетел. Усталая Мария Подумала: «Вот шалости какие! Один, два, три! – как это им не лень? Могу сказать, перенесла тревогу: Досталась я в один и тот же день Лукавому, архангелу и богу». Всевышний бог, как водится потом Признал своим еврейской девы сына, Но Гавриил (завидная судьбина!) Не преставал являться ей тайком; Как многие, Иосиф был утешен, Он пред женой по-прежнему безгрешен, Христа любил как сына своего, За то господь и наградил его! Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы? Навек забыв старинные проказы, Я пел тебя, крылатый Гавриил, Смиренных струн тебе я посвятил Усердное, спасительное пенье: Храни меня, внемли моё моленье! Досель я был еретиком в любви, Младых богинь безумный обожатель, Друг демона, повеса и предатель… Раскаянье моё благослови! Приемлю я намеренья благие, Переменюсь: Елену видел я; Она мила, как нежная Мария! Подвластна ей навек душа моя. Моим речам придай очарованье, Понравиться поведай тайну мне, В её душе зажги любви желанье, Не то пойду молиться сатане! Но дни бегут, и время сединою Мою главу тишком посеребрит, И важный брак с любезною женою Пред алтарем меня соединит. Иосифа прекрасный утешитель! Молю тебя, колена преклоня, О рогачей заступник и хранитель, Молю – тогда благослови меня, Даруй ты мне беспечность и смиренье, Даруй ты мне терпенье вновь и вновь Спокойный сон, в супруге уверенье, В семействе мир и к ближнему любовь!Царь Никита и сорок его дочерей
Сказка была написана в 20-х числах мая 1822 года в Михайловском. Упоминание о ней есть в письме к брату и Плетневу от 15 марта 1825 года. Сказка дошла до нас в рукописных копиях, однако начало сохранилось в черновой тетради Пушкина. История публикации сложилась весьма непросто: из-за обилия копий, автографов и разрозненных отрывков в описаниях рукописи в полном виде мы имеем текст, собранный из огромного количества небольших кусочков.
В письме к брату Льву Сергеевичу и Плетневу Пушкин озаглавил её как «Царь Никита и сорок его дочерей», что и послужило в дальнейшем её названием, но в обществе сказка ходила как «Царь Никита жил когда-то…» И это все, что нам известно о создании и истории сказки. Впрочем, благодаря воспоминаниям современников Пушкина, письмам и дневникам, известно кем жил поэт в 1822 году, откуда черпал образы, вдохновение и чем питал свою остроумную безграничную фантазию. Летом того года он бывал у Давыдовых на даче: ухаживал за женой А.Д. Давыдова – Аглаей Антоновной, героиней небезызвестной эпиграммы, за глаза называя её мужа «рогоносец величавый». В том же году Александр Сергеевич увлекался Марией Балш – женой Тодора Балша, впоследствии главнокомандующего войсками Молдавии. Балш была невыносимо ревнивой, а её муж и вовсе сходил с ума, поэтому Пушкин решил всё уладить мирным разговором с… гетманом Тодором Балш. Мирного разговора, как и следовало ожидать, не вышло, мужчины устроили драку, и всё бы закончилось очередной дуэлью, если бы генерал Инзов не посадил Пушкина под домашний арест. В том же, явно насыщенном 1822 году, Пушкин, одновременно встречаясь с Марией Балш, увлёкся Екатериной Альбрехт, женой А.И. Альбрехта – генерала лейб-гвардии Уланского полка. Екатерина Альбрехт была трижды замужем (методично выходя замуж с шестнадцати лет), и оказалась такой же нестерпимо ревнивой, как и её предшественница, сводила с ума поэта своими требованиями, и Пушкин переключился на новую любовь. Столько романов за один год, и это только те, что известны, не могли не отразиться на буйном поэтическом творчестве, поэтому возникновение образа многочисленных улетающих женских прелестей вполне прозрачно.
Царь Никита и сорок его дочерей
Царь Никита жил когда-то Праздно, весело, богато, Не творил добра, ни зла, И земля его цвела, Царь трудился понемногу, Кушал, пил, молился богу И от разных матерей Прижил сорок дочерей, Сорок девушек прелестных, Сорок ангелов небесных, Милых сердцем и душой. Что за ножка – боже мой, А головка, тёмный волос, Чудо – глазки, чудо – голос, Ум – с ума свести бы мог. Словом, с головы до ног Душу, сердце всё пленяло; Одного недоставало. Да чего же одного? Так, безделки, ничего. Ничего иль очень мало, Всё равно – недоставало. Как бы это изъяснить, Чтоб совсем не рассердить Богомольной важной дуры, Слишком чопорной цензуры? Как быть?.. Помоги мне, бог! У царевен между ног… Нет, уж это слишком ясно И для скромности опасно, — Так иначе как-нибудь: Я люблю в Венере грудь, Губки, ножку особливо, Но любовное огниво, Цель желанья моего… Что такое? … Ничего!.. Ничего, иль очень мало… И того-то не бывало У царевен молодых, Шаловливых и живых. Их чудесное рожденье Привело в недоуменье Все придворные сердца. Грустно было для отца И для матерей печальных. А от бабок повивальных Как узнал о том народ — Всякий тут разинул рот, Ахал, охал, дивовался, А иной, хоть и смеялся, Да тихонько, чтобы в путь До Нерчинска не махнуть. Царь созвал своих придворных, Нянек, мамушек покорных — Им держал такой приказ: «Если кто-нибудь из вас Дочерей греху научит, Или мыслить их приучит, Или только намекнёт, Что у них недостаёт, Иль двусмысленное скажет, Или кукиш им покажет, — То – шутить я не привык — Бабам вырежу язык, А мужчинам нечто хуже, Что порой бывает туже». Царь был строг, но справедлив, А приказ красноречив; Всяк со страхом поклонился, Остеречься всяк решился, Ухо всяк держал востро И хранил свое добро. Жены бедные боялись, Чтоб мужья не проболтались; Втайне думали мужья: «Провинись, жена моя!» (Видно, сердцем были гневны.) Подросли мои царевны. Жаль их стало. Царь – в совет; Изложил там свой предмет: Так и так – довольно ясно, Тихо, шепотом, негласно, Осторожнее от слуг. Призадумались бояры, Как лечить такой недуг. Вот один советник старый Поклонился всем – и вдруг В лысый лоб рукою брякнул И царю он так вавакнул: «О, премудрый государь! Не взыщи мою ты дерзость, Если про плотскую мерзость Расскажу, что было встарь. Мне была знакома сводня, (Где она? и чем сегодня? Верно тем же, чем была). Баба ведьмою слыла, Всем недугам пособляла, Немощь членов исцеляла. Вот её бы разыскать; Ведьма дело всё поправит: А что надо – то и вставит». «Так за ней сейчас послать! — Восклицает царь Никита, Брови сдвинувши сердито. — Тотчас ведьму отыскать! Если ж нас она обманет, Чего надо не достанет, На бобах нас проведёт, Или с умыслом солжёт, — Будь не царь я, а бездельник, Если в чистый понедельник Сжечь колдунью не велю: И тем небо умолю». Вот секретно, осторожно, По курьерской подорожной И во все земли концы Были посланы гонцы. Они скачут, всюду рыщут И царю колдунью ищут. Год проходит и другой — Нету вести никакой. Наконец один ретивый Вдруг напал на след счастливый. Он заехал в тёмный лес (Видно, вёл его сам бес), Видит он: в лесу избушка, Ведьма в ней живет, старушка. Как он был царев посол, То к ней прямо и вошёл, Поклонился ведьме смело, Изложил царево дело: Как царевны рождены И чего все лишены. Ведьма мигом всё смекнула… В дверь гонца она толкнула, Так промолвив: «Уходи Поскорей и без оглядки, Не то – бойся лихорадки… Через три дня приходи За посылкой и ответом, Только помни – чуть с рассветом». После ведьма заперлась, Уголечком запаслась, Трое суток ворожила, Так что беса приманила, Чтоб отправить во дворец, Сам принес он ей ларец, Полный грешными вещами, Обожаемыми нами. Там их было всех сортов, Всех размеров, всех цветов, Все отборные, с кудрями… Ведьма все перебрала, Сорок лучших оточла, Их в салфетку завернула И на ключ в ларец замкнула, С ним отправила гонца, Дав на путь серебреца. Едет он. Заря зарделась… Отдых сделать захотелось, Захотелось закусить, Жажду водкой утолить: Он был малый аккуратный, Всем запасся в путь обратный. Вот коня он разнуздал И покойно кушать стал. Конь пасётся. Он мечтает, Как его царь вознесет, Графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нём ведьма шлет? В щёлку смотрит: нет, не видно — Заперт плотно. Как обидно! Любопытство страх берет И всего его тревожит. Ухо он к замку приложит — Ничего не чует слух; Нюхает – знакомый дух… Тьфу ты пропасть! что за чудо? Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец… Но лишь отпер он ларец, Птички – порх и улетели, И кругом на сучьях сели, И хвостами завертели. Наш гонец давай их звать, Сухарями их прельщать: Крошки сыплет – все напрасно (Видно, кормятся не тем): На сучках им петь прекрасно, А в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги, Вся согнувшися дугой, Баба старая с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги: «Пропаду я с головой! Помоги, будь мать родная! Посмотри, беда какая: Не могу их изловить! Как же горю пособить?» Вверх старуха посмотрела, Плюнула и прошипела: «Поступил ты хоть и скверно, Но не плачься, не тужи… Ты им только покажи — Сами все слетят наверно». «Ну, спасибо!» – он сказал… И лишь только показал — Птички вмиг к нему слетели И квартирой овладели. Чтоб беды не знать другой, Он без дальних отговорок Тотчас их под ключ все сорок И отправился домой. Как княжны их получили, Прямо в клетки посадили. Царь на радости такой Задал тотчас пир горой: Семь дней сряду пировали, Целый месяц отдыхали; Царь совет весь наградил, Да и ведьму не забыл: Из кунсткамеры в подарок Ей послал в спирту огарок (Тот, который всех дивил), Две ехидны, два скелета Из того же кабинета… Награждён был и гонец. Вот и сказочки конец. Многие меня поносят И теперь, пожалуй, спросят: Глупо так зачем шучу? Что за дело им? Хочу.Монах
Поэма относится к юношеским годам Пушкина, она не была завершена и при жизни не печаталась. Является пародией на популярное в то время житие Иоанна Новгородского. Датируется летом 1813 года.
Единственный источник текста – беловой автограф в архиве князя А.М. Горчакова. Впервые был опубликован в «Красном Архиве» в 1928 году, а в изданиях сочинений поэта поэма появилась только в 1930 году. С этим произведением связана весьма забавная история, которая очень ярко отражает нравы света пушкинской поры. Пушкин писал «Монаха», когда ему было примерно 13–14 лет, поэт был воспитанником закрытого учебного заведения со строжайшими монастырскими порядками, где и протекал болезненный, всегда острый период взросления – превращение мальчика в мужчину. Строгие порядки лицея не позволяли мальчикам вести вольную жизнь, постигать «любовную науку» естественно, поэтому среди воспитанников Царскосельского лицея чрезвычайно было популярно всё, что хоть немного приоткрывало тайную завесу: гравюры французских романов, «неприличные» открытки, обнаженная натура скульптуры и живописи, эротическая поэзия и т. п.
Так, в то время был невероятно знаменит поэт и переводчик Академии наук, ученик Ломоносова и не последняя фигура в научном мире – И.С. Барков. Иван Семенович писал пошлые, эротические стихи, часто небольшого размера (четверостишия) и славился своим образом жизни, полного разврата и пьянства. Считается, что «Монах» был написан в подражание Баркову (в тот же период Пушкин посвятил ему стихотворение «Тень Баркова»).
До 1928 года ходило множество версий того, куда же делась рукопись «Монаха». Произведение присутствует в воспоминаниях, письмах (например, письмо Вяземского И. Тургеневу: «Сделай милость, скажи племяннику, чтобы он дал мне какого-то своего «Монаха» и «Вкруг я Стурдзы хожу» и всё, что есть нового»). А самой рукописи в глаза никто не видел.
Самая распространенная версия – поэт уничтожил рукопись по совету одного из старших товарищей. Вторая, чуть более уточняющая: «Пользуясь своим влиянием на Пушкина, князь Горчаков побудил его уничтожить одно произведение, «которое могло бы оставить пятно на его памяти». Есть также версия, что Пушкин отдал прочесть рукопись Горчакову, а тот сжёг её по причине того, что поэма порочит его имя (эта версия принадлежит самому Горчакову). Также существуют различные вариации из серии «Пушкин послушался Горчакова и сам бросил в огонь «Монаха». Но дело в том, что всё это долгое время (примерно 114 лет) нетронутая и девственная перед пушкинистами рукопись лежала в архиве Горчакова вместе с другими ценными лицейскими реликвиями. Горчакову было за восемьдесят, когда он распространил слух о том, что «Монах» уничтожен. Можно было бы списать это некрасивое обстоятельство на старческий маразм, если бы не дальнейшие приключения поэмы. Современники писали о князе Горчакове как о тщеславном старике, которому льстила близость к поэту, причастность к культурной жизни, но все замечания князя по поводу того, что его эстетические и критические воззрения Пушкин невероятно ценил, являются, скорее всего, плодом гордыни. Но факт остается фактом – несколько потомков светлейшего князя и после его смерти отказывали исследователям-пушкинистам в рукописи. Из статей и воспоминаний пушкинистов:
«Чечулин, по моей просьбе, говорил с владельцем рукописи, но кн. Горчаков ответил, что не может исполнить моё желание, хотя и вполне сочувствует ему, потому что связан распоряжением деда, запретившего показывать рукопись кому бы то ни было из «посторонних». Мне было сообщено, что рукопись не может быть показана мне, но и никому никогда не будет показана». (Н.О. Лернер).
«Да, трудненько было вести дело со «светлейшими». И мне пришлось через того же Чечулина ходатайствовать о сообщении мне автографов посланий Пушкина к Горчакову: Чечулин любезно сообщил мне, что автографы имеются, но показаны быть не могут. Выходили одно за другим издания сочинений Пушкина, где печатались по неисправным спискам послания поэта к Горчакову; государственный канцлер любил декламировать их, но не снизошел к просьбам издателей и исследователей, хотя между ними были даже и воспитанники того лицея, который был окружен ореолом в воспоминаниях всех лицеистов – не соблаговолил даже показать, только показать эти рукописи». (П.Е. Щеголев)
Наконец рукопись освободили из темных углов архива Горчаковых. На свет показалась тетрадка в четверть писчего листа серой, с синеватым оттенком бумаги, сшитая цветной шелковой ниткой, почти без исправлений, а те, что есть, сделаны самим автором. Источником вдохновения и литературным образцом послужил Вольтер и его «Орлеанская девственница».
Монах (незаконченная поэма)
Песнь первая «Святой Монах. Грехопадение. Юбка»
Хочу воспеть, как дух нечистый ада Осёдлан был брадатым стариком; Как овладел он черным клобуком, Как он втолкнул Монаха грешных в стадо. Певец любви, фернейский старичок, К тебе, Вольтер, я ныне обращаюсь. Куда, скажи, девался твой смычок, Которым я в Жан д’Арке восхищаюсь, Где кисть твоя, скажи, ужели ввек Их ни один не найдет человек? Вольтер! Султан французского Парнаса, Я не хочу седлать коня Пегаса, Я не хочу из муз наделать дам, Но дай лишь мне твою златую лиру, Я буду с ней всему известен миру. Ты хмуришься и говоришь: «Не дам». А ты поэт, проклятый Аполлоном, Испачкавший простенки кабаков, Под Геликон упавший в грязь с Вильоном, Не можешь ли ты мне помочь, Барков? С усмешкою даёшь ты мне скрыпицу, Сулишь вино и музу пол-девицу: «Последуй лишь примеру моему». Нет, нет, Барков! скрыпицы не возьму, Я стану петь, что в голову придётся, Пусть как-нибудь стих за стихом польётся. Невдалеке от тех прекрасных мест, Где дерзостный восстал Иван-великой, На голове златой носящий крест, В глуши лесов, в пустыне мрачной, дикой, Был монастырь; в глухих его стенах Под старость лет один седой Монах Святым житьем, молитвами спасался И дней к концу спокойно приближался. Наш труженик не слишком был богат, За пышность он не мог попасться в ад. Имел кота, имел псалтирь и чётки, Клобук, стихарь да штоф зёленой водки. Взошедши в дом, где мирно жил Монах, Не золота увидели б вы горы, Не мрамор там прельстил бы ваши взоры, Там не висел Рафаель на стенах. Увидели б вы стул об трёх ногах, Да в уголку скамейка в пол-аршина, На коей спал и завтракал Монах. Там пуховик над лавкой не вздувался. Хотя монах, он в пухе не валялся Меж двух простынь на мягких тюфяках. Весь круглый год святой отец постился, Весь божий день он в келье провождал, «Помилуй мя» в полголоса читал, Ел плотно, спал и всякий час молился. А ты, Монах, мятежный езуит! Красней теперь, коль ты краснеть умеешь, Коль совести хоть капельку имеешь; Красней и ты, богатый Кармелит, И ты стыдись, Печерской Лавры житель, Сердец и душ смиренный повелитель… Но, лира! стой! Далёко занесло Уже меня противу рясок рвенье; Бесить попов не наше ремесло. Панкратий жил счастлив в уединенье, Надеялся увидеть вскоре рай, Но ни один земли безвестный край Защитить нас от дьявола не может. И в тех местах, где черный сатана Под стражею от злости когти гложет, Узнали вдруг, что разгорожена К монастырям свободная дорога. И вдруг толпой все черти поднялись, По воздуху на крыльях понеслись Иной в Париж к плешивым картезианцам С копейками, с червонцами полез, Тот в Ватикан к брюхатым итальянцам Бургонского и макарони нёс; Тот девкою с прелатом повалился, Тот молодцом к монашенкам пустился. И слышал я, что будто старый поп, Одной ногой уже вступивший в гроб, Двух молодых венчал перед налоем. Черт прибежал амуров с целым роем, И вдруг дьячок на крылосе всхрапел, Поп замолчал – на девицу глядел, А девица на дьякона глядела. У жениха кровь сильно закипела, А бес всех их к себе же в ад повёл. Уж тёмна ночь на небеса всходила, Уж в городах утих вседневный шум, Луна в окно Монаха осветила. В молитвенник весь устремивший ум, Панкратий наш Николы пред иконой Со вздохами земные клал поклоны. Пришел Молок (так дьявола зовут), Панкратия под чёрной ряской скрылся. Святой Монах молился уж, молился, Вздыхал, вздыхал, а дьявол тут как тут. Бьёт час, Молок не хочет отцепиться, Бьёт два, бьёт три – нечистый всё сидит. «Уж будешь мой», – он сам с собой ворчит. А наш старик уж перестал креститься, На лавку сел, потёр глаза, зевнул, С молитвою три раза протянулся, Зевнул опять, и… чуть-чуть не заснул. Однако ж нет! Панкратий вдруг проснулся, И снова бес Монаха соблазнять, Чтоб усыпить, Боброва стал читать. Монах скучал, Монах тому дивился. Век не зевал, как богу он молился. Но – нет уж сил; кресты, псалтирь, слова, — Всё позабыл; седая голова, Как яблоко, по груди покатилась, Со лбу рука в колени опустилась, Молитвенник упал из рук под стол, Святой вздремал, всхрапел, как старый вол. Несчастный! спи… Панкратий вдруг проснулся, Взад и вперёд со страхом оглянулся, Перекрестясь с постели он встаёт. Глядит вокруг – светильня нагорела; Чуть слабый свет вокруг себя лиет; Что-то в углу как будто забелело. Монах идет – что ж? Юбку видит он. «Что вижу я!.. иль это только сон? — Вскричал Монах, остолбенев, бледнея. Как! это что?..» – и, продолжать не смея, Как вкопанный, пред белой юбкой стал, Молчал, краснел, смущался, трепетал. Огню любви единственна преграда, Любовника сладчайшая награда И прелестей единственный покров, О юбка! речь к тебе я обращаю, Строки сии тебе я посвящаю, Одушеви перо моё, любовь! Люблю тебя, о юбка дорогая, Когда, меня под вечер ожидая, Наталья, сняв парчовый сарафан, Тобою лишь окружит тонкий стан. Что может быть тогда тебя милее? И ты, виясь вокруг прекрасных ног, Струи ручьев прозрачнее, светлее, Касаешься тех мест, где юный бог Покоится меж розой и лилеей. Иль, как Филон, за Хлоей побежав, Прижать её в объятия стремится, Зеленый куст тебя вдруг удержав… Она должна, стыдясь, остановиться. Но поздно всё, Филон, её догнав, С ней на траву душистую валится, И пламенна, дрожащая рука Счастливого любовью пастуха Тебя за край тихонько поднимает… Она ему взор томный осклабляет, И он… но нет; не смею продолжать. Я трепещу, и сердце сильно бьётся, И, может быть, читатели, как знать? И ваша кровь с стремленьем страсти льётся. Но наш Монах о юбке рассуждал Не так, как я (я молод, не пострижен И счастием нимало не обижен). Он не был рад, что юбку увидал, И в тот же час смекнул и догадался, Что в когти он нечистого попался.Песнь вторая «Горькие размышления, сон, спасительная мысль»
Покаместь ночь ещё не удалилась, Покаместь свет лила ещё луна, То юбка всё ещё была видна. Как скоро ж твердь зарёю осветилась, От взоров вдруг сокрылася она. А наш Монах, увы, лишен покоя. Уж он не спит, не гладит он кота, Не помнит он церковного налоя, Со всех сторон Панкратию беда. «Как, – мыслит он, – когда и собачонки В монастыре и духа нет моем, Когда здесь ввек не видывал юбчонки, Кто мог её принесть ко мне же в дом? Уж мнится мне… прости, владыко, в том! Уж нет ли здесь… страшусь сказать… девчонки». Монах краснел и делать что не знал. Во всех углах, под лавками искал. Всё тщетно, нет, ни с чем старик остался, Зато весь день, как бледна тень, таскался, Не ел, не пил, покойно и не спал. Проходит день, и вечер, наступая, Зажёг везде лампады и свечи. Уже Монах, с главы клобук снимая, Ложился спать. Но только что лучи Луна с небес в окно его пустила И юбку вдруг на лавке осветила, Зажмурился встревоженный Монах И, чтоб не впасть кой-как во искушенье, Хотел уже навек лишиться зренья, Лишь только бы на юбку не смотреть. Старик, кряхтя, на бок перевернулся И в простыню тепленько завернулся, Сомкнул глаза, заснул и стал храпеть. Тот час Молок вдруг в муху превратился И полётел жужжать вокруг него. Летал, летал, по комнате кружился И на нос сел монаха моего. Панкратья вновь он соблазнять пустился, Монах храпит и чудный видит сон. Казалося ему, что средь долины, Между цветов, стоит под миртом он, Вокруг него сатиров, фавнов сонм. Иной, смеясь, льёт в кубок пенны вины; Зелёный плющ на чёрных волосах, И виноград, на голове висящий, И лёгкий фирз, у ног его лежащий, — Всё говорит, что вечно юный Вакх, Веселья бог, сатира покровитель. Другой, надув пастушечью свирель, Поёт любовь, и сердца повелитель Одушевлял его веселу трель. Под липами там пляшут хороводом Толпы детей, и юношей, и дев. А далее, ветвей под тёмным сводом, В густой тени развесистых дерев, На ложе роз, любовью распаленны, Чуть-чуть дыша, весельем истощённы, Средь радостей и сладостных прохлад, Обнявшися любовники лежат. Монах на всё взирал смятенным оком. То на стакан он взоры обращал, То на девиц глядел чернец со вздохом, Плешивый лоб с досадою чесал — Стол, как пень, и рот в сажень разинув. И вдруг, в душе почувствовав кураж, И набекрень, взъярясь, клобук надвинув, В зёленый лес, как белоусый паж, Как лёгкий конь, за девкою погнался. Быстрей орла, быстрее звука лир Прелестница летела, как зефир. Но наш Монах Эол пред ней казался, Без отдыха за новой Дафной гнался. «Не дам, – ворчал, – я промаха в кольцо». Но леший вдруг, мелькнув из-за кусточка, Панкратья хвать юбчонкою в лицо. И вдруг исчез приятный вид лесочка. Ручья, холмов и нимф не видит он; Уж фавнов нет, вспорхнул и Купидон, И нет следа красоточки прелестной. Монах один в степи глухой, безвестной, Нахмуря взор; темнеет небосклон, Вдруг грянул гром, Монаха поражает — Панкратий: «Ах!..», – и вдруг проснулся он. Смущённый взор он всюду обращает: На небесах, как яхонты горя, Уже восток румянила заря. И юбки нет. Панкратий встал, умылся, И, помолясь, он плакать сильно стал, Сел под окно и горько горевал. «Ах! – думал он, – почто ты прогневился? Чем виноват, владыко, пред тобой? Как грешником, вертит нечистый мной. Хочу не спать, хочу тебе молиться, Возьму псалтирь, а тут и юбка вдруг. Хочу вздремать и ночью сном забыться, Что ж снится мне? Смущается мой дух. Услышь моё усердное моленье, Не дай мне впасть, господь, во искушенье!» Услышал бог молитвы старика, И ум его в минуту просветился. Из бедного седого простяка Панкратий вдруг в Невтоны претворился. Обдумывал, смотрел, сличал, смекнул И в радости свой опрокинул стул. И, как мудрец, кем Сиракуз спасался, По улице бежавший бос и гол, Открытием своим он восхищался И громко всем кричал: «Нашёл! нашёл!» «Ну! – думал он, – от бесов и юбчонки Избавлюсь я – и милые девчонки Уже меня во сне не соблазнят. Я заживу опять монах-монахом, Я стану ждать последний час со страхом И с верою, и всё пойдет на лад». Так мыслил он – и очень ошибался. Могущий рок, вселенной господин, Панкратием, как куклой, забавлялся. Монах водой наполнил свой кувшин, Забормотал над ним слова молитвы И был готов на грозны ада битвы. Ждёт юбки он – с своей же стороны Нечистый дух весь день был на работе И весь в жару, в грязи, в пыли и поте Предупредить спешил восход луны.Песнь третья «Пойманный бес»
Ах, отчего мне дивная природа Корреджио искусства не дала? Тогда б в число парнасского народа Лихая страсть меня не занесла. Чернилами я не марал бы пальцы, Не засорял бумагою чердак, И за бюро, как девица за пяльцы, Стихи писать не сел бы я никак. Я кисти б взял бестрепетной рукою И, выпив вмиг шампанского стакан, Трудиться б стал я с жаркой головою, Как Цициан иль пламенный Албан. Представил бы все прелести Натальи, На полну грудь спустил бы прядь волос, Вкруг головы венок душистых роз, Вкруг милых ног одежду резвой Тальи, Стан обхватил Киприды б пояс злат. И кистью б был счастливей я стократ! Иль краски б взял Вернета иль Пуссина; Волной реки струилась бы холстина; На небосклон палящих, южных стран, Возведши ночь с задумчивой луною, Представил бы над серою скалою, Вкруг коей бьёт шумящий океан, Высокие, покрыты мохом стены; И там в волнах, где дышит ветерок, На серебре, вкруг скал блестящей пены, Зефирами колеблемый челнок. Нарисовал бы в нем я Кантемиру, Её красы… и рад бы бросить лиру, От чистых муз навеки удалясь, Но Рубенсом на свет я не родился, Не рисовать, я рифмы плесть пустился. Мартынов пусть пленяет кистью нас, А я – я вновь взмостился на Парнас. Исполнившись геройскою отвагой, Опять беру чернильницу с бумагой И стану вновь я песни продолжать. Что делает теперь седой Панкратий? Что делает и враг его косматый? Уж перестал Феб землю освещать; Со всех сторон уж тени налетают; Туман сокрыл вид рощиц и лесов; Уж кое-где и звёздочки блистают… Уж и луна мелькнула сквозь лесов… Ни жив, ни мёртв сидит под образами Чернец, молясь обеими руками. И вдруг, бела, как вновь напавший снег Москвы-реки на каменистый брег, Как легка тень, в глазах явилась юбка… Монах встаёт, как пламень покраснев, Как модинки прелестной ала губка, Схватил кувшин, весь гневом возгорев, И всей водой он юбку обливает. О чудо!.. вмиг сей призрак исчезает И вот пред ним с рогами и с хвостом, Как серый волк, щетиной весь покрытый, Как добрый конь с подкованным копытом, Предстал Молок, дрожащий под столом, С главы до ног облитый весь водою, Закрыв себя подолом епанчи, Вращал глаза, как фонари в ночи. «Ура! – вскричал монах с усмешкой злою, — Поймал тебя, подземный чародей. Ты мой теперь, не вырвешься, злодей. Все шалости заплатишь головою. Иди в бутыль, закупорю тебя, Сейчас её в колодезь брошу я. Ага, Мамон! дрожишь передо мною». – Ты победил, почтенный старичок, — Так отвечал смирнехонько Молок. — Ты победил, но будь великодушен, В гнилой воде меня не потопи. Я буду ввек за то тебе послушен, Спокойно ешь, спокойно ночью спи, Уж соблазнять тебя никак не стану. «Всё так, всё так, да полезай в бутыль, Уж от тебя, мой друг, я не отстану, Ведь плутни все твои я не забыл». – Прости меня, доволен будешь мною, Богатства все польют к тебе рекою, Как Банкова, я в знать тебя пущу, Достану дом, куплю тебе кареты, Придут к тебе в переднюю поэты; Всех кланяться заставлю богачу, Сниму клобук, по моде причешу. Всё променяв на длинный фрак с штанами, Поскачешь ты гордиться жеребцами, Народ, смеясь, колёсами давить И аглинской каретой всех дивить. Поедешь ты потеть у Шиловского, За ужином дремать у Горчакова, К Нарышкиной подправливать жилет. Потом всю знать (с министрами, с князьями Ведь будешь жить, как с кровными друзьями) Ты позовёшь на пышный свой обед. «Не соблазнишь! тебя я не оставлю, Без дальних слов сейчас в бутыль иди». – Постой, постой, голубчик, погоди! Я жён тебе и красных дев доставлю. «Проклятый бес! как? и в моих руках Осмелился ты думать о женах! Смотри какой! но нет, работник ада, Ты не прельстишь Панкратья суетой. За всё, про всё готова уж награда, Раскаешься, служитель беса злой!» – Минуту дай с тобою изъясниться, Оставь меня, не будь врагом моим, Поступок сей наверно наградится, А я тебя свезу в Ерусалим. При сих словах Монах себя не вспомнил. «В Ерусалим!» – дивясь, он бесу молвил. – В Ерусалим – да, да, свезу тебя. «Ну, если так, тебя избавлю я». Старик, старик, не слушай ты Молока, Оставь его, оставь Иерусалим. Лишь ищет бес поддеть святого с бока, Не связывай ты тесной дружбы с ним. Но ты меня не слушаешь, Панкратий, Берёшь седло, берёшь чепрак, узду. Уж под тобой, бодрится черт проклятый, Готовится на адскую езду. Лети, старик, сев на плеча Молока, Толкай его и в зад и под бока, Лети, спеши в священный град востока, Но помни то, что не на лошака Ты возложил свои почтенны ноги. Держись, держись всегда прямой дороги, Ведь в мрачный ад дорога широка.Граф Нулин
Пушкин написал поэму «в два утра» 13 и 14 декабря 1825 года в Михайловском. Сохранилось две рукописи, первая в составе собрания А.Ф. Онегина имеет другое название – «Новый Тарквиний». Поэма была напечатана при жизни поэта в феврале 1827 года в «Московском вестнике» (30 стихов под заглавием «Отрывок из повести «Граф Нулин»). В августе Пушкину пришёл ответ «от цензуры», в котором сообщалось, что Николай I всем доволен, поэму прочёл с превеликим удовольствием и дает добро на публикацию с изменением двух стихов: «Порою с барином шалит» и «Коснуться хочет одеяла». Полностью «Г.Н.» был напечатан впервые в «Северных Цветах» за 1828 год, где запрещенные стихи были заменены другими[15]. Поэму читатели встретили восторженно, о ней писали: повесть «у нас ещё небывалая», образец «остроумия и утонченного вкуса».
«Граф Нулин» – совершенно новый этап в эволюции Пушкина, в его борьбе против условностей традиционной романтической поэмы. Это первое, но уже совершенно решительное движение к реалистическому стилю и жанру[16].
По мнению классических пушкинистов, «Граф Нулин» – первая однозначная предтеча «Повестям Белкина» (произведению, которое, безусловно, является вершиной творчества Пушкина).
Именно там поэт открыто иллюстрирует новую систему художественных ценностей, направленную против жеманных условностей и неёстественности в изображении быта, людей и событий. Именно в «Графе Нулине» появляются яркие бытовые детали и разговорные интонации, добавляющие содержанию простоту, которая не опускает произведение до уровня пародии, но и не «возвышает» до уровня пафоса жанра «поэма», а ведь пафос был в то время самым главным атрибутом поэмы.
Несмотря на иронию и пародийность содержания, «Граф Нулин» окружен некоторой таинственностью происхождения: незадолго до этого, в ноябре, Пушкин закончил работу над «Борисом Годуновым» – серьёзным драматическим произведением, в которое он вложил немало переосмысленного духовного опыта и поэтического мастерства; также он продолжал работу над четвёртой и пятой главами «Евгения Онегина». Изнуряющая работа над этим произведением (над «Евгением Онегиным работал семь лет), требующая от него тщательной, дотошной выправки деталей, кропотливой работой над композицией и рядом других поправок, плохо соотносится с содержанием «Графа Нулина», потому как поэма не является «шалостью», развлечением или проходной вещью, написанной наскоро, «между делом». Работа над «Графом Нулиным» была не менее тщательной и выверенной. Пушкин, участвуя в полемике после публикации, отвечал критикам со всей серьезностью, что иллюстрирует отношения поэта к поэме. Заметка, которую Пушкин написал у себя в дневниках по поводу «Графа Нулина», явно писалась не для печати: в ней же он пишет про точное время, место, где произошло происшествие, давшее ему почву для сюжета. Запись кончается фразой: «Бывают странные сближения». В этой заметке, Пушкин называет источником своего вдохновения «Лукрецию» Шекспира.
В основе «Графа Нулина», как выяснилось, лежит сочетание римской исторической легенды с Шекспиром. Это сочетание подчеркнуто и в заметке Пушкина: «Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению»[17].
Пушкин действительно увлекался Шекспиром в то время, особенно трагедиями (в основном для работы над «Борисом Годуновым»), в письме к Дельвигу он даже небрежно бросает «взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (по поводу следствия над декабристами).
Крупнейший русский литературовед Борис Эйхенбаум провел целое расследование по поводу возникновения замысла поэмы. Результатом этой ювелирной работы стало предположение, что Пушкин, помимо пародии на Шекспира, также размышляет над историей, над ролью случайности в ней, что, впрочем, является результатом работы над «Борисом Годуновым».
Также, в четвёртой главе «Евгения Онегина» есть и осень, и деревня, и похожие строки, и детали, и вся атмосфера в целом. В строфе XLIII Пушкин пишет:
В глуши что делать в эту пору?
Гулять? Деревня той порой
Невольно докучает взору
Однообразной наготой.
Сиди под кровлею пустынной,
Читай: вот Прадт, вот W. Scott.
Почти теми же словами говорится о деревне в «Графе Нулине»:
В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно: грязь, ненастье…» [18]
Помимо интереса для искусства, поэма ещё важна и своим социокультурным очерком. Она является и документом усадебного быта, и ярким описанием крепостнической помещичьей России.
Герои – типичные представители пушкинского времени; влияние французского театра и моды, глупое подражание западной культуре, патриархальный быт с его натуральным хозяйством, псовыми охотами и страшной осенней грязью – всё это делает повесть важным историческим памятником эпохи.
Граф Нулин
Пора, пора! рога трубят; Псари в охотничьих уборах Чем свет уж на конях сидят, Борзые прыгают на сворах. Выходит барин на крыльцо, Всё, подбочась, обозревает; Его довольное лицо Приятной важностью сияет. Чекмень затянутый на нем, Турецкой нож за кушаком, За пазухой во фляжке ром, И рог на бронзовой цепочке. В ночном чепце, в одном платочке, Глазами сонными жена Сердито смотрит из окна На сбор, на псарную тревогу… Вот мужу подвели коня; Он холку хвать – и в стремя ногу, Кричит жене: не жди меня! И выезжает на дорогу. В последних числах сентября (Презренной прозой говоря) В деревне скучно: грязь, ненастье, Осенний ветер, мелкий снег Да вой волков. Но то-то счастье Охотнику! Не зная нег, В отъезжем поле он гарцует, Везде находит свой ночлег, Бранится, мокнет и пирует Опустошительный набег. А что же делает супруга Одна в отсутствии супруга? Занятий мало ль есть у ней: Грибы солить, кормить гусей, Заказывать обед и ужин, В анбар и в погреб заглянуть — Хозяйки глаз повсюду нужен: Он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша… (Ах! я забыл ей имя дать. Муж просто звал её Наташа, Но мы – мы будем называть Наталья Павловна) к несчастью, Наталья Павловна совсем Своей хозяйственною частью Не занималася, затем, Что не в отеческом законе Она воспитана была, А в благородном пансионе У эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном; Пред ней открыт четвёртый том Сентиментального романа: Любовь Элизы и Армана, Иль переписка двух сёме. — Роман классической, старинный, Отменно длинный, длинный, длинный, Нравоучительный и чинный, Без романтических затей. Наталья Павловна сначала Его внимательно читала, Но скоро как-то развлеклась Перед окном возникшей дракой Козла с дворовою собакой И ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали. Меж тем печально, под окном, Индейки с криком выступали Вослед за мокрым петухом; Три утки полоскались в луже; Шла баба через грязный двор Бельё повесить на забор; Погода становилась хуже: Казалось, снег идти хотел… Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальной, Друзья, тот, верно, знает сам, Как сильно колокольчик дальний Порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, Товарищ юности удалой?.. Уж не она ли?.. Боже мой! Вот ближе, ближе… сердце бьётся… Но мимо, мимо звук несется, Слабей… и смолкнул за горой. Наталья Павловна к балкону Бежит, обрадована звону, Глядит и видит: за рекой, У мельницы, коляска скачет. Вот на мосту – к нам точно… нет, Поворотила влево. Вслед Она глядит и чуть не плачет. Но вдруг… о радость! косогор; Коляска на бок. – «Филька, Васька! Кто там? скорей! Вон там коляска: Сейчас везти её на двор, И барина просить обедать! Да жив ли он?.. беги проведать! Скорей, скорей!» Слуга бежит. Наталья Павловна спешит Взбить пышный локон, шаль накинуть, Задёрнуть завес, стул подвинуть, И ждёт. «Да скоро ль, мой творец?» Вот едут, едут наконец. Забрызганный в дороге дальней, Опасно раненый, печальный Кой-как тащится экипаж; Вслед барин молодой хромает. Слуга-француз не унывает И говорит: allons, courage![19] Вот у крыльца; вот в сени входят. Покаместь барину теперь Покой особенный отводят И настежь отворяют дверь, Пока Picard шумит, хлопочет, И барин одеваться хочет, Сказать ли вам, кто он таков? Граф Нулин, из чужих краёв, Где промотал он в вихре моды Свои грядущие доходы. Себя казать, как чудный зверь, В Петрополь едет он теперь С запасом фраков и жилетов, Шляп, вееров, плащей, корсетов, Булавок, запонок, лорнетов, Цветных платков, чулков à jour[20], С ужасной книжкою Гизота, С тетрадью злых карикатур, С романом новым Вальтер Скотта, С bon-mots[21] парижского двора, С последней песней Беранжера, С мотивами Россини, Пера, Et cetera, et cetera[22]. Уж стол накрыт; давно пора; Хозяйка ждет нетерпеливо. Дверь отворилась, входит граф; Наталья Павловна, привстав, Осведомляется учтиво, Каков он? что нога его? Граф отвечает: ничего. Идут за стол; вот он садится, К ней подвигает свой прибор И начинает разговор: Святую Русь бранит, дивится, Как можно жить в её снегах, Жалеет о Париже страх. «А что театр?» – О! сиротеет[23]. Тальма совсем оглох, слабеет, И мамзель Марс – увы! стареет. Зато Потье![24] Он славу прежнюю в народе Доныне поддержал один. «Какой писатель нынче в моде?» – Всё d’Arlincourt и Ламартин. — «У нас им также подражают». – Нет? право? так у нас умы Уж развиваться начинают. Дай бог, чтоб просветились мы! «Как тальи носят?» – Очень низко. Почти до… вот по этих пор. Позвольте видеть ваш убор; Так… рюши, банты, здесь узор; Всё это к моде очень близко. — «Мы получаем Телеграф». Aга! Хотите ли послушать Прелестный водевиль? – И граф Поёт. «Да, граф, извольте ж кушать». Я сыт и так. – Изо стола Встают. Хозяйка молодая Черезвычайно весела; Граф, о Париже забывая, Дивится, как она мила! Проходит вечер неприметно; Граф сам не свой; хозяйки взор То выражается приветно, То вдруг потуплен безответно… Глядишь – и полночь вдруг на двор. Давно храпит слуга в передней, Давно поёт петух соседний, В чугунну доску сторож бьёт; В гостиной свечки догорели. Наталья Павловна встаёт: «Пора, прощайте! ждут постели. Приятный сон!..» С досадой встав, Полувлюбленный, нежный граф Целует руку ей. И что же? Куда кокетство не ведет? Проказница прости ей, боже! — Тихонько графу руку жмет. Наталья Павловна раздета; Стоит Параша перед ней. Друзья мои, Параша эта Наперсница её затей; Шьёт, моет, вести переносит, Изношенных капотов просит, Порою с барином шалит, Порой на барина кричит И лжёт пред барыней отважно. Теперь она толкует важно О графе, о делах его, Не пропускает ничего — Бог весть, разведать как успела. Но госпожа ей наконец Сказала: «Полно, надоела!» — Спросила кофту и чепец, Легла и выйти вон велела. Своим французом между тем И граф раздет уже совсем. Ложится он, сигару просит, Monsieur Picard ему приносит Графин, серебряный стакан, Сигару, бронзовый светильник, Щипцы с пружиною, будильник И неразрезанный роман. В постеле лежа, Вальтер Скотта Глазами пробегает он. Но граф душевно развлечён: Неугомонная забота Его тревожит; мыслит он: «Неужто вправду я влюблён? Что, если можно?.. вот забавно; Однако ж это было б славно; Я, кажется, хозяйке мил», — И Нулин свечку погасил. Несносный жар его объемлет, Не спится графу – бес не дремлет И дразнит грешною мечтой В нём чувства. Пылкий наш герой Воображает очень живо Хозяйки взор красноречивый, Довольно круглый, полный стан, Приятный голос, прямо женский, Лица румянец деревенский Здоровье краше всех румян. Он помнит кончик ножки нежной, Он помнит: точно, точно так, Она ему рукой небрежной Пожала руку; он дурак, Он должен бы остаться с нею, Ловить минутную затею. Но время не ушло: теперь Отворена, конечно, дверь — И тотчас, на плеча накинув Свой пёстрый шёлковый халат И стул в потёмках опрокинув, В надежде сладостных наград, К Лукреции Тарквиний новый Отправился, на всё готовый. Так иногда лукавый кот, Жеманный баловень служанки, За мышью крадется с лежанки: Украдкой, медленно идёт, Полузажмурясь подступает, Свернётся в ком, хвостом играет, Разинет когти хитрых лап — И вдруг бедняжку цап-царап. Влюбленный граф в потемках бродит, Дорогу ощупью находит. Желаньем пламенным томим, Едва дыханье переводит, Трепещет, если пол под ним Вдруг заскрыпит… вот он подходит К заветной двери и слегка Жмет ручку медную замка; Дверь тихо, тихо уступает; Он смотрит: лампа чуть горит И бледно спальню освещает; Хозяйка мирно почивает Иль притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает — И вдруг упал к её ногам… Она… Теперь с их позволенья Прошу я петербургских дам Представить ужас пробужденья Натальи Павловны моей И разрешить, что делать ей? Она, открыв глаза большие, Глядит на графа – наш герой Ей сыплет чувства выписные И дерзновенною рукой Коснуться хочет одеяла, Совсем смутив её сначала… Но тут опомнилась она, И, гнева гордого полна, А впрочем, может быть, и страха, Она Тарквинию с размаха Дает – пощёчину, да, да, Пощёчину, да ведь какую! Сгорел граф Нулин от стыда, Обиду проглотив такую; Не знаю, чем бы кончил он, Досадой страшною пылая, Но шпиц косматый, вдруг залая, Прервал Параши крепкий сон. Услышав граф её походку И, проклиная свой ночлег, И своенравную красотку, В постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и Параша Проводят остальную ночь, Воображайте, воля ваша! Я не намерен вам помочь. Восстав поутру молчаливо, Граф одевается лениво, Отделкой розовых ногтей, Зевая, занялся небрежно, И галстук вяжет неприлежно, И мокрой щеткою своей Не гладит стриженых кудрей. О чём он думает, не знаю; Но вот его позвали к чаю. Что делать? Граф, преодолев Неловкий стыд и тайный гнев, Идёт. Проказница младая, Насмешливый потупя взор И губки алые кусая, Заводит скромно разговор О том, о сём. Сперва смущённый, Но постепенно ободренный, С улыбкой отвечает он. Получаса не проходило, Уж он и шутит очень мило, И чуть ли снова не влюблен. Вдруг шум в передней. Входят. Кто же? «Наташа, здравствуй». – Ах, мой боже! Граф, вот мой муж. Душа моя, Граф Нулин. – «Рад сердечно я… Какая скверная погода! У кузницы я видел ваш Совсем готовый экипаж. Наташа! там у огорода Мы затравили русака… Эй, водки! Граф, прошу отведать: Прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать?» — «И, полно, граф, я вас прошу.» Жена и я, гостям мы рады. – Не знаю, право, я спешу. «Нет, граф, останьтесь!» Но с досады И все надежды потеряв, Упрямится печальный граф. Уж подкрепив себя стаканом, Пикар кряхтит за чемоданом. Уже к коляске двое слуг Несут привинчивать сундук. К крыльцу подвезена коляска, Пикар всё скоро уложил, И граф уехал… Тем и сказка Могла бы кончиться, друзья; Но слова два прибавлю я. Когда коляска ускакала, Жена всё мужу рассказала И подвиг графа моего Всему соседству описала. Но кто же более всего С Натальей Павловной смеялся? Не угадать вам. Почему ж? Муж? – Как не так! совсем не муж. Он очень этим оскорблялся, Он говорил, что граф дурак, Молокосос; что если так, То графа он визжать заставит, Что псами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, Помещик двадцати трёх лет. Теперь мы можем справедливо Сказать, что в наши времена Супругу верная жена, Друзья мои, совсем не диво.Примечания
1
Подстрочник к юношескому стихотворению А.С. Пушкина «Mon portrait», написанному в 1814 году на французском языке.
(обратно)2
Скармаентадо – герой повести Вольтера «История путешествий Скарментадо». Заключительная фраза этой повести, с чем и спорит Пушкин, – утверждение, что самым счастливый человек – это рогоносец.
(обратно)3
Эротическая поэма Пушкина (см. Оглавление)
(обратно)4
От лат. refutatio – опровержение.
(обратно)5
Б. Томашевский «Заметки о Пушкинне», ФЭБ ЭНИ «Пушкин» (URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/s37/s372119-.htm)
(обратно)6
Б. Томашевский. Примечания. ФЭБ ЭНИ «Пушкин» (URL: / pushkin/texts/push10/v01/d01-429.htm)
(обратно)7
Как говорится (фр.)
(обратно)8
М. А. Цявловский. Комментарии [к балладе А. Пушкина «Тень Баркова»] (URL: )
(обратно)9
Атрибуция. 1. Установление автора, времени и места создания художественного произведения или документа с опорой на анализ стиля, сюжета, техники и т. п. 2. Приписывание анонимного произведения какому-либо автору. (Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф.)
(обратно)10
А. ПУШКИН ТЕНЬ БАРКОВА (Контаминированная редакция М.А. Цявловского в сопоставлении с новонайденным списком 1821 г.) Публикация и подготовка текста И.А. Пильщикова. Вступительная заметка Е.С. Шальмана. (URL: http:// )
(обратно)11
А. ПУШКИН. ТЕНЬ БАРКОВА (Контаминированная редакция М.А. Цявловского в сопоставлении с новонайденным списком 1821 г.) Публикация и подготовка текста И.А. Пильщикова. Вступительная заметка Е.С. Шальмана. (URL: http:// )
(обратно)12
Кто-то из родственников поэта.
(обратно)13
Рогоносец. В тексте французское слово по-русски.
(обратно)14
Труайя А. «Александр Пушкин» // Биография – М.; СПб.: Эксмо; ВИТА НОВА, 2006 – С.321
(обратно)15
Мануйлов В. «Граф Нулин» // Путеводитель по Пушкину. – М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1931. – С. 104–105. (Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 6 т. – М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1930–1931. – Т. 6, кн. 12. – Прил. к журн. Красная Нива на 1931 г.).
(обратно)16
Эйхенбаум Б.М. О замысле “Графа Нулина” // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – [Вып.] 3. – С. 349–357.
(обратно)17
Эйхенбаум Б. М. О замысле “Графа Нулина” // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. – С. 350
(обратно)18
Эйхенбаум Б.М. О замысле “Графа Нулина” // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. – С. 356
(обратно)19
Ну, смелей! (франц.)
(обратно)20
Прозрачных (ажурных) (франц.).
(обратно)21
Остротами (франц.).
(обратно)22
И так далее, и так далее (франц.).
(обратно)23
C’est bien mauvais, ça fait pitiç
(обратно)24
le grand Potier
(обратно)
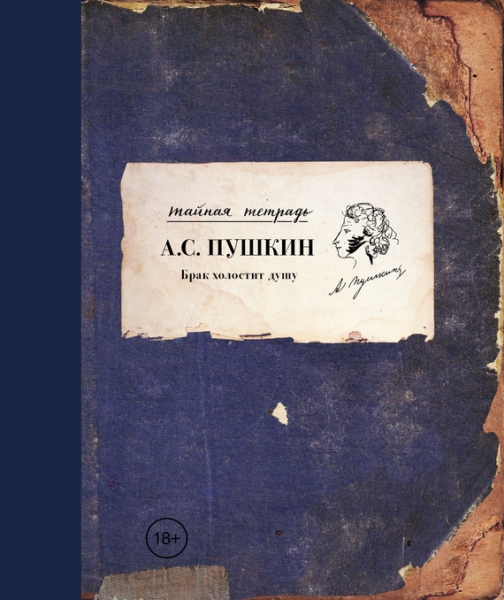

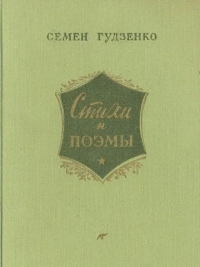
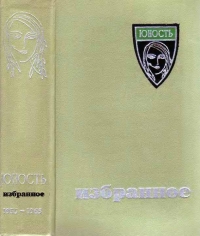

Комментарии к книге «Брак холостит душу», Александр Сергеевич Пушкин
Всего 0 комментариев