Василий Федоров Собрание сочинений в трех томах Том 2
ЛИРИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ
ВСТУПЛЕНИЕ
Где началось, В какие сроки Завязывался узел тем? Когда и как твердели строки Моих лирических поэм? Была зима. На город падал Тяжелый снег. А время шло… Был день, когда из Ленинграда Пришел последний эшелон. И сердце, как оно забилось, Когда среди густой толпы Мне бледное лицо явилось Моей кочующей судьбы! И грудь,— О, как она вздохнула! — Необычайное сбылось. В ней что-то двинулось, Толкнуло До крика, — Так и началось!О НЕЙ
Не вынес я тоски недель… По улице, опять преградой, Метет, метет, метет метель, А мне тебя увидеть надо. В сугробы снега и лога, Косматой буре на рога Бегу — навстречу вихрей стадо. Заполонило белый путь, Ударило… Что будет — будь. Но мне тебя увидеть надо. Вот клуба снежное крыльцо… Увидеть, одолев преграды, Глаза твои, твое лицо. Во что бы то ни стало Надо. А на висках две жилки бьются, Две жилки бьются… Любовь кричит: как поступить? Переступить или вернуться? Переступить или вернуться? И решено — переступить! * * * О, музыка! Слепой подкоп К душе взволнованной… Не надо Идти куда-то далеко, Чтоб оказаться с милой рядом. Высок балкон… Вот свет потух, Не затемняя лишь оркестра. Мой взгляд, Упавший в темноту, Разбился о пустое место. * * * Все ждут чего-то, Все молчат, Тая подобие улыбки. Вот на колени скрипачам Уселись маленькие скрипки, Совсем как дети. Зал притих. Напев смычка ударом начат. Кричу: — Зачем вы бьете их?! Не бейте их, они заплачут!.. Я нехотя закрыл глаза, Когда, откинувшись крылато, Маэстро резко приказал Наказывать невиноватых. Но вдруг Из глубины наверх, Его велению послушен, Летит необъяснимый смех, Летит с эстрады Прямо в душу. То листьев шум, То резкий треск, В надломе веток — брызги соков; То лебедей ленивый плеск В зеленых зарослях осоки; То ног босых звучат шаги Над мягкою прибрежной глиной; То зыбкие круги, круги Под резкий всполох лебединый… Воображенью нет границ. Ведь это я лесной тропою, Прилетных вспугивая птиц, Пришел, как в сказке, За тобою. Как будто В приступ доброты Волшебной палочкой взмахнули, Чтоб все вернуть. Но где же ты? Тебя-то мне и не вернули! * * * Как пламя яркого огня, Не потухающего вечно, Ты мне нужна не для меня, Нужна ты истине сердечной. Когда-то у родных полей Я тайну о тебе подслушал. Напев о красоте твоей Запал в ребяческую душу. Тогда к деревьям у пруда Я обращался с горькой речью: «О, неужели никогда Я на земле ее не встречу?!» Тогда с тревогою к воде Я подходил как можно ближе: «О, неужели же нигде Ее лицо я не увижу?!» Я в поисках провел года, Переходя через утраты. О, неужели никогда И не поймешь ты, Как нужна ты! Нужна, как воздух для огня, Чтоб не погас он скоротечно, Нужна не просто для меня — Ты истине нужна сердечной. * * * Зал без тебя И пуст и незнаком. Как будто зная о моей обиде, Ты прошумела легким ветерком, Чтоб я тебя, Желанную, Увидел. Где ты была? Откуда ты взялась? А сам стою, не смея оглянуться. Ты от моей души оторвалась, Чтоб все пройти И вновь ко мне вернуться. * * * И сразу чем-то полевым, Забытым на сердце пахнуло. С плеча ее, как легкий дым, Сползала шаль на спинку стула. Поношенная бахрома Напоминала злые зимы. Любовь, как музыка сама, Словами мало выразима. Большие Звездные глаза, Гася ресницами мерцанье, Уже осматривали зал, Наполненный рукоплесканьем. Вот локон темный отвела С лица В бледнеющем отливе, Откинулась и поплыла То медленней, То торопливей… Она проходит. Я стою И чувствую, что стало душно, Взглянула в сторону мою И отвернулась равнодушно. Но, даже залитый стыдом, Я все чего-то жду упрямо. Взглянула только… А потом Прошла — И кончена программа. * * * Без тебя, Без ушедшей, Остались со мной Лишь утраты. Я почти сумасшедший… Вот до чего довела ты! * * * Любовь к тебе, Стыдясь, не спрячу. Что ж, если сможешь — отбери! Своей поэзии незрячей Я брал тебя в поводыри. Но незаслуженной обиде Теперь надолго в сердце тлеть. Я так хотел тебя увидеть, Что смог и без тебя прозреть. Но долог путь, Тоска сильнее, — Кто знает, может, до седин… Мне будет без тебя труднее, Пойми!.. Ведь я пойду один. Иду с надеждою на встречу… В мое лицо, В глаза, Как в цель, Стреляя белою картечью, Метет, Метет, Метет метель… А вдруг придешь И встанешь близко, Уже спокойна и тиха, Как равнодушная приписка К моим взволнованным стихам.НА ГЛУБИНЕ
Прости за то, Что я не смог Писать по линиям, Что прямы, — Ты видишь начертанья строк Неровных и кривых, как шрамы. Не отвергая, Все прочти. Душа окрепла, стала гибкой; Она сумела прорасти Сквозь горе радостной улыбкой. * * * На город мой Опять парадом, Под злое карканье ворон, Плывет небесная армада, Плывет железная, И он Насторожился. Где спасенье, Когда, сводящие с ума, За потрясеньем потрясенье Она бросает на дома? То молний Красные зигзаги Пронзают край надземных круч; То, словно траурные флаги, Свисают клочья черных туч. Она плывет Над новой целью, Она плывет. Пощады нет. Настала ночь, Но в подземелье Спасительный зажегся свет. * * * Передо мной Подземный ход, Ступени вниз — входить бы надо… Стою у заводских ворот Под натиском дождя и града. Казалось, Каждый миг грозил. По телу пробежали токи Глубоких потаенных сил, — Но я стою, читая строки: «Перед тобою цех. Ты в нем Испытан будешь, — нелегко там! — На твердость долгую — огнем, На прочность — временем и потом На верность — мукою». И вот Незримо кто-то дверь раздвинул, Тихонько подтолкнул вперед И надолго меня покинул. В сиянье электроогня, Сутуля старческие плечи, Встречает у ворот меня Начальник цеха: — Добрый вечер!.. * * * Со ступеней на мрамор плит Струился отблеск розоватый, И я спросил: — Что там гудит? — А он сурово: — Век двадцатый. И рокот стал еще грубей!.. У потолка, взлетевший шустро, Ошеломленный воробей Цеплялся лапками за люстру, Затрепыхался и повис… Лети за мною, птица-вестница! Я сделал шаг, И мы поплыли вниз На темноватом гребне Узкой лестницы. Припоминалась тишина метро, Блеск мрамора, Не омраченный тенями. А здесь за мной Под музыку ветров Война сползала Теми же ступенями. Уже внизу, Где я стоял, На плиты грянул свет картечью. — Что впереди? — Судьба твоя! — Так надо же идти навстречу!.. * * * И я пошел. Какой простор Скрывали узкие ворота! Передо мной ревел мотор Невиданного самолета Так яростно, что я едва Мог разобрать станков погудки.. Она шла мимо. — Кто? — Вдова… — Давно? — Пошли вторые сутки. О, как же быстро угасал Тот яркий золотистый локон! Когда-то синие глаза Глядели как бы издалека. Но мнилось, Здесь на глубине Ее глаза, со мной встречаясь, Через туманы шли ко мне, Все шли и шли, Не приближаясь, — Вот мы и встретились с тобой. Ты — все такой, а я повяла… — И отрешенно повторяла: — Ты — все такой, ты — все такой… Скажи, чем жизнь оборонить, Каким трудом, Каким гореньем, Чтоб навсегда похоронить И войн И болей повторенье?.. * * * — Такое горе не пройдет! Она навек затосковала… Ты понял, что ее гнетет? Ты слышал, что она сказала? Мой спутник принялся ворчать: — Подумай, да ответ неси ей. А ведь на это отвечать Всем миром надо, Всей Россией, Да так, Чтобы ответ был крут, Упруг и прочен, как пружина. Я лично верю только в труд, В труд и металл. Нужна машина! Ты самолету отдаешь Все для того, Чтобы взлетел он. И потому он так хорош. А знаешь, из чего он сделан? Блестя, От нас недалеко, Стоял тот в солнечном металле. — Все кажется — из пустяков, Из хрупких, крохотных деталей, Но мысль конструктора прошла, Все оглядев и все потрогав, И каждая деталь нашла Свою великую дорогу, Так в каждом, Кто себя найдет, Кто посмотреть вперед решится, Все неживое — отпадет, Все лишнее — отшелушится. * * * От купола За белый круг Перепорхнул и закружился Мой маленький крылатый друг. — Смотри, да он никак прижился И вьет гнездо? Ну, впору, вей! Над радугой Спиральных колец Ловчился серый воробей — Мой превеликий чудотворец. «Чего-чего, — шумит, — я мал! Чего-чего!..» Взмахнул крылами, Перевернулся и поймал Он стружку яркую, как пламя, Понес в гнездо. И даже сон Не каждому такой приснится: Под куполом казался он Какой-то сказочной жар-птицей. * * * Шурша разводами колес, Ведущим новой эскадрильи Наш Як торжественно пронес Свои размашистые крылья, Где надпись просто, без прикрас, Мне говорила лучше оды, Что этот фронтовой заказ Получен был от пчеловодов. А рядом, К золотым словам Приглядываясь оком древним, Шагал неторопливо сам Военный атташе деревни. — Спасибо, детки, за труды, Спасибо!.. Не видал такое!.. — И луч библейской бороды Свивал дрожавшею рукою. — Машина эта — в самый раз. Таких бы нам теперь поболе!.. — Из-под бровей не видно глаз, Но ясно, что старик доволен. — Когда б еще была пчела Здесь нарисована… Смекнули?! Чтоб, значит, знала немчура Про необыкновенный улей! Начнут враги атаковать, А нашу марку тут и видно!.. — Дед, кровное-то отдавать, Поди, ведь как-нибудь обидно? Взглянул! из-под седых бровей И чуть ворчливо: — За два года Я, дитятко, трех сыновей И десять внуков Миру отдал. * * * Дыханием горячей страсти Обдав чешуйки-кирпичи, Открылось чрево В красной пасти Проголодавшейся печи, И, губы Стоязыко тронув, Мне высказала нрав крутой, Подобно алчному дракону, Не утоленному едой. Глотает жадно: Мало! Мало!.. Уже давно потерян счет Брускам холодного металла. Она все дышит: Дай еще!.. Она все просит: Мало! Мало!.. На брусья, взятые валком, Из чрева пламя набегало Чуть розоватым молоком. Уже дымятся рукавицы, На пальцах — иглы теплоты… И, словно в сон, приходит рыцарь, Приходит он из темноты. Движения резки и грубы. Казалось, презирая зной, Он вырывал дракону зубы, Сверкающие белизной. А сталь кидало в белый холод, А сталь бросало в ярый жар, Под сокрушительный удар, Под черный многотонный молот. Он твердил: «Ты такая! Такая! И спасу, и пять раз погублю. Не за твердость тебя упрекаю — Я за твердость тебя и люблю». И гуляли вокруг лихорадки, Все двенадцать сестер, Будто встарь, И трясли в заведенном порядке Добела накаленную сталь. * * * Часы идут, Часы бегут, Часы летят… Рубаха преет. Твердит боек: «Ты тут, ты тут. Спеши, спеши. Там ждут, там ждут…» — Товарищ, подавай быстрее! Напарник поглядел в глаза мои, Заметил, словно невзначай: — Ты, брат, сегодня на экзамене, Смотри того… Не подкачай!.. В глазах рябит. Который час? Не вижу… Мой напарник рядом: — Мне это — что! Вот помню раз, Над Волгою, Под Сталинградом… А сам стоит и улыбается, Мне странную ладонь дает: — Тебе пятерка полагается, А у меня недостает… * * * Я дни и ночи пробыл тут. Идем на свет. Когда б вы видели, Сказали бы, что так идут Из первой битвы победители. Туда, где заревел мотор, Ведет нас путеводный вектор. Минуем узкий коридор, Проходим дальше, Где прожектор Огромным пауком повис, Притянутый за палы блоком, Без устали смотрящий вниз Единственным молочным оком, Прозрачно-белым, неживым… Когда мы оказались рядом, Он мерил глубь сторожевым, Все время неподвижным взглядом. Скажи, не ветер ли качнул Лучей протянутые нити? — Там самолеты. Их начнут Сейчас выкатывать. Глядите! И вот С туманом вперехлест, Урча и поводя плечами, Входил на нерушимый мост, Вплотную устланный лучами, Наш Як. Он выводок родни Вел за собой: Все Яки, Яки… И вскоре шли как бы одни Опознавательные знаки. * * * Прожектор двинул белым оком, Лучами темень прободав. Я весь пронизан Страстным током, Бегущим не по проводам. Где золотистая пылинка Летит в луче — не удержать, Где каждая моя кровинка Спешит до сердца добежать; Где отстоялась воля предков, Готовая отвагу влить, Где каждая живая клетка Спешит о жизни заявить. Я вижу все, кто окружает, И даже вижу, как в беде Сама победа отражает Свое лицо в моем труде. Хотя ни мира, ни покоя Мой труд еще не отразил, Но я увидел в нем такое, Что выше всяких темных сил. И потому В бою жестоком Пощады недругу не дам. Я весь пронизан Страстным током, Бегущим не по проводам.ПОЭМА О ДОМЕ
«Любимая, когда и где мы Найдем пристанище с тобой?» Так появилась третья тема, Заполнившая все собой. Сначала — непонятным комом Давила на сердце, потом Я занялся проектом дома — Любому счастью нужен дом. * * * Котенок, словно ниткой пряжи, Играет тоненьким лучом. Игра его — одна и та же, Ему и горе нипочем. Смотрю я на его наскоки, Смотрю и думаю о том, Как спроектировать высокий, Необычайно светлый дом. Пришли назначенные сроки, Пришли, и стало невтерпеж. Стоит в моем углу упреком Мой забракованный чертеж. Экзамен был, и, помню, некто В неудовольствии большом Мои красивые проекты Перечеркнул карандашом. Никто не проявлял участья. Никто! Все чертежи в тот миг Я мог бы разорвать на части. Боюсь вещественных улик. Но я остался с ними — весок. Был свиток всех моих обид. Он, словно дерева отрезок, Что белой берестой обвит. Как незапамятную давность, Развертываю на листе Отображенную туманность Упрямых творческих страстей. Остановился на изломе И думаю: пора решить, Что будет, если в этом доме Она не согласится жить? Так для кого ж, Себя спросил я, Так для кого же строю я? Он и высокий и красивый, Но по всему — не для жилья. Как по заснеженной долине, На белом ватмане, вразброс Метался вихрь забытых линий.. Трескучий северный мороз Коробил широту проекта. Я наклонился над листом, Где некогда суровый некто Перечеркнул тот вихрь крестом; Где украшением портала Колонна, не страшась высот, Гиперболически взлетала Под сказочно-хрустальный свод. Но все, чем он был изукрашен, Мне говорило об одном, Что для такой любви, как наша, Я должен строить новый дом. То, что отцу всего дороже, Передается сыновьям… Хочу воздвигнуть непохожий На тот, в котором вырос я. Хочу, чтоб отдохнули шеи, Что потолком утомлены В подземных улицах войны, В ее землянках и траншеях. Но прежде чем коснуться камня Искрометательным резцом, Любимая душа нужна мне, Что станет чистым образцом, Который новый мир покажет, Открыв его своим ключом… А вдруг она на это скажет: «Ну, что же, строй. А я при чем?!» * * * О, музыка, Где в каждой гамме То вознесенье, то обвал… Крадусь неслышными шагами По лестнице, где я бывал. Она, поблескивая тускло В легко колеблемых лучах, Легла, как высохшее русло Большого горного ручья, Где воды вечность испарила И только камни сберегла… Я опираюсь на перила Руками, как на берега. * * * Свободней легкого эфира Все скрипки, Да, все до одной, Звучат напоминаньем мира, Давно порвавшего со мной. О, как понятна и близка мне Их тема мудрая о том, Как выстроить, слагая камни, Необычайно светлый дом. Легко настроенные бродят По неустроенной душе, Как будто линию проводят На непонятном чертеже… Все видим, Ничего не скроешь. Надолго потеряв покой, Ты новый дом зачем-то строишь, Скажи нам, для какой — такой? Скажи, мы дом с душою сверим. Постойте, сам вас проведу — Любимая сидит в партере, Вы слышите, в седьмом ряду!.. Ушли, не закрывая двери, Ушли, огней не потушив, Чтоб линии мои проверить По линиям ее души. Невероятно резкой нотой Я словно выброшен во мрак! Почувствовал — неладно что-то… Все не по-моему, не так!.. Обратно грустными приходят. Я затаился и слежу, Как музыка мой дом возводит В душе моей по чертежу По старому… Все выше, выше Растет он, все полней, полней… — Скорее возводите крышу С большими башнями на ней!.. Но поздно! Чей-то голос резко, Почти в отчаянье кричит: — Пробейте окна, дайте фрескам Взглянуть на яркие лучи! Нет — поздно! Все уже дрожало. Колонна, продолжая взлет, Шатаясь, все еще держала Мой сказочно-граненый свод. Беда стрясется — придержите! У окон, с криками — пробей! — Метнулся в доме пленный житель Неуловимый воробей… Метался он, Кружился около, Не выдержал — рванулся вон, Ударился, да так, что стекла Заговорили вперезвон. По убывающей наклонной Летит на камни и на сталь… И рушится моя колонна, Хрустит и крошится хрусталь. Перемешался крик со стоном, Стон с криком… Сердце — на куски! Разрушен дом. Скользят над домом Пылающие языки. * * * Что будет, — Все могу принять, На что-то в сердце опереться И снова, в сотый раз, понять Свое непонятое сердце. Хочу проверить, как звучат Мои лирические строчки. А в голове стучат, стучат Пронзительные молоточки: «Зачем пришел? К чему пришел?» Я к ней вернулся, я ликую. Вам все равно, а я нашел, Любимую нашел. Такую Мне было нелегко найти. Она вошла спокойно-строгой. Так захотелось подойти И недоверчиво потрогать, Проговориться впопыхах: «Скажи открыто, что не лгу я, Все думают, что ты в стихах, А я нашел тебя живую». Переменилось что-то в ней, Не понимаю только — что же? Глаза ли, ставшие темней, Иль брови, поднятые строже. Я вопросительно взглянул И понял вмиг, что буду снова У прежней робости в плену. Но что же делать?! Мне иного Исхода нет. Я все попрал, Не понимая, В чем спасенье… «Мой дорогой, но ты не брал В расчет земные потрясенья. Ты главного не разрешил В проекте невозможно узком: Сопротивление души Все возрастающим нагрузкам». * * * О, юность, Каждому из нас Ты открывала мир, И каждый Все видел только в первый раз, Все делал только в первый раз, Не утоляя в сердце жажды. Любили только в первый раз — Мы ничего не повторяли, — Случилось — мы в тяжелый час Друзей любимых потеряли. Случилось так. Покинув нас, О, юность, нам оставь ту жажду — Смотреть на все, Как в первый раз, Все начинать, Как в первый раз, Не повторив ошибок дважды. * * * О, музыка, Где в каждой гамме Напоминание о том, Как возвести, слагая камни, Ничем не разрушимый дом. Такой, чтоб он, Как бы в рассвете, Живыми гранями возник. Они звучат, как бы ответить На главное хотят они. «Иди за нами. В отдаленье В торжественно-прекрасном дне Есть радостное примиренье» — Так скрипки говорили мне. Светало, Солнце ли всходило На темно-голубой экран — Заря рассеянно цедила Легко спадающий туман. Такого дивного вовеки Не видели глаза ничьи. Спокойно разливались реки, К разливу звонкие ручьи Бежали по траве лугами, Наперебой, как сорванцы, Чтоб радостно найти губами Золотоносные сосцы. Деревья, точно исполины, Вдруг увидавшие простор, В темно-зеленые долины Сходили с белогривых гор. В народе шла Она. Я с места Рванулся по ее следам… Но ту, что называл невестой, Я больше не увидел там. Мне скрипка шепчет: «Доведу я, Пойдем, чего же ты притих?» — Нет, чувствую, что не найду я Любимую среди других! И скрипки подтвердили хором, Уже спокойно, не спеша: «Ты видишь целый мир, В котором Невидима ее душа». И растерялся я: Да где я Найду потерю? Что скрывать — Другой любовью не владею, Не знаю даже, где и брать. И вдруг увидел, как, ликуя, Подобно всплеску чистых вод, Любовь огромную, иную Как знамя, поднимал народ. «Бери! Ты заслужил страданьем, Бери, но позабудь покой — Построй нам города и зданья, Достойные любви такой». Строй выше, Чтоб не гнулись шеи, Что до сих пор утомлены В подземных улицах войны, В ее землянках И траншеях. Грудь необъятное вдохнула — Давно желанное сбылось. В ней что-то двинулось, Толкнуло До крика, — Так и началось! * * * Мой дом поднимется красиво, — Попробуйте потом сличить Все, что душа моя просила, С тем, что сумела получить. Попробуйте детально сверить. Устрою так, чтобы всегда В него открыты были двери, Пусть и Она войдет туда. Но, повода не подавая Для разговоров обо мне, Она войдет, как рядовая, Войдет с другими наравне. Быть может, и вздохнет глубоко, А если не вздохнет, так что ж!.. Передо мной лежит упреком Мой забракованный чертеж. Как по заснеженной долине, На белом ватмане, В наклон, Шумит почти забытых линий Неутихающий циклон. «Пора проститься мне с тобою…» Обрывки старых чертежей Покачивались скорлупою Отшелушившихся идей. В душе, Еще не утомленной, Наметив светлый перелом, Птенец мечты, чуть оперенный, Слегка пошевелил крылом… 1943-1945МАРЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
1 Одна, последняя верста… Вот с высоты горы отлогой В широкую ладонь моста Упала узкая дорога. Где, выступая с двух сторон, Деревья, точно на параде, Всей тяжестью душистых крон Касались тонких перекладин; Где на высокую дугу Завился хмель, созревший в пору. И я уже почти бегу По травяному косогору. Меня прохладою обдав, Ручей примчался на братанье. Гремела светлая вода, Как будто по моей гортани. Ручей, играя, то сверкал, То меж ветвями хоронился, Являлся, искры высекал И мчался дальше… Я склонился Так низко, что была видна Вся глубь. Я посмотрел — и замер: Не детство ли мое со дна Глядело ясными глазами, Забытыми давным-давно? Губами в дрогнувшие губы Я неотрывно впился, Но Лицо перекосилось грубо И потонуло… Долго вниз Глядел я, затаив дыханье, — Там плыл смородиновый лист, Кружа мои воспоминанья. * * * За лесами ли, горами ли, Будто с милой вновь сидим Неподвижно, точно замерли, Настороженно глядим, Как высокою травою Пробираясь в ранний час, На дорогу вышли двое, Так похожие на нас. Впереди мальчишка смелый Не мальчишка, а гроза. У него спадает белый Чуб на серые глаза. А у девочки по ситцу Бьются темные косицы. Дни летят, как птицы в стае, Соблюдая свой черед… Смотрим, парень подрастает, Видим, девушка растет. Стали косами косицы, Превратилась тропка в путь.. Но любовь, что часто снится, Паренек еще боится Поцелуем отпугнуть. И стоит он безответно… Мне бы, той межой скользя, Подойти и незаметно Подсказать бы, да нельзя. Подсказать бы, что в разлуке Будут раны, будут швы, Будут всяческие муки, Будет горе… Что же вы?! У синеющих отрогов, На границе двух долин Их широкую дорогу Расколол зеленый клин. К верстовым далеким знакам Подставляя ветру грудь, Он пошел широким шагом, — И его не повернуть. Мне прибредилось, приснилось, Как, печальная, она Незаметно растворилась В голубом разливе льна. Лен слепит голубизною И качается врасхлест… Никого передо мною: Лишь ручей Да старый мост. * * * Как тягостного разлученья Необходимые посты, Полны великого значенья Простые сельские мосты. Они дороги наши сводят На бревна, павшие внакат; По ним всегда вперед уходят, Но не всегда идут назад. Мост старили дожди и ветры, Но я нашел и оглядел Давно оставленные меты, А свежих не было нигде. Как в летопись, По старым пятнам Вписал я всем чертям назло: «Домой вернулся в 45-м…» А ниже — месяц и число. В раздумье Я сидел на слеге. Мне слышался издалека Неторопливый скрип телеги И стук пустого котелка. Мне слышалось воды теченье, Заворожившее кусты. Полны великого значенья Простые сельские мосты. * * * А ветер, вея, льнул к лицу, Шептал тихонько: «Насовсем ли?» Допрашивал, взметнув пыльцу: «Не позабыл ли нашу землю?» Обидно было, что нельзя Налюбоваться вдоволь ею. Хотелось показать друзьям, Где я живу и чем владею. И огорчало лишь одно: Пять лет назад вон там бескрайно Синело озеро… Оно, Невозмутимое, как тайна, Теперь травою заросло, Осокой заросло зеленой. И все-таки в свое село Входил я, Встречей окрыленный. * * * Домой уже брели стада, Подернутые дымкой смутной, Когда надвинется страда, То улицы совсем безлюдны. Лишь марьевские кузнецы Стучат упрямо молотками. Зато поля во все концы Как бы усеяны платками. Лучи косые вдруг блеснут, Как будто, уходя с покоса, Колхозницы домой несут Зарю вечернюю на косах. Мне трудно было бы узнать Черты покинутой подруги. Но мать… Ко мне шагала мать, Раскинув для объятья руки. В лучах зари она росла, На холм входя тяжеловато, — Казалось, на плечах несла Всю тяжесть позднего заката. 2 Верила все, что дождется, — Мать не умеет иначе. Плачет, когда расстается, Встретится — тоже поплачет. С прежнею вносит заботой Старую ложку и вилку, Будто пришел я с работы От полевой молотилки. Будто пришел я и надо Прежде поесть и напиться — Просто пришел из бригады В дядькиной бане помыться. — Вот!.. Помоги-ка, сыночек!.. — Вынесла, виданный с детства, Желтый такой туесочек, Круто промазанный тестом. — Выпей!.. — За сердце хватает Сок, побежавший сильнее. Пью я, а мать наблюдает И почему-то пьянеет. Вот он, мой дом! Почему же Верит душа и не верит?.. Стали и ниже и уже Настежь открытые двери. Тетка Агаша в просвете, Меж косяками дверными, — Вся как на старом портрете, Только с чертами иными. Сердце от жалости стынет, Глядя на скорбные руки… Думал, что спросит о сыне, Думал, что спросит о друге. Вот, отойдя понемногу, К маме она обратилась: — Анна, какому ты богу Так терпеливо молилась? * * * А где-то рядом, за окном, Играет гармонист О том, что с веток, невесом, Слетел последний лист. Вослед стремительным годам Он кружится, И пусть По тонко тронутым ладам Перебегает грусть. Ах, не грусти ты и не тронь Потерянных имен, Косноязычная гармонь Неведомых времен!.. * * * На горьком аромате трав Настоян был горячий воздух. Как прежде, голову задрав, Гляжу на марьевские звезды. Не надо б, Но глаза косят, Глаза глядят не наглядятся… Мое хозяйство! Пусть висят, Когда-нибудь и пригодятся. Мне, видевшему столько зла, Что мне теперь миры иные! До звезд ли, если есть дела Первостепенные, земные! Она, мол, ждет, сказала мать, И я иду по старым тропам И начинаю привыкать, Как пахнет тмином и укропом. Широкая тропинка та Казаться стала узкой-узкой… Вдруг распахнулась темнота Мелькнувшей рядом белой блузкой. В тот миг не виден ни лица, Ни черных кос, сплетенных туго, Не мы сначала, а сердца Узнали в темноте друг друга. Крылами рассекая мрак, Над нами птицы пролетели, Так хорошо и чисто так Давно-давно мы не глядели. Сказал, что лучшей не встречал Я в землях русских и нерусских. Как будто ветер закачал Цветы, расшитые на блузке. И сразу замерли цветы, Когда, склонившись к ней, красивой: — Другого не любила ты? — Некстати так ее спросил я. Горячую струну лишь тронь, Струна заплачет и застонет… — Ты что!.. — И девичья ладонь Сказала все моей ладони. 3 Не гость, Не какой-то прохожий Когда-то я здесь вырастал. Чем дальше мы шли, тем дороже Нам были родные места. Мы шли на крутые отрога, Мы шли по долине, И нас На пыльной широкой дороге Шумливый догнал тарантас. — Садитесь!.. На свадьбе на вашей Вина с медовухой попьем!.. — На вашей на радости, Маша, Мы грустную песню споем… «Я на горушке стояла, Я Егорушку ждала, Кашемировым платочком Я помахивала. Молодова, удалова Я приманывала. Прилетели наши гуси, Гуси серенькие, Помутили гуси воду, Воду светленькую. Зачерпнула я ведерком Воду мутную, Понесла я свою долю, Долю трудную…» Мне больно и страшно обидно, Что в тесном кругу среди них, Как прежде бывало, не видно Соперников гордых моих. Я в жизни своей необычной Себя не старался спасти. Прости меня, друг закадычный, Мой верный товарищ, прости! Я знаю, печальная доля — От ратных трудов отдыхать. Не жаль тебе спелого поля, Не сеять тебе, не пахать… * * * С пылью на лапчатых шинах, Все довоенной поры, Грузные автомашины Мчались на гребень горы. Словно узор рисовали На подорожной пыли. Вырвались, побуксовали И потерялись вдали. От молотильной бригады Автомашинам вдогон Пестрая шла кавалькада, Пересекая загон. * * * Коровы круторогие Домой везут воза, Полуприкрыв широкие Печальные глаза. Трава густая снится им, Зеленая скользит За темными ресницами, За длинными… Вблизи, Спокойная, вся белая, Раскланялась со мной. Мол, видите, что делаю, — Приходится самой. Что трудности имеются, Понятно даже ей. Мол, время ли надеяться Теперь на лошадей? Работа напряженная! При деле при таком Она и запряженная Все пахнет молоком. О том, чтоб не работала, Вернула прежний вид, На белой шее ботало, Что колокол, гудит. И звон тот не утишился И не ушел на спад — Он долго-долго слышался, Тревожный, как набат. * * * И вскоре, Молчанье нарушив, У Маши спросил я, упрям: — Зачем, бередя мою душу, Ты водишь меня по полям? Не рад я такому показу, Его нелегко перенесть… Сказала: — Чтоб сразу… Чтоб сразу… Увидел ты все, что ни есть. Чтоб не было места укорам, Что встретил меня не в раю… — Мы вышли к мосту, на котором Оставил я надпись свою. Сказал, Что слова не сотрутся Под ливнем, какой бы ни шел. Сказал, что герои вернутся, Что будет опять хорошо. Сказал, Что они не забыли Крестьянскую сладость труда… И слышу: — Они приходили… Ушли, не оставив следа… Нахмурила строгие брови, Продолжила с болью она: — Ты прав, приходили герои, Мы видели их ордена… Ты прав, они храбро сражались И кровь проливали не раз… Там смерти они не боялись, А здесь, о себе лишь печалясь, В заботах оставили нас. Я понял: У женщины право, У женщины высшая власть. О женщины! Русская слава Под сердцем у вас зачалась. Красавицы русских селений, Из вас поклонюсь я любой За то, что судьба поколений Становится вашей судьбой. Я слушал упреки подруги, Целуя под аркой моста Ее грубоватые руки, Сказавшие правду уста. 4 Казалось мне, Что воздух пашен Меня, пришедшего, обмыл. Я чище сделался и даже Еще влюбленнее, чем был, В свои поля, В простор бескрайный, Покрытый дымкою слегка, В неповоротливость комбайна Идущего издалека. Ему легко, Ему просторно! И, чувствуя земную дрожь, Волнуясь, перед ним покорно Склоняется густая рожь. Он движется Все торопливей, Врезаясь в голубой проем. Он тонет в золотом заливе Необычайным кораблем. * * * Сердце мое отвердело, Руки окрепли в боях. Нас оторвали от дела На неоглядных полях. В темножелезные ночи В дальней немецкой стране Стали мы, нет, не жесточе… Дайте рукою рабочей К миру притронуться мне! * * * Мотор движения просил Настойчиво, до дрожи страстно. Все сорок лошадиных сил Вдруг двинулись вперед согласно. Комбайн, качаясь, описал Широкий круг. Без возраженья Нескошенная полоса Попала в наше окруженье. Мне слаще музыки был звук, Которого давно не слышал. Чем уже становился круг, Тем солнце опускалось ниже… И ночью Явно неспроста, Над головою нашей свесясь, Выглядывал из-за куста Наш с Машею Медовый месяц. На терпком аромате трав Настоян был горячий воздух. Как прежде, голову задрав, Гляжу на марьевские звезды. Не надо б, Но глаза косят, Глаза глядят не наглядятся… Мое хозяйство! Пусть висят — Я ж говорил, что пригодятся. 1946ЗА РЕКОЮ КЛЮЧЕВОЙ
Осенним золотом горят Лесов густые кроны. В садах и рощах Все подряд Горит огнем червонным. А в небе лебеди трубят, Их море ждет. Недаром Они летят, летят, летят Над золотым пожаром! Рюкзак набитый Спину гнет, Ремнями плечи грея, К родной Шатровке Путь ведет Алданова Андрея. Андрей когда-то из нее Ушел от недорода, Под вывескою «Живсырье» Пересидел три года. Пшеница! Блеском острых пик Все поле полонится. Свернув с дороги, Напрямик Пошел он к той пшенице. Стоит, по виду непроста, И колосом солидна, А в нем такая пустота, Что даже тронуть Стыдно… И видит он В лучах зари, Как, путая колосья, Без уваженья косари Ее, такую, косят. — Коси!.. — Своди позор к концу! — Выкрикивал косец косцу, Другой — из-за пшеницы: — Слышь, кум, Работа не по нас, Здесь бригадира бы как раз Заставить потрудиться. — Должно, нет силы у земли. Я ж говорил со сватом: Сват, говорю, подшевели Ее суперфосфатом. Суперфосфат — То сильный зверь!.. — И заключил устало: — Эх, все работнички теперь. Хозяина не стало! — Он есть, да интересу нет… Андрей пошел быстрее. —Коси, коси! — Летело вслед Алданову Андрею. * * * Померк закат, И говор смолк, Пропал Запал Умильный. По звукам Шел Андрей на ток Бригады молотильной. Как будто кто трубил в трубу, Его приход почуяв… Любил он с детства Молотьбу, Особенно ночную. Любил, Как грабли в темноту Солому отметают, Как барабан На всем лету Снопы за чуб хватает. Любил он, Как в кругу девчат Ремни, шкивные ленты, Сходясь и расходясь, Звучат Дружней. аплодисментов. Скирды, Что крепость, Что редут, И, споря, Кто отважней, Ребята приступом берут Колосовые башни. Мелькают руки молодух, Всегрешных меж собою, И хлебный, Исто русский дух Стоит над молотьбою. Андрей В труде негородском Как будто причастился: До хлеба жадным мужиком Он заново родился. * * * В поймах неба Над Шатровкой Бродят звездные стада. Над притихшею Шатровкой Пала первая звезда. Та звезда Предвестьем горя Над землей летела вкось. Поздним вечером В конторе Полдеревни собралось. Перед взбучкой неминучей На смотру бригадных дел Бригадир Антон На случай Критики Медаль надел. Опершись на стол руками, Он косился на часы, Оттопырив плавниками Рыжеватые усы. Ту пшеницу, Как улику, Как пример к его делам, На позор и суд великий Разложили по столам. За Антона не тревожась, Девушки из колосков Ладят некую похожесть Бригадировых усов. Нарядившись В серьги, В бусы, На Алданова глазят, Перед новеньким, Безусым, Мокрохвостые, форсят. Без особого почета На Антона смотрит мир. — Люди требуют отчета, Отчитайся, бригадир, За дела бригадные, За неладные!.. Тут Антонова бригада Высказалась напрямик: — Снять! — Такого нам не надо! — Снять! — Снимайте! — Сел и сник. И Алданову не легче Принимать его дела, Показалось, что на плечи Межами Земля легла. Шел он позднею порою, Шел и знал, Что не заснуть. В тихом сквере Бюст героя Преградил Андрею путь. Показалось: Из просвета Смотрит, пристально суров, С каменного постамента Бронзовый Сергей Орлов. Показалось: Шевельнулся, Показалось, Что сказал: «Я — погибший, А вернулся, Ты — живой, А запоздал...» * * * Кому из нас В краю родном Покинутый не снился дом. Тот дом, Где старенькая мать Улыбкой встретит кроткой. Когда-то длинная кровать Окажется короткой. Проснись, Андрей, Уже светло, Уже, роняя листья, Рябина в синее стекло Стучит багряной кистью. Проснись! Уже давно восход, Уже, затеяв игры, На лавке полосатый кот. Изображает тигра. На конном Перезвон уздец, Смех, шутки у конюшен; Прядет ушами жеребец, Горяч и непослушен. И под знакомый шум и звон, Уже иной, Не прежний, Шагает пасмурный Антон, Ступая по-медвежьи. В душе — тоска, В глазах — туман, В бригаде — междувластье. Легко неся Свой вдовий стан, Пришла Орлова Настя. Ей, Что работать, Что плясать, Что петь В тоске глубокой. Красавица Ни дать, ни взять, А ходит одинокой. И то — Героева жена, Посватать — С ним сравняться. Ребятам нравится она, А подойти боятся. Любить бы ей, Детей рожать, Унять бы страстный голод… Хотела даже убежать, Как грамотные, В город. Ушла б, Никто и не мешал, Но, утишая муки, Взгляд бронзовый Ее держал И бронзовые руки. Нет, не ушла, Не предала, Задумала иное, И до поры себе взяла Смиренье напускное. Зарей умылась, Та заря В ресницах полусонных. Она, ни с кем не говоря, Лущит себе подсолнух. А у него кудрей кольцо И конопатое лицо… Андрей, Излишне деловит, Орловой Насте говорит: — Три лошади возьмете, Снопы с участка своего На общий ток свезете. — Как так?! — А так. Тебе дано Твое же бывшее звено. Сполз с головы Цветной платок. — Мои снопы на общий ток?! Не унимается она, Тогда сказал он злое: — Не стыдно?.. А еще жена Погибшего героя!.. И — смолкла. Вспомнились до слез И вызвали заминку Такой же лоб, Такой же нос С орлиною горбинкой. Припомнился ей Взгляд родной Того, кто звал ее женой, Кто милой Настенькою звал, Кто в прелюбую пору Команд суровых не давал, Как этот… Слишком скорый!.. И вдруг Девчатам из звена, Шумевшим, как галчата, Сердито крикнула она: — Поехали, девчата! * * * Через мир разноголосый Мнит Андрей, кидая взгляд, То на гречу, То на просо, По зеленому прокосу К будкам тракторных бригад, Где, взметая пашню ровно И слепя глаза людей, Пять плугов ныряют, Словно Стадо белых лебедей. До чего ж Кругом красиво И вольготно до чего ж! Иноходец машет гривой, Подворачивает в рожь. Но хозяин Что-то крут, Он зол, Чего бы ради? Глядит на поле, Где растут Две меленькие клади. Отливает, Словно жар, Плеч девических загар. Все без блузок, Сноп — не сено, Не засенится на грудь. Рвется конь: Стряхнувши пену, Громким ржаньем, Как сиреной, Хочет девушек спугнуть. Два коня Столкнулись лбами. Бригадир не с добротой Перед возом со снопами Поднял руку, крикнул: — Стой!.. — Это превышенье власти!.. Это… Это… — В стороне Раскрасневшаяся Настя Запинается в стерне. На груди рукою узкой,. Нервно пальцы сжав, в кулак,. Незастегнутую блузку Ухватила кое-как. Позабыла стыд. Руками Преградила путь. — Не дам! — Блузка синими волнами Разошлась по сторонам… Конь в упряжке С толку сбился, Пятясь с возом. Вперекос Накренился, Развалился Невысокий Настин воз. Вздрогнула, Глаза закрыла, Сделалась пьяным-пьяна. Белой грудью придавила Золотистый сноп она. И Алданову невольно Сразу стало Больно-больно. Словно спелые колосья, Что под Настею сплелись, Расколю-колючей остыо Тоже в грудь ему Впились. Что поделать, Он не знает, Слышит — Настя причитает, Плачет, словно над могилой, Той, единственной, одной… — Да почему, Сережа милый, Рядом нет тебя со мной… Ты героем был, Я тоже Думала… А тут… А тут… Мне с тобой, Родной Сережа, Поравняться не дают. * * * У дороги, У проселочной, Где рядами с двух сторон И березовый И елочный Поднимался вверх заслон, Где масленок Землю вспучивал Желтой шляпкой набекрень, Не по возрасту задумчиво Бригадир присел на пень. Свет вечерний Елка застила, Но в глазах светилась та Ослепительная Настина, Озорная красота. Сколько лет С одним желанием Звал любовь, Не ведал сна, Мучил сердце ожиданием: Где, Когда Придет она? И случилось необычное, Вдруг любовь В короткий миг Приняла черты, обличие Насти, острой на язык. Обозвавшая бездельником, Вся она в его груди — С вечным Бронзовым соперником, Гордо вставшим на пути. Даже лошадь Стала кроткою. Попаслась вокруг пенька И губами, как бархоткою, Плеч коснулась паренька. Если та, о ком мечтается, Душу, сердце обожжет, Ничего не замечается. Глядь, Увидел: Снег идет. * * * Зима… На снежном полотне Прострочен след лисицы. Мороз рисует на окне Ветвистую пшеницу. Весь куст Как будто переспел: И стебель бел, И колос бел. И по канве узорной От снега, бьющего в карниз, Снежинки опадают вниз, А кажется, Что зерна. Девчата за окном поют, В клуб зазывают новый. Девчата славят в нем уют И аромат сосновый. Назойливую пряча боль, Андрей пошел на песни, Чтоб героическую роль Сыграть сегодня в пьесе. Снежинок рой, Сойдясь, кружил, Чтоб снова разминуться. Все, что хотел, запорошил, Все, что сумел, заворожил, Да так, Что тополь затужил, Не смея отряхнуться. Береза старая в кругу Других берез с азартом Раскладывала на снегу Свои сухие карты. Их много в стуже ледяной, И все они на счастье: Одна к одной, Одна к одной — Одной червонной масти. * * * Привычно появляться им, Да так, Чтоб интереснее: Ребятам с декламацией, Девчатам с тихой песнею, С припевками веселыми, Со звуками со струнными, Что плавают над селами Ночами звездно-лунными. «За горой, за лесом, За быстрою речкой, За горой, за лесом Милый мой живет. На тропинки лисьи Опадают листья — Жду-пожду, а парень В гости не идет. Мне самой, подруженьки, Некогда ходить, Как бы мне, подруженьки, Парня заманить?» На сцене Парень в кителе Ведет борьбу с фашистами, А в темном зале зрители Переживают истово. Вот люди надают, Встают, Пшеницу топчут спелую. В бойце Андрея узнают, А рядом Настю смелую. Вот ранили бойца враги. С тоской неодолимою Он просит девушку: — Беги! Спасай себя, любимая! — Но говорит она ему, Так говорит, Что верится: — Тебя у смерти отыму, У всех, Кто взять осмелится! * * * Но лишь закончилась игра И до свиданья смелость. Кто б знал, На внука столяра Настасья загляделась. С тех пор, Как будто кто украл Язык ее шумливый. Все чаще на душе играл Котенок шаловливый. Теперь уж кошкой не скребло, А так: Котенок вольный Потрется спинкою — тепло, Царапнет лапкой — больно. Пожалуй, Настю не понять, Не помянув на слове, Что ей минуло двадцать пять, И пять последних — Вдовьи. Но вот сильнее стала боль, Тревожней стали мысли, Что в клубе сыгранная роль Не удается в жизни. Домой — одна. Ускорит бег, А с сердцем нету слада. …Стоял февраль, И мягкий снег На землю тихо падал. Лежал на крышах, На полях, На темных Настиных бровях. До губ не долетая, Он почему-то таял… * * * За столяркой В белой роще Прилетевшие грачи Делят новую жилплощадь, Каждый спорит и кричит. И скворец своей скворешне Песню теплую принес. Бригадиру Залах вешний Сердце трогает до слез. Набухает сердце почкой, Чтоб потом Раскрыться в нем Не зелененьким листочком, Не голубеньким цветочком — Полыхающим огнем. Тою самой чистой страстью, От которой чуда ждешь, От которой к милой Насте Запросто не подойдешь. Только, как бы ни пугала Страсть, сжигающая их, Бригадиру не пристало Убегать от рядовых. * * * У Насти Спросил он о том, Каким бы она пожелала Увидеть свой собственный дом? И Настя, вздохнув, отвечала: — Чтоб окна Для каждой стены, Чтоб милый, Какой бы дорожкой С какой бы ни шел стороны, Выл виден В большое окошко… * * * Настя ходит Как в тумане, Кто научит, Как ей быть? — Неужель всю жизнь, маманя, Мне при памятнике быть? Горьких мыслей разногласье И свекровь свело с ума. — Ты пойди к нему, Настасья, Ты скажи ему сама. Если сродственные души, То признанье — Не в укор. — Шепчет: — Господи, не слушай Этот бабий разговор… В горнице Замолкли речи, Слезы высохли давно. Лунным оком смурый вечер Стал заглядывать в окно. Настя — в двери. С плеч покатых Падали, дрожа слегка, Темно-синие квадраты Барнаульского платка… А на поле Злаки крепли, Из земли, Как из ларца, Дотянулись чудо-стебли До Андреева лица. С той поры, Как снег растаял, Зерна в борозды легли, Он служить себе заставил Силы неба и земли. Шел Андрей, Счастливый, С поля, А ему наперерез Вышел кто-то… Настя, что ли? Переждал, А рядом — лес. Вскоре лиственно и хвойно Он касался их голов. Настя дышит беспокойно, Не находит Настя слов. Но подмечено, и метко, Что бывало с давних пор: Слезы женские нередко Начинали разговор. — Что ты, Настя! — Всхлипы глуше. — Не могу тебя понять. — Я люблю тебя, Андрюша… — И заплакала опять. * * * Заговорила, теребя Углы плата: — Не знаю, Что скажешь ты, а я тебя, Андрюша, понимаю. — Спеша, слова летят из уст: — Когда, такой похожий, Поставили Сережин бюст… День-ночь — Я все к Сереже. При нем и ночь светлее дня, Смотрю — мне все в нем свято, А он глядит поверх меня Сурово вдаль куда-то. Обидно — почему поверх? И поняла я все же, Что он за всех, Что он для всех, И я, как все — Сереже… Лес и лиственно и хвойно Над Андреем зашумел. Он хотел сказать спокойно, А спокойно не сумел. Есть слова, Но все словами Невозможно передать. Стал он жадными губами Губы Настины искать. — Ой, не надо!… Дай мне малость Отдышаться… Погоди!.. — Руки вскинула, Прижалась И притихла На груди. Разговор вели неробко Про любовь и про дела. Не заметили, Как тропка К памятнику привела. Не свернули торопливо К новым радостям своим, Но, как дети, молчаливо Постояли перед ним. Жизнь подсказывает мудро, Очень мудро! Ведь не зря Настя тихая, как утро, Молодая, как заря. Над зеленою травою, Где влюбленных виден след, За рекою Ключевою Занимается рассвет. 1951-1952МАЛЕНЬКИЕ ПОЭМЫ
МУЗА
В деревне Пустовали гумна. Лицом смугла и темно-руса, По зреющим полям бездумно Бродила марьевская Муза. Был зной. Трава от зноя вяла. Полями, тропами лесными Брела и землянику мяла Она подошвами босыми. И останавливалась часто, И снова шла… В разгаре лета Среди таких, как я, вихрастых Искала своего поэта. Быть может, И прошла бы мимо, Ио рожь, стоявшую стеною, Раздвинула, еще незрима, И наклонилась надо мною. С тоскою глядя, ворожила… Меня в мое девятилетье На чуткость испытать решила — И, чуткий, Я ее приметил. Стояла Скорбная такая!.. Вперед как будто поглядела И, на тревоги обрекая, Уже заранее жалела. Миг — Что зерно. Вся жизнь в том миге. В глазах печального свеченья Легко, как по раскрытой книге, Прочел я тайну обреченья. «Мир повстречает новостями, Но ты полюбишь эти земли, Душою, Телом И костями Почувствуешь ржаные стебли. По жизни всей — до поседенья Ты пронесешь в душе пытливой Мучительное изумленье Судьбой крестьянки Терпеливой». И вот Глаза уже иные: «Дитя земли и революций, В тебя все радости земные Одною радостью вольются. Дитя голодного сусека, От всех невзгод Возьмешь ты долю; Дитя мечты, Все боли века Войдут в тебя одною болью. На все обиды и утраты Гляди, преодолев страданья, Как на торжественную плату За свет Душевного познанья. Ты больше всех Меня полюбишь. Всю жизнь свою В любой прохожей. Искать похожую ты будешь, Но так и не найдешь, похожей. За тяжесть, что тебя не в меру К земле пригнет И горем тронет, Я дам тебе такую веру, Перед которой Горе дрогнет». Не знаю, За какие вины, Печалью глаз И губ дрожаньем Она раскрыла мне глубины Своих земных переживаний. Моя крестьянская, босая, Прощально, помню, улыбнулась Перед глазами угасая, Ушла… И только рожь качнулась. Все — было. С головой седою Играть ли в рифмы, Как в игрушки? Все это было за Удою, У старой Дедовой избушки. 1960ЧЕЛОВЕК
Природа Не очень спешила Провидеть свою благодать, Пока, заскучав, не решила Себе Человека создать. Природа В работе неспорой, Незримое что-то творя, Предгорья Вздвигала на горы, Бросала моря На моря. В горячке, В бреду, В наважденье Земля, потерявшая стыд, Так мучилась В корчах рожденья, Что даже срывалась С орбит. Громада Кружилась, Металась, Глазеющих звезд Не стыдясь, Чтоб некая Малая малость Однажды живой родилась. Не смея В удачу поверить, Ей некого было спросить, Как малую малость лелеять, Как ей Человека растить. Чтоб тело Над миром парило, Чтоб воды давались, легки, Она ему крылья дарила, Кроила ему плавники. В заботе И счет потеряла Периодам, Эрам, Векам, Когда не спеша Примеряла, Где быть И ногам и рукам. И снова Дымила, Чадила, Крепила, Чтоб сила была. Сначала она начудила: Трехглазым его создала. И снова Дышала могутно, Чтоб свет его жизни Не мерк. Рожденный Вот так многотрудно, Чем занялся он, Человек? Чем? С первой извилиной мозга Он стал сучковатым древьем Губить черновые наброски Себя — То, что стало зверьем. За жизнь Научившийся драться, Губил он и рвал на куски Улики недавнего братства, Рожденья Из той же музги. Как нелюди, Жившие в нетях, Едва отойдя от горилл, Природы нахальные дети С дубиной Полезли в цари. Они С первобытным пристрастьем, Уже посягнув на миры, Царят с превышением власти С тех пор И до нашей поры. 1971Я — СЛОВНО ДОМ
Я — словно дом… За беглецом — беглец, В нем каждый год Меняется жилец. Сначала в доме За его пазами Жил мудрый мальчик С тихими глазами. Трудолюбивый, Жадный до всего, Все в дом тащил И украшал его. Для бурь и стуж, Предвидя с ними встречи, Он душу сложил В меру русской печи. Когда оставил он Свое жилье, В его проектах Уже было все. За мальчиком Жил юноша в дому, Во всем послушный Мальчику тому. Тот наказал взлететь Во звездный рост, И юноша взлетел Почти до звезд. Тот наказал не пить, И он не пил, Табачным дымом Стены не коптил. И вдруг явился, Не подав вестей, Неукротимый Человек страстей. Дом задрожал И загудел от встрясок, От переделок, Выпивок и плясок. Еще сырой, Невыстоянный в лето, Дом затрещал, Огнями перегретый. Не только в дом, Теперь, страстьми ведомый, Жилец уже Потаскивал из дома. Но тут на смену Жизни гулевой Пришел суровый Мастер цеховой. В нем уже все — Бунт сердца, Крик души Смиряли Заводские чертежи. Те чертежи — Дороги в бездорожье, Как истины Несовместимы с ложью. Они учили В их хитросплетеньях Мир прозревать Во многих измереньях. И лишь потом, Познавший тайну эту, Я дал в себе Прибежище поэту. Мечтатель, Истязатель сам, И кроме Он всех вернул, Кто жил однажды в доме. Всех, всех вернул, Смешал в себе охотно — И мальчика, И летчика, И мота. Он мог весь дом На бревна раскатить, Чтобы дорогу к милой Намостить, Мог, как Нерон С потемками в мозгу, Полдома сжечь, Чтоб осветить строку. Душа поэта Где-то кочевала, Случалось, что в дому Не ночевала. Поэт строчит, Пыхтит, дымит к тому же, Поэту хорошо, А дому — хуже. Старело все, Что прошлое скопило: Кривились стены, Падали стропила. Венцы в беде. Сменить бы два венца И снова ждать Хорошего жильца. 1972ПУРГА
Боевая, Во всем умелая, Ты в одном у меня сдаешь: Что ни выскажу, что ни сделаю Все чего-то недопоймешь. Вот беда!.. Не прийти к разладу бы, Не нажить бы с тобой нам зла... Что-то, милая, сделать надо бы, Чтоб меня ты во всем поняла. Черноспелую брать смородину И грибы собирать в лесу — Повезу я тебя на родину, В даль сибирскую повезу. Птичий посвист В лесу послышится, И когда ты пойдешь тропой, Закачается, заколышется Небо синее над тобой. В тень присядешь, В лесу — несмелая, И услышишь ты: «Чек… чёк… чёк», — Это ягода переспелая В тихий падает родничок. Тронут сердце Находки частые… Тут черника… А там опять Грузди, белые, разгубастые, В прятки вздумали поиграть. А поверх, Заручась согласием, Молодую не тронув ель, Двум соседям — березе с ясенем Кружит голову белый хмель. Может статься, Наш край открывая, Скажешь, ссору успев забыть: — Милый мой, я тебя понимаю…— Как задумано, так и быть. * * * Поезд замер И бросил клич свой… Я шутливо сказал жене: — Мы приехали, Ваше Лиричество, Чемоданчик доверьте мне. Эта станция узловая, Называют ее Тайгой… От нее до речонки Яя Остается подать рукой. За билетами, За плацкартами Не бегу к большому окну, Не помахиваю мандатами, На дежурного бровь не гну. Где-нибудь И пошел в атаку бы, Ну, а здесь, в стороне родной, Тсс! — мигаю И палец на губы: Дескать, молча иди за мной. Тут я вспомнил Приемы детские, Чтобы «зайцем» пуститься в путь… — Мы покажем корреспондентские! Нет! О них ты совсем забудь! Есть у страха Своя гипербола… Помню, в детстве, я ехал так, — Было детство мое и не было Никаких охранных бумаг. В четком ритме Движенья быстрого Я рассказывал, где бывал, — Словно жизнь свою перелистывал И углы страниц загибал. * * * И пригорок, И спад овражковый Лишь успели мы с ней пройти — Луг саранковый и ромашковый Забелел на нашем пути. Поглядев, Как над всею местностью Мотыльков мельтешила тьма, Побледнел я смертельной бледностью: Мне припомнилась та зима. Снег кружился Над лошаденкою, Над кустами этих лугов, Над притихшим в санях мальчонкою — Безобиднее мотыльков. Снег кружился: Шутил, пошучивал И, скрывая дороги даль, Все сильнее, все злей закручивал Небывалой пурги спираль. Скрылось все, Даже хвост кобылий… Подгоняющая лоза, Дрогнув, выпала, И застыли Слезы крупные на глазах. И позднее, Когда глубоко Когти белые в грудь впились, Думал холодно и жестоко, Как проживший долгую жизнь. Думал: «Нет, не покину сани я, Чтоб потом… не искала мать…» И мальчишеское сознание Торопилось все наверстать. И всей волею, И всей силою Свое будущее призвал… Жил, работал- Встретился с милою… И впервые поцеловал. Между встречей и расставанием, Помню, пробил мой горький час.. Только вместе с моим сознанием Милый образ ее погас. Не пойму, Как меня увидели В той пурговой глухой ночи?! Отогрели меня строители На горячей большой печи… Я сказал ей, Глядевшей с робостью, Что меня — и не та одна! — Наградила пурга суровостью, Ну, а нежность дала весна. Мы отметили День прибытия, Потому что с этого дня Для нее началось открытие Края нашего и меня. 1952ПРОЛОГ
Здесь ночь светла. Заснуть невмочь. Сижу. Гляжу. Лицо забочу. Нет, эту северную ночь Я называть не смею ночью. Урал стоял — Гора к горе, Там снег лежал, Привыкший к лету. Шел час, когда заря заре Передавала эстафету. Вагон, Прошедший сто путей, Трусил со скоростью убогой От Лабытнанги к Воркуте Еще не принятой дорогой. На полированной доске На шахту нанятый рабочий Вздыхал, Ворочался в тоске По настоящей темной ночи. Из Салехарда рыбаки Подремывали в куртках жестких. К ногам приставив рюкзаки, Сидели девушки из Омска Лицом к горам… Жильцы веков И стражи северных просторов, Холодным блеском ледников На девушек смотрели горы. И спрашивали видом всем Притихнувших на узелочках: «Куда вы, девушки, За чем В своих нейлоновых чулочках?» А в тундре Было зелено. Все чаще, раскосматив косы. Наскакивали на окно Кривые Нервные березы. — Мне страшно, Люда… — Пустяки!.. — И все же обе побледнели, Когда мелькнули костяки Изъеденных ветрами елей. Улыбкою сменился страх, Когда сказал вблизи сидящий: — Ах, и шиповник цвел в горах!.. — И настоящий?! — Настоящий! На нас спускались сапоги, На нас упал тяжелый голос: — Ну, а пурга?.. Такой пурги, Как здесь, Не видывал и полюс. Седой старик Сошел к нам вниз И рассказал, подсевши близко, О том, как на горе Райиз Погибла юная радистка: «Любовь приносит много бед!.. А с той радисткой вот как было: В своих неполных двадцать лет Она охотника любила. Она ждала его к себе, А ночь была темна. Не скрою, Что снег уже шалил в гульбе И ветер плакал над горою. А из ущелья в этот миг, Где смертное стелилось ложе, Послышался ей слабый крик, На зов любимого похожий… Из теплоты, От добрых снов, Лицом встречая снег летучий, Нетерпеливая, На зов Она шагнула с горной кручи. Пурги тигровые броски Мешали слуху. Зов стал глуше… Сжималось сердце от тоски, Седели волосы от стужи. Но шла она Под вой и визг В желании неодолимом. И навсегда Все вниз, Все вниз, Ушла за голосом любимым…» Старик умолк, Не досказав, Как сбил радистку ветер злобный. Я видел: Девичьи глаза Блестели гордостью особой. И стало странно, что легко Легенду приняли туристки. — А вы, девчата, далеко? — Мы на Райиз, Мы с ней радистки. И стали нам родней родни Две пассажирки с рюкзаками. А через час сошли они На остановке Красный Камень. И долго было видно мне На повороте за березкой, Как на дорожном полотне Стояли девушки из Омска Лицом к горам… Жильцы веков И стражи северных просторов, Холодным блеском ледников На девушек смотрели горы… 1960ОТЕЦ
Мой отец Конокрадом не был, Как ходила молва тех дней, Просто слишком уж раболепно Он всю жизнь Любил лошадей. И меняться И торговаться С видом хитрого знатока. Все хотел отец доменяться До орловского рысака. Все хотел, Чтоб копыта били Гулко, до неба, Как в мороз. Доменялся же до кобылы, Что потом отвели в колхоз, О, знаток Лошадиных граций, Он к тому же играл, как бес. Все хотел отец доиграться До каких-то больших чудес. Все он верил, Что за червонцем Грив колышется ореол, Что к ногам, Поиграв на солнце, Упадет золотой орел. Все он верил Той подлой карте, Что доводит до маеты. Так однажды В слепом азарте Проиграл горюн хомуты. Не по низкой Своей культуре, А по-моему, верняком, По широкой своей натуре Был родитель мой игроком. В играх силою он хвалился, К супротивнику став лицом, Но не дрался, А только бился И боролся Честным борцом. На веселой На русской пасхе И на празднике уразы, Соблюдая устав татарский, Забирал мой отец призы. Эх вы, эх, Золотые гривы, Гривы синие, Как туман!.. И ходил мой отец счастливый И мечтал обхитрить цыган. Подвела не гулянка-пьянка, Горе в том, Как признал он сам: У цыгана была цыганка, Ворожившая по глазам. Умолила и упросила, А ведь, помнилось, не хотел… Все потом казалось красивым, Все, на что бы Ни поглядел… Незнакомое Так знакомо! Мне б тихонько делать дела, Но какая-то хромосома Страсть отцову передала. Для отца И пьянеть при фарте, И призы татарские брать Было так же, Как на бильярде Мне Березина обыграть. Все иное. Иные вкусы. Мне ни пасха, Ни ураза, Ни цыганка уже, А Муза Завораживает глаза. Не манила и не просила, Обмануться сам захотел. Вот и кажется Все красивым, Все, на что бы Ни поглядел… Все хочу, Чтобы в строчках были Только огненные слова. А по строчкам — Трусца кобылья, Будто снова Везу дрова… Вновь пишу, Будто лезу драться, Сжавши гневные кулаки. Все хочу, хочу дописаться До какой-то Большой строки. 1965СОВЕСТЬ
Упадет голова — Не на плаху, На стол упадет, И уже зашумят, Загалдят, Завздыхают. Дескать, этот устал, Он уже не дойдет… Между тем Голова отдыхает. В темноте головы моей Тихая всходит луна, Всходит, светит она, Как волшебное око. Вот и ночь сметена, Вот и жизнь мне видна, А по ней Голубая дорога. И по той, Голубой, Как бывало, Спешит налегке, Пыль метя подолом, Пригибая березки, Моя мама… О, мама! В мужском пиджаке, Что когда-то старшой Посылал ей из Томска. Через тысячи верст, Через реки, Откосы и рвы Моя мама идет, Из могилы восставши, До Москвы, До косматой моей головы. Под веселый шумок На ладони упавшей. Моя мама идет Приласкать, Поругать, Побранить, Прошуметь надо мной Вековыми лесами. Только мама Не может уже говорить, Мама что-то кричит мне Большими глазами. Что ты, мама? Зачем ты надела Тот старый пиджак? Ах, не то говорю! Раз из тьмы непроглядной Вышла ты, Значит, делаю что-то не так, Значит, что-то Со мною неладно. Счастья нет. Да и что оно! Мне бы хватило его, Нерасчетливей будь я Да будь терпеливей. Горько мне оттого, Что еще никого На земле я Не сделал Счастливей. Никого! Ни тебя За большую твою доброту, И ни тех, что любил я Любовью земною, И ни тех, что несли мне Свою красоту, И ни ту, Что мне стала Женою. Никого! А ведь сердце веселое Миру я нес, И душой не кривил, И ходил только прямо. Ну, а если я мир Не избавил от слез, Не избавил родных, То зачем же я, Мама?.. А стихи!.. Что стихи?! Нынче многие Пишут стихи, Пишут слишком легко, Пишут слишком уж складно… Слышишь, мама, В Сибири поют петухи, А тебе далеко Возвращаться Обратно… Упадет голова — Не на плаху, На тихую грусть… И пока отшумят, Отгалдят, Отвздыхают, — Нагрущусь, Настыжусь, Во весь рост поднимусь, Отряхнусь И опять зашагаю. 1964ХОЗЯЙКА
Березник… Заприметив кровлю, Антенн еловые шесты, Как перед первою любовью, Вдруг оробел за полверсты. Свет Марьевка! Но где же радость? Где теплота? Где встречи сласть? Томительная виноватость В груди отравой разлилась. Виновен? В чем? Припоминаю Всю трудно прожитую жизнь, Ромашки белые сминаю, Топчусь на месте, Хоть вернись. Напомнили мне стебли-травы, Напомнил голубынь-цветок, Что я хотел ей громкой славы. Хотел. И сделал все, что смог. Другой деревни нет известней Ни по соседству, ни вдали. Она заучена, как песня, Поэтами моей земли. Слова кресалами кресаля, Высокий я возжег костер. Что ж горько так? Не от письма ли С унылой жалобой сестер, Что жизнь в деревне Стала плоше, Что хлеб попрел, Раздельно скошен, Что в роковом ряду имен Их председатель. Вновь сменен… А помню, Светлым и крылатым, Когда и рук не натрудил, Мальчишкою в году тридцатом Я агитатором ходил. Но главное не в окрыленье, Не в силе слова моего. Со мною был товарищ Ленин, И люди слушали его. К забытым радостям, причастен, Я шел и мучился виной, Что нет в моей деревне счастья, В тот год Обещанного мной. Я тихо шел… На повороте Из придорожного леска — Авдотья, что ль?.. Ну да, Авдотья Гнала брыкастого телка. В одной руке пушился веник, Другой придерживала свой В углах подоткнутый передник Со свежей ягодой лесной. Теперь усталой и болящей, Когда-то, дальней из родни, Высокой, Статной, Работящей Записывал я трудодни. — Вась, ты ли? — С нежностью великой Пахнуло в милой стороне И веником, И земляникой, Душевно поднесенной мне. — Поди, забыл… Испробуй нашу… Ладонь, шершавая с боков, Выла как склеенная чаша Из темных, Мелких черепков. Румянясь, Ягода лежала, Тепличной ягоды крупней, Светилась, Нежилась, Дрожала, Как будто вызрела на ней. Душистая, меня лечила, С души моей снимала страх, Но все-таки она горчила Рассказом о простых делах, Что жизнь в деревне Стала плоше, Что хлеб попрел, Раздельно скошен, Что в роковом ряду имен Их председатель Вновь сменен… И продолжала без утайки, Судила без обиняков, Как вседержавная хозяйка, Сельхозначальство и райком. Кольнула областное око, Бросала и повыше взгляд — На тех, кто учит издалека; Доить коров, Поить телят. На миг замолодели очи, Расцвел и выцвел Синий мак. Про совещанья, Между прочим; Авдотья мне сказала так: — Зовут все первых да первущих, А им и так неплохо жить. Собрать бы нас вот, отстающих, Да с нами и поговорить. Э-э, я претензию имею. Передний, крайний — все родня. Наш фельдшер, ежли я болею, Так он и слушает меня. И что болтаю! — Хитро глянув, Прутье перебрала в руке. У нас, у старых, как у пьяных, Не держится на языке. А где ж телок? Убег? Гляди-ка! — Простилась попросту кивком И, пахнущая земляникой, Поторопилась за телком. А я-то думал, Как зазнайка, Что в чем-то виноватым был… Она судила как хозяйка. Своей земли, Своей судьбы. И все ж, не позабыв урока, Я шел, виновный до конца, Не в роли Юного пророка. А в долге Зрелого бойца. 1960СВАДЬБА
У крыльца толкутся люди, Бабы шепчут у окна: — Как же будет? — Что же будет? — Поженились! Вот те на! — А старушка об одном: — Самый главный агроном, Городской, В деревню пришлый… Вот те крест, А я б не вышла! — Кто-то весело в толпе: — Удержаться просто, Если, бабушка, тебе Стукнет девяносто… Запоздавшего встречая, Упрекают — ну и ну! Агрономша тащит к чаю, Агроном зовет к вину. — Разорвут! — Смеются гости. — Вы свою стыдливость бросьте, А не то в отместку вам Я и эту выпью сам. «Нашим девкам белолицым Ваши парни не с руки!..» Заскрипели половицы, Застучали каблуки — Застучали: ту-ки, ту-ки! Подобрался, вскинул руки И пошел дробить сплеча: Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! В белой вышитой рубашке, Улыбаясь за двоих, По одной тесовой плашке Гусаком прошел жених. Никому не верится — То-то был серьезный! С ним решил помериться Бригадир колхозный. — Эхма!.. Эх! Гуляй, Антошка! Молодая, не зевай! Из просторного лукошка Ножка в ножку Понемножку Бригадиру подсевай. — Молодая не зевает — Золотым дождем идет. — Сею-вею, подсеваю, Да боюсь, что не взойдет!.. Дед увидел неполад, — На невесту строгий взгляд. — Песня песней, Пляска пляской Не забыть бы и обряд: Молодые, встаньте в ряд. Тише, гости! Тише, резвые! Не воруем, чтоб спешить. Нам, пока головки трезвые, Надо дело завершить. Говорю тебе сердечно, Мне перечить — не моги! Отдаем тебе навечно, Век-то долог — береги! На породу нету жалобы, Красота! Не возражай. Чтоб трудилась и рожала бы, Как колхозный урожай. — Отвечай, жених, словами! — Отвечай, жених, делами! —Только все во свой черед, Подождет тебя народ! — Что ответить? Что сказать бы? (Дед сказал и шасть на печь.) Откровенно, я для свадьбы Не успел придумать речь. Чтобы с линией согласно, С той, которой я иду, Безусловно, дело ясно, Так сказать, не подведу. 1941ГАМЛЕТ В СОВХОЗЕ
Сто разных вздохов, Как одно дыханье, И, как одно лицо, Сто разных лиц… В совхозном Клубе На киноэкране Страдает Гамлет, Юный датский принц… Страдает Гамлет- Золото венца, Отечески светившее Для принца, Теперь, Когда живет Лишь тень отца, Блестит все так же На его убийце. Страдает Гамлет… Как же не страдать, Не мучиться. Не исторгать проклятий, Когда из тьмы Изменческих объятий С улыбкой прежнею Выходит мать! Страдает Гамлет… Как ему любить, Как позабыться В неге голубиной, Когда уста Офелии невинной Уже успели Ложью отравить! Страдает Гамлет… Волны мчатся к скалам, Чтоб умереть У датских берегов…, И странный свет Дрожит над кинозалом, Как будто льется Из глубин веков. Страдает Гамлет… Свет пылит пыльцой, Бледней волос Загубленной датчанки. В нем вижу я Скорбящее лицо Еще не старой, Но седой сельчанки. Страдает Гамлет, Отпрыск королей… Сельчанка плачет Тихою слезою. Что Гамлету она, Что Гамлет ей, Чтобы терзаться Над его судьбою? Что Гамлет ей, Когда о том, Как быть, Сто раз решала, Путаясь в ответе. О, сколько-сколько Горестных трагедий Она сама успела Пережить! Что Гамлет ей С интригами дворца? В тот смутный год, Что страхами измерен, К ней тоже приходила Тень отца, Но не ко мщению звала, А к вере. Что Гамлет ей? Она дышала адом, Прошла войну Со смертною бедой. Уже сраженный, Муж нездешним взглядом Ее увидел, Ставшую седой. Что Гамлет ей? Холодною душою Трагедию земли Не все поймут. Родную землю Делали чужою, Скупою, Неотзывчивой на труд. Но с высоты Страданья своего, С вершины веры, Что неугасима, Она в душе Боится за него, Как мать боится За родного сына. Сто разных вздохов, Как ее дыханье, И, как лицо ее, Сто разных лиц… В совхозном клубе На киноэкране Страдает Гамлет, Юный датский принц.. 1963ПТИЧИЙ САД
Слушайте!.. Слушайте сказку-былину!.. Некогда знойной Ферганской долиной, Ночью и днем охраняемый стражей, Шел караван с необычной поклажей. На полпути каравану навстречу Вылетел всадник с неласковой речью. — Э-ге-ге-ге! — Закричал он с прискока. — Кто вы, откуда вы, дети Востока? — И, поравнявшись, спросил он вторично: — Что за товар за такой необычный?! Хиленький старец с седою бородкой Тотчас ответил угодливо-кротко: — С миром объехав далекие страны, Птиц мы везем благородному хану. Пусть он, не зная тоски и болезней, Тешится их незатейливой песней. Только за птиц этих старец боялся. — Петь перестали!.. — А всадник смеялся. — Что же вести их под зноем и пылью, Если у птицы есть вольные крылья?! Надо, чтоб мудрые люди трудами Землю свою покрывали садами, — Так, чтобы птица сама прилетела, Чтобы сама свою песню запела. Зря ты качался, плывя по барханам, — Нет твоего благородного хана!.. Люди свободны, раскрыты темницы, В клетках остались твои только птицы… Чтобы никто здесь обиженным не был, Добрые люди, верните им небо!.. Клетки разбили… При первом ударе Шум поднялся, как на птичьем базаре. Песни недлинны и сборы недолги Были у маленькой иволги с Волги; С ней и другие, взлетев в поднебесье, Быстро помчались в Сибирь и в Полесье… Сталось, что всадник, измученный жаждой, Крепко заснул в той долине однажды; Спит и не видит герой смуглолицый, Как отовсюду слетаются птицы. Ночью над спящим в широкой постели Крылья, как листья в саду, шелестели… Каждая птица несла, сберегая, Зернышко лучшего дерева края — Южных каштанов, душистых магнолий, Дуба и клена с придонских раздолий, Не обошлось без любителя ветра, Невозмутимо спокойною кедра, Не обошлось без носящей рубины Гибкой, как девушка, тонкой рябины… Как и зачем — Нам гадать бесполезно… Но из земли тут пошло и полезло… Всадник проснулся от песни звенящей, Всадник увидел вдруг сад настоящий. Слыша о том, затаил я охоту Полюбоваться на птичью работу. Еду долиной… И слева и справа Видится мне за дубравой дубрава… Вижу, как мудрые люди трудами Землю свою покрывают садами… — Так почему же идут небылицы, Будто сады посадили здесь птицы? Хиленький старец с седою бородкой Тотчас ответил насмешливо-кротко: — Если и в сказках ты хочешь увязок, — Значит, не слыхивал в детстве ты сказок… Сын мой, — сказал он, — За труд свой народы Видят во всем благодарность природы. Вот и в песках, напоенных водою, Саженцев племя растет молодое… Зной их не губит и ветер не клонит, Листья приподняты, точно ладони… Тронет ли ветер молоденький кустик, Листья зашепчут: «Не пустим! Не пустим!» Слышишь, лопочут так ясно, так дружно?.. — Слышу! — сказал я ему простодушно. Взглядом меня Он насмешливо смерил: — Что же ты птицам тогда не поверил?! 1949КАРОЙ ЛИГЕТИ
От яра к яру То вплавь, То вброд Красные мадьяры Идут вперед. Каждый смельчак, Смелей не надо!.. (Позади — Колчак, Впереди — Гайда.) Ведет их, Строен, Черняв, Но светел, Поэт и воин Карой Лигети. Ведет, Не сникший В тоске и грусти, К огню привыкший В отцовской кузне. Ведет их, Молод, Узнавший с ними Отцовский молот В гербе России. Ведет бесстрашно Землей приомской, В гербе признавший И серп отцовский. Звезда узналась, Всех звезд отборней, Что зарождалась В отцовском горне… * * * Степные ветры Им лица жгут. Красные венгры На бой идут. Что ты таишь, Берега кромка? Впереди — Иртыш, Позади — Омка. Ревет река, Волна шальная Бьет в берега, Как на Дунае. В пагубе вод Уже так близок, Идет пароход Белый, как призрак. По боку синяя, Синяя с красным, Ватерлиния Горит лампасом. — В родную дальность Дорог немного. Нам осталась Одна дорога. Два-три бота И, хоть опасно, Возьмем с налета Этот пампасный! Дойдем в боренье До горных кряжей: К Уралу, К древней Родине нашей. * * * Кипит разводье, Звереют волны. На пароходе Блестят погоны. Блестят погоны, И огнебойно Звенят патроны, Входя в обоймы. Вот первый выстрел В тумане грянул, Как будто вызрел Цветком багряным. Не цветом мая Цветы горят… Дети Дуная Иртыш багрят. В огне и дыме Плывут средь волн, И кровь за ними, Как сто знамен. Дуная дети Домой плывут. Слова Лигети Еще живут: — Мы в этой жизни Вдвойне богаче: Нас две отчизны В беде оплачут. Оплачут, Верю я, Где нас взрастили. Оплачут Венгрия И Россия. 1968ЛЕНИНСКИЙ ПОДАРОК
На юге, В подкове предгорья, Где в марте отыщешь цветок, У самого синего моря Беленый стоит городок. Бушует в нем зелень густая. И мнится, Коль с моря взглянуть, Что там голубиная стая Присела в пути отдохнуть. Вот, кажется, город взовьется И улетит далеко… В нем сердце спокойнее бьется И дышится людям легко. Утрами По улице тихой, К шажку прибавляя шажок, Чуть горбясь, седая ткачиха На теплый идет бережок. Не надо искать знаменитей: Всю жизнь, что в труде прожила, Она из тонюсеньких нитей Большую дорогу ткала. Трудилась, Теперь отдыхает. Ничто здесь ее не томит. Она свою жизнь вспоминает… А Черное море шумит… * * * В те дни, Когда по снежным падям Под Нарву шел за строем строй, В настороженном Петрограде Служила Надя медсестрой. Бойцу привычно не бояться, — Смерть у него одна, А ей В ту пору довелось сражаться Со множеством чужих смертей. Она была храбра, Но в стуже Неотопляемых палат Боялась Надя встретить мужа Средь умирающих солдат. И все ждала о мире слова, Так страстно, как солдатки ждут… День приходил, второй — и снова К подъезду раненых везут… Опять сестра бежит к воротам По лестнице особняка. Навстречу Наде быстрый кто-то: — Носилки не нужны… Пока!.. — Порывист, В жестах откровенен, Столкнувшись с ней лицом к лицу, Стремительно поднялся Ленин По госпитальному крыльцу. На многих рваные халаты, Бинты замытые видны. Ильич осматривал палаты И повторял: — Бедны, бедны!.. — То добрый, То сурово-резкий, Вступая в темноту палат, Он видел чистыми до блеска В то время Лишь глаза солдат. Они, подернутые горем, Светлели перед Ильичем: — Товарищ Ленин, мы вот спорим… Ильич подался: — И о чем? — Ответил юный, смуглолицый,. С повязанною головой: — Мы спорим… Надо ль замириться С буржуазией мировой? Ильич молчал И только взглядом Спросил: и вывод, мол, каков? — Вот старики твердят, что надо. — Вот, вот… И я — за стариков… Когда за власть буржуи ссорятся, Война народу не с руки… Нет, нет! И пусть не хорохорятся То-о-варищи меньшевики! Мир, мир! — И только мир! — При этом Он, вглядываясь в полутьму, Все щурился, как бы от света, Который виделся ему. * * * Когда в глаза ему смотрели С голодным блеском сотни глаз, Он видел, как они теплели От гордой мысли, Что у нас Все будет, Только б укрепиться, Чтоб на просторах всей страны Светил нам не огонь войны, А плавок-доменных зарницы. Все будет, Нужно лишь терпенье!.. У юной медсестры тогда Забылись страхи и сомненья, Забылись горе и нужда. О многом В этот миг забыли. Почти никто не услыхал, Как в ленинском автомобиле Мотор голодный зачихал. Ильич уехал… Вслед солдатки Глядели. Вспомнили они: — На нас заплатки и заплатки… — Да что ж мы?! — Надя, догони!.. — Ты смелая!.. Проси не пищи, Проси обувку… Должен дать… Она на рынке стоит тыщи, Обувка-то!.. А где нам взять?! Рванулась… Вот пустырь, заводик… Цель ближе… Вот совсем близка… И догнала чихавший «фордик» У неисправного мостка. Ильич, На мостик выйдя древний, Пока саперы чинят путь, Как мужики порой в деревне, Присел на бревна отдохнуть. Смеялись Лучики-морщинки, И Надя, прямо как на грех, Увидела его ботинки, Поношенные, как у всех. «Ну как просить?!» — Вдруг тесно стало Уже заученным словам. Она шагнула и сказала: — Я от солдаток… С просьбой к вам, Они… Они не просят пищи… Обувку бы… Пар двадцать пять… Она на рынке стоит тыщи, Обувка-то! А где им взять?!. — Да, верно, — Ленин приподнялся И, на ее взглянув башмак: — А вам? — спросил И рассмеялся И весело и грустно так. Он стал, Как показалось Наде, С мастеровыми чем-то схож; Прикинул, на ботинок глядя: — Э-э, нет!.. Уже не подошьешь Вдруг резче Меж бровями складка, И сразу смех и шутка — прочь!.. — Так, вот, товарищ делегатка… Вздохнул, — Попробуем помочь!.. — Глаза прищурились в заботе При виде сбитых каблуков. — Вы молоды, вы доживете До модных туфель и шелков… * * * Весной, К прилету первой стаи, На улицах и берегах Снег залежавшийся растаял И по Неве прошла шуга… А Брестский мир Был слишком краток, Бойцов измученных леча, Забыли двадцать пять солдаток Про обещанье Ильича. Однажды в дождь, Грозовый, сильный, Затмивший все и вся кругом, За Надею пришел посыльный И пригласил ее в ревком. Шла под дождем она, по лужам, Готовясь горе перенесть: Ей все казалось, что о муже Недобрую там скажут весть. Шла медленно, Не торопилась К неведомой судьбе своей. Коса под ливнем становилась Все тяжелей и тяжелей… Вот и вошла, Не замечая, Как потекли с нее ручьи. Ее, всю мокрую, встречают Суровые бородачи. И самый старший из ревкома Спросил у медсестры тогда: — Сестра, вы с Лениным знакомы? Смутилась и сказала: — Да! Вдруг бородач оправил китель, — Должно, с кадетского плеча, — И вытянулся: — Разрешите Вручить подарок Ильича. — Тут Наде подали коробку. «Неужто только мне одной?!» — Подумала и робко-робко Взяла подарок именной. И даже вздрогнула немножко, Когда вдруг скрипнули в руках Красивые полусапожки На аккуратных каблуках, Не на шнурках, а на резинке… И, кроме этих, именных, Увидела в углу ботинки Солдатские — Для остальных. Без красноречья, как умели, Подарок Ленина вручив, Заулыбались, подобрели Суровые бородачи. * * * В подарок тот принарядиться На праздник — вот бы хорошо!.. Дни пролетали вереницей, А к Наде праздник Все не шел… Бывало, поглядит в окошко: Вот, дескать, кончат воевать, — Она в своих полусапожках Пойдет любимого встречать. И милому на удивленье, Чтоб он ничем не укорил, Она расскажет, как ей Ленин Сапожки эти подарил. Но нет! И ей, как многим женам, Судьба тяжелый путь дала: На муку чувствам береженым Любимого не сберегла. Но от беды у ней устало Не опустилась голова. В дни мирные ткачихой стала Двадцатилетняя вдова. * * * А вскоре боль другой потери Хлестнула по сердцу, как плеть… Она жила, как бы не веря, Что Ленин может умереть. А эти траурные звуки?! Нет, нет! Казалось, не в беде, А просто вытянулись руки, Уставшие в большом труде. А скорбь!.. Она текла, как Волга. Он для тебя, Отчизна-мать, Трудился так, что долго-долго Ему придется отдыхать. И день прощанья был неярок, Боль, не стихая, сердце жгла… В бесценный ленинский подарок Обулась Надя и пошла. Пришла. Толпа у фабзавкома. А снег над ней кружит, кружит… — Ты, — шепчут, — С ним была знакома, Иди к трибуне, расскажи… — А что она теперь расскажет, Когда в глазах — круги, круги!.. То слезы вытрет, То покажет На дареные сапоги. Сначала голос был невнятен, Но вскоре даже с дальних мест Стал удивительно понятен Ее рассказ И этот жест. И то, как вождь сказал в заботе При виде сбитых каблуков: «Вы молоды, вы доживете До модных туфель и шелков…» * * * — За жизнь-то Хлебнула я лиха. Достаток повелся не вдруг… — Замолкла седая ткачиха И радостно смотрит вокруг. У стареньких Счастье во взглядах, Почти как у малых ребят. Вон девушки в ярких нарядах, Сбегая на берег, шумят… Одна беззаботно смеется, Другая с восторгом глядит: Волна к ней навстречу несется, И гребень на солнце горит. Глядит и ткачиха влюбленно На то, как за гребнем, вдали, Приветствуя город беленый, Спокойно идут корабли. И кажется: Слух отмечает, Что тем кораблям из-за гор, Как детям своим, отвечает Заводов торжественный хор. Все, все, Что ее окружает, Что радует сердце и глаз, На сто голосов продолжает Не конченный ею рассказ. 1953ДАЛЕКАЯ
Права любви Да будут святы. Настроенный на этот лад Все девять лет, Я на десятый Решил поехать в Ленинград. Я поклонился Ленинграду И предъявил законный иск За девушку, что в дни блокады Он отсылал в Новосибирск. Скажу, в детали не вдаваясь, Вам, ленинградцы, не в упрек, Что я, и бедствуя и маясь, Ее, красивую, сберег… Шли дни. Закончив подвиг ратный, Еще горячий от огня, Ваш город взял ее обратно, Точнее — отнял у меня. Мы можем боль нести годами И все стерпеть, Но иногда Мы ссоримся и с городами, Когда обидят города. И вот Над невскою волною, Неподражаемо велик, В час утренний Передо мною Предстал любви моей должник. Еще тогда, В перронной давке, Он, хитрый, на моем пути Поставил будочку Горсправки: Мол, так легко ее найти. И, отсылая к доброй даме, Он знал, что та меня убьет Обыкновенными словами: «У нас такая не живет». Мне объясняют осторожно… Нет, нет! Не надо объяснять, Что девушкам совсем не сложно Свои фамилии менять. Зашел я в первый переулок И, глядя на дома, стою… В какой из каменных шкатулок Ты скрыл жемчужину свою? Скажи, куда заставил деться, Ответь мне, за какой стеной Стучит загадочное сердце, Так и не понятое мной?.. И слышу: Из соседней улицы, Где люди толпами снуют, Рояль и скрипки, как союзницы, Мне тихий голос подают. Хотят судьбу мою улучшить, Совет спасительный мне дать: Ходить под окнами и слушать — Она не может не играть. * * * Она не может не играть, Задумавшись, она не может Наш снежный край не вспоминать И трудный срок, Что с нами прожит. И я ведь тоже берегу И в памяти несу сквозь годы Костры на голубом снегу, Где в холод Строились заводы. Она могла не полюбить Немую строгость наших елей, Но те костры, Но плач метелей Она не может позабыть. Льет дождь, Он хлещет по лицу, Плащ мокрый Липнет к мокрым брюкам, Две ночи От дворца к дворцу Шагаю Невским, Чуткий к звукам. Рояль заслышу и бегу, А где-то Новый завлекает… По звукам рассказать могу, Кто, Где, Когда И как играет. Вот эта: До чего ж юна!.. Рыбешкой в чешуе нарядной Все хочет вглубь, А глубина Выносит, легкую, обратно. Отчаясь в глуби заглянуть, Она без муки повторенья Спешит на солнышке блеснуть Своим красивым опереньем. А этот Все постиг уже И, неприступный и холодный, На самом нижнем этаже Живет, как сом глубоководный. Там воды тяжки и темны, Но с ними нелегко расстаться… В нем сердце может разорваться От недостатка глубины. * * * Весь город утопал в закате Необычайной густоты. Застежками на синем платье Темнели невские мосты. Без позолоченных уборов, Забыв о боге вспомянуть, Клонились головы соборов, Чтоб на красавицу взглянуть. Великий Петр, Перед рекою Вздымая дикого коня, Грозил им медною рукою, Осатанев: «Она — моя!» Лишь я, Уставший от исканий И от мелодий, чуждых мне, Без этих царских притязаний Свой взгляд покоил на волне. Катились волны еле-еле, Но плеск их был притворно тих… Вот так прошли, Отшелестели Все лучших девять лет моих. И снова к ней душа стремится, Как будто я в горячке дней Забыл как следует проститься С ушедшей юностью моей. Не нарушая горькой думы, Еще дремотней, чем волна, В привычные для слуха шумы Вплелась мелодия одна. Родившись где-то за стеною, Она, чуть слышимая мне, Пришла как будто не за мною, Бродила долго в стороне. Сидел И слушал и не слушал, Но, как бывает только в снах, Она вдруг захватила душу И сердце понесла в руках. Другие звуки налетели — Как пленник шел я в их кругу И вот почудились метели, Костры на голубом снегу. И те костры, со мной блуждая, Вели куда-то вдоль Невы… Подъезд… И здесь, Чуть-чуть зевая, Лежат египетские львы. Я подошел, Стою на месте, И львы ленивые лежат. Что — честь ее или бесчестье Они, слепые, сторожат? А было, Я не сомневался, Не отравлял мне душу яд, Когда вот так же поднимался К любимой Девять лет назад. * * * На меня удивленно глядит Глазами широкими, Будто знала, что был я убит, Будто знала, что был я зарыт, И, как многие многими, Был за давностью ею забыт. С огоньками-зарничками Вижу те же глаза и не те… Будто кто-то шалит в темноте Отсыревшими спичками. Как прежде, при встрече К груди не прижат. Вот и рядом, а так далека!.. И губы дрожат, И ресницы дрожат, И дрожит золотая серьга… Даже соболя Тронула легкая дрожь: На плечах удержаться не мог. На огонь потухающий Был он похож, Чуть заметный сквозь сизый дымок. Предо мной Распахнулась сибирская даль, Где мне встретилось горе мое, Мне припомнилась Старая-старая шаль, Согревавшая плечи ее. Образ тот На тяжелом стальном полотне Девять лет я алмазом врезал. А она: Дескать, кто вам сказал обо мне?.. Кроме сердца, Никто не сказал!.. Удивляешься? Полно! С любовью моей Было просто тебя подстеречь. Так охотник По следу прошел соболей, Что твоих удостоены плеч. …Представь себе, в глуши лесов Нет соболиных адресов. Там соболь по снегу петляет, Потом, глядишь, найдет дупло. И если только в нем тепло, Он прячется и отдыхает. Охотнику не шлет он весть Ни прямо почтой, ни окольно… Охотник знает: соболь есть — И этого уже довольно. И ест охотник на бегу, И засыпает на снегу. Зверь то внизу, То в темной кроне Среди разлапистых ветвей… В тяжелом поиске, в погоне Проходит много-много дней… Когда усталый зверь в пути Между корягами забьется, Охотник ставит сеть. К сети Подвешивает колокольца. Трещит мороз, и снег идет. Охотник ждет, и соболь ждет. Ночь... Зверю мнится: нет засад… И раздается звон, похожий На тот, что полчаса назад Вдруг зазвенел В твоей прихожей. Охотник тот настойчив был, Чтобы твои украсить плечи… А он тебя ведь не любил И не мечтал, как я, о встрече. Ему от чьей-то красоты Ни сладко не было, ни больно… Я знал, что в Ленинграде ты, — И этого уже довольно. * * * Свое достоинство храня, Как с гостем говорит случайным, И за столом Сервизом чайным Отгородилась от меня. Заводит речь о жизни райской, О безупречности своей, О муже… И фарфор китайский Как бы поддакивает ей. И я заметил на стене: Добавкою к семейной притче Из рамки улыбался мне Семьи удачливый добытчик. Безделицами окружен, Которым так легко разбиться, Задумчиво, как умный слон, Сижу, боясь пошевелиться Ее оглядывая «рай» И прошлое припоминая, Прошу доверчиво: — Сыграй!.. — О нет… Давно уж не играю!.. — И чтоб упрашивать не стал, Лениво повела рукою… «Но кто же, думаю, играл, Но кто же бредил здесь пургою?.. Чьи руки воскресить сумели Те ночи давние, те дни: Непотухавшие огни, Незатихавшие метели?» А в это время из дверей, Где лак рояля засветился, Несмелый мальчик вышел к ней И, сделав шаг, остановился. В лице незрелой красоты Слились, сплелись, Как звуки в гамме, Ее красивые черты С чужими смутными чертами. И понял я Сознаньем всем: Меж нами В маленькой квартире Легло пространство Больше, чем От Ленинграда до Сибири. Опять далекая!.. И жаль, Что даже не с кем Мне проститься: Той девушке, носившей шаль, Здесь не позволят появиться. А что без той любовь моя?.. Безрадостна и сиротлива!.. Дверь… Лестница… Очнулся я На жестких космах Львиной гривы. Мои ли тронули слова, Но плакал зверь, Большой и грозный. Я видел, как по морде льва Катились каменные слезы. Себя в дороге веселя, И так беспечно, Так не к месту Пел кто-то, подходя к подъезду: « Тру-ля-ля-ля!.. Тру-ля-ля-ля!..» При встрече, Сделав поворот, Успел заметить я, Что это Беспечно трулюлюкал тот, Глядевший у нее с портрета… * * * Рассвет. Еще улицы немы, И город в безмолвии строг… Он, как пушкинская поэма, Из которой не выбросишь строк. Окна Моют светлые блики. Мне же с глаз моих Ночи не смыть… Вот и утро, О город великий, Ты проснулся — давай говорить. Как мне быть? Если, горем согнут, В суд приду я с болью своей, Мне суды твои не помогут, Нет у них подходящих статей. Я приехал Из дальней дали И уеду, о том скорбя, Что ее у меня украли… Но украли и у тебя!.. И не думаю, что случайно В тот же миг за моей спиной Засмеялся звонок трамвайный — Ну, конечно же, надо мной. Дескать, Эй, оглянись, прохожий! Так и замер я на мосту Перед девушкою, похожей На потерянную мечту. Вышла, Словно ее и ждали, Еще сонная поутру, В той же кофточке, В той же шали, С прядкой, вьющейся на ветру. И любовью той же любима, Той же песней увлечена… Но уже, Пробегая мимо, Не признала меня она. 1954ОБИДА
Из черпака Глоток испивши, Ты вскинешь воду — И твой взгляд Увидит, что к земле застывшей Не брызги падают, а град. Здесь хватка у мороза злого Крепка, остра, как волчий зуб... Ты слово вымолвишь — И слово Ледышкою слетает с губ. Весною Стан березки волглой, Как хочешь, гни и выпрямляй. А в эти дни ее не трогай, Легко сломаешь — Не ломай!.. В низинах, Выстланных снегами, Шумит пожухлая куга… Ты можешь проследить глазами, Как начинается пурга. Вокруг бело. Как бы в погоне, По гребням здешних полугор На белых, белых, белых конях Метельный вылетит дозор. Замрет… Попляшет… И по краю, Присвистнув и гигикнув зло, Метнется, как бы выбирая Короткий путь В твое село. А вслед за ним, Грозя бедою И даже гибелью самой, Пурга надвинется ордою И все покроет белой тьмой… * * * Село стояло у реки, В плену у бури неуемной… Не помнили и старики, Чтоб сотрясались от пурги Домов обтесанные бревна. Семь дней тяжелый длился плен, Семь дней она пугала воем. И под защиту крепких стен Повсюду скрылось все живое. Укрылись люди и стада. И страшен стал разгул метельный На ту восьмую ночь, Когда Иссяк кормов запас недельный. Мигает свет. Шуршит, хрустит В губах ягнят последний веник.,. В просторном тепляке не спит Лишь сторож, старый инвалид, Да Настя, юный зоотехник. Она, лицо к печи склоня, Глядит, глядит, Как угли млеют… У Насти щеки то бледнеют, То пламенеют от огня. Любовь к ней в сердце постучалась, Как путник в обогретый кров… Она с Олегом не встречалась Семь длинных зимних вечеров. Вдруг чувства все ее заполнят, Как теплота, Как пламя — печь… Еще и нынче губы помнят Счастливые минуты встреч. Припомнит — Будто обожжется, И вновь горят ее уста… В них и поныне- бережется Тех поцелуев теплота… Очнулась… Кажется, скрипят Саней железные полозья… Нет, это только плач ягнят Да тихое блеянье козье. Уж не любуется огнем, Что пляшет над сухим поленом. Все ждет, Что, посланные днем, Вернутся фуражиры с сеном. Чтоб заглянуть в ночную мглу С ее глухими голосами, К оледенелому стеклу Прижалась теплыми губами. И вот увидела в глазок, Как в детстве видела когда-то, Что будто зверь, Большой, косматый, Урча, о раму чешет бок. От бури, жди немало бед, И Настя слез сдержать не может. — Ты вышел бы, взглянул бы… дед! А дед твердит одно и то же: — Где я с централкой, там уже И лютый зверь не порезвится. А голод, Настя, сторожей, Сама ведь знаешь, не боится. Не выйду, не-е… — И вновь старик Твердит про вора да про зверя… Подняв высокий воротник, В слезах Метнулась Настя к двери. * * * Снежный дым На сугробах курится, Вихри снега свистят над селом, Будто белая-белая птица Приопустится вниз, разлетится И ударит по Насте крылом. И она, Разгораясь, как в пляске, Осмелела — бывать не бывать! — Теплой варежкой Праздничной вязки Перестала лицо закрывать. С ней такой Ничего не случится; И девическая рука В затемненные окна стучится Чуть сильней. Чем стучала пурга. «Тук-тук!» — «Время ли тешиться с нами?!» «Тук-тук-тук!» — «Одевайся теплей!.. Фуражиры с пустыми санями Возвратились на фермы с полей…» И опять, Забывая о тропах, Настя тонет в холодных сугробах… Вот заслон частоколов знакомых, Вот она узнает на бегу Эти тонкие ветви черемух, Этот низенький домик в снегу, Этот старый скворечник тесовый, Вознесенный на самый конек, Эти ставни и эти засовы, А за ними слепой огонек. По болтливому Бабьему сказу, Настя смелой не в меру слыла. Но ни разу, ни разу, ни разу В этом доме она не была. Ей случалось порой вечерами В палисаднике с милым сидеть, А когда проходила утрами, На окошко стыдилась глядеть. Шла немая, прямая… К тому же Почему-то все чудилось ей, Что в окне Через дырочки кружев Мать любимого смотрит за ней. А у той За плечами полвека, Если что не по ней, то беда!.. День и ночь она точит Олега: Дескать, больно уж Настя горда. То и дело твердит, не смолкая: Мол, такую не тронь, не обидь. И поженитесь, будет такая Из тебя же веревочки вить. Мол, отца я за то и любила, Что не бегал за мной, как телок. Делай так, чтоб по-твоему было, Настя скажет, А ты поперек… Только Настя об этом не знает, На крыльцо она смело взбегает. Может, сплетня поутру помчится… Пусть их!.. Настя не видит греха, Что в закрытую дверь жениха, Не стыдясь, Так упрямо стучится. «Тук-тук-тук!..» В темноту за порог Настя крикнула, малость робея: — Быстро!.. В красный иди уголок!.. Только слышишь… Оденься теплее!.. * * * Когда любовь Не увлеченье, Девчата в селах для ребят (То знак особого значенья) Перчатки вяжут и дарят. В надежде, Что и Настя свяжет, Ее Олег, то смел, то тих, Все чаще спрашивал: «Когда же Ты, Настя, мне подаришь их?» Она сначала лишь смеялась, А после в красном уголке Уже частенько примерялась Ее рука к его руке. * * * Уголок Называется красным, Хоть на диво всегда побелен. В нем лишь стол Покрывается ясным И торжественным цветом знамен. Чтобы каждый, светлея душою, У такого стола Мерой самой большою-большою Измерял свою жизнь и дела. Уголок Называется красным. В нем У яркого кумача Много времени отдано страстным Комсомольским речам. Все здесь было: Друзей пререканье, Смех и шутки, обиды и страсть, Даже слезы… А это собранье Провели в пять минут, не садясь. А за окнами Комнатки тесной Уж затеяли спор, как враги, Громкий дизеля голос железный И разбойничий посвист пурги. Дизелист оглядел комсомольцев И сказал, что в опасный поход Только шесть или семь добровольцев, Самых смелых, С собою возьмет. Труден путь, И опасен, и долог!.. С этой мыслью девчата глядят Из-под длинных ресниц на ребят, Выбирая, кто люб им и дорог. Все ли Трудности встретят достойно — И пургу, и сугробы, и тьму? За любимого Настя спокойна: Как себе, Она верит ему. Вот и он в молодежном кругу, Ее милый Олег. У Олега Темный чуб еще в звездочках снега, Даже брови густые в снегу. Только взгляд у него беспокоен, Грустен он. И задумалось ей Что-то доброе сделать — такое, Чтобы стало ему веселей. И в любви Не пугаясь огласки, Чтобы не был тревожен и зол, Свои варежки праздничной вязки Настя первой бросает на стол. Шесть подруг, Шесть улыбок задорных, Одобряющих Настю вполне, — И семь пар, И простых и узорных, Запестрели на алом сукне. Оживилась влюбленная юность: Парни, цвет выбирая родной, Шесть особых путевок — На трудность — Разбирают одну за одной. Настя вздрогнула, как от удара, Стыдно стало на стол ей глядеть: На девичий позор Ее пара Остается на алом белеть. «Ну возьми же… В такие метели Не помилует холод степной…» У Олега глаза потемнели. — Что ты, — крикнул, — Мудруешь со мной?! — Нет же, нет… Это ради поездки… — Говорит она тихо ему. — Знаешь, Настя, на данном отрезке Предоставь мне решить самому… Так они Говорят меж собою… А у двери, Не очень речист, Окруженный готовыми к бою, — Ждем седьмого! — зовет дизелист. Сжалась Настя, Не рада участью, На которое дружба легка: Из-за спин К белым варежкам Насти Протянулась чужая рука. Добрый жест для нее не спасенье. Повторяет, бледна и пряма От нежданного оскорбленья: — Я сама… Я поеду сама!.. Настя — в двери И сразу морозный На Олега подул ветерок… Он уже спохватился, Да поздно — И стоит у стола Одинок. * * * Чтоб от гибели Фермы колхозов спасти, Дизель, торных не зная путей, Шел, играючи силой восьмидесяти Большегрудых степных лошадей. Он дрожал, Продираясь сквозь дикий буран, Сквозь сугробы почти по прямой. Ослепительный свет Пробивал, как таран, Белый снег, перемешанный с тьмой. Нет ни звезд, ни луны, Ни всевидящих глаз, Отличающих юг и восток. Может, Северный полюс Доступней в сто раз, Чем на поле затерянный стог. Горько Насте… У ней все Олег на уме, Как на ране едучая соль. Расшумись, Бараба! Пусть в твоей кутерьме Приостудится Настина боль. * * * С шумом Бросились к стогу ребята, Чтоб в работе себя разогреть. В пять минут штыковая лопата Откопала июньскую цветь. Заструился настой ароматный, Как в покос На меже луговой: И ромашкой запахло, и мятой, Подсыхающей в полдень травой. Тем обиднее чувств перемена, Когда, злой нагоняя мороз, Две охапки пахучего сена Ветер вырвал из рук и понес!.. И с обидой подумалось Насте: У нее лишь Средь многих подруг Неудачливо взятое счастье Тоже вырвано прямо из рук. Чем она Перед кем провинилась?.. Вихревой проклиная буран, Вдруг ослабла она, опустилась На цветы С приозерных полян. Не успела пахучая мята Молодой головы закружить, Как заметили Настю ребята, Стали Настю они тормошить. — Встань же, встань!.. — Дизелист ее просит. И она отвечает ему: — Что мне делать, коль ветер уносит Все, что в руки свои ни возьму!.. — Встала Настя. Никто не приметил Набежавшие слезы у ней. Тает стог: Часть уходит на ветер, Часть — на длинные жерди саней. Жизнь не луг: Лишний раз не покосим, Лишних дней про запас не найдем. На воз много кладем, А привозим Половину того, что кладем. Стихли бури, И ветры ослабли. Уверяют нас сказок творцы, Будто первые вешние капли Прямо с юга приносят скворцы, К деревенским карнизам подвесят, Намекая на близкий апрель. Капли многие вдруг забелесят, Задрожат… И начнется капель!.. И начнет Всею силой земною Из себя выходить Бараба. Зазвучит над озерной страною Лебединая в небе труба. Схватят за сердце Страстные звуки, И тогда От неясных тревог Будешь тихо сжимать свои руки, Если ты, молодой, одинок. Затомится душа, затоскует, Если девушка, нежно любя, И целует тебя, и милует, И не смотрит потом на тебя. Боль-обиду от горьких насмешек Растравляет капризная мать: — Ах, какую невесту, Олежек, Упустил ты!.. Нельзя упускать!.. И неробкая властная сила Снова к Насте Олега ведет: — Настя, ты же наш садик любила.. В нем — черемуха… Видишь, цветет!.. — Не ломай!.. Цвет черемухи белый Мне напомнил опять о пурге… — О пурге?!. — Замер куст онемелый, Задрожал у Олега в руке. С болью цвет обрывает он с веток И упрямо твердит: — Погляди, Погляди мне в глаза напоследок!.. Настя, я ухожу… — Уходи… А сама С опечаленным взором, Опасаясь повторной мольбы, Торопливо уходит к озерам. Знойной, Пестрой от стад Барабы. А на этих озерах в условный, Запримеченный Настею час Тихо лебеди выплывут, Словно Легкий сон, Чуть коснувшийся глаз. Под лучами перо серебрится, А вода то светла, то темна… И дрожат камыши, как ресницы, Пробуждаясь от легкого сна. Долго Настя в тени простояла, Притаившись за ивой густой, И как будто несчастнее стала Перед этой земной красотой. У тропинки, Что с детства знакома, Все березки нарядны, прямы, Лишь одна из них С меткой надлома Не оправится после зимы. Кто-то в стужу прошел этой тропкой, Тронул тонкую, сердцем не чист, Оттого-то так робко, так робко Развернулся узорчатый лист. Вот и ранка чуть-чуть затянулась. Не затроньте ее невзначай!.. Ячат лебеди… Милая юность, Боевая, смешная, прощай 1954ПЕРВЫЕ СЛЕЗЫ
В черемухе, нависшей гроздьями В кустах густого тальника Под крупными степными звездами Неслышно катится река. За дни, что утекли немалые, Еще никто ни разу в ней Не освежал лицо усталое, Косматых не поил коней. И лишь на дне, Во мгле пропевшая Коротенькую песню зла, Лежит, случайно залетевшая, Кучума длинная стрела. И вот река Костер заметила. И без того-то не быстра, Она движение замедлила В горячем отблеске костра. Звучат два голоса Двух жителей, Двух покорителей степей — Один все громче и решительней, Другой все тише и слабей: — Не мучай, Вера. — Я не мучаю… — Теряя над собою власть, Еще одна звезда падучая С небесной кручи сорвалась. Не подмочив черемух кружево, Еще минуту лишь одну Река помедлила, послушала И поспешила в тишину. * * * А утром Под росой обильною Вся степь Как стол с кривым углом, Покрытый скатертью ковыльною, И солнце Гостем за столом, Как будто ждет гуляш с подливою. Вот поднялось, покинув стол, И норовит, нетерпеливое, В бригадный заглянуть котел. А в нем, Чуть видное сквозь марево, Пыхтит, бурлит густое варево. А Вере отоспаться хочется. И, отгоняя гам и звон, Двадцатилетняя учетчица Еще досматривает сон. В черемуховом окружении, Где каждый кустик, Как в снегу, Влюбленной снится Продолжение Свидания на берегу. Объятья снятся, ей незнамые До сей поры… И, как укор, Ей снится С поседевшей мамою Смешной и странный разговор. Как в детстве, Вера к ней прижалась, Веселый не сдержала смех. — Ты отпускать меня боялась… А видишь — я счастливей всех. — Мать смотрит на нее тревожно, А почему, и не поймешь. — Родная, будь же осторожна… — Ну что ты, мама, он хорош! Проснулась. Новая картина. Над ней, простынку сдернув прочь, Стоит прицепщица Марина, Пять смен работавшая в ночь. Глаза темны, Глядят упрямей, Как будто девушка со зла Под неподвижными бровями Остатки ночи принесла. Меж губ, кривясь, Легла усталость. Сказала, их разжав не вдруг: — Пробегала!.. Процеловалась!.. У Веры захватило дух, Приподнялась — и нет дремоты, Державшей только что в плену. — Ты мне завидуешь! — Да что ты?! — Да-да, завидуешь!.. — Чему?.. Усталый взгляд еще жесточе. — Чему? Чему? Ну, говори! — Твердит пришедшая из ночи Другой, пришедшей от зари. И Вера, ставшая смелее, Решилась на словесный бой: — Тому, что я ему милее, Что он со мной, а не с тобой!.. * * * Счастливей нет, Чем сердце Верино, Стучащее: «Не уступи!» С любовью девушке доверена Вся красота, Вся ширь степи. Она идет степной дорожкою, Ей двадцать верст Пройти не в труд. Недаром Верой Длинноножкою Ребята девушку зовут. Она идет, Где пашня новая, А рядом с ней, вперед спеша, Саженка скачет двухметровая, Похожая на букву «А». Сверни — и степью цветотравною Шагнет за Верой хоть куда Та буква — первая, заглавная — Из мудрой азбуки труда. Счастливей нет, Чем сердце Верино, Приветливое, как весна. Вот черная гряда замерена И в книжицу занесена. Взгляд вскинув От листка шуршащего, Она глядит в степную ширь Довольней Ермака, вписавшего В родные карты Всю Сибирь. Над нею плавно кружат кобчики, А в травах, выбравшись на свет, Как истые регулировщики, Все суслики свистят ей вслед. Такая добрая акустика, И только для нее одной! Нет, не одной… Вот из-за кустика Выходит Женя Черемной. Легко ему С улыбкой, с шуточкой, Неотразимой для девчат. На нем шагреневая курточка, И зубы и глаза блестят. В нем все для форсу и бравады: И темный ус, подбритый в срок, И чуб для девичьей привады, Положенный на козырек. И вот рука руки касается. — Ты ночь не спал и все в степи? — Ночей не сплю, Все жду, красавица, Счастливой ночи… — Потерпи… Легко тому, Кто и отшутится, И скажет правду. — Ждать мне лень То счастье, Что когда-то сбудется. Мне нужно счастье каждый день. Загородясь саженкой длинною, Чтоб не посмел он цап да лап, Она корит его Мариною. — Марина — пройденный этап. — Ты груб!.. — В ответ лишь смех удачника: — Пусть любит Павла своего! — Упреки Веры легче мячика Отскакивают от него. Он знает, что из уст девических Сейчас сорвется: — Мой родной!.. На зависть всем В делах лирических Всесилен Женя Черемной. * * * Удачлив Женя, Счастлив Женя, Бежит по жизни, как с горы. Капризы сердца, Чувств броженье Прощались Жене до поры. Играл он, Жизнью избалован, Покамест лучший из друзей Однажды не был обворован В любви неузнанной своей. Марина? Э-э, Марин немало! За нею Женька Черемной Не сразу заприметил Павла, Хоть жил под крышей с ним одной. А тот страдал, не спал ночами, Пока по праву чувств больших Не отнял сильными руками Свою любовь из рук чужих. Марина шла за ним покорно, Не унося с собой вины, И было им в степи просторно, И были их сердца пьяны, Чисты в порывах вечной жажды, Неистощимы, как поток… Так мог бы поступить не каждый… Но Павел сильный, Павел смог. Он землю твердую корежил И трубным голосом гудел: — Железо было тверже. Все же Я гнул железо, как хотел. И все-таки пришло мгновенье Когда, забытое уже, Пустое зернышко сомненья Дало росток в его душе. Узнал он, презиравший страх, Что нет обиднее иного, Чем имя на ее губах Пройдохи Женьки Черемного. И вот услышал. Тихим стал И ждет, когда неровный трепет Почти семейного костра Глаза Маринкины осветит. И, торопясь огню помочь, Он бросил веточку посуше — И тотчас отбежала ночь, Легла в траве и стала слушать. Трещали сучья в тишине, За искрой искра вверх летела, Но даже при большом огне Лицо его не просветлело. — Ты не пойдешь к нему! — Пойду! — А стыд? — Не время быть стыду. — А честь? — Твоей не трону чести. — Он смотрит, С бровью бровь связав, В ее цыганские глаза. — Ты мстишь ему? — Он плох для мести. Их спор Как острый меч к мечу, Но скрыть ли чувство дорогое? Припав плечом к его плечу, Марина обняла другое. — Послушай… — Сник и приослаб Огонь горевшей хворостины, И ночь обратно приползла Послушать шепоток Марины. Кто сердце женское поймет, Добру и злу отыщет меру?! Да-да, она к нему пойдет, Чтоб уберечь подружку Веру. Да-да, заслуженный удар Она для Женьки приготовит: — Я выйду, встану в свете фар, И он свой трактор остановит. — План прост. В полынной тишине Марина слово к слову нижет: — Он сразу бросится ко мне, И Вера пусть его услышит. Поймет, что страсть его — туман, Что нет любви, а есть обман… Тогда, Не в меру разогрет, Всегда спокойный Павел с болью Прикрикнул на Марину: — Нет! — Позволь мне, Паша! И процедил: — Молчи! Не глуп. Чтоб… Чтобы он еще губами Хоть раз твоих коснулся губ, Чтоб вечно грязными руками Он на тебе оставил след!.. — Но, Паша!.. — Нет, Марина, нет! Кто сердце женское поймет, Завязку увязав с развязкой?! Все, что по долгу не возьмет, Марина заполучит лаской. — Я больно сделала… Прости!.. — Добавила не без укора: — Беду хочу я отвести, Избавить Веру от позора. Пойду? — Иди, но знай одно… — Не досказав, махнул рукою. Не каждому дано такое, Но Павел добр, Ему дано. * * * Ушла. Как будто в глубину С береговой шагнула кручи. Скрывая звезды и луну, Клубятся над Мариной тучи. Неторопливая луна Крутую выбрала дорожку. То в тучах скроется она, То, как неверная жена, Пугливо выглянет в окошко. То светом травы обольет. То скроется и краски смоет И девушку от плеч до бот Полою темною прикроет. Железо Павлу легче гнуть, Чем в горьких думах пепелиться. Бежать, Догнать ее, Вернуть, Взять на руки И возвратиться!.. А он все смотрит, боль глуша, Сомненья отгоняя стойко. Терпи! Вот так, созреть спеша, У молодых растет душа — Мучительно растет и горько. * * * Спит Вера… За день нахлопочется, А ночью к думке на поклон. Двадцатилетняя учетчица Недобрый, смутный видит сон. «Ш-ш-ши…» По траве межою новою, Небоязливо, как своя, С саженкой споря двухметрового, Ползет очковая змея. И лишь саженка кверху вскинется И новый сделает прыжок, Змея замрет, лениво выгнется, Блеснет в траве — И тоже скок! Но вот узлом свернулась греческим, Вот закачалась перед ней Со взглядом, будто человеческим, С улыбкою, как у людей. Она качается и, щерится И, видя девичий испуг, Рогатым жалом в сердце целится… «Тук!» Вера вскрикнула. «Тук-тук!» Не придавая снам значения, Вдруг Павла увидав в окне, Она вздохнула с облегчением, Подумав: «Это же во сне». А тот с гримасою невинною, Но грустный, на слово скупой, Интересуется Мариною: — Марина разве не с тобой?! — Нет. Вера ходит как незрячая По узеньким половикам. И кровь, тяжелая, горячая, То к сердцу хлынет, То к ногам. Дверь… Степь… Бежит травой немятою, И ноги, словно с пыла снятые, Не охлаждаются росой. Бежит… Скользя подошвою босой, Зарниц приметит всполохи, Как птица чуткая замрет, Послушает ночные шорохи, Плечами зябко поведет. И отлетают подозрения. «Он пашет!» Далеко за тьмой Знакомое ей тарахтение Приятней музыки самой. И каждый звук, В тиши встречаемый, И запах трав со всех сторон, До сей поры не замечаемый, Взял сердце Верино в полон. Что было некогда обещано, Она сама отдаст ему. В ней с ревностью Проснулась женщина, Узнавшая вдруг, что к чему, Она спешит. Теперь ей кажется, Что поняла давным-давно, Зачем земля весною пашется И высевается зерно. Впервые в радостном смятении, Как будто крайний вышел срок, На тракторное тарахтенье Она бежит через лесок. И вдруг, на малом расстоянии Увидев что-то, замерла И тонкую, В недомогании, Она березку обняла. Там Женька Методом заученным Известный проявляет дар И, как петух С крылом приспущенным, Марину ловит в свете фар. — Не мучай… — Подступил решительно. — А Вера?.. — Цедит он слова: — Что Вера?! — И пренебрежительно Отбросил в сторону: — Трава! — Прикинулся: — Умру… Не вынесу!.. — Тогда, гонимые тоской, Тревожно вылетели из лесу Два крика — Женский и мужской. Смутился лишь В секунду первую И подбодрился на второй: На этот раз уже за Верою Метнулся Женя Черемной. Догнал. Дурные сны сбываются. Ей кажется, что пальцы рук Скользят по телу, обвиваются Могильным холодом гадюк. И Вера стала непокорною, …Давно ль к нему, Чтоб все отдать, Себя несла, как чашу полную, Боялась каплю потерять! Теперь бежит, Лишь бусы звенькают Да мокрая трава шуршит… Невесть откуда перед Женькою Встал хмурый Павел. — Не спеши!.. У Женьки глаз шальные выкаты Блеснули зло. И Павел груб. — Смотри, На пакость больно прыток ты!.. — Пусть прыток!.. Вышло: зуб за зуб. — И заяц прыток — прытче льва, Да шкура зайца дешева! * * * Горяч, Еще в порыве бега, Чтоб скрыть обиду куражом, Смеется Женька: — Ха!.. Олеко! Ты что, Олеко, не с ножом? — Ты любишь острые приправы? Ну?.. — Женька не умерил прыть. Мол, со своей хорошей славой, Он драться не имеет права. — О праве правому судить. — И как судья: — Прими в известность, Как истину и как совет: У нас есть право лишь на честность, У нас па подлость права нет. — На счастье есть? — и нагловато Хихикнул Женька. — Ждать мне лень То счастье, Что придет когда-то. Мне нужно счастье каждый день. — Он все наглей: — За все дела я, За трудности, что люб вам, Наград высоких не желаю. Тружусь и награждаюсь сам. Овал скулы отметив взглядом, Рванулся Павел сгоряча. — Зачем же избегать награды?! Напрасно, Женя… Полу-чай!.. — Схватились. Каждый не сдается: Один с отчаяньем лихим За право чистым быть дерется, Другой — за право быть плохим. * * * В реке ни звезд, ни рыб играющих, Ни волн, готовящих прыжок, Вокруг черемух облетающих Лежит нетающий снежок. Притихли волны, Не всклокочатся, Не заиграют меж собой, Как будто им подслушать хочется, Чем кончится горячий бой. А из былого вспомнить нечего. За все минувшие века Ни слез, ни горя человечьего Еще не видела река. И лишь на дне, Во мгле пропевшая Коротенькую песню зла, Лежит, случайно залетевшая, Кучума длинная стрела. С тех пор как степь, Повсюду гладкая, Веселым смехом ожила, К ней на берег походкой шаткою Впервые девушка пришла. Река журчит, ее жалеючи, Река блестит в рассветный час. Ей все впервые. Слезы девичьи В нее упали первый раз. И если горькою настойкою Все слезы мира в речку слить, Вода в реке не будет горькою, Ее все так же будут пить. Не все равно ли каплям, Канутым В степную речку иль в Неву?.. Не плачь, Я тоже был обманутым И тоже плакал… Но живу. 1956БЕЛАЯ РОЩА
На степь, Спеша с травою спиться, Нисходит ласковая мгла. Заря вечерняя, Как птица, Давно сложила два крыла. И над палаткой островерхой В потухшем небе, как всегда, Всечеловеческою вехой Зажглась высокая звезда. Опять, вздыхая и волнуясь, Гармонь о городе поет. И все же юность — всюду юность, Она везде свое возьмет. Когда любовь — как хлеб и воздух И в час свидания темно, То для влюбленных Были б звезды, А лес иль степь — им все равно. И ни к чему играть в оглядки, Все впору им — и свет и мрак… А вот Егор сидит в палатке И думает совсем не так. Он думает: «Нужна свобода В желаньях сердца и души. Вот отработать бы два года, А там — уехать из глуши В тот край, Который любим очень И, оказавшись вдалеке, На добром русском языке Мы называем краем отчим. Любовь же, как земля сырая, Прилипнет — не стряхнешь ее…» Так думал он, перебирая С полынным запахом белье. Так думал он, хоть был и пылок. В руке, приученной к труду, Зажал коричневый обмылок И вышел под свою звезду. * * * Река степная берег пилит, Струя врезается в струю… Егор неловко мылит, мылит Рубаху старую свою. Луны осколок в небо вышел, Как будто отлитый в огне, Повременил, поднялся выше И закачался на волне. Почудилось, что в лунной качке, На глубине речного дна, Русалка юная видна И слышен голос: «Вот так прачка!..» Слова тихи, слова мягки, Как будто с целью затаенной Она глядит со дна реки И притворяется влюбленной. «Дай помогу я, дорогой…» — И белой, до плеча открытой Русалка тянется рукой К его рубашке недомытой. Была — и нет. Стоит прицепщица, Лесной цветок в степном краю, У ног волна лениво плещется, Струя вплетается в струю. Вот Аннушка, его жалеючи, Рубашку, мыло отняла И над водою юбки девичьи, Чтоб не мочить, приподняла. Глядит Егор, Смущенный встречей, Как у нее блестят глаза, Теснится блузка, ходят плечи, Повдоль спины дрожит коса. Когда же с ним заговорит, Из-под капризных завиточков Большой жемчужиной горит Серьгой не троганная мочка. Он думает в неясном страхе, Неравнодушный к завиткам, О трудной жизни, о рубахе, Послушной девичьим рукам. Побудет, мол, в руках умелых, Размякнет И в недобрый час Прильнет к тоскующему телу И слабость сердцу передаст. У ног их Месяц окунулся И карасем уплыл в кусты. Егор вздохнул и отвернулся От беспокойной красоты. * * * Не спит Егор, Когда в палатке, Хмельное счастье пригубив, Спят сдавшиеся без оглядки На милость девичьей любви. Над ковылями вместе с ветром Плывет гобийская теплынь, Опять в матрасе разогретом Запахла горькая полынь. Заглядывает месяц в щели И улыбается хитро… Приподнялся Егор с постели, Нашел бумагу и перо. За словом слово быстро нижет, И кажется, перо само, Поскрипывая, пишет, пишет Старушке матери письмо. Размашистый сыновний почерк Намеком, как бы невзначай, Дает понять ей между строчек: Мне трудно — мама, выручай! Все спят. За финскими домами Береза встала на пути, Прижав зелеными ветвями Почтовый ящик на груди. И в смутном свете стало видно, Как неказистый ящик тот Глотнул письмо и так ехидно Перекривил железный рот. * * * Дети маме Покой пророчили, А теперь, повзрослев, молчат. Мать-старушка живет у дочери, Обихаживает внучат. Вспоминает в беде не гнувшихся. Вечно памятных только ей, Улетевших и не вернувшихся С поля ратного сыновей. Вытрет старая слезы женские, Улыбнется себе, горда: Мол, не зря они, деревенские, Были призваны в города. В холод, в голод сыны не охали, Были твердыми их слова, И такое вокруг нагрохали, Смотришь — кружится голова. Вспоминая сынов бесстрашие, Одного не осилит мать: От земли уходили старшие, А последний — к земле опять. Для нее он все еще деточка, Хоть высок он и густобров. Получила от сына весточку, Услыхала сыновний зов… Много плакала, много видела, Стала многое забывать. Слезы краем платочка вытерла, Принялась добро собирать. Это сказано опрометчиво — Просто комнаты обошла. Собирать-то старенькой нечего, Всю-то жизнь для других жила. Не повидится, Не утешится. Удержать бы ее, да где ж!.. За Егора мать крепко держится — Он последний в жизни рубеж. Вот внучатам целует рученьки И негорькую их слезу. — Вы меня не забудьте, внученьки, Я гостинцев вам привезу. — Хорошо, что еще не лишняя И не дочке, и не ему… Хорошо, что полка-то нижняя, А купейность ей ни к чему. Едет, смотрит на придорожие, Из всего, что есть на виду, Ищет ровное и похожее На далекую Кулунду. Речки быстрые извиваются То равнинами, то меж гор. Пассажиры вокруг меняются, Продолжается разговор. Входят, сходят, В дверях не мешкая, Весть разносят на всю страну, Что в вагоне старушка некая Едет к сыну на целину. * * * Степь, Как будто ее кто выровнял, Будто кто-то куда-то нес И случайно в дороге выронил Семена плакучих берез. И теперь на ветру полощется, Пригибается во весь рост Негустая белая рощица, Одинокая на сто верст. Берег… Домики, Как на пасеке. Гул в степи далеко слыхать. К тем домам на совхозном «газике» Подкатила первая мать. Обнимает сыночка странница, А друзья его как в строю, И у каждого взгляд туманится, Каждый видит в ней мать свою. Каждый тянется к ней в смущении… И она целует парней Так, как будто по поручению Неприехавших матерей. Рад Егор, что к нему из города Подоспела старушка мать: Мол, у Анны не будет повода К сердцу с нежностью подступать. * * * Меж пластами земли Поднятыми Ходит-бродит лиса с лисятами. Разгребая лапками комьица Все привычней и все бойчей, И лиса и лисята кормятся, Взяв в компанию двух грачей. И в испуге лиса не мечется, Охраняя лисят своих. Об Егоре в мечтах прицепщица И о новой его советчице… А зверушки?! Ей не до них! * * * Тем же часом, К сынку прибывшая, Ходит мать, чуть-чуть загрустившая, Ходит, смотрит на проживающих И нигде не приметит взгляд: Ни детей, меж собою играющих, Ни снующих в траве цыплят. Выйдет на поле… За усадьбою Вдруг почувствует, что стара. Что-то медлит сынок со свадьбою, Поспешить бы сынку пора. На советы он стал обидчивый, Будто зря ему говорят. И от девушки от улыбчивой Почему-то отводит взгляд. Даже камень водою точится, Даже камню приходит срок. Смотрит мать, Приглядеть ей хочется Тихий ласковый уголок. Кровь устанет в ногах — разуется И, приняв деревенский вид, То ромашками залюбуется, То над речкою посидит. Даже берег водою точится, Если волны идут внахлест. Приглянулась матери рощица, Одинокая на сто верст. В ночи лунные и недлинные, Когда в листьях блестит роса, Настоящие соловьиные В роще слышатся голоса. А когда заря занимается, От высоких кипящих крон На все стороны разлетаются Щебет, высвист и перезвон. Мать придет и качнет сединами… Свет, просеянный сквозь листву, Отшлифованными полтинами С дрожью падает на траву. Ходит старенькая березником, В тень присядет она с иглой, Вышивает узоры крестиком, Разговаривает с землей: — Не сердись на меня, на грешную, Я далекая, я не здешняя… Многодетная, многодомная, Я тебе, земля, незнакомая… Умереть бы мне, где положено, Где поезжено, где похожено!.. С разговорами не скучается. Мать от родственных мест вдали Верной дружбою заручается Незнакомой еще земли. * * * Сын счастлив. Мать хоть и стара, Но все еще встает с рассветом. С ее приездом для стола Своя заведена диета. С ее приездом — с плеч гора, Светлей душа и крепче тело, И мысли дальнего прицела Еще упрямей, чем вчера. Крепись, Чтоб сердце не дрожало От вздохов девичьих и слез, Чтоб Аннушка не удержала Пушистыми цепями кос. По вечерам, Вернувшись с пашни, В телах усталость принеся, Скучая обо всем домашнем, К Егору тянутся друзья. Сидят, шумят до полуночи, И что ни тема — новый спор. Однажды, как бы между прочим, Зашел о роще разговор: Чтобы машины не кружились, Мол, взять бы да раскорчевать… Услышала, насторожилась, Вязанье отложила мать. Сказала: — Не туда вы клоните… — А сердце у самой щемит. — Вы рощу Белую не троньте… — Вздохнула тихо. — Пусть шумит… Куда-то далеко-далёко Глядел ее покорный взгляд… Но материнского намека Никто не понял из ребят И не проникся тихой болью, Понятной только ей одной. А через день, Вернувшись с поля, Егор столкнулся с тишиной. Казалось, завершила дело И вот, довольная вполне, Мать бездыханная сидела, Спиною прислонясь к стене. В руках — узор, Что ею выткан На самой белой из рубах, И перекушенная нитка Алела на ее губах… * * * Слезы льет Егор посоленные И глотает дрожащим ртом. Плотник дерево сшил пиленое, Занаряженное на дом. Это горе степные жители Не сумели предусмотреть. Недогадливые строители Не планировали на смерть. Мать, не в радостях поседелую, Все высокие — ростом в рост, Понесли они в рощу Белую, Одинокую на сто верст, В складках вся, Будто в горе морщится, Вековые пласты стеля, Под ногами людскими крошится Неподатливая земля. В роще птицы молчат певучие, В ней, по-своему загрустив, Все березы стоят плакучие, Косы длинные распустив. Под березами, под косматыми, Не затронув их белых ног, Был отмечен в траве лопатами Тихий ласковый уголок. Вышло время обряду скорбному. Яма, вырытая давно, Словно ухо Земли, Которому Слышать радости не дано. «Слушай, степь!» Травы шепчут: «Слу-у-шаю…» «Мы не гости в краю твоем, Отдаем тебе нашу лучшую, Мать товарища отдаем…» «Отдаю…» На глаза сыновние Опустился траур бровей. Зазвучала в лесу симфония Тихим шумом Трав и ветвей. * * * И жизнь, Неустанная жница, Живых увела за собой… Теперь перед рощей пшеница Шумит и шумит, как прибой. Над степью, как море, волнистой Колеблется дымчатый зной. Лишь роща в разлив золотистый Стоит зелена, как весной. Страда! Это хлеб в колыханье И пот, что струится со лба. Страда — это нет, не страданье, Страда — это значит борьба. Страда — это, с леностью споря, Истрачивать силы в труде. Егор, присмиревший от горя, Старался забыться в страде. А роща шумела, корила: «Давно у меня не бывал, Давно на родную могилу Цветов запоздалых не рвал. Давно не стоял перед нею С упрямою думой своей!..» Егор, перед рощей краснея, Под вечер торопится к ней. Любуясь пушистою остью, Трудившийся в десять потов, Идет он с пшеничного горстью, Неся ее вместо цветов. Вот холмик в зеленой рубашке, Надетой, чтоб скрыть черноту. На травках — ромашки, ромашки, Последние в этом году. В ромашках весь холмик горбатый. Егору легко угадать, Кто выведать мог, что когда-то Любила их старая мать. Кто сердцем хотел и душою Не мертвой — Живой угодить. Егор вдруг увидел большое, Чего никогда не забыть. И сердце сильней застучало. Могила… Простой бугорок… В нем отчего края начало, В нем будущей жизни залог. В соседстве береза кривая Листву всполошила свою: Стремился ты к отчему краю, Будь счастлив, ты — в отчем краю! Он слышит: «Не мешкай, не мешкай, На верную стежку ступи! Взгляни, одинокою вешкой Любовь твоя зябнет в степи. Как цепью, Косой золотою Не зря приковать норовит…» Егор пред ее красотою Совсем безоружный стоит. Вот Аннушка, Голову вскинув, Как будто чуть-чуть подросла И руки свои колдовские Навстречу ему понесла. Притихла, В глаза загляделась, А вечер прохладен и тих… Над ними звезда загорелась Большая — одна на двоих. 1956ПРОДАННАЯ ВЕНЕРА
Я был у старших на примете. И вот однажды мне велят На комсомольском комитете О красоте прочесть доклад. Мой вкус был самый деревенский, А други просят: — Не забудь О красоте, ну, знаешь, женской В своем докладе помянуть. А что я знал? Что есть сутулость И есть девическая стать? На чем душа моя споткнулась, Не надо мне напоминать. И все же будущего ради, Марая белые листы, Задумал я в своем докладе Раскрыть все виды красоты: Все то, чем люди восторгались, С чем шли, рассеивая мрак. Все темы прочие давались, А тема женская — Никак! Не помогал мне опыт древний, Что лег в пудовые тома… Все лезет на глаза деревня, Подслеповатые дома, И щучьи зубы частокола, И ребра старого плетня, И школа сельская… Та школа, В которой около меня Сидела Граева Наташа… В те дни она такой была, Что ничего природа наша Прекраснее не создала. В деревне, помню, говорилось С насмешкой острою, как нож: — Ты что-то, девка, загордилась Как Ната Граева идешь! Теперь Хочу увидеть снова Все то, что память сберегла. И речка времени былого Перед главами потекла. Избрал я место наудачу У каменного голыша, Сижу за кустиком — рыбачу, Ловчусь перехитрить ерша. С настойчивостью непонятной Мечтаю о его клевке И все смотрю, Как луч закатный Разнежился на поплавке. Не видел я, как по откосу Прошла она, Как на песок Одежду сбросила И косы Под синий спрятала платок. Но видел я, Как стихли воды, Когда она к реке прошла — Фантазия! Каприз природы! Причуда света и тепла! Она, омытая лучами, Когда вода коснулась стоп, Легонько повела плечами, Как будто сбросила озноб. Волна пред нею расступилась И снова преградила путь… Блестели плечи, Золотилась Ее заносчивая грудь. Там, Над речною глубиною, Произнесли мои уста Еще не троганное мною Большое слово: Красота. Ничем Не помешав Наташе, Преодолев блаженный стыд, Я подстерег ее тогда же У зеленеющих ракит. Как, вспоминаю, сердце билось, Когда, проплавав полчаса, Она пришла, остановилась И заглянула мне в глаза! Смутилась вдруг, Стыдливой стала… В моих зрачках — Ей-ей, не лгу! — Себя, должно быть, увидала, Какой была на берегу. А старики — И это тяжко — Судили Нату под гармонь: — Конем любуются в упряжке, Конь на гульбе Еще не конь… Спеша продлить воспоминанья, Как в прежние твержу я дни Знакомое ей заклинанье: «Ты с глаз моих не уходи!» Но время воздвигает стены, И самой страшною стеной Огни и дымы дней военных Заколыхались предо мной… И вскоре Я ее увидел, Взглянув на мир из-под руки, Не на гульбе — В том самом виде, Как выражались старики. Увидел с темными горшками, Перекаленными в печах, С шестипудовыми мешками На перекошенных плечах. Порядок слов, Звучавший мило, Теперь бросал все тело в дрожь: — Ты что-то, девка, приуныла — Как Натка Граева идешь!.. При встрече На дороге пыльной Ее глаза несли мне весть, Что от работы непосильной Вся свяла, не успев расцвесть. Лицо обветренно и грубо. И шла она, Не шевеля Губами, Потому что губы Потрескались, Как в зной земля. Давно успела позабыть, Что до поры иссохли груди, Что стала по земле ходить, Как ходят пожилые люди, Что живость света и огня В ее глазах давно заснула. В мои с надеждой заглянула — И отшатнулась от меня. В моих, Повидевших немало, — А в них я все сберечь могу! — Себя в соседстве увидала С той, прежней, Натой, Что стояла Передо мной На берегу. Я знал, Что из морщин бессчетных, Примеченных, издалека, Любая черточка почетна, Как честный шрам фронтовика. * * * За боль, За раннюю сутулость Спеши сторицею воздать. Найди же, чем не стала юность И чем она могла бы стать! На чем от самого рожденья. Не отразятся Ни ветра, Ни мировое потрясенье, Ни горе одного двора. Ищи прекрасное на свете, Суди, оправдывай, вини И по нетронутой монете Монету стертую цени. Не изменив мечтам заветным, По жизни в поисках пройди. В каком-то облике бессмертном Наташу Граеву найди. Ее судьба да будет вехой, Повсюду видной хорошо. Искал я. И в книжонке ветхой Ее бессмертье я нашел. Рука, листавшая устало, Успела, к счастью, долистать До той, Кем милая не стала И кем она могла бы стать. Я видел: В радостном полете Кисть жизнетворна создала Всю красоту горячей плоти, Причуду света и тепла. Влюбленный и ревнивый гений В слиянье радости и мук Набросил матовые тени На легкие изгибы рук. Такой лететь туда, где боги! И он, уже не тратя сил, Куском парчи, Упавшим в ноги, Ее чуть-чуть отяжелил. Едва приметными мазками На долгий срок, На вечный срок За темными ее зрачками Свет человеческий зажег. Тем светом ей Печаль, тревогу И горе изгонять дано. С такой легко искать дорогу, Когда становится темно. Она стыдлива без ужимок, Как та, Которую я знал… И это был Всего лишь снимок, А где же сам оригинал? Где рождена? В какие эры, В какой из поднебесных стран? И кто она? Прочел: «Венера». А чуть пониже: «Тициан». И тут же на бумажной сини Отчетливо и на виду Приписка: «Собственность России». Прекрасно! Я ее найду! И снова, В поиски ушедший, Всем говорю: Мол, так и так… Смеются: — Что за сумасшедший! Венеру ищет! Вот чудак! Какой-то полный незнакомец Откашлялся и пропыхтел: — Избаловали!.. Комсомолец, А тож — Венеру захотел! Иду, Чем дальше, тем смелее По городу — через снега, Иду в картинных галереях Через минувшие века, Через сокровища народов, Не падая пред ними ниц, Через толпу экскурсоводов, Учеников и учениц. Переходя от века к веку, В людской толкаясь тесноте, Они пришли сюда, как в Мекку, На поклоненье красоте. И красоте той благородной Себя отдавши целиком, Тянусь и я к ней, Как голодный За хлебным тянется пайком. Ее ищу я в каждом зале, В простенках каждого угла. — У вас Венера не была ли? — Нет, — отвечают, — не была. Вновь объясняю по порядку: — Амур и зеркало… Рукой Венера поправляет прядку… — Вновь слышу: — Не было такой. Но вот совсем неподалеку Бородка над толпой всплыла. Блеснуло старческое око Из-под очков. — Была! Была! И вспомнил я, Как поезд мчался В лесную родину мою, И я с таким вот повстречался В металлургическом краю. Теперь мне вспомнилось, Как ночью, В огнях увидев домен ряд, Похвастал кто-то: — Между прочим, Я строил этот комбинат. — Добавил, ус крутнувши лихо, Что ставил, там прокатный стан, А старец, вот такой же, тихо Заметил: — Вы и Тициан. Тогда, Болтавшие о многом, Толкуя обо всем слегка, Как на обиженного богом, Взглянули мы на старика. И он притих, Ни об искусстве, Ни о других делах страны Уже не говорил, Лишь с грустью Посматривал со стороны, Как спорил с химиком строитель. Так грустно на исходе дней Разочарованный родитель Глядит на выросших детей. Теперь старик подвижен, светел. Узнал и вновь не узнаю. — Вы вспомнили ее?! — Ответил: — Я вспомнил молодость свою. Мы шли, И не было мне странно, Что говорил он не шутя: — Вы знаете, у Тициана Она не первое дитя… — Дрожало старческое веко, А он твердил мне об одном: — Полвека! Да, мой друг, полвека Я был ее опекуном. Все черточки лица страдали, Кривились, будто был он пьян. — Что ж стало с ней? — Ее продали. — Куда? — Туда… за океан. Мы продаем И лес и кожи, По красоты нехватка в нас! Едва ли нужен и возможен Большого горя пересказ. Он знал, Что жили небогато, И ведал, продана зачем, Но только личные утраты Не восполняются ничем… Когда В Магнитогорске рыли Для первой домны котлован, Она плыла за океан. Навстречу ей машины плыли. Он говорил об этой встрече Так, Словно сам с ней в рабство плыл. — Я парусиною прикрыл Ее блистательные плечи. — Он рисовал мне Небо в тучах, Над палубой туман густой… За красоту времен грядущих Мы заплатили красотой. * * * И с ней Не встретясь, Я простился. Нерадостен был мой уход. Заснул я поздно. Мне приснился Металлургический завод. Мне снились волны В кудрях пены, Бегущие за край Земли, Мне снились грузные мартены, Похожие на корабли. Пусть окна в них Прикрыты плотно И лишь на каждом красный глаз, Но и в зашторенные окна Бьет пламя, Обжигая нас. Но что такое?! Шум стозвучный Вдруг стих, рассеялся угар. С открытым ртом стоит подручный, Бородку щиплет сталевар. В глазах у парня бес запрыгал, И не возьму никак я в толк, С чего он громко загыгыкал: — Гы, баба!.. Голая!.. — И смолк. Гляжу я, Тоже ошарашен, Дивлюсь, как на печной пролет Походкой легкою Наташи Венера русая идет. Боса, парчой полуприкрыта В угоду прежним временам, На крошки ступит доломита, Поморщится — И снова к нам. Глядит все пристальней, Все строже. Ни слова нам не оброня. Хочу, мол, посмотреть, За что же Вы про… Вы отдали меня. Старик, Тихонько увлекая Меня от гостьи и зевак, Спросил негромко: — Кто такая? — Я мастеру: мол, так и так… Мол, помните, Когда здесь рыли Для первой домны котлован, Она плыла за океан. Навстречу ей машины плыли. И мастер, Подошедши близко, Остановился перед ней И поклонился низко-низко, Сняв кепку с головы своей… Помедлил, Дав словам отсрочку, Потом, прижав ладонь к груди, Заговорил: — Прости нас, дочка… Все видела, теперь суди. Бывало, бьюсь, Из кожи лезу, И недопью, и недоем. Мы пропадали без железа, И рабство нам грозило Всем. Как строились, Душой болея, Ты, вечная, нас не поймешь. И что тебе! Ты, не старея, До коммунизма доживешь. Захочешь жить у нас, к примеру, Гости без никаких бумаг… — Старик вздохнул: — Вот так, Венера… По батюшке не знаю как. Я посмотрел И вздрогнул даже. В горячем отблеске огня Уж не Венера, А Наташа С укором смотрит на меня. Вновь покорила Ясность взора Глаз темных, затаивших зов, Как затененные озера Среди нехоженых лесов. В них, Укрываясь от напастей Души глубинной чистотой, Надежда на большое счастье Все ходит Рыбкой золотой. Друзья не сразу догадались, Что говорит она со мной: — Вы перед вечной оправдались, Попробуйте перед земной… * * * Не знаю, Так ли я ответил, Когда в суровой простоте На комсомольском комитете Читал доклад о красоте. Встречая взглядом Взгляд сердечный Сидевших прямо предо мной, Я с грустью говорил о вечной И с болью вспомнил о земной. Я говорил, Как перед Натой: История от первых дней Ни перед кем не виновата, — Виновны только перед ней. Одной цепи я вижу звенья, Сработанные не вчера: И мировые потрясенья, И горе одного двора. На все Я в жизни вижу отклик, От горя к радости мосты. Судьба Наташи — это подвиг. А подвиг стоит красоты. Глазами встретившись с одною: — Ты знаешь ли,— сказал я ей, Какой заплачено ценою За легкий взлет Твоих бровей? — Не знаю, так ли Двум мальчишкам, Зевнувшим нехотя в кулак, Сказал я, может, строго слишком. Послушайте, Сказал я так: — Все позабудется на свете, Все сгладится в конце концов. Вам, избалованные дети, Не вспомнить бедности отцов. Вам подавай лишь то, что мило, Красавицу и сад в цвету. Кровь пролилась, А не чернила В сражениях за красоту. Вам огорчительно до боли, Вам оскорбительно до слез, Что материнские мозоли Не пахнут лепестками роз. Наташи прежней мы не встретим, Но людям жить и быть красе. На этот раз уже не детям, На этот раз сказал я всем: — Рост красоты по дням и годам Мы обеспечим — верю я, Как обеспечен курс рубля Всем достоянием народным! Мечтатель, Верный почитатель Земных красот, Признайся, брат, Что виноват, И я, читатель, С тобой в растратах виноват. Мы равнодушны и незрячи, Не знаем, Что смелей резца Моя ль, Страны ли неудача, Морщинку, складку обозначив, Коснется каждого лица. Судьбу, Сгибающую лучших, Мы не берем за горло: «Стой!» За красоту Людей живущих, За красоту времен грядущих Мы заплатили красотой. 1956ЗОЛОТАЯ ЖИЛА
О любви, О гордой жизни деда Я, приписанный к его судьбе, Не в семейной хронике разведал, Я ее разведал по себе. Жить бы, Молодых бровей не хмуря, Но беда похожа на беду Только потому, что жизни буря Прошумела у меня в роду. Принял я тревожное наследье, По нему былое узнаю… Но пора! Отбросим полстолетья И вернемся в Марьевку мою. С вызовом Выбрасывая звоны, Молотом играет Харитон. «Будь покорен», — говорят законы. Только Харитону что закон! Молодой, Лицом и телом ладный, Лошадь зашибавший кулаком, То, что величаем мы кувалдой, Называл он просто молотком. У него в руках железо пело, У него от жаркого труда На лице румяном накипела Черная с рыжинкой борода. Что ему, Когда он сам как главный. По тайге на сотню верст вокруг Лишь один ему по силе равный, Да и тот ему любезный друг. Не один опустит злое око, Как пойдут они на шумный яр, Харитон, поднявшийся высоко, И в плечах раздавшийся Назар. Как придут они туда да стукнут С силой, застоявшейся в ногах, Аж леса окрестные аукнут, Озеро качнется в берегах, Сила их носила, возносила Над безумьем деревенских драк. Лишь однажды их лесную силу Подлость одолела… Было так: Крики, Свисты. Это всею сходкой Старосте Царьку деревней всей Жеребца ловили, пятигодка, Самых удивительных кровей. Рыжий, как огонь, Как ветер, скорый, Он скакал меж криками: «Гони!..» На подворьях рушились заборы, В огородах падали плетни. — Эй ты, нелюдь! — голос Харитона Резанул хозяину нутро. — Ставь, Царек, ведерко перегона, Мы пымаем! — Полведра. — Ведро! — Сговорились. В узенький проулок Встали други, каждый крепколап. Стук копыт, как на морозе, гулок, Дик и устрашающ конский храп. Из ноздрей — белесые колечки, Хвост и грива брошены вразмет. От него, как от горячей печки, Еще задаль жаром обдает. Взвился на дыбы, Да мало толку. Харитон, лицом почуя жар, Левою рукой схватил за холку, Правой за ногу… А тут Назар!.. Под железной дедовой рукою Падать к человеческим ногам С гордостью и кротостью такою Было бы не стыдно и богам. И Царек уж тряс друзей за плечи, Уговаривая и браня: — Черти некрещеные, полегче, Не губите доброго коня! — А потом, ругая Харитона, На его сподвижника ворча, Вынес им ведро — не перегона, Ладно и того, что первача. Был бы там, Решился бы, спросил я, Отчего, был дед на зелье лют, Почему сыны твои, Россия, Больше всех на свете водку пьют? Почему?.. Не надо удивляться. Наши деды по нужде, поверь, Пили столько, Что опохмеляться Внукам их Приходится теперь. Пей!.. Гуляй!.. — Царек косил на пьющих, Замышляя что-то против них, Непокорных, Власть не признающих, Непохожих в жизни на других. Подчинись его, Царьковой, воле, На того, кто стал им не с руки, Расхрабрились, Выломали колья Харитона злые шуряки. Не затем роднились с ним Три брата, Чтобы он с железною рукой От жены из их семьи богатой, Значит, и от них Пошел к другой. За позор сестры они платили, Как не платят за разор врагу, Другов били, Другов молотили, Как снопы молотят на току. Не было отпора низколобым. И как стало на дворе темно, Положили рядом их, Всем скопом, Закатили на груди бревно. Ночь, И освежая и врачуя, Укрепила их глубоким сном. Харитон очнулся. — Чуешь?.. — Чую… — Харитон опять: — Дыхнем? — Дыхнем. Как очнулись — Сила воротилась, Отданная ими за вино, Как дыхнули, Так и покатилось, Будто с горки, Толстое бревно. На широкой выспались постели, Пестряди домашней не стеля. Встали, Обнялись, Пошли, Запели, Шурякам покоя не суля: «У солдатки Губы сладки, У вдовы Как медовы, У законной у жены Как ковриги аржаны…» * * * Было так: Дыша прохладой леса, Раздвигая темень хвойных штор, К лиственнице крепкой, как железо, Шел кузнец испытывать топор. Пело сердце, В листьях пели птахи. Что там птахи, коль, всегда тихи, На посконной праздничной рубахе Вышитые пели петухи. Он и сам запел… Но, зло пророча, В развеселый птичий переклик Подметалась трескотня сорочья, Треск валежника И женский крик. Он раздвинул бремя навесное И увидел, глядя в полумрак, Как шаталось чудище лесное, Жадно щуря маслянистый зрак. В страхе пятилась, С малиной сладкой Прижимая к сердцу туесок, Глаша, темнокосая солдатка, От большой беды На волосок. Видел он, Успев осатанитъся И откинуть руку на замах, Как метались синие зарницы В темных Перепуганных глазах. Не сосна В минуту буревала — На густой малинник, как гора, Старая медведица упала, Острого отведав топора, И лежала после этой схватки, Разодрав одежду о кусты, Глаша, тонкобровая солдатка, В полном цвете бабьей красоты. Будто видел он совсем другую, От которой глаз не отвернуть, И смотрел на белую, тугую, Ягодой осыпанную грудь. А когда, забыв про поединок, Нес ее в народную молву, Изо всех веселых ягодинок Только две не падали в траву. Его сердце К сердцу Глаши льнуло. Чтобы одиноко не стучать, Сердце Харитона подтолкнуло Сердце, Переставшее стучать. Изо всех чудес лесного мира Лишь она была нужней всего. Нес и повторял: — Очнись, Глафира!.. — И она очнулась для него. И пока донес, Легко ступая, Мягкою травою не шурша, Темная, Крестьянская, Скупая Нежностью истаяла душа. И однажды Ночью черно-бурой Он пришел, наветам вопреки, Бросил за порог медвежью шкуру И о шкуру вытер сапоги. Грубый, В домотканое одетый, Не читавший даже букваря, Он сказал, как говорят поэты: — Золотая искорка моя! * * * Все, чем жил, Вдруг стало жизнью дальней. Он для Глаши душу отворил И ковал на звонкой наковальне, Будто с ней все время говорил. Как умеет петь металл горячий! Чем краснее он и горячей, Тем певучей, Искренней и мягче Благородный тон его редей. Обожжется молот и запляшет Пьяным дружкой в свадебном, чаду, И звенит он: «Глаша! Глаша, Глаша!..» И зовет он: «Жду!.. Жду!.. Жду!..» Звон условный, Глашу зазывая, Долетал и до того окна, Где сидела, тоже не глухая, Хмурая законная жена. Помнит: сговорились не сердцами. Помнит: в торге, долгом и скупом, Было все устроено отцами, Скреплено законом и попом. Не поможет мамкина икона, Бабушек даренье — образа, Если выше всякого закона Оказались Глашкнны глаза. Бог дает и радости и муки, Только непонятно, — хоть убей! — Почему же нынче божьи руки Оказались Глашкиных слабей? Руки Глаши, Если обовьются, Их уже ничем не разорвать. Губы Глаши, Если улыбнутся, До сухоты будешь тосковать. Сердце Глаши, Дай ему раскрыться — И увидишь, счастье в тайнике. А ресницы? В Глашиных ресницах Заблудиться легче, чем в тайге. Ласки Глаши! Ласковые ласки — И огонь, и сладкий хмель вина… И сосна, Чтоб не было огласки, Все гудит над ними, как струна. Станет Глаша Пьяной и незрячей, Чтобы дома, Радуясь опять, С белой кофты след руки горячей С гордою улыбкой замывать. Не пристала к ней тоска-забота Даже в день, Когда ей, как враги, Дегтем разукрасили ворота Милого лихие шуряки. Харитону что?! Опять смеется, Смелого ничто не устрашит. А солдат с войны к жене вернется, Если вражья пуля разрешит. Вражья пуля многих порешила, Положила в сопках отдыхать, А ему, Игнату, разрешила Дорогую Глашу повидать. Все она Игнату прежней снится, В теплом свете марьевской зари. Замолчи, услужливый возница, Ничего о ней не говори!.. Как тайга, Лицо солдата хмуро, Будто защищавшему редут Павшие твердыни Порт-Артура Все еще покоя не дают. Все непрочно, Слишком скоротечно Для солдат, ходивших на войну. Царь одно из двух давал навечно: Смерть на фронте, А в тылу — жену. Лишь она приписывалась прочно. Потому и нес для жизни впрок, Из далекой Из земли восточной Спрятанный в бутылке тополек. Вот и двор. Солдат перекрестился, Ручеек по плахе перешел. Хорошо, что дом не покосился И целы ворота. Хорошо! Хорошо, что двор не оголила. На воротах, чтобы все по ней, Старые дощечки поскоблила. Тоже ладно — Этак веселей. Мудрость жизни — Вот за службу плата, И жену, какой бы ни была, Десять лет служившему солдату. Спрашивать не надо, Как жила. В приступ жажды Пьющего из чаши Обожжет и студная струя. Будто и глазам не верил. — Глаша?! — Подтвердила: — Я, Игнаша, я… Пусть жена Не так, как надо, встретит, Все равно солдат от счастья слеп. Долго голодавший не заметит, Мягкий или черствый Ест он хлеб… Как встречала да привечала, От людей не утаишь… Отчего ты, кузня, замолчала, Отчего, как прежде, не звенишь? Или твой кузнец уже не молод, Или с другом сел за бражный стоя? Как узнал он Да как поднял молот — Б-бах!.. — И наковальню расколол. И, таежной мерой горе меря, Он метался в хвойной темноте: — Где вы тут, невиданные звери, Я зову вас, отвечайте, где?.. Зверь не шел, И сам, как зверь косматый, На душе которого темно, Он прибрел на пиршество солдата Под резное Глашино окно. В доме пили, В доме песни пели. Не при нем, метавшемся в тоске, Половицы старые скрипели И горшки гремели на шестке. А у ног его Дрожал росточек Самой неприметной высоты. Тополька единственный листочек Трогал свет мигающей звезды. В диком буйстве богатырской крови, В час обиды на душу тяжел, Поднял Харитон сапог в подкове, Будто виноватого нашел. А листочек вдруг засеребрился, Вроде запросил: «Не будь жесток!..» Подобрел и рядом опустился Харитона кованый сапог. На семейном пиршестве ненужный, Он ушел в рассветную зарю. До сих пор за шаг великодушный Я тебя, мой дед, благодарю. О беде понятья не имея, Тополь рос и, кривенький, прямел. Он потом над юностью моею, Над моей любовью прошумел. Горе и теперь в сердца стучится, Но сердца вольны Вступать с ним в бой. И да мною не могло случиться, Что случилось некогда с тобой. * * * На березках — Желтые платочки. Появилась, лету вопреки, Листьев золотая оторочка На зеленом поясе тайги. И зима проворными перстами К Глашиному дому Все пути Застелила белыми холстами: Коли смел, попробуй наступи! И, леса густые облетая, Чтоб изгнать из памяти весну, В белые меха из горностая Нарядила каждую сосну. И не только лес зиме поддался, Даже люди, взятые в полон, Белизной утешились. Остался Неутешным только Харитон… Не звони, Не наводи истомы!.. Как пойти ей на такой набат, Если каждый след ее от дома Заприметит пасмурный Игнат?! Но была в надрывном звоне сила, Пред которой Глаша не вольна. Вышла на крыльцо, С крыльца ступила, На окно лицо оборотила, Стала к кузне пятиться она. Видишь, муж, Домой ведут следочки. Пятится — И в луночке любой Тяжело печатаются строчки Валенок, простеганных тобой. Пятится она к желанной цели. И больнее, чем дано рукам, Белый снег Поднявшейся метели Бьет ее с размаху по щекам. Только бы дойти, Не оступиться!.. А метель, проклятая, метет, Индевеют темные ресницы, Стынут слезы, Но она идет… * * * Берегись, жена, Придет расплата За твою бессовестную ложь!.. С пулями хитрившего солдата Ложным следом ты не проведешь. Десять лет ему, солдату, лгали, Правду-матку пряча за мундир, Десять лет солдатом помыкали. Нынче сам он бог и командир! Ты солдата не смягчишь слезами, Он еще свою покажет власть… Ведь недаром под его усами Горькая усмешка прижилась. У него своя игра с женою: Упредил и не шумит пока, Чтобы этой ложной тишиною, Как на фронте, Обмануть врага. Стоит лишь солдату отлучиться, Сделать вид, что конь его умчал, Харитон в окошко постучится… Так и вышло, Дед мой постучал. Глаша стук условный не забыла, Выбежала в сенцы в чем была. Торопливо двери отворила, В горницу, как прежде, провела. Не успел желанный гость раздеться, Не успел прижать ее к груди, Стук раздался… Никуда не деться. Может, кто другой? Пересиди. Вышла Глаша. Руки, леденея, Поступают с мыслями не в лад. Отворила. Вырос перед нею С прежнею усмешкою Игнат. Прошагал лениво мимо Глаши, Не сказав ни слова, не кивнув. Прошагал в передний угол, Даже В круглые глаза не заглянув. Он своей не изменил походки И спокойно, будто не был зол, Полную бутыль казенной водки Из кармана Выставил на стол. Шубу снял. И молвил тихо, странно, Словно пересиливая хворь: — Принеси-ка, Глаша, два стакана Да закуску малую спроворь. И легли, Храненные особо, На тарелку, Словно близнецы, В золотистых крапинках укропа Крепкого посола огурцы. Одарил улыбкою скупою, От которой набежала дрожь, Положил Игнат перед .собою Вместо вилки свой солдатский нож. И сказал, давая волю блажи: — Харитон! Не прячься, выходи. Посидел, помиловался с Глашей, А теперь со мною посиди!.. Поначалу будто и не слышал, А потом, намучившись в углу, Поразмыслил Харитон и вышел Из веселой горенки к столу. А Игнат полюбовался зельем И спросил, не торопясь разлить: — Что же, как жену с тобою делим, Так и водку поровну делить? Два стакана В тайном гореванье Разом над столом приподнялись. Стукнулись шлифованные грани, Звякнули — И мирно разошлись. Молча выпили по мере русской. Тут Игнат, недобрый глаз окосив, Острием ножа поддел закуску, Сунул в губы гостю: — Закуси!.. — Замер гость. И зубы сжались сами. Напрягая шею, не дыша, Огуречный ломтик он губами, Мускулом не дрогнув, снял с ножа. Гость жует. Игнат ему ни слова. С гневом, накопившимся в душе, Снова наливает он… И снова Подает закуску на ноже. — Закуси!.. — И снова испытанье, Но теперь в жестокой тишине Каждый слышит трудное дыханье Глаши, Прислонившейся к стене. Вновь полны стаканы. С третьим звоном, С третьим подношением ножа, Глаша на пол рухнула со стоном… Встал Игнат. — Ну, погостил — и ша!.. * * * Что теперь? Куда податься силе С первой сединою на висках? Самого поймали и скрутили, Как того, Царькова, рысака. После угощения солдата Стала Харитону жизнь тошна: Страшен был не острый нож Игната, А неволя Глашина страшна. Радость жизни обернулась пыткой. Харитону тоже нелегко… И с полатей дети — Мотька с Митькой С любопытством смотрят на него. Жаль их! Жаль… Но ни душой, ни телом Вновь он не приклеится к жене. Два куска железа, Что ни делай, Не сварить на маленьком огне. Так бы жил, Тяжелый и суровый, В чистоте любви непогрешим… Надоумил человек торговый, Ехавший с обозом на Ишим. Он сказал: Мол, зря тут держишь силу. В той сторонке, где встает заря, Набредешь на золотую жилу — И дойдешь, богатый, до царя. Сесть с тобою он сочтет за благо, — Золото и для царей не сор. Будешь кушать царскую кулагу И вести неспешный разговор. То да се… Поскольку он в короне, Так и быть уж, сделаешь поклон, Намекнешь о Глаше, о законе. Царь мигнет — И побоку закон. Пригревая, Шла весна полями, С появленьем первой теплоты Желтыми мохнатыми шмелями Вылупились вербные цветы. Шла весна Под спевку птичьих хоров, Осыпая почками кусты. Шла весна И с тихих косогоров Скапывала белые холсты. Вот и Пасха. Дни загорячели, Загуляли люди на селе, Закачались на яру качели. Кто плясал, кто пел навеселе. В пестроту дешевенького ситца, Невеселый, сдержанный в речах, Вышел Харитон С людьми проститься, Вынес Митьку с Мотькой на плечах. Нес их от лужайки до лужайки, Нес их к яру, выйдя на межу. — Ухожу! Детей не обижайте, Не от них — от горя ухожу… — Нес любимых, На себя похожих. И все трое — головы в поклон. — Тышша поманила, Харитоша? — Как услышал, замер Харитон И сказал, подняв детей повыше: — Вот моя тышша!.. И вот моя тышша!.. И ушел. Он был на это волен… Долго-долго, бледная с зимы, Глаша из-за тонких частоколин Все смотрела вслед, как из тюрьмы… Проводила тайными слезами, Пожелала, чтоб дошел до той, Где-то за горами и лесами Скрытой богом Жилы золотой. * * * Взяли жизнь Таежные химеры. Не ему везло — везло другим. Ни в одном краю миллионера Не встречали с именем таким. День за днем У памяти на страже, Верст на сотни вставшие подряд, Здесь, в тайге, И в Марьевке для Глаши Сосны одинаково шумят. Лунными Тревожными ночами Снится ей один и тот же сон: За рекой с неслышными речами Одиноко ходит Харитон. Дальний берег Залит лунным светом. Манит он ее, зовет: «Иди!..» А она на берегу на этом И никак не может перейти. Весть пришла: Живет он небогато, Не дается золото ему, И сбежала Глаша от Игната, Не во сне сбежала — Наяву. И никто не рассказал толково, Как ей отыскать любовь свою. Думала, красивого такого Разве же не знают в том краю! Мир огромен. Как под низкой тучей, Что черна была и тяжела, Шла Глафира по тайге дремучей, К Харитону шла — И не дошла… Но уже Решительно ступала Революция с ружьем в руке, Топором крестьянским прорубала Просеки в нехоженой тайге. Гордый дед мой, Натрудив ладони, Самородных жил не отворил, Но с царем о Глаше, О законе Все же Харитон поговорил. Верю: Вспоминая о Глафире, Шел он в бой… И где-то у Читы В павшем партизанском командире Признавали дедовы черты. 1957ДУСЯ КОВАЛЬЧУК
— Куда идет этот трамвай?
— На улицу Дуси Ковальчук.
Пора и в путь. А снег завел пургу, А снег замел Приобские овраги, И кровь друзей Алеет на снегу, Напоминая Созванные флаги. Простому люду Городских лачуг Ни с Колчаком, Ни с Гайдою Не спеться. И холодеет Дуся Ковальчук, Прислушиваясь К собственному сердцу. Легко ли, Ровно ли оно стучит? К нему потайно Из особой связки Партийным людям Розданы ключи В Москве, В Иркутске, В Омске, В Красноярске… Она их ждет. Она давно их ждет, Прикрывшись, Как броней, Подпольной кличкой. Не открывайся, Если кто придет Не с тем ключом, А с воровской отмычкой. * * * Выть может, шпик Уже следит, как рысь, И за тобой, И за твоей квартирой. Не забывайся! В зеркало глядись И на лице Смиренье репетируй. Но в зеркале: Считай на подлецов, Считай на Колчака и Гайду — Нате ж! Глядит из рамки Строгое лицо, Блестят глаза, Открытые не настежь. И взгляд такой — Увидел и продрог, Но захотеть — И можно улыбнуться, Сломать в глазах Обманчивый ледок, Тряхнуть косой — И в молодость вернуться. А молодость: Алтарь… Рука в руке… Угрюмый муж Ей вовсе не ровесник, Привел ее в свой дом И в сундуке Закрыл Ее девические песни. Хотелось жить не так, Как он мечтал, Хотелось петь, Смотреть на мир Без страха, А хмурый Федор Бога почитал И обожал Российского монарха. Он брал ее, Но сердца Взять не смог Ни ласкою, Ни скудною мечтою. А между тем любил И так берег, Как берегут Трудами нажитое. И вот она У зеркала пока, Смеется, Молодости повинуясь, Как будто Достает из сундука На черный день Припрятанную юность… * * * А в этот час В Кремле, Гоня озноб, То строгий и суровый, То азартный, Крутой, как глобус, Потирая лоб, Ильич склонился Над сибирской картой. Глядел и видел Мятежей огонь. Решительно, Как бы гоня виденья, Сказал, На карту опустив ладонь: — Сибирь не будет Русскою Вандеей! Там наш народ! — Добавил он, гордясь За тех, с кем жил, За те места лесные… — Усилить фронт! Да, Да… Удвоить связь! — И пошагали По снегам Связные. * * * Он долго шел, Терявшийся в ночах. Его, прошедшего И степь и горы, Жестоким именем: «Кол-чак!» «Кол-чак!» — Пугали оружейные Затворы. Луну, Что между тучами плыла, Ему убить хотелось Пулей меткой, Как будто та Подослана была На небо Колчаковской Контрразведкой. Не от нее ли, Чтоб не виден был, Пурга кромешной Переживши натиск, Снегами белыми Себя прикрыл И притаился Новониколаевск. Но вот и дом. Едва приметный след Ведет его к еде, К теплу, К покою. В нем свет горит, А может, этот свет Обманчив И зажжен не той рукою? И вот он в доме: С шапкою в руке Пытливо смотрит На хозяйку дома, На человека В мятом пиджаке, С угрюмым взглядом И усами сома. В печи дрова Приветливо горят, За дверцей виден Огонек косматый. — Вы комнату сдаете, говорят? — Да нет, кажись… — Бурчит ему усатый. Гость отступил Бледнее, чем стена, А Дуся слушала И примечала. — Да, мы сдаем! — Ответила она, И на душе связного Полегчало… * * * Судьба страны Качалась на весах, И на Сибирь Накатывались грозы, Где партизаны В пасмурных лесах Ковали пики И точили косы. Гневился Сухопарый адмирал, Теряя счет Потерям и утратам. Колчак огнем, Колчак петлей карал. Колчак устал Казаться демократом. Куда ни глянь — Снега, Снега, Снега!.. И дремлет городок, Как на подушках. И катит подо льдами Обь-река, Журчит под снегом Каменка-речушка… Из кабака Сквозь белые снега Летит, Поет На тройке с бубенцами Упившаяся дочка мясника, Не брезгуя Безусыми юнцами. Хранят, Прядут ушами рысаки, Хвосты и гривы Плещутся в полете. Чем безысходней Приступы тоски, Тем безутешней Душный праздник плоти. Горят подковы Золотым рублем, И снег блестит Растраченной казною. …Патруль! И Дуся Перед патрулем Прикинулась Ревнивою женою. Кричит связному: — Бабишься да пьешь! — Гляди ударит. — У-у, бесстыжий блудня! — Солдаты ржут. Знакомы до чего ж Им новониколаевские будни!.. Связной И Дуся в праздничном платке Шагают в дом На приовражном месте, Где Каменка Приносит Обь-реке И горькие И радостные вести. Связной? Она доверилась ему. А вдруг он боязлив И всех погубит? Нет-нет! И повела его к тому, Кого, как жизнь И как надежду, любит… Стучит в оконце. — Бабушка, встречай! — Настасья Шамшина, Гостей встречая, Хлопочет у стола. — Продрогли, чай? — И угощает их Морковным чаем. Дает сигнал, Три раза застя свет, Стоит большая, Скрыв к душе лазейки, Как будто весь Подпольный комитет Припрятала За теплой бумазейной. Борис вошел, На вид немолодой, Постриженный в кружок, Давно не бритый. Но Дуся знает: Русой бородой От лишних взглядов Молодость прикрыта. * * * Всегда в труде, К стихам он не привык. Но, как юнец, Что о любви мечтает, Суровый Бородатый большевик «Евгения Онегина» Читает. А рядом Дуся. Перед нею шифр На желтоватом Крохотном листочке. Условленный порядок Дробных цифр Обозначает строчки, Буквы в строчках. То загудит, То смолкнет бас густой На звучной рифме, На певучем слоге, Как будто Арифметикой простой Он выверяет Пушкинские строки. Поэзия, как музыка, легка! Борис придирчив К прожитому веку: Скупясь, Берет от каждого стиха Всего по букве — Тоже на поверку. Из вечных слов: Мечтать, Страдать, Любить, Как из живых корней, Пророс партийный Приказ родной Москвы: «Не медля, слить Отряды партизанские В единый». Глаза блестят, Но губы всё молчат, Большому чувству Слова не находят, А страстные стихи Звучат, Звучат… Они в крови Медовым хмелем бродят. Уже рассвет С бульвара ночь сметал, Когда она Застенчиво сказала: — Ты только что письмо В стихах читал… А знаешь… Это я тебе писала!.. * * * Играет в куклы Шустренькая дочь. Усталой Дусе Радостно и горько. Она и муж Почти, как день и ночь, А между ними — Маленькая зорька. Висячий ус Сердито теребя, Себя и Дусю Подозреньем муча, Он ходит, Половицами скрипя, Тяжел и хмур, Как грозовая туча. — Я знаю все!.. — Ему не по себе, Он постарел В предчувствии плохого. — Уймись, Тебя повесят на столбе, Тебя убьют, Как Сашку Петухова! Жена молчит. И что ответить ей? Глаза подкрашены Вечерней синью. Муж бережет Кубышку для детей, Она ж для них Добудет всю Россию. * * * На верность богу Давшие обет, Из всех щелей, Как черные букашки, Как тараканы черные, На свет Повыползли Монахи и монашки. Вокзал. Куда ни глянь — Везде Людская плоть, Как киснущее тесто. И все-таки Сестрице во Христе Штабс-капитан Предоставляет место. Присев, Не посмотрела, А прожгла. Подумал: «Не с картины ли известной Боярыня Морозова сошла, Чтоб показать, Как крестятся двуперсто. Ее не тиснешь, Не пожмешь руки, Не назовешь Красавицей и феей. Она читает Что-то от Луки, Она бормочет Что-то от Матфея». Мелькают Телеграфные столбы, Поскрипывают Ржавые рессоры, Глазищами Печальной Барабы Глядят на мир Соленые озера. Блестит на солнце. Белый солонец… И мнится, Не болотная водица, А кровь земли, Измученной вконец, Из травки зеленеющей Сочится. На гривках бродят Тощие стада, И версты, версты Долгих перегонов!.. Штабс-капитан: — Однако, господа, Как ни смешно, Дерзит Ивашка Громов. — Правитель недоволен. — Дело-с в том… — Пока в купе Беседуют любезно, Монашка Осеняется крестом И призывает Ангелов небесных. Но быстрый взгляд И еле слышный вздох — Все говорит К немалой славе беса, Что спутница — Да не осудит бог! — Не лишена Земного интереса… Встревожил Офицерские умы Полунамек Из Ветхого завета: — Ночь отойдет, Отринем дело тьмы… Наступит день, Возьмем оружье света… А вечером В столице Колчака Шумел начальник контрразведки, Зная, Что в город, Неизвестная пока, Проникла Большевистская связная. * * * Уже остуда Тронула леса, Утрами На пшенице перезрелой Все ярче Изумрудилась роса И радугой упавшею Горела. Рябина Красным соком налилась; Калина в гроздьях Вспыхивала жарко; Вся в красном, Словно кровью облилась, Вся в иглах Напружинилась боярка… А городами, Тайною тропой, Счет умножая Горестям и болям, Могилы Оставляя за собой, Предатель шел С изношенным паролем. И он пришел. Потухший спрятал взгляд, Сказал слова Уже не в прежней силе: — Вы комнату сдаете, говорят? И затоптался: — Вы меня забыли? Вся напряглась. Не позабыла. Нет. Но на лице его Чужая метка. В глазах почти Неуловимый след, Который оставляет Контрразведка. Душа чужая — Темный, темный лес. И верх взяла Подпольная привычка. Не открывайся! Он к тебе прилез Не с тем ключом, А с воровской отмычкой. Но черный гость стоял, Не уходил, Не унимался, Неизменно слыша: — Я вас не знаю. — Я же Михаил. — Я вас совсем не знаю. — Я же Миша. А через час Увидела в окне И поняла, От страха цепенея, Что был он, Этот Миша, заодно С фискалами, Следившими за нею; Что смерть Приставлена к ее душе, И та стоит, Жестокая, немая. И стало зябко, Будто бы уже Попала в сердце Пуля ледяная… Но есть Родившееся не в тиши, А в боевой Извечной круговерти Такое свойство Молодой души: Идя на смерть, Не верить В силу смерти. И мысль одна: Угрозу отвести, Предупредить, Любимого спасти!.. Но как уйти? И, напрягая взгляд, Она в окно, Смиряя сердца стуки, Глядит: Стоят. Еще глядит: Стоят. И в пятый раз глядит: Стоят, бандюги! * * * Обычный дом. В обычном доме том Прутьем железным Забраны окошки, А в нем поручик С плотоядным ртом, Как пума За минуту до кормежки. Итак, Монашку удалось поймать. Хитра, ловка, Продаст и перекупит. Могла бы улизнуть… Но дочка… Мать! Муж мог бы донести… Нет. Значит, любит. Муж стар И для подпольщика ленив. Она красива, Молода, Игрива… Он хмур. Ревнив. А может, не ревнив? Э-э, черт возьми, Все старики ревнивы! «Ты, — рассуждает, — Злобу усыпи, Ты помоги Заблудшим отогреться. Не бурей будь В барабинской степи, А солнцем, Предлагающим раздеться. Она же баба. Мало ль на Руси Позанесло бабенок В вихрь событий! А ты не горячись, Ты пригласи Да расспроси…» И заорал: — Введите! Вошла, Не плача, Даже не грустя, Лишь на душе Невидимая хмара. — Прошу-с, присядьте. Будьте, как в гостях. — Она в ответ: — Не вижу самовара! — Ого! — заулыбался офицер. Запритворялся, Приторно восторжен, Что он эсер, Сторонник мягких мер. — Я даже друг ваш! — Что-то не похоже. На скулах Заходили желваки, Перекосилась Морда офицерья. — Проклятые большевики! Не понимают Нашего доверья! Довольно! — Завопил противник зла, Поборник правды, Из терпенья выйдя. — Монашкою, цыганкою была!.. Теперь увидим В натуральном виде! Бывал он страшен, Если под ремнем, Под шомполами, Отвергая милость, Не признавая Человека в нем, Не проявлялась Женская стыдливость. Над Дусею Все злее взлет хлыста, Ходившего Змеиными кругами. Поручику И ум и красота Давно казались Личными врагами. Не лебеди, Но час и два подряд На белых крыльях Из глубин бездонных Приподнялись над миром И летят, Летят Нечеловеческие стоны. * * * А люди жили… Плыли облака, Рождался век У вечности-старушки, Тяжелая катилась Обь-река, Легко журчала Каменка-речушка. И каждый человек По мере сил Куда-то нес Свою земную участь. Все красных ждали. Даже Михаил Чего-то ждал, Судьбой Иуды мучась. Переполнялась Холодом душа. С Уральских гор В сибирскую равнину, И гневом И, возмездием дыша, Катилась Краснозвездная лавина. Давно ли он Горел ее огнем И в бой ходил, Перед врагом не труся. Чего? Чего же не хватило в нем, Чтоб крепкой волей Походить на Дусю? И жалок был Мятущийся фискал, Теряющий Надежду человечью, Предав одних, Он снова жертв искал, И те, кого искал, Пошли навстречу. В лесной сторожке, Шарить — не найдешь, Его же друг, Не знавший чувства мести, Предателю Всадил под сердце нож По праву дружбы И по долгу чести. * * * А осень шла. Пылал соседний сад. Кленовый лист, Предчуя непогоду, Влетел в тюрьму, Как золотой мандат, Как пропуск На желанную свободу. И каждый понимал: Пока что жил. И каждый С жестких нар приподнимался… А пятипалый лист Порхал, Кружил И никому В ладони не давался. Влетел другой… Лежи. Терпи. Молчи. Запрячь подальше Мысли дорогие… Стучат шаги. В дверях гремят ключи, Гнусавит надзиратель: — Евдокия… — Эй, Ковальчук! — Торопят голоса. Что окрик ей, Когда весь день упрямо, Сироткою, Раздета и боса, Дочурка ее мерзнет: — Мама! Мама!.. И тянется к решетке: — Я боюсь!.. — Мать говорить Старается с задором: — Не бойся, доча, Я к тебе вернусь… — А скоро, мама? — Скоро, доча, скоро! Есть, Есть Родившееся не в тиши, А в боевой Извечной круговерти Святое свойство Молодой души: Идя на смерть, Не верить В силу смерти! 1957




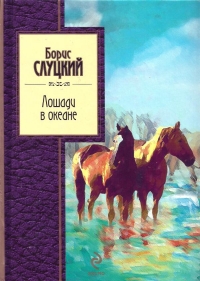
Комментарии к книге «Том 2», Василий Дмитриевич Фёдоров
Всего 0 комментариев