Владимир Владимирович Маяковский Во весь голос (сборник)
© ООО «Издательство АСТ», 2016
Стихотворения
Ночь
Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.
Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.
Толпа – пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.
Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жесть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.
1912Утро
Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов —
перина.
И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги.
Но ги-
бель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных проституток.
И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.
1912Порт
Просты́ни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы – как будто лили
любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В углах оглохших пароходов
горели серьги якорей.
1912Из улицы в улицу
У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоеваны!
Ванны.
Души.
Лифт.
Лиф души расстегнули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» —
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клок.
Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.
1913А вы могли бы?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
1913Вывескам
Читайте железные книги!
Под флейту золо́ченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.
А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.
Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!
1913Я
1
По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле о́блака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
ра́спяты
городовые.
2 Несколько слов о моей жене
Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий
пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.
А я?
Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.
В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?
В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.
В бульварах я тону, тоской песков овеян:
ведь это ж дочь твоя —
моя песня
в чулке ажурном
у кофеен!
3 Несколько слов о моей маме
У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца, —
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»
4 Несколько слов обо мне самом
Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал гро́ба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется
дорогою дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»
1913От усталости
Земля!
Дай исцелую твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.
Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.
Ты! Нас – двое,
ораненных, загнанных ланями,
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.
Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.
Сестра моя!
В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.
Квакая, скачет по полю
канава, зеленая сыщица,
нас заневолить
веревками грязных дорог.
1913Любовь
Девушка пугливо куталась в болото,
ширились зловеще лягушечьи мотивы,
в рельсах колебался рыжеватый кто-то,
и укорно в буклях проходили локомотивы.
В облачные па́ры сквозь солнечный угар
врезалось бешенство ветряно́й мазурки,
и вот я – озноенный июльский тротуар,
а женщина поцелуи бросает – окурки!
Бросьте города, глупые люди!
Идите голые лить на солнцепеке
пьяные вина в меха-груди,
дождь-поцелуи в угли-щеки.
1913Адище города
Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки́.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.
А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.
В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.
И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.
1913Нате!
Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.
А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот.
1913Послушайте!
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плево́чки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полу́денной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную му́ку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!
1914А все-таки
Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река – сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.
Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно – у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.
Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я – ваш поэт.
Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.
И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова – судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой,
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.
1914Скрипка и немножко нервно
Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне – наплевать!
Я – хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»
1914Я и Наполеон
Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.
Ну?
Кажется – какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?
Ночь пришла.
Хорошая.
Вкрадчивая.
И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному
изголовью
припала, – набитый слезами куль, —
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!
Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца, —
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!
Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!
Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!
Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица!
Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я – Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и – он!
Он раз чуме приблизился троном,
смелостью смерть поправ, —
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто, —
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!
За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лица!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!
Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней, —
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!
1915Вам!
Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!
Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..
Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!
Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!
1915Эй!
Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?
Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.
Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.
Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.
Смотри, какой ты ловкий,
а я —
вон у меня рука груба как.
Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.
Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предку
туда
отправила шпаги логика.
А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.
И, наконец, ощетинясь, как еж,
с похмельем придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.
Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцирь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.
Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.
Эй!
Человек,
землю саму
зови на вальс!
Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.
1916Ко всему
Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо —
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!
Белый,
сшатался с пятого этажа.
Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлазил рожок на рожок.
Вознес над суетой столичной одури
строгое —
древних икон —
чело.
На теле твоем – как на смертном о́дре —
сердце
дни
кончило.
В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».
Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотри́те —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!
Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Мааарррааала!»
Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!
Довольно!
Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную, —
души не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!
Око за око!
Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!
Око за око!
Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие по́том и базаром.
Ночью вско́чите!
Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.
Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.
Не уйти человеку!
Молитва у рта, —
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лике Разина.
Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!
И когда,
наконец,
на веков верхи́ став,
последний выйдет день им, —
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!
Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.
Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!
Грядущие люди!
Кто вы?
Вот – я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.
1916Лиличка!
Вместо письма
Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умо́рят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек…
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.
26 мая 1916 г., ПетроградНадоело
Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.
За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.
Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
наз-зад,
назад!»
Страх орет из сердца,
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.
Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.
Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицего розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.
Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»
Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало и́наче:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.
Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?
Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев
покрою
умную морду трамвая.
В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?
Для истории
Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.
1916Дешевая распродажа
Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.
Смешные!
С нищих —
что с них сжулить?
Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Мо́рган.
Через столько-то, столько-то лет
– словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора́ разучат до последних иот,
как,
когда,
где явлен.
Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.
Скло́нится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.
Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.
Я – пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.
Слушайте ж:
все, чем владеет моя душа,
– а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклоненных соберет мировое вече, —
все это – хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.
Люди!
Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде
на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.
За человечье слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй, —
как же,
найдешь его!
1916Себе, любимому,
посвящает эти строки автор
Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю – богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?
Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!
О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.
Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.
О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.
Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!
Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи́,
бредово́й,
недужной,
какими Голиафами я зача́т —
такой большой
и такой ненужный?
1916России
Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.
Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.
Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.
Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яйца?» —
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».
Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.
1916Революция Поэтохроника
26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.
27-е.
Разли́лся по блеснам дул и лезвий
рассвет.
Рдел багрян и до́лог.
В промозглой казарме
суровый
трезвый
молился Волынский полк.
Жестоким
солдатским богом божились
роты,
бились об пол головой многолобой.
Кровь разжигалась, висками жилясь.
Руки в железо сжимались злобой.
Первому же,
приказавшему —
«Стрелять за голод!» —
заткнули пулей орущий рот.
Чье-то – «Смирно!»
Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.
9 часов.
На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградою.
Рассвет растет,
сомненьем колет,
предчувствием страша и радуя.
Окну!
Вижу —
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.
Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
по́ сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.
И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.
Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,
вот она:
«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»
На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.
Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.
Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырычут!
Горе двуглавому!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.
Площади плещут.
На крохотном «форде»
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.
В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженых барж,
над баррикадами
плывет, громыхая, марсельский марш.
Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.
Что будет?
Их ли из окон выломим,
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!
Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.
Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.
Еще!
О, еще!
О, ярче учи, красноязыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!
Смерть двуглавому!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
подбитые падают городовые.
Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.
Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда! —
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.
Смерть двуглавому!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не о́жил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! – вцепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!»
Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.
Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!
Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.
Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.
Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух – наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных
копий.
Чья злоба на́двое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Или солнца
одного
на всех ма́ло?!
Или небо над нами мало́ голубое?!
Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.
Не трусость вопит под шинелью серою,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного гро́мовое:
– Верую
величию сердца человечьего! —
Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!
17 апреля 1917 г., Петроград«Ешь ананасы, рябчиков жуй…»
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй.
1917Наш марш
Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.
Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.
Есть ли наших золот небесней?
Нас ли сжалит пули оса?
Наше оружие – наши песни.
Наше золото – звенящие голоса.
Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням.
Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.
Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша – медь литавр.
1917Ода революции
Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
«О»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человечий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборовы
тщетно возносит, пощаду моля, —
твоих шестидюймовок тупорылые боровы
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава».
Хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
– о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово
– о, четырежды славься, благословенная!
1918Приказ по армии искусства
Канителят стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады! —
баррикады сердец и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!
Паровоз построить мало —
накрутил колес и утек.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?
Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.
Это мало – построить па́рами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащи́те рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскроя́ ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что – корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы – наши кисти.
Площади – наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!
1918Радоваться рано
Будущее ищем.
Исходили вёрсты торцов.
А сами
расселились кладби́щем,
придавлены плитами дворцов.
Белогвардейца
найдете – и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли вы?
Время
пулям
по стенке музеев тенькать.
Стодюймовками глоток старье расстреливай!
Сеете смерть во вражьем стане.
Не попадись, капитала наймиты.
А царь Александр
на площади Восстаний
стоит?
Туда динамиты!
Выстроили пушки по опушке,
глухи к белогвардейской ласке.
А почему
не атакован Пушкин?
А прочие
генералы классики?
Старье охраняем искусства именем.
Или
зуб революций ступился о короны?
Скорее!
Дым развейте над Зимним —
фабрики макаронной!
Попалили денек-другой из ружей
и думаем —
старому нос утрем.
Это что!
Пиджак сменить снаружи —
мало, товарищи!
Выворачивайтесь нутром!
1918Поэт рабочий
Орут поэту:
«Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось работать – кишка тонка».
Может быть,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,
то, может,
мне
без труб труднее.
Знаю,
не любите праздных фраз вы.
Ру́бите дуб – работать дабы.
А мы
не деревообделочники разве?
Голов людских обделываем дубы.
Конечно,
почтенная вещь – рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!
Но труд поэтов – почтенный паче —
людей живых ловить, а не рыб.
Огромный труд – гореть над горном,
железа шипящие класть в закал.
Но кто же
в безделье бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше – поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца – такие ж моторы.
Душа – такой же хитрый двигатель.
Мы равные.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов —
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.
1918Той стороне
Мы
не вопль гениальничанья —
«все дозволено»,
мы
не призыв к ножовой расправе,
мы
просто
не ждем фельдфебельского
«вольно!»,
чтоб спину искусства размять,
расправить.
Гарцуют скелеты всемирного Рима
на спинах наших.
В могилах мало́ им.
Так что ж удивляться,
что непримиримо
мы
мир обложили сплошным «долоем».
Характер различен.
За целость Венеры вы
готовы щадить веков камарилью.
Вселенский пожар размочалил нервы.
Орете:
«Пожарных!
Горит Мурильо!»
А мы —
не Корнеля с каким-то Расином —
отца, —
предложи на старье меняться, —
мы
и его
обольем керосином
и в улицы пустим —
для иллюминаций.
Бабушка с дедушкой.
Папа да мама.
Чинопочитанья проклятого тина.
Лачуги рушим.
Возносим дома мы.
А вы нас —
«ловить арканом картинок?!»
Мы
не подносим —
«Готово!
На блюде!
Хлебайте сладкое с чайной ложицы!»
Клич футуриста:
были б люди —
искусство приложится.
В рядах футуристов пусто.
Футуристов возраст – призыв.
Изрубленные, как капуста,
мы войн,
революций призы.
Но мы
не зовем обывателей гроба.
У пьяной,
в кровавом пунше,
земли —
смотрите! —
взбухает утроба.
Рядами выходят юноши.
Идите!
Под ноги —
топчите ими —
мы
бросим
себя и свои творенья.
Мы смерть зовем рожденья во имя.
Во имя бега,
паренья,
реянья.
Когда ж
прорвемся сквозь заставы,
и праздник будет за болью боя, —
мы
все украшенья
расставить заставим —
любите любое!
1918Левый марш
(Матросам)
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!
Там
за горами го́ря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат на́нятой,
стальной изливаются ле́евой, —
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!
Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
1918С товарищеским приветом, Маяковский
Дралось
некогда
греков триста
сразу с войском персидским всем.
Так и мы.
Но нас,
футуристов,
нас всего – быть может – семь.
Тех
нашли у истории в пылях.
Подсчитали
всех, кто сражен.
И поют
про смерть в Фермопилах.
Восхваляют, что лез на рожон.
Если петь
про залезших в щели,
меч подъявших
и павших от, —
как не петь
нас,
у мыслей в ущелье,
не сдаваясь, дерущихся год?
Слава вам!
Для посмертной лести
да не словит вас смерти лов.
Неуязвимые, лезьте
по скользящим скалам слов.
Пусть
хотя б по капле,
по́ две
ваши души в мир вольются
и растят
рабочий подвиг,
именуемый
«Революция».
Поздравители
не хлопают дверью?
Им
от страха
небо в овчину?
И не надо.
Сотую —
верю! —
встретим годовщину.
1919Мы идем
Кто вы?
Мы
разносчики новой веры,
красоте задающей железный тон.
Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,
в небеса шарахаем железобетон.
Победители,
шествуем по свету
сквозь рев стариков злючий.
И всем,
кто против,
советуем
следующий вспомнить случай.
Раз
на радугу
кулаком
замахнулся городовой:
– чего, мол, меня нарядней и чище! —
а радуга
вырвалась
и давай
опять сиять на полицейском кулачище.
Коммунисту ль
распластываться
перед тем, кто старей?
Беречь сохранность насиженных мест?
Это революция
и на Страстном монастыре
начертила:
«Не трудящийся не ест».
Революция
отшвырнула
тех, кто
рушащееся
оплакивал тысячью родов,
ибо знает:
новый грядет архитектор —
это мы,
иллюминаторы завтрашних городов.
Мы идем
нерушимо,
бодро.
Эй, двадцатилетние!
взываем к вам.
Барабаня,
тащите красок вёдра.
Заново обкрасимся.
Сияй, Москва!
И пускай
с газеты
какой-нибудь выродок
сражается с нами
(не на смерть, а на живот).
Всех младенцев перебили по приказу Ирода;
а молодость,
ничего —
живет.
1919Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче
(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)
В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце а́ло.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут – не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
– Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь – и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты – свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг – я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!
1920Отношение к барышне
Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам? —
темно,
никто не увидит нас.
Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры».
1920«Портсигар в траву…»
Портсигар в траву
ушел на треть.
И как крышка
блестит
наклонились смотреть
муравьишки всяческие и травишка.
Обалдело дивились
выкрутас монограмме,
дивились сиявшему серебром
полированным,
не стоившие со своими морями и горами
перед делом человечьим
ничего ровно.
Было в диковинку,
слепило зрение им,
ничего не видевшим этого рода.
А портсигар блестел
в окружающее с презрением:
– Эх, ты, мол,
природа!
1920Последняя страничка гражданской войны
Слава тебе, краснозвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи, —
телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою, —
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава, —
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!
1920–1921О дряни
Слава. Слава, Слава героям!!!
Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.
Утихомирились бури революционных лон
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.
(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)
Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.
Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.
И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.
Маркс со стенки смотрел, смотрел…
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»
1920–1921Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе
Сапоги почистить – 1 000 000.
Состояние!
Раньше б дом купил —
и даже неплохой.
Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.
Дернул меня черт
писать один отчет.
«Что это такое?» —
спрашивает с тоскою
машинистка.
Ну, что отвечу ей?!
Черт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.
Недавно уверяла одна дура,
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температура
Так привыкли к этаким числам,
что меньше сажени число и не мыслим.
И нам,
если мы на митинге ревем,
рамки арифметики, разумеется, у́зки —
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае – масштаб общерусский.
«Электрификация?!» – масштаб всероссийский.
«Чистка!» – во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.
Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь.
Балансируя
– четырехлетний навык! —
тащусь меж канавищ,
канав,
канавок.
И то
– на лету вспоминая маму —
с размаху
у почтамта
плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку на́ бок.
Что бабе масштаб грандиозный наш?!
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меня
и власти крыла.
Правдив и свободен мой вещий язык
и с волей советскою дружен,
но, натолкнувшись на эти низы,
даже я запнулся, сконфужен.
Я
на сложных агитвопросах рос,
а вот
не могу объяснить бабе,
почему это
о грязи
на Мясницкой
вопрос
никто не решает в общемясницком масштабе?!
1921Приказ № 2 армии искусств
Это вам —
упитанные баритоны —
от Адама
до наших лет,
потрясающие театрами именуемые притоны
ариями Ромеов и Джульетт.
Это вам —
центры[1],
раздобревшие как кони,
жрущая и ржущая России краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому драконя
цветочки и телеса.
Это вам —
прикрывшиеся листиками мистики,
лбы морщинками изрыв —
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.
Это вам —
на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти – лак,
пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.
Это вам —
пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся,
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.
Вам говорю
я —
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!
Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мелехлюндии
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что – «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным…»?
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.
Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»
У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»
Пока канителим, спорим,
смысл сокровенный ища:
«Дайте нам новые формы!» —
несется вопль по вещам.
Нет дураков,
ждя, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.
Товарищи,
дайте новое искусство —
такое,
чтобы выволочь республику из грязи́.
1921Прозаседавшиеся
Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Оне на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
1922Моя речь на Генуэзской конференции
Не мне российская делегация вверена.
Я —
самозванец на конференции Генуэзской.
Дипломатическую вежливость товарища Чичерина
дополню по-моему —
просто и резко.
Слушай!
Министерская компанийка!
Нечего заплывшими глазками мерцать.
Сквозь фраки спокойные вижу —
паника
трясет лихорадкой ваши сердца.
Неужели
без смеха
думать в силе,
что вы
на конференцию
нас пригласили?
В штыки бросаясь на Перекоп идти,
мятежных склоняя под красное знамя,
трудом сгибаясь в фабричной копоти, —
мы знали —
заставим разговаривать с нами.
Не просьбой просителей язык замер,
не нищие, жмурящиеся от господского света, —
мы ехали, осматривая хозяйскими глазами
грядущую
Мировую Федерацию Советов.
Болтают язычишки газетных строк:
«Испытать их сначала…»
Хватили лишку!
Не вы на испытание даете срок —
а мы на время даем передышку.
Лишь первая фабрика взвила дым —
враждой к вам
в рабочих
вспыхнули души.
Слюной ли речей пожары вражды
на конференции
нынче
затушим?!
Долги наши,
каждый медный грош,
считают «Матэны»,
считают «Таймсы».
Считаться хотите?
Давайте!
Что ж!
Посчитаемся!
О вздернутых Врангелем,
о расстрелянном,
о заколотом
память на каждой крымской горе.
Какими пудами
какого золота
опла́тите это, господин Пуанкаре?
О вашем Колчаке – Урал спроси́те!
Зверством – аж горы вгонялись в дрожь.
Каким золотом —
хватит ли в Сити?! —
опла́тите это, господин Ллойд-Джордж?
Вонзите в Волгу ваше зрение:
разве этот
голодный ад,
разве это
мужицкое разорение —
не хвост от ваших войн и блокад?
Пусть
кладби́щами голодной смерти
каждый из вас протащится сам!
На каком —
на железном, что ли, эксперте
не встанут дыбом волоса?
Не защититесь пунктами резолюций-плотин.
Мировая —
ночи пальбой веселя —
революция будет —
и велит:
«Плати
и по этим российским векселям!»
И розовые краснеют мало-помалу.
Тише!
Не дыша!
Слышите
из Берлина
первый шаг
трех Интернационалов?
Растя единство при каждом ударе,
идем.
Прислушайтесь —
вздрагивает здание.
Я кончил.
Милостивые государи,
можете продолжать заседание.
1922Германия
Германия —
это тебе!
Это не от Рапалло.
Не наркомвнешторжьим я расчетам внял.
Никогда,
никогда язык мой не трепала
комплиментщины официальной болтовня.
Я не спрашивал,
Вильгельму,
Николаю прок ли, —
разбираться в дрязгах царственных не мне.
Я
от первых дней
войнищу эту проклял,
плюнул рифмами в лицо войне.
Распустив демократические слюни,
шел Керенский в орудийном гуле.
С теми был я,
кто в июне
отстранял
от вас
нацеленные пули.
И когда, стянув полков ободья,
сжали горла вам французы и британцы,
голос наш
взвивался песней о свободе,
руки фронта вытянул брататься.
Сегодня
хожу
по твоей земле, Германия,
и моя любовь к тебе
расцветает романнее и романнее.
Я видел —
цепенеют верфи на Одере,
я видел —
фабрики сковывает тишь.
Пусть, —
не верю,
что на смертном одре
лежишь.
Я давно
с себя
лохмотья наций скинул.
Нищая Германия,
позволь
мне,
как немцу,
как собственному сыну,
за тебя твою распе́снить боль.
Париж
(Разговорчики с Эйфелевой башней)
Обшаркан мильоном ног.
Исшелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица,
до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня —
из зверорыбьих морд —
еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde[2].
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слежкою ума́яна,
ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана.
– Т-ш-ш-ш,
башня,
тише шлепайте! —
увидят! —
луна – гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,
ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу):
– Я разагитировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем.
Башня —
хотите возглавить восстание?
Башня —
мы
вас выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских вирш.
Для вас
не место – место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились,
метро со мною —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют —
кровью смоют
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились —
не ими литься
вагонам богатых.
Они не рабы!
Они убедились —
им
более к лицам
наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня —
улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт —
грунт
исполосуют рельсы.
Я подымаю рельсовый бунт.
Боитесь?
Трактиры заступятся стаями?
Боитесь?
На помощь придет Рив-гош[3].
Не бойтесь!
Я уговорился с мостами.
Вплавь
реку
переплыть
не легко ж!
Мосты,
распалясь от движения злого,
подымутся враз с парижских боков.
Мосты забунтуют.
По первому зову —
прохожих ссыпят на камень быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам невмоготу.
Пройдет
пятнадцать лет
иль двадцать,
обдрябнет сталь,
и сами
вещи
тут
пойдут
Монмартрами на ночи продаваться.
Идемте, башня!
К нам!
Вы —
там,
у нас,
нужней!
Идемте к нам!
В блестенье стали,
в дымах —
Мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.
Идем в Москву!
У нас
в Москве
простор.
Вы
– каждой! —
будете по улице иметь.
Мы
будем холить вас:
раз сто
за день
до солнц расчистим вашу сталь и медь.
Пусть
город ваш,
Париж франтих и дур,
Париж бульварных ротозеев,
кончается один, в сплошной складбищась Лувр,
в старье лесов Булонских и музеев.
Вперед!
Шагни четверкой мощных лап,
прибитых чертежами Эйфеля,
чтоб в нашем небе твой израдиило лоб,
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!
Решайтесь, башня, —
нынче же вставайте все,
разворотив Париж с верхушки и до низу!
Идемте!
К нам!
К нам, в СССР!
Идемте к нам —
я
вам достану визу!
1923Мы не верим!
Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.
Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.
Разве гром бывает немотою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!
Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионосильной воле РКП.
Разве жар
такой
термометрами меряется?!
Разве пульс
такой
секундами гудит?!
Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.
Нет!
Нет!
Не-е-т…
Не хотим,
не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних
сгинь, навязчивая тень!
1923Весенний вопрос
Страшное у меня горе.
Вероятно —
лишусь сна.
Вы понимаете,
вскоре
в РСФСР
придет весна.
Сегодня
и завтра
и веков испокон
шатается комната —
солнца пропойца.
Невозможно работать.
Определенно обеспокоен.
А ведь откровенно говоря —
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$совершенно не из-за чего беспокоиться.
Если подойти серьезно —
так-то оно так.
Солнце посветит —
и пройдет мимо.
А вот попробуй —
от окна оттяни кота.
А если и животное интересуется улицей,
то мне
это —
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$просто необходимо.
На улицу вышел
и встал в лени я,
не в силах…
не сдвинуть с места тело.
Нет совершенно
ни малейшего представления,
что ж теперь, собственно говоря, делать?!
И за шиворот
и по носу
каплет безбожно.
Слушаешь.
Не смахиваешь.
Будто стих.
Юридически —
куда хочешь идти можно,
но фактически —
сдвинуться
никакой возможности.
Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
могу
доказать:
«самогон – большое зло».
А что про это?
Чем про это?
Ну нет совершенно никаких слов.
Например:
город советские служащие искра́пили,
приветствуй весну,
ответь салютно!
Разучились —
нечем ответить на капли.
Ну, не могут сказать —
ни слова.
Абсолютно!
Стали вот так вот —
смотрят рассеянно.
Наблюдают —
скалывают дворники лед.
Под башмаками вода.
Бассейны.
Сбоку брызжет.
Сверху льет.
Надо принять какие-то меры.
Ну, не знаю что, —
например:
выбрать день
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$самый синий,
и чтоб на улицах
улыбающиеся милиционеры
всем
в этот день
раздавали апельсины.
Если это дорого —
можно выбрать дешевле,
проще.
Например:
чтоб старики,
безработные,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$неучащаяся детвора
в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$площади,
троекратно кричали б:
ура!
ура!
ура!
Ведь все другие вопросы
более или менее ясны́.
И относительно хлеба ясно,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$теперь же урегулировать.
1923Универсальный ответ
Мне
надоели ноты —
много больно пишут что-то.
Предлагаю
без лишних фраз
универсальный ответ —
всем зараз.
Если
нас
вояка тот или иной
захочет
спровоцировать войной, —
наш ответ:
нет!
А если
даже в мордобойном вопросе
руку протянут —
на конференцию, мол,
просим, —
всегда
ответ:
да!
Если
держава
та или другая
ультиматумами пугает, —
наш ответ:
нет!
А если,
не пугая ультимативным видом,
просят:
– Заплатим друг другу по обидам, —
всегда
ответ:
да!
Если
концессией
или чем прочим
хотят
на шею насесть рабочим, —
наш ответ:
нет!
А если
взаимно,
вскрыв мошну тугую,
предлагают:
– Давайте
честно поторгуем! —
всегда
ответ:
да!
Если
хочется
сунуть рыло им
в то,
кого судим,
кого милуем, —
наш ответ:
нет!
Если
просто
попросят
одолжения ради —
простите такого-то —
дурак-дядя, —
всегда
ответ:
да!
Керзон,
Пуанкаре,
и еще кто́ там?!
Каждый из вас
пусть не поленится
и, прежде
чем испускать зряшние ноты,
прочтет
мое стихотвореньице.
1923Киев
Лапы елок,
лапки,
лапушки…
Все в снегу,
а теплые какие!
Будто в гости
к старой,
старой бабушке
я
вчера
приехал в Киев.
Вот стою
на горке
на Владимирской.
Ширь вовсю —
не вымчать и перу!
Так
когда-то,
рассиявшись в выморозки,
Киевскую
Русь
оглядывал Перун.
А потом —
когда
и кто,
не помню толком,
только знаю,
что сюда вот
по́ льду,
да и по воде,
в порогах,
волоком —
шли
с дарами
к Диру и Аскольду.
Дальше
било солнце
куполам в литавры.
– На колени, Русь!
Согнись и стой. —
До сегодня
нас
Владимир гонит в лавры.
Плеть креста
сжимает
каменный святой.
Шли
из мест
таких,
которых нету глуше, —
прадеды,
прапрадеды
и пра пра пра!..
Много
всяческих
кровавых безделушек
здесь у бабушки
моей
по берегам Днепра.
Был убит
и снова встал Столыпин,
памятником встал,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$вложивши пальцы в китель.
Снова был убит,
и вновь
дрожали липы
от пальбы
двенадцати правительств.
А теперь
встают
с Подола
дымы,
ижевская грудь
гудит,
котлами грета.
Не святой уже —
другой,
земной Владимир
крестит нас
железом и огнем декретов.
Даже чуть
зарусофильствовал
от этой шири!
Русофильство,
да другого сорта.
Вот
моя
рабочая страна,
одна
в огромном мире.
– Эй!
Пуанкаре!
возьми нас?..
Черта!
Пусть еще
последний,
старый батька
содрогает
плачем
лавры звонницы.
Пусть
еще
врезается с Крещатика
волчий вой:
«Даю-беру червонцы!»
Наша сила —
правда,
ваша —
лаврьи звоны.
Ваша —
дым кадильный,
наша —
фабрик дым.
Ваша мощь —
червонец,
наша —
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$стяг червонный.
– Мы возьмем,
займем
и победим.
Здравствуй
и прощай, седая бабушка!
Уходи с пути!
скорее!
ну-ка!
Умирай, старуха,
спекулянтка,
на́божка.
Мы идем —
ватага юных внуков!
1924Ух, и весело!
О скуке
на этом свете
Гоголь
говаривал много.
Много он понимает —
этот самый ваш
Гоголь!
В СССР
от веселости
стонут
целые губернии и волости.
Например,
со смеха
слёзы потопом
на крохотном перегоне
от Киева до Конотопа.
Свечи
кажут
язычьи кончики.
11 ночи.
Сидим в вагончике.
Разговор
перекидывается сам
от бандитов
к Брынским лесам.
Остановят поезд —
минута паники.
И мчи
в Москву,
укутавшись в подштанники.
Осоловели;
поезд
темный и душный,
и легли,
попрятав червонцы
в отдушины.
4 утра.
Скок со всех ног.
Стук
со всех рук:
«Вставай!
Открывай двери!
Чай, не зимняя спячка.
Не медведи-звери!»
Где-то
с перепугу
загрохотал наган,
у кого-то
в плевательнице
застряла нога.
В двери
новый стук
раздраженный.
Заплакали
разбуженные
дети и жены.
Будь что будет…
Жизнь —
на ниточке!
Снимаю цепочку,
и вот…
Ласковый голос:
«Купите открыточки,
пожертвуйте
на воздушный флот!»
Сон
еще
не сошел с сонных,
ищут
радостно
карманы в кальсонах.
Черта
вытащишь
из голой ляжки.
Наконец,
разыскали
копеечные бумажки.
Утро,
вдали
петухи пропели…
– Через сколько
лет
соберет он на пропеллер?
Спрашиваю,
под плед
засовывая руки:
– Товарищ сборщик,
есть у вас внуки?
– Есть, —
говорит.
– Так скажите
внучке,
чтоб с тех собирала,
– на ком брючки.
А этаким способом
– через тысячную ночку —
соберете
разве что
на очки летчику. —
Наконец,
задыхаясь от смеха,
поезд
взял
и дальше поехал.
К чему спать?
Позевывает пассажир.
Сны эти
только
нагоняют жир.
Человеческим
происхождением
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ гордятся простофили.
А я
сожалею,
что я
не филин.
Как филинам полагается,
не предаваясь сну,
ждал бы
сборщиков,
влезши на сосну.
1924Комсомольская
Смерть —
не сметь!
Строит,
рушит,
кроит
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
говорит,
молчит
и ревет —
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
нить.
Ленин —
жил,
Ленин —
жив,
Ленин —
будет жить.
Залили горем.
Свезли в мавзолей
частицу Ленина —
тело.
Но тленью не взять —
ни земле,
ни золе —
первейшее в Ленине —
дело.
Смерть,
косу положи!
Приговор лжив.
С таким
небесам
не блажить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
Ленин —
жив
шаганьем Кремля —
вождя
капиталовых пленников.
Будет жить,
и будет
земля
гордиться именем:
Ленинка.
Еще
по миру
пройдут мятежи —
сквозь все межи
коммуне
путь проложить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
К сведению смерти,
старой карги,
гонящей в могилу
и старящей:
«Ленин» и «Смерть» —
слова-враги.
«Ленин» и «Жизнь» —
товарищи.
Тверже
печаль держи.
Грудью
в горе прилив.
Нам —
не ныть.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
Ленин рядом.
Вот
он.
Идет
и умрет с нами.
И снова
в каждом рожденном рожден —
как сила,
как знанье,
как знамя.
Земля,
под ногами дрожи.
За все рубежи
слова —
взвивайтесь кружить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
Ленин ведь
тоже
начал с азов, —
жизнь —
мастерская геньина.
С низа лет,
с класса низов —
рвись
разгромадиться в Ленина.
Дрожите, дворцов этажи!
Биржа нажив,
будешь
битая
выть.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
Ленин
больше
самых больших,
но даже
и это
диво
создали всех времен
малыши —
мы,
малыши коллектива.
Мускул
узлом вяжи.
Зубы-ножи —
в знанье —
вонзай крошить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
Строит,
рушит,
кроит
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
молчит,
говорит
и ревет —
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
нить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
31 марта 1924 г.Юбилейное
Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Маяковский.
Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$уже не стук, а стон:
тревожусь я о нем,
в щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчать, болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката, —
сядь
на собственные ягодицы
и катись!
Нет,
не навяжусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.
Только
жабры рифм
топырит учащённо
у таких, как мы,
на поэтическом песке.
Вред – мечта,
и бесполезно грезить,
надо
весть
служебную нуду.
Но бывает —
жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.
Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия —
пресволочнейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой.
Например,
вот это —
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый
в горе
дуть винище,
но смотрите —
из
выплывают
Red и White Star’ы[4]
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами, —
рад,
что вы у столика
Муза это
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
– Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я. —
Было всякое:
и под окном стояние,
пи́сьма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии —
это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет,
не старость этому имя!
Ту́шу
вперед стремя́,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous…[5]
чтоб цензор не нацыкал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.
Кто меж нами?
с кем велите знаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами нища́.
Между нами
– вот беда —
позатесался На́дсон.
Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на Ща!
А Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши, —
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.
Знаете его?
вот он
мужик хороший.
Этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни о́тдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой
однаробразный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь…
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.
Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безыменский?!
Так…
ничего…
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.
Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
– вот так-то, мол,
и так-то…
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и су́кна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсюсюкнул,
чтоб только
быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$бросить ямб картавый.
Нынче
наши перья —
штык
да зубья вил, —
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
– Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
а состязается —
с Державиным…
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по-моему́
при жизни
– думаю —
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
– А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести…
пулею сражен…
Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.
Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту
– ну-ка,
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!
1924Севастополь – Ялта
В авто
насажали
разных армян,
рванулись —
и мы в пути.
Дорога до Ялты
будто роман:
все время
надо крутить.
Сначала
авто
подступает к горам,
охаживая кря́жевые.
Вот так и у нас
влюбленья пора:
наметишь —
и мчишь, ухаживая.
Авто
начинает
по солнцу трясть,
то жаренней ты,
то варённей:
так сердце
тебе
распаляет страсть,
и грудь —
раскаленной жаровней.
Привал,
шашлык,
не вяжешь лык,
с кружением
нету сладу.
У этих
у самых
гроздьев шашлы —
совсем поцелуйная сладость.
То солнечный жар,
то ущелий тоска, —
не верь
ни единой версийке.
Который москит
и который мускат,
и кто персюки́
и персики?
И вдруг вопьешься,
любовью залив
и душу,
и тело,
и рот.
Так разом
встают
облака и залив
в разрыве
Байдарских ворот.
И сразу
дорога
нудней и нудней,
в туннель,
тормозами тужась.
Вот куча камня,
и церковь над ней —
ужасом
всех супружеств.
И снова
почти
о скалы скулой,
с боков
побелелой глядит.
Так ревность
тебя
обступает скалой —
за камнем
любовник бандит.
А дальше —
тишь;
крестьяне, корпя,
лозой
разделали скаты.
Так,
свой виноградник
по́том кропя,
и я
рисую плакаты.
Пото́м,
пропылясь,
проплывают года,
труся́т
суетнею мышиной,
и лишь
развлекает
семейный скандал
случайно
лопнувшей шиной.
Когда ж
окончательно
это доест,
распух
от моторного гвалта —
– Стоп! —
И склепом
отдельный подъезд:
– Пожалте
червонец!
Ялта.
1924Владикавказ – Тифлис
Только
нога
ступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я —
грузин.
Эльбрус,
Казбек.
И еще —
как вас?!
На гору
горы грузи!
Уже
на мне
никаких рубах.
Бродягой, —
один архалух.
Уже
подо мной
такой карабах,
что Ройльсу —
и то б в похвалу.
Было:
с ордой,
загорел и носат,
старее
всего старья,
я влез,
веков девятнадцать назад,
вот в этот самый
в Дарьял.
Лезгинщик
и гитарист душой,
в многовековом поту,
я землю
прошел
и возделал мушо́й
отсюда
по самый Батум.
От этих дел
не вспомнят ни зги.
История —
врун даровитый,
бубнит лишь,
что были
царьки да князьки:
Ираклии,
Нины,
Давиды.
Стена —
и то
знакомая что-то.
В тахтах
вот этой вот башни —
я помню:
я вел
Руставели Шо́той
с царицей
с Тамарою
шашни.
А после
катился,
костями хрустя,
чтоб в пену
Тереку врыться.
Да это что!
Любовный пустяк!
И лучше
резвилась царица.
А дальше
я видел —
в пробоину скал
вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звеня,
опускались войска
золотопогонников русских.
Лениво
от жизни
взбираясь ввысь,
гитарой
душу отверз —
«Мхолот шен эртс
рац, ром чемтвис
Моуция
маглидган гмертс…»[6]
И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.
И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.
Живились
в пажах
князёвы сынки,
а я
ежедневно
и наново
опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых.
И дальше
история наша
хмура́.
Я вижу
правящих кучку.
Какие-то люди,
мутней, чем Кура́,
французов чмокают в ручку.
Двадцать,
а может,
больше веков
волок
угнетателей узы я,
чтоб только
под знаменем большевиков
воскресла
свободная Грузия.
Да,
я грузин,
но не старенькой нации,
забитой
в ущелье в это.
Я —
равный товарищ
одной Федерации
грядущего мира Советов.
Еще
омрачается
день иной
ужасом
крови и яри.
Мы бродим,
мы
еще
не вино,
ведь мы еще
только мадчари.
Я знаю:
глупость – эдемы и рай!
Но если
пелось про это,
должно быть,
Грузию,
радостный край,
подразумевали поэты.
Я жду,
чтоб аэро
в горы взвились.
Как женщина,
мною
лелеема
надежда,
что в хвост
со словом «Тифлис»
вобьем
фабричные клейма.
Грузин я,
но не кинто озорной,
острящий
и пьющий после.
Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто
да ослик.
Я чту
поэтов грузинских дар,
но ближе
всех песен в мире,
мне ближе
всех
и зурн
и гитар
лебедок
и кранов шаири.
Строй
во всю трудовую прыть,
для стройки
не жаль ломаний!
Если
даже
Казбек помешает —
срыть!
Все равно
не видать
в тумане.
1924Тамара и демон
От этого Терека
в поэтах
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потерийка.
Из омнибуса
вразвалку
сошел,
поплевывал
в Терек с берега,
совал ему
в пену
палку.
Чего же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.
Как будто бы
Терек
сорганизовал,
проездом в Боржом,
Луначарский.
Хочу отвернуть
заносчивый нос
и чувствую:
стыну на грани я,
овладевает
мною
гипноз,
воды
и пены играние.
Вот башня,
револьвером
небу к виску,
разит
красотою нетроганой.
Поди,
подчини ее
преду искусств —
Петру Семенычу
Когану.
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступы
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь,
и не построчно,
а даром
реветь
стараться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.
Я знаю мой голос:
паршивый тон,
но страшен
силою ярой.
Кто видывал,
не усомнится,
что
я
был бы услышан Тамарой.
Царица крепится,
взвинчена хоть,
величественно
делает пальчиком.
Но я ей
сразу:
– А мне начхать,
царица вы
или прачка!
Тем более
с песен —
какой гонорар?!
А стирка —
в семью копейка.
А даром
немного дарит гора:
лишь воду —
поди,
попей-ка! —
Взъярилась царица,
к кинжалу рука.
Козой,
из берданки ударенной.
Но я ей
по-своему,
вы ж знаете как —
под ручку…
любезно…
– Сударыня!
Чего кипятитесь,
как паровоз?
Мы
общей лирики лента.
Я знаю давно вас,
мне
много про вас
говаривал
некий Лермонтов.
Он клялся,
что страстью
и равных нет…
Таким мне
мерещился образ твой.
Любви я заждался,
мне 30 лет.
Полюбим друг друга.
Попросту.
Да так,
чтоб скала
распостелилась в пух.
От черта скраду
и от бога я!
Ну что тебе Демон?
Фантазия!
Дух!
К тому ж староват —
мифология.
Не кинь меня в пропасть,
будь добра.
От этой ли
струшу боли я?
Мне
даже
пиджак не жаль ободрать,
а грудь и бока —
тем более.
Отсюда
дашь
хороший удар —
и в Терек
замертво треснется.
В Москве
больнее спускают…
куда!
ступеньки считаешь —
лестница.
Я кончил,
и дело мое сторона.
И пусть,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак,
А мы…
соглашайся, Тамара! —
История дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.
Сам Демон слетел,
подслушал,
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена.
Сияет —
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка!
1924Посмеемся!
СССР!
Из глоток из всех,
да так,
чтоб врагу аж смяться,
сегодня
раструбливай
радостный смех —
нам
можно теперь посмеяться!
Шипели: «Погибнут
через день, другой,
в крайности —
через две недели!»
Мы
гордо стоим,
а они дугой
изгибаются.
Ливреи надели.
Бились
в границы Советской страны:
«Не допустим
и к первой годовщине!»
Мы
гордо стоим,
а они —
штаны
в берлинских подвалах чинят.
Ллойд-Джорджи
ревели
со своих постов!
«Узурпаторы!
Бандиты!
Воришки!»
Мы
гордо стоим,
а они – раз сто
слетали,
как еловые шишки!
Они
на наши
голодные дни
радовались,
пожевывая пончики.
До урожаев
мы доживаем,
а они
последние дожевали
мильончики!
Злорадничали:
«Коммунистам
надежды нет:
погибнут
не в мае, так в июне».
А мы,
мы – стоим.
Мы – на 7 лет
ближе к мировой коммуне!
Товарищи,
вовсю
из глоток из всех —
да так, чтоб врагам
аж смяться,
сегодня
раструбливайте
радостный смех!
Нам
есть над чем посмеяться!
1924Выволакивайте будущее!
Будущее
не придет само,
если
не примем мер.
За жабры его, – комсомол!
За хвост его, – пионер!
Коммуна
не сказочная принцесса,
чтоб о ней
мечтать по ночам.
Рассчитай,
обдумай,
нацелься —
и иди
хоть по мелочам.
Коммунизм
не только
у земли,
у фабрик в поту.
Он и дома
за столиком,
в отношеньях,
в семье,
в быту.
Кто скрипит
матершиной смачной
целый день,
как немазаный воз,
тот,
кто млеет
под визг балалаечный,
тот
до будущего
не дорос.
По фронтам
пулеметами такать —
не в этом
одном
война!
И семей
и квартир атака
угрожает
не меньше
нам.
Кто не выдержал
натиск домашний,
спит
в уюте
бумажных роз, —
до грядущей
жизни мощной
тот
пока еще
не дорос.
Как и шуба,
и время тоже —
проедает
быта моль ее.
Наших дней
залежалых одёжу
перетряхни, комсомолия!
1925Любовь
Мир
опять
цветами оброс,
у мира
весенний вид.
И вновь
встает
нерешенный вопрос —
о женщинах
и о любви.
Мы любим парад,
нарядную песню.
Говорим красиво,
выходя на митинг.
Но часто
под этим,
покрытый плесенью,
старенький-старенький бытик.
Поет на собранье:
«Вперед, товарищи…»
А дома,
забыв об арии сольной,
орет на жену,
что щи не в наваре
и что
огурцы
плоховато просолены.
Живет с другой —
киоск в ширину,
бельем —
шантанная дива.
Но тонким чулком
попрекает жену:
– Компрометируешь
пред коллективом. —
То лезут к любой,
была бы с ногами.
Пять баб
переменит
в течение суток.
У нас, мол,
свобода,
а не моногамия.
Долой мещанство
и предрассудок!
С цветка на цветок
молодым стрекозлом
порхает,
летает
и мечется.
Одно ему
в мире
кажется злом —
это
алиментщица.
Он рад умереть,
экономя треть,
три года
судиться рад:
и я, мол, не я,
и она не моя,
и я вообще
кастрат.
А любят,
так будь
монашенкой верной —
тиранит
ревностью
всякий пустяк
и мерит
любовь
на калибр револьверный,
неверной
в затылок
пулю пустя.
Четвертый —
герой десятка сражений!
а так,
что любо-дорого,
бежит
в перепуге
от туфли жениной,
простой туфли Мосторга.
А другой
стрелу любви
иначе метит,
путает
– ребенок этакий —
уловленье
любимой
в романические сети
с повышеньем
подчиненной по тарифной
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$сетке…
По женской линии
тоже вам не райские скинии.
Простенького паренька
подцепила
барынька.
Он работать,
а ее
не удержать никак —
бегает за клёшем
каждого бульварника.
Что ж,
сиди
и в плаче
Нилом нилься.
Ишь! —
Жених!
– Для кого ж я, милые, женился?
Для себя —
или для них? —
У родителей
и дети этакого сорта:
– Что родители?
И мы
не хуже, мол! —
Занимаются
любовью в виде спорта,
не успев
вписаться в комсомол.
И дальше,
к деревне,
быт без движеньица —
живут, как и раньше,
из года в год.
Вот так же
замуж выходят
и женятся,
как покупают
рабочий скот.
Если будет
длиться так
за годом годик,
то,
скажу вам прямо,
не сумеет
разобрать
и брачный кодекс,
где отец и дочь,
который сын и мама.
Я не за семью.
В огне
и в дыме синем
выгори
и этого старья кусок,
где шипели
матери-гусыни
и детей
стерег
отец-гусак!
Нет.
Но мы живем коммуной
плотно,
в общежитиях
грязнеет кожа тел.
Надо
голос
подымать за чистоплотность
отношений наших
и любовных дел.
Не отвиливай —
мол, я не венчан.
Нас
не поп скрепляет тарабарящий.
Надо
обвязать
и жизнь мужчин и женщин
словом,
нас объединяющим:
«Товарищи».
1926Послание пролетарским поэтам
Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
товарищ Уткин.
Мы спорим,
аж глотки просят лужения,
мы
задыхаемся
от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложение:
давайте
устроим
веселый обед!
Расстелим внизу
комплименты ковровые,
если зуб на кого —
отпилим зуб;
розданные
Луначарским
венки лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.
Решим,
что все
по-своему правы.
Каждый поет
по своему
голоску!
Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равному куску.
Бросим
друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.
А когда мне
товарищи
предоставят слово —
я это слово возьму
и скажу:
– Я кажусь вам
академиком
с большим задом,
один, мол, я
жрец
поэзий непролазных.
А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.
Многие
пользуются
напостовской тряскою,
с тем
чтоб себя
обозвать получше.
– Мы, мол, единственные,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$мы пролетарские… —
А я, по-вашему, что —
валютчик?
Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии ну́довой.
Засучу рукавчики:
работать?
драться?
Сделай одолжение,
а ну́, давай!
Есть
перед нами
огромная работа —
каждому человеку
нужное стихачество.
Давайте работать
до седьмого пота
над поднятием количества,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$над улучшением качества.
Я меряю
по коммуне
стихов сорта,
в коммуну
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.
А в поэзии
нет
ни друзей,
ни родных,
по протекции
не свяжешь
рифм лычки́.
Оставим
распределение
орденов и наградных,
бросим, товарищи,
наклеивать ярлычки.
Не хочу
похвастать
мыслью новенькой,
но по-моему —
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$утверждаю без авторской спеси —
коммуна —
это место,
где исчезнут чиновники
и где будет
много
стихов и песен.
Стоит
изумиться
рифмочек парой нам —
мы
почитаем поэтика гением.
Одного
называют
красным Байроном,
другого —
самым красным Гейнем.
Одного боюсь —
за вас и сам, —
чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.
Мы духом одно,
понимаете сами:
по линии сердца
нет раздела.
Если
вы не за нас,
а мы
не с вами,
то черта ль
нам
остается делать?
А если я
вас
когда-нибудь крою
и на вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,
я
больше вашего
рифмы строгал.
Товарищи,
бросим
замашки торгашьи
– моя, мол, поэзия —
мой лабаз! —
всё, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!
Что может быть
капризней славы
и пепельней?
В гроб, что ли,
брать,
когда умру?
Наплевать мне, товарищи,
в высшей степени
на деньги,
на славу
и на прочую муру!
Чем нам
делить
поэтическую власть,
сгрудим
нежность слов
и слова-бичи,
и давайте
без завистей
и без фамилий
класть
в коммунову стройку
слова-кирпичи.
Давайте,
товарищи,
шагать в ногу.
Нам не надо
брюзжащего
лысого парика!
А ругаться захочется —
врагов много
по другую сторону
красных баррикад.
1926Фабрика бюрократов
Его прислали
для проведенья режима.
Средних способностей.
Средних лет.
В мыслях – планы.
В сердце – решимость.
В кармане – перо
и партбилет.
Ходит,
распоряжается энергичным жестом.
Видно —
занимается новая эра!
Сам совался в каждое место,
всех переглядел —
от зава до курьера.
Внимательный
к самым мельчайшим крохам,
вздувает
сердечный пыл…
Но бьются
слова,
как об стену горохом,
об —
канцелярские лбы.
А что канцелярии?
Внимает, мошенница!
Горите
хоть солнца ярче, —
она
уложит
весь пыл в отношеньица,
в анкетку
и в циркулярчик.
Бумажку
встречать
с отвращением нужно.
А лишь
увлечешься ею, —
то через день
голова заталмужена
в бумажную ахинею.
Перепишут всё
и, канителью исходящей нитясь,
на доклады
с папками идут:
– Подпишитесь тут!
Да тут вот подмахнитесь!..
И вот тут, пожалуйста!..
И тут!..
И тут!.. —
Пыл
в чернила уплыл
без следа.
Пред
в бумагу
всосался, как клещ…
Среда —
это
паршивая вещь!!
Глядел,
лицом
белее мела,
сквозь канцелярский мрак.
Катился пот,
перо скрипело,
рука свелась
и вновь корпела, —
но без конца
громадой белой
росла
гора бумаг.
Что угодно
подписью подляпает,
и не разберясь:
куда,
зачем,
кого?
Собственную
тетушку
назначит римской папою.
Сам себе
подпишет
смертный пригово́р.
Совести
партийной
слабенькие писки
заглушает
с днями
исходящий груз.
Раскусил чиновник
пафос переписки,
облизнулся,
въелся
и – вошел во вкус.
Где решимость?
планы?
и молодчество?
Собирает канцелярию,
загривок мыля ей.
– Разузнать
немедля
имя-отчество!
Как
такому
посылать конверт
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$с одной фамилией??! —
И опять
несется
мелким лайцем:
– Это так-то службу мы несем?!
Написали просто
«прилагается»
и забыли написать
«при сем»! —
В течение дня
страну наводня
потопом
ненужной бумажности,
в машину
живот
уложит —
и вот
на дачу
стремится в важности.
Пользы от него,
что молока от черта,
что от пшенной каши —
золотой руды.
Лишь растут
подвалами
отчеты,
вознося
чернильные пуды.
Рой чиновников
с недели на́ день
аннулирует
октябрьский гром и лом,
и у многих
даже
проступают сзади
пуговицы
дофевральские
с орлом.
Поэт
всегда
и добр и галантен,
делиться выводом рад.
Во-первых:
из каждого
при известном таланте
может получиться
бюрократ.
Вывод второй
(из фельетонной водицы
вытекал не раз
и не сто):
коммунист не птица,
и незачем обзаводиться
ему
бумажным хвостом.
Третий:
поднять бы его за загривок
от бумажек,
разостланных низом,
чтоб бумажки,
подписанные
прямо и криво,
не заслоняли
ему
коммунизм.
1926Товарищу Нетте – пароходу и человеку
Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».
Это – он.
Я узнаю́ его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
– Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел…
Помнишь, Нетте, —
в бытность человеком
ты пивал чаи
со мною в дипкупе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел…
Суньтеся —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой лунища.
Ну и здо́рово!
Залегла,
просторы на́двое порвав.
Будто на́век
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!»
А такое —
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулею чешите:
это —
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.
– —
Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.
15 июля 1926 г., ЯлтаХулиган
Республика наша в опасности.
В дверь
лезет
немыслимый зверь.
Морда матовым рыком гулка́,
лапы —
в кулаках.
Безмозглый,
и две ноги для ляганий,
вот – портрет хулиганий.
Матроска в полоску,
словно леса́.
Из этих лесов
глядят телеса.
Чтоб замаскировать рыло мандрилье,
шерсть
аккуратно
сбрил на рыле.
Хлопья пудры
(«Лебяжьего пуха»!),
бабочка-галстук
от уха до уха.
Души не имеется.
(Выдумка бар!)
В груди —
пивной
и водочный пар.
Обутые лодочкой
качает ноги водочкой.
Что ни шаг —
враг.
– Вдрызг фонарь,
враги – фонари.
Мне темно,
так никто не гори.
Враг – дверь,
враг – дом,
враг —
всяк,
живущий трудом.
Враг – читальня.
Враг – клуб.
Глупейте все,
если я глуп! —
Ремень в ручище,
и на нем
повисла гиря кистенем.
Взмахнет,
и гиря вертится, —
а ну —
попробуй встретиться!
По переулочкам – луна.
Идет одна.
Она юна.
– Хорошенькая!
(За́ косу.)
Обкрутимся без загсу! —
Никто не услышит,
напрасно орет
вонючей ладонью зажатый рот.
– Не нас контрапупят —
не наше дело!
Бежим, ребята,
чтоб нам не влетело! —
Луна
в испуге
за тучу пятится
от рваной груды
мяса и платьица.
А в ближней пивной
веселье неистовое.
Парень
пиво глушит
и посвистывает.
Поймали парня.
Парня – в суд.
У защиты
словесный зуд:
– Конечно,
от парня
уйма вреда,
но кто виноват?
Среда.
В нем
силу сдерживать
нет моготы.
Он – русский.
Он —
богатырь!
– Добрыня Никитич!
Будьте добры,
не трогайте этих Добрынь! —
Бантиком
губки
сложил подсудимый.
Прислушивается
к речи зудимой.
Сидит
смирней и краше,
чем сахарный барашек.
И припаяет судья
(сердобольно)
«4 месяца».
Довольно!
Разве
зверю,
который взбесится,
дают
на поправку
4 месяца?
Деревню – на сход!
Собери
и при ней
словами прожги парней!
Гуди,
и чтоб каждый завод гудел
об этой
последней беде.
А кто
словам не умилится,
тому
агитатор —
шашка милиции.
Решимость
и дисциплина,
пружинь
тело рабочих дружин!
Чтоб, если
возьмешь за воротник,
хулиган раскис и сник.
Когда
у больного
рука гниет —
не надо жалеть ее.
Пора
топором закона
отсечь
гнилые
дела и речь!
1926Хулиган
Ливень докладов.
Преете?
Прей!
А под клубом,
гармошкой изо́ранные,
в клубах табачных
шипит «Левенбрей»,
в белой пене
прибоем
трехгорное…
Еле в стул вмещается парень.
Один кулак —
четыре кило.
Парень взвинчен.
Парень распарен.
Волос взъерошенный.
Нос лилов.
Мало парню такому доклада.
Парню —
слово душевное нужно.
Парню
силу выхлестнуть надо.
Парню надо…
– новую дюжину!
Парень выходит.
Как в бурю на катере
Тесен фарватер.
Тело намокло.
Парнем разосланы
к чертовой матери
бабы,
деревья,
фонарные стекла.
Смотрит —
кому бы заехать в ухо?
Что башка не придумает дурья?!
Бомба
из безобразий и ухарств,
дурости,
пива
и бескультурья.
Так, сквозь песни о будущем рае,
только солнце спрячется, канув,
тянутся
к центру огней
от окраин
драка,
муть
и ругня хулиганов.
Надо
в упор им —
рабочьи дружины,
надо,
чтоб их
судом обломало,
в спорт
перелить
мускулья пружины, —
надо и надо,
но этого мало…
Суд не скрутит —
набрать имен
и раструбить
в молве многогласой,
чтоб на лбу горело клеймо:
«Выродок рабочего класса».
А главное – помнить,
что наше тело
дышит
не только тем, что скушано;
надо —
рабочей культуры дело
делать так,
чтоб не было скушно.
1926Разговор на одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия»
Перья-облака́,
закат расканарейте!
Опускайся,
южной ночи гнет!
Пара
пароходов
говорит на рейде:
то один моргнет,
а то
другой моргнет.
Что сигналят?
Напрягаю я
морщины лба.
Красный раз…
угаснет,
и зеленый…
Может быть,
любовная мольба.
Может быть,
ревнует разозленный.
Может, просит:
– «Красная Абхазия»!
Говорит
«Советский Дагестан».
Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань. —
Но в ответ
коварная
она:
– Как-нибудь
один
живи и грейся.
Я
теперь
по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$трехтрубный крейсер.
– Все вы,
бабы,
трясогузки и канальи…
Что ей крейсер,
дылда и пачкун? —
Поскулил
и снова засигналил:
– Кто-нибудь,
пришлите табачку!..
Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет и броня… —
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.
1926Не юбилейте!
Мне б хотелось
про Октябрь сказать,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$не в колокол названивая,
не словами,
украшающими
тепленький уют, —
дать бы
революции
такие же названия,
как любимым
в первый день дают!
Но разве
уместно
слово такое?
Но разве
настали
дни для покоя?
Кто галоши приобрел,
кто зонтик;
радуется обыватель:
«Небо голубо́…»
Нет,
в такую ерунду
не расказёньте
боевую
революцию – любовь.
– —
В сотне улиц
сегодня
на вас,
на меня
упадут огнем знамена́.
Будут глотки греметь,
за кордоны катя
огневые слова про Октябрь.
– —
Белой гвардии
для меня
белей
имя мертвое: юбилей.
Юбилей – это пепел,
песок и дым;
юбилей —
это радость седым;
юбилей —
это край
кладбищенских ям;
это речи
и фимиам;
остановка предсмертная,
вздохи,
елей —
вот что лезет
из букв
«ю-б-и-л-е-й».
А для нас
юбилей —
ремонт в пути,
постоял —
и дальше гуди.
Остановка для вас,
для вас
юбилей —
а для нас
подсчет рублей.
Сбереженный рубль —
сбереженный заряд,
поражающий вражеский ряд.
Остановка для вас,
для вас
юбилей —
а для нас —
это сплавы лей.
Разобьет
врага
электрический ход
лучше пушек
и лучше пехот.
Юбилей!
А для нас —
подсчет работ,
перемеренный литрами пот.
Знаем:
в графиках
довоенных норм
коммунизма одежда и корм.
Не горюй, товарищ,
что бой измельчал:
– Глаз на мелочь! —
приказ Ильича.
Надо
в каждой пылинке
будить уметь
большевистского пафоса медь.
– —
Зорче глаз крестьянина и рабочего,
и минуту
не будь рассеянней!
Будет:
под ногами
заколеблется почва
почище японских землетрясений.
Молчит
перед боем,
топки глуша,
Англия бастующих шахт.
Пусть
китайский язык
мудрен и велик, —
знает каждый и так,
что Кантон
тот же бой ведет,
что в Октябрь вели
наш
рязанский
Иван да Антон.
И в сердце Союза
война.
И даже
киты батарей
и полки́.
Воры
с дураками
засели в блинда́жи
растрат
и волокит.
И каждая вывеска:
– рабкооп —
коммунизма тяжелый окоп.
Война в отчетах,
в газетных листах —
рассчитывай,
режь и крои́.
Не наша ли кровь
продолжает хлестать
из красных чернил РКИ?!
И как ни тушили огонь —
нас трое!
Мы
трое
охапки в огонь кидаем:
растет революция
в огнях Волховстроя,
в молчании Лондона,
в пулях Китая.
Нам
девятый Октябрь —
не покой,
не причал.
Сквозь десятки таких девяти
мозг живой,
живая мысль Ильича,
нас
к последней победе веди!
1926Бумажные ужасы
(Ощущения Владимира Маяковского)
Если б
в пальцах
держал
земли бразды я,
я бы
землю остановил на минуту:
– Внемли!
Слышишь,
перья скрипят
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$механические и простые,
как будто
зубы скрипят у земли? —
Человечья гордость,
смирись и улягся!
Человеки эти —
на кой они лях!
Человек
постепенно
становится кляксой
на огромных
важных
бумажных полях.
По каморкам
ютятся
людские тени.
Человеку —
сажень.
А бумажке?
Лафа!
Живет бумажка
во дворцах учреждений,
разлеглась на столах,
кейфует в шкафах.
Вырастает хвост
на сукно
в магазине,
без галош нога,
без перчаток лапа.
А бумагам?
Корзина лежит на корзине,
и для тела «дел» —
миллионы папок.
У вас
на езду
червонцы есть ли?
Вы были в Мадриде?
Не были там!
А этим
бумажкам,
чтоб плыли
и ездили,
еще
возносят
новый почтамт!
Стали
ножки-клипсы
у бывших сильных,
заменили
инструкции
силу ума.
Люди
медленно
сходят
на должность посыльных,
в услужении
у хозяев – бумаг.
Бумажищи
в портфель
умещаются еле,
белозубую
обнажают кайму.
Скоро
люди
на жительство
влезут в портфели,
а бумаги —
наши квартиры займут.
Вижу
в будущем —
не вымыслы мои:
рупоры бумаг
орут об этом громко нам —
будет
за столом
бумага
пить чаи́,
человечек
под столом
валяться скомканным.
Бунтом встать бы,
развить огневые флаги,
рвать зубами бумагу б,
ядрами б выть…
Пролетарий,
и дюйм
ненужной бумаги,
как врага своего,
вконец ненавидь.
1927Нашему юношеству
На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена
и разен язык
и одежи!
Насилу,
пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.
И, глуша прощаньем свистка,
рванулся
курьерский
с Курского!
Заводы.
Березы от леса до хат
бегут,
листками вороча,
и чист,
как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.
Из-за горизонтов,
лесами сломанных,
толпа надвигается
мазанок.
Цветисты бочка́
из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.
Стихов навезите целый мешок,
с таланта
можете лопаться —
в ответ
снисходительно цедят смешок
уста
украинца-хлопца.
Пространства бегут,
с хвоста нарастав,
их жарит
солнце-кухарка.
И поезд
уже
бежит на Ростов,
далёко за дымный Харьков.
Поля —
на мильоны хлебных тонн —
как будто
их гладят рубанки,
а в хлебной охре
серебряный Дон
блестит
позументом кубанки.
Ревем паровозом до хрипоты,
и вот
началось кавказское —
то го́ловы сахара высят хребты,
то в солнце —
пожарной каскою.
Лечу
ущельями, свист приглушив.
Снегов и папах седи́ны.
Сжимая кинжалы, стоят ингуши,
следят
из седла
осетины.
Верх
гор —
лед,
низ
жар
пьет,
и солнце льет йод.
Тифлисцев
узнаешь и метров за́ сто:
гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах,
в ботинках носастых,
этакими парижанами.
По-своему
всякий
зубрит азы,
аж цифры по-своему снятся им.
У каждого третьего —
свой язык
и собственная нация.
Однажды,
забросив в гостиницу хлам,
забыл,
где я ночую.
Я
адрес
по-русски
спросил у хохла,
хохол отвечал:
– Нэ чую. —
Когда ж переходят
к научной теме,
им
рамки русского
у́зки;
с Тифлисской
Казанская академия
переписывается по-французски.
И я
Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).
Ну, мало ли что —
Бодлер,
Маларме
и эдакое прочее!
Но нам ли,
шагавшим в огне и воде
годами
борьбой прожженными,
растить
на смену себе
бульвардье
французистыми пижонами!
Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу Советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но нету места
злобы мазку,
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,
взгляд – на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью ли́лся,
я знаю,
в Москве решали судьбу
и Киевов
и Тифлисов.
Москва
для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
разных истока
во мне
речевых.
Я
не из кацапов-разинь.
Я —
дедом казак, другим —
сечевик,
а по рожденью
грузин.
Три
разных капли
в себе совмещав,
беру я
право вот это —
покрыть
всесоюзных совмещан.
И ваших
и русопетов.
1927«За что боролись?»
Слух идет
бессмысленен и гадок,
трется в уши
и сердце ёжит.
Говорят,
что воли упадок
у нашей
у молодежи.
Говорят,
что иной братишка,
заработавший орден,
ныне
про вкусноты забывший ротишко
под витриной
кривит в унынье.
Что голодным вам
на зависть
окна лавок в бутылочном тыне,
и едят нэпачи и завы
в декабре
арбузы и дыни.
Слух идет
о грозном сраме,
что лишь радость
развоскресе́нена,
комсомольцы
лейб-гусарами
пьют
да ноют под стих Есенина.
И доносится до нас
сквозь губы́ искривленную прорезь:
«Революция не удалась…
За что боролись?..»
И свои 18 лет
под наган подставят —
и нет,
или горло
впетлят в ко́ски.
И горюю я,
как поэт,
и ругаюсь,
как Маяковский.
Я тебе
не стихи ору,
рифмы в этих делах
ни при чем;
дай
как другу
пару рук
положить
на твое плечо.
Знал и я,
что значит «не есть»,
по бульварам валялся когда, —
понял я,
что великая честь
за слова свои
голодать.
Из-под локона,
кепкой зави́того,
вскинь глаза,
не грусти и не злись.
Разве есть
чему завидовать,
если видишь вот эту слизь?
Будто рыбы на берегу —
с прежним плаваньем
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$трудно расстаться им.
То царев горшок берегут,
то
обломанный шкаф с инкрустациями.
Вы – владыки
их душ и тела,
с вашей воли
встречают восход.
Это —
очень плевое дело,
если б
революция захотела
со счетов особых отделов
эту мелочь
списать в расход.
Но, рядясь
в любезность наносную,
мы —
взамен забытой Чеки
кормим дыней и ананасною,
ихних жен
одеваем в чулки.
И они
за все за это,
что чулки,
что плачено дорого,
строят нам
дома и клозеты
и бойцов
обучают торгу.
Что ж,
без этого и нельзя!
Сменим их,
гранит догрызя.
Или
наша воля обломалась
о сегодняшнюю
деловую малость?
Нас
дело
должно
пронизать насквозь,
скуленье на мелочность
высмей.
Сейчас
коммуне
ценен гвоздь,
как тезисы о коммунизме.
Над пивом
нашим юношам ли
склонять
свои мысли ракитовые?
Нам
пить
в грядущем
все соки земли,
как чашу,
мир запрокидывая.
1927Лучший стих
Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.
– Товарищ Маяковский,
прочтите
лучшее
ваше
стихотворение. —
Какому
стиху
отдать честь?
Думаю,
упершись в стол.
Может быть,
это им прочесть,
а может,
прочесть то?
Пока
перетряхиваю
стихотворную старь
и нем
ждет
зал,
газеты
«Северный рабочий»
секретарь
тихо
мне
сказал…
И гаркнул я,
сбившись
с поэтического тона,
громче
иерихонских хайл:
– Товарищи!
Рабочими
и войсками Кантона
взят
Шанхай! —
Как будто
жесть
в ладонях мнут,
оваций сила
росла и росла.
Пять,
десять,
пятнадцать минут
рукоплескал Ярославль.
Казалось,
буря
вёрсты крыла,
в ответ
на все
чемберленьи ноты
катилась в Китай, —
и стальные рыла
отворачивали
от Шанхая
дредноуты.
Не приравняю
всю
поэтическую слякоть,
любую
из лучших поэтических слав,
не приравняю
к простому
газетному факту,
если
так
ему
рукоплещет Ярославль.
О, есть ли
привязанность
большей силищи,
чем солидарность,
прессующая
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$рабочий улей?!
Рукоплещи, ярославец,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$маслобой и текстильщик,
незнаемым
и родным
китайским кули!
1927Весна
В газетах
пишут
какие-то дяди,
что начал
любовно
постукивать дятел.
Скоро
вид Москвы
скопируют с Ниццы,
цветы создадут
по весенним велениям.
Пишут,
что уже
синицы
оглядывают гнезда
с любовным вожделением.
Газеты пишут:
дни горячей,
налетели
отряды
передовых грачей.
И замечает
естествоиспытательское око,
что в березах
какая-то
циркуляция соков.
А по-моему —
дело мрачное:
начинается
горячка дачная.
Плюнь,
если рассказывает
какой-нибудь шут,
как дачные вечера
милы,
тихи́.
Опишу
хотя б,
как на даче
выделываю стихи.
Не растрачивая энергию
средь ерундовых
трат,
решаю твердо
писать с утра.
Но две девицы,
и тощи
и рябы́,
заставили идти
искать грибы.
Хожу в лесу-с,
на каждой колючке
распинаюсь, как Иисус.
Устав до того,
что не ступишь на́ ноги,
принес сыроежку
и две поганки.
Принесши трофей,
еле отделываюсь
от упомянутых фей.
С бумажкой
лежу на траве я,
и строфы
спускаются,
рифмами вея.
Только
над рифмами стал сопеть,
и —
меня переезжает
кто-то
на велосипеде.
С балкона,
куда уселся, мыча,
сбежал
вовнутрь
от футбольного мяча.
Полторы строки намарал —
и пошел
ловить комара.
Опрокинув чернильницу,
задув свечу,
подымаюсь,
прыгаю,
чуть не лечу.
Поймал,
и при свете
мерцающих планет
рассматриваю —
хвост малярийный
или нет?
Уселся,
но слово
замерло в горле.
На кухне крик:
– Самовар сперли! —
Адамом,
во всей первородной красе,
бегу
за жуликами
по василькам и росе.
Отступаю
от пары
бродячих дворняжек,
заинтересованных
видом
юных ляжек.
Сел
в меланхолии.
В голову
ни строчки
не лезет более.
Два.
Ложусь в идиллии.
К трем часам —
уснул едва,
а четверть четвертого
уже разбудили.
На луже,
зажатой
берегам в бока,
орет
целуемая
лодочникова дочка…
«Славное море —
священный Байкал,
Славный корабль —
омулевая бочка».
1927Господин «народный артист»
Парижские «Последние новости» пишут: «Шаляпин пожертвовал священнику Георгию Спасскому на русских безработных в Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмитриеву, 1000 роздана Спасским лицам, ему знакомым, по его усмотрению, и 3000 – владыке митрополиту Евлогию».
Вынув бумажник из-под хвостика фрака,
добрейший
Федор Иваныч Шаляпин
на русских безработных
пять тысяч франков
бросил
на дно
поповской шляпы.
Ишь сердобольный,
как заботится!
Конешно,
плохо, если жмет безработица.
Но…
удивляют получающие пропитанье.
Почему
у безработных
званье капитанье?
Ведь не станет
лезть
морское капитанство
на завод труда
и в шахты пота.
Так чего же ждет
Евлогиева паства
и какая
ей
нужна работа?
Вот если
за нынешней
грозою нотною
пойдет война
в орудийном аду —
шаляпинские безработные
живо
себе
работу найдут.
Впервые
тогда
комсомольская масса,
раскрыв
пробитые пулями уши,
сведет
знакомство
с шаляпинским басом
через бас
белогвардейских пушек.
Когда ж
полями,
кровью поли́тыми,
рабочие
бросят
руки и ноги, —
вспомним тогда
безработных митрополита
Евлогия.
Говорят,
артист —
большой ребенок.
Не знаю,
есть ли
у Шаляпина бонна.
Но если
бонны
нету с ним,
мы вместо бонны
ему объясним.
Есть класс пролетариев
миллионногорбый
и те,
кто покорен фаустовскому тельцу́.
На бой
последний
класса оба
сегодня
сошлись
лицом к лицу.
И песня,
и стих —
это бомба и знамя,
и голос певца
подымает класс,
и тот,
кто сегодня
поет не с нами,
тот —
против нас.
А тех,
кто под ноги атакующим бросится,
с дороги
уберет
рабочий пинок.
С барина
с белого
сорвите, наркомпросцы,
народного артиста
красный венок!
1927Hу, что ж!
Раскрыл я
с тихим шорохом
глаза страниц…
И потянуло
порохом
от всех границ.
Не вновь,
которым за́ двадцать,
в грозе расти.
Нам не с чего
радоваться,
но нечего
грустить.
Бурна вода истории.
Угрозы
и войну
мы взрежем
на просторе,
как режет
киль волну.
1927Общее руководство для начинающих подхалим
В любом учреждении
есть подхалим.
Живут подхалимы,
и неплохо им.
Подчас молодежи,
на них глядя,
хочется
устроиться —
как устроился дядя.
Но как
в доверие к начальству влезть?
Ответственного
не возьмешь на низкую лесть.
Например,
распахивать перед начальством
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$двери —
не к чему.
Начальство тебе не поверит,
не оценит
энергии
излишнюю трату —
подумает,
что это
ты —
по штату.
Или вот еще
способ
очень грубый:
трубить
начальству
в пионерские трубы.
Еще рассердится:
– Чего, мол, ради
ежесекундные
праздники
у нас
в отряде? —
Надо
льстить
умело и тонко.
Но откуда
тонкость
у подростка и ребенка?!
И мы,
желанием помочь палимы,
выпускаем
«Руководство
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$для молодого подхалимы».
Например,
начальство
делает доклад —
выкладывает канцелярской премудрости
клад.
Стакан
ко рту
поднесет рукой
и опять
докладывает час-другой.
И вдруг
вопль посредине доклада:
– Время
докладчику
ограничить надо! —
Тогда
ты,
сотрясая здание,
требуй:
– Слово
к порядку заседания!
Доклад —
звезда средь мрака и темени.
Требую
продолжать
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$без ограничения времени! —
И будь уверен —
за слова за эти
начальство запомнит тебя
и заметит.
Узнав,
что у начальства
сочинения есть,
спеши
печатный отчетишко прочесть.
При встрече
с начальством,
закатывая глазки,
скажи ему
голосом,
полным ласки:
– Прочел отчет.
Не отчет, а роман!
У вас
стихи бы
вышли задарма!
Скажите,
не вы ли
автор «Антидюринга»?
Тоже
написан
очень недурненько. —
Уверен будь —
за оценки за эти
и начальство
оценит тебя
и заметит.
Увидишь:
начальство
едет пьяненький
в казенной машине
и в дамской компанийке.
Пиши
в стенгазету,
возмущенный насквозь:
«Экономия экономии рознь.
Такую экономию
высмейте смешком!
На что это похоже?!
Еле-еле
со службы
и на службу,
таскаясь пешком,
начканц
волочит свои портфели».
И ты
преуспеешь на жизненной сцене —
начальство
заметит тебя
и оценит.
А если
не хотите
быть подхалимой,
сами
себе
не зажимайте рот:
увидев
безобразие,
не проходите мимо
и поступайте
не по стиху,
а наоборот.
1927Крым
Хожу,
гляжу в окно ли я —
цветы
да небо синее,
то в нос тебе
магнолия,
то в глаз тебе
глициния.
На молоко
сменил
чаи́
в сиянье
лунных чар.
И днем
и ночью
на Чаир
вода
бежит, рыча.
Под страшной
стражей
волн-борцов
глубины вод гноят
повыброшенных
из дворцов
тритонов и наяд.
А во дворцах
другая жизнь:
насытясь
водной блажью,
иди, рабочий,
и ложись
в кровать
великокняжью.
Пылают горы-горны,
и море синеблузится.
Людей
ремонт ускоренный
в огромной
крымской кузнице.
1927Товарищ Иванов
Товарищ Иванов —
мужчина крепкий,
в штаты врос
покрепше репки.
Сидит
бессменно
у стула в оправе,
придерживаясь
на службе
следующих правил.
Подходит к телефону —
достоинство складкой.
– Кто спрашивает?
– Товарищ тот! —
И сразу
рот
в улыбке сладкой —
как будто
у него
не рот, а торт.
Когда
начальство
рассказывает анекдот,
такой,
от которого
покраснел бы и дуб, —
Иванов смеется,
смеется, как никто,
хотя
от флюса
ноет зуб.
Спросишь мнение —
придет в смятеньице,
деликатно
отложит
до дня
до следующего,
а к следующему
узнаете
мненьице —
уважаемого
товарища заведующего.
Начальство
одно
смахнут, как пыльцу…
Какое
ему,
Иванову,
дело?
Он служит
так же
другому лицу,
его печенке,
улыбке,
телу.
Напялит
на себя
начальственную маску,
начальственные привычки,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$начальственный вид.
Начальство ласковое —
и он
ласков.
Начальство грубое —
и он грубит.
Увидя безобразие,
не протестует впустую.
Протест
замирает
в зубах тугих.
– Пускай, мол,
первыми
другие протестуют.
Что я, в самом деле,
лучше других? —
Тот —
уволен.
Этот —
сокращен.
Бессменно
одно
Ивановье рыльце.
Везде
и всюду
пролезет он,
подмыленный
скользким
подхалимским
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$мыльцем.
Впрочем,
написанное
ни для кого не ново —
разве нет
у вас
такого Иванова?
Кричу
благим
(а не просто) матом,
глядя
на подобные истории:
– Где я?
В лонах
красных наркоматов
или
в дооктябрьской консистории?!
1927Чудеса!
Как днище бочки,
правильным диском
стояла
луна
над дворцом Ливадийским.
Взошла над землей
и пошла заливать ее,
и льется на море,
на мир,
на Ливадию.
В царевых дворцах —
мужики-санаторники.
Луна, как дура,
почти в исступлении,
глядят
глаза
блинорожия плоского
в афишу на стенах дворца:
«Во вторник
выступление
товарища Маяковского».
Сам самодержец,
здесь же,
рядом,
гонял по залам
и по биллиардам.
И вот,
где Романов
дулся с маркёрами,
шары
ложа́
под свитское ржание,
читаю я
крестьянам
о форме
стихов —
и о содержании.
Звонок.
Луна
отодвинулась тусклая,
и я,
в электричестве,
стою на эстраде.
Сидят предо мною
рязанские,
тульские,
почесывают бороды русские,
ерошат пальцами
русые пряди.
Их лица ясны,
яснее, чем блюдце,
где надо – хмуреют,
где надо —
смеются.
Пусть тот,
кто Советам
не знает цену,
со мною станет
от радости пьяным:
где можно
еще
читать во дворце —
что?
Стихи!
Кому?
Крестьянам!
Такую страну
и сравнивать не с чем, —
где еще
мыслимы
подобные вещи?!
И думаю я
обо всем,
как о чуде.
Такое настало,
а что еще будет!
Вижу:
выходят
после лекции
два мужика
слоновьей комплекции.
Уселись
вдвоем
под стеклянный шар,
и первый
второму
заметил:
– Мишка,
оченно хороша —
эта
последняя
была рифмишка.
И долго еще
гудят ливадийцы
на желтых дорожках,
у синей водицы.
1927Письмо к любимой Молчанова, брошенной им,
как о том сообщается в № 219 «Комсомольской правды» в стихе по имени «Свидание»
Слышал —
вас Молчанов бросил,
будто
он
предпринял это,
видя,
что у вас
под осень
нет
«изячного» жакета.
На косынку
цвета синьки
смотрит он
и цедит еле:
– Что вы
ходите в косынке?
да и…
мордой постарели?
Мне
пожалте
грудь тугую.
Ну,
а если
нету этаких…
Мы найдем себе другую
в разызысканной жакетке. —
Припомадясь
и прикрасясь,
эту
гадость
вливши в стих,
хочет
он
марксистский базис
под жакетку
подвести.
«За боль годов,
за все невзгоды
глухим сомнениям не быть!
Под этим мирным небосводом
хочу смеяться
и любить».
Сказано веско.
Посмотрите, дескать:
шел я верхом,
шел я низом,
строил
мост в социализм,
не достроил
и устал
и уселся
у моста́.
Травка
выросла
у мо́ста,
по мосту́
идут овечки,
мы желаем
– очень просто! —
отдохнуть
у этой речки.
Заверните ваше знамя!
Перед нами
ясность вод,
в бок —
цветочки,
а над нами —
мирный-мирный небосвод.
Брошенная,
не бойтесь красивого слога
поэта,
музой венча́нного!
Просто
и строго
ответьте
на лиру Молчанова:
– Прекратите ваши трели!
Я не знаю,
я стара ли,
но вы,
Молчанов,
постарели,
вы
и ваши пасторали.
Знаю я —
в жакетах в этих
на Петровке
бабья банда.
Эти
польские жакетки
к нам
провозят
контрабандой.
Чем, служа
у муз
по найму,
на мое
тряпье
коситься,
вы б
индустриальным займом
помогли
рожденью
ситцев.
Череп,
што ль,
пустеет чаном,
выбил
мысли
грохот лирный?
Это где же
вы,
Молчанов,
небосвод
узрели
мирный?
В гущу
ваших ро́здыхов,
под цветочки,
на реку
заграничным воздухом
не доносит гарьку?
Или
за любовной блажью
не видать
угрозу вражью?
Литературная шатия,
успокойте ваши нервы,
отойдите —
вы мешаете
мобилизациям и маневрам.
1927«Массам непонятно»
Между писателем
и читателем
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$стоят посредники,
и вкус
у посредника
самый средненький.
Этаких
средненьких
из посреднической рати
тыща
и в критиках
и в редакторате.
Куда бы
мысль твоя
ни скакала,
этот
все
озирает сонно:
– Я
человек
другого закала.
Помню, как сейчас,
в стихах
у Надсо́на…
Рабочий
не любит
строчек коротеньких.
А еще
посредников
кроет Асеев.
А знаки препинания?
Точка —
как родинка.
Вы
стих украшаете,
точки рассеяв.
Товарищ Маяковский,
писали б ямбом,
двугривенный
на строчку
прибавил вам бы. —
Расскажет
несколько
средневековых легенд,
объяснение
часа на четыре затянет,
и ко всему
присказывает
унылый интеллигент:
– Вас
не понимают
рабочие и крестьяне. —
Сникает
автор
от сознания вины.
А этот самый
критик влиятельный
крестьянина
видел
только до войны,
при покупке
на даче
ножки телятины.
А рабочих
и того менее —
случайно
двух
во время наводнения.
Глядели
с моста
на места и картины,
на разлив,
на плывущие льдины.
Критик
обошел умиленно
двух представителей
из десяти миллионов.
Ничего особенного —
руки и груди…
Люди – как люди!
А вечером
за чаем
сидел и хвастал:
– Я вот
знаю
рабочий класс-то.
Я
душу
прочел
за их молчанием —
ни упадка,
ни отчаяния.
Кто может
читаться
в этаком классе?
Только Гоголь,
только классик.
А крестьянство?
Тоже.
Никак не иначе.
Как сейчас помню —
весною, на даче… —
Этакие разговорчики
у литераторов
у нас
часто
заменяют
знание масс.
И идут
дореволюционного образца
творения слова,
кисти
и резца.
И в массу
плывет
интеллигентский дар —
грезы,
розы
и звон гитар.
Прошу
писателей,
с перепугу бледных,
бросить
высюсюкивать
стихи для бедных.
Понимает
ведущий класс
и искусство
не хуже вас.
Культуру
высокую
в массы двигай!
Такую,
как и прочим.
Нужна
и понятна
хорошая книга —
и вам,
и мне,
и крестьянам,
и рабочим.
1927Размышления о Молчанове Иване и о поэзии
Я взял газету
и лег на диван.
Читаю:
«Скучает
Молчанов Иван».
Не скрою, Ванечка:
скушно и нам.
И ваши стишонки —
скуки вина.
Десятый Октябрь
у всех на носу,
а вы
ухватились
за чью-то косу.
Люби́те
и Машу
и косы ейные.
Это
ваше
дело семейное.
Но что нам за толк
от вашей
от бабы?!
Получше
стишки
писали хотя бы.
Но плох ваш роман.
И стих неказист.
Вот так
любил бы
любой гимназист.
Вы нам обещаете,
скушный Ваня,
на случай нужды
пойти, барабаня.
Де, будет
туман.
И отверзнете рот,
на весь
на туман
заорете:
– Вперед! —
Де,
– выше взвивайте
красное знамя!
Вперед, переплетчики,
а я —
за вами. —
Орать
«Караул!»,
попавши в туман?
На это
не надо
большого ума.
Сегодняшний
день
возвеличить вам ли,
в хвосте
у событий
о девушках мямля?!
Поэт
настоящий
вздувает
заранее
из искры
неясной —
ясное знание.
1927Солдаты Дзержинского
Вал. М.
Тебе, поэт,
тебе, певун,
какое дело
тебе
до ГПУ?!
Железу —
незачем
комплименты лестные.
Тебя
нельзя
и славить
и ни вымести.
Простыми словами
говорю —
о железной
необходимости.
Крепче держись-ка!
Не съесть
врагу.
Солдаты
Дзержинского
Союз
берегут.
Враги вокруг республики рыскают.
Не к месту слабость
и разнеженность весенняя.
Будут
битвы
громше,
чем крымское
землетрясение.
Есть твердолобые
вокруг
и внутри —
зорче
и в оба,
чекист,
смотри!
Мы стоим
с врагом
о скулу скула́,
и смерть стоит,
ожидает жатвы.
ГПУ —
это нашей диктатуры кулак
сжатый.
Храни пути и речки,
кровь
и кров,
бери врага,
секретчики,
и крой,
КРО!
1927Екатеринбург – Свердловск
Из снегового,
слепящего лоска,
из перепутанных
сучьев
и хвои —
встает
внезапно
домами Свердловска
новый город:
работник и воин.
Под Екатеринбургом
рыли каратики,
вгрызались
в мерзлые
породы и руды —
чтоб на грудях
коронованной Катьки
переливались
изумруды.
У штолен
в боках
корпели,
пока —
Октябрь
из шахт
на улицы ринул,
и…
разослала
октябрьская ломка
к чертям
орлов Екатерины
и к богу —
Екатерины
потомка.
И грабя
и испепеляя,
орда растакая-то
прошла
по городу,
войну волоча.
Порол Пепеляев.
Свирепствовал Га́йда.
Орлом
клевался
верховный Колчак.
Потухло
знамен
и пожаров пламя,
и лишь
от него
как будто ожог,
сегодня
горит —
временам на память —
в свердловском небе
красный флажок.
Под ним
с простора
от снега светлого
встает
новорожденный
город Све́рдлова.
Полунебоскребы
лесами поднял,
чтоб в электричестве
мыть вечера́,
а рядом —
гриб,
дыра,
преисподняя,
как будто
у города
нету
«сегодня»,
а только —
«завтра»
и «вчера».
В санях
промежду
бирж и трестов
свисти
во весь
широченный проспект.
И…
заколдованное место:
вдруг
проспект
обрывает разбег.
Просыпали
в ночь
расчернее могилы
звезды-табачишко
из неба-кисета.
И грудью
топок
дышут Тагилы,
да трубки
заводов
курят в Исети.
У этого
города
нету традиций,
бульвара,
дворца,
фонтана и неги.
У нас
на глазах
городище родится
из воли
Урала,
труда
и энергии!
1928Две культуры
Пошел я в гости
(в те года),
не вспомню имя-отчества,
но собиралось
у мадам
культурнейшее общество.
Еда
и поэтам —
вещь нужная.
И я
поэтому
сижу
и ужинаю.
Гляжу,
культурой поражен,
умильно губки сжав.
Никто
не режет
рыб ножом,
никто
не ест с ножа.
Поевши,
душу веселя,
они
одной ногой
разделывали
вензеля,
увлечены тангой.
Потом
внимали с мужеством,
упившись
разных зелий,
романсы
(для замужества!)
двух мадмуазелей.
А после
пучили живот
утробным
низким ржаньем,
слушая,
кто с кем живет
и у кого
на содержании.
Графине
граф
дает манто,
сияет
снег манжет…
Чего еще?
Сплошной бонтон.
Сплошное бламанже.
Гостям вослед
ушли когда
два
заспанных лакея,
вызывается
к мадам
кухарка Пелагея.
«Пелагея,
что такое?
где еще кусок
жаркое?!»
Мадам,
как горилла,
орет,
от гнева розовая:
«Снова
суп переварила,
некультурное рыло,
дура стоеросовая!»
Так,
отдавая дань годам,
поматерив на кухне,
живет
культурная мадам
и с жиру
мордой пухнет.
В Париже
теперь
мадам и родня,
а новый
советский быт
ведет
работницу
к новым дням
от примусов
и от плит.
Культура
у нас —
не роман да балы,
не те
танцевальные пары.
Мы будем
варить
и мыть полы,
но только
совсем не для барынь.
Работа
не знает
ни баб, ни мужчин,
ни белый труд
и ни черный.
Ткачихе с ткачом
одинаковый чин
на фабрике
раскрепощенной.
Вглубь, революция!
Нашей стране
другую
дорогу
давая,
расти
голова
другая
на ней,
осмысленная
и трудовая.
Культура
новая,
здравствуй!
Смотри
и Москва и Харьков —
в Советах
правят государством
крестьянка
и кухарка.
1928Служака
Появились
молодые
превоспитанные люди —
Мопров
знаки золотые
им
увенчивают груди.
Парт-комар
из МКК
не подточит
парню
носа:
к сроку
вписана
строка
проф-
и парт-
и прочих взносов.
Честен он,
как честен вол.
В место
в собственное
вросся
и не видит
ничего
дальше
собственного носа.
Коммунизм
по книге сдав,
перевызубривши «измы»,
он
покончил навсегда
с мыслями
о коммунизме.
Что заглядывать далече?!
Циркуляр
сиди
и жди.
– Нам, мол,
с вами
думать неча,
если
думают вожди. —
Мелких дельцев
пару шор
он
надел
на глаза оба,
чтоб служилось
хорошо,
безмятежно,
узколобо.
День – этап
растрат и лести,
день,
когда
простор подлизам, —
это
для него
и есть
самый
рассоциализм.
До коммуны
перегон
не покрыть
на этой кляче,
как нарочно
создан
он
для чиновничьих делячеств.
Блещут
знаки золотые,
гордо
выпячены
груди,
ходят
тихо
молодые
приспособленные люди.
О коряги
якорятся
там,
где тихая вода…
А на стенке
декорацией
Карлы-марлы борода.
Мы томимся неизвестностью,
что нам делать
с ихней честностью?
Комсомолец,
живя
в твои лета́,
октябрьским
озоном
дыша,
помни,
что каждый день —
этап,
к цели
намеченной
шаг.
Не наши —
которые
времени в зад
уперли
лбов
медь;
быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь.
У нас
еще
не Эдем и рай —
мещанская
тина с цвелью.
Работая,
мелочи соразмеряй
с огромной
поставленной целью.
1928Критика самокритики
Модою —
объяты все:
и размашисто
и куце,
словно
белка в колесе
каждый
самокритикуется.
Сам себя
совбюрократ
бьет
в чиновничие перси.
«Я
всегда
советам рад.
Критикуйте!
Я —
без спеси.
Но…
С тенгазное мычанье…
Где
в рабкоре
толку статься?
Вы
пишите замечания
и пускайте
по инстанциям».
Самокритик
совдурак
рассуждает,
помпадурясь:
«Я же ж
критике
не враг.
Но рабкорь —
разводит дурость.
Критикуйте!
Не обижен.
Здравым
мыслям
сердце радо.
Но…
чтоб критик
был
не ниже,
чем
семнадцтого разряда».
Сладкогласый
и ретивый
критикует подхалим.
С этой
самой
директивы
не был
им
никто
хвалим.
Сутки
сряду
могут крыть
тех,
кого
покрыли свыше,
чтоб начальник,
видя прыть,
их
из штатов бы
не вышиб.
Важно
пялят
взор спецы́
на критическую моду, —
дескать —
пойте,
крит-певцы,
языком
толчите воду.
Много
было
каждый год
разударнейших кампаний.
Быть
тебе
в архиве мод —
мода
на самокопанье.
А рабкор?
Рабкор —
смотрите! —
приуныл
и смотрит криво:
от подобных
самокритик
у него
трещит
загривок.
Безработные ручища
тычет
зря
в карманы он.
Он —
обдернут,
он —
прочищен,
он зажат
и сокращен.
Лава фраз —
не выплыть вплавь.
Где размашисто,
где куце,
модный
лозунг
оседлав,
каждый —
самокритикуется.
Граждане,
вы не врите-ка,
что это —
самокритика!
Покамест
точат начальники
демократические лясы,
меж нами
живут молчальники —
овцы
рабочего класса.
А пока
молчим по-рабьи,
бывших
белых
крепнут орды —
рвут,
насилуют
и грабят,
непокорным —
плющат морды.
Молчалиных
кожа
устроена хи́тро:
плюнут им
в рожу —
рожу вытрут.
«Не по рылу грохот нам
где ж нам
жаловаться?
Не прощаться ж
с крохотным
с нашим
с жалованьицем».
Полчаса
в кутке
покипят,
чтоб снова
дрожать начать.
Эй,
проснитесь, которые спят!
Разоблачай
с головы до пят.
Товарищ,
не смей молчать!
1928«Общее» и «мое»
Чуть-чуть еще, и он почти б был положительнейший тип.
Иван Иваныч —
чуть не «вождь»,
дана
в ладонь
вожжа ему.
К нему
идет
бумажный дождь
с припиской —
«уважаемый».
В делах умен,
в работе —
быстр.
Кичиться —
нет привычек.
Он
добросовестный службист —
не вор,
не волокитчик.
Велик
его
партийный стаж,
взгляни в билет —
и ахни!
Карманы в ручках,
а уста ж
сахарного сахарней.
На зависть
легкость языка,
уверенно
и пусто
он,
взяв путевку из ЭМКА,
бубнит
под Златоуста.
Поет
на соловьиный лад,
играет
слов
оправою
«о здравии комсомолят,
о женском равноправии».
И, сняв
служебные гужи,
узнавши,
час который,
домой
приедет, отслужив,
и…
опускает шторы.
Распустит
он
жилет…
и здесь,
– здесь
частной жизни часики! —
преображается
весь
по-третье-мещански.
Чуть-чуть
не с декабристов
род —
хоть предков
в рамы рамьте!
Но
сына
за уши
дерет
за леность в политграмоте.
Орет кухарке,
разъярясь,
супом
усом
капая:
«Не суп, а квас,
который раз,
пермячка сиволапая!..»
Живешь века,
века учась
(гении
не ро́дятся).
Под граммофон
с подругой
час
под сенью штор
фокстротится.
Жена
с похлебкой из пшена
сокращена
за древностью.
Его
вторая зам-жена
и хороша,
и сложена,
и вымучена ревностью.
Елозя
лапой по ногам,
ероша
юбок утлость,
он вертит
по́д носом наган:
«Ты с кем
сегодня
путалась?..»
Пожил,
и отошел,
и лег,
а ночь
научит нити…
Попробуйте,
под потолок
теперь
к нему
взгляните!
И сразу
он
вскочил и взвыл.
Рассердится
и визгнет:
«Не смейте
вмешиваться
вы
в интимность
частной жизни!»
Мы вовсе
не хотим бузить.
Мы кроем
быт столетний.
Но, боже…
Марксе, упаси
нам
заниматься сплетней!
Не будем
в скважины смотреть
на дрязги
в вашей комнате.
У вас
на дом
из суток —
треть,
но знайте
и помните:
глядит
мещанская толпа,
мусолит
стол и ложе…
Как
под стекляннейший колпак,
на время
жизнь положим.
Идя
сквозь быт
мещанских клик,
с брезгливостью
преувеличенной,
мы
переменим
жизни лик,
и общей,
и личной.
1928Казань
Стара,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум…
бурум…»
По-родному
тараторя,
снегом
лужи
намарав,
у подворья
в коридоре
люди
смотрят номера.
Кашляя
в рукава,
входит
робковат,
глаза таращит.
Приветствую товарища.
Я
в языках
не очень натаскан —
что норвежским,
что шведским мажь.
Входит татарин:
«Я
на татарском
вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит,
в карманах порыскав:
«Я —
мариец.
Твой
«Левый»
дай
тебе
прочту по-марийски».
Эти вышли.
Шедших этих
в низкой
двери
встретил третий.
«Марш
ваш —
наш марш.
Я —
чуваш,
послушай,
уважь.
Марш
вашинский
так по-чувашски…»
Как будто
годы
взял за чуб я —
– Станьте
и не пылите-ка! —
рукою
своею собственной
щупаю
бестелое слово
«политика».
Народы,
жившие,
въямясь в нужду,
притершись
Уралу ко льду,
ворвались в дверь,
идя
на штурм,
на камень,
на крепость культур.
Крива,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум…
бурум…»
1928Трус
В меру
и черны и русы,
пряча взгляды,
пряча вкусы,
боком,
тенью,
в стороне, —
пресмыкаются трусы
в славной
смелыми
стране.
Каждый зав
для труса —
туз.
Даже
от его родни
опускает глазки трус
и уходит
в воротник.
Влип
в бумажки
парой глаз,
ног
поджаты циркуля:
«Схорониться б
за приказ…
Спрятаться б
за циркуляр…»
Не поймешь,
мужчина,
рыба ли —
междометья
зря
не выпалит.
Где уж
подпись и печать!
«Только бы
меня не выбрали,
только б
мне не отвечать…»
Ухо в метр
– никак не менее —
за начальством
ходит сзади,
чтоб, услышав
ихнье
мнение,
завтра
это же сказать им.
Если ж
старший
сменит мнение,
он
усвоит
мненье старшино:
– Мненье —
это не именье,
потерять его
не страшно. —
Хоть грабьте,
хоть режьте возле него,
не будет слушать ни плач,
ни вой.
«Наше дело
маленькое —
я сам по себе
не великий немой,
и рот
водою
наполнен мой,
вроде
умывальника я».
Трус
оброс
бумаг
корою.
«Где решать?!
Другие пусть.
Вдруг не выйдет?
Вдруг покроют?
Вдруг
возьму
и ошибусь?»
День-деньской
сплетает тонко
узы
самых странных свадеб —
увязать бы
льва с ягненком,
с кошкой
мышь согласовать бы.
Весь день
сердечко
ужас крои́т,
предлогов для трепета —
кипа.
Боится автобусов
и Эркаи,
начальства,
жены
и гриппа.
Месткома,
домкома,
просящих взаймы,
кладби́ща,
милиции,
леса,
собак,
погоды,
сплетен,
зимы
и
показательных процессов.
Подрожит
и ляжет житель,
дрожью
ночь
корежит тело…
Товарищ,
чего вы дрожите?
В чем,
собственно,
дело?!
В аквариум,
что ли,
сажать вас?
Революция требует,
чтобы имелась
смелость,
смелость
и еще раз —
с-м-е-л-о-с-т-ь.
1928Помпадур
Член ЦИКа тов. Рухула Алы Оглы Ахундов ударил по лицу пассажира в вагоне-ресторане поезда Москва – Харьков за то, что пассажир отказался закрыть занавеску у окна. При составлении дознания тов. Ахундов выложил свой циковский билет.
«Правда», № 111/3943Мне неведомо,
в кого я попаду,
знаю только —
попаду в кого-то…
Выдающийся
советский помпадур
выезжает
отдыхать
на во́ды.
Как шар,
положенный
в намеченную лузу,
он
лысой головой
для поворотов —
туг
и носит
синюю
положенную блузу,
как министерский
раззолоченный сюртук.
Победу
масс,
позволивших
ему
надеть
незыблемых
мандатов латы,
немедля
приписал он
своему уму,
почел
пожизненной
наградой за таланты.
Со всякой массою
такой
порвал давно.
Хоть политический,
но капиталец —
нажит.
И кажется ему,
что навсегда
дано
ему
над всеми
«володеть и княжить».
Внизу
какие-то
проходят, семеня, —
его
не развлечешь
противною картиной.
Как будто говорит:
«Не трогайте
меня
касанием плотвы
густой,
но беспартийной».
С его мандатами
какой,
скажите,
риск?
С его знакомствами
ему
считаться не с кем.
Соседу по столу,
напившись в дым и дрызг,
орет он:
«Гражданин,
задернуть занавеску!»
Взбодрен заручками
из ЦИКа и из СТО,
помешкавшего
награждает оплеухой,
и собеседник
сверзился под стол,
придерживая
окровавленное ухо.
Расселся,
хоть на лбу
теши дубовый кол, —
чего, мол,
буду объясняться зря я?!
Величественно
положил
мандат на протокол:
«Прочесть
и расходиться, козыряя!»
Но что случилось?
Не берут под козырек?
Сановник
под значком
топырит
грудью
платье.
Не пыжьтесь, помпадур!
Другой зарок
дала
великая
негнущаяся партия.
Метлою лозунгов
звенит железо фраз,
метлою бурь
по дуракам подуло.
– Товарищи,
подымем ярость масс
за партию,
за коммунизм,
на помпадуров! —
Неизвестно мне,
в кого я попаду,
но уверен —
попаду в кого-то…
Выдающийся
советский помпадур
ехал
отдыхать на во́ды.
1928Стих не про дрянь, а про дрянцо Дрянцо хлещите рифм концом
Всем известно,
что мною
дрянь
воспета
молодостью ранней.
Но дрянь не переводится.
Новый грянь
стих
о новой дряни.
Лезет
бытище
в щели во все.
Подновили житьишко,
предназначенное на слом,
человек
сегодня
приспособился и осел,
странной разновидностью —
сидящим ослом.
Теперь —
затишье.
Теперь не наро́дится
дрянь
с настоящим
характерным лицом.
Теперь
пошло
с измельчанием народца
пошлое,
маленькое,
мелкое дрянцо.
Пережил революцию,
до нэпа до́жил
и дальше
приспособится,
хитер на уловки…
Очевидно —
недаром тоже
и у булавок
бывают головки.
Где-то
пули
рвут
знамённый шелк,
и нищий
Китай
встает, негодуя,
а ему —
наплевать.
Ему хорошо:
тепло
и не дует.
Тихо, тихо
стираются грани,
отделяющие
обывателя от дряни.
Давно
канареек
выкинул вон,
нечего
на птицу тратиться.
С индустриализации
завел граммофон
да канареечные
абажуры и платьица.
Устроил
уютную
постельную нишку.
Его
некультурной
ругать ли гадиною?!
Берет
и с удовольствием
перелистывает книжку,
интереснейшую книжку —
сберегательную.
Будучи
очень
в семействе добрым,
так
рассуждает
лапчатый гусь:
«Боже
меня упаси от допра,
а от Мопра —
и сам упасусь».
Об этот
быт,
распухший и сальный,
долго
поэтам
язык оббивать ли?!
Изобретатель,
даешь
порошок универсальный,
сразу
убивающий
клопов и обывателей.
1928Крым
И глупо звать его
«Красная Ницца»,
и скушно
звать
«Всесоюзная здравница».
Нашему
Крыму
с чем сравниться?
Не́ с чем
нашему
Крыму
сравниваться!
Надо ль,
не надо ль,
цветов наряды —
лозою
шесточек задран.
Вином
и цветами
пьянит Ореанда,
в цветах
и в вине —
Массандра.
Воздух —
желт.
Песок —
желт.
Сравнишь —
получится ложь ведь!
Солнце
шпарит.
Солнце —
жжет.
Как лошадь.
Цветы
природа
растрачивает, соря —
для солнца
светлоголового.
И все это
наслаждало
одного царя!
Смешно —
честное слово!
А теперь
играет
меж цветочных ливней
ветер,
пламя флажков теребя.
Стоят санатории
разных именей:
Ленина,
Дзержинского,
Десятого Октября.
Братва —
рада,
надела трусики.
Уже
винограды
закручивают усики.
Рад
город.
При этаком росте
с гор
скоро
навезут грозди.
Посмотрите
под тень аллей,
что ни парк —
народом полон.
Санаторники
занимаются
«волей»,
или
попросту
«валяй болом».
Винтовка
мишень
на полене долбит,
учатся
бить Чемберлена.
Целься лучше:
у лордов
лбы
тверже,
чем полено.
Третьи
на пляжах
себя расположили,
нагоняют
на брюхо
бронзу.
Четвертые
дуют кефир
или
нюхают
разную розу.
Рвало
здесь
землетрясение
дороги петли,
сакли
расшатало,
ухватив за край,
развезувился
старик Ай-Петри.
Ай, Петри!
А-я-я-я-яй!
Но пока
выписываю
эти стихи я,
подрезая
ураганам
корни,
рабочий Крыма
надевает стихиям
железобетонный намордник.
25 июля 1928 г., АлупкаЕвпатория
Чуть вздыхает волна,
и, вторя ей,
ветерок
над Евпаторией.
Ветерки эти самые
рыскают,
гладят
щеку евпаторийскую.
Ляжем
пляжем
в песочке рыться мы
бронзовыми
евпаторийцами.
Скрип уключин,
всплески
и крики —
развлекаются
евпаторийки.
В дым черны,
в тюбетейках ярких
караимы
евпаторьяки.
И, сравнясь,
загорают рьяней
москвичи —
евпаторьяне.
Всюду розы
на ножках тонких.
Радуются
евпаторёнки.
Все болезни
выжмут
горячие
грязи
евпаторячьи.
Пуд за лето
с любого толстого
соскребет
евпаторство.
Очень жаль мне
тех,
которые
не бывали
в Евпатории.
Евпатория 3 августа 1928 г.Земля наша обильна
Я езжу
по южному
берегу Крыма, —
не Крым,
а копия
древнего рая!
Какая фауна,
флора
и климат!
Пою,
восторгаясь
и озирая.
Огромное
синее
Черное море.
Часы
и дни
берегами едем,
слезай,
освежайся,
ездой умо́рен.
Простите, товарищ,
купаться негде.
Окурки
с бутылками
градом упали —
здесь
даже
корове
лежать не годится,
а сядешь в кабинку —
тебе
из купален
вопьется
заноза-змея
в ягодицу.
Огромны
сады
в раю симферопольском, —
пудами
плодов
обвисают к лету.
Иду
по ларькам
Евпатории
обыском, —
хоть четверть персика! —
Персиков нету.
Побегал,
хоть версты
меряй на счетчике!
А персик
мой
на базаре и во́ поле,
слезой
обливая
пушистые щечки,
за час езды
гниет в Симферополе.
Громада
дворцов
отдыхающим нравится.
Прилег
и вскочил от кусачей тоски ты,
и крик
содрогает
спокойствие здравницы:
– Спасите,
на помощь,
съели москиты! —
Но вас
успокоят
разумностью критики,
тревожа
свечой
паутину и пыль:
«Какие же ж
это,
товарищ,
москитики,
они же ж,
товарищ,
просто клопы!»
В душе
сомнений
переполох.
Контрасты —
черт задери их!
Страна абрикосов,
дюшесов
и блох,
здоровья
и
дизентерии.
Республику
нашу
не спрятать под ноготь,
шестая
мира
покроется ею.
О,
до чего же
всего у нас много
и до чего же ж
мало умеют!
1928Халтурщик
«Пролетарий
туп жестоко —
дуб
дремучий
в блузной сини!
Он в искусстве
смыслит столько ж,
сколько
свиньи в апельсине.
Мужики —
большие дети.
Крестиянин
туп, как сука.
С ним
до совершеннолетия
можно
только что
сюсюкать».
В этом духе
порешив,
шевелюры
взбивши кущи,
нагоняет
барыши
всесоюзный
маг-халтурщик.
Рыбьим фальцетом
бездарно оря,
он
из опер покрикивает,
он
переделывает
«Жизнь за царя»
в «Жизнь
за товарища Рыкова».
Он
берет
былую оду,
славящую
царский шелк,
«оду»
перешьет в «свободу»
и продаст,
как рев-стишок.
Жанр
намажет
кистью тучной,
но, узря,
что спроса нету,
жанр изрежет
и поштучно
разбазарит
по портрету.
Вылепит
Лассаля
ихняя порода;
если же
никто
не купит ужас глиняный —
прискульптурив
бороду на подбородок,
из Лассаля
сделает Калинина.
Близок
юбилейный риф,
на заказы
вновь добры,
помешают волоса ли?
Год в Калининых побыв,
бодро
бороду побрив,
снова
бюст
пошел в Лассали.
Вновь
Лассаль
стоит в продаже,
омоложенный проворно,
вызывая
зависть
даже
у профессора Воронова.
По наркомам
с кистью лазя,
день-деньской
заказов ждя,
укрепил
проныра
связи
в канцеляриях вождя.
Сила знакомства!
Сила родни!
Сила
привычек и давности!
Только попробуй
да сковырни
этот
нарост бездарностей!
По всем известной вероятности —
не оберешься
неприятностей.
Рабочий,
крестьянин,
швабру возьми,
метущую чисто
и густо,
и, месяц
метя
часов по восьми,
смети
халтуру
с искусства.
1928Секрет молодости
Нет,
не те «молодежь»,
кто, забившись
в лужайку да в лодку,
начинает
под визг и галдеж
прополаскивать
водкой
глотку.
Нет,
не те «молодежь»,
кто весной
ночами хорошими,
раскривлявшись
модой одeж,
подметают
бульвары
клешами.
Нет,
не те «молодежь»,
кто восхода
жизни зарево,
услыхав в крови
зудеж,
на романы
разбазаривает.
Разве
это молодость?
Нет!
Мало
быть
восемнадцати лет.
Молодые —
это те,
кто бойцовым
рядам поределым
скажет
именем
всех детей:
«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодежь —
это имя —
дар
тем,
кто влит в боевой КИМ,
тем,
кто бьется,
чтоб дни труда
были радостны
и легки!
1928Столп
Товарищ Попов
чуть-чуть не от плуга.
Чуть
не от станка
и сохи.
Он —
даже партиец,
но он
перепуган,
брюзжит
баритоном сухим:
«Раскроешь газетину —
в критике вся, —
любая
колеблется
глыба.
Кроют.
Кого?
Аж волосья́
встают
от фамилий
дыбом.
Ведь это —
подрыв,
подкоп ведь это…
Критику
осторожненько
до́лжно вести.
А эти —
критикуют,
не щадя авторитета,
ни чина,
ни стажа,
ни должности.
Критика
снизу —
это яд.
Сверху —
вот это лекарство!
Ну, можно ль
позволить
низам,
подряд,
всем! —
заниматься критиканством?!
О мерзостях
наших
трубим и поем.
Иди
и в газетах срамись я!
Ну, я ошибся…
Так в тресте ж,
в моем,
имеется
ревизионная комиссия.
Ведь можно ж,
не задевая столпов,
в кругу
своих,
братишек, —
вызвать,
сказать:
– Товарищ Попов,
орудуй…
тово…
потише… —
Пристали
до тошноты,
до рвот…
Обмазывают
кистью густою.
Товарищи,
ведь это же ж
подорвет
государственные устои!
Кого критикуют? —
вопит, возомня,
аж голос
визжит
тенорком. —
Вчера —
Иванова,
сегодня —
меня,
а завтра —
Совнарком!»
Товарищ Попов,
оставьте скулеж.
Болтовня о подрывах —
ложь!
Мы всех зовем,
чтоб в лоб,
а не пятясь,
критика
дрянь
косила.
И это
лучшее из доказательств
нашей
чистоты и силы.
1928Подлиза
Этот сорт народа —
тих
и бесформен,
словно студень, —
очень многие
из них
в наши
дни
выходят в люди.
Худ умом
и телом чахл
Петр Иванович Болдашкин.
В возмутительных прыщах
зря
краснеет
на плечах
не башка —
а набалдашник.
Этот
фрукт
теперь согрет
солнцем
нежного начальства.
Где причина?
В чем секрет?
Я
задумываюсь часто.
Жизнь
его
идет на лад;
на него
не брошу тень Я.
Клад его —
его талант:
нежный
способ
обхожденья.
Лижет ногу,
лижет руку,
лижет в пояс,
лижет ниже, —
как кутенок
лижет
суку,
как котенок
кошку лижет.
А язык?!
На метров тридцать
догонять
начальство
вылез —
мыльный весь,
аж может
бриться,
даже
кисточкой не мылясь.
Все похвалит,
впавши
в раж,
что
фантазия позволит —
ваш катар,
и чин,
и стаж,
вашу доблесть
и мозоли.
И ему
пошли
чины,
на него
в быту
равненье.
Где-то
будто
вручены
чуть ли не —
бразды правленья.
Раз
уже
в руках вожжа,
всех
сведя
к подлизным взглядам,
расслюнявит:
«Уважать,
уважать
начальство
надо…»
Мы
глядим,
уныло ахая,
как растет
от ихней братии
архи-разиерархия
в издевательстве
над демократией.
Вея шваброй
верхом,
низом,
сместь бы
всех,
кто поддались,
всех,
радеющих подлизам,
всех
радетельских
подлиз.
1928Сплетник
Петр Иванович Сорокин
в страсти —
холоден, как лед.
Все
ему
чужды пороки:
и не курит
и не пьет.
Лишь одна
любовь
рекой
залила́
и в бездну клонит —
любит
этакой серьгой
повисеть на телефоне.
Фарширован
сплетен
кормом,
он
вприпрыжку,
как коза,
к первым
вспомненным
знакомым
мчится
новость рассказать.
Задыхаясь
и сипя,
добредя
до вашей
дали,
он
прибавит от себя
пуд
пикантнейших деталей.
«Ну… —
начнет,
пожавши руки, —
обхохочете живот,
Александр
Петрович
Брюкин —
с секретаршею живет.
А Иван Иваныч Тестов —
первый
в тресте
инженер —
из годичного отъезда
возвращается к жене.
А у той,
простите,
скоро —
прибавленье!
Быть возне!
Кстати,
вот что —
целый город
говорит,
что раз
во сне…»
Скрыл
губу
ладоней ком,
стал
от страха остролицым.
«Новость:
предъявил…
губком…
ультиматум
австралийцам».
Прослюнявив новость
вкупе
с новостишкой
странной
с этой,
быстро
всем
доложит —
в супе
что
варилось у соседа,
кто
и что
отправил в рот,
нет ли,
есть ли
хахаль новый,
и из чьих
таких
щедрот
новый
сак
у Ивановой.
Когда
у такого
спросим мы
желание
самое важное —
он скажет:
«Желаю,
чтоб был
мир
огромной
замочной скважиной.
Чтоб, в скважину
в эту
влезши на треть,
слюну
подбирая еле,
смотреть
без конца,
без края смотреть —
в чужие
дела и постели».
1928Ханжа
Петр Иванович Васюткин
бога
беспокоит много —
тыщу раз,
должно быть,
в сутки
упомянет
имя бога.
У святоши —
хитрый нрав, —
черт
в делах
сломает ногу.
Пару
коробов
наврав,
перекрестится:
«Ей-богу».
Цапнет
взятку —
лапа в сале.
Вас считая за осла,
на вопрос:
«Откуда взяли?» —
отвечает:
«Бог послал».
Он
заткнул
от нищих уши, —
сколько ни проси, горласт,
как от мухи
отмахнувшись,
важно скажет:
«Бог подаст».
Вам
всуча
дрянцо с пыльцой,
обворовывая трест,
крестит
пузо
и лицо,
чист, как голубь:
«Вот те крест».
Грабят,
режут —
очень мило!
Имя
божеское
помнящ,
он
пройдет,
сказав громилам:
«Мир вам, братья,
бог на помощь!»
Вор
крадет
с ворами вкупе.
Поглядев
и скрывшись вбок,
прошептал,
глаза потупив:
«Я не вижу…
Видит бог».
Обворовывая
массу,
разжиревши понемногу,
подытожил
сладким басом:
«День прожил —
и слава богу».
Возвратясь
домой
с питей —
пил
с попом пунцоворожим, —
он
сечет
своих детей,
чтоб держать их
в страхе божьем.
Жене
измочалит
волосья и тело
и, женин
гнев
остудя,
бубнит елейно:
«Семейное дело.
Бог
нам
судья».
На душе
и мир
и ясь.
Помянувши
бога
на ночь,
скромно
ляжет,
помолясь,
христианин
Петр Иваныч.
Ублажаясь
куличом да пасхой,
божьим словом
нагоняя жир,
все еще
живут,
как у Христа за пазухой,
всероссийские
ханжи.
1928Стихи о разнице вкусов
Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
«Какая
гигантская
лошадь-ублюдок».
Верблюд же
вскричал:
«Да лошадь разве ты?
Ты
просто-напросто —
верблюд недоразвитый».
И знал лишь
бог седобородый,
что это —
животные
разной породы.
1928Ответ на будущие сплетни
Москва
меня
обступает, сипя,
до шепота
голос понижен:
«Скажите,
правда ль,
что вы
для себя
авто
купили в Париже?
Товарищ,
смотрите,
чтоб не было бед,
чтоб пресса
на вас не нацыкала.
Купили бы дрожки…
велосипед…
Ну
не более же ж мотоцикла!»
С меня
эти сплетни
как с гуся вода;
надел
хладнокровия панцирь.
– Купил – говорите?
Конешно,
да.
Купил,
и бросьте трепаться.
Довольно я шлепал,
дохл
да тих,
на разных
кобылах-выдрах.
Теперь
забензинено
шесть лошадих
в моих
четырех цилиндрах.
Разят
желтизною
из медных глазниц
глаза —
не глаза,
а жуть!
И целая
улица
падает ниц,
когда
кобылицы ржут.
Я рифм
накосил
чуть-чуть не стог,
аж впору
бухгалтеру сбиться.
Две тыщи шестьсот
бессоннейших строк
в руле,
в рессорах
и в спицах.
И мчишься,
и пишешь,
и лучше, чем в кресле.
Напрасно
завистники злятся.
Но если
объявят опасность
и если
бой
и мобилизация —
я, взяв под уздцы,
кобылиц подам
товарищу комиссару,
чтоб мчаться
навстречу
жданным годам
в последнюю
грозную свару.
Не избежать мне
сплетни дрянной.
Ну что ж,
простите, пожалуйста,
что я
из Парижа
привез «рено»,
а не духи
и не галстук.
1928Мразь
Подступает
голод к гландам…
Только,
будто бы на пире,
ходит
взяточников банда,
кошельки порастопыря.
Родные
снуют:
– Ублажь да уважь-ка! —
Снуют
и суют
в бумажке барашка.
Белей, чем саван,
из портфеля кончики…
Частники
завам
суют червончики.
Частник добрый,
частник рад
бросить
в допры
наш аппарат.
Допру нить не выдавая,
там,
где быт
и где грызня,
ходит
взятка бытовая, —
сердце,
душу изгрязня.
Безработный
ждет работку.
Волокита
с бирж рычит:
«Ставь закуску, выставь водку,
им
всучи
магарычи!»
Для копеек
пропотелых,
с голодухи
бросив
срам, —
девушки
рабочье тело
взяткой
тычут мастерам.
Чтобы выбиться нам
сквозь продажную смрадь
из грязного быта
и вшивого —
давайте
не взятки брать,
а взяточника
брать за шиворот!
1928Перекопский энтузиазм
Часто
сейчас
по улицам слышишь
разговорчики
в этом роде:
«Товарищи, легше,
товарищи, тише.
Это
вам
не 18-й годик!»
В нору
влезла
гражданка Кротиха,
в нору
влез
гражданин Крот.
Радуются:
«Живем ничего себе,
тихо.
Это
вам
не 18-й год!»
Дама
в шляпе рубликов на́ сто
кидает
кому-то,
запахивая котик:
«Не толкаться!
Но-но!
Без хамства!
Это
вам
не 18-й годик!»
Малого
мелочь
работой скосила.
В унынье
у малого
опущен рот…
«Куда, мол,
девать
молодецкие силы?
Это
нам
не 18-й год!»
Эти
потоки
слюнявого яда
часто
сейчас
по улице льются…
Знайте, граждане!
И в 29-м
длится
и ширится
Октябрьская революция.
Мы живем
приказом
октябрьской воли.
Огонь
«Авроры»
у нас во взоре.
И мы
обывателям
не позволим
баррикадные дни
чернить и позорить.
Года
не вымерить
по единой мерке.
Сегодня
равноценны
храбрость и разум.
Борись
и в мелочах
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$с баррикадной энергией,
в стройку
влей
перекопский энтузиазм.
1929Они и мы
В даль глазами лезу я…
Низкие лесёнки;
мне
сия Силезия
влезла в селезенки.
Граница.
Скука польская.
Дальше —
больше.
От дождика
скользкая
почва Польши.
На горизонте —
белое.
Снега
и Негорелое.
Как приятно
со́ снегу
вдруг
увидеть сосенку.
Конешно —
березки,
снегами припарадясь,
в снежном
лоске
большущая радость.
Километров тыщею
на Москву
рвусь я.
Голая,
нищая
бежит
Белоруссия.
Приехал —
сошел у знакомых картин:
вокзал
Белорусско-Балтийский.
Как будто
у про́клятых
лозунг один:
толкайся,
плюйся
да тискай.
Му́ка прямо.
Ездить —
особенно.
Там —
яма,
здесь —
колдобина.
Загрустил, братцы, я!
Дыры —
дразнятся.
Мы
и Франция…
Какая разница!
Но вот,
врабатываясь
и оглядывая,
как штопается
каждая дырка,
насмешку
снова
ломаешь надвое
и перестаешь
европейски фыркать.
Долой
подхихикивающих разинь!
С пути,
джентльмены лаковые!
Товарищ,
сюда становись,
из грязи́
рабочую
жизнь
выволакивая!
1929Красавицы
(Раздумье на открытии Grand Opéra[7])
В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По гранд
по опере
гуляю грандом.
Смотрю
в антракте —
красавка на красавице.
Размяк характер —
все мне
нравится.
Талии —
кубки.
Ногти —
в глянце
Крашеные губки
розой убиганятся.
Ретушь —
у глаза.
Оттеняет синь его.
Спины
из газа
цвета лососиньего.
Упадая
с высоты,
пол
метут
шлейфы.
От такой
красоты
сторонитесь, рефы.
Повернет —
в брильянтах уши.
Пошеве́лится шаля —
на грудинке
ряд жемчужин
обнажают
шиншиля.
Платье —
пухом.
Не дыши.
Аж на старом
на морже
только фай
да крепдешин,
только
облако жоржет.
Брошки – блещут…
на́ тебе! —
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы…
голову.
1929Стихи о советском паспорте
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый
движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое.
С почтеньем
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским левою.
Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.
На польский —
глядят,
как в афишу коза.
На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за
географические новости?
И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг,
как будто
ожогам,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаще
глаз носильщика,
хоть вещи
снесет задаром вам.
Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик
на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.
1929Особое мнение
Огромные вопросищи,
огромней слоних,
страна
решает
миллионнолобая.
А сбоку
ходят
индивидумы,
а у них
мнение обо всем
особое.
Смотрите,
в ударных бригадах
Союз,
держат темп
и не ленятся,
но индивидум в ответ:
«А я
остаюсь
при моем,
особом мненьице».
Мы выполним
пятилетку,
мартены воспламеня,
не в пять годов,
а в меньше,
но индивидум
не верит:
«А у меня
имеется, мол,
особое мненьище».
В индустриализацию
льем заем,
а индивидум
сидит в томлении
и займа не покупает
и настаивает на своем
собственном,
особенном мнении.
Колхозим
хозяйства
бедняцких масс,
кулацкой
не спугнуты
злобою,
а индивидумы
шепчут:
«У нас
мнение
имеется
особое».
Субботниками
бьет
рабочий мир
по неразгруженным
картофелям и поленьям,
а индивидумы
нам
заявляют:
«Мы
посидим
с особым мнением».
Не возражаю!
Консервируйте
собственный разум,
прикосновением
ничьим
не попортив,
но тех,
кто в работу
впрягся разом, —
не оттягивайте
в сторонку
и напротив.
Трясина
старья
для нас не годна —
ее
машиной
выжжем до дна.
Не втыкайте
в работу
клинья, —
и у нас
и у массы
и мысль одна
и одна
генеральная линия.
1929Даешь материальную базу!
Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных при социализме.
«Мне, товарищи,
этажи не в этажи —
мне
удобства подай.
Мне, товарищи,
хочется жить
не хуже,
чем жили господа.
Я вам, товарищи,
не дрозд
и не синица,
мне
и без этого
делов массу.
Я, товарищи,
хочу возноситься,
как подобает
господствующему классу.
Я, товарищи,
из нищих вышел,
мне
надоело
в грязи побираться.
Мне бы, товарищи,
жить повыше,
у самых
солнечных
протуберанцев.
Мы, товарищи,
не лошади
и не дети —
скакать
на шестой,
поклажу взвалив?!
Словом, —
во-первых,
во-вторых
и в-третьих, —
мне
подавайте лифт.
А вместо этого лифта
мне —
прыгать —
работа трехпотая!
Черным углем
на белой стене
выведено криво:
«Лифт
НЕ
работает».
Вот так же
и многое
противно глазу. —
Примуса́, например?!
Дорогу газу!
Поработав,
желаю
помыться сразу.
Бегай —
лифт-мошенник!
Словом,
давайте
материальную базу
для новых
социалистических отношений».
Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
Я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных
при социализме.
1929Последний крик
О, сколько
женского народу
по магазинам
рыскают
и ищут моду,
просят моду,
последнюю,
парижскую.
Стихи поэта
к вам
нежны,
дочки
и мамаши.
Я понимаю —
вам нужны
чулки,
платки,
гамаши.
Склонились
над прилавком ивой,
перебирают
пальцы
платьице,
чтоб очень
было бы
красивое
и чтоб
совсем не очень
тратиться.
Но, несмотря
на нежность сильную,
остановлю вас,
тих
и едок:
– Оно
на даму
на субтильную,
для
буржуазных дармоедок.
А с нашей
красотой суровою
костюм
к лицу
не всякий ляжет,
мы
часто
выглядим коровою
в купальных трусиках
на пляже.
Мы выглядим
в атласах —
репою…
Забудьте моду!
К черту вздорную!
Одежду
в Москвошвее
требуй
простую,
легкую,
просторную.
Чтоб Москвошвей
ответил:
«Нате!
Одежду
не найдете проще —
прекрасная
и для занятий
и для гуляний
с милым
в роще».
1929Любители затруднений
Он любит шептаться,
хитер да тих,
во всех
городах и селеньицах:
«Тс-с, господа,
я знаю —
у них
какие-то затрудненьица».
В газету
хихикает,
над цифрой трунив:
«Переборщили,
замашинив денежки.
Тс-с, господа,
порадуйтесь —
у них
какие-то
такие затрудненьишки».
Усы
закручивает,
весел и лих:
«У них
заухудшился день еще.
Тс-с, господа,
подождем —
у них
теперь
огромные затрудненьища».
Собрав
шептунов,
врунов
и вруних,
переговаривается
орава:
«Тс-с-с, господа,
говорят,
у них
затруднения.
Замечательно!
Браво!»
Затруднения одолеешь,
сбавляет тон,
переходит
от веселия
к грусти.
На перспективах
живо
наживается он —
он
своего не упустит.
Своего не упустит он,
но зато
у другого
выгрызет лишек,
не упустит
уставиться
в сто задов
любой
из очередишек.
И вылезем лишь
из грязи
и тьмы —
он первый
придет, нахален,
и, выпятив грудь,
раззаявит:
«Мы
аж на тракторах —
пахали!»
Республика
одолеет
хозяйства несчастья,
догонит
наган
врага.
Счищай
с путей
завшивевших в мещанстве,
путающихся
у нас
в ногах!
1929Марш ударных бригад
Вперед
тракторами по целине!
Домны
коммуне
подступом!
Сегодня
бейся, революционер,
на баррикадах
производства.
Раздувай
коллективную
грудь-меха,
лозунг
мчи
по рабочим взводам.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед,
в египетскую
русскую темь,
как
гвозди,
вбивай
лампы!
Шаг держи!
Не теряй темп!
Перегнать
пятилетку
нам бы.
Распрабабкиной техники
скидывай хлам.
Днепр,
турбины
верти по заводьям.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед!
Коммуну
из времени
вод
не выловишь
золото-рыбкою.
Накручивай,
наворачивай ход
без праздников —
непрерывкою.
Трактор
туда,
где корпела соха,
хлеб
штурмуй
колхозным
походом.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед
беспрогульным
гигантским ходом!
Не взять нас
буржуевым гончим!
Вперед!
Пятилетку
в четыре года
выполним,
вымчим,
закончим.
Электричество
лей,
река-лиха!
Двигай фабрики
фырком зловодым.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Энтузиазм,
разрастайся и длись
фабричным
сиянием радужным.
Сейчас
подымается социализм
живым,
настоящим,
правдошним.
Этот лозунг
неси
бряцаньем стиха,
размалюй
плакатным разводом.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов —
к ударным заводам.
1930Из цикла «Стихи об Америке»
Атлантический океан
Испанский камень
слепящ и бел,
а стены —
зубьями пил.
Пароход
до двенадцати
уголь ел
и пресную воду пил.
Повел
пароход
окованным носом
и в час,
сопя,
вобрал якоря
и понесся.
Европа
скрылась, мельчась.
Бегут
по бортам
водяные глыбы,
огромные,
как года́.
Надо мною птицы,
подо мною рыбы,
а кругом —
вода.
Недели
грудью своей атлетической —
то работяга,
то в стельку пьян —
вздыхает
и гремит
Атлантический
океан.
«Мне бы, братцы,
к Сахаре подобраться…
Развернись и плюнь —
пароход внизу.
Хочу топлю,
хочу везу.
Выходи сухой —
сварю ухой.
Людей не надо нам —
малы к обеду.
Не трону…
ладно…
пускай едут…»
Волны
будоражить мастера́:
детство выплеснут;
другому —
голос милой.
Ну, а мне б
опять
знамена простирать!
Вон —
пошло,
затарахтело,
загромило!
И снова
вода
присмирела сквозная,
и нет
никаких сомнений ни в ком.
И вдруг,
откуда-то —
черт его знает! —
встает
из глубин
воднячий Ревком.
И гвардия капель —
воды партизаны —
взбираются
ввысь
с океанского рва,
до неба метнутся
и падают заново,
порфиру пены в клочки изодрав.
И снова
спаялись во́ды в одно,
волне
повелев
разбурлиться вождем.
И прет волнища
с-под тучи
на дно —
приказы
и лозунги
сыплет дождем.
И волны
клянутся
всеводному Цику
оружие бурь
до победы не класть.
И вот победили —
экватору в циркуль
Советов-капель бескрайняя власть.
Последних волн небольшие митинги
шумят
о чем-то
в возвышенном стиле.
И вот
океан
улыбнулся умытенький
и замер
на время
в покое и в штиле.
Смотрю за перила.
Старайтесь, приятели!
Под трапом,
нависшим
ажурным мостком,
при океанском предприятии
потеет
над чем-то
волновий местком.
И под водой
деловито и тихо
дворцом
растет
кораллов плетенка,
чтоб легше жилось
трудовой китихе
с рабочим китом
и дошкольным китенком.
Уже
и луну
положили дорожкой.
Хоть прямо
на пузе,
как по́ суху, лазь.
Но враг не сунется —
в небо
сторожко
глядит,
не сморгнув,
Атлантический глаз.
То стынешь
в блеске лунного лака,
то стонешь,
облитый пеною ран.
Смотрю,
смотрю —
и всегда одинаков,
любим,
близок мне океан.
Вовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокинуть рад.
По шири,
по делу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.
1925Мелкая философия на глубоких местах
Превращусь
не в Толстого, так в толстого, —
ем,
пишу,
от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.
Вчера
океан был злой,
как черт,
сегодня
смиренней
голубицы на яйцах.
Какая разница!
Все течет…
Все меняется.
Есть
у воды
своя пора:
часы прилива,
часы отлива.
А у Стеклова
вода
не сходила с пера.
Несправедливо.
Дохлая рыбка
плывет одна.
Висят
плавнички,
как подбитые крылышки.
Плывет недели,
и нет ей —
ни дна,
ни покрышки.
Навстречу
медленней, чем тело тюленье,
пароход из Мексики,
а мы —
туда.
Иначе и нельзя.
Разделение
труда.
Это кит – говорят.
Возможно и так.
Вроде рыбьего Бедного —
обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу,
а у кита
внутри.
Годы – чайки.
Вылетят в ряд —
и в воду —
брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?
Я родился,
рос,
кормили соскою, —
жил,
работал,
стал староват…
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.
3 июля 1925 г., Атлантический океанБлек энд уайт
Если
Гавану
окинуть мигом —
рай-страна,
страна что надо.
Под пальмой
на ножке
стоят фламинго.
Цветет
коларио
по всей Ведадо.
В Гаване
все
разграничено четко:
у белых доллары,
у черных – нет.
Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
у «Энри Клей энд Бок, лимитед».
Много
за жизнь
повымел Вилли —
одних пылинок
целый лес, —
поэтому
волос у Вилли
вылез,
поэтому
живот у Вилли
влез.
Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что
вор,
портово́й инспектор,
кинет
негру
цент на бегу.
От этой грязи скроешься разве?
Разве что
стали б
ходить на голове.
И то
намели бы
больше грязи:
волосьев тыщи,
а ног —
две.
Рядом
шла
нарядная Прадо.
То звякнет,
то вспыхнет
трехверстный джаз.
Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаване как раз.
В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало всходов,
мало посева.
Одно-
единственное
вызубрил Вили
тверже,
чем камень
памятника Масео:
«Белый
ест
ананас спелый,
черный —
гнилью моченый.
Белую работу
делает белый,
черную работу —
черный».
Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был
закорюка из закорюк.
И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,
щетка
падала
из Виллиных рук.
И надо же случиться,
чтоб как раз тогда
к королю сигарному
Энри Клей
пришел,
белей, чем облаков стада,
величественнейший из сахарных королей.
Негр
подходит
к туше дебелой:
«Ай бэг ёр па́рдон, мистер Брэгг!
Почему и сахар,
белый-белый,
должен делать
черный негр?
Черная сигара
не идет в усах вам —
она для негра
с черными усами.
А если вы
любите
кофий с сахаром,
то сахар
извольте
делать сами».
Такой вопрос
не проходит даром.
Король
из белого
становится желт.
Вывернулся
король
сообразно с ударом,
выбросил обе перчатки
и ушел.
Цвели
кругом
чудеса ботаники.
Бананы
сплетали
сплошной кров.
Вытер
негр
о белые подштанники
руку,
с носа утершую кровь.
Негр
посопел подбитым носом,
поднял щетку,
держась за скулу.
Откуда знать ему,
что с таким вопросом
надо обращаться
в Коминтерн,
в Москву?
5 июля 1925 г., ГаванаТропики
(Дорога Вера-круц – Мехико-сити)
Смотрю:
вот это —
тропики.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд
прет торопкий
сквозь пальмы,
сквозь банановые.
Их силуэты-веники
встают рисунком тошненьким:
не то они – священники,
не то они – художники.
Аж сам
не веришь факту:
из всей бузы и вара
встает
растенье – кактус
трубой от самовара.
А птички в этой печке
красивей всякой меры.
По смыслу —
воробейчики,
а видом —
шантеклеры.
Но прежде чем
осмыслил лес
и бред,
и жар,
и день я —
и день
и лес исчез
без вечера
и без
предупрежденья.
Где горизонта борозда?!
Все линии
потеряны.
Скажи,
которая звезда
и где
глаза пантерины?
Не счел бы
лучший казначей
звезды́
тропических ночей,
настолько
ночи августа
звездой набиты
нагусто.
Смотрю:
ни зги, ни тропки.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд прет
сквозь тропики,
сквозь запахи
банановые.
1926Мексика
О, как эта жизнь читалась взасос!
Идешь.
Наступаешь на́ ноги.
В руках
превращается
ранец в лассо,
а клячи пролеток —
мустанги.
Взаправду
игрушечный
рос магазин,
ревел
пароходный гудок.
Сейчас же
сбегу
в страну мокасин —
лишь сбондю
рубль и бульдог.
А сегодня —
это не умора.
Сколько миль воды
винтом нарыто, —
и встает
живьем
страна Фениамора
Купера
и Майн Рида.
Рев сирен,
кончается вода.
Мы прикручены
к земле
о локоть локоть.
И берет
набитый «Лефом»
чемодан
Монтигомо
Ястребиный Коготь.
Глаз торопится слезой налиться.
Как? чему я рад? —
– Ястребиный Коготь!
Я ж
твой «Бледнолицый
Брат».
Где товарищи?
чего таишься?
Помнишь,
из-за клумбы
стрелами
отравленными
в Кутаисе
били
мы
по кораблям Колумба? —
Цедит
злобно
Коготь Ястребиный,
медленно,
как треснувшая крынка:
– Нету краснокожих – истребили
гачупи́ны с гри́нго.
Ну, а тех из нас,
которых
пульки
пощадили,
просвистевши мимо,
кабаками
кактусовый «пульке»
добивает
по 12-ти сантимов.
Заменила
чемоданов куча
стрелы,
от которых
никуда не деться… —
Огрызнулся
и пошел,
сомбреро нахлобуча
вместо радуги
из перьев
птицы Ке́тцаль.
Года и столетья!
Как ни коси́те
склоненные головы дней, —
корявые камни
Мехико-сити
прошедшее вышепчут мне.
Это
было
так давно,
как будто не было.
Бабушки столетних попугаев
не запомнят.
Здесь
из зыби озера
вставал Пуэбло,
дом-коммуна
в десять тысяч комнат.
И золото
между озерных зыбей
лежало,
аж рыть не надо вам.
Чего еще,
живи,
бронзовей,
вторая сестра Элладова!
Но очень надо
за морем
белым,
чего индейцу не надо.
Жадна
у белого
Изабелла,
жена
короля Фердинанда.
Тяжек испанских пушек груз.
Сквозь пальмы,
сквозь кактусы лез
по этой дороге
из Вера-Круц
генерал
Эрнандо Корте́с.
Пришел.
Вода студеная
хочет
вскипеть кипятком
от огня.
Дерутся
72 ночи
и 72 дня.
Хранят
краснокожих
двумордые идолы.
От пушек
не видно вреда.
Как мышь на сало,
прельстясь на титулы,
своих
Моктецума преда́л.
Напрасно,
разбитых
в отряды спаяв,
Гвате́мок
в озерной воде
мок.
Что
против пушек
стреленка твоя!..
Под пытками
умер Гвате́мок.
И вот стоим,
индеец да я,
товарищ
далекого детства.
Он умер,
чтоб в бронзе
веками стоять
наискосок от полпредства.
Внизу
громыхает
столетий орда,
и горько стоять индейцу.
Что́ братьям его,
рабам,
чехарда
всех этих Хуэрт
и Диэцов?..
Прошла
годов трезначная сумма.
Героика
нынче не тема.
Пивною маркой стал Моктецума,
пивной маркой —
Гвате́мок.
Буржуи
всё
под одно стригут.
Вконец обесцветили мир мы.
Теперь
в утешенье земле-старику
лишь две
конкурентки фирмы.
Ни лиц пожелтелых,
ни солнца одеж.
В какую
огромную лупу,
в какой трущобе
теперь
найдешь
сарапе и Гваделупу?
Что Рига, что Мехико —
родственный жанр.
Латвия
тропического леса.
Вся разница:
зонтик в руке у рижан,
а у мексиканцев
«Смит и Ве́ссов».
Две Латвии
с двух земных боков —
различные собой они
лишь тем,
что в Мексике
режут быков
в театре,
а в Риге —
на бойне.
И совсем как в Риге,
около пяти,
проклиная
мамову опеку,
фордом
разжигая жениховский аппетит,
кружат дочки
по Чапультапеку.
А то,
что тут урожай фуража,
что в пальмы земля разодета,
так это от солнца, —
сиди
и рожай
бананы и президентов.
Наверху министры
в бриллиантовом огне.
Под —
народ.
Голейший зад виднеется.
Без штанов,
во-первых, потому, что нет,
во-вторых, —
не полагается:
индейцы.
Обнищало
моктецумье племя,
и стоит оно
там,
где город
выбег
на окраины прощаться
перед вывеской
муниципальной:
«Без штанов
в Мехико-сити
вход воспрещается».
Пятьсот
по Мексике
нищих племен,
а сытый
с одним языком:
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.
Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом!
Несись
по земле
из страны мексиканцев,
роднящий крик:
«Камарада!»
Голод
мастер людей равнять.
Каждый индеец,
кто гол.
В грядущем огне
родня-головня
ацтек,
метис
и креол.
Мильон не угробят богатых лопаты.
Страна!
Поди,
покори ее!
Встают
взамен одного Запаты
Гальваны,
Морено,
Кари́о.
Сметай
с горбов
толстопузых обузу,
ацтек,
креол
и метис!
Скорей
над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись!
20 июля 1925 г. Мехико-ситиМексика – Нью-Йорк
Бежала
Мексика
от буферов
горящим,
сияющим бредом.
И вот
под мостом
река или ров,
делящая
два Ларедо.
Там доблести —
скачут,
коня загоня,
в пятак
попадают
из кольта,
и скачет конь,
и брюхо коня
о колкий кактус исколото.
А здесь
железо —
не расшатать!
Ни воли,
ни жизни,
ни нерва вам!
И сразу
рябит
тюрьма решета
вам
для знакомства
для первого.
По рельсам
поезд сыпет,
под рельсой
шпалы сыпятся.
И гладью
Миссисипи
под нами миссисипится.
По бокам
поезда
не устанут сновать:
или хвост мелькнет,
или нос.
На боках поездных
страновеют слова:
«Сан-Луис»,
«Мичига́н»,
«Иллино́йс»!
Дальше, поезд,
огнями расцвеченный!
Лез,
обгоняет,
храпит.
В Нью-Йорк несется
«Тве́нти се́нчери
экспресс».
Курьерский!
Рапи́д!
Кругом дома,
в этажи затеряв
путей
и проволок множь.
Теряй шапчонку,
глаза задеря,
все равно —
ничего не поймешь!
1926Бродвей
Асфальт – стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки —
сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
на запад с востока —
стриты.
А между —
(куда их строитель завез!) —
дома
невозможной длины.
Одни дома
длиною до звезд,
другие —
длиной до луны.
Янки
подошвами шлепать
ленив:
простой
и курьерский лифт.
В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов —
отлив.
Скрежещет механика,
звон и гам,
а люди
немые в звоне.
И лишь замедляют
жевать чуингам,
чтоб бросить:
«Мек моней?»
Мамаша
грудь
ребенку дала.
Ребенок,
с каплями из носу,
сосет
как будто
не грудь, а долла́р —
занят
серьезным
бизнесом.
Работа окончена.
Тело обвей
в сплошной
электрический ветер.
Хочешь под землю —
бери собвей,
на небо —
бери элевейтер.
Вагоны
едут
и дымам под рост,
и в пятках
домовьих
трутся,
и вынесут
хвост
на Бруклинский мост,
и спрячут
в норы
под Гудзон.
Тебя ослепило,
ты
осовел.
Но,
как барабанная дробь,
из тьмы
по темени:
«Кофе Максве́л
гуд
ту ди ласт дроп».
А лампы
как станут
ночь копать,
ну, я доложу вам —
пламечко!
Налево посмотришь —
мамочка мать!
Направо —
мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за́ день
в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк.
Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.
6 августа 1925 г., Нью-ЙоркСвидетельствую
Вид индейцев таков:
пернат,
смешон
и нездешен.
Они
приезжают
из первых веков
сквозь лязг
«Пенсильвэниа Сте́йшен».
Им
Ку́лиджи
пару пальцев суют.
Снимают
их
голливудцы.
На крыши ведут
в ресторанный уют.
Под ними,
гульбу разгудевши свою,
нью-йоркские улицы льются.
Кто их радует?
чем их злят?
О чем их дума?
куда их взгляд?
Индейцы думают:
«Ишь —
капитал!
Ну и дома́ застроил.
Всё отберем
ни за пятак
при
социалистическом строе.
Сначала
будут
бои клокотать.
А там
ни вражды,
ни начальства!
Тишь
да гладь
да божья благодать —
сплошное луначарство.
Иными
рейсами
вспенятся воды;
пойдут
пароходы зажаривать,
сюда
из Москвы
возить переводы
произведений Жарова.
И радио —
только мгла легла —
правду-матку вызвенит.
Придет
и расскажет
на весь вигвам,
в чем
красота
жизни.
И к правде
пойдет
индейская рать,
вздымаясь
знаменной уймою…»
Впрочем,
зачем
про индейцев врать?
Индейцы
про это
не думают.
Индеец думает:
«Там,
где черно
воде
у моста в оскале,
плескался
недавно
юркий челнок
деда,
искателя скальпов.
А там,
где взвит
этажей коробо́к
и жгут
миллион киловатт, —
стоял
индейский
военный бог,
брюхат
и головат.
И все,
что теперь
вокруг течет,
все,
что отсюда видимо, —
все это
вытворил белый черт,
заморская
белая ведьма.
Их
всех бы
в лес прогнать
в один,
и мы чтоб
с копьем гонялись…»
Поди
под такую мысль
подведи
классовый анализ.
Мысль человечья
много сложней,
чем знают
у нас
о ней.
Тряхнув
оперенья нарядную рядь
над пастью
облошаделой,
сошли
и – пока!
пошли вымирать.
А что им
больше
делать?
Подумай
о новом агит-винте.
Винти,
чтоб задор не гас его.
Ждут.
Переводи, Коминтерн,
расовый гнев
на классовый.
1926Небоскреб в разрезе
Возьми
разбольшущий
дом в Нью-Йорке,
взгляни
насквозь
на зданье на то.
Увидишь —
старейшие
норки да каморки —
совсем
дооктябрьский
Елец аль Конотоп.
Первый —
ювелиры,
караул бессменный,
замок
зацепился ставням о бровь.
В сером
герои кино,
полисмены,
лягут
собаками
за чужое добро.
Третий —
спят бюро-конторы.
Ест
промокашки
рабий пот.
Чтоб мир
не забыл,
хозяин который,
на вывесках
золотом
«Вильям Шпрот».
Пятый.
Подсчитав
приданные сорочки,
мисс
перезрелая
в мечте о женихах.
Вздымая грудью
ажурные строчки,
почесывает
пышных подмышек меха.
Седьмой.
Над очагом
домашним
высясь,
силы сберегши
спортом смолоду,
сэр
своей законной ми́ссис,
узнав об измене,
кровавит морду.
Десятый.
Медовый.
Пара легла.
Счастливей,
чем Ева с Адамом были.
Читают
в «Таймсе»
отдел реклам:
«Продажа в рассрочку автомобилей».
Тридцатый.
Акционеры
сидят увлечены,
делят миллиарды,
жадны и озабочены.
Прибыль
треста
«изготовленье ветчины
из лучшей
дохлой
чикагской собачины».
Сороковой.
У спальни
опереточной дивы.
В скважину
замочную,
сосредоточив прыть,
чтоб Ку́лидж дал развод,
детективы
мужа
должны
в кровати накрыть.
Свободный художник,
рисующий задочки,
дремлет в девяностом,
думает одно:
как бы ухажнуть
за хозяйской дочкой —
да так,
чтоб хозяину
всучить полотно.
А с крыши стаял
скатертный снег.
Лишь ест
в ресторанной выси
большие крохи
уборщик-негр,
а маленькие крошки —
крысы.
Я смотрю,
и злость меня берет
на укрывшихся
за каменный фасад.
Я стремился
за 7000 верст вперед,
а приехал
на 7 лет назад.
1925Порядочный гражданин
Если глаз твой
врага не видит,
пыл твой выпили
нэп и торг,
если ты
отвык ненавидеть, —
приезжай
сюда,
в Нью-Йорк.
Чтобы, в мили улиц опутан,
в боли игл
фонарных ежей,
ты прошел бы
со мной
лилипутом
у подножия
их этажей.
Видишь —
вон
выгребают мусор —
на объедках
с детьми пронянчиться,
чтоб в авто,
обгоняя «бусы»,
ко дворцам
неслись бриллиантщицы.
Загляни
в окошки в эти —
здесь
наряд им вышили княжий.
Только
сталью глушит элевейтер
хрип
и кашель
чахотки портняжей.
А хозяин —
липкий студень —
с мордой,
вспухшей на радость чирю́,
у работницы
щупает груди:
«Кто понравится —
удочерю!
Двести дам
(если сотни мало),
грусть
сгоню
навсегда с очей!
Будет
жизнь твоя —
Ку́ни-Айланд,
луна-парк
в миллиард свечей».
Уведет —
а назавтра
зве́рья,
волчья банда
бесполых старух
проститутку —
в смолу и в перья,
и опять
в смолу и в пух.
А хозяин
в отеле Пла́за,
через рюмку
и с богом сблизясь,
закатил
в поднебесье глазки:
«Се́нк’ю
за хороший бизнес!»
Успокойтесь,
вне опасения
ваша трезвость,
нравственность,
дети,
барабаны
«армий спасения»
вашу
в мир
трубят добродетель.
Бог
на вас
не разукоризнится:
с вас
и маме их —
на платок,
и ему
соберет для ризницы
божий ме́наджер,
поп Платон.
Клоб полиций
на вас не свалится.
Чтобы ты
добрел, как кулич,
смотрит сквозь холеные пальцы
на тебя
демократ Кули́дж.
И, елозя
по небьим сводам
стражем ханжества,
центов
и сала,
пялит
руку
ваша свобода
над тюрьмою
Элис-Айланд.
1925Вызов
Горы злобы
аж ноги гнут.
Даже
шея вспухает зобом.
Лезет в рот,
в глаза и внутрь.
Оседая,
влезает злоба.
Весь в огне.
Стою на Риверсайде.
Сбоку
фордами
штурмуют мрака форт.
Небоскребы
локти скручивают сзади,
впереди
американский флот.
Я смеюсь
над их атакою тройною.
Ники Картеры
мою
недоглядели визу.
Я
полпред стиха —
и я
с моей страной
вашим штатишкам
бросаю вызов.
Если
кроха протухла,
пле́снится,
выбрось
весь
прогнившей кус.
Сплюнул я,
не доев и месяца
вашу доблесть,
законы,
вкус.
Посылаю к чертям свинячим
все доллары
всех держав.
Мне бы
кончить жизнь
в штанах,
в которых начал,
ничего
за век свой
не стяжав.
Нам смешны
дозволенного зоны.
Взвод мужей,
остолбеней,
цинизмом поражен!
Мы целуем
– беззаконно! —
над Гудзоном
ваших
длинноногих жен.
День наш
шумен.
И вечер пышен.
Шлите
сыщиков
в щелки слушать.
Пьем,
плюя
на ваш прогибишен,
ежедневную
«Белую лошадь».
Вот и я
стихом побрататься
прикатил и вбиваю мысли,
не боящиеся депортаций:
ни сослать их нельзя
и не выселить.
Мысль
сменяют слова,
а слова —
дела,
и глядишь,
с небоскребов города,
раскачав,
в мостовые
вбивают тела —
Вандерлипов,
Рокфеллеров,
Фордов.
Но пока
доллар
всех поэм родовей.
Обирая,
лапя,
хапая,
выступает,
порфирой надев Бродвей,
капитал —
его препохабие.
1925Бруклинский мост
Издай, Кули́дж,
радостный клич!
На хорошее
и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего мате́рийка,
хоть вы
и разъюнайтед стетс
оф
Америка.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скит
удаляется,
строг и прост, —
так я
в вечерней
сереющей мерещи
вхожу,
смиренный, на Бру́клинский мост.
Как в город
в сломанный
прет победитель
на пушках – жерлом
жирафу под рост —
так, пьяный славой,
так жить в аппетите,
влезаю,
гордый,
на Бруклинский мост.
Как глупый художник
в мадонну музея
вонзает глаз свой,
влюблен и остр,
так я,
с поднебесья,
в звезды усеян,
смотрю
на Нью-Йорк
сквозь Бруклинский мост.
Нью-Йорк
до вечера тяжек
и душен,
забыл,
что тяжко ему
и высо́ко,
и только одни
домовьи души
встают
в прозрачном свечении о́кон.
Здесь
еле зудит
элевейтеров зуд.
И только
по этому
тихому зуду
поймешь —
поезда́
с дребезжаньем ползут,
как будто
в буфет убирают посуду.
Когда ж,
казалось, с-под речки на́чатой
развозит
с фабрики
сахар лавочник, —
то
под мостом проходящие мачты
размером
не больше размеров булавочных.
Я горд
вот этой
стальною милей,
живьем в ней
мои видения встали —
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.
Если
придет
окончание света —
планету
хаос
разделает в лоск,
и только
один останется
этот
над пылью гибели вздыбленный мост,
то,
как из косточек,
тоньше иголок,
тучнеют
в музеях стоя́щие
ящеры,
так
с этим мостом
столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дни настоящие.
Он скажет:
– Вот эта
стальная лапа
соединяла
моря и прерии,
отсюда
Европа
рвалась на Запад,
пустив
по ветру
индейские перья.
Напомнит
машину
ребро вот это —
сообразите,
хватит рук ли,
чтоб, став
стальной ногой
на Манге́тен,
к себе
за губу
притягивать Бру́клин?
По проводам
электрической пряди —
я знаю —
эпоха
после пара —
здесь
люди
уже
орали по радио,
здесь
люди
уже
взлетали по аэро.
Здесь
жизнь
была
одним – беззаботная,
другим —
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
И дальше
картина моя
без загвоздки
по струнам-канатам,
аж звездам к ногам.
Я вижу —
здесь
стоял Маяковский,
стоял
и стихи слагал по слогам. —
Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо впивается клещ.
Бру́клинский мост —
да…
Это вещь!
1925Домой!
Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен, —
тот,
по-моему,
просто глуп.
Я в худшей каюте
из всех кают —
всю ночь надо мною
ногами куют.
Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец,
стонет мотив:
«Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,
Маркита,
не любишь меня…»
А зачем
любить меня Марките?!
У меня
и франков даже нет.
А Маркиту
(толечко моргните!)
за́ сто франков
препроводят в кабинет.
Небольшие деньги —
поживи для шику —
нет,
интеллигент,
взбивая грязь вихров,
будешь всучивать ей
швейную машинку,
по стежкам
строчащую
шелка́ стихов.
Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил, —
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.
Все равно —
сослался сам я
или послан к маме —
слов ржавеет сталь,
чернеет баса медь.
Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?
Вот лежу,
уехавший за воды,
ленью
еле двигаю
моей машины части.
Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
после служебных тя́гот.
Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на́ год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
чтоб сверхставками спе́ца
получало
любовищу сердце.
Я хочу,
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.
«Так, мол,
и так…
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы…»
1925Поэмы
Облако в штанах
Тетраптих
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий,
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огро́мив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходи́те учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
Хотите —
буду от мяса бешеный
– и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а – облако в штанах!
Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.
1
Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.
Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом, в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.
Полночь, с ножом мечась,
Догна́ла,
зарезала, —
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.
В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.
Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.
Рухнула штукатурка в нижнем этаже.
Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на́ зуб.
Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала;
«Знаете —
я выхожу замуж».
Что ж, выходите,
Ничего.
Покреплюсь.
Видите – спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы – Джиоконда,
которую надо украсть!
И украли.
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей за́гиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
Дра́зните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!
Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?
И чувствую —
«я»
для меня мало́.
Кто-то из меня вырывается упрямо
Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.
Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!
Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!
2
Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil»[8].
Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!
Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.
Улица му́ку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi[9] и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки площе.
Город дорогу мраком запер.
И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хо́рах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!
А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»
Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется – «борщ».
Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»
А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.
Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!
Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!
Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.
Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!
Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!
Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеня,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъя́звили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!
Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!
Жилы и мускулы – молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!
Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»
Но мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.
Видели,
как собака бьющую руку лижет?!
Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас – его предтеча;
я – где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
ра́спял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!
И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.
3
Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!
Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.
И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном
человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»
Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»
И эту секунду,
бенгальскую
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на…
А из сигарного дыма
ликерного рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!
Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли», —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер!
От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.
Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.
Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»
Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.
Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.
Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!
Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.
Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.
На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.
Уже сумасшествие.
Ничего не будет.
Ночь придет,
перекусит
и съест.
Видите —
небо опять иудит
пригоршнью обрызганных предательством
звезд?
Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!
Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу – глаза круглы, —
глазами в сердце въелась богоматерь.
Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь – опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?
Может быть, нарочно я
в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики – отцы,
девочки – забеременели.
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос,
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.
4
Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».
Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.
В улицах
люди жир продырявят в четыреэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
– опять! —
черствая булка вчерашней ласки.
Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.
Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.
Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку
Пресни.
Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!
Мария!
Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.
Открой!
Больно!
Видишь – натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!
Пустила.
Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.
Мария, ближе!
В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.
Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».
Мария – дай!
Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.
Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.
Мария —
не хочешь?
Не хочешь!
Ха!
Значит – опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.
Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.
Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:
– Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте – знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из севрской му́ки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!
Пустите!
Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.
1914–1915Флейта-позвоночник
Пролог
За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.
Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.
Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.
1
Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!
Буре веселья улицы узки.
Праздник нарядных черпал и черпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.
Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!
Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:
погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спаленной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью па́ленной,
и серой издымится мясо дьявола.
А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.
Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.
Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
Всевышний инквизитор!
Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимою!
Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!
2
И небо,
в дымах забывшее, что голубо,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.
Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.
Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.
Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.
Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.
Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.
Будешь за́ море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.
В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.
Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.
Вынесешь на́ мост шаг рассеянный —
думать,
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.
С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.
Сильный,
понадоблюсь им я —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.
Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я – равный кандидат
и на царя вселенной
и на
кандалы.
Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.
Слушайте ж, забывшие, что небо голубо,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарилась румянцем чахоточного.
3
Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я,
Творись, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!
С
егодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень».
Смятеньем разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.
Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)
Ямами двух могил
вырылись в лице твоем глаза.
Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с по́моста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.
Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.
Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.
Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.
Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.
Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.
Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.
Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему:
«Хорошо!
Уйду!
Хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашей ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!» —
Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.
И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарила ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.
В муке
перед той, которую отда́л,
коленопреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.
Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.
Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.
В праздник красьте сегодняшнее число.
Творись,
распятью равная магия.
Видите —
гвоздями слов
прибит к бумаге я.
1915Владимир Ильич Ленин
Российской коммунистической партии посвящаю
Время —
начинаю
про Ленина рассказ.
Но не потому,
что горя
нету более,
время
потому,
что резкая тоска
стала ясною
осознанною болью.
Время,
снова
ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
растекаться
слёзной лужею, —
Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знанье —
сила
и оружие.
Люди – лодки.
Хотя и на суше.
Проживёшь
своё
пока,
много всяких
грязных ракушек
налипает
нам
на бока.
А потом,
пробивши
бурю разозлённую,
сядешь,
чтобы солнца близ,
и счищаешь
водорослей
бороду зелёную
и медуз малиновую слизь.
Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.
Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой
боишься фальши.
Рассияют головою венчик,
я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий
ленинский
огромный лоб.
Я боюсь,
чтоб шествия
и мавзолеи,
поклонений
установленный статут
не залили б
приторным елеем
ленинскую
простоту.
За него дрожу,
как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
не был
красотой оболган.
Голосует сердце —
я писать обязан
по мандату долга.
Вся Москва.
Промёрзшая земля
дрожит от гуда.
Над кострами
обмороженные с ночи.
Что он сделал?
Кто он
и откуда?
Почему
ему
такая почесть?
Слово за словом
из памяти таская.
не скажу
ни одному —
на место сядь.
Как бедна
у мира
сло́ва мастерская!
Подходящее
откуда взять?
У нас
семь дней,
у нас
часов – двенадцать.
Не прожить
себя длинней.
Смерть
не умеет извиняться.
Если ж
с часами плохо,
мала
календарная мера,
мы говорим —
«эпоха»,
мы говорим —
«эра».
Мы
спим
ночь.
Днём
совершаем поступки.
Любим
свою толочь
воду
в своей ступке.
А если
за всех смог
направлять
потоки явлений,
мы говорим —
«пророк»,
мы говорим —
«гений».
У нас
претензий нет, —
не зовут —
мы и не лезем;
нравимся
своей жене,
и то
довольны доне́льзя.
Если ж,
телом и духом слит,
прёт
на нас непохожий,
шпилим —
«царственный вид»,
удивляемся —
«дар божий».
Скажут так, —
и вышло
ни умно, ни глупо.
Повисят слова
и уплывут, как ды́мы.
Ничего
не выколупишь
из таких скорлупок.
Ни рукам
ни голове не ощутимы.
Как же
Ленина
таким аршином мерить!
Ведь глазами
видел
каждый всяк —
«эра» эта
проходила в двери,
даже
головой
не задевая о косяк.
Неужели
про Ленина тоже:
«вождь
милостью божьей»?
Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберёг,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперёк.
Я б
нашёл
слова
проклятья громоустого,
и пока
растоптан
я
и выкрик мой,
я бросал бы
в небо
богохульства,
по Кремлю бы
бомбами
метал:
ДОЛОЙ!
Но тверды
шаги Дзержинского
у гроба.
Нынче бы
могла
с постов сойти Чека.
Сквозь мильоны глаз,
и у меня
сквозь оба,
лишь сосульки слёз,
примёрзшие
к щекам.
Богу
почести казённые
не новость.
Нет!
Сегодня
настоящей болью
сердце холодей.
Мы
хороним
самого земного
изо всех
прошедших
по земле людей.
Он земной,
но не из тех,
кто глазом
упирается
в своё корыто.
Землю
всю
охватывая разом.
видел
то,
что временем закрыто.
Он, как вы
и я,
совсем такой же,
только,
может быть,
у самых глаз
мысли
больше нашего
морщинят кожей,
да насмешливей
и твёрже губы,
чем у нас.
Не сатрапья твёрдость,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$триумфаторской коляской
мнущая
тебя,
подёргивая вожжи.
Он
к товарищу
милел
людскою лаской.
Он
к врагу
вставал
железа твёрже.
Знал он
слабости,
знакомые у нас,
как и мы,
перемогал болезни.
Скажем,
мне бильярд —
отращиваю глаз,
шахматы ему —
они вождям
полезней.
И от шахмат
перейдя
к врагу натурой,
в люди
выведя
вчерашних пешек строй,
становил
рабочей – человечьей диктатурой
над тюремной
капиталовой турой,
И ему
и нам
одно и то же дорого.
Отчего ж,
стоящий
от него поодаль,
я бы
жизнь свою,
глупея от восторга,
за одно б
его дыханье
о́тдал?!
Да не я один!
Да что я
лучше, что ли?!
Даже не позвать,
раскрыть бы только рот —
кто из вас
из сёл,
из кожи вон,
из штолен
не шагнёт вперёд?!
В качке —
будто бы хватил
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$вина и горя лишку —
инстинктивно
хоронюсь
трамвайной сети.
Кто
сейчас
оплакал бы
мою смертишку
в трауре
вот этой
безграничной смерти!
Со знамёнами идут,
и так.
Похоже —
стала
вновь
Россия кочевой.
И Колонный зал
дрожит,
насквозь прохожен.
Почему?
Зачем
и отчего?
Телеграф
охрип
от траурного гуда.
Слёзы снега
с флажьих
покрасневших век.
Что он сделал,
кто он
и откуда —
этот
самый человечный человек?
Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.
Далеко давным,
годов за двести,
первые
про Ленина
восходят вести.
Слышите —
железный
и лужёный,
прорезая
древние века, —
голос
прадеда
Бромлея и Гужона —
первого паровика?
Капитал
его величество,
некоронованный,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$невенчанный,
объявляет
покорённой
силу деревенщины.
Город грабил,
грёб,
грабастал,
глыбил
пуза касс,
а у станков
худой и горбастый
встал
рабочий класс.
И уже
грозил,
взвивая трубы за́ небо;
– Нами
к золоту
пути мости́те.
Мы родим,
пошлём,
придёт когда-нибудь
человек,
борец,
каратель,
мститель! —
И уже
смешались
облака и ды́мы,
будто
рядовые
одного полка.
Небеса
становятся двойными,
дымы
забивают облака.
Товары
растут,
меж нищими высясь.
Директор,
лысый чёрт,
пощёлкал счётами,
буркнул:
«кризис!»
и вывесил слово
«расчёт».
Кра́пило
сласти
мушиное се́ево,
хлеба́
зерном
в элеваторах портятся,
а под витринами
всех Елисеевых,
живот подведя,
плелась безработица.
И бурчало
у трущоб в утробе,
покрывая
детвориный плачик:
– Под работу,
под винтовку ль,
на́ —
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ладони обе!
Приходи,
заступник
и расплатчик! —
Эй,
верблюд,
открыватель колоний! —
Эй,
колонны стальных кораблей!
Марш
в пустыни
огня раскалённей!
Пеньте пену
бумаги белей!
Начинают
чёрным лата́ться
оазисы
пальмовых нег.
Вон
среди
золотистых плантаций
засечённый
вымычал негр:
– У-у-у-у-у,
у-у-у!
Нил мой, Нил!
Приплещи
и выплещи
чёрные дни!
Чтоб чернее были,
чем я во сне,
и пожар чтоб
крови вот этой красней.
Чтоб во всём этом кофе,
враз, вскипелом,
вариться пузатым —
чёрным и белым.
Каждый
добытый
слоновий клык —
тык его в мясо,
в сердце тык.
Хоть для правнуков,
не зря чтоб
кровью литься,
выплыви,
заступник солнцелицый.
Я кончаюсь, —
бог смертей
пришёл и поманил.
Помни
это заклинанье,
Нил,
мой Нил! —
В снегах России,
в бреду Патагонии
расставило
время
станки потогонные.
У Ива́нова уже
у Вознесенска
каменные туши
будоражат
выкрики частушек:
«Эх, завод ты мой, завод,
желтоглазина.
Время нового зовёт
Стеньку Разина».
Внуки
спросят:
– Что такое капиталист? —
Как дети
теперь:
– Что это
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$г-о-р-о-д-о-в-о-й?.. —
Для внуков
пишу
в один лист
капитализма
портрет родовой.
Капитализм
в молодые года
был ничего,
деловой парнишка:
первый работал —
не боялся тогда,
что у него
от работ
засалится манишка.
Трико феодальное
ему тесно́!
Лез
не хуже,
чем нынче лезут.
Капитализм
революциями
своей весной
расцвёл
и даже
подпевал «Марсельезу».
Машину
он
задумал и выдумал.
Люди,
и те – ей!
Он
по вселенной
видимо-невидимо
рабочих расплодил
детей.
Он враз
и царства
и графства сжевал
с коронами их
и с орлами.
Встучнел,
как библейская корова
или вол,
облизывается.
Язык – парламент.
С годами
ослабла
мускулов сталь,
он раздобрел
и распух,
такой же
с течением времени
стал,
как и его гроссбух.
Дворец возвёл —
не увидишь такого!
Художник
– не один! —
по стенам поёрзал.
Пол ампиристый,
потолок рококо́вый,
стенки —
Людовика XIV,
Каторза.
Вокруг,
с лицом,
что равно годится
быть и лицом
и ягодицей,
задолицая
полиция.
И краске
и песне
душа глуха,
как корове
цветы
среди луга.
Этика, эстетика
и прочая чепуха —
просто —
его
женская прислуга.
Его
и рай
и преисподняя —
распродаёт
старухам
дырки
от гвоздей
креста господня
и перо
хвоста
святого духа.
Наконец,
и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и обдряб.
Обдряб
и лёг
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход —
взорвать!
Знаю,
лирик
скривится горько,
критик
ринется
хлыстиком выстегать:
– А где ж душа?!
Да это ж —
риторика!
Поэзия где ж? —
Одна публицистика!! —
Капитализм —
неизящное слово,
куда изящней звучит —
«соловей»,
но я
возвращусь к нему
снова и снова.
Строку
агитаторским лозунгом взвей.
Я буду писать
и про то
и про это,
но нынче
не время
любовных ляс.
Я
всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс.
Пролетариат —
неуклюже и узко
тому,
кому
коммунизм – западня.
Для нас
это слово —
могучая музыка,
могущая
мёртвых
сражаться поднять.
Этажи
уже
заёжились, дрожа,
клич подвалов
подымается по этажам!
– Мы прорвёмся
небесам
в распахнутую синь.
Мы пройдём
сквозь каменный колодец.
Будет.
С этих нар
рабочий сын —
пролетариатоводец. —
Им
уже
земного шара мало.
И рукой,
отяжелевшей
от колец,
тянется
упитанная
туша капитала
ухватить
чужой горле́ц.
Идут,
железом
клацая и лацкая.
– Убивайте!
Двум буржуям тесно! —
Каждое село —
могила братская,
города́ —
завод протезный.
Кончилось —
столы
накрыли чайные.
Пирогом
победа на столе.
– Слушайте
могил чревовещание,
кастаньеты костылей!
Снова
нас
увидите
в военной яви.
Эту
время
не простит вину.
Он расплатится,
придёт он
и объявит
вам
и вашинской войне
войну! —
Вырастают
на земле
слезы́ озёра,
слишком
непролазны
крови топи.
И клонились
одиночки фантазёры
над решением
немыслимых утопий.
Голову
об жизнь
разбили филантропы.
Разве
путь миллионам —
филантропов тропы?
И уже
бессилен
сам капиталист,
так
его
машина размахалась, —
строй его
несёт,
как пожелтелый лист,
кризисов
и забастовок ха́ос.
– В чей карман
стекаем
золотою лавой?
С кем идти
и на кого пенять? —
Класс миллионоглавый
напрягает глаз —
себя понять.
Время
часы
капитала
кра́ло,
побивая
прожекторов яркость.
Время
родило
брата Карла —
старший
ленинский брат
Маркс.
Маркс!
Встаёт глазам
седин портретных рама.
Как же
жизнь его
от представлений далека!
Люди
видят
замурованного в мрамор,
гипсом
холодеющего старика.
Но когда
революционной тропкой
первый
делали
рабочие
шажок,
о, какой
невероятной топкой
сердце Маркс
и мысль свою зажёг!
Будто сам
в заводе каждом
стоя сто́ймя,
будто
каждый труд
размозоливая лично,
грабящих
прибавочную стоимость
за руку
поймал с поличным.
Где дрожали тельцем,
не вздымая глаз свой
даже
до пупа
биржевика-дельца,
Маркс
повёл
разить
войною классовой
золотого
до быка
доросшего тельца́.
Нам казалось —
в коммунизмовы затоны
только
волны случая
закинут
нас
юля́.
Маркс
раскрыл
истории законы,
пролетариат
поставил у руля.
Книги Маркса
не набора гранки,
не сухие
цифр столбцы —
Маркс
рабочего
поставил на́ ноги
и повёл
колоннами
стройнее цифр.
Вёл
и говорил: —
сражаясь лягте,
дело —
корректура
выкладкам ума.
Он придёт,
придёт
великий практик,
поведёт
полями битв,
а не бумаг! —
Жерновами дум
последнее меля́
и рукой
дописывая
восковой,
знаю,
Марксу
виделось
видение Кремля
и коммуны
флаг
над красною Москвой.
Назревали,
зрели дни,
как дыни,
пролетариат
взрослел
и вырос из ребят.
Капиталовы
отвесные твердыни
валом размывают
и дробят.
У каких-нибудь
годов
на расстоянии
сколько гроз
гудит
от нарастаний.
Завершается
восстанием
гнева нарастание,
нарастают
революции
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$за вспышками восстаний.
Крут
буржуев
озверевший норов.
Тьерами растерзанные,
воя и стеная,
тени прадедов,
парижских коммунаров,
и сейчас
вопят
парижскою стеною:
– Слушайте, товарищи!
Смотрите, братья!
Горе одиночкам —
выучьтесь на нас!
Сообща взрывайте!
Бейте партией!
Кулаком
одним
собрав
рабочий класс. —
Скажут:
«Мы вожди»,
а сами —
шаркунами?
За речами
шкуру
распознать умей!
Будет вождь
такой,
что мелочами с нами —
хлеба проще,
рельс прямей.
Смесью классов,
вер,
сословий
и наречий
на рублях колёс
землища двигалась.
Капитал
ежом противоречий
рос вовсю
и креп,
штыками иглясь.
Коммунизма
призрак
по Европе рыскал,
уходил
и вновь
маячил в отдаленьи…
По всему поэтому
в глуши Симбирска
родился
обыкновенный мальчик
Ленин.
Я знал рабочего.
Он был безграмотный.
Не разжевал
даже азбуки соль.
Но он слышал,
как говорил Ленин,
и он
знал – всё.
Я слышал
рассказ
крестьянина-сибирца.
Отобрали,
отстояли винтовками
и раем
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$разделали селеньице.
Они не читали
и не слышали Ленина,
но это
были ленинцы.
Я видел горы —
на них
и куст не рос.
Только
тучи
на скалы
упали ничком.
И на сто вёрст
у единственного горца
лохмотья
сияли
ленинским значком.
Скажут —
это
о булавках а́хи.
Барышни их
вкалывают
из кокетливых причуд.
не булавка вколота —
значком
прожгло рубахи
сердце,
полное
любовью к Ильичу.
Этого
не объяснишь
церковными славянскими
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$крюками,
и не бог
ему
велел —
избранник будь!
Шагом человеческим,
рабочими руками,
собственною головой
прошёл он
этот путь.
Сверху
взгляд
на Россию брось —
рассинелась речками,
словно
разгулялась
тысяча розг,
словно
плетью исполосована.
Но сине́й,
чем вода весной,
синяки
Руси крепостной.
Ты
с боков
на Россию глянь —
и куда
глаза ни кинь,
упираются
небу в склянь
горы,
каторги
и рудники.
Но и каторг
больнее была
у фабричных станков
кабала.
Были страны
богатые более,
красивее видал
и умней.
Но земли
с ещё большей болью
не довиделось
видеть
мне.
Да, не каждый
удар
сотрёшь со щеки.
Крик крепчал:
– Подымайтесь
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$за землю и волю вы! —
И берутся
бунтовщики-
одиночки
за бомбу
и за рево́львер.
Хорошо
в царя
вогнать обойму!
Ну, а если
только пыль
взметнёшь у колеса?!
Подготовщиком
цареубийства
пойман
брат Ульянова,
народоволец
Александр.
Одного убьёшь —
другой
во весь свой пыл
пытками
ушедших
переплюнуть тужится.
И Ульянов
Александр
повешен был
тысячным из шлиссельбуржцев.
И тогда
сказал
Ильич семнадцатигодовый —
это слово
крепче клятв
солдатом поднятой руки:
– Брат,
мы здесь
тебя сменить готовы,
победим,
но мы
пойдём путём другим! —
Оглядите памятники —
видите
героев род вы?
Станет Гоголем,
а ты
венком его величь.
Не такой —
чернорабочий,
ежедневный подвиг
на плечи себе
взвалил Ильич.
Он вместе,
учит в кузничной пасти,
как быть,
чтоб зарплата
взросла пятаком.
Что делать,
если
дерётся мастер.
Как быть,
чтоб хозяин
поил кипятком,
Но не мелочь
целью в конце:
победив,
не стой так
над одной
сметённой лужею.
Социализм – цель.
Капитализм – враг.
Не веник —
винтовка оружие.
Тысячи раз
одно и то же
он вбивает
в тугой слух,
а назавтра
друг в друга вложит
руки
понявших двух,
Вчера – четыре,
сегодня – четыреста.
Таимся,
а завтра
в открытую встанем,
и эти
четыреста
в тысячи вырастут.
Трудящихся мира
подымем восстанием.
Мы уже
не тише вод,
травинок ниже —
гнев
у трудящихся
густится в туче.
Режет
молниями
Ильичёвых книжек.
Сыпет
градом
прокламаций и летучек,
Бился
об Ленина
тёмный класс,
тёк
от него
в просветленьи,
и, обданный
силой
и мыслями масс,
с классом
рос
Ленин.
И уже
превращается в быль
то,
в чём юношей
Ленин кля́лся:
– Мы
не одиночки,
мы —
союз борьбы
за освобождение
рабочего класса. —
Ленинизм идёт
всё далее
и более
вширь
учениками
Ильичёвой выверки.
Кровью
вписан
героизм подполья
в пыль
и в слякоть
бесконечной Володимирки.
Нынче
нами
шар земной заверчен.
Даже
мы,
в кремлёвских креслах если, —
скольким
вдруг
из-за декретов Нерчинск
кандалами
раззвенится в кресле!
Вам
опять
напомню птичий путь я.
За волчком —
трамваев
электрическая рысь.
Кто
из вас
решётчатые прутья
не царапал
и не грыз?!
Лоб
разбей
о камень стенки тесной —
за тобою
смыли камеру
и замели.
«Служил ты недолго, но честно
на благо родимой земли».
Полюбилась Ленину
в какой из ссылок
этой песни
траурная сила?
Говорили —
мужичок
своей пойдёт дорогой,
заведёт
социализм
бесхитростен и прост.
Нет,
и Русь
от труб
становится сторо́гой.
Город
дымной бородой оброс.
Не попросят в рай —
пожалуйста,
войдите —
через труп буржуазии
коммунизма шаг.
Ста крестьянским миллионам
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$пролетариат водитель.
Ленин —
пролетариев вожак.
Понаобещает либерал
или эсерик прыткий,
сам охочий до рабочих шей, —
Ленин
фразочки
с него
пооборвёт до нитки,
чтоб из книг
сиял
в дворянском нагише.
И нам
уже
не разговорцы досужие,
что-де свобода,
что люди братья, —
мы
в марксовом всеоружии
одна
на мир
большевистская партия.
Америку
пересекаешь
в экспрессном купе,
идёшь Чухломой —
тебе
в глаза
вонзается теперь
РКП
и в скобках
маленькое «б».
Теперь
на Марсов
охотится Пулково,
перебирая
небесный ларчик.
Но миру
эта
строчная буква
в сто крат красней,
грандиозней
и ярче.
Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, как платье.
Хочу
сиять заставить заново
величественнейшее слово
«ПАРТИЯ».
Единица! —
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто её услышит? —
Разве жена!
И то
если не на базаре,
а близко.
Партия —
это
единый ураган,
из голосов спрессованный
тихих и тонких,
от него
лопаются
укрепления врага,
как в канонаду
от пушек
перепонки.
Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин —
каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое.
А если
в партию
сгру́дились малые —
сдайся, враг,
замри
и ляг!
Партия —
рука миллионопалая,
сжатая
в один
громящий кулак.
Единица – вздор,
единица – ноль,
один —
даже если
очень важный —
не подымет
простое
пятивершковое бревно,
тем более
дом пятиэтажный.
Партия —
это
миллионов плечи,
друг к другу
прижатые туго.
Партией
стройки
в небо взмечем,
держа
и вздымая друг друга.
Партия —
спинной хребет рабочего класса.
Партия —
бессмертие нашего дела.
Партия – единственное,
что мне не изменит.
Сегодня приказчик,
а завтра
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$царства стираю в карте я.
Мозг класса,
дело класса,
сила класса,
слава класса —
вот что такое партия.
Партия и Ленин —
близнецы-братья
кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем —
Ленин.
Ещё
горой
коронованные гла́вы,
и буржуи
чернеют
как вороны в зиме,
но уже
горение
рабочей лавы
по кратеру партии
рвётся из-под земель.
Девятое января.
Конец гапонщины.
Падаем,
царским свинцом косимы.
Бредня
о милости царской
прикончена
с бойней Мукденской,
с треском Цусимы.
Довольно!
Не верим
разговорам посторонним!
Сами
с оружием
встали пресненцы.
Казалось —
сейчас
покончим с троном,
за ним
и буржуево
кресло треснется.
Ильич уже здесь.
Он изо дня на́ день
проводит
с рабочими
пятый год.
Он рядом
на каждой стоит баррикаде,
ведёт
всего восстания ход.
Но скоро
прошла
лукавая вестийка —
«свобода».
Бантики люди надели,
царь
на балкон
выходил с манифестиком.
А после
«свободной»
медовой недели
речи,
банты
и пения плавные
пушечный рёв
покрывает басом:
по крови рабочей
пустился в плавание
царёв адмирал,
каратель Дубасов.
Плюнем в лицо
той белой слякоти,
сюсюкающей
о зверствах Чека!
Смотрите,
как здесь,
связавши за́ локти,
рабочих на́смерть
секли по щекам.
Зверела реакция.
Интеллигентчики
ушли от всего
и всё изгадили.
Заперлись дома,
достали свечки,
ладан курят —
богоискатели.
Сам заскулил
товарищ Плеханов:
– Ваша вина,
запутали, братцы!
Вот и пустили
крови лохани!
Нечего
зря
за оружье браться. —
Ленин
в этот скулёж недужный
врезал голос
бодрый и зычный:
– Нет,
за оружие
браться нужно,
только более
решительно и энергично.
Новых восстаний вижу день я.
Снова подымется
рабочий класс.
Не защита —
нападение
стать должно
лозунгом масс. —
И этот год
в кровавой пене
и эти раны
в рабочем стане
покажутся
школой
первой ступени
в грозе и буре
грядущих восстаний.
И Ленин
снова
в своём изгнании
готовит
нас
перед новой битвой,
Он учит
и сам вбирает знание,
он партию
вновь
собирает разбитую.
Смотри —
забастовки
вздымают год,
ещё —
и к восстанию сумеешь сдвинуться ты.
Но вот
из лет
подымается
страшный четырнадцатый.
Так пишут —
солдат-де
раскурит трубку,
балакать пойдёт
о походах древних,
но эту
всемирнейшую мясорубку
к какой приравнять
к Полтаве,
к Плевне?!
Империализм
во всём оголении —
живот наружу,
с вставными зубами,
и море крови
ему по колени —
сжирает страны,
вздымая штыками.
Вокруг него
его подхалимы —
патриоты —
приспособились Вовы —
пишут,
руки предавшие вымыв:
– Рабочий,
дерись
до последней крови! —
Земля —
горой
железного лома,
а в ней
человечья
рвань и рваль,
Среди
всего сумасшедшего дома
трезвый
встал
один Циммервальд.
Отсюда
Ленин
с горсточкой товарищей
встал над миром
и поднял над
мысли
ярче
всякого пожарища,
голос
громче
всех канонад.
Оттуда —
миллионы
канонадою в уши,
стотысячесабельной
конницы бег,
отсюда,
против
и сабель и пушек, —
скуластый
и лысый
один человек.
– Солдаты!
Буржуи,
предав и продав,
к туркам шлют,
за Верден,
на Двину.
Довольно!
Превратим
войну народов
в гражданскую войну!
Довольно
разгромов,
смертей и ран,
у наций
нет
никакой вины.
Против
буржуазии всех стран
подымем
знамя
гражданской войны! —
Думалось:
сразу
пушка-печка
чихнёт огнём
и сдунет гнилью,
потом поди,
ищи человечка,
поди,
вспоминай его фамилию.
Глоткой орудий,
шипевших и вывших,
друг другу
страны
орут —
на колени!
Додрались,
и вот
никаких победивших —
один победил
товарищ Ленин.
Империализма прорва!
Мы
истощили
терпенье ангельское.
Ты
восставшею
Россией прорвана
от Тавриза
и до Архангельска.
Империя —
это тебе не ку́ра!
Клювастый орёл
с двухглавою властью.
А мы,
как докуренный окурок,
просто
сплюнули
их династью.
Огромный,
покрытый кровавою ржою,
народ,
голодный и голоштанный,
к Советам пойдёт
или будет
буржую
таскать,
как и встарь,
из огня каштаны?
– Народ
разорвал
оковы царьи,
Россия в буре,
Россия в грозе, —
читал
Владимир Ильич
в Швейцарии,
дрожа,
волнуясь
над кипой газет.
Но что
по газетным узнаешь клочьям?
На аэроплане
прорваться б ввысь,
туда,
на помощь
к восставшим рабочим, —
одно желанье,
единая мысль.
Поехал,
покорный партийной воле,
в немецком вагоне,
немецкая пломба.
О, если бы
знал
тогда Гогенцоллерн,
что Ленин
и в их монархию бомба!
Питерцы
всё ещё
всем на радость
лобзались,
скакали детишками малыми,
но в красной ленточке,
слегка припарадясь,
Невский
уже
кишел генералами.
За шагом шаг —
и дойдут до точки,
дойдут
и до полицейского свиста.
Уже
начинают
казать ноготочки
буржуи
из лапок своих пушистых.
Сначала мелочь —
вроде малько́в.
Потом повзрослее —
от шпротов до килечек.
Потом Дарданельский,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$в девичестве Милюков,
за ним
с коронацией
прёт Михаильчик,
Премьер
не власть —
вышивание гладью!
Это
тебе
не грубый нарком.
Прямо девушка —
иди и гладь её!
Истерики закатывает,
поёт тенорком.
Ещё
не попало
нам
и росинки
от этих самых
февральских свобод,
а у оборонцев —
уже хворостинки —
«марш, марш на фронт,
рабочий народ».
И в довершение
пейзажа славненького,
нас предававшие
и до
и пото́м,
вокруг
сторожами
эсеры да Савинковы,
меньшевики —
учёным котом.
И в город,
уже
заплывающий салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик.
И снова
ветер
свежий, крепкий
валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки.
«Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!»
– Товарищи! —
и над головами
первых сотен
вперёд
ведущую
руку выставил. —
– Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья.
Долой
власть
соглашателей и капиталистов!
Мы —
голос
воли низа,
рабочего низа
всего света,
да здравствует
партия,
строящая коммунизм,
да здравствует
восстание
за власть Советов! —
Впервые
перед толпой обалделой
здесь же,
перед тобою,
близ,
встало,
как простое
делаемое дело,
недосягаемое слово —
«социализм».
Здесь же,
из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —
без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ.
На толщь
окрутивших
соглашательских верёвок
слова Ильича
ударами топора.
И речь
прерывало
обвалами рёва:
«Правильно, Ленин!
Верно!
Пора!»
Дом
Кшесинской,
за дрыгоножество
подаренный,
нынче —
рабочая блузница.
Сюда течёт
фабричное множество,
здесь
закаляется
в ленинской кузнице.
«Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй».
Уж лезет
к сидящим
в хозяйском стуле —
как живёте
да что жуёте?
Примериваясь,
в июле
за горло потрогали
и за животик.
Буржуевы зубья
ощерились разом.
– Раб взбунтовался!
Плетями,
да в кровь его!
И ручку
Керенского
водят приказом —
на мушку Ленина!
В Кресты Зиновьева!
И партия
снова
ушла в подполье.
Ильич на Разливе,
Ильич в Финляндии.
Но ни чердак,
ни шалаш,
ни поле
вождя
не дадут
озверелой банде их.
Ленина не видно,
но он близ.
По тому,
работа движется как,
видна
направляющая
ленинская мысль,
видна
ведущая
ленинская рука.
Словам Ильичёвым —
лучшая почва:
падают,
сейчас же
дело растя,
и рядом
уже
с плечом рабочего —
плечи
миллионов крестьян.
И когда
осталось
на баррикады выйти,
день
наметив
в ряду недель,
Ленин
сам
явился в Питер:
– Товарищи,
довольно тянуть канитель!
Гнёт капитала,
голод-уродина,
войн бандитизм,
интервенция во́рья —
будет! —
покажутся
белее родинок
на теле бабушки,
древней истории. —
И оттуда,
на дни
оглядываясь эти,
голову
Ленина
взвидишь сперва.
Это
от рабства
десяти тысячелетий
к векам
коммуны
сияющий перевал.
Пройдут
года
сегодняшних тягот,
летом коммуны
согреет лета́,
и счастье
сластью
огромных ягод
дозреет
на красных
октябрьских цветах.
И тогда
у читающих
ленинские веления,
пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слёзы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.
Когда я
итожу
то, что про́жил,
и роюсь в днях —
ярчайший где.
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.
Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.
От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
внизу пулемётчики.
– Вас
вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он
там. —
– Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?
В броневики
и на почтамт! —
– По приказу
товарища Троцкого! —
– Есть! —
повернулся
и скрылся скоро,
и только
на ленте
у флотского
под лампой
блеснуло —
«Аврора».
Кто мчит с приказом,
кто в куче споря
кто щёлкал
затвором
на левом колене.
Сюда
с того конца коридорища
бочком
пошёл
незаметный Ленин.
Уже
Ильичём
поведённые в битвы,
ещё
не зная
его по портретам,
толкались,
орали,
острее бритвы
солдаты друг друга
крыли при этом.
И в этой желанной
железной буре
Ильич,
как будто
даже заспанный,
шагал,
становился
и глаз, сощуря,
вонзал,
заложивши
руки за́ спину.
В какого-то парня
в обмотках,
лохматого,
уставил
без промаха бьющий глаз,
как будто
сердце
с-под слов выматывал,
как будто
душу
тащил из-под фраз.
И знал я,
что всё
раскрыто и понято
и этим
глазом
наверное выловится —
и крик крестьянский,
и вопли фронта,
и воля нобельца,
и воля путиловца.
Он
в черепе
сотней губерний ворочал,
людей
носил
до миллиардов полутора,
Он
взвешивал
мир
в течение ночи,
а утром:
– Всем!
Всем!
Всем это —
фронтам,
кровью пьяным,
рабам
всякого рода,
в рабство
богатым отданным.
Власть Советам!
Земля крестьянам!
Мир народам!
Хлеб голодным!
Буржуи
прочли
– погодите,
выловим. —
животики пятят
доводом веским —
ужо им покажут
Духонин с Корниловым,
покажут ужо им
Гучков с Керенским.
Но фронт
без боя
слова эти взяли —
деревня
и город
декретами залит,
и даже
безграмотным
сердце прожёг.
Мы знаем,
не нам,
а им показали,
какое такое бывает
«ужо».
Переходило
от близких к ближним,
от ближних
дальним взрывало сердца:
«Мир хижинам,
война,
война,
война дворцам!»
Дрались
в любом заводе и цехе,
горохом
из городов вытряхали,
а сзади
шаганье октябрьское
метило вехи
пылающих
дворянских усадеб.
Земля —
подстилка под ихними порками,
и вдруг
её,
как хлебища в узел,
со всеми ручьями её
и пригорками
крестьянин взял
и зажал, закорузел.
В очках
манжетщики,
злобой похаркав,
ползли туда,
где царство да графство.
Дорожка скатертью!
Мы и кухарку
каждую
выучим
управлять государством!
Мы жили
пока
производством ротаций.
С окопов
летело
в немецкие уши:
– Пора кончать!
Выходите брататься! —
И фронт
расползался
в улитки теплушек.
Такую ли
течь
загородите горстью?
Казалось —
наша лодчонка кренится —
Вильгельмов сапог,
Николаева шпористей,
сотрёт
Советской страны границы.
Пошли эсеры
в плащах распашонкой,
ловили бегущих
в своё словоблудьище,
тащили
по-рыцарски
глупой шпажонкой
красиво
сразить
броневые чудища!
Ильич
петушившимся
крикнул:
– Ни с места!
Пусть партия
взвалит
и это бремя.
Возьмём
передышку похабного Бреста.
Потеря – пространство,
выигрыш – время. —
Чтоб не передо́хнуть
нам
в передышку,
чтоб знал —
запомнят уда́ры мои,
себя
не муштровкой —
сознанием вышколи,
стройся
рядами
Красной Армии.
Историки
с гидрой плакаты выдерут
– чи эта гидра была,
чи нет? —
а мы
знавали
вот эту гидру
в её
натуральной величине.
«Мы смело в бой пойдём
за власть Советов
и как один умрем
в борьбе за это!»
Деникин идёт.
Деникина выкинут,
обрушенный пушкой
подымут очаг.
Тут Врангель вам —
на смену Деникину.
Барона уронят —
уже Колчак.
Мы жрали кору,
ночёвка – болотце,
но шли
миллионами красных звёзд,
и в каждом – Ильич,
и о каждом заботится
на фронте
в одиннадцать тысяч вёрст.
Одиннадцать тысяч вёрст
окружность,
а сколько
вдоль да поперёк!
Ведь каждый дом
атаковывать нужно,
каждый
врага
в подворотнях берёг.
Эсер с монархистом
шпионят бессонно —
где жалят змеёй,
где рубят с плеча.
Ты знаешь
путь
на завод Михельсона?
Найдёшь
по крови
из ран Ильича.
Эсеры
целят
не очень верно —
другим концом
да себя же
в бровь.
Но бомб страшнее
и пуль револьве́рных
осада голода,
осада тифо́в.
Смотрите —
кружат
над крошками мушки,
сытней им,
чем нам
в осьмнадцатом году, —
простаивали
из-за осьмушки
сутки
в улице
на холоду.
Хотите сажайте,
хотите травите —
завод за картошку —
кому он не жалок!
И десятикорпусный
судостроитель
пыхтел
и визжал
из-за зажигалок.
А у кулаков
и масло и пышки.
Расчёт кулаков
простой и верненький —
запрячь хлеба́
да зарой в кубышки
николаевки
да ке́ренки.
Мы знаем —
голод
сметает начисто,
тут нужен зажим,
а не ласковость воска,
и Ленин
встаёт
сражаться с кулачеством
и продотрядами
и продразвёрсткой.
Разве
в этакое время
слово «демократ»
набредёт
какой головке дурьей?!
Если бить,
так чтоб под ним
панель была мокра:
ключ побед —
в железной диктатуре.
Мы победили,
но мы
в пробоинах:
машина стала,
обшивка —
лохмотья.
Валы обломков!
Лохмотьев обойных!
Идите залейте!
Возьмите и смойте!
Где порт?
Маяки
поломались в порту,
кренимся,
мачтами
волны крестя!
Нас опрокинет —
на правом борту
в сто миллионов
груз крестьян.
В восторге враги
заливаются воя,
но так
лишь Ильич умел и мог —
он вдруг
повернул
колесо рулевое
сразу
на двадцать румбов вбок.
И сразу тишь,
дивящая даже;
крестьяне
подвозят
к пристани хлеб.
Обычные вывески
– купля —
– продажа —
– нэп.
Прищурился Ленин:
– Чинитесь пока чего,
аршину учись,
не научишься —
плох. —
Команду
усталую
берег покачивал.
Мы к буре привыкли,
что за подвох?
Залив
Ильичём
указан глубокий
и точка
смычки-причала
найдена,
и плавно
в мир,
строительству в доки,
вошла
Советских республик громадина.
И Ленин
сам
где железо,
где дерево
носил
чинить
пробитое место.
Стальными листами
вздымал
и примеривал
кооперативы,
лавки
и тресты.
И снова
становится
Ленин штурман,
огни по бортам,
впереди и сзади.
Теперь
от абордажей и штурма
мы
перейдём
к трудовой осаде.
Мы
отошли,
рассчитавши точно.
Кто разложился —
на берег
за во́рот.
Теперь вперёд!
Отступленье окончено.
РКП,
команду на борт!
Коммуна – столетия,
что десять лет для ней?
Вперёд —
и в прошлом
скроется нэпчик.
Мы двинемся
во сто раз медленней,
зато
в миллион
прочней и крепче.
Вот этой
мелкобуржуазной стихии
ещё
колышется
мёртвая зыбь,
но тихие
тучи
молнией выев,
уже —
нарастанье
всемирной грозы.
Враг
сменяет
врага поределого,
но будет —
над миром
зажжём небеса
– но это
уже
полезней проделывать,
чем
об этом писать. —
Теперь,
если пьёте
и если едите,
на общий завод ли
идём
с обеда,
мы знаем —
пролетариат – победитель,
и Ленин —
организатор победы.
От Коминтерна
до звонких копеек,
серпом и молотом
в новой меди,
одна
неписаная эпопея —
шагов Ильича
от победы к победе.
Революции —
тяжёлые вещи,
один не подымешь —
согнётся нога.
Но Ленин
меж равными
был первейший
по силе воли,
ума рычагам.
Подымаются страны
одна за одной —
рука Ильича
указывала верно:
народы —
чёрный,
белый
и цветной —
становятся
под знамя Коминтерна.
Столпов империализма
непреклонные колонны —
буржуи
пяти частей света,
вежливо
приподымая
цилиндры и короны,
кланяются
Ильичёвой республике советов.
Нам
не страшно
усилие ничьё,
мчим
вперёд
паровозом труда..
и вдруг
стопудовая весть —
с Ильичём
удар.
Если бы
выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
в музее
торчали ротозеи.
Ещё бы —
такое
не увидишь и в века!
Пятиконечные звёзды
выжигали на наших спинах
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ панские воеводы.
Живьём,
по голову в землю,
закапывали нас банды
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Мамонтова.
В паровозных топках
сжигали нас японцы,
рот заливали свинцом и оловом,
отрекитесь! – ревели,
но из
горящих глоток
лишь три слова:
– Да здравствует коммунизм! —
Кресло за креслом,
ряд в ряд
эта сталь,
железо это
вваливалось
двадцать второго января
в пятиэтажное здание
Съезда советов.
Усаживались,
кидались усмешкою,
решали
по́ходя
мелочь дел.
Пора открывать!
Чего они мешкают?
Чего
президиум,
как вырубленный, поредел?
Отчего
глаза
краснее ложи?
Что с Калининым?
Держится еле.
Несчастье?
Какое?
Быть не может!
А если с ним?
Нет!
Неужели?
Потолок
на нас
пошёл снижаться вороном.
Опустили головы —
ещё нагни!
Задрожали вдруг
и стали чёрными
люстр расплывшихся огни.
Захлебнулся
колокольчика ненужный щёлк.
Превозмог себя
и встал Калинин.
Слёзы не сжуёшь
с усов и щёк.
Выдали.
Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались,
голову мнут.
Кровь в виски,
клокочет в вене:
– Вчера
в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин! —
Этот год
видал,
чего не взвидят сто.
День
векам
войдёт
в тоскливое преданье.
Ужас
из железа
выжал стон.
По большевикам
прошло рыданье.
Тяжесть страшная!
Самих себя же
выволакивали
волоком.
Разузнать —
когда и как?
Чего таят!
В улицы
и в переулки
катафалком
плыл
Большой театр.
Радость
ползёт улиткой.
У горя
бешеный бег.
Ни солнца,
ни льдины слитка —
всё
сквозь газетное ситко
чёрный
засеял снег.
На рабочего
у станка
весть набросилась.
Пулей в уме.
И как будто
слезы́ стакан
опрокинули на инструмент.
И мужичонко,
видавший виды,
смерти
в глаз
смотревший не раз,
отвернулся от баб,
но выдала
кулаком
растёртая грязь.
Были люди – кремень,
и эти
прикусились,
губу уродуя.
Стариками
рассерьёзничались дети,
и, как дети,
плакали седобородые.
Ветер
всей земле
бессонницею выл,
и никак
восставшей
не додумать до конца,
что вот гроб
в морозной
комнатёночке Москвы
революции
и сына и отца.
Конец,
конец,
конец.
Кого
уверять!
Стекло —
и видите под…
Это
его
несут с Павелецкого
по городу,
взятому им у господ.
Улица,
будто рана сквозная —
так болит
и стонет так.
Здесь
каждый камень
Ленина знает
по топоту
первых
октябрьских атак.
Здесь
всё,
что каждое знамя
вышило,
задумано им
и велено им.
Здесь
каждая башня
Ленина слышала,
за ним
пошла бы
в огонь и в дым.
Здесь
Ленина
знает
каждый рабочий,
сердца́ ему
ветками ёлок стели.
Он в битву вёл,
победу пророчил,
и вот
пролетарий —
всего властелин.
Здесь
каждый крестьянин
Ленина имя
в сердце
вписал
любовней, чем в святцы.
Он зе́мли
велел
назвать своими,
что дедам
в гробах,
засеченным, снятся.
И коммунары
с-под площади Красной,
казалось,
шепчут:
– Любимый и милый!
Живи,
и не надо
судьбы прекрасней —
сто раз сразимся
и ляжем в могилы! —
Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца,
чтоб нам умереть
и его разбудят, —
плотина улиц
враспашку раство́рится,
и с песней
на смерть
ринутся люди.
Но нету чудес,
и мечтать о них нечего.
Есть Ленин,
гроб
и согну́тые плечи.
Он был человек
до конца человечьего —
неси
и казнись
тоской человечьей.
Вовек
такого
бесценного груза
ещё
не несли
океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому союзов
плывущий
на спинах рыданий и маршей.
Ещё
в караул
вставала в почётный
суровая гвардия
ленинской выправки,
а люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину
и Тверской
и Димитровки.
В семнадцатом
было —
в очередь дочери
за хлебом не вышлешь —
завтра съем!
Но в эту
холодную,
страшную очередь
с детьми и с больными
встали все.
Деревни
строились
с городом рядом.
То мужеством горе,
то детскими вызвенит.
Земля труда
проходила парадом —
живым
итогом
ленинской жизни.
Жёлтое солнце,
косое и лаковое,
взойдёт,
лучами к подножью кидается.
Как будто
забитые,
надежду оплакивая,
склоняясь в горе,
проходят китайцы.
Вплывали
ночи
на спинах дней,
часы меняя,
путая даты.
Как будто
не ночь
и не звёзды на ней,
а плачут
над Лениным
негры из Штатов.
Мороз небывалый
жарил подошвы.
А люди
днюют
давкою тесной.
Даже
от холода
бить в ладоши
никто не решается —
нельзя,
неуместно.
Мороз хватает
и тащит,
как будто
пытает,
насколько в любви закалённые.
Врывается в толпы.
В давку запутан,
вступает
вместе с толпой за колонны.
Ступени растут,
разрастаются в риф.
Но вот
затихает
дыханье и пенье,
и страшно ступить —
под ногою обрыв —
бездонный обрыв
в четыре ступени.
Обрыв
от рабства в сто поколений,
где знают
лишь золота звонкий резон.
Обрыв
и край —
это гроб и Ленин,
а дальше —
коммуна
во весь горизонт.
Что увидишь?!
Только лоб его́ лишь,
и Надежда Константиновна
в тумане
за…
Может быть,
в глаза без слёз
увидеть можно больше.
Не в такие
я
смотрел глаза.
Знамён
плывущих
склоняется шёлк
последней
почестью отданной:
«Прощай же, товарищ,
ты честно прошёл
свой доблестный путь, благородный».
Страх.
Закрой глаза
и не гляди —
как будто
идёшь
по проволоке про́вода.
Как будто
минуту
один на один
остался
с огромной
единственной правдой.
Я счастлив.
Звенящего марша вода
относит
тело моё невесомое.
Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слёзы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!
Знамённые
снова
склоняются крылья,
чтоб завтра
опять
подняться в бои́ —
«Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои».
Только б не упасть,
к плечу плечо,
флаги вычернив
и ве́ками алея,
на последнее
прощанье с Ильичём
шли
и медлили у мавзолея.
Выполняют церемониал.
Говорили речи.
Говорят – и ладно.
Горе вот,
что срок минуты
мал —
разве
весь
охватишь ненаглядный!
Пройдут
и на́верх
смотрят с опаской,
на чёрный,
посыпанный снегом кружок.
Как бешено
скачут
стрелки на Спасской.
В минуту —
к последней четвёрке прыжок.
Замрите
минуту
от этой вести!
Остановись,
движенье и жизнь!
Поднявшие молот,
стыньте на месте.
Земля, замри,
ложись и лежи!
Безмолвие.
Путь величайший окончен.
Стреляли из пушки,
а может, из тыщи.
И эта
пальба
казалась не громче,
чем мелочь,
в кармане бренчащая —
в нищем.
До боли
раскрыв
убогое зрение,
почти заморожен,
стою не дыша.
Встаёт
предо мной
у знамён в озарении
тёмный
земной
неподвижный шар.
Над миром гроб,
неподвижен и нем.
У гроба
мы,
людей представители,
чтоб бурей восстаний,
дел и поэм
размножить то,
что сегодня видели.
Но вот
издалёка,
оттуда,
из алого
в мороз,
в караул умолкнувший наш,
чей-то голос —
как будто Муралова —
«Шагом марш».
Этого приказа
и не нужно даже —
реже,
ровнее,
твёрже дыша,
с трудом
отрывая
тело-тяжесть,
с площади
вниз
вбиваем шаг.
Каждое знамя
твёрдыми руками
вновь
над головою
взвито ввысь.
Топота потоп,
сила кругами,
ширясь,
расходится
миру в мысль.
Общая мысль
воедино созвеньена
рабочих,
крестьян
и солдат-рубак:
– Трудно
будет
республике без Ленина.
Надо заменить его —
кем?
И как?
Довольно
валяться
на перине, клоповой!
Товарищ секретарь!
НА тебе —
вот —
просим приписать
к ячейке еркаповой
сразу,
коллективно,
весь завод… —
Смотрят
буржуи,
глазки раскоряча,
дрожат
от топота крепких ног.
Четыреста тысяч
от станка
горячих —
Ленину
первый
партийный венок.
– Товарищ секретарь,
бери ручку…
Говорят – заменим…
Надо, мол…
Я уже стар —
берите внучика,
не отстаёт —
подай комсомол. —
Подшефный флот,
подымай якоря,
в море
пора
подводным кротам.
«По морям,
по морям,
нынче здесь,
завтра там».
Выше, солнце!
Будешь свидетель —
скорей
разглаживай траур утра.
В ногу
взрослым
вступают дети —
тра́-та-та-та́-та
та́-та-та-та́.
«Раз,
два,
три!
Пионеры мы.
Мы фашистов не боимся,
пойдём на штыки».
Напрасно
кулак Европы задран.
Кроем их грохотом.
Назад!
Не сметь!
Стала
величайшим
коммунистом-организатором
даже
сама
Ильичёва смерть.
Уже
над трубами
чудовищной рощи,
руки
миллионов
сложив в древко,
красным знаменем
Красная площадь
вверх
вздымается
страшным рывком.
С этого знамени,
с каждой складки
снова
живой
взывает Ленин:
– Пролетарии,
стройтесь
к последней схватке!
Рабы,
разгибайте
спины и колени!
Армия пролетариев
встань стройна!
Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.
[1924]Про это
Про что – про это?
В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нём хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.
Эта тема придёт,
калеку за локти
подтолкнёт к бумаге,
прикажет:
– Скреби! —
И калека
с бумаги
срывается в клёкоте,
только строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придёт,
позвони́тся с кухни,
повернётся,
сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придёт,
прикажет:
– Истина! —
Эта тема придёт,
велит:
– Красота! —
И пускай
перекладиной кисти раскистены —
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —
и становится
– А —
недоступней Казбека.
Замутит,
оттянет от хлеба и сна.
Эта тема придёт,
вовек не износится,
только скажет:
– Отныне гляди на меня! —
И глядишь на неё,
и идёшь знаменосцем,
красношёлкий огонь над землёй знаменя.
Это хитрая тема!
Нырнёт под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярясь
– посмели забыть её! —
затрясёт;
посыпятся души из шкур.
Эта тема ко мне заявилась гневная,
приказала:
– Подать
дней удила! —
Посмотрела, скривясь, в моё ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.
Эта тема пришла,
остальные оттёрла
и одна
безраздельно стала близка.
Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец!
От сердца к вискам.
Эта тема день истемнила, в темень
колотись – велела – строчками лбов.
Имя
этой
теме:
. . . !
I Баллада Редингской тюрьмы
Стоял – вспоминаю.
Был этот блеск.
И это
тогда
называлось Невою.
Маяковский, «Человек». (13 лет работы, т. 2, стр. 77)О балладе и о балладах
Немолод очень лад баллад,
но если слова болят
и слова говорят про то, что болят,
молодеет и лад баллад.
Лубянский проезд.
Водопьяный.
Вид
вот.
Вот
фон.
В постели она.
Она лежит.
Он.
На столе телефон.
«Он» и «она» баллада моя.
Не страшно нов я.
Страшно то,
что «он» – это я,
и то, что «она» —
моя.
При чём тюрьма?
Рождество.
Кутерьма.
Без решёток окошки домика!
Это вас не касается.
Говорю – тюрьма.
Стол.
На столе соломинка.
По кабелю пущен номер
Тронул еле – волдырь на теле.
Трубку из рук вон.
Из фабричной марки —
две стрелки яркие
омолниили телефон.
Соседняя комната.
Из соседней
сонно:
– Когда это?
Откуда это живой поросёнок? —
Звонок от ожогов уже визжит,
добела раскалён аппарат.
Больна она!
Она лежит!
Беги!
Скорей!
Пора!
Мясом дымясь, сжимаю жжение.
Моментально молния телом забегала.
Стиснул миллион вольт напряжения.
Ткнулся губой в телефонное пекло.
Дыры
сверля
в доме,
взмыв
Мясницкую
пашней,
рвя
кабель,
номер
пулей
летел
барышне.
Смотрел осовело барышнин глаз —
под праздник работай за двух.
Красная лампа опять зажглась.
Позвонила!
Огонь потух.
И вдруг
как по лампам пошло́ куролесить,
вся сеть телефонная рвётся на нити.
– 67–10!
Соедините! —
В проулок!
Скорей!
Водопьяному в тишь!
Ух!
А то с электричеством станется —
под Рождество
на воздух взлетишь
со всей
со своей
телефонной
станцией.
Жил на Мясницкой один старожил.
Сто лет после этого жил —
про это лишь —
сто лет! —
говаривал детям дед.
– Было – суббота…
под воскресенье…
Окорочок…
Хочу, чтоб дёшево…
Как вдарит кто-то!..
Землетрясенье…
Ноге горячо…
Ходун – подошва!.. —
Не верилось детям,
чтоб так-то
да там-то.
Землетрясенье?
Зимой?
У почтамта?!
Телефон бросается на всех
Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур,
раструба трубки разинув оправу,
погромом звонков громя тишину,
разверг телефон дребезжащую лаву.
Это визжащее,
звенящее это
пальнуло в стены,
старалось взорвать их.
Звоночинки
тыщей
от стен
рикошетом
под стулья закатывались
и под кровати.
Об пол с потолка звоно́чище хлопал.
И снова,
звенящий мячище точно,
взлетал к потолку, ударившись о́б пол,
и сыпало вниз дребезгою звоночной.
Стекло за стеклом,
вьюшку за вьюшкой
тянуло
звенеть телефонному в тон.
Тряся
ручоночкой
дом-погремушку,
тонул в разливе звонков телефон.
Секундантша
От сна
чуть видно —
точка глаз
иголит щёки жаркие.
Ленясь, кухарка поднялась,
идёт,
кряхтя и харкая.
Мочёным яблоком она.
Морщинят мысли лоб её.
– Кого?
Владим Владимыч?!
А! —
Пошла, туфлёю шлёпая.
Идёт.
Отмеряет шаги секундантом.
Шаги отдаляются…
Слышатся еле…
Весь мир остальной отодвинут куда-то,
лишь трубкой в меня неизвестное целит.
Просветление мира
Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.
Как были,
рот разинув,
сюда они
смотрят на Рождество из Рождеств.
Им видима жизнь
от дрязг и до дрязг.
Дом их —
единая будняя тина.
Будто в себя,
в меня смотрясь,
ждали
смертельной любви поединок.
Окаменели сиренные рокоты.
Колёс и шагов суматоха не вертит.
Лишь поле дуэли
да время-доктор
с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.
Москва —
за Москвой поля примолкли.
Моря —
за морями горы стройны.
Вселенная
вся
как будто в бинокле,
в огромном бинокле (с другой стороны).
Горизонт распрямился
ровно-ровно.
Тесьма.
Натянут бечёвкой тугой.
Край один —
я в моей комнате,
ты в своей комнате – край другой.
А между —
такая,
какая не снится,
какая-то гордая белой обновой,
через вселенную
легла Мясницкая
миниатюрой кости слоновой.
Ясность.
Прозрачнейшей ясностью пытка.
В Мясницкой
деталью искуснейшей выточки
кабель
тонюсенький —
ну, просто нитка!
И всё
вот на этой вот держится ниточке.
Дуэль
Раз!
Трубку наводят.
Надежду
брось.
Два!
Как раз
остановилась,
не дрогнув,
между
моих
мольбой обволокнутых глаз.
Хочется крикнуть медлительной бабе:
– Чего задаётесь?
Стоите Дантесом.
Скорей,
скорей просверлите сквозь кабель
пулей
любого яда и веса. —
Страшнее пуль —
оттуда
сюда вот,
кухаркой оброненное между зевот,
проглоченным кроликом в брюхе удава
по кабелю,
вижу,
слово ползёт.
Страшнее слов —
из древнейшей древности,
где самку клыком добывали люди ещё,
ползло
из шнура —
скребущейся ревности
времён троглодитских тогдашнее чудище.
А может быть…
Наверное, может!
Никто в телефон не лез и не лезет,
нет никакой троглодичьей рожи.
Сам в телефоне.
Зеркалюсь в железе.
Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры!
Пойди – эту правильность с Эрфуртской сверь!
Сквозь первое горе
бессмысленный,
ярый,
мозг поборов,
проскребается зверь.
Что может сделаться с человеком!
Красивый вид.
Товарищи!
Взвесьте!
В Париж гастролировать едущий летом,
поэт,
почтенный сотрудник «Известий»,
царапает стул когтём из штиблета.
Вчера человек —
единым махом
клыками свой размедведил вид я!
Косматый.
Шерстью свисает рубаха.
Тоже туда ж!?
В телефоны бабахать!?
К своим пошёл!
В моря ледовитые!
Размедвеженье
Медведем,
когда он смертельно сердится,
на телефон
грудь
на врага тяну.
А сердце
глубже уходит в рогатину!
Течёт.
Ручьища красной меди.
Рычанье и кровь.
Лакай, темнота!
Не знаю,
плачут ли,
нет медведи,
но если плачут,
то именно так.
То именно так:
без сочувственной фальши
скулят,
заливаясь ущельной длиной.
И именно так их медвежий Бальшин,
скуленьем разбужен, ворчит за стеной.
Вот так медведи именно могут:
недвижно,
задравши морду,
как те,
повыть,
извыться
и лечь в берлогу,
царапая логово в двадцать когтей.
Сорвался лист.
Обвал.
Беспокоит.
Винтовки-шишки
не грохнули б враз.
Ему лишь взмедведиться может такое
сквозь слёзы и шерсть, бахромящую глаз.
Протекающая комната
Кровать.
Железки.
Барахло одеяло.
Лежит в железках.
Тихо.
Вяло.
Трепет пришёл.
Пошёл по железкам.
Простынь постельная треплется плеском.
Вода лизнула холодом ногу.
Откуда вода?
Почему много?
Сам наплакал.
Плакса.
Слякоть.
Неправда —
столько нельзя наплакать.
Чёртова ванна!
Вода за диваном.
Под столом,
за шкафом вода.
С дивана,
сдвинут воды задеваньем,
в окно проплыл чемодан.
Камин…
Окурок…
Сам кинул.
Пойти потушить.
Петушится.
Страх.
Куда?
К какому такому камину?
Верста.
За верстою берег в кострах.
Размыло всё,
даже запах капустный
с кухни
всегдашний,
приторно сладкий.
Река.
Вдали берега.
Как пусто!
Как ветер воет вдогонку с Ладоги!
Река.
Большая река.
Холодина.
Рябит река.
Я в середине.
Белым медведем
взлез на льдину,
плыву на своей подушке-льдине.
Бегут берега,
за видом вид.
Подо мной подушки лёд.
С Ладоги дует.
Вода бежит.
Летит подушка-плот.
Плыву.
Лихорадюсь на льдине-подушке.
Одно ощущенье водой не вымыто:
я должен
не то под кроватные дужки,
не то
под мостом проплыть под каким-то.
Были вот так же:
ветер да я.
Эта река!..
Не эта.
Иная.
Нет, не иная!
Было —
стоял.
Было – блестело.
Теперь вспоминаю.
Мысль растёт.
Не справлюсь я с нею.
Назад!
Вода не выпустит плот.
Видней и видней…
Ясней и яснее…
Теперь неизбежно…
Он будет!
Он вот!!!
Человек из-за 7-ми лет
Волны устои стальные моют.
Недвижный,
страшный,
упёршись в бока
столицы,
в отчаяньи созданной мною,
стоит
на своих стоэтажных быках.
Небо воздушными скрепами вышил.
Из вод феерией стали восстал.
Глаза подымаю выше,
выше…
Вон!
Вон —
опершись о перила моста́?..
Прости, Нева!
Не прощает,
гонит.
Сжалься!
Не сжалился бешеный бег.
Он!
Он —
у небес в воспалённом фоне,
прикрученный мною, стоит человек.
Стоит.
Разметал изросшие волосы.
Я уши лаплю.
Напрасные мнёшь!
Я слышу
мой,
мой собственный голос.
Мне лапы дырявит голоса нож.
Мой собственный голос —
он молит,
он просится:
– Владимир!
Остановись!
Не покинь!
Зачем ты тогда не позволил мне
броситься?
С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою.
Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,
когда ж избавления срок?
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
Ешь?
Отпускаешь брюшко́?
Сам
в ихний быт,
в их семейное счастье
наме́реваешься пролезть петушком?!
Не думай! —
Рука наклоняется вниз его.
Грозится
сухой
в подмостную кручу.
– Не думай бежать!
Это я
вызвал.
Найду.
Загоню.
Доконаю.
Замучу!
Там,
в городе,
праздник.
Я слышу гром его.
Так что ж!
Скажи, чтоб явились они.
Постановленье неси исполкомово.
Му́ку мою конфискуй,
отмени.
Пока
по этой
по Невской
по глуби
спаситель-любовь
не придёт ко мне,
скитайся ж и ты,
и тебя не полюбят.
Греби!
Тони меж домовьих камней! —
Спасите!
Стой, подушка!
Напрасное тщенье.
Лапой гребу —
плохое весло.
Мост сжимается.
Невским течением
меня несло,
несло и несло.
Уже я далёко.
Я, может быть, за́ день.
За де́нь
от тени моей с моста.
Но гром его голоса гонится сзади.
В погоне угроз паруса распластал.
– Забыть задумал невский блеск?!
Её заменишь?!
Некем!
По гроб запомни переплеск,
плескавший в «Человеке». —
Начал кричать.
Разве это осилите?!
Буря басит —
не осилить вовек.
Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!
Там
на мосту
на Неве
человек!
II Ночь под Рождество
Фантастическая реальность
Бегут берега —
за видом вид.
Подо мной —
подушка-лёд.
Ветром ладожским гребень завит.
Летит
льдышка-плот.
Спасите! – сигналю ракетой слов.
Падаю, качкой добитый.
Речка кончилась —
море росло.
Океан —
большой до обиды.
Спасите!
Спасите!..
Сто раз подряд
реву батареей пушечной.
Внизу
подо мной
растёт квадрат,
остров растёт подушечный.
Замирает, замирает,
замирает гул.
Глуше, глуше, глуше…
Никаких морей.
Я —
на снегу.
Кругом —
вёрсты суши.
Суша – слово.
Снегами мокра.
Подкинут метельной банде я.
Что за земля?
Какой это край?
Грен-
лап-
люб-ландия?
Боль были
Из облака вызрела лунная дынка,
стену́ постепенно в тени оттеня.
Парк Петровский.
Бегу.
Ходынка
за мной.
Впереди Тверской простыня.
А-у-у-у!
К Садовой аж выкинул «у»!
Оглоблей
или машиной,
но только
мордой
аршин в снегу.
Пулей слова матершины.
«От нэпа ослеп?!
Для чего глаза впря́жены?!
Эй, ты!
Мать твою разнэп!
Ряженый!»
Ах!
Да ведь
я медведь.
Недоразуменье!
Надо —
прохожим,
что я не медведь,
только вышел похожим.
Спаситель
Вон
от заставы
идёт человечек.
За шагом шаг вырастает короткий.
Луна
голову вправила в венчик.
Я уговорю,
чтоб сейчас же,
чтоб в лодке.
Это – спаситель!
Вид Иисуса.
Спокойный и добрый,
венчанный в луне.
Он ближе.
Лицо молодое безусо.
Совсем не Исус.
Нежней.
Юней.
Он ближе стал,
он стал комсомольцем.
Без шапки и шубы.
Обмотки и френч.
То сложит руки,
будто молится.
То машет,
будто на митинге речь.
Вата снег.
Мальчишка шёл по вате.
Вата в золоте —
чего уж пошловатей?!
Но такая грусть,
что стой
и грустью ранься!
Расплывайся в процыганенном романсе.
Романс
Мальчик шёл, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо жёлт.
Даже снег желтел в Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шёл.
Шёл,
вдруг
встал.
В шёлк
рук
сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой лёгшую кайму.
Снег хрустя разламывал суставы.
Для чего?
Зачем?
Кому?
Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
– Прощайте…
Кончаю…
Прошу не винить…
Ничего не поделаешь
До чего ж
на меня похож!
Ужас.
Но надо ж!
Дёрнулся к луже.
Залитую курточку стягивать стал.
Ну что ж, товарищ!
Тому ещё хуже —
семь лет он вот в это же смотрит с моста.
Напялил еле —
другого калибра.
Никак не намылишься —
зубы стучат.
Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил.
Гляделся в льдину…
бритвой луча…
Почти,
почти такой же самый.
Бегу.
Мозги шевелят адресами.
Во-первых,
на Пресню,
туда,
по задворкам.
Тянет инстинктом семейная норка.
За мной
всероссийские,
теряясь точкой,
сын за сыном,
дочка за дочкой.
Всехные родители
– Володя!
На Рождество!
Вот радость!
Радость-то во!.. —
Прихожая тьма.
Электричество комната.
Сразу —
наискось лица родни.
– Володя!
Господи!
Что это?
В чём это?
Ты в красном весь.
Покажи воротник!
– Не важно, мама,
дома вымою.
Теперь у меня раздолье —
вода.
Не в этом дело.
Родные!
Любимые!
Ведь вы меня любите?
Любите?
Да?
Так слушайте ж!
Тётя!
Сёстры!
Мама!
Туши́те ёлку!
Заприте дом!
Я вас поведу…
вы пойдёте…
Мы прямо…
сейчас же…
все
возьмём и пойдём.
Не бойтесь —
это совсем недалёко —
600 с небольшим этих крохотных вёрст.
Мы будем там во мгновение ока.
Он ждёт.
Мы вылезем прямо на мост.
– Володя,
родной,
успокойся! —
Но я им
на этот семейственный писк голосков:
– Так что ж?!
Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков?
Путешествие с мамой
Не вы —
не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьёю засеяна.
Смотрите,
мачт корабельных щетина —
в Германию врезался Одера клин.
Слезайте, мама,
уже мы в Штеттине.
Сейчас,
мама,
несёмся в Берлин.
Сейчас летите, мотором урча, вы:
Париж,
Америка,
Бруклинский мост,
Сахара,
и здесь
с негритоской курчавой
лакает семейкой чай негритос.
Сомнёте периной
и волю
и камень.
Коммуна —
и то завернётся комом.
Столетия
жили своими домками
и нынче зажили своим домкомом!
Октябрь прогремел,
карающий,
судный.
Вы
под его огнепёрым крылом
расставились,
разложили посудины.
Паучьих волос не расчешешь колом.
Исчезни, дом,
родимое место!
Прощайте! —
Отбросил ступе́ней последок.
– Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любвишка наседок!
Пресненские миражи
Бегу и вижу —
всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
сам
иду
с подарками под мышками.
Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
опустошённая лёгкость!
Домами оскалила ска́лы далёкость.
Ни люда, ни заставы нет.
Горят снега,
и го́ло.
И только из-за ставенек
в огне иголки ёлок.
Ногам вперекор,
тормозами на быстрые
вставали стены, окнами выстроясь.
По стёклам
тени
фигурками тира
вертелись в окне,
зазывали в квартиры.
С Невы не сводит глаз,
продрог,
стоит и ждёт —
помогут.
За первый встречный за порог
закидываю ногу.
В передней пьяный проветривал бредни.
Стрезвел и дёрнул стремглав из передней.
Зал заливался минуты две:
– Медведь,
медведь,
медведь,
медв-е-е-е-е… —
Муж Фёклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми
Потом,
извертясь вопросительным знаком,
хозяин полглаза просунул:
– Однако!
Маяковский!
Хорош медведь! —
Пошёл хозяин любезностями медоветь:
– Пожалуйста!
Прошу-с.
Ничего —
я боком.
Нечаянная радость-с, как сказано у Блока.
Жена – Фекла Двидна.
Дочка,
точь-в-точь
в меня, видно —
семнадцать с половиной годочков.
А это…
Вы, кажется, знакомы?! —
Со страха к мышам ушедшие в норы,
из-под кровати полезли партнёры.
Усища —
к стёклам ламповым пыльники —
из-под столов пошли собутыльники.
Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.
Весь безлицый парад подсчитать ли?
Идут и идут процессией мирной.
Блестят из бород паутиной квартирной.
Всё так и стоит столетья,
как было.
Не бьют —
и не тронулась быта кобыла.
Лишь вместо хранителей ду́хов и фей
ангел-хранитель —
жилец в галифе.
Но самое страшное:
по росту,
по коже
одеждой,
сама походка моя! —
в одном
узнал —
близнецами похожи —
себя самого —
сам
я.
С матрацев,
вздымая постельные тряпки,
клопы, приветствуя, подняли лапки.
Весь самовар рассиялся в лучики —
хочет обнять в самоварные ручки.
В точках от мух
веночки
с обоев
венчают голову сами собою.
Взыграли туш ангелочки-горнисты,
пророзовев из иконного глянца.
Исус,
приподняв
венок тернистый,
любезно кланяется.
Маркс,
впряжённый в алую рамку,
и то тащил обывательства лямку.
Запели птицы на каждой на жёрдочке,
герани в ноздри лезут из кадочек.
Как были
сидя сняты
на корточках,
радушно бабушки лезут из карточек.
Раскланялись все,
осклабились враз;
кто басом фразу,
кто в дискант
дьячком.
– С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$С праз-
нич-
ком! —
Хозяин
то тронет стул,
то дунет,
сам со скатерти крошки вымел.
– Да я не знал!..
Да я б накануне…
Да, я думаю, занят…
Дом…
Со своими…
Бессмысленные просьбы
Мои свои?!
Д-а-а-а —
это особы.
Их ведьма разве сыщет на венике!
Мои свои
с Енисея
да с Оби
идут сейчас,
следят четвереньки.
Какой мой дом?!
Сейчас с него.
Подушкой-льдом
плыл Невой —
мой дом
меж дамб
стал льдом,
и там…
Я брал слова
то самые вкрадчивые,
то страшно рыча,
то вызвоня лирово.
От выгод —
на вечную славу сворачивал,
молил,
грозил,
просил,
агитировал.
– Ведь это для всех…
для самих…
для вас же…
Ну, скажем, «Мистерия» —
ведь не для себя ж?!
Поэт там и прочее…
Ведь каждому важен…
Не только себе ж —
ведь не личная блажь…
Я, скажем, медведь, выражаясь грубо…
Но можно стихи…
Ведь сдирают шкуру?!
Подкладку из рифм поставишь —
и шуба!..
Потом у камина…
там кофе…
курят…
Дело пустяшно:
ну, минут на десять…
Но нужно сейчас,
пока не поздно…
Похлопать может…
Сказать —
надейся!..
Но чтоб теперь же…
чтоб это серьёзно… —
Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.
Катали по́ столу хлебные мякиши.
Слова об лоб
и в тарелку —
горохом.
Один расчувствовался,
вином размягший:
– Поооостой…
поооостой…
Очень даже и просто.
Я пойду!..
Говорят, он ждёт…
на мосту…
Я знаю…
Это на углу Кузнецкого мо́ста.
Пустите!
Нукося! —
По углам —
зуд:
– Наззз-ю-зззюкался!
Будет ныть!
Поесть, попить,
попить, поесть —
и за 66!
Теорию к лешему!
Нэп —
практика.
Налей,
нарежь ему.
Футурист,
налягте-ка! —
Ничуть не смущаясь челюстей целостью,
пошли греметь о челюсть челюстью.
Шли
из артезианских прорв
меж рюмкой
слова поэтических споров.
В матрац,
поздоровавшись,
влезли клопы.
На вещи насела столетняя пыль.
А тот стоит —
в перила вбит.
Он ждёт,
он верит:
скоро!
Я снова лбом,
я снова в быт
вбиваюсь слов напором.
Опять
атакую и вкривь и вкось.
Но странно:
слова проходят насквозь.
Необычайное
Стихает бас в комариные трельки.
Подбитые воздухом, стихли тарелки.
Обои,
стены
блёкли…
блёкли…
Тонули в серых тонах офортовых.
Со стенки
на город разросшийся
Бёклин
Москвой расставил «Остров мёртвых».
Давным-давно.
Подавно —
теперь.
И нету проще!
Вон
в лодке,
скутан саваном,
недвижный перевозчик.
Не то моря,
не то поля —
их шорох тишью стёрт весь.
А за морями —
тополя
возносят в небо мёртвость.
Что ж —
ступлю!
И сразу
тополи
сорвались с мест,
пошли,
затопали.
Тополи стали спокойствия мерами,
ночей сторожами,
милиционерами.
Расчетверившись,
белый Харон
стал колоннадой почтамтских колонн.
Деваться некуда
Так с топором влезают в сон,
обметят спящелобых —
и сразу
исчезает всё,
и видишь только обух.
Так барабаны улиц
в сон
войдут,
и сразу вспомнится,
что вот тоска
и угол вон,
за ним
она —
виновница.
Прикрывши окна ладонью угла,
стекло за стеклом вытягивал с краю.
Вся жизнь
на карты окон легла.
Очко стекла —
и я проиграю.
Арап —
миражей шулер —
по окнам
разметил нагло веселия крап.
Колода стекла
торжеством яркоогним
сияет нагло у ночи из лап.
Как было раньше —
вырасти б,
стихом в окно влететь.
Нет,
никни к сте́нной сырости.
И стих
и дни не те.
Морозят камни.
Дрожь могил.
И редко ходят веники.
Плевками,
снявши башмаки,
вступаю на ступеньки.
Не молкнет в сердце боль никак,
куёт к звену звено.
Вот так,
убив,
Раскольников
пришёл звенеть в звонок.
Гостьё идёт по лестнице…
Ступеньки бросил —
стенкою.
Стараюсь в стенку вплесниться,
и слышу —
струны тенькают.
Быть может, села
вот так
невзначай она.
Лишь для гостей,
для широких масс.
А пальцы
сами
в пределе отчаянья
ведут бесшабашье, над горем глумясь.
Друзья
А во́роны гости?!
Дверье крыло
раз сто по бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орло́?
ко мне доплеталось пьяное до́пьяна.
Полоса
щели.
Голоса?
еле:
«Аннушка —
ну и румянушка!»
Пироги…
Печка…
Шубу…
Помогает…
С плечика…
Сглушило слова уанстепным темпом,
и снова слова сквозь темп уанстепа:
«Что это вы так развеселились?
Разве?!»
Сли́лись…
Опять полоса осветила фразу.
Слова непонятны —
особенно сразу.
Слова так
(не то чтоб со зла):
«Один тут сломал ногу,
так вот веселимся, чем бог послал,
танцуем себе понемногу».
Да,
их голоса́.
Знакомые выкрики.
Застыл в узнаваньи,
расплющился, нем,
фразы крою́ по выкриков выкройке.
Да —
это они —
они обо мне.
Шелест.
Листают, наверное, ноты.
«Ногу, говорите?
Вот смешно-то!»
И снова
в тостах стаканы исчоканы,
и сыплют стеклянные искры из щёк они.
И снова
пьяное:
«Ну и интересно!
Так, говорите, пополам и треснул?»
«Должен огорчить вас, как ни грустно,
не треснул, говорят,
а только хрустнул».
И снова
хлопанье двери и карканье,
и снова танцы, полами исшарканные.
И снова
стен раскалённые степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе.
Только б не ты
Стою у стенки.
Я не я.
Пусть бредом жизнь смололась.
Но только б, только б не ея
невыносимый голос!
Я день,
я год обыденщине пре́дал,
я сам задыхался от этого бреда.
Он
жизнь дымком квартирошным выел.
Звал:
решись
с этажей
в мостовые!
Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал.
Пускай однобоко,
пусть лишь стихом,
лишь шагами ночными —
строчишь,
и становятся души строчными,
и любишь стихом,
а в прозе немею.
Ну вот, не могу сказать,
не умею.
Но где, любимая,
где, моя милая,
где
– в песне! —
любви моей изменил я?
Здесь
каждый звук,
чтоб признаться,
чтоб кликнуть.
А только из песни – ни слова не выкинуть.
Вбегу на трель,
на гаммы.
В упор глазами
в цель!
Гордясь двумя ногами,
Ни с места! – крикну. —
Цел! —
Скажу:
– Смотри,
даже здесь, дорогая,
стихами громя обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя
в проклятьях моих
обхожу.
Приди,
разотзовись на стих.
Я, всех оббегав, – тут.
Теперь лишь ты могла б спасти.
Вставай!
Бежим к мосту! —
Быком на бойне
под удар
башку мою нагнул.
Сборю себя,
пойду туда.
Секунда —
и шагну.
Шагание стиха
Последняя самая эта секунда,
секунда эта
стала началом,
началом
невероятного гуда.
Весь север гудел.
Гудения мало.
По дрожи воздушной,
по колебанью
догадываюсь —
оно над Любанью.
По холоду,
по хлопанью дверью
догадываюсь —
оно над Тверью.
По шуму —
настежь окна раскинул —
догадываюсь —
кинулся к Клину.
Теперь грозой Разумовское за́лил.
На Николаевском теперь
на вокзале.
Всего дыхание одно,
а под ногой
ступени
пошли,
поплыли ходуном,
вздымаясь в невской пене.
Ужас дошёл.
В мозгу уже весь.
Натягивая нервов строй,
разгуживаясь всё и разгуживаясь,
взорвался,
пригвоздил:
– Стой!
Я пришёл из-за семи лет,
из-за вёрст шести ста,
пришёл приказать:
Нет!
Пришёл повелеть:
Оставь!
Оставь!
Не надо
ни слова,
ни просьбы.
Что толку —
тебе
одному
удалось бы?!
Жду,
чтоб землёй обезлюбленной
вместе,
чтоб всей
мировой
человечьей гущей.
Семь лет стою,
буду и двести
стоять пригвождённый,
этого ждущий.
У лет на мосту
на презренье,
на сме́х,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачу́сь,
за всех распла́чусь.
Ротонда
Стены в тустепе ломались
на́ три,
на четверть тона ломались,
на сто́…
Я, стариком,
на каком-то Монмартре
лезу —
стотысячный случай —
на стол.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее
всё, как по нотам:
буду звать
(новое дело!)
куда-то идти,
спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
хозяин гостям объясняет:
– Русский! —
Женщины —
мяса и тряпок вяза́нки —
смеются,
стащить стараются
за́ ноги:
«Не пойдём.
Дудки!
Мы – проститутки».
Быть Сены полосе б Невой!
Грядущих лет брызго́й
хожу по мгле по Се́новой
всей нынчести изгой.
Саже́нный,
обсмеянный,
са́женный,
битый,
в бульварах
ору через каски военщины:
– Под красное знамя!
Шагайте!
По быту!
Сквозь мозг мужчины!
Сквозь сердце женщины! —
Сегодня
гнали
в особенном раже.
Ну и жара же!
Полусмерть
Надо
немного обветрить лоб.
Пойду,
пойду, куда ни вело б.
Внизу свистят сержанты-трельщики.
Тело
с панели
уносят метельщики.
Рассвет.
Подымаюсь сенскою сенью,
синематографской серой тенью.
Вот —
гимназистом смотрел их
с парты —
мелькают сбоку Франции карты.
Воспоминаний последним током
тащился прощаться
к странам Востока.
Случайная станция
С разлёту рванулся —
и стал,
и на́ мель.
Лохмотья мои зацепились штанами.
Ощупал —
скользко,
луковка точно.
Большое очень.
Испозолочено.
Под луковкой
колоколов завыванье.
Вечер зубцы стенные выкаймил.
На Иване я
Великом.
Вышки кремлёвские пиками.
Московские окна
видятся еле.
Весело.
Ёлками зарождествели.
В ущелья кремлёвы волна ударяла:
то песня,
то звона рождественский вал.
С семи холмов,
низвергаясь Дарьялом,
бросала Тереком
праздник
Москва.
Вздымается волос.
Лягушкою тужусь.
Боюсь —
оступлюсь на одну только пядь,
и этот
старый
рождественский ужас
меня
по Мясницкой закружит опять.
Повторение пройденного
Руки крестом,
крестом
на вершине,
ловлю равновесие,
страшно машу.
Густеет ночь,
не вижу в аршине.
Луна.
Подо мною
льдистый Машук.
Никак не справлюсь с моим равновесием,
как будто с Вербы —
руками картонными.
Заметят.
Отсюда виден весь я.
Смотрите —
Кавказ кишит Пинкертонами.
Заметили.
Всем сообщили сигналом.
Любимых,
друзей
человечьи ленты
со всей вселенной сигналом согнало.
Спешат рассчитаться,
идут дуэлянты.
Щетинясь,
щерясь
ещё и ещё там…
Плюют на ладони.
Ладонями сочными,
руками,
ветром,
нещадно,
без счёта
в мочалку щеку истрепали пощёчинами.
Пассажи —
перчаточных лавок початки,
дамы,
духи развевая паточные,
снимали,
в лицо швыряли перчатки,
швырялись в лицо магазины перчаточные.
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругнёй
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
Хватай, клевеща!
И так я калека в любовном боленьи.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,
я только душа.
А снизу:
– Нет!
Ты враг наш столетний.
Один уж такой попался —
гусар!
Понюхай порох,
свинец пистолетный.
Рубаху враспашку!
Не празднуй труса́! —
Последняя смерть
Хлеще ливня,
грома бодрей,
бровь к брови,
ровненько,
со всех винтовок,
со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов,
с десяти,
с двух,
в упор —
за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевесть дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
всему конец.
Дрожи конец тоже.
То, что осталось
Окончилась бойня.
Веселье клокочет.
Смакуя детали, разлезлись шажком.
Лишь на Кремле
поэтовы клочья
сияли по ветру красным флажком.
Да небо
по-прежнему
лирикой зве́здится.
Глядит
в удивленьи небесная звездь —
затрубадури́ла Большая Медведица.
Зачем?
В королевы поэтов пролезть?
Большая,
неси по векам-Араратам
сквозь небо потопа
ковчегом-ковшом!
С борта
звездолётом
медведьинским братом
горланю стихи мирозданию в шум.
Скоро!
Скоро!
Скоро!
В пространство!
Пристальней!
Солнце блестит горы.
Дни улыбаются с пристани.
Прошение на имя….
Прошу вас, товарищ химик,
заполните сами!
Пристаёт ковчег.
Сюда лучами!
При́стань.
Эй!
Кидай канат ко мне!
И сейчас же
ощутил плечами
тяжесть подоконничьих камней.
Солнце
ночь потопа высушило жаром.
У окна
в жару встречаю день я.
Только с глобуса – гора Килиманджаро.
Только с карты африканской – Кения.
Голой головою глобус.
Я над глобусом
от горя горблюсь.
Мир
хотел бы
в этой груде го́ря
настоящие облапить груди-горы.
Чтобы с полюсов
по всем жильям
лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,
медведь-коммунист.
Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.
Но дыханием моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым остриём издыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежещенным в звериный лязг,
ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно —
всеми по́рами
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
всё.
Всё,
что в нас
ушедшим рабьим вбито,
всё,
что мелочи́нным роем
оседало
и осело бытом
даже в нашем
краснофлагом строе.
Я не доставлю радости
видеть,
что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте.
Меня
из-за угла
ножом можно.
Дантесам в мой не целить лоб.
Четырежды состарюсь – четырежды омоложенный,
до гроба добраться чтоб.
Где б ни умер,
умру поя.
В какой трущобе ни лягу,
знаю —
достоин лежать я
с лёгшими под красным флагом.
Но за что ни лечь —
смерть есть смерть.
Страшно – не любить,
ужас – не сметь.
За всех – пуля,
за всех – нож.
А мне когда?
А мне-то что ж?
В детстве, может,
на самом дне,
десять найду
сносных дней.
А то, что другим?!
Для меня б этого!
Этого нет.
Видите —
нет его!
Верить бы в загробь!
Легко прогулку пробную.
Стоит
только руку протянуть —
пуля
мигом
в жизнь загробную
начерти́т гремящий путь.
Что мне делать,
если я
вовсю,
всей сердечной мерою,
в жизнь сию,
сей
мир
верил,
верую.
Вера
Пусть во что хотите жданья удлинятся —
вижу ясно,
ясно до галлюцинаций.
До того,
что кажется —
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$вот только с этой рифмой развяжись,
и вбежишь
по строчке
в изумительную жизнь.
Мне ли спрашивать —
да эта ли?
Да та ли?!
Вижу,
вижу ясно, до деталей.
Воздух в воздух,
будто камень в камень,
недоступная для тленов и крошений,
рассиявшись,
высится веками
мастерская человечьих воскрешений.
Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга —
«Вся земля», —
выискивает имя.
Век двадцатый.
Воскресить кого б?
– Маяковский вот…
Поищем ярче лица —
недостаточно поэт красив. —
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
– Не листай страницы!
Воскреси!
Надежда
Сердце мне вложи!
Крови́щу —
до последних жил.
В череп мысль вдолби!
Я своё, земное, не дожи́л,
на земле
своё не долюбил.
Был я сажень ростом.
А на что мне сажень?
Для таких работ годна и тля.
Пёрышком скрипел я, в комнатёнку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.
Что хотите, буду делать даром —
чистить,
мыть,
стеречь,
мотаться,
месть.
Я могу служить у вас
хотя б швейцаром.
Швейцары у вас есть?
Был я весел —
толк весёлым есть ли,
если горе наше непролазно?
Нынче
обнажают зубы если,
только, чтоб хватить,
чтоб лязгнуть.
Мало ль что бывает —
тяжесть
или горе…
Позовите!
Пригодится шутка дурья.
Я шарадами гипербол,
аллегорий
буду развлекать,
стихами балагуря.
Я любил…
Не стоит в старом рыться.
Больно?
Пусть…
Живёшь и болью дорожась.
Я зверьё ещё люблю —
у вас
зверинцы
есть?
Пустите к зверю в сторожа.
Я люблю зверьё.
Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
сплошная плешь, —
из себя
и то готов достать печёнку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!
Любовь
Может,
может быть,
когда-нибудь
дорожкой зоологических аллей
и она —
она зверей любила —
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая —
её, наверно, воскресят.
Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звёздностью бесчисленных ночей.
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси —
своё дожить хочу!
Чтоб не было любви – служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик:
– Товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец,
по крайней мере, миром,
землёй, по крайней мере, – мать.
[1923]Во весь голос
Первое вступление в поэму
Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем
окаменевшем г….,
наших дней изучая потёмки,
вы,
возможно,
спросите и обо мне.
И, возможно, скажет
ваш учёный,
кроя эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипячёной
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,
ушёл на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной.
Засадила садик мило,
дочка,
дачка,
водь
и гладь —
сама садик я садила,
сама буду поливать.
Кто стихами льёт из лейки,
кто кропит,
набравши в рот —
кудреватые Митрейки,
мудреватые Кудрейки —
кто их к чёрту разберёт!
Нет на прорву карантина —
мандолинят из-под стен:
«Тара-тина, тара-тина,
т-эн-н…»
Неважная честь,
чтоб из этаких роз
мои изваяния высились
по скверам,
где харкает туберкулёз,
где б… с хулиганом
да сифилис.
И мне
агитпроп
в зубах навяз,
и мне бы
строчить
романсы на вас —
доходней оно
и прелестней.
Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.
Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.
Я к вам приду
в коммунистическое далеко́
не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдёт
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.
Мой стих дойдёт,
но он дойдёт не так, —
не как стрела
в амурно-лировой охоте,
не как доходит
к нумизмату стёршийся пятак
и не как свет умерших звёзд доходит.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвёт
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошёл водопровод,
сработанный
ещё рабами Рима.
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
Я
ухо
словом
не привык ласкать;
ушку девическому
в завиточках волоска
с полупохабщины
не разалеться тронуту.
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.
И все
поверх зубов вооружённые войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.
Рабочего
громады класса враг —
он враг и мой,
отъявленный и давний.
Велели нам
идти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.
Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме
собственном
мы открываем ставни,
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти,
в каком сражаться стане.
Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
Бряцанием боёв
она врывалась в стих,
когда
под пулями
от нас буржуи бегали,
как мы
когда-то
бегали от них.
Пускай
за гениями
безутешною вдовой
плетётся слава
в похоронном марше —
умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мёрли наши!
Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтёмся славою —
ведь мы свои же люди, —
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.
Потомки,
словарей проверьте поплавки:
из Леты
выплывут
остатки слов таких,
как «проституция»,
«туберкулёз»,
«блокада».
Для вас,
которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
давай
быстрей протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.
Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на́ дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.
Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.
Декабрь 1929 – январь 1930Примечания
1
Художники (фр. – peintres).
(обратно)2
Площадь Согласия (фр.).
(обратно)3
Левый берег (фр.).
(обратно)4
Красные и белые звезды (англ.).
(обратно)5
Между нами (фр.).
(обратно)6
Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом (груз.).
(обратно)7
Большой Оперы (фр.).
(обратно)8
«Ничто» (лат.).
(обратно)9
Такси (фр.).
(обратно)




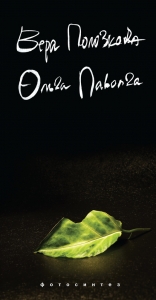
Комментарии к книге «Во весь голос», Владимир Владимирович Маяковский
Всего 0 комментариев