Лирика Эдгара По в переводах русских поэтов
ТАМЕРЛАН[1]
Отец! Дай встретить час мой судный Без утешений, без помех! Я не считаю безрассудно, Что власть земная спишет грех Гордыни той, что слаще всех; Нет времени на детский смех; А ты зовешь надеждой пламя! Ты прав, но боль желаний — с нами; Надеяться — О Боже — в том Пророческий источник ярок! — Я не сочту тебя шутом, Но этот дар — не твой подарок. Ты постигаешь тайну духа И от гордыни путь к стыду. Тоскующее сердце глухо К наследству славы и суду. Триумф в отрепьях ореола Над бриллиантами престола, Награда ада! Боль и прах… Не ад в меня вселяет страх. Боль в сердце из-за первоцвета И солнечных мгновений лета. Минут минувших вечный глас, Как вечный колокол, сейчас Звучит заклятьем похорон, Отходную пророчит звон. Когда-то я не ведал трона, И раскаленная корона В крови ковалась и мученьях. Но разве Цезарю не Рим Дал то, что вырвал я в сраженьях? И разум царственный, и годы, И гордый дух — и мы царим Над кроткостью людского рода. Я рос в краю суровых гор: Таглей, росой туманы сея, Кропил мне голову. Взрослея, Я понял, что крылатый спор И буйство бури — не смирились, А в волосах моих укрылись. Росы полночный водопад (Так в полусне мне мнилось это) Как будто осязал я ад, Тогда казался вспышкой света, Небесным полымем знамен, Пока глаза туманил сон Прекрасным призраком державы, И трубный голос величаво Долбил мне темя, воспевал Людские битвы, где мой крик, Мой глупый детский крик — звучал (О, как мой дух парил, велик, Бил изнутри меня, как бич), В том крике был победный клич! Дождь голову мою студил, А ветер не щадил лица, Он превращал меня в слепца. Но, знаю, человек сулил Мне лавры; и в броске воды Поток холодный, призрак битвы Нашептывал мне час беды И час пленения молитвы, И шло притворство на поклон, И лесть поддерживала трон. С того мгновенья стали страсти Жестокими, но судит всяк С тех пор, как я добился власти, Что это суть моя, пусть так; Но до того, как этот мрак, Но до того, как этот пламень, С тех пор не гаснущий никак, Меня не обратили в камень, Жила в железном сердце страсть И слабость женщины — не власть. Увы, нет слов, чтобы возник В словах любви моей родник! Я не желаю суеты При описанье красоты. Нет, не черты лица — лишь тень, Тень ветра в незабвенный день: Так прежде, помнится, без сна, Страницы я листал святые, Но расплывались письмена, — Мелела писем глубина, На дне — фантазии пустые. Она любви достойна всей! Любовь, как детство, — над гордыней. Завидовали боги ей, Она была моей святыней, Моя надежда, разум мой, Божественное озаренье, По-детски чистый и прямой, Как юность, щедрый — дар прозренья; Так почему я призван тьмой — Обратной стороной горенья. Любили вместе и росли мы, Бродили вместе по лесам; И вместе мы встречали зимы; И солнце улыбалось нам. Мне открывали небеса Ее бездонные глаза. Сердца — любви ученики; Ведь средь улыбок тех, Когда все трудности легки И безмятежен смех, Прильну я к трепетной груди И душу обнажу. И страхи будут позади, И все без слов скажу… Она не спросит ни о чем, Лишь взором тронет, как лучом. Любви достоин дух, он в бой Упрямо шел с самим собой, Когда на круче, горд и мал, Тщету тщеславия познал, Была моею жизнью ты; Весь мир — моря и небеса, Его пустыни и цветы, Его улыбка и слеза, Его восторг, его недуг, И снов бесцветных немота, И жизни немота вокруг. (И свет и тьма — одна тщета!) Туман разняв на два крыла — На имя и на облик твой, Я знал, что ты была, была Вдали и все-таки со мной. Я был честолюбив. Укор Услышу ль от тебя, отец? Свою державу я простер На полземли, но до сих пор Мне тесен был судьбы венец. Но, как в любой другой мечте, Роса засохла от тепла. В своей текучей красоте Моя любимая ушла. Минута, час иль день — вдвойне Испепеляли разум мне. Мы вместе шли — в руке рука, Гора взирала свысока Из башен вековых вокруг, Но башни эти обветшали! Шум обезличенных лачуг Ручьи стогласо заглушали. Я говорил о власти ей, Но так, что власть казалась вздором Во всей ничтожности своей В сравненье с нашим разговором И я читал в ее глазах, Возможно, чуточку небрежно — Свои мечты, а на щеках Ее румянец, вспыхнув нежно, Мне пурпур царственный в веках Сулил светло и неизбежно. И я пригрезил облаченье, Легко вообразил корону; Не удивляясь волшебству Той мантии, я наяву Увидел раболепство черни, Когда коленопреклоненно Льва держат в страхе на цепи; Не так в безлюдии, в степи, Где заговор существованья Огонь рождает от дыханья. Вот Самарканд. Он, как светило, Среди созвездья городов. Она в душе моей царила, Он — царь земли, царь судеб, снов. И славы, возвещенной миру. Так царствен он и одинок. Подножье трона, дань кумиру, Твердыня истины — у ног. Единственного Тамерлана, Властителя людских сердец, Поправшего чужие страны… Я — в царственном венце — беглец. Любовь! Ты нам дана, земная, Как посвященье в тайны рая. Ты в душу падаешь, жалея, Как ливень после суховея, Или, слабея каждый час, В пустыне оставляешь нас. Мысль! Жизни ты скрепляешь узы С обычаями чуждой музы И красотой безумных сил. Прощай! Я землю победил. Когда Надежда, как орлица, Вверху не разглядела скал, Когда поникли крылья птицы, А взор смягченный дом искал, — То был закат; с предсмертной думой И солнце шлет нам свет угрюмый. Все те, кто знал, каким сияньем Лучится летний исполин, Поймут, как ненавистна мгла, Хоть все оттенки собрала, И темноты не примут (знаньем Богаты души), как один, Они бы вырвались из ночи; Но мгла им застилает очи. И все-таки, луна, луна Сияньем царственным полна, Пусть холодна, но все же так Она улыбку шлет во мрак. (Как нужен этот скорбный свет). Посмертный нами взят портрет. Уходит детство солнца вдаль, Чья бледность, как сама печаль. Все знаем, что мечтали знать, Уходит все — не удержать; Пусть жизнь уносит темнота, Ведь сущность жизни — красота. Пришел домой. Но был мой дом Чужим, он стал давно таким. Забвенье дверь покрыло мхом, Но вслед чужим шагам моим С порога голос прозвучал, Который я когда-то знал. Что ж, Ад! Я брошу вызов сам Огням могильным, небесам, На скромном сердце скорбь, как шрам. Отец, я твердо верю в то, Что смерть, идущая за мной Из благостного далека, Оттуда, где не лжет никто, Не заперла ворот пока, И проблеск правды неземной — Над вечностью, над вечной тьмой. Я верую, Иблис не мог Вдоль человеческих дорог Забыть расставить западни… Я странствовал в былые дни, Искал Любовь… Была она Благоуханна и нежна И ладаном окружена. Но кров ее давно исчез, Сожженный пламенем небес. Ведь даже муха не могла Избегнуть зорких глаз орла. Яд честолюбия, сочась, В наш кубок праздничный проник. И в пропасть прыгнул я, смеясь, И к волосам любви приник.ПЕСНЯ[2]
Я видел: в день венчанья вдруг Ты краской залилась, Хоть счастьем для тебя вокруг Дышало все в тот час. Лучи, что затаил твой взор, — Как странен был их свет! — Для нищих глаз моих с тех пор Другого света нет. Когда девическим стыдом Румянец тот зажжен, Сойдет он вмиг. Но злым огнем Горит его отсвет в том, Кто видел, как венчаясь, вдруг Ты краской залилась, Хоть счастьем для тебя вокруг Все расцвело в тот час.МЕЧТЫ[3]
О, будь вся юность долгим сном одним, Чтоб пробуждался дух, объятый им, Лишь на рассвете вечности холодной; Будь этот сон печален безысходно, — И все ж удел подобный предпочтет Безрадостной и косной яви тот, Чье сердце предназначено с рожденья Страстей глубоких испытать смятенье. Но будет сходен сон такой иль нет С фантазиями отроческих лет, Когда бывают грезы столь прекрасны, Что лучших небо ниспослать не властно? Как часто ярким полднем в летний зной Я, мысленно покинув дом родной, Скитался по далеким чуждым странам, Плыл к существам неведомым и странным, Плодам воображенья моего… Что мог еще желать я сверх того? Лишь раз пора мечтаний нам дается, Тоска ж по ней до смерти остается. Уж не под властью ль тайных чар я жил? Не ветер ли ночной в меня вложил Свой образ и порывы? Не луна ли Меня манила в ледяные дали? Не к звездам ли с земли меня влекло? Не знаю. Все, как вихрем, унесло. Но хоть в мечтах, а счастлив был тогда я И к ним пристрастье ввек не обуздаю. Мечты! Без них была бы жизнь бледна. В них, радужных, олицетворена Та схватка яви с видимостью ложной, Благодаря которой и возможно В бреду познать любовь и рай полней, Чем в самом цвете юных сил и дней.ДУХИ МЕРТВЫХ[4]
В уединеньи темных дум Душа окажется… Угрюм Здесь камень, мертвенна могила — И празднословье отступило. В молчанье здешней тишины Нет одиночества… Ты знаешь: Здесь мертвые погребены, Которых ты не забываешь. Здесь души их, здесь духи их, Здесь их завет: будь строг и тих. Ночь — хоть ясная — ненастна. Россыпь ярких звезд — ужасна; Помертвели ореолы, Пали светлые престолы; Не надеждою полны, А кровавы и мрачны Их лучи — чума и пламя, Вечно властные над нами. Дум неизгладимых бремя И видений вещих время — Ими дух твой напоен, Как росой омытый склон. Ветер — вздох Господен — тих. Холм, обитель неживых, — Тень, лишь нет в ночном тумане; А туман — напоминанье, Образ, символ и покров Тайны Тайн во тьме миров!ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА[5]
Нахлынуло лето, И звезды бледны, И тают в полуночном Блеске луны. Планеты-рабыни Подвластны луне, И луч ее стынет На белой волне. Улыбалась луна, Но казалась луна Такой ледяной, ледяной. И ползли с вышины, Словно саван бледны, Облака под холодной луной. Но взор мой влекли, Мерцая вдали, Вечерней звезды лучи. Тонкий свет еле тлел, Но душу согрел В холодной, лунной ночи, И ловил я глазами Далекое пламя, А не блеск ледяной над волнами!ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА[6]
Лето в зените, Полночь темна. Звезды бледнеют — Всходит луна, В небо выводит Свиту планет. Брызжет холодный На воду свет. Луна улыбалась, Но мне показалась Улыбка ее неживой, А тучи под нею — Трикраты мрачнее, Чем черный покров гробовой, Но тут я в молчанье Увидел мерцанье Вечерней звезды над собой. Был луч ее дальний Во тьме изначальной Чуть зрим, но согрел с вышины Он душу, которой Так больно от взора Бесстрастной и близкой луны.МЕЧТА ВО СНЕ[7]
Целую в лоб, — прощай! Прости! Разъединяются пути — И завтра розно нам идти. Я вижу: ты права была — Все в жизни — Сновиденье, мгла. Надежды отлетели прочь, — Их день развеял, или ночь? — Зачем гадать, искать ответ, — Они мечта… их больше нет. И все, чем жили мы, поверь — Виденья смутных снов теперь! У моря буйного сижу — И за игрою волн слежу — И слушаю хорал морской. Я горсть песку зажал рукой — Песчинки… мало… — и скользят Меж пальцев, сыпятся назад — К безжалостным волнам спешат. Возможно ль крепче руку сжать И золотинки удержать? — Туманятся глаза слезой: Не сохранил я ни одной! — Ужели всё, чем я живу, Мечта — во сне — не наяву?СНОВИДЕНЬЕ В СНОВИДЕНЬИ[8]
Печально лоб целую твой, Но прежде, чем прощусь с тобой, Поведаю тебе одной… Да, ты не зря твердила мне, Что жизнь моя течет во сне, Но, если нет надежды боле, То — ясным днем иль при луне Она ушла — не все равно ли, Во сне ушла иль не во сне? Все, что несут нам сон и бденье, Лишь сновиденье в сновиденьи. …Стою на берегу морском, У ног — прибоя вечный гром, И бережно держу в руках Песчинок золотистый прах, А он сквозь пальцы, как струя, Стекает в море бытия — И горько, горько плачу я! О Боже! Что ж моя рука Не может удержать песка? О Боже! Где мне силы взять Хоть бы песчинку удержать? Ужели всё — и сон, и бденье — Лишь сновиденье в сновиденьи?СТАНСЫ[9]
Как часто сердцу горы, чащи, воды — Безлюдные святилища Природы Дают столь всеобъемлющий ответ, Что забываем мы о беге лет! 1 Был в юности знакомец у меня, Имевший дар общенья со вселенной; Но, красоту ее в себе храня И дух свой, этот факел в жизни бренной, Воспламеняя и лучами дня, И блеском звезд на тверди довременной, Не знал он, что за силой одержим, Когда владело исступленье им. 2 Что это было? То ли наважденье От чар луны в глухой полночный час? То ль краткий миг внезапного прозренья, Что раскрывает больше тайн для нас, Чем древние оккультные ученья? То ль просто мысль, что в плоть не облеклась, Но, как роса траву в начале лета, Живит рассудок, несмотря на это? 3 Как вид того, что любишь всей душой, Ленивые зрачки нам расширяет, Иной предмет, в который день-деньской Любой из нас привычно взор вперяет, В нежданном свете предстает порой И глубиной своею изумляет. Лишь звон разбитой арфы душу так Пронзает. — Это символ, это знак 4 Того, что нам сулят миры другие И в красоте дает провидеть тут Создатель лишь таким сердцам, какие, Не будь ее, — от неба отпадут, Поскольку бой в себе они, слепые, Не с верою, но с божеством ведут, Чтобы себя, его низринув с трона, Венчать своей же страстью, как короной.ГРЕЗА[10]
Среди видений тьмы ночной вдруг замерцало предо мной погибшей Радости виденье, и вдруг, сломив мой дух больной, оно распалось чрез мгновенье, Но разве страшен день тому, кто всюду ловит, умиленный, былого отблеск отдаленный, бегущий отраженно в тьму! О, ты, благословенный Сон, пока весь мир гремит далекий, я был тобою воскрешен, о, милый свет, тобой согрет был дух мой, вечно одинокий! Пускай средь сумрака и туч едва мерцал мне дальний луч, бледней, тусклее для меня светило Истины и дня!СОН[11]
В ночи отрадной грезил я, Не помня о разлуке, Но сон дневной настиг меня И пробудил — для муки! Ах, что мне в том, что видно днем? — Не все ли это сон Тому, чей взор всегда в былом, Печалью освещен? Но тот, родной — тот сон святой Назло судьбе жестокой Был мне звездою золотой В дороге одинокой. Откуда он мерцал — Бог весть! — Сквозь шторм, в ночах глухих… Но что у правды ярче есть Средь звезд ее дневных?СЧАСТЛИВЕЙШИЙ ДЕНЬ[12]
Счастливейший мой час — счастливейший мой день, что сердце бедное, разбитое знавало, надежда Гордости и Силы — точно тень — давно все это миновало. Что говорю я — Силы? Да! но только той, что в грезах юности блестит надежд огнями, исчезло все давно с угасшею мечтой — но пусть идет вослед за днями. А Гордость, ты, что сделаю с тобой? Наследья твоего достало бы на двух — владела полновластно ты моей душой — о, успокойся, бедный дух! Счастливейший мой день — счастливейший мой час, мгновенья Гордости блестящей силы — были, каких мой видел — больше не увидит глаз, о, да, я чувствую, что были: но если б гордости, надежды силу вновь мне б предложили пережить с той глубиной, что я уж испытал тогда печальных снов, — я б не хотел надежды той: когда она в красе витала надо мной, на крыльях чувствовал ее я капли яда — разрушен мир души упавшей каплей той — надежде вновь она не рада.«СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ! СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС!»[13]
Счастливый день! Счастливый час! И я был горд и ослеплен! Но дух мой сир и слаб мой глас — Растаял сон! Познал я сил своих расцвет, Свой молодой и смелый пыл, Но юных лет давно уж нет — Я их забыл. И, гордость я вотще познал — Пускай другим венки дарит — Еще жестокий яд похвал В душе горит. Счастливый день! Счастливый час! Ты не обман мечты пустой — Ты мне сиял, но ты погас, Мираж златой. Когда бы гордость, блеск и власть Я смог бы снова обрести, Не стало б силы боль и страсть Опять снести. Я помню — в мощи этих крыл Слились огонь и мрак — В самом уж взлете этом был Паденья вещий знак.ОЗЕРО[14]
Я часто на рассвете дней Любил, скрываясь от людей, В глухой забраться уголок, Где был блаженно одинок У озера, средь черных скал, Где сосен строй кругом стоял. Но лишь стелила полог свой Ночь надо мной и над землей И ветер веял меж дерев, Шепча таинственный напев, Как в темной сонной тишине, Рождался странный страх во мне; И этот страх мне сладок был — То чувство я б не объяснил Ни за сокровища морей, Ни за любовь, что всех сильней, — Будь даже та любовь твоей. Таилась смерть в глухой волне, Ждала могила в глубине Того, кто здесь, томим тоской, Мечтал найти душе покой И мог бы, одинок и нем, У мрачных вод обресть Эдем.ОЗЕРО[15]
Был в мире мне на утре дней Всего милее и родней Забытый уголок лесной, Где над озерною волной Я одиночество вкушал Под соснами, меж черных скал. Когда же ночь своим плащом Окутывала все кругом И ветер начинал опять В ветвях таинственно роптать, Во мне рос ужас, леденя, Как холодок от волн, меня. Но не со страхом был он все ж, Но с трепетным восторгом схож И слаще для меня стократ, Чем наибогатейший клад Иль даже твой влюбленный взгляд. И верил я: под толщей вод Меня на ложе смерти ждет Та, без кого я стражду так, Что погружен мой дух во мрак И только рядом с ней, на дне, Вновь светлый рай заблещет мне.СОНЕТ К НАУКЕ[16]
Наука! Ты, дочь времени седого, Преобразить всё сущее смогла. Зачем, как гриф, простерла ты сурово Рассудочности серые крыла? Не назову ни мудрой, ни желанной Ту, что от барда в золоте светил Сокрыла путь, лучами осиянный, Когда в эфире дерзко он парил. И кто низверг Диану с колесницы? Из-за кого, оставя кров лесной, Гамадриада в край иной стремится? Наяду разлучила ты с волной, С поляной — Эльфа, а с легендой Пинда — Меня в мечтах под сенью тамаринда.АЛЬ-ААРААФ [17]
Часть I
Земного — здесь простыл и след (Лишь цвет цветов), здесь Божий свет Пчелой сбирает с высоты Лучи небесной красоты. Земного — здесь пропал и звук (Лишь сердца стук), здесь лес и луг Иною — тише тишины — Мелодией оглашены, Той музыкой морского дна, Что раковинам раздана… Ах! на земле иначе. — Там Мы можем только по цветам Гадать о Красоте, мечтам Вослед, летя за ней, — куда? Ответь, звезда! Об эту пору счастлива Незейя — Ее планета дремлет, пламенея Под четырьмя светилами небес, — Оазис чуда посреди чудес. Но прочь-прочь-прочь, над океаном света, Душа-Незейя, крыльями одета, Над гроздьями созвездий мировых (Они как волны; пенны гребни их), Велению божественному внемля, Пускалась в путь, спускалась к нам, на землю. Так было раньше… А теперь она Уснула или грезила без сна И без движенья — на планете странной Учетверенным солнцем осиянна. Избранница на высших эмпиреях (Где Красота предстала на заре их, Мерцая, словно жемчуг в волосах Влюбленной девы, в звездных небесах И на Ахайю бросив свет Селены) Взирала восхищенно в даль вселенной. Раскинули куртины облаков У ног ее — весь этот мир таков: Прекрасен, но прозрачен, чтоб напрасно Всего не застить, что равнопрекрасно, — Цветной туман, цветных туманов шторм, В котором исчезает косность форм. Владычица упала на колени На ложе трав, в прелестное цветенье Левкадских лилий, легкою главой Качавших над гордячкой страстной той, Что смертного мятежно полюбила И со скалы в бессмертие ступила. А рядом цвел сефалик на стебле Багровей, чем закаты на земле, И тот цветок, что дерзко «требизонтом» Зовем (он за небесным горизонтом Возрос на самой пышной из планет); Его хмельной, медовый, дивный цвет (Известный древним, нектар благовонный), — От благости небесной отлученный За то, что он сулит восторг во зле, — Цветет, в изгнанье жалком, на земле, Где, жаля и желая, в забытьи Над ним кружатся пьяные рои, А сам он, брошен пчелам на потребу, Стеблями и корнями рвется к небу. Как падший ангел, голову клонит (Забытый, хоть позор и не забыт) И горькой умывается росою, Блистая обесчещенной красою. Цвели никанты, дневный аромат Ночным превозмогая во сто крат, И клитии — подсолнечники наши — Под солнцами, одно другого краше, И те цветы, чья скоро гибнет прелесть, С надеждою на небо засмотрелись: Они туда в июле полетят, И опустеет королевский сад. И лотос, над разливом бурной Роны Подъемлющий свой стебель непреклонно, Цветок Нелумбо, Гангом порожден (А в нем самом родился Купидон). Пурпурное благоуханье Занте! Isola d'oro! Fior di Levante! Цветы, цветы! чисты их голоса И запахи восходят в небеса. О великий Аллах! Ты с высот высоты Видишь горе и страх В красоте красоты! Где лазурный шатер Гложут звезд пламена — Там твой вечный дозор, Страж на все времена — В окруженье комет, Из сияния в синь До скончания лет Низведенных рабынь, Осужденных нести Меж недвижных огней В нарастании скорости Факел скорби своей. — Вечность — только в предчувствии Нам дарованный срок — Твоего соприсутствия Неизменный залог. В том и радость, Незейя, В том великая весть: Ибо, в вечности рея, Вечность — ведаешь — есть! Так ты судишь, Аллах. И звезда одиноко В путь пустилась в мирах К свету Божьего ока. Разум был вознесен! Он один величавый, И державу и трон Делит с Богом по праву. Ввысь, мой разум, взлети! Стань, фантазия, птицей! Мысли Божьи прочти — И воздастся сторицей! Петь кончила — и очи опустила, И лилии к ланитам приложила, Смущенная прихлынувшим огнем. — Дрожали звезды перед Божеством. Она ждала (робела, трепетала) Речения, которое звучало Сначала как молчание и свет, — «Музыкой сфер» зовет его поэт. Мы — в мире слов, но мир словесный наш — Молчания великого мираж, Лишь теням звуков или крыльям теней Мы внемлем в мире подлинных видений. Но ах! порой молчание прервет Глас Господа, струящийся с высот, — И красный вихрь охватит небосвод: «Невидимо летит в потоках света Под скудным солнцем скудная планета, Божественный презревшая закон, — За что сей мир в пучину погружен Отчаянья, мучения, позора, Изведал ужас пламени и мора, Под скудным солнцем (так мой гнев велик) Дано изведать людям смертный миг. Но, властная и вечная, не надо Пренебрегать и жителями ада; С алмазных и хрустальных эмпирей Ты с сестрами сойди в юдоль скорбей, Даруйте людям свет иного края, Как светлячки Сицилии сияя. Божественные тайны разгласи! Смиренье неземное принеси! Свет истины моей! И стань пределом Всем смелым и опорой — оробелым». Душа очнулась в златотканый час (Как на земле)! — Одна луна зажглась. Мы, люди, однолюбы, одноверцы: Единственная страсть сжимает сердце). И, как луна скользит из облаков, Восстала с ложа замерших цветов И обозрела сонный мир Незейя: То не Земля была, а Теразея.Часть II
Гора над миром в пламени заката — Такую лишь пастух узрел когда-то, Очнувшись от нечаянного сна, И прошептал (слепила вышина); «Спасите, небеса, меня и стадо!» — Плыла луны квадратная громада Над той горой, бросая дикий блеск На пик ее, а волн эфира плеск Еще златился в ясный полдень ночи При свете солнц, терявших полномочья. На той горе в причудливом сиянье Ряды виднелись мраморных колонн, Меж них располагались изваянья, И весь невозмутимый пантеон Был в искрометных водах отражен. Колоннами поддержанный помост Сковали духи из падучих звезд, Погибших, как злодей на эшафоте, В рассеянном серебряном полете. Сам храм — магнит лучей его держал — Короной на помосте возлежал И созерцал окна алмазным оком, Все, что творилось в космосе высоком. Когда, казалось, блеск ослабевал, Пылал огнем расплавленный металл Метеоритов, но порою все же Тревожный дух из сумеречной дрожи Трепещущим крылом туманил свет… Здесь целый мир: прекрасен он и сед. Здесь Красоты волшебная могила, Здесь опочила вся земная сила, Вся слава, вся надежда наша — лишь Бездушный мрамор, мраком черных ниш Одетый и навечно погребенный. Руины и пожарища вселенной! Обломки Персеполя, приговор Гордыне вашей, Бальбек и Тадмор, Величие, расцветшее в Гоморре. — Исхода нет… О волны в Мертвом море! Ночь летняя — час пиршества речей Эйракский звездочет и книгочей Умел, внимая звездные порядки, Расслышать их законы и загадки, — Но чутче тем реченьям внемлет Тот, Кто ниоткуда ничего не ждет, И видит, наши вечности листая, Как тьма нисходит — громкая, густая… Но что это? все ближе, все слышнее, Нежней свирели, звонких струн стройнее, — Звук… нарастанье… грянет… нарастает… Незейя во дворце… скрипичный взлет. От быстрого полета расплелась Ее коса, ланиты заалели, И лента, что вкруг стана обвилась, Висит свободно на воздушном теле. Она вступила в свой заветный зал И замерла… Но свет не замирал, Ее власы златистые лобзая И звезды золотые в них вонзая. В такие ночи шепчутся цветы Друг с дружкою, и с листьями — листы, Ручей — с ручьем — все чаще, все невинней, При звездах — в рощах, под луной — в долине. Но все, что полудух и дух почти, До музыки не в силах дорасти — Цветы, крыла, ручьи… Лишь дух единый Внимал и вторил песне соловьиной: В очарованных чащах Под сенью ветвей, Охраняющей спящих От слепящих лучей, — Искры истины! Те, что Ночною порой Сквозь сонные вежды Звезду за звездой Влекут с небосклона, Чаруя, к очам, Как взоры влюбленно Внимающей вам, Очнитесь, в эфирном Своем бытии, Веленьем всемирным, Служанки мои! Стряхните с душистых Распущенных кос След лобзаний росистых И лобзающих рос (Ведь любовь и лобзанья Ниспошлют небеса, Но покой и молчанье Предпочтут небеса). Поведите плечами, Взмахните крылами — Мешает роса Взлететь в небеса. От любви надо лики Отвратить наконец: В косах — легкие блики, В сердце — тяжкий свинец! Лигейя! Лигейя! Музыка! Красота! Темной гибелью вея, Ты светла и чиста! О, плакать ли станешь, Упав на утес, Иль в небе застынешь — Ночной альбатрос: Он дремлет над морем, Раскинув крыла, — Ты грезишь над миром, Чиста и светла! Лигейя! Покуда Свет миров не померк, Ты — певучее чудо, Берущее верх Над страхом, что гложет Людей в забытьи… Но кто ж приумножит Напевы твои? Не дождь ли, шумящий Над спящей травой Все чаще и чаще — И вот — проливной? Не рост ли растенья? Цветенье ль цветов? Ах! Подлинно пенье Не струн, а миров! Служанка, не надо! Оставь свой напев Для струн водопада, Для шума дерев, Для озера, сонно Поющего в лад, Для звезд, миллионы Которых не спят, Для диких цветов и Лежащих без сна В девичьем алькове (Если в небе луна), Беспокоясь, как пчелы… Где вереск сырой, Где тихие долы, — Там, верная, пой! Ведь люди, что дышат Легко в забытьи, Уснули, чтоб слышать Напевы твои, Ведь ночью иного Не ждет небосвод — Ни ласковей слова, Ни мягче забот, Ведь ангелы встанут В хладном блеске луны, Лишь только настанут Чары, песни и сны! И с этим словом духи взмыли ввысь, И ангелы по небу понеслись, И сны, не просыпаясь, полетели — Во всем подобны ангелам, но еле — Еле причастны Знанию тому, Что означает Смерть конец всему. Но заблужденье было так прекрасно (Хоть смерть еще прекрасней), что неясно, Зачем дыханье Знанья (или Зла?) Туманит нам восторга зеркала. А им — не дуновением — самумом Открылась бы в величии угрюмом, Что правда значит ложь, а радость — боль… Прекрасна смерть — затем ли, оттого ль, Что жизнь уже пресытилась экстазом, Что сердце отгремело, замер разум, И духи речь степенно завели Вдали от Рая, Ада и Земли! Но кто, мятежный, в зарослях тумана Смолчал, когда послышалась осанна? Их двое… Догадались: не простит Господь того, кто на небе грустит. Их двое, посетивших эту глушь… О, никогда в краю притихших душ Любовь — слепую смуту — не прощали! Им пасть — «в слезах властительной печали». Он был великий дух — и он падет. Он странник был, скиталец, звездочет, Был созерцатель в грусти неизменной Всего, что восхищает во вселенной. И что за диво? если красота Ему открылась, истинно свята, Он не молился ничему священней, Чем красота — в любом из воплощений. И ночь во мраке Анжело нашла, Ночь (для него) отчаянья и зла Нашла его клянущим мирозданье Словами из земного достоянья. С возлюбленной сидел он на холме (Орлиный взор его блуждал во тьме), Не глядя на любимую, — затем ли, Что там, внизу, — в слезах — увидел Землю? «Ианте! Погляди скорей туда, Где замерцала слабая звезда! О, свет ее лился совсем иначе В осенний час — в тот час (мне памятен тот час) — На Лемносе закат был златовлас И злато, не жалея, перенес На шерсть ковров и шелк моих волос, И на мои ресницы. Свет святой! Мгновенье счастья перед пустотой! Цветы… качались… свет… лился… туман… Я задремал… Саади… Гюлистан Мне снились… Свет лился… Цветы цвели… И смерть в тот час взяла меня с земли И увела, как за руку. Взяла, Не разбудив, взяла и повела… Последнее, что помню на земле я, — Храм Парфенон. Он краше и светлее Самой земли. Ианте, даже ты Не воплощаешь столько красоты… Орлом раскинув крылья, с высоты Я вниз глядел, на жизнь мою, что ныне Песчинкою затеряна в пустыне. Но, пролетая над землей, я зрел, Что мир земной расцвел — и постарел: Пустые храмы и пустые грады, Заброшены поля и вертограды. И красота, низвергнутая в ад, Звала меня! Звала меня назад!» «Мой Анжело! Тебе ль грустить об этом? Ты избран Богом и обласкан светом, Ты помещен на высшую звезду, И я земную деву превзойду!» «Ианте, слушай! с тех высот, где воздух Разрежен в расстояниях межзвездных (То голова кружилась ли?), вдали Я наблюдал крушение Земли! Она, морями пламени омыта, Вдруг сорвалась под вихрями с орбиты И покатилась — жалкий шар — в хаос. И я, над океаном зыбких грез, Я не летел, а падал, и светило — В глубокой бездне красное светило — Твоя звезда! Твой огненный Дедал! Я наземь пал — и сам он упадал, Всемирных страхов жуткое исчадье, На Землю, что молила о пощаде». «Да, мой любимый, мы летели — к Ней! Вниз, вверх, вокруг, под иглами огней, Как светлячки, — не ведая, доколе Светиться по владычицыной воле. Владычица ль, Господь ли судит нас — Не нам с тобой постигнуть их наказ; Одно я разумею, Землю вашу Теперь увидев, — нету в мире краше! Сперва не знала я, куда наш путь, Она, звезда-малютка, лишь чуть-чуть Мерцала в полупризрачном тумане, Но чем быстрей, чем ближе — тем сиянье Ее сильней — и застит небеса! Уже я предвкушала чудеса, Бессмертье открывала в человеке. Но свет померк — и там и тут — навеки!» Так, за речами, время проходило. Ночь длилась, длилась… и не проходила… Поникли. Догадались: не простит Господь того, кто на небе грустит.РОМАНС[18]
О, пестрый мой Романс, нередко, Вспорхнув у озера на ветку, Глаза ты сонно закрывал, Качался, головой кивал, Тихонько что-то напевал, И я, малыш, у попугая Учился азбуке родной, В зеленой чаще залегая И наблюдая день-деньской Недетским взглядом за тобой. Но время, этот кондор вечный, Мне громовым полетом лет Несет такую бурю бед, Что тешиться мечтой беспечной Сил у меня сегодня нет. Но от нее, коль на мгновенье Дано и мне отдохновенье, Не откажусь я все равно: В ней тот не видит преступленья, Чье сердце, в лад струне, должно Всегда дрожать от напряженья.К***[19]
Твои уста — твоя простая Мелодия певучих слов — Цветущий куст, где птичья стая Среди моих щебечет снов; Глаза, твои глаза — светила Моей души — льют свет живой, Как будто звезды на могилу, На омертвелый разум мой; Твоя душа! — И неизменный Мой сон в ночи и на заре — О правде вечной и бесценной И всем доступной мишуре.К***[20]
Я жребий не кляну земной — Хоть мало в том земного, Что вас разъединить со мной Смогло пустое слово. Не жажду я гореть в огне Благострадальной схимы; Сострастье ваше странно мне — Ведь я — прошедший мимо!СТРАНА ФЕЙ[21]
Дым — лес, и дымом река, И дымные облака. Их контуры чуть видны Сквозь слезы большой луны. А лунам рождаться, зреть И таять впредь и впредь… Ночью странствуют они, Длинна их вереница. Дыханьем гасят звезд огни Их призрачные лица. Когда двенадцать ночи Показывает диск, Та, что прозрачней прочих, Начинает спускаться вниз. Все вниз и вниз и вниз… Покров над горой навис Окутал ее корону Складками лег по склону И накрыл в одно мгновенье Все дворцы и все селенья, Сколько есть их на просторе Спрятал дикий лес и море, Спрятал духов легкий сонм, Спрятал все, что впало в сон, Окутывая все это Лабиринтом мягкого света. И тогда — без сна, без сна! — Их жажда сна. Но едва встает заря, Этот лунный покров Поднимается, паря, Став игрушкою ветров, Все швыряющих вразброс, Будь то даже альбатрос. Луна для них с утра Не служит, как вчера, Покровом из тумана, Что, может быть, и странно… И радужною пылью Все станет в небесах. И ляжет этот прах На трепетные крылья Тех бабочек земли, Что к небу вечно рвутся, Чтобы затем вернуться И умереть в пыли.СТРАНА ФЕЙ[22]
Долины мглистые, тенистая река, Неясные леса — иль облака — Их очертанья различишь едва ли Сквозь слезы, застилающие дали; Стада громадных лун бледнеют, меркнут, тают, И вот уже сильней — сильней — сильней блистают — В бесконечной смене мест, В бесконечной смене мигов Задувают свечи звезд Колыханьем бледных ликов. Вот на лунном циферблате Скоро полночь, и одна Несравненная луна (Всех огромней, всех крылатей, Всем другим предпочтена) Сходит ниже — ниже — ниже — Сердце ей сейчас пронижет Треугольный горный пик, И вот — ее огромный лик Пролил прозрачное сиянье На дремлющее мирозданье, На все, что только видит взор — На море и на склоны гор, На быстрых духов рой обманный, На мир вещей, дремотно-странный, — И спрятал их, как под шатром, В том океане световом. Глубок, глубок отныне он — Земных предметов страстный сон! Но утро гонит сонмы снов, И лунный призрачный покров Взлетает ввысь — быстрей — быстрей — Так может взмыть в обитель гроз Любая из земных вещей, Быть может, желтый альбатрос. Теперь им больше не нужна Для облачения луна, Не нужен им, вещам земным, Шатер, прозрачный словно дым (Что слишком пышно, я считаю), — Но искры лунные дождем Струятся в воздухе дневном И мотыльки Земли, взлетая В просторы неба, а потом, Тоскуя о земных лугах (Кто угадает их желанья!), — Приносят лунное сиянье На чуть мерцающих крылах.ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА[23]
Над берегами седыми Деревья в белесом дыме, Внизу — невидимый плес В тускнеющих пятнах слез. То там, то здесь вырастают И тают — тают — тают Круги блуждающих лун: Плывут над россыпью звездной Подобьем белых лакун, Но поздно — поздно — поздно — Двенадцать на лунных часах, И месяц, чей блеск неверный Измерен на лунных весах (Уж верно, не самый скверный!), На горный спустился пик, И конус вершины мрачной В сердце его проник, Клубок размотав прозрачный: Струистый наброшен плащ На сумрак морей и чащ, На крыши домов, на долы, Где сон разлился тяжелый, Где духи крылатые спят: Они с головы до пят Облиты сиянием чистым, Как будто в крипте лучистом Уснули — навек — навек — О сладости смеженных век! Но лунное покрывало Уносится ввысь к утру, По воле случайного шквала, Похожее на ветру На нечто, летящее косо, — На желтого альбатроса. Назавтра другая луна В дело пойти должна (Что экономно едва ли), О солнечном покрывале Уже мечтает Земля, А прежнее — лунное — тает, Лишь бабочки, что летают В заоблачные поля Под градом крупиц блестящих, Приносят нам образцы Заветной лунной пыльцы На крылышках шелестящих.СТАНСЫ К ЕЛЕНЕ[24]
Трирема легкая, по брызжущим волнам когда-то несшая, в лазури чистой моря, пловца усталого к родимым берегам: вот красота твоя, не знающая горя. И я ведь был пловцом. И ты, моя Наяда, меня спасти от бурь мне послана судьбой. И золото кудрей, и мрамор твой живой мне сделали родным забытый мир Эллады. И Рим, великий Рим — мне сделался родной. О, ты зовешь меня! Я вижу яркий свет: зажжен светильник твой; в твоих очах привет. Статуя дивная, мои мечты лилея, ты там стоишь в окне… О радость! о Психея страны, которой нет!К ЕЛЕНЕ[25]
Мне красота твоя, Елена, — Никейских странствий корабли… Они к отчизне вожделенной Пловца усталого несли По волнам до земли. Я плыл сквозь шторм, мечтой томимый: Наяды взор, античный лик… Влекомый им неодолимо, Я славу Греции постиг И грозное величье Рима. Ты, в нише у окна белея, Сжимаешь, статуя над мглой, Агатовый светильник свой. Там родина твоя, Психея, Там край святой!К ЕЛЕНЕ[26]
Елена, красота твоя Мне — словно парус морякам, Скитальцам, древним, как земля, Ведущим корабли в Пергам, К фригийским берегам. Как зов Наяд мне голос твой Звучит за ропотом глухим Морей, ведя меня домой, К сиянью Греции святой И славе, чье имя — Рим. В алмазной раме у окна Вот ты стоишь, стройна, как взмах Крыла, с лампадою в руках — Психея! — не оставь меня В заветных снах!К ЕЛЕНЕ[27]
Елена, красота твоя, Как челн никейский, легкокрыла, К морям благоуханным я Плыву в отцовские края! — Ты древность для меня открыла. Твои античные черты С игривой прелестью Наяды Для нас классически чисты: К величью Рима и Эллады Скитальца возвращаешь ты. Тебя я вижу в блеске окон С лампадой в мраморной руке, И гиацинтовый твой локон Созвучен певческой тоске О райском далеке.ИЗРАФЕЛ[28]
…А так же ангел Израфел, чье сердце
лютней звучит, и голос его сладчайший
из голосов всех созданий Аллаха.
Коран Есть в небе дух Израфел, «Чье сердце лютней звучит», И никто так не пел, Как поет Израфел: Пенье звезд умолкает, и блеск их бел, Чтоб восторгом звезд небосвод пламенел, — Так легенда гласит. В недрах тишины Звук возник, И алеет лик Влюбленной луны. В красных отблесках безмолвно Застывают стрелы молний, И Плеяды, семь сестер, Слышат, как звенит простор. И хоры звезд ночами Спешат поведать миру, Что из созвездья Лиры Дух исторгает пламя. Он звездных струн перстами Касается, звеня, И плещет над струнами Живой аккорд огня! Израфел живет в лазури, Там, где мудрость бесконечна, Где любовь — единый бог, Где, горя красой извечной, Льют на землю взоры гурий Света звездного поток. Бард небесный, Израфел, Лучший в мире ты по праву: Песнь бесстрастную презрел! Лавры — вечный твой удел, Ибо мудрых песен слава В том, чтоб голос пламенел! Если полон мудрой страсти Ритм пылающих аккордов, — Горе, радость, боль и счастье Слиты вместе в пенье гордом! Пой, Израфел, чтобы звезды молчали, В небе властвуешь ты! А в мире радости и печали, Где цветы — всего лишь цветы, Тень песен, упавшую с высоты, Мы солнечным светом назвали. Но если бы выпал мне, о Израфел, Твой горний удел, Тебе же — удел земной, Ты бы дольних песен моих не пропел, А я бы смелей, чем ты, звенел Небесною струной.ИЗРАФИЛ[29]
…И ангел Израфил с лютней-сердцем
и с голосом изо всех славящих Аллаха
наисладчайшим.
Коран Пребывает ангел в высях «С лютней-сердцем». Се — Израфил. У него на устах И в его перстах — Песнь, настолько прекрасная, что в небесах Гимны звезд замирают, ликованье в мирах, Чуть Певец возгласил. И, взойдя в зенит, Полная луна Пеньем прельщена — Блаженное, звенит, Переливаются рулады, — И встают Плеяды, Рдея, — божьи чада, Семь из мириады. И молвит звездный хор, И вторит голос лун, И зрит небесный взор: Певец персты простер Над Лирой, вечно юн, — И вспыхнул метеор Напева стройных струн! Там Израфил поет, Где мудрость воскрылила, Где Бог в любви живет, Где гурий красота Сиянием светила Над миром разлита. Божественный Певец! Ты прав, отринув холод Бесчувственных сердец. Тебе вручен венец! Ты чист и вечно молод! Ты победил, мудрец! Плачь, смейся, пламеней! Пройди надмирным лазом Сквозь лабиринт страстей Туда, где правит Разум, — Охваченный экстазом! Ты — светоч неземной, А мы, увы, земляне — Обречены заране На смерть. Наш блеск дневной — Тень твоего сиянья. И все же, Израфил, Когда б Аллах судил Тебе — петь людям, мне — взмыть в космос твой, Ты б, ангел, счастьем не затмил Певца тоски земной, А мне б — достало дерзких сил Звенеть небесною струной.УСНУВШАЯ[30]
В июньские ночи я во власти мистической луны: из ее золотистого облика изливается одуряющий, густой и влажный пар и, медленно сочась, капля за каплей, на тихие вершины гор, стекает с баюкающей музыкой по мировой равнине. Розмарин склонился над могилой, трепещет вервена средь пустыни, окутывая в ветерок свой стебель, развалины складываются на покой; смотрите, озеро, словно Лета, как будто наслаждается сознательным сном и ни за что на свете не проснется. Вся Красота уснула; покоится со своими Судьбами и Ирена, открыв навстречу небу свое окно. О, очаровательная женщина! Хорошо ли, что открыто ночью твое окно? Резвые ветерки шаловливо спускаются с вершины дерева сквозь твой решетчатый ставень; бесплотных духов волшебные рои порхают снаружи и внутри твоего покоя и так сильно и резко колебают покровы балдахина над бахромой твоих сомкнутых век, за которыми укрылась во сне твоя душа, что по всему полу и вверху по стенам словно призраки взбираются и спускаются тени. О, возлюбленная! Неужели тебе не страшно? Что видишь ты сейчас во сне? Ведь ты приплыла из-за далеких морей, ты — чудо для деревьев этого сада. Им чужда твоя бледность, чужд твой наряд! И чужды также твои длинные волосы и вся эта торжественная тишина! Она спит! О, если бы ее непрерывающийся сон мог быть все так же глубок! Да хранит ее небо под своей священной защитой. Придав более святой вид ее спальне, более меланхолической дремоты ее ложу, я прошу Бога, чтобы вечно покоилась она и не открылись ее очи, пока блуждают тени по затемненным складкам. Моя возлюбленная спит! Да будет сон ее так же глубок, как он непрерывен. Пусть черви осторожно ползают вокруг нее! Далеко в темном старом лесу пусть для нее откроется высокий склеп, — какой-нибудь склеп, который уж не раз смыкал черные крылья своих победоносно развевающихся сетей над обшитыми гербами покровами, на похоронах ее знатной родни; какая-нибудь тесная, уединенная гробница, в двери которой в молодости она, часто, забавляясь, бросала камешки; какой-нибудь надгробный камень пусть завалит снаружи звучную дверь, из которой она уж никогда не вызовет отголосков, содрогаясь даже при мысли об этом, бедное дитя греха! Что это смерть стонет там внутри…СПЯЩАЯ[31]
В июне в темный час ночной Я — под таинственной луной, Чей золотистый ореол На тихий холм и смутный дол За каплей каплю в каплях рос Дурманящий туман принес, — И он ползет к долине вечной, И мелодический, и млечный. В волне белеет ненюфар, К воде припал белесый пар, К могиле никнет розмарин, Спит разрушенье меж руин, Подобный Лете сонный пруд Не разорвет дремотных пут — Вся Красота уснула тут. И спит Ирен. Гляди! — она Среди Судеб своих одна. Любовь моя! Не верю я! Оконце твоего жилья Распахнуто в ночную тьму, И ветерки летят к нему, И чередой волшебных фей По спальне носятся твоей — И полог рукоплещет им, И невесомым, и сквозным. За темной бахромой ресниц Сокрыт покой твоих зениц, А по полу и вдоль стены Тревожны тени и темны! Ты здесь впотьмах, а рядом страх! Куда стремишься ты во снах? К каким морям и островам? Твой облик странен деревам — Все странно. Странно ты бледна, Странна волос твоих длина И выспренная тишина. Спит леди! Пусть покойно спит, Пусть небо спящую хранит! И сновиденья вечно длит На ложе, прежнего печальней, В иной и столь священной спальной! Господь, продли ей сон вовек, Не дай открыть смеженных век, Умерь ночных видений бег! Пусть вечно спит! Покойно спит! Пусть небо спящую хранит! Пусть червь — могильный труд творит! Пусть отворит туманный бор Семейный склеп, где с давних пор Покой таинственных могил Лишь трепетно тревожим был, Когда фамильные гроба Печально множила судьба; Таиствен склеп, как в те года, Когда она — дитя тогда — Бросала камешки туда. Но в этот раз из гулких врат Пусть эхо не звучит трикрат, Вселяя давний детский страх, Что это стонет смерть в гробах.СПЯЩАЯ[32]
В ночи июня, под луной, Томим волшебной тишиной, Стоял я. Слабый свет струя, Дианы мутные края Мерцали мне издалека, С их золотого ободка Пар наркотический стекал На темные вершины скал, Густел и падал, как роса, И были капель голоса, Как еле слышный звон хрустальный Далекой музыки печальной. Вот у заброшенных руин Качнулся сонный розмарин; И ветер лилии склонил Над зарослью немых могил; Смотри! Черней, чем Стикс, вода В тумане спящего пруда, — Он не проснется никогда! Все замерло — лишь ночь кругом! Спит с распахнутым окном Ирен, в сиянье голубом! О Госпожа! твое окно Беспечно так растворено! И ветерки с ночных дерев Порхают, в комнату влетев. Бесплотные, они снуют, Как призраки, и там, и тут, Теней лишь оставляя взмах На стенах и на потолках, Над дремой сомкнутых ресниц — Взмывая вверх, бросаясь ниц! О дорогая, зла не зная, Что видишь ты, во снах витая? В раздумье шепчутся листы — Для них как чужестранка ты: Так бледен лик твой, так длинна Волос блистающих волна, Так странна эта тишина! Безмолвна ночь… в кругу теней Толпятся тени все тесней! О Небо! будь защитой ей Вы, злые чары, мчитесь мимо! Священным промыслом хранима, Пусть вечно так лежит она, Как луч, светла и холодна, В волшебный сон погружена! Ты спишь, любовь!.. в кругу теней Тот сон все глубже и темней! Как будто Рок дохнул над ней! И чудится: за тьмой укрыт, Червь, извиваясь, к ней скользит; И в дебрях полуночных — склеп, Как хищник, алчен и свиреп, Над новой жертвой с торжеством Зловещим хлопает крылом, — Гробница та вдали от глаз, В которую она не раз Бросала камень, расшалясь, И, тайной жуткою шутя, Прочь мчалась — грешное дитя! И ей, дрожащей, эхом был Стон мертвецов из мглы могил!ДОЛИНА ТРЕВОГИ[33]
Тихий край когда-то был, Где давно никто не жил, — Все пропали на войне; Только звезды в вышине Зажигались в поздний час, И дозор их нежных глаз Охранял с лазурных круч Там цветы; и солнца луч В душных травах целый день Нежил сладостную лень. Но теперь исчез и след Безмятежных тех примет — В том краю покоя нет! — Один лишь воздух недвижим, Словно во сне, застыл над ним. Нет, то не ветер, пролетев, Тревожит голоса дерев, Шумящих, как студеный вал, Вокруг пустынных скал! Нет, и не ветер то влечет Шуршащих облаков полет, Неутомимый, непрестанный!.. А степь фиалками полна, И плачет лилия одна Там над могилой безымянной! И плачет вечно, с лепестка Роняя капель жемчуга. И жжет слеза, на стебли трав Росой бессмертною упав.ГОРОД СРЕДИ МОРЯ[34]
Там, на закате, в тьме туманной Я вижу, вижу город странный, Где Смерть чертог воздвигла свой, Где грешный и праведный, добрый и злой Равно навек нашли покой. Храм, замок, башня ль (обветшала, А не кренится) — с нашим там Ничто не сходствует нимало. Чужда вскипающим ветрам, Покорна, сумрачно-светла, Морская гладь вокруг легла. С небес не упадут лучи На город тот в его ночи. Но снизу медленно струится Глубинный свет из мертвых вод — Вдруг тихо озарит бойницы Витающие… купол… шпицы… Колонны царственных палат Или беседки свод забытый, Каменным плющом увитый… И святилище — храмов бесчисленный ряд, Чьи фризы лепные в узоре хранят Фиал, фиалку, виноград. Покорна, сумрачно-светла, Морская гладь вокруг легла. Так тени с куполом слились, Что тот как в воздухе повис. Но башня высится, пряма, А с башни смотрит Смерть сама! Раскрыты капища. Могилы Разверсты вровень с гладью стылой. Но воды спят — и ни алмаз, Кумиру заменивший глаз, Ни жемчуг саванов расшитых С ложа встать не соблазнит их. И не встревожит дрожью синей Зыбь стеклянную пустыню, Не подаст о ветре весть, О том, что где-то ветер есть — Желанный гость далеких вод… А эти ветер обойдет В их мертвой ясности и стыни. Чу! Воздух вдруг затосковал, А гладь — ее колышет вал! Осела башня ли — и вялый Прибой расползся по воде? Чуть покачнулись в высоте, Оставив в облаках провалы? Багровым светом налилась Волна… Медленней дышит час… Когда на дно, на дно — без вскрика, Без стона — город весь уйдет, Восстанет ад тысячеликий Ему воздать почет.ГОРОД СРЕДИ МОРЯ[35]
Где сумрак запад обволок, Воздвигла Смерть себе чертог. Там странный город виден взглядам. Герой и трус, святой и грешник рядом Объяты там могильным хладом. Там башни (накренило их, А все ж не рухнут), храмы зданья — Иные, чем у нас, живых, И ветра свежее дыханье Не взбороздит, не шелохнет Немую ширь угрюмых вод. Не льются с неба струи света На город этот, мглой одетый. Лишь отблеск дремлющих валов Змеей ползет, как кровь багров, По камням капищ и дворцов, Чья кладка толще несравненно, Чем в древнем Вавилоне стены, По шпицам, по рядам колонн И по ротондам, где фронтон Украшен фризами лепными Из чаш с фиалками лесными И лоз, вплетенных между ними. Ничто нигде не шелохнет Немую ширь угрюмых вод. Во мраке контуры строений Расплылись над землей, как тени, А с главной башни шлет в простор Смерть-великанша грозный взор. В любом из склепов, в каждом храме На уровне одном с волнами Раскрыта дверь, но воды спят; Воспрянуть их не побудят Ни бирюза в глазницах статуй, Ни на гробах покров богатый, И, увы, не тронет рябь Стекленеющую хлябь, Чья безмятежность так ужасна, Что, мнится, ни лазури ясной, Ни бурь нет больше на земле — Один лишь мертвый штиль во мгле. Но чу! Вдруг ожил воздух стылый, И зыбь поверхность вод всхолмила. Не башня ль, возмутив их гладь, Беззвучно стала оседать И плотный полог туч над ними Зубцами прорвала своими; Свет алый выси в море льют, И затихает без минут, И в миг, когда в пучину канут Останки города того, С престолов силы ада встанут, Приветствуя его.ТОЙ, КОТОРАЯ В РАЮ[36]
В твоем я видел взоре, К чему летел мечтой, — Зеленый остров в море, Ручей, алтарь святой В плодах волшебных и цветах — И любой цветок был мой. Конец мечтам моим! Мой нежный сон, милей всех снов, Растаял ты, как дым! Мне слышен Будущего зов: «Вперед!» — но над Былым Мой дух простерт, без чувств, без слов, Подавлен, недвижим! Вновь не зажжется надо мной Любви моей звезда. «Нет, никогда — нет, никогда» (Так дюнам говорит прибой) Не взмоет ввысь орел больной, И ветвь, разбитая грозой, Вовек не даст плода! Мне сны дарят отраду, Мечта меня влечет К пленительному взгляду, В эфирный хоровод, Где вечно льет прохладу Плеск италийских вод. И я живу, тот час кляня, Когда прибой бурливый Тебя отторгнул от меня Для ласки нечестивой — Из края, где, главу клоня, Дрожат и плачут ивы.К ТОЙ, ЧТО В РАЮ[37]
В тебе обрел все то я, К чему стремиться мог: Храм, ключ с водой живою, Зеленый островок, Где только моим был каждый Чудесный плод и цветок. Свет жизни, ты угас! Надежда, словно сладкий сон, Лишь миг ласкает нас. «Вперед!» — гремит глагол времен, Но глух мой дух сейчас: От призраков былого он Отвесть не может глаз. Густою мглой годов Мой путь заволокло. «Прошло! Прошло! Прошло!» — Шуршит прибой о край песков. Коль бурей дуб смело, Ему не встать; не взмоет вновь Орел, сломав крыло. Все дни тобою полны, А ночью мчат мечты Меня в тот край безмолвный, Где в легкой пляске ты К реке, чьи вечны волны, Нисходишь с высоты.ГИМН[38]
В полдень и полночь, сквозь тьму и мглу, Мария, прими от меня хвалу. В горе и счастье жизни земной, О Богоматерь, пребудь со мной. Когда моя жизнь текла без забот И ясен, и светел был небосвод, От лености и суеты людской Спасала ты мне душу своей рукой. Теперь, когда бури грозная тень Мрачит мой былой и нынешний день, Даруй мне свет для грядущих дней, Даруй надежду рукой своей.СЕРЕНАДА[39]
Так ночь тиха, так сладок сон, Что даже струн нескромен звон — Он нарушает тишину, Весь мир склонившую ко сну. На моря жемчуг и опал Элизиума блеск упал; Спят звезды, только семь Плеяд, Ни в небе, ни в волнах не спят; Пленительный Эндимион В любви, любуясь, отражен. Покой и мрак в лесах и долах, Спят горы в тихих ореолах. Едва блеснул последний сполох, — Земля и звезды забытья Возжаждали, как жажду я Тебя, любви твоей невинной И состраданья, Аделина. О! Слушай, вслушайся, услышь: Не так нежна ночная тишь, Как эти нежные слова, Что лаской сна сочтешь сперва. И вот, пока я не дерзну Задеть призывную струну, Сердца и думы воедино Пребудут слитны, Аделина.КОЛИЗЕЙ[40]
О, символ Рима Древнего! Гробница Высоких дум, веками пышной мощи Оставленная времени во власть! Вот наконец и я, усталый странник, Я, столько дней влекомый жгучей жаждой Весны стремленья человека к знанью, Таящейся в тебе, — я, пред тобой Склонив колени, всей душой впиваю Твой мрак, твое величие и славу. Громада мертвая, веков минувших память! Молчанье, запустение и ночь!.. Я чувствую вас, чувствую вас, чары!.. Пред вами блекнет все, что в Гефсиманских Садах изведал Иудейский Царь, Все тайны, что умела извлекать Из сочетаний тихих звезд Халдея! Где пал герой, теперь колонна пала; Где гордо реял золотой орел — Полночным стражем рыщет нетопырь; Не кудри знатных дам тревожит ветер — Чертополох колышет и тростник; Здесь, где на троне золотом небрежно Покоился скучающий монарх, — Лишь ящерица призраком бесшумным Скользит при свете молодой луны. Но погоди! Ужели эти стены, Аркады, перевитые плющом, Колонн печальных почерневший ряд, Разбитый фриз, неясные карнизы И камни серые — ужели это всё, Что нам всеразъедающее время Оставило на суд, — судьбе и мне? «Не всё! — со всех сторон несет мне эхо. — Пророческий немолчный громкий зов Всегда звучит от нас навстречу мудрым, Как солнцу песня Мемнона звучит. Мы правим самовластно и державно Умом и сердцем всех великих духом. Нет, не бессильны мы, немые камни: Не вся исчезла наша мощь и сила, Не все величье нашей древней славы, Не все волшебство, что таится в нас, Не все виденья, тайны и преданья, Не все воспоминанья, что покрыли Нас цепким и незримым одеяньем, Овеивая более чем славой».КОЛИЗЕЙ[41]
О, символ Рима! Гордое наследство, Оставленное времени и мне Столетиями пышных властолюбцев! О, наконец-то, наконец я здесь! Усталый странник, жаждавший припасть К истоку мудрости веков минувших, Смиренно я колени преклоняю Среди твоих теней и жадно пью Твой мрак, твое величие и славу. Громада. Тень веков. Глухая память. Безмолвие. Опустошенье. Ночь. Я вижу эту мощь, перед которой Все отступает: волшебство халдеев, Добытое у неподвижных звезд, И то, чему учил Царь Иудейский, Когда вошел он в Гефсиманский сад. Где падали герои — там теперь Подрубленные временем колонны, Где золотой орел сверкал кичливо — Кружит в ночном дозоре нетопырь. Где ветер трогал волосы матрон — Теперь шумят кусты чертополоха, Где, развалясь на троне золотом, Сидел монарх — теперь по серым плитам В холодном молчаливом лунном свете Лишь ящерица быстрая скользит. Так эти стены, выветренный цоколь, Заросшие глухим плющом аркады И эти почерневшие колонны, Искрошенные фризы — эти камни, Седые камни — это все, что Время, Грызя обломки громкой, грозной славы, Оставило судьбе и мне? А больше И не осталось ничего? — Осталось!!! Осталось!!! — эхо близкое гудит. Несется вещий голос, гулкий голос Из глубины руины к посвященным… (Так стон Мемнона достигает солнца!) «Мы властвуем над сердцем и умом Властителей и гениев земли! Мы не бессильные слепые камни: Осталась наша власть, осталась слава, Осталась долгая молва в веках, Осталось удивленье поколений, Остались тайны в толще стен безмолвных, Остались громкие воспоминанья, Нас облачившие волшебной тогой, Которая великолепней славы!»КОЛИЗЕЙ[42]
О, Древний Рим! Огромный саркофаг, Где Время погребло былую славу! Здесь наконец, пройдя столь тяжкий путь, Я утолю безудержную жажду В твоих глубоких недрах, наконец Я, сир и мал, колени преклоняю Перед тобой, впивая всей душой Могущество твое, и мрак, и славу! Пространство! Время! Память о былом! Глухая ночь! Отчаянье! Молчанье! Теперь я знаю эту власть заклятий — Я знаю, что они призывней гласа, Которому внимать пришел однажды Царь Иудейский в Гефсиманский сад! Теперь я понимаю — эти чары Сильнее тех, которые когда-то Умкнули одержимые халдеи На землю смертных у спокойных звезд! Здесь, где воитель пал, — колонн обломки, Здесь, где блестел орел, — полночный сумрак Нетопыри ревниво стерегут, Здесь, где когда-то на ветру веселом Красавиц римских волосы вились, — Чертополох качается тоскливо, Здесь, где сидел разнеженный владыка Весь в золоте, — теперь на мрамор плит Свой свет усталый льет рогатый месяц, И ящерица быстро и беззвучно Мелькает словно призрачная тень. Постойте! Неужели эти стены, Поросшие плющом немые своды И испещренный трещинами фриз, — Ужели все, что долгие столетья Хранило славу, Время уничтожит И тем докажет власть слепой судьбы? «Не все, — мне отвечает Эхо, — нет! Извечно громовые прорицанья Мы будем исторгать для слуха смертных, Как трещины Мемнона источают Мелодию, приветствуя Зарю! Мы властны над сердцами исполинов, Над разумом гигантов властны мы! Еще храним мы нашу мощь и славу, Еще мы наши таинства храним, Еще мы вызываем удивленье, Еще воспоминания о прошлом Парчой нетленной ниспадают с нас И неземная слава полнит сердце!»КОЛИЗЕЙ[43]
Примета Рима! Пышная гробница! Здесь Время замирает, созерцая Помпезность повелительного праха! Паломником смиренным прихожу На твой порог и, одержимый жаждой (Палящей жаждой наконец припасть К истоку мудрости), в конце пути, Колени преклоняю, пораженный, — Душой впиваю сумрак твой и славу! Громада памяти тысячелетней! И Ночь, и Тишина, и Запустенье! О чары величавей колдовства, Добытого у звезд халдейским магом! О чары очистительней молитвы, Которой некий Иудейский Царь Будил когда-то Гефсиманский Сад! Где прежде был повержен гладиатор, Повержена колонна, где блистал Орел легионеров золотой, Идет вигилия мышей летучих, И пыльный шелестит чертополох, Где волосы вились патрицианок. Где восседал на троне император, По камню ящерица, точно тень, Под месяцем скользнула круторогим. Постой, но разве эта колоннада, Изъеденная временем и ветром, — Куски карнизов, фризов, капителей, Заросшие плющом аркады, камни — Да, камни, серые, простые камни! — Единственное, что осталось мне От грозного и гордого колосса? «Единственное? Нет! — рокочет Эхо. — Рождаются в груди любой Руины Пророческие звуки, — так Зарю Приветствует сладкоголосый Мемнон! Мы правим неотступно, деспотично Великими, могучими умами, Мы не бессильны — мы не просто камни: Не иссякает наша мощь и чары, Не иссякает магия обломков, Не иссякает чудо наших линий, Не иссякает тайна наших недр, Не иссякает память, что по-царски Нас облекла — не в пурпур, не в порфиру, А в нечто большее, чем просто Слава!»В АЛЬБОМ ФРЭНСИС С. ОСГУД[44]
Ты хочешь быть любимой! Так пускай Ступает сердце прежнею дорогой: Все, что в себе имеешь, сохраняй, А чуждое тебе — отринь, не трогай. Твой светлый ум, твоя сверхкрасота — В их единенье вечном и недолгом — Воспеть хвалу заставят все уста И сделают любовь — первейшим долгом.К Ф — С О — Д[45]
Коль хочешь ты любовь внушать, Иди и впредь путем своим, Всегда собою будь и стать Не тщись вовек ничем иным. Ты так чиста, так мил твой взор, Краса так богоравна, Что не хвалить тебя — позор, А не любить — подавно.К Ф***[46]
Любимая средь бурь и гроз, Слепящих тьмой мой путь земной («Бурьяном мрачный путь зарос, Не видно там прекрасных роз»), Душевный нахожу покой, Эдем среди блаженных грез, Грез о тебе и светлых слез. Мысль о тебе в уме моем — Обетованный островок В бурлящем море штормовом… Бушует океан кругом, Но, безмятежен и высок, Простор небес над островком Голубизной бездонной лег.ПОДВЕНЕЧНАЯ БАЛЛАДА[47]
Скреплен союз кольцом, Порукою согласья, И с новым женихом Стоим мы под венцом, Но обрела ль я счастье? Супруг обет мне дал, Но голос, что от страсти У бедного дрожал, В моих ушах звучал, Как стон того, кто пал В бою у чуждых скал, Обресть мечтая счастье. Муж ласков был со мной, Но сердцем унеслась я К могиле дорогой И, воскресив мечтой Тебя, Делорми мой, Шепнула вдруг: «Постой! Вновь обрела я счастье!» Да, я сказала так, И хоть вся жизнь — ненастье, Хоть впереди лишь мрак, Сочтет отныне всяк, Что люб мне этот брак, Коль в верности клялась я: Кольцо — ведь это знак, Что обрела я счастье. Пусть душу исцелит Мне Бог от безучастья, Иль зло она свершит: Ведь тот, кто был убит И милою забыт, Обресть не может счастья.К ЗАНТЕ[48]
Прелестный остров! с лучшим из цветков ты разделяешь нежное названье. О, сколько светлых, солнечных часов ты пробудил в моем воспоминаньи! Какого счастья дивного расцвет! Как много грез, навеки погребенных! И образ той, которой больше нет, нет больше на брегах твоих зеленых! Нет больше, и, увы! конец всему с магически печальными словами! Конец очарованью твоему! Проклятье над цветущими лугами! О, перл земли, край гиацинтов, Занте! «Isola d'oro! Fior di Levante!»[49]СОНЕТ К ОСТРОВУ ЗАНТЕ[50]
Нежнейшее из наименований Взял у цветка ты, полного красы! О, сколько ты родишь воспоминаний Про дивно лучезарные часы! О, встречи, полные блаженства, где вы, Где погребенных упований рой? Вовек не встретить мне усопшей девы, Вовек, — всходя на склон зеленый твой! Вовек! волшебный звук, звеня тоскою, Меняет все! Твоя краса вовек Не очарует! Проклятой землею Отныне числю твой цветущий брег, О, гиацинтов край! Пурпурный Занте! «Isola d'oro! Fior di Levante!»СОНЕТ К ЗАНТЕ[51]
Прекрасный остров с именем прекрасным Цветка, что всех дороже и милей. Как много зорь на этом небе ясном Ты зажигаешь в памяти моей! Как много светлых встреч — уж больше нет их! Как много помыслов, разбитых в прах! Как много ликов той, кому на этих Не быть, не быть зеленых берегах! Не быть! Увы, магическое слово Меняет все. Ушедшему не быть. Не быть! Но если не вернуть былого, То проклят будь и дай тебя забыть, Пурпурный остров гиацинтов, Занте! «Isola d'oro! Fior di Levante!»ПРИЗРАЧНЫЙ ЗАМОК[52]
Божьих ангелов обитель, Цвел в горах зеленый дол, Где Разум, края повелитель, Сияющий дворец возвел. И ничего прекрасней в мире Крылом своим Не осенял, плывя в эфире Над землею, серафим. Гордо реяло над башней Желтых флагов полотно (Было то не в день вчерашний, А давным-давно). Если ветер, гость крылатый, Пролетал над валом вдруг, Сладостные ароматы Он струил вокруг. Вечерами видел путник, Направляя к окнам взоры, Как под мерный рокот лютни Мерно кружатся танцоры, Мимо трона проносясь; Государь порфирородный, На танец смотрит с трона князь С улыбкой властной и холодной. А дверь!.. Рубины, аметисты По золоту сплели узор — И той же россыпью искристой Хвалебный разливался хор; И пробегали отголоски Во все концы долины, В немолчном славя переплеске И ум, и гений властелина. Но духи зла, черны как ворон, Вошли в чертог — И свержен князь (с тех пор он Встречать зарю не мог). А прежнее великолепье Осталось для страны Преданием почившей в склепе Неповторимой старины. Бывает, странник зрит воочью, Как зажигается багрянец В окне — и кто-то пляшет ночью Чуждый музыке дикий танец. И рой теней, глумливый рой, Из тусклой двери рвется — зыбкой, Призрачной рекой… И слышен смех — смех без улыбки.МОЛЧАНИЕ (Сонет)[53]
Есть много близких меж собой явлений, Двуликих свойств (о, где их только нет!). Жизнь — двойственность таких соединений, Как вещь и тень, материя и свет. Есть двойственное, цельное молчанье Души и тела, суши и воды. В местах, где проросли травой следы, Оно гнездится, но воспоминанья И опыт говорят: не жди беды — Оно — молчанье жизни, нет в нем зла, Невозвратимым мысль его назвала. Но если тень молчанья вдруг предстала И душу в те пределы увела, Куда нога людская не ступала, — Доверься Господу! Пора пришла.ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ[54]
Смотри: спектакль богат Порой унылых поздних лет! Сонм небожителей крылат, В покровы тьмы одет, Повергнут в слезы и скорбит Над пьесой грез и бед, А музыка сфер надрывно звучит — В оркестре лада нет. На Бога мим любой похож; Они проходят без следа, Бормочут, впадают в дрожь — Марионеток череда, Покорна Неким, чей синклит Декорации движет туда-сюда, А с их кондоровых крыл летит Незримо Беда! О, балаганной драмы вздор Забыт не будет, нет! Вотще стремится пестрый хор За Призраком вослед, — И каждый по кругу бежать готов, Продолжая бред; В пьесе много Безумья, больше Грехов, И Страх направляет сюжет! Но вот комедиантов сброд Замолк, оцепенев: То тварь багровая ползет, Вмиг оборвав напев! Ползет! Ползет! Последний мим Попал в разверстый зев, И плачет каждый серафим, Клыки в крови узрев. Свет гаснет — гаснет — погас! И все покрывается тьмой, И с громом завеса тотчас Опустилась — покров гробовой… И, вставая, смятенно изрек Бледнеющих ангелов рой, Что трагедия шла — «Человек», В ней же Червь-победитель — герой.ЛИНОР[55]
Разбит, разбит золотой сосуд! Плыви, похоронный звон! Угаснет день, и милая тень уйдет за Ахерон. Плачь, Гай де Вир, иль, горд и сир, ты сладость слез отверг? Линор в гробу, и божий мир для наших глаз померк. Так пусть творят святой обряд, панихиду поют для той, Для царственной, что умерла такою молодой. Что в гроб легла вдвойне мертва, когда умерла молодой! «Не гордость — золото ее вы чтили благоговейно, Больную вы ее на смерть благословили елейно! Кто будет реквием читать, творить обряд святой — Не вы ль? не ваш ли глаз дурной, язык фальшивый, злой, Безвинную и юную казнивший клеветой?» Peccavimus; но ты смирись, невесту отпеть позволь, Дай вознестись молитвам ввысь, ее утоляя боль. Она преставилась, тиха, исполненная мира, Оставив в скорби жениха, оставив Гай де Вира Безвременно погибшую оплакивать Линор, Глядеть в огонь этих желтых кос и в этот мертвый взор — В живой костер косы Линор, в угасший, мертвый взор. «Довольно! В сердце скорби нет! Панихиду служить не стану — Новому ангелу вослед я вознесу осанну. Молчи же, колокол, не мрачи простой души веселье В ее полете в земной ночи на светлое новоселье: Из вражьего стана гневный дух восхищен и взят сегодня Ввысь, под охрану святых подруг, — из мрака преисподней В райские рощи, в ангельский круг у самого трона Господня»ЛИНОР[56]
Расколот кубок золотой, — рыдать колоколам! Летит с тоской душа святой к стигийским берегам. Тоскуй, сэр Гай, рыдай, рыдай! Что ж сух твой светлый взор? Так холодна в гробу она, твоя любовь — Линор! Пой с нами, пой за упокой над мертвой красотой Хорал, над той, что умерла такою молодой, Над той, что умерла вдвойне, скончавшись молодой. «Не гордость вы ценили в ней, а деньги предпочли, С больной, вы стали с ней нежней — и этим в гроб свели. Как с ваших лживых языков слетает гимн святой? Как злобный хор клеветников поет за упокой, Когда ее убили вы, убили молодой?» «Peccavimus! [57] Из гневных уст летят твои слова, Но не мешай нам петь псалом, молчи — она мертва! Хоть ради той души святой, что вознеслась, ушла, Хоть ради той, что стать женой, твоей женой могла! О, как мила она была! Она еще не прах — Чиста улыбка и светла, нет смерти на устах, И жизнь в волнистых волосах — но стынет смерть в глазах!» «Да, слез мне нет, но горный свет горит в душе моей, Пусть ангелу звучит вослед пеан минувших дней, Пусть в мире зла колокола песнь оборвут свою, Пускай Линор ваш злобный хор не слышит там в раю! Да, здесь — враги, а там — друзья, паришь в полете ты, Из ада — прямо в небеса, о них твои мечты. Здесь — боль и стон, там — божий трон, сбываются мечты!»СТРАНА СНОВ[58]
По тропинке одинокой Я вернулся из страны, Где царит во тьме глубокой Призрак Ночи-сатаны, На окраине далекой, Средь отверженных дубов — Вне пространства и веков. Там деревья-великаны, Облеченные в туманы, Невидимками стоят; Скалы темные глядят С неба красного — в озера, Беспредельные для взора… Льют безмолвные ручьи Воды мертвые свои, Воды, сонные, немые, В реки темно-голубые. Там, белея в тьме ночной, Над холодною водой, Точно спутанные змеи, Вьются нежные лилеи. И во всяком уголке, — И вблизи, и вдалеке, — Где виднеются озера, Беспредельные для взора, — Где, белея в тьме ночной, Над холодною водой, Точно спутанные змеи, Вьются нежные лилеи, — Возле дремлющих лесов, — Близ плеснеющих прудов, Полных гадов и драконов, — Вдоль вершин и горных склонов, — С каждым шагом на пути Странник может там найти В дымке белых одеяний Тени всех Воспоминаний… Чуть заметная на взгляд, Дрожь колеблет их наряд! Кто пройдет близ тени дивной, — Слышит вздох ее призывный. То — давнишние друзья, Лица некогда живые, — Те, что Небо и Земля Взяли в пытках агонии. Кто, судьбой не пощажен, Вынес бедствий легион, Тот найдет покой желанный В той стране обетованной. Этот дальний, темный край Всем печальным — чистый рай! Но волшебную обитель Заслонил ее Властитель Непроглядной пеленой; Если ж он душе больной Разрешит в нее пробраться, — Ей придется любоваться Всем, что некогда цвело — В закопченное стекло. По тропинке одинокой Я вернулся из страны, Где царит во тьме глубокой Призрак Ночи-сатаны, На окраине далекой, Средь отверженных духов, — Вне пространства и веков.СТРАНА СНОВИДЕНИЙ[59]
Вот за демонами следом, Тем путем, что им лишь ведом, Где, воссев на черный трон, Идол Ночь вершит закон, — Я прибрел сюда бесцельно С некой Фулы запредельной, — За кругом земель, за хором планет, Где ни мрак, ни свет и где времени нет. Пещеры. Бездна. Океаны Без берегов. Леса-титаны, Где кто-то, росной мглой укрыт, Сам незрим, на вас глядит. Горы рушатся, безгласны, В глубину морей всечасно. К небу взносятся моря, В его огне огнем горя. Даль озер легла, простерта В бесконечность гладью мертвой, Над которою застыли Снежным платом сонмы лилий. По озерам, что простерты В бесконечность гладью мертвой, Где поникшие застыли В сонном хладе сонмы лилий… По реке, струящей вдаль Свой вечный ропот и печаль… По расселинам и в чащах… В дебрях, змеями кишащих… На трясине, где Вампир Правит пир, — По недобрым тем местам, Неприютным, всюду там Встретит путник оробелый Тень былого в ризе белой. В саванах проходят мимо Призрак друга, тень любимой — Вздрогнут и проходят мимо — Все, кого, скорбя во мгле, Он отдал небу и земле. Для сердец, чья боль безмерна, Этот край — целитель верный, Здесь, в пустыне тьмы и хлада, Здесь, о, здесь их Эльдорадо! Но светлой тайны до сих пор Еще ничей не видел взор. Совершая путь тяжелый, Странник держит очи долу — Есть повеленье: человек Идет, не поднимая век. И только в дымчатые стекла Увидеть можно отсвет блеклый. Я за демонами следом, Тем путем, что им лишь ведом, Где, воссев на черный трон, Идол Ночь вершит закон, В край родной прибрел бесцельно С этой Фулы запредельной.НЕЛЛИ[60]
Я жил одиноко в печали глубокой с душой океана мрачней, пока не назвал я красавицу Нелли стыдливой невестой своей, пока не назвал златокудрую Нелли я радостью жизни моей. Ах! звезды полночи не ярче, чем очи прелестной малютки моей, и блеск перламутра румяного утра, и золото первых лучей — ничто не сравнится с окутавшей Нелли волной золотистых кудрей, с волной небрежно откинутых Нелли на детские плечи кудрей. Теперь ни волненья, ни муки сомненья не смеют мрачить моих дней. Весь день надо много сияет звездою богиня блаженства, — и к ней весь день устремляет красавица Нелли фиалки лазурных очей; все время не сводит с нее моя Нелли сияющих счастьем очей.ЕВЛАЛИЯ (Песня)[61]
Дарил мне свет Немало бед. И чахла душа в тишине, Но Евлалия, нежная, юная, стала супругою мне — Но Евлалия светлокудрая стала супругою мне. О, блеск светил Тусклее был, Чем свет ее очей! Никакой дымок Так завиться б не мог В переливах лунных лучей, Чтоб сравниться с ничтожнейшим локоном Евлалии скромной моей — С самым малым, развившимся локоном ясноокой супруги моей. Сомненье, Беда Ушли навсегда: Милой дух — мне опора опор! Весь день напролет Астарта льет Лучи сквозь небесный простор, И к ней дорогая Евлалия устремляет царственный взор — И к ней молодая Евлалия устремляет фиалковый взор.ЕВЛАЛИЯ — ПЕСНЯ[62]
В ночи бытия Надежда моя Как узница, изнывала. Но солнечная Евлалия желанной подругой мне стала, Евлалия в золоте волос невестой стыдливой мне стала. Озера очей Любимой моей Мне ярче всех звезд заблистали. В полуночной мгле На лунном челе Волокна тумана едва ли Сравнятся с кудрями Евлалии, что вольно на плечи ей пали, Поспорят с кудрями Евлалии, что мягко на плечи ей пали. О мире скорбей Забыли мы с ней Под нашим незыблемым кровом. А с горних высот Нам знаменье шлет Астарта в сиянии новом. И юная смотрит Евлалия на небо взором лиловым, И смотрит Евлалия взором жены, взором хрустально-лиловым.ВОРОН Поэма[63]
Когда в угрюмый час ночной, Однажды бледный и больной, Над грудой книг работал я, Ко мне в минуту забытья, Невнятный стук дошел извне, Как будто кто стучал ко мне, Тихонько в дверь мою стучал — И я, взволнованный, сказал: «Должно быть так, наверно, так — То поздний путник в этот мрак Стучится в дверь, стучит ко мне И робко просится извне В приют жилища моего: То гость — и больше ничего». То было в хмуром декабре. Стояла стужа на дворе, В камине уголь догорал Багряным светом потолок, И я читал… но я не мог Увлечься мудростью страниц… В тени опущенных ресниц Носился образ предо мной Подруги светлой, неземной, Чей дух средь ангельских имен Ленорой в небе наречен, Но здесь, исчезнув без следа, Утратил имя — навсегда! А шорох шелковых завес Меня ласкал — и в мир чудес Я, будто сонный, улетал, И страх, мне чуждый, проникал В мою встревоженную грудь. Тогда, желая чем-нибудь Биенье сердца укротить, Я стал рассеянно твердить: «То поздний гость стучит ко мне И робко просится извне, В приют жилища моего: То гость — и больше ничего». От звука собственных речей Я ощутил себя храбрей И внятно, громко произнес: «Кого бы случай ни принес, Кто вы, скажите, я молю, Просящий входа в дверь мою? Простите мне: ваш легкий стук Имел такой неясный звук, Что, я клянусь, казалось мне, Я услыхал его во сне». Тогда, собрав остаток сил, Я настежь дверь свою открыл: Вокруг жилища моего Был мрак — и больше ничего. Застыв на месте, я впотьмах И средь полночной тишины Передо мной витали сны, Каких в обители земной Не знал никто — никто живой! Но все по-прежнему кругом Молчало в сумраке ночном, Лишь звук один я услыхал: «Ленора!» — кто-то прошептал… Увы! я сам то имя звал, И эхо нелюдимых скал В ответ шепнуло мне его, Тот звук — и больше ничего. Я снова в комнату вошел, И снова стук ко мне дошел Сильней и резче, — и опять Я стал тревожно повторять: «Я убежден, уверен в том, Что кто-то скрылся за окном. Я должен выведать секрет, Дознаться, прав я или нет? Пускай лишь сердце отдохнет, — Оно, наверное, найдет Разгадку страха моего: То вихрь — и больше ничего». С тревогой штору поднял я — И, звучно крыльями шумя, Огромный ворон пролетел Спокойно, медленно — и сел Без церемоний, без затей, Над дверью комнаты моей. На бюст Паллады взгромоздясь, На нем удобно поместясь, Серьезен, холоден, угрюм, Как будто полон важных дум, Как будто прислан от кого, — Он сел — и больше ничего. И этот гость угрюмый мой Своею строгостью немой Улыбку вызвал у меня. «Старинный ворон! — молвил я, — Хоть ты без шлема и щита, Но, видно, кровь твоя чиста, Страны полуночной гонец! Скажи мне, храбрый молодец, Как звать тебя? Поведай мне Свой титул в доблестной стране, Тебя направившей сюда?» Он каркнул: «Больше никогда!» Я был немало изумлен, Что на вопрос ответил он. Конечно, вздорный этот крик Мне в раны сердца не проник, Но кто же видел из людей Над дверью комнаты своей, На белом бюсте, в вышине, И наяву, а не во сне, Такую птицу пред собой, Чтоб речью внятною людской Сказала имя без труда, Назвавшись: Больше никогда?! Но ворон, был угрюм и нем. Он удовольствовался тем, Что слово страшное сказал, — Как будто в нем он исчерпал Всю глубь души — и сверх того Не мог добавить ничего. Он все недвижным пребывал, И я рассеянно шептал: «Мои надежды и друзья Давно покинули меня… Пройдут часы, исчезнет ночь — Уйдет и он за нею прочь, Увы, и он уйдет туда!..» Он каркнул: «Больше никогда!» Такой осмысленный ответ Меня смутил. «Сомненья нет, — Подумал я, — печали стон Им был случайно заучен. Ему внушил припев один Его покойный господин. То был несчастный человек, Гонимый горем целый век, Привыкший плакать и грустить, И ворон стал за ним твердить Слова любимые его, Когда из сердца своего К мечтам, погибшим без следа, Взывал он: «Больше никогда!» Но ворон вновь меня развлек, И тотчас кресло я привлек Поближе к бюсту и к дверям Напротив ворона — и там, В подушках бархатных своих, Я приютился и затих, Стараясь сердцем разгадать, Стремясь добиться и узнать, О чем тот ворон думать мог, Худой, уродливый пророк, Печальный ворон древних дней, И что таил в душе своей, И что сказать, хотел, когда Он каркал: «Больше никогда»? И я прервал беседу с ним, Отдавшись помыслам своим, А он пронизывал меня Глазами, полными огня — И я над тайной роковой Тем глубже мучился душой, Склонившись на руку челом… А лампа трепетным лучом Ласкала бархат голубой, Где след головки неземной Еще, казалось, не остыл, Головки той, что я любил, И что кудрей своих сюда Не склонит больше никогда!.. И в этот миг казалось мне, Как будто в сонной тишине Курился ладан из кадил, И будто рай небесных сил Носился в комнате без слов, И будто вдоль моих ковров Святой, невидимой толпы Скользили легкие стопы… И я с надеждою вскричал: «Господь! Ты ангелов прислал Меня забвеньем упоить… О! дай Ленору мне забыть!» Но мрачный ворон, как всегда, Мне каркнул: «Больше никогда!» «О, дух или тварь, предвестник бед, Печальный ворон древних лет! — Воскликнул я. — Будь образ твой Извергнут бурею ночной Иль послан дьяволом самим, Я вижу — ты неустрашим: Поведай мне, молю тебя: Дает ли жалкая земля, Страна скорбей — дает ли нам Она забвения бальзам? Дождусь ли я спокойных дней, Когда над горестью моей Промчатся многие года?» Он каркнул: «Больше никогда!» И я сказал: «О, ворон злой, Предвестник бед, мучитель мой! Во имя правды и добра, Скажи во имя божества, Перед которым оба мы Склоняем гордые главы, Поведай горестной душе, Скажи, дано ли будет мне Прижать к груди, обнять в раю Ленору светлую мою? Увижу ль я в гробу немом Ее на небе голубом? Ее увижу ль я тогда?» Он каркнул: «Больше никогда!» И я вскричал, рассвирепев: «Пускай же дикий твой припев Разлуку нашу возвестит, И пусть твой образ улетит В страну, где призраки живут И бури вечные ревут! Покинь мой бюст и сгинь скорей За дверью комнаты моей! Вернись опять ко тьме ночной! Не смей пушинки ни одной С печальных крыльев уронить, Чтоб мог я ложь твою забыть! Исчезни, ворон, без следа!..» Он каркнул: «Больше никогда!» Итак, храня угрюмый вид, Тот ворон все еще сидит, Еще сидит передо мной, Как демон злобный и немой; А лампа яркая, как день, Вверху блестит, бросая тень — Той птицы тень — вокруг меня, И в этой тьме душа моя Скорбит, подавлена тоской, И в сумрак тени роковой Любви и счастия звезда Не глянет — больше никогда!!ВОРОН[64]
Раз в унылую полночь, в молчаньи немом Над истлевшим старинного тома листком Задремав, я поник головою усталой… Слышу в дверь мою легкий и сдержанный стук: Верно, в комнату просится гость запоздалый… Нет, все тихо и немо вокруг. Тьмою вечер декабрьский в окошко зиял, От углей потухавших свет бледный дрожал, Тщетно в книге искал я забвенья печали О моей незабвенной, утраченной мной, Что архангелы в небе Ленорой назвали, Что давно позабыта землей… Каждый шорох, чуть слышный, в ночной тишине Фантастическим страхом, неведомым мне, Леденил мою кровь, и, чтоб сердца биенье Успокоить, сказал я: «То в дверь мою стук Запоздалого гостя, что ждет приглашенья…» Но — все тихо и немо вокруг. В этот миг, ободрившись, сказал я смелей: «Кто там: гость или гостья за дверью моей? Я заснул и не слышал, прошу извиненья, Как стучали вы в дверь, слишком тих был ваш стук, Слишком тих…» Отпер двери я в это мгновенье — Только тьма и молчанье вокруг. Долго взоры вперял я во мраке густом, Полный страхом, сомненьем, и грезил о том, Что незримо и страшно для смертного взора, Но в молчаньи один только слышался звук — Только вторило эхо мой шепот: «Ленора!» И безмолвно все было вокруг. Весь волненьем тревожным невольно объят, Только в комнату я возвратился назад, Слышу, стук повторился с удвоенной силой. Что бояться? не лучше ль исследовать звук? Это в раму стучит, верно, ветер унылый… Все спокойно и тихо вокруг. Я окно отворил: вот, среди тишины, Статный ворон, свидетель святой старины, С трепетанием крыльев ворвался и гордо Прямо к бюсту Паллады направился вдруг И, усевшись на нем с видом знатного лорда, Осмотрелся безмолвно вокруг. Гордой поступью, важностью строгих очей Рассмешил меня ворон и в грусти моей. «Старый ворон! уже без хохла ты… однако, Путник ночи, тебя не смирили года… Как зовут тебя в царстве Плутонова мрака? Ворон громко вскричал: «Никогда». С изумленьем услышал я птицы ответ, Хоть ума в нем и не было сильных примет, Но ведь все согласятся с моими словами, Что за дивное диво сочтешь без труда, Если птицу на бюсте найдешь над дверями, С странной кличкой такой: «Никогда»… Но не вымолвил ворон ни слова потом, Весь свой ум будто вылив в том слове одном. Неподвижен он был, и промолвил в тиши я: «Завтра утром ты бросишь меня без следа, Как другие друзья, как надежды былые!..» Ворон снова вскричал: «Никогда». Как ответ мне, тот крик прозвучал в тишине; «Это все, что он знает, — подумалось мне, — Верно, перенял он у гонимого силой Злой судьбы, чьих надежд закатилась звезда, Панихиду по грезам — припев тот унылый: «Никогда, никогда, никогда!» Вопреки неотвязчивым думам моим, Все смешил меня ворон; усевшись пред ним В бархат мягкого кресла, я впал в размышленье: Ворон, вещий когда-то в былые года, Ворон вещий и мрачный, какое значенье Скрыто в крике твоем: «Никогда»? Так безмолвно я в думах моих утопал, Птицы огненный взгляд в сердце мне проникал, В мягком кресле прилег я спокойно и ловко, А на бархат свет лампы чуть падал, о да! Этот бархат лиловый своею головкой Не нажмет уж она никогда! Вдруг отрадно мне стало, как будто святым Фимиамом незримый пахнул серафим… О несчастный! я молвил, то мне Провиденье Шлет отраду в приют одинокий сюда! О Леноре утраченной даст мне забвенье! Ворон снова вскричал: «Никогда!» О пророк, злой вещун, птица ль, демон ли ты, Ада ль мрачный посол, иль во мгле темноты Пригнан бурей ты с берега грозного моря, О, скажи, дальний гость, залетевший сюда: Отыщу ль я бальзам от сердечного горя? И вещун прокричал: «Никогда!» Птица ль, демон ли ты, все ж пророк, вестник злой, Молви мне: в царстве Бога, что чтим мы с тобой, В отдаленном раю, сбросив бремя печали, Не сольюсь ли я с милой, воспрянув туда, С чудной девой, что в небе Ленорой назвали? Птица вскрикнула вновь: «Никогда!» Птица ль, демон ли ада — воскликнул я — прочь! Возвратись же опять в мрак и в бурную ночь!.. Не оставь здесь пера в память лжи безотрадной, Одинокий приют мой покинь навсегда, Вынь из сердца разбитого клюв кровожадный! Ворон крикнул опять: «Никогда» И над дверью моей неподвижно с тех пор Блещет ворона черного демонский взоp, В бледных лампы лучах силуэт его темный Предо мной на полу распростерт навсегда, И из круга той тени дрожащей огромной Не воспрянет мой дух никогда!ВОРОН[65]
Раз, когда я в глухую полночь, бледный и утомленный, размышлял над грудой драгоценных, хотя уже позабытых ученых фолиантов, когда я в полусне ломал над ними себе голову, вдруг послышался легкий стук, как будто кто-то тихонько стукнул в дверь моей комнаты. «Это какой-нибудь прохожий, — пробормотал я про себя, — стучит ко мне в комнату, — прохожий, и больше ничего». Ах, я отлично помню. На дворе стоял тогда студеный декабрь. Догоравший в камине уголь обливал пол светом, в котором видна была его агония. Я страстно ожидал наступления утра; напрасно силился я утопить в своих книгах печаль по моей безвозвратно погибшей Леноре, по драгоценной и лучезарной Леноре, имя которой известно ангелам и которую здесь не назовут больше никогда. И шорох шелковых пурпуровых завес, полный печали и грез, сильно тревожил меня, наполнял душу мою чудовищными, неведомыми мне доселе страхами, так что в конце концов, чтобы замедлить биение своего сердца, я встал и принялся повторять себе: «Это какой-нибудь прохожий, который хочет войти ко мне; это какой-нибудь запоздалый прохожий стучит в дверь моей комнаты; это он, и больше ничего». Моя душа тогда почувствовала себя бодрее, и я, ни минуты не колеблясь, сказал: «Кто бы там ни был, умоляю вас, простите меня ради Бога: дело, видите, в том, что я вздремнул немножко, а вы так тихо постучались, так тихо подошли к двери моей комнаты, что я едва-едва вас расслышал». И тогда я раскрыл дверь настежь, — был мрак и больше ничего. Всматриваясь в этот мрак, я долгое время стоял, изумленный, полный страха и сомнения, грезя такими грезами, какими не дерзал ни один смертный, но молчанье не было прервано и тишина не была нарушена ничем. Было прошептано одно только слово «Ленора», и это слово произнес я. Эхо повторило его, повторило, и больше ничего. Вернувшись к себе в комнату, я чувствовал, что душа моя горела как в огне, и я снова услышал стук, — стук сильнее прежнего. «Наверное, — сказал я, — что-нибудь кроется за ставнями моего окна; посмотрю-ка, в чем там дело, разузнаю секрет и дам передохнуть немножко своему сердцу. Это — ветер, и больше ничего». Тогда я толкнул ставни, и в окно, громко хлопая крыльями, влетел величественный ворон, птица священных дней древности. Он не выказал ни малейшего уважения; он не остановился, не запнулся ни на минуту, но с миною лорда и леди взгромоздился над дверью моей комнаты, взгромоздился на бюст Паллады над дверью моей комнаты, — взгромоздился, уселся и… больше ничего. Тогда эта черная, как эбен, птица важностью своей поступи и строгостью своей физиономии вызвала в моем печальном воображении улыбку, и я сказал: «Хотя твоя голова и без шлема, и без щита, но ты все-таки не трусь, угрюмый, старый ворон, путник с берегов ночи. Поведай, как зовут тебя на берегах плутоновой ночи». Ворон каркнул: «Больше никогда!» Я был крайне изумлен, что это неуклюжее пернатое создание так легко разумело человеческое слово, хотя ответ его и не имел для меня особенного смысла и ничуть не облегчил моей скорби; но ведь надо же сознаться, что ни одному смертному не было дано видеть птицу над дверью своей комнаты, птицу или зверя над дверью своей комнаты на высеченном бюсте, которым было бы имя Больше никогда! Но ворон, взгромоздившись на спокойный бюст, произнес только одно это слово, как будто в одно это слово он излил всю свою душу. Он не произнес ничего более, он не пошевельнулся ни единым пером; я сказал тогда себе тихо: «Друзья мои уже далеко улетели от меня; наступит утро, и этот так же покинет меня, как мои прежние, уже исчезнувшие, надежды». Тогда птица сказала: «Больше никогда!» Весь задрожал я, услыхав такой ответ, и сказал: «Без сомнения, слова, произносимые птицею, были ее единственным знанием, которому она научилась у своего несчастного хозяина, которого неумолимое горе мучило без отдыха и срока, пока его песни не стали заканчиваться одним и тем же припевом, пока безвозвратно погибшие надежды не приняли меланхолического припева: «никогда, никогда больше!» Но ворон снова вызвал в моей душе улыбку, и я подкатил кресло прямо против птицы, напротив бюста и двери; затем, углубившись в бархатные подушки кресла, я принялся думать на все лады, стараясь разгадать, что хотела сказать эта вещая птица древних дней, что хотела сказать эта печальная, неуклюжая, злополучная, худая и вещая птица, каркая свое: «Больше никогда!» Я оставался в таком положении, теряясь в мечтах и догадках, и, не обращаясь ни с единым словом к птице, огненные глаза которой сжигали меня теперь до глубины сердца, я все силился разгадать тайну, а голова моя привольно покоилась на бархатной подушке, которую ласкал свет лампы, — на том фиолетовом бархате, ласкаемом светом лампы, куда она уже не склонит своей головки больше никогда! Тогда мне показалось, что воздух начал мало-помалу наполняться клубами дыма, выходившего из кадила, которое раскачивали серафимы, стопы которых скользили по коврам комнаты. «Несчастный! — вскричал я себе. — Бог твой чрез своих ангелов дает тебе забвение, он посылает тебе бальзам забвения, чтобы ты не вспоминал более о своей Леноре! Пей, пей этот целебный бальзам и забудь погибшую безвозвратно Ленору!» Ворон каркнул: «Больше никогда!» «Пророк! — сказал я, — злосчастная тварь, птица или дьявол, но все-таки пророк! Будь ты послан самим искусителем, будь ты выкинут, извергнут бурею, но ты — неустрашим: есть ли здесь, на этой пустынной, полной грез земле, в этой обители скорбей, есть ли здесь, — поведай мне всю правду, умоляю тебя, — есть ли здесь бальзам забвенья? Скажи, не скрой, умоляю!» Ворон каркнул: «Больше никогда!» «Пророк! — сказал я, — злосчастная тварь, птица или дьявол, но все-таки пророк! Во имя этих небес, распростертых над нами, во имя того божества, которому мы оба поклоняемся, поведай этой горестной душе, дано ли будет ей в далеком Эдеме обнять ту святую, которую ангелы зовут Ленорой, прижать к груди мою милую, лучезарную Ленору!» Ворон каркнул: «Больше никогда!» «Да будут же эти слова сигналом к нашей разлуке, птица или дьявол! — вскричал я, приподнявшись с кресла. — Иди снова на бурю, вернись к берегу плутоновой ночи, не оставляй здесь ни единого черного перышка, которое могло бы напомнить о лжи, вышедшей из твоей души! Оставь мой приют неоскверненным! Покинь этот бюст над дверью моей комнаты! Вырви свой клюв из моего сердца и унеси свой призрачный образ подальше от моей двери!» Ворон каркнул: «Больше никогда!» И ворон, неподвижный, все еще сидит на бледном бюсте Паллады, как раз над дверью моей комнаты, и глаза его смотрят, словно глаза мечтающего дьявола; и свет лампы, падающий на него, бросает на пол его тень; и душа моя из круга этой тени, колеблющейся по полу, не выйдет больше никогда!ВОРОН[66]
Погруженный в скорбь немую и усталый, в ночь глухую, Раз, когда поник в дремоте я над книгой одного Из забытых миром знаний, книгой полной обаяний, — Стук донесся, стук нежданный в двери дома моего: «Это путник постучался в двери дома моего, Только путник — больше ничего». В декабре, — я помню — было это полночью yнылой. В очаге под пеплом угли разгорались иногда. Груды книг не утоляли ни на миг моей печали — Об утраченной Леноре, той, чье имя навсегда — В сонме ангелов — Ленора, той, чье имя навсегда В этом мире стерлось — без следа. От дыханья ночи бурной занавески шелк пурпурный Шелестел, и непонятный страх рождался от всего. Думал, сердце успокою, все еще твердил порою: «Это гость стучится робко в двери дома моего, Запоздалый гость стучится в двери дома моего, Только гость, — и больше ничего!» И когда преодолело сердце страх, я молвил смело: «Вы простите мне, обидеть не хотел я никого; Я на миг уснул тревожно: слишком тихо, осторожно, — Слишком тихо вы стучались в двери дома моего…» И открыл тогда я настежь двери дома моего — Мрак ночной, — и больше ничего. Все, что дух мой волновало, все, что снилось и смущало, До сих пор не посещало в этом мире никого. И ни голоса, ни знака — из таинственного мрака… Вдруг «Ленора!» прозвучало близ жилища моего… Сам шепнул я это имя, и проснулся от него. Только эхо — больше ничего. Но душа моя горела, притворил я дверь несмело. Стук опять раздался громче; я подумал: «Ничего, Это стук в окне случайный, никакой здесь нету тайны: Посмотрю и успокою трепет сердца моего, Успокою на мгновенье трепет сердца моего. Это ветер — больше ничего». Я открыл окно, и странный гость полночный, гость нежданный, Ворон царственный влетает; я привета от него Не дождался. Но отважно, — как хозяин, гордо, важно Полетел он прямо к двери, к двери дома моего, И вспорхнул на бюст Паллады, сел так тихо на него, Тихо сел, — и больше ничего. Как ни грустно, как ни больно, — улыбнулся я невольно И сказал: «Твое коварство победим мы без труда, Но тебя, мой гость зловещий, Ворон древний, Ворон вещий, К нам с пределов вечной Ночи прилетающий сюда, Как зовут в стране, откуда прилетаешь ты сюда?» И ответил Ворон: «Никогда». Говорит так ясно птица, не могу я надивиться. Но, казалось, что надежда ей навек была чужда. То не жди себе отрады, в чьем дому на бюст Паллады Сядет Ворон над дверьми; от несчастья никуда, — Тот, кто Ворона увидел, — не спасется никуда, Ворона, чье имя: «Никогда». Говорил он это слово так печально, так сурово, Что, казалось, в нем всю душу изливал; и вот, когда Недвижим на изваяньи он сидел в немом молчаньи, Я шепнул: «Как счастье, дружба улетели навсегда, Улетит и эта птица завтра утром навсегда». И ответил Ворон: «Никогда». И сказал я, вздрогнув снова: «Верно молвить это слово Научил его хозяин в дни тяжелые, когда Он преследуем был Роком, и в несчастьи одиноком, Вместо песни лебединой, в эти долгие года Для него был стон единый в эти грустные года — Никогда, — уж больше никогда!» Так я думал и невольно улыбнулся, как ни больно. Повернул тихонько кресло к бюсту бледному, туда, Где был Ворон, погрузился в бархат кресел и забылся… «Страшный Ворон, мой ужасный гость, — подумал я тогда — Страшный, древний Ворон, горе возвещающий всегда, Что же значит крик твой: «Никогда»? Угадать стараюсь тщетно; смотрит Ворон безответно. Свой горящий взор мне в сердце заронил он навсегда. И в раздумьи над загадкой я поник в дремоте сладкой Головой на бархат, лампой озаренный. Никогда На лиловый бархат кресел, как в счастливые года, Ей уж не склоняться — никогда! И казалось мне: струило дым незримое кадило, Прилетели Серафимы, шелестели иногда Их шаги, как дуновенье: «Это Бог мне шлет забвенье! Пей же сладкое забвенье, пей, чтоб в сердце навсегда Об утраченной Леноре стерлась память — навсегда!..» И сказал мне Ворон: «Никогда». «Я молю, пророк зловещий, птица ты иль демон вещий. Злой ли Дух тебя из Ночи, или вихрь занес сюда Из пустыни мертвой, вечной, безнадежной, бесконечной, — Будет ли, молю, скажи мне, будет ли хоть там, куда Снизойдем мы после смерти, — сердцу отдых навсегда?» И ответил Ворон: «Никогда». «Я молю, пророк зловещий, птица ты иль демон вещий, Заклинаю небом, Богом, отвечай, в тот день, когда Я Эдем увижу дальной, обниму ль душой печальной Душу светлую Леноры, той, чье имя навсегда В сонме ангелов — Ленора, лучезарной навсегда?» И ответил Ворон: «Никогда». «Прочь! — воскликнул я, вставая, — демон ты иль птица злая. Прочь! — вернись в пределы Ночи, чтобы больше никогда Ни одно из перьев черных, не напомнило позорных, Лживых слов твоих! Оставь же бюст Паллады навсегда, Из души моей твой образ я исторгну навсегда!» И ответил Ворон: «Никогда». И сидит, сидит с тех пор он там над дверью черный Ворон, С бюста бледного Паллады не исчезнет никуда. У него такие очи, как у Злого Духа ночи, Сном объятого; и лампа тень бросает. Навсегда К этой тени черной птицы пригвожденный навсегда, — Не воспрянет дух мой — никогда!ВОРОН[67]
Как-то в полночь, утомленный, я забылся, полусонный, Над таинственным значеньем фолианта одного; Я дремал, и все молчало… Что-то тихо прозвучало — Что-то тихо застучало у порога моего. Я подумал: «То стучится гость у входа моего — Гость, и больше ничего». Помню все, как это было: мрак — декабрь — ненастье выло — Гас очаг мой — так уныло падал отблеск от него… Не светало… Что за муки! Не могла мне глубь науки Дать забвенье о разлуке с девой сердца моего, — О Леноре, взятой в Небо прочь из дома моего, — Не оставив ничего… Шелест шелка, шум и шорох в мягких пурпуровых шторах — Чуткой, жуткой, странной дрожью проникал меня всего; И, смиряя страх минутный, я шепнул в тревоге смутной: «То стучится бесприютный гость у входа моего — Поздний путник там стучится у порога моего — Гость, и больше ничего». Стихло сердце понемногу. Я направился к порогу, Восклицая: «Вы простите — я промедлил оттого, Что дремал в унылой скуке — и проснулся лишь при стуке, При неясном, легком звуке у порога моего». — И широко распахнул я дверь жилища моего — Мрак, и больше ничего. Мрак бездонный озирая, там стоял я, замирая В ощущеньях, человеку незнакомых до того; Но царила тьма сурово средь безмолвия ночного, И единственное слово чуть прорезало его — Зов: «Ленора…» — Только эхо повторило мне его — Эхо, больше ничего… И, смущенный непонятно, я лишь шаг ступил обратно — Снова стук — уже слышнее, чем звучал он до того. Я промолвил: «Что дрожу я? Ветер ставни рвет, бушуя, — Наконец-то разрешу я, в чем здесь скрыто волшебство — Это ставень, это буря: весь секрет и волшебство — Вихрь, и больше ничего». Я толкнул окно, и рама подалась, и плавно, прямо Вышел статный, древний Ворон — старой сказки божество; Без поклона, смело, гордо, он прошел легко и твердо, — Воспарил, с осанкой лорда, к верху входа моего И вверху, на бюст Паллады, у порога моего Сел — и больше ничего. Оглядев его пытливо, сквозь печаль мою тоскливо Улыбнулся я, — так важен был и вид его, и взор: «Ты без рыцарского знака — смотришь рыцарем, однако, Сын страны, где в царстве Мрака Ночь раскинула шатер! Как зовут тебя в том царстве, где стоит Ее шатер?» Каркнул Ворон: «Nevermore». Изумился я сначала: слово ясно прозвучало, Как удар, — но что за имя «Никогда»? И до сих пор Был ли смертный в мире целом, в чьем жилище опустелом Над дверьми, на бюсте белом, словно призрак древних пор, Сел бы важный, мрачный, хмурый, черный Ворон древних пор И назвался «Nevermore»? Но, прокаркав это слово, вновь молчал уж он сурово, Точно в нем излил всю душу, вновь замкнул ее затвор. Он сидел легко и статно — и шепнул я еле внятно: «Завтра утром невозвратно улетит он на простор — Как друзья — как все надежды, улетит он на простор…» Каркнул Ворон: «Nevermore». Содрогнулся я при этом, поражен таким ответом, И сказал ему: «Наверно, господин твой с давних пор Беспощадно и жестоко был постигнут гневом Рока И отчаялся глубоко и, судьбе своей в укор, Затвердил, как песню скорби, этот горестный укор — Этот возглас: «Nevermore…» И, вперяя взор пытливый, я с улыбкою тоскливой Опустился тихо в кресла, дал мечте своей простор И на бархатные складки я поник, ища разгадки, — Что сказал он, мрачный, гадкий, гордый Ворон древних пор, — Что хотел сказать зловещий, хмурый Ворон древних пор Этим скорбным «Nevermore…» Я сидел, объятый думой, неподвижный и угрюмый, И смотрел в его горящий, пепелящий душу взор; Мысль одна сменялась новой, — в креслах замер я суровый, А на бархат их лиловый лампа свет лила в упор, — Ах, на бархат их лиловый, озаренный так в упор, Ей не сесть уж — nevermore! Чу!.. провеяли незримо, словно крылья серафима — Звон кадила — благовонья — шелест ног о мой ковер: «Это Небо за моленья шлет мне чашу исцеленья, Благо мира и забвенья мне даруя с этих пор! Дай! — я выпью, и Ленору позабуду с этих пор!» Каркнул Ворон: «Nevermore». «Адский дух иль тварь земная, — произнес я, замирая, — Ты — пророк. И раз уж Дьявол или вихрей буйный спор Занесли тебя, крылатый, в дом мой, ужасом объятый, В этот дом, куда проклятый Рок обрушил свой топор, — Говори: пройдет ли рана, что нанес его топор?» Каркнул Ворон: «Nevermore». «Адский дух иль тварь земная, — повторил я, замирая, — Ты — пророк. Во имя Неба, — говори: превыше гор, Там, где Рай наш легендарный, — там найду ль я, благодарный, Душу девы лучезарной, взятой Богом в Божий хор, — Душу той, кого Ленорой именует Божий хор?» Каркнул Ворон: «Nevermore». «Если так, то вон, Нечистый! В царство Ночи вновь умчись ты. Гневно крикнул я, вставая: «Этот черный твой убор Для меня в моей кручине стал эмблемой лжи отныне, — Дай мне снова быть в пустыне! Прочь! Верни душе простор! Не терзай, не рви мне сердца, прочь, умчися на простор!» Каркнул Ворон: «Nevermore». И сидит, сидит с тех пор он, неподвижный черный Ворон, Над дверьми, на белом бюсте, — там сидит он до сих пор, Злыми взорами блистая, — верно, так глядит, мечтая, Демон, — тень его густая грузно пала на ковер — И душе из этой тени, что ложится на ковер, Не подняться — nevermore!ВОРОН[68]
Как-то ночью одинокой я задумался глубоко Над томами черной магии, забытой с давних пор. Сон клонил, — я забывался… Вдруг неясный звук раздался, Словно кто-то постучался — постучался в мой затвор… «Это гость, — пробормотал я, — постучался в мой затвор, Запоздалый визитер…» Ясно помню тот декабрьский Лютый ветер, холод адский, Эти тени — по паркету черной бахромы узор, — Как меня томило это, как я с книгой ждал рассвета В страшной скорби без просвета — без просвета по Линор, По утраченной недавно светлой, ласковой Линор, Невозвратной с этих пор. Вдруг забилось неприятно сердце в страхе под невнятный Шорох шепотный пурпуровых моих тяжелых штор; Чтоб унять сердцебиенье, сам с собою без смущенья Говорил я, весь — волненье: «То стучится в мой затвор, Запоздалый гость, — смущенно он стучится в мой затвор, Этот поздний визитер». Взяв себя немного в руки, крикнул я в ответ на стуки: «О, пожалуйста, простите, — я сейчас сниму затвор! Задремал я… рад… приятно… но стучались вы невнятно, Было даже непонятно — непонятно: стук ли, вздор?.. А теперь я различаю — это точно — стук, не вздор!..» Дверь открыл: ночной простор. Никого! В недоуменьи, с новым страхом и в смущеньи От неведомых предчувствий, затаившийся, как вор, Я смотрел, на все готовый, в сумрак холода ночного, И шепнул одно лишь слово, слово-шепот, в ночь: «Линор»… Это я сказал, но где-то эхо вторило: «Линор»… Тихий, жуткий разговор. Я захлопнул дверь. Невольно сердце сжалось острой болью. Сел… и скоро вновь услышал тот же звук: тор-тор… тор-тор… «А-а, — сказал я: — так легка мне вся загадка: стук недавний — Дребезжанье старой ставни… только ветер… мелочь… вздор… Нет, никто там не стучался, — Просто ставни… зимний вздор… Мог бы знать и до сих пор». Быстро встал, — окно открыл я. Широко расставив крылья, Крупный ворон — птица древняя — в окно ко мне, в упор, Вдруг вошел, неторопливо всхохлил перья, и красивым Плавным взлетом, горделиво, — словно зная с давних пор, — Пролетел, на бюст Паллады сел… как будто с давних пор Там сидел он, этот Ворон. Сколько важности! Бравады! Хохотал я до упаду: «Ну, нежданный гость, привет вам! Что ж, садитесь! Разговор Я начну… Что много шума натворил ты здесь, угрюмый Ворон, полный древней думы? — Ну, скажи — как бледный хор Называл тебя — в Аиде бестелесных духов хор?» Ворон крикнул: «Nevermore». Я вскочил от удивленья: новое еще явленье! — Никогда не приходилось мне слыхать подобный вздор! «Вы забавны, Ворон-птица, — только как могло случиться Языку вам обучиться и салонный разговор Завязать, седлая бюсты? Что ж, продолжим разговор, Досточтимый «Nevermore»…» Но на белом четко-черный он теперь молчал упорно, Словно душу всю излил в едином слове ворон-вор! И опять понурый, сгорблен, я застыл в привычной скорби, Все надеясь: утро скорбь утишит… Вдруг, в упор, Неожиданно и властно, с бюста белого, в упор Птичий голос: «Nevermore». Вздрогнул я: ответ угрюмый был в том крике мне на думы! Верно, ворону случалось часто слышать, как повтор, Это слово… звук не нежный… Знать, его хозяин прежний, Зло обманутый в надеждах, повторял себе в укор, Обращаясь безотчетно к ворону, ронял укор Безысходным: «Nevermore». Весь во власти черной тени, в жажде предосуществлений, Я теперь хотел жестоко с этой птицей жуткий спор Завязать, — придвинул кресло ближе к бюсту… и воскресла — Там в мозгу моем воскресла, словно грозный приговор, Логика фантасмагорий, странно слитых в приговор С этим криком: «Nevermore…» И теперь меня глубоко волновали птицы Рока — Птицы огневые очи, устремленные в упор. Свет от лампы плавно лился, он над вороном струился… Я мучительно забылся, — мне казалось: с вечных пор Этот черный хмурый ворон здесь, со мной, с извечных пор Со зловещим: «Nevermore». Словно плавное кадило в кабинете воскурило Фимиамы, и туманы наплывали с алых штор. Простонал я: «Дух угрюмый, что томишь тяжелой думой? Обмани предвечным шумом крыльев черных, и Линор Позабыть совсем дай мне — дай забыть мою Линор!» Крикнул ворон: «Nevermore». «Прорицатель! Вестник горя! Птица-дьявол из-за моря! За душой моею выслал Ад тебя? — Хватай же, вор! Ветер… злая ночь… и стужа… В тихом доме смертный ужас — Сердце рвет он, этот ужас, строит склеп мне выше гор… Ну, хватай! Ведь после смерти позабуду я Линор!» Крикнул ворон: «Nevermore». «Прорицатель! Вестник горя! Птица-дьявол из-за моря! Там, где гнутся своды неба, есть же Божий приговор! Ты скажи — я жду ответа — там, за гранью жизни этой Прозвучит ли речь привета иль пройдет хоть тень Линор — Недостижной здесь навеки, нежной, ласковой Линор?» Крикнул ворон: «Nevermore». В непереносимой муке я стонал: «О, пусть разлуки Будет знаком это слово, мой последний приговор! Вынь из сердца клюв жестокий, ворон, друг мой, — одиноко Улетай в Аид далекий, сгинь в неведомый простор, Населенный привиденьями аидовый простор!» Крикнул ворон: «Nevermore». И зловещий, и сердитый все сидит он и сидит он, Черный ворон на Палладе, охраняя мой затвор… И от лампы свет струится… И огромная ложится От недвижной этой птицы на пол тень… И с этих пор Для души моей из мрака черной Тени — с этих пор — Нет исхода — Nevermore.ВОРОН[69]
Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий, Задремал я над страницей фолианта одного, И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал, Будто глухо так застукал в двери дома моего. «Гость, — сказал я, — там стучится в двери дома моего, Гость — и больше ничего». Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный, И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер. Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали Облегченье от печали по утраченной Линор, По святой, что там, в Эдеме, ангелы зовут Линор, — Безыменной здесь с тех пор. Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего, И, чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало: «Это гость лишь запоздалый у порога моего, Гость — и больше ничего». И, оправясь от испуга, гостя встретил я, как друга. «Извините, сэр иль леди, — я приветствовал его, — Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки, Так неслышны ваши стуки в двери дома моего, Что я вас едва услышал», — дверь открыл я: никого, Тьма — и больше ничего. Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный В грезы, что еще не снились никому до этих пор; Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака, Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне: «Линор!» Это я шепнул, и эхо прошептало мне: «Линор!» Прошептало, как укор. В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери И услышал стук такой же, но отчетливей того. «Это тот же стук недавний, — я сказал, — в окно за ставней, Ветер воет неспроста в ней у окошка моего, Это ветер стукнул ставней у окошка моего, — Ветер — больше ничего». Только приоткрыл я ставни — вышел Ворон стародавний, Шумно оправляя траур оперенья своего; Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо; С видом леди или лорда у порога моего, Над дверьми на бюст Паллады у порога моего Сел — и больше ничего. И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале, Видя важность черной птицы, чопорный ее задор, Я сказал: «Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен, О, зловещий древний Ворон, там, где мрак Плутон простер, Как ты гордо назывался там, где мрак Плутон простер?» Каркнул Ворон: «Nevermore». Выкрик птицы неуклюжей на меня повеял стужей, Хоть ответ ее без смысла, невпопад, был явный вздор; Ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться, Чтобы в полночь села птица, вылетевши из-за штор, Вдруг на бюст над дверью села, вылетевши из-за штор, Птица с кличкой «Nevermore». Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти Душу всю свою излил он навсегда в ночной простор. Он сидел, свой клюв сомкнувши, ни пером не шелохнувши, И шепнул я, вдруг вздохнувши: «Как друзья с недавних пор, Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор». Каркнул Ворон: «Nevermore!» При ответе столь удачном вздрогнул я в затишьи мрачном, И сказал я: «Несомненно, затвердил он с давних пор, Перенял он это слово от хозяина такого, Кто под гнетом Рока злого слышал, словно приговор, Похоронный звон надежды и свой смертный приговор Слышал в этом «Nevermore». И с улыбкой, как вначале, я, очнувшись от печали, Кресло к Ворону подвинул, глядя на него в упор, Сел на бархате лиловом в размышлении суровом, Что хотел сказать тем словом Ворон, вещий с давних пор, Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор, Хриплым карком: «Nevermore». Так, в полудремоте краткой, размышляя над загадкой, Чувствуя, как Ворон в сердце мне вонзал горящий взор, Тусклой люстрой освещенный, головою утомленной Я хотел склониться, сонный, на подушку на узор, Ах, она здесь не склонится на подушку на узор Никогда, о nevermore! Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма И ступили Серафимы в фимиаме на ковер. Я воскликнул: «О несчастный, это Бог от муки страстной Шлет непентес — исцеленье от любви твоей к Линор! Пей непентес, пей забвенье и забудь свою Линор!» Каркнул Ворон: «Nevermore!» Я воскликнул: «Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий! Дьявол ли тебя направил, буря ль из подземных нор Занесла тебя под крышу, где я древний Ужас слышу, Мне скажи, дано ль мне свыше там, у Галаадских гор, Обрести бальзам от муки, там, у Галаадских гор?» Каркнул Ворон: «Nevermore!» Я воскликнул: «Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий! Если только Бог над нами свод небесный распростер, Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми, Там обнимет ли, в Эдеме, лучезарную Линор — Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?» Каркнул Ворон: «Nevermore!» «Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол! — Я, вскочив, воскликнул: — С бурей уносись в ночной простор, Не оставив здесь, однако, черного пера, как знака Лжи, что ты принес из мрака! С бюста траурный убор Скинь и клюв твой вынь из сердца! Прочь лети в ночной простор!» Каркнул Ворон: «Nevermore!» И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья, С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор; Он глядит в недвижном взлете, словно демон тьмы в дремоте. И под люстрой, в позолоте, на полу, он тень простер, И душой из этой тени не взлечу я с этих пор. Никогда, о nevermore!ВОРОН[70]
Мрачной полночью бессонной, беспредельно утомленный, В книги древние вникал я и, стремясь постичь их суть, Над старинным странным томом задремал, и вдруг сквозь дрему Стук нежданный в двери дома мне почудился чуть-чуть. «Это кто-то, — прошептал я, — хочет в гости заглянуть, Просто в гости кто-нибудь!» Так отчетливо я помню — был декабрь, глухой и темный, И камин не смел в лицо мне алым отсветом сверкнуть, Я с тревогой ждал рассвета: в книгах не было ответа, Как на свете жить без света той, кого уж не вернуть, Без Линор, чье имя мог бы только ангел мне шепнуть В небесах когда-нибудь. Шелковое колыханье, шторы пурпурной шуршанье Страх внушало, сердце сжало, и, чтоб страх с души стряхнуть, Стук в груди едва умеря, повторил я, сам не веря: «Кто-то там стучится в двери, хочет в гости заглянуть, Поздно так стучится в двери, видно, хочет заглянуть Просто в гости кто-нибудь». Молча вслушавшись в молчанье, я сказал без колебанья: «Леди или сэр, простите, но случилось мне вздремнуть, Не расслышал я вначале, так вы тихо постучали, Так вы робко постучали…» И решился я взглянуть, — Распахнул пошире двери, чтобы выйти и взглянуть, — Тьма, — и хоть бы кто-нибудь! Я стоял, во мрак вперяясь, грезам странным предаваясь, Так мечтать наш смертный разум никогда не мог дерзнуть, А немая ночь молчала, тишина не отвечала, Только слово прозвучало — кто мне мог его шепнуть? Я сказал: «Линор» — и эхо мне ответ могло шепнуть… Эхо — или кто-нибудь? Я в смятенье оглянулся, дверь закрыл и в дом вернулся, Стук неясный повторился, но теперь ясней чуть-чуть. И сказал себе тогда я: «А, теперь я понимаю: Это ветер, налетая, хочет ставни распахнуть, Ну конечно, это ветер хочет ставни распахнуть… Ветер — или кто-нибудь?» Но едва окно открыл я, — вдруг, расправив гордо крылья, Перья черные взъероша и выпячивая грудь, Шагом вышел из-за штор он, с видом лорда древний ворон, И, наверно, счел за вздор он в знак приветствия кивнуть, Он взлетел на бюст Паллады, сел и мне забыл кивнуть. Сел — и хоть бы что-нибудь! В перья черные разряжен, так он мрачен был и важен! Я невольно улыбнулся, хоть тоска сжимала грудь: «Право, ты невзрачен с виду, но не дашь себя в обиду, Древний ворон из Аида, совершивший мрачный путь. Ты скажи мне, как ты звался там, откуда держишь путь?» Крикнул ворон: «Не вернуть!» Я не мог не удивиться, что услышал вдруг от птицы Человеческое слово, хоть не понял, в чем тут суть, Но поверят все, пожалуй, что обычного тут мало: Где, когда еще бывало, кто слыхал когда-нибудь, — Чтобы в комнате над дверью ворон сел когда-нибудь, Ворон с кличкой «Не вернуть»? Словно душу в это слово всю вложив, он замер снова, Чтоб опять молчать сурово и пером не шелохнуть. «Где друзья? — пробормотал я. — И надежды растерял я, Только он, кого не звал я, мне всю ночь терзает грудь… Завтра он в Аид вернется, и покой вернется в грудь…» Вдруг он каркнул: «Не вернуть!» Вздрогнул я от звуков этих, — так удачно он ответил, Я подумал: «Несомненно, он слыхал когда-нибудь Слово это слишком часто, повторял его всечасно За хозяином несчастным, что не мог и глаз сомкнуть, Чьей последней, горькой песней, воплотившей жизни суть, Стало слово «Не вернуть!» И в упор на птицу глядя, кресло к двери и к Палладе Я придвинул, улыбнувшись, хоть тоска сжимала грудь, Сел, раздумывая снова, что же значит это слово И на что он так сурово мне пытался намекнуть. Древний, тощий, темный ворон мне пытался намекнуть, Грозно каркнув: «Не вернуть!» Так сидел я, размышляя, тишины не нарушая, Чувствуя, как злобным взором ворон мне пронзает грудь, И на бархат однотонный, слабым светом озаренный, Головою утомленной я склонился, чтоб уснуть… Но ее, что так любила здесь, на бархате, уснуть, Никогда уж не вернуть! Вдруг — как звон шагов по плитам на полу, ковром покрытом! Словно в славе фимиама серафимы держат путь! «Бог, — вскричал я в исступленье, — шлет от страсти избавленье! Пей, о пей, Бальзам Забвенья — и покой вернется в грудь! Пей, забудь Линор навеки — и покой вернется в грудь!» Каркнул ворон: «Не вернуть!» «О вещун! Молю — хоть слово! Птица ужаса ночного! Буря ли тебя загнала, дьявол ли решил швырнуть В скорбный мир моей пустыни, в дом, где ужас правит ныне, — В Галааде, близ Святыни, есть бальзам, чтобы заснуть? Как вернуть покой, скажи мне, чтобы, все забыв, заснуть?» Каркнул ворон: «Не вернуть!» «О вещун! — вскричал я снова, — птица ужаса ночного! Заклинаю небом, Богом! Крестный свой окончив путь, Сброшу ли с души я бремя? Отвечай, придет ли время, И любимую в Эдеме встречу ль я когда-нибудь? Вновь вернуть ее в объятья суждено ль когда-нибудь?» Каркнул ворон: «Не вернуть!» «Слушай, адское созданье! Это слово — знак прощанья! Вынь из сердца клюв проклятый! В бурю и во мрак — твой путь! Не роняй пера у двери, лжи твоей я не поверю! Не хочу, чтоб здесь над дверью сел ты вновь когда-нибудь! Одиночество былое дай вернуть когда-нибудь!» Каркнул ворон: «Не вернуть!» И не вздрогнет, не взлетит он, все сидит он, все сидит он, Словно демон в дреме мрачной, взгляд навек вонзив мне в грудь, Свет от лампы вниз струится, тень от Ворона ложится, И в тени зловещей птицы суждено душе тонуть… Никогда из мрака душу, осужденную тонуть, Не вернуть, о, не вернуть!ВОРОН[71]
Как-то полночью глубокой размышлял я одиноко Над старинным фолиантом — над преданьем давних лет, И охваченный дремотой, стук услышал, но отчета Дать не мог: стучится кто-то, увидав в окошке свет. «Гость, — промолвил я, — стучится в дверь мою, завидев свет, — Ничего другого нет!» Вспоминаю все я снова. Это был декабрь суровый И поленьев блеск багровый тускло падал на паркет. Тщетно ждал зари рожденья, в книгах не найдя забвенья. Я хотел забыть Линору — ранней молодости свет! Ангелы зовут Линорой — деву, свет ушедших лет. В мире имени ей нет! Шорох шелковый, не резкий, алой, легкой занавески Наполнял безмерно страхом, погружая в смутный бред! Сердце бедное смиряя, все стоял я, повторяя: «То, наверно, гость, блуждая, ищет дверь? Кто даст ответ? Гость, доселе незнакомый, в дверь стучится? Где ответ? Только он, другого нет!» И душа окрепла сразу. Не колеблясь уж ни разу, «Сэр, — я молвил, — или леди, извинения мне нет! Засыпал я, вы не знали, слишком слабо вы вначале, Слабо в дверь мою стучали. Но, заслышав вас, в ответ Двери распахнул широко, распахнул я их в ответ: Только тьма, иного нет!» Окруженный мглою ночи, напрягал я тщетно очи, Грезил. Грез таких доныне никогда не видел свет. Недоступен мрак был взору. Из безмолвного простора Слово лишь одно «Линора» долетело как привет. Я ли прошептал: «Линора»? Эхо ль донесло ответ? Ничего другого нет! В комнату с душой горящей я вернулся, и стучащий Звук раздался: был сильней он, громче, и в ответ Я промолвил: «Окон раму ветер трогает упрямо, Посмотрю я и увижу, разгадаю я секрет. Успокоюсь я немного и узнаю, в чем секрет? Ветер это или нет?» Ставню я раскрыл с усильем и, подняв высоко крылья, В комнату вошел степенно Ворон, живший сотню лет. Мне не оказав почтенья, он прошел без промедленья, И на бюст Паллады сел он, тенью смутною одет, Сел на бюст над самой дверью, сумраком полуодет, Вверх взлетел, другого нет. Важен был, собой доволен. Улыбнуться поневоле Он заставил, хоть грустил я, утомлен чредою бед. И ему сказал нестрого: «Ворон, севший у порога, Ты оставил царство Ночи, прилетев сюда на свет. Как ты звался у Плутона, прежде чем увидел свет?» Каркнул он: «Возврата нет!» Удивился я ответу, что я мог сказать на это? Понимал я: в слове странном никакого смысла нет. Человеку не случалось, до сих пор не доводилось Видеть птицу, чтоб садилась в комнате, как вестник бед, Птицу-зверя, здесь на бюсте и в жилище тенью бед, С именем «Возврата нет!» Одинок, печален был он, лишь одно произносил он! Душу вкладывал всецело в каждый странный свой ответ. Слова он не знал другого. Крылья он сложил сурово. Я шепнул: «Друзья, надежды — все ушли, пропал и след, Ну а ты сюда вернешься, лишь ко мне придет рассвет?» Каркнул он: «Возврата нет!» И хотя ответ был мрачен — удивительно удачен, Я сказал: «Одно запомнил, что узнал он в доме бед, У гонимого судьбою заучил он это слово. Неудачи и невзгоды были спутниками лет, И в печальные напевы смысл проник за много лет, Горький смысл: «Возврата нет!» Я невольно улыбнулся, и к нему я повернулся, Кресло к двери пододвинул, где скрывался мой сосед. Я на бархат опустился и в раздумье погрузился, Спрашивал: зачем явился он, свидетель прошлых лет? Что в пророчестве суровом он принес из мрака лет, Каркая: «Возврата нет»? Погружен в свои догадки, на него смотрел украдкой, И душе моей молчавшей страшен глаз его был свет. Думал, к бархату склоненный, лампой ночи освещенный, Никогда здесь озаренный не увижу силуэт, Здесь, на бархате, ни разу не увижу силуэт: Умершим возврата нет! Мне почудилось дыханье ароматное, шуршанье Ангельских шагов во мраке, на ковре их легкий след. Я воскликнул: «Бог, наверно, посылает мне спасенье? Получу я утешенье после стольких горьких лет? Позабуду я Линору, спутницу минувших лет!» Каркнул он: «Возврата нет!» Я вскричал: «О Ворон вещий! Ты, быть может, дух зловещий? Занесен ты Сатаною или бурей? Дай ответ! В этой горестной пустыне, в доме, данном мне отныне, Слышу ужас, но увидев Галаадских гор хребет, Обрету ль бальзам желанный, где бессмертных гор хребет?» Каркнул он: «Возврата нет!» «Птица ты иль дух, не знаю! Но тебя я заклинаю Господом, пред кем склонил я сердце, небом всех планет! Мне ответь: «Верну ли снова деву райского простора, Ту, кого зовут Линорой ангелы среди бесед? Имя чье в садах Эдема в звуке ангельских бесед?» Каркнул он: «Возврата нет!» «Словом этим заклейменный, птица! Дьявол! В мир Плутона, — Закричал я, — в бурю возвратись, покинь наш свет! Не оставь пера, однако, лжи своей безмерной знака, Что сюда принес из мрака. Удались, сгинь, словно бред! Вынь из сердца клюв — и радость обрету, забыв твой бред!» Каркнул он: «Возврата нет!» Черные не дрогнут перья. Он сидит, сидит над дверью, На Палладе молчаливо, неизменный мой сосед. И глазами между тем он все глядит, глядит, как демон: И грозит как будто всем он! Тень ложится на паркет, И душе моей из тени, что ложится на паркет, В прежний мир — возврата нет!ВОРОН[72]
Раз в тоскливый час полночный я искал основы прочной Для своих мечтаний — в дебрях философского труда. Истомлен пустой работой, я поник, сморен дремотой, Вдруг — негромко стукнул кто-то. Словно стукнул в дверь… Да, да! «Верно, гость, — пробормотал я, — гость стучится в дверь. Да, да! Гость пожаловал сюда». Помню я ту ночь доныне, ночь декабрьской мглы и стыни, — Тлели головни в камине, вспыхивая иногда… Я с томленьем ждал рассвета; в книгах не было ответа, Чем тоска смирится эта об ушедшей навсегда, Что звалась Линор, теперь же — в сонме звездном навсегда Безымянная звезда. Шорох шелковый портьеры напугал меня без меры: Смяла, сжала дух мой бедный страхов алчная орда. Но вселяет бодрость — слово. Встал я, повторяя снова: «Это гость, — так что ж такого, если гость пришел сюда? Постучали, — что ж такого? Гость пожаловал сюда. Запоздалый гость. Да, да!» Нет, бояться недостойно. И отчетливо, спокойно «Сэр, — сказал я, — или мэдем, я краснею от стыда: Так вы тихо постучали, — погружен в свои печали, Не расслышал я вначале. Рад, коль есть во мне нужда». Распахнул я дверь: «Войдите, если есть во мне нужда. Милости прошу сюда». Никого, лишь тьма ночная! Грозный ужас отгоняя, Я стоял; в мозгу сменялась странных мыслей череда. Тщетно из глухого мрака ждал я отклика иль знака. Я шепнул: «Линор!» — однако зов мой канул в никуда, Дальним эхом повторенный, зов мой канул в никуда. О Линор, моя звезда! Двери запер я надежно, но душа была тревожна. Вдруг еще раз постучали, явственнее, чем тогда. Я сказал: «Все ясно стало: ставни… Их порывом шквала, Видимо, с крючка сорвало, — поправимая беда. Ставни хлопают и только, — поправимая беда. Ветер пошутил — ну да!» Только я наружу глянул, как в окошко Ворон прянул, Древний Ворон — видно, прожил он несчетные года. Взмыл на книжный шкаф он плавно и расселся там державно, Не испытывая явно ни смущенья, ни стыда, Там стоявший бюст Минервы оседлал он без стыда, Словно так сидел всегда. Я не мог не удивиться: эта траурная птица Так была невозмутима, так напыщенно-горда. Я сказал: «Признаться надо, облик твой не тешит взгляда; Может быть, веленьем ада занесло тебя сюда? Как ты звался там, откуда занесло тебя сюда?» Ворон каркнул: «Никогда!» Усмехнулся я… Вот ново: птица выкрикнула слово; Пусть в нем смысла и немного, попросту белиберда, Случай был как будто первый, — знаете ль иной пример вы, Чтоб на голову Минервы взгромоздилась без стыда Птица или тварь другая и в лицо вам без стыда Выкрикнула: «Никогда!» Произнесши это слово, черный Ворон замер снова, Как бы удовлетворенный завершением труда. Я шепнул: «Нет в мире этом той, с кем связан я обетом, Я один. И гость с рассветом улетит — Бог весть куда, Он, как все мои надежды, улетит Бог весть куда». Ворон каркнул: «Никогда!» Изумил пришелец мрачный репликой меня удачной. Но ведь птицы повторяют, что твердят их господа. Я промолвил: «Твой хозяин, видно, горем был измаян И ответ твой не случаен: в нем та, прежняя, беда. Может быть, его терзала неизбывная беда И твердил он: «Никогда!» Кресло я придвинул ближе: был занятен гость бесстыжий, Страшный Ворон, что на свете жил несчетные года. И, дивясь его повадкам, предавался я догадкам, — Что таится в слове кратком, принесенном им сюда, Есть ли смысл потусторонний в принесенном им сюда Хриплом крике «Никогда!»? Я сидел молчаньем скован, взглядом птицы околдован, Чудилась мне в этом взгляде негасимая вражда. Средь привычного уюта я покоился, но смута В мыслях властвовала люто… Все, что было, как всегда, Лишь ее, что вечерами в кресле нежилась всегда, Здесь не будет никогда! Вдруг незримый дым кадильный мозг окутал мой бессильный, — Что там — хоры серафимов или облаков гряда? Я вскричал: «Пойми, несчастный! Этот знак прямой и ясный — Указал Господь всевластный, что всему своя чреда: Потерпи, придет забвенье, ведь всему своя чреда». Ворон каркнул: «Никогда!» «Птица ль ты, вещун постылый, иль слуга нечистой силы, — Молвил я, — заброшен бурей или дьяволом сюда? Отвечай: от мук спасенье обрету ли в некий день я, В душу хлынет ли забвенье, словно мертвая вода. И затянет рану сердца, словно мертвая вода?» Ворон каркнул: «Никогда!» «Птица ль ты, вещун постылый, иль слуга нечистой силы, Заклинаю небом, адом, часом Страшного Суда, — Что ты видишь в днях грядущих: встречусь с ней я в райских кущах В миг, когда среди живущих кончится моя страда? Встречусь ли, когда земная кончится моя страда?» Ворон каркнул: «Никогда!» Встал я: «Демон ты иль птица, но пора нам распроститься. Тварь бесстыдная и злая, состраданью ты чужда. Я тебя, пророка злого, своего лишаю крова, Пусть один я буду снова, — прочь, исчезни без следа! Вынь свой клюв из раны сердца, сгинь навеки без следа!» Ворон каркнул: «Никогда!» И, венчая шкаф мой книжный, неподвижный, неподвижный, С изваяния Минервы не слетая никуда, Восседает Ворон черный, несменяемый дозорный, Давит взор его упорный, давит, будто глыба льда. И мой дух оцепенелый из-под мертвой глыбы льда Не восстанет никогда.ВОРОН[73]
Это было мрачной ночью; сны являлись мне воочью, В смутном книжном многострочье мысль блуждала тяжело. Над томами я склонился, в них постигнуть суть пытался, Вдруг как будто постучался кто-то в темное стекло… «Это путник, — прошептал я, — мне в оконное стекло Постучал — и все прошло». Помню этот час, как ныне: мир дрожал в декабрьской стыни, Умирал огонь в камине… О, скорей бы рассвело! Поверял я книгам горе по утерянной Леноре — Это имя в райском хоре жизнь вторую обрело, Осчастливленное небо это имя обрело, А от нас оно ушло. И под шорохи гардины в сердце множились картины, Где сплеталось воедино грез несметное число. Чтоб избавиться от дрожи, я твердил одно и то же: «Что же страшного? Прохожий постучал слегка в стекло, Гость какой-нибудь захожий постучал, придя, в стекло, Постучал — и все прошло». Так прогнав свою тревогу, я сказал: «Вздремнул немного, Извините, ради Бога, наваждение нашло. Вы так тихо постучали, что подумал я вначале — Не снега ли, не ветра ли застучали о стекло? Я подумал: звук случайный, вроде ветра о стекло, Отшумел — и все прошло». Дверь открыл и на ступени вышел я — лишь тьма и тени. В сердце скопище видений умножалось и росло, И, хоть все кругом молчало, дважды имя прозвучало — Это я спросил: «Ленора?» (так вздыхают тяжело), И назад печальным эхом, вдруг вздохнувшим тяжело, Имя вновь ко мне пришло. И прикрыл я дверь несмело. Как в огне, душа горела. Вдруг от стука загудело вновь оконное стекло. Значит, это не случайно! Кто там: друг иль недруг тайный? Жить под гнетом этой тайны сердце больше не могло, «Время, — молвил я, — пришло». И тогда окно открыл я, и в окне, расправив крылья, Показался черный Ворон — что вас, сударь, привело? — И на статую Паллады взмыл он, точно так и надо, Черный, сел, вонзая когти в мрамор, в белое чело; И пока взлетал он с пола изваянью на чело, И минуты не прошло. Кто бы мог не удивиться? Был он важен, как патриций. Все меня в спесивой птице в изумленье привело. Я спросил, забыв печали: «Как тебя в Аиде звали, В царстве ночи, где оставил ты гнездо — или дупло? Как тебя в Аиде кличут, чтоб оставил ты дупло?» Ворон каркнул: «Все прошло!» Странно! Гость мой кривоносый словно понял смысл вопроса. Вот ведь как: сперва без спроса залетел ко мне в тепло, А теперь дает ответы (пусть случайно, суть не это), В перья черные одетый, сев богине на чело; Кто видал, чтоб сел богине на высокое чело Тот, чье имя «Все прошло»? Он сказал — и смолк сурово, словно сказанное слово Было сутью и основой, тайну тайн произнесло, Сам же, словно изваянье, он застыл в глухом молчанье, И спросил я: «Где мечтанья, расцветавшие светло? Ты и сам, как все, покинешь дом мой — лишь бы рассвело!» Ворон каркнул: «Все прошло!» Как же я не понял сразу, что твердит от раза к разу Он одну лишь эту фразу — то, что в плоть его вошло, — Оттого, что жил он прежде в черно-траурной одежде Там, где места нет надежде (одеянье к месту шло!) И хозяину былому лишь одно на память шло: «Все прошло, прошло, прошло!» И не то, чтоб стал я весел, — к гостю я привстал из кресел (Он на статуе, как прежде, громоздился тяжело): «Темной вечности ровесник, злой ты или добрый вестник? Что за вести мне, кудесник, изреченье принесло — Неуклюжий, тощий, вещий, что за вести принесло Это — дважды — «все прошло»? Мысли полнились разладом, и застыл я с гостем рядом. Я молчал. Горящим взглядом душу мне насквозь прожгло. Тайна мне уснуть мешала, хоть склонился я устало На подушки, как склоняла и она порой чело… Никогда здесь, как бывало, больше милое чело Не склонится — все прошло. Мнилось: скрытое кадило серафимы белокрыло Раскачали так, что было все от ладана бело, И вскричал я в озаренье: «О несчастный! Провиденье В пенье ангелов забвенье всем печалям принесло!» От печали по Леноре избавленье принесло!» Ворон каркнул: «Все прошло!» «О пророк! — спросил его я, — послан будь хоть сатаною, Кто б ни дал тебе, изгою, колдовское ремесло, Мне, всеведущий, ответствуй: есть ли в скорбном мире средство, Чтоб избавиться от бедствий, чтоб забвенье снизошло?» Где бальзам из Галаада, чтоб забвенье снизошло?» Ворон каркнул: «Все прошло!» «О пророк! — призвал его я. — Будь ты даже сатаною, Если что-нибудь святое живо в нас всему назло, — Отвечай: узрю ли скоро образ умершей Леноры? Может, там, в Эдеме, взору он откроется светло, В звуках ангельского хора он придет ко мне светло?» Ворон каркнул: «Все прошло!» «Хватит! Птица или бес ты — для тебя здесь нету места! — Я вскричал. — В Аид спускайся, в вечно черное жерло! Улетай! Лишь так, наверно, мир избавится от скверны, Хватит этой лжи безмерной, зла, рождающего зло! Перестань когтить мне сердце, глядя сумрачно и зло!» Ворон каркнул: «Все прошло!» Вечно клювом перья гладя, вечно адским взором глядя, Когти мраморной Палладе навсегда вонзил в чело, Он застыл, и тень ложится, и душе не возродиться В черной тени мрачной птицы, черной, как ее крыло; И душе из тени — черной, как простертое крыло, Не воспрянуть… Все прошло!ВОРОН[74]
В час, когда, клонясь все ниже к тайным свиткам чернокнижья, Понял я, что их не вижу и все ближе сонный мор, — Вдруг почудилось, что кто-то отворил во тьме ворота, Притворил во тьме ворота и прошел ко мне во двор. «Гость, — решил я сквозь дремоту, — запоздалый визитер, Неуместный разговор!» Помню: дни тогда скользили на декабрьском льду к могиле, Тени тления чертили в спальне призрачный узор. Избавленья от печали чаял я в рассветной дали, Книги только растравляли тризну грусти о Линор. Ангелы ее прозвали — деву дивную — Линор: Слово словно уговор. Шелест шелковый глубинный охватил в окне гардины — И открылась мне картина бездн, безвестных до сих пор, — И само сердцебиенье подсказало объясненье Бесконечного смятенья — запоздалый визитер. Однозначно извиненье — запоздалый визитер. Гость — и кончен разговор! Я воскликнул: «Я не знаю, кто такой иль кто такая, О себе не объявляя, в тишине вошли во двор. Я расслышал сквозь дремоту; то ли скрипнули ворота, То ли, вправду, в гости кто-то — дама или визитер!» Дверь во двор открыл я: кто ты, запоздалый визитер? Тьма — и кончен разговор! Самому себе не веря, замер я у темной двери, Словно все мои потери возвратил во мраке взор. — Но ни путника, ни чуда: только ночь одна повсюду — И молчание, покуда не шепнул я вдаль: «Линор?» И ответило оттуда эхо тихое: Линор… И окончен разговор. Вновь зарывшись в книжный ворох, хоть душа была как порох, Я расслышал шорох в шторах — тяжелей, чем до сих пор. И сказал я: «Не иначе кто-то есть во тьме незрячей — И стучится наудачу со двора в оконный створ». Я взглянул, волненье пряча: кто стучит в оконный створ? Вихрь — и кончен разговор. Пустота в раскрытых ставнях; только тьма, сплошная тьма в них; Но — ровесник стародавних (пресвятых!) небес и гор — Ворон, черен и безвремен, как сама ночная темень, Вдруг восстал в дверях — надменен, как державный визитер, На плечо к Палладе, в тень, он, у дверей в полночный двор, Сел — и кончен разговор. Древа черного чернее, гость казался тем смешнее, Чем серьезней и важнее был его зловещий взор. «Ты истерзан, гость нежданный, словно в схватке ураганной, Словно в сече окаянной над водой ночных озер. Как зовут тебя, не званный с брега мертвенных озер?» Каркнул Ворон: «Приговор!» Человеческое слово прозвучало бестолково, Но загадочно и ново… Ведь никто до этих пор Не рассказывал о птице, что в окно к тебе стучится, — И на статую садится у дверей в полночный двор, Величаво громоздится, как державный визитер, И грозится: приговор! Понапрасну ждал я новых слов, настолько же суровых, — Красноречье — как в оковах… Всю угрозу, весь напор Ворон вкладывал в звучанье клички или прорицанья; И сказал я, как в тумане: «Пусть безжизненный простор. Отлетят и упованья — безнадежно пуст простор». Каркнул Ворон: «Приговор!» Прямо в точку било это повторение ответа — И решил я: Ворон где-то подхватил чужой повтор, А его Хозяин прежний жил, видать, во тьме кромешной И твердил все безнадежней, все отчаянней укор, — Повторял он все прилежней, словно вызов и укор, Это слово — приговор. Все же гость был тем смешнее, чем ответ его точнее, — И возвел я на злодея безмятежно ясный взор, Поневоле размышляя, что за присказка такая, Что за тайна роковая, что за притча, что за вздор, Что за истина седая, или сказка, или вздор В злобном карке: приговор! Как во храме, — в фимиаме тайна реяла над нами, И горящими очами он разжег во мне костер. — И в огне воспоминаний я метался на диване: Там, где каждый лоскут ткани, каждый выцветший узор Помнит прошлые свиданья, каждый выцветший узор Подкрепляет приговор. Воздух в комнате все гуще, тьма безмолвья — все гнетущей, Словно кто-то всемогущий длань тяжелую простер. «Тварь, — вскричал я, — неужели нет предела на пределе Мук, неслыханных доселе, нет забвения Линор? Нет ни срока, ни похмелья тризне грусти о Линор?» Каркнул Ворон: «Приговор!» «Волхв! — я крикнул. — Прорицатель! Видно, Дьявол — твой создатель! Но, безжалостный Каратель, мне понятен твой укор. Укрепи мое прозренье — или просто подозренье, — Подтверди, что нет спасенья в царстве мертвенных озер, — Ни на небе, ни в геенне, ни среди ночных озер!» Каркнул Ворон: «Приговор!» «Волхв! — я крикнул. — Прорицатель! Хоть сам Дьявол твой создатель, Но слыхал и ты, приятель, про божественный шатер. Там, в раю, моя святая, там, в цветущих кущах рая. — Неужели никогда я не увижу вновь Линор? Никогда не повстречаю деву дивную — Линор?» Каркнул Ворон: «Приговор!» «Нечисть! — выдохнул я. — Нежить! Хватит душу мне корежить! За окошком стало брезжить — и проваливай во двор! С беломраморного трона — прочь, в пучину Флегетона! Одиночеством клейменный, не желаю слышать вздор! Или в сердце мне вонзенный клюв не вынешь с этих пор?» Каркнул Ворон: «Приговор!» Там, где сел, где дверь во двор, — он все сидит, державный Ворон, Все сидит он, зол и черен, и горит зловещий взор. И печальные виденья чертят в доме тени тленья, Как сгоревшие поленья, выткав призрачный узор, — Как бессильные моленья, выткав призрачный узор. Нет спасенья — приговор!ПРИЗНАНИЕ[75]
Фантазию поэта разгадать Трудней всего; невидному другими Птенцу в гнезде назначено лежать… Таинственное в стих я скрою имя. Ищи к строкам поближе, о химере Упомни и об амулете, думай О всем, в сердцах таимом, и в размере Еще ищи, в согласных легком шуме, В предлоге, прилагательном, союзе И в знаках препинания; отвагой Исполнись: здесь не гордиев дан узел — Значит, не должно пользоваться шпагой. Слова, их три здесь, — их неуловимо Тебе поэт произносил не раз — Они прозрачнят стих, — душа любимой Всегда сквозит в молчаньи милых глаз; Синоним истины они, — скрывать Я их в стихах задумал; гладко Я стансы довожу к концу… Искать? — О, тщетный труд: не разгадать загадки!ВОЗЛЮБЛЕННОЙ В ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ[76]
Фиалками пленительных очей, Ярчайших, точно звезды Диоскуры, На эти строки посмотри скорей: Ты знала ли искусней трубадура? Я имя скрыл твое средь этих строк; Его ищи, в сплетенья слов вникая: Оно — мой стяг, мой лавровый венок, Мой талисман; твержу его всегда я. В стихе значенья полон каждый знак. Найти сам принцип здесь всего важнее. Мой узел гордиев завязан так, Чтоб не был нужен меч, клянусь тебе я. Найти тут сможет взор прекрасный твой, Сияющий нетленным, чистым светом, Три слова, что составят имя той, Чье превосходство ведомо поэтам. Нет! Пусть, как Мендес Пинто, буквы лгут, Дух истины скрыт в их глубинах свято. Оставь решать загадку; тщетен труд: Ее не разгадаешь никогда ты.ДРУГУ СЕРДЦА В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА[77]
Фиалковым очам, затмившим Диоскуров, Предназначаю я цепочку строк моих. В ней имя нежное властительницы их, Равно таясь от глаз профанов и авгуров, Божественно царит. Его затерян след. Ищи внимательно мой талисман заветный, Прекрасный талисман, бесценный амулет, Не пропусти в стихах и буквы неприметной, — Не то напрасен труд, не то прервется нить, Не в узел гордиев затянутая мною. Не надобен здесь меч. Догадкою одною Возможно, кружево разъяв, соединить Три слова, что не раз любой бы счел своими, Когда, о признанных поэтах говоря, Поэт хотел назвать достойнейшее имя. Верни ж его из тьмы, очами озаря. Здесь все — твой вымысел, Фернандо Мендес Пинто. Лишь буквы здесь не лгут. Но как же их найти? Оставь бесплодный труд. К тем буквам нет пути. Вовек, сокровище, не выйдешь из глубин ты.ТОМ. L. S (Марии Луизе Шйю)[78]
Из всех, кому с тобой свиданье — утро, Из всех, кому с тобой разлука — ночь, Когда на небе вычеркнуто солнце Священное — из всех, кто в горькой доле Тебя благословляет ежечасно За жизнь и за надежду, а преболе Всего — за воскресенье схороненной Глубоко веры в Правду и Гуманность; Из всех, кому на богохульном ложе Отчаяния смертного подняться Дано при ласковых твоих словах: «Да будет свет!» исполнившихся странно, Словах, светящих в ангельских глазах; Из всех, кто более всего обязан Одной тебе, чья благодарность нынче Ближе всего подходит к поклоненью, Вернейшая, покорнейшего вспомни И думай: тот, кто пишет эти строки, Такие слабые, дрожит при мысли, Что с ангельской душой он говорит.МАРИИ ЛУИЗЕ ШЙЮ[79]
Еще недавно автор этих строк, В неодолимой гордости рассудком Упрямо утверждая «силу слова», Говаривал, что ни единой мысли Доступной человеку нет, пока Мы знаком языка ее не свяжем: И вот теперь — как бы ему в насмешку — Два слова — два чужих двугласных звука По-итальянски, — повторять бы только Их ангелам, загрезившим по росам — Светлиночкам в Гермонских косогорах Жемчужисто пронизанных луной, Подобных сокровенным думам, или Лишь душам дум, божественным виденьям, Быть может, выразимым только песней На Лютне Израфеля (Серафима, Которому Творцом дан дивный голос Певучей всех!). А мне? — Увы, бессильно Мое перо в моих руках дрожащих — Невыразимо имя дорогое, Тобой произнесенное, — ни мыслить, Ни записать, ни даже только грезить Не дано мне, затем, что перед этой Мечтою недвижимой и прекрасной, Раскрыв глаза огромные, стою Как у ворот раскрытых прямо в грезу. Направо, влево и вперед открылась Поверх величественнейшей гробницы Без края даль в пурпуровых туманах, — Но весь простор в едином: ты одна.К М. Л. Ш.[80]
Еще недавно автор этих строк В спесивом упоенье интеллектом До неба «силу слов» превозносил И утверждал, что мысли возникают Не иначе как в форме языка; Но вот, в насмешку ль над его хвальбой, Два слова — нежных, слабых, чужезвучных, Два неземных (о, ангелам бы их Шептать во сне над лунною «росою, Жемчужной нитью легшей на Гермон») — Из бездны сердца тихо поднялись: Немысли, полумысли, души мыслей — Волшебней и божественней тех грез, Что Израфил (певец «с наисладчайшим Из всех восславивших Аллаха гласом») Посмел бы в песнь вложить. И я — немею. Рука застыла; брошено перо. Тебе молиться именем твоим Не смею: ни писать, ни петь, ни думать; И чувствовать устал — оцепененье Владеет мной пред златовратным сном, Оцепененье сковывает чувство. Робею, очарован, — даль безмерна; Вперед, направо ль, влево ль погляжу — Туман багровый застилает землю, И лишь один-единственный мираж Горит у горизонта — ты! ты! ты!ULALUME[81]
Небеса были хмуро бесстрастны, листья дрогли на ветке сухой, листья вяли на ветке сухой, в октябре октябрем безучастным эта ночь залегла надо мной… Это было в Уире ненастном, в заколдованной чаще лесной, где белеют в просвете неясном воды Обера мертвой волной. Там шел я аллеей Титана в кипарисах с душою вдвоем, я с моею Психеей вдвоем. А в груди словно пламя вулкана разливалось сернистым огнем, словно лава катилась ручьем, как в странах снегов и тумана, где солнце не греет лучом, где Янек во льдах океана застыл, не согретый лучом. Мы шли в разговоре бесстрастном, думы о прошлом одна за другой увядали, как листья на ветке сухой. Нам был чужд в октябре безучастном холод ночи, дышавшей зимой, этой ночи ночей над землей. Были чужды в Уире ненастном чары мрачные чащи лесной и Обер, в просвете неясном мелькавший мертвою волной. И вот уж ночь побледнела, намекнула на утро звезда, наутро, наутро склонилась звезда, вдали полоса забелела: забелела рассветом, — тогда роговидный, бледнея, несмело полумесяц взошел, как всегда, полумесяц Астарты несмело двуалмазный поднялся тогда. Я сказал: он нежнее Дианы, он плывет в волнах вечной тоски, упивается вздохом тоски, — он увидел слезой неустанной орошенную бледность щеки и вышел, как вестник желанный, и шепчет: «Те дни далеки, в могиле не знают тоски». За созвездием Льва он, желанный, возвещает забвенье тоски. Но, закрывшись в смущеньи рукою, Психея вскричала: «Страшна мне звезда, что несменно бледна… Не медли, не медли! Со мною улетим, улетим… Я должна!» И, рыдая, в пыли за собою перья крыльев влачила она, так плачевно влачила она! Я воскликнул: «К чему колебанье? Мы пойдем в этот трепетный свет, мы вдохнем этот трепетный свет, — в сибиллическом блеске сиянья возрожденной надежды привет… Мы смело доверим сиянью, что сквозь тьму нас выводит на свет, что сквозь тьму шлет далекий привет». Утешал я Психею, лаская, отгонял рой сомнений и дум, побеждал рой сомнений и дум, и шли мы, аллею кончая, — вдруг пред нами — печален, угрюм, склеп могильный… Исполненный дум, я спросил: «Скажи, дорогая, что за надпись смущает мой ум?» И услышал в ответ: «Ulalume! — Вот гробница твоей Ulalume…» Сердце стало хмуро, бесстрастно, как лист истомленный, сухой, как лист пожелтевший, сухой… «Это точно Октябрь безучастный! — я вскричал, — здесь минувшей зимой проходил я аллеей глухой, проносил бремя скорби глухой… Что за демон коварный и властный управляет моею стопой в эту ночь из ночей над землей? Я узнал тебя, Уир ненастный, я узнал тебя, Обер лесной, как обитель волшебницы властной, заслоненный болотною мглой!»ULALUME[82]
На деревьях листы облетали, и осенний темнел небосвод, безотрадный темнел небосвод: это было в ночь тихой печали, в октябре, в тот нерадостный год; уж осенние духи витали у таинственных оберских вод, поздней ночью уныло витали в мрачном Вире, у оберских вод. Здесь бродил я в аллее прекрасной кипарисов, с Душою моей, кипарисов, с Психеей моей; сердце было тревожно и страстно, беспокойно, как горный ручей, как насыщенный лавой ручей, что с вершины Яанек бесстрастной мчится вниз средь полярных ночей; бурно мчится с вершины бесстрастной, средь безмолвья полярных ночей. Наши речи обдуманны были, — нашей мысли был медленен ход, нашей мысли неясен был ход; мы число, время года забыли, ночь другую в тот памятный год… Мы не знали, как близко мы были от знакомых нам оберских вод, в мрачном Вире, где нам говорили, будто ведьмы ведут хоровод. Еще ночь не исчезла, не скрылась, хоть светила уж грезили днем, хотя звезды уж грезили днем… Перед нами вдруг даль озарилась тусклым светом, волшебным огнем… И Астарты звезда появилась в фантастическом блеске своем, и внезапно она появилась в силуэте рогатом своем. Я сказал: «Она лучше Дианы; в море грез она тихо плывет, в море вздохов печально плывет; она знает про жгучие раны в моем сердце, где горе живет, и прошла мимо звездной поляны, где созвездие Льва ее ждет, где разгневанный Лев ее ждет, и зовет нас в надзвездные страны, к счастью мирных небес нас зовет». Но Психея мне грустно твердила: «Посмотри, она светит во мгле, я боюсь, она светит во мгле… Ах, бежим от нее, сколько силы!» И со страхом на бледном челе, и со страхом она опустила свои светлые крылья к земле, и, рыдая, она опустила свои нежные крылья к земле. «О, не бойся звезды! — я ответил, — она счастья и радости дочь, она неба прекрасная дочь; посмотри, как отраден и светел ее лик в эту темную ночь! Она светит для нас — я заметил — она хочет нам в горе помочь; озаряя наш путь — я заметил — она только нам хочет помочь». Так я спорил с сестрой легкокрылой, отвлекая от тягостных дум, удаляясь от тягостных дум, и пришли мы к гробнице унылой, но не понял пытливый мой ум, не постиг утомленный мой ум, что за надпись над этой могилой. А Психея прочла: «Ulalume, здесь погибшая спит Ulalume». Мои думы тотчас омрачились и померкли, как тот небосвод, как осенний померк небосвод, и я вспомнил те дни, что забылись, ту же темную ночь в прошлый год, когда я и Психея явились в эту местность у оберских вод; с нашей странною ношей явились, в местность Вира, у оберских вод… О, зачем мы сюда возвратились, что за демон увлек нас вперед? — Я узнал те места, что забылись, что я видел в наш первый приход, где осенние листья кружились и где ведьмы ведут хоровод!УЛЯЛЮМ[83]
Туманилось небо и стыло, Листва опадала сухой — Пожелклой, примятой, сухой. Никогда не забыть! Это было В Октябре, в полуночи глухой, Там, где озеро Обер унылое Мутнело застылой тоской, В тусклом Вире, в лесной и унылой Стороне, истомленной тоской. Среди кипарисов Титанов Однажды я шел со своей Душой, со Психеей своей. О, тогда огневее вулканов Было сердце! Оно горячей Было лавы самой, — горячей Лавы с кратера Янек, что, канув В ледяные просторы полей, Уносится — с Янека, канув — В дикий холод полярных полей. Вели мы спокойный и строгий Разговор, а слова были сухи; Ничего мы не помнили — сухи, Как трава на октябрьской дороге, Были тусклые памяти звуки. Мы забыли о многом — о многом — И об озере сером и строгом, И о каре жестокой разрухи — Мы забыли, что этой дорогой Мы когда-то дошли до разлуки. Так вот шли мы. И ночь постарела — Предрассветные звезды вставали — Обещали нам утро. Устали Мы как будто… Дорога светлела — Лунным светом она пробелела — Полумесяц, сверкнувший несмело, Поднял ясные рожки в печали — И алмазы Астарты несмелой Просверкали из дали в печали. Я заметил: «Теплее Дианы Астарта, — по странам томленья Она движется тенью томленья, Она видит сердечные раны, Утишает в сердцах треволненья — Из Созвездия Льва, из Нирваны Восходит она, чтоб забвенья Указать нам дорогу, забвенья, Сквозь Созвездие Льва, из Нирваны. — Полны очи ее сновиденья. Сквозь берлогу идет по Нирванам К Сновиденью от Сновиденья». Но Психея вдруг вскинула руки И молила: «О, сжалься! Прости! Эта бледность больная… Прости… Я дрожу, и слова мои глухи… В мутном свете нельзя нам идти! Прочь!.. Бежим!.. Мы должны…» И от муки Ее крылья на пыльном пути По земле волочились от муки — Загрязнялись на пыльном пути — Ее крылья ломались в пути. Но просил я: «Напрасны сомненья! Поспешим на трепещущий свет — Этот влагой, струящийся — свет! Полны тайны его излученья — Это — неба ночного привет — Красоты и Надежды привет! О, поверим ему без смущенья, — Мы за ним! Знай: Обмана здесь нет! Поверим ему без смущенья — Даже тени коварства в нем нет: Это — неба ночного привет». Успокоил… Рассеял заботу Поцелуем, — не стала томиться Психея, тревогой томиться. «Мы пошли, — и пришли к повороту — Перед нами возникла гробница — Одинокая чья-то гробница. Я спросил: «Не прочтешь ли ты, кто тут Погребен в этой тайной гробнице?» И в ответ: «Улялюм… Улялюм… Здесь могила твоей Улялюм…» И тогда мое сердце застыло, Стало пеплом… пожелклой, сухой, Этой смятой листвою сухой… Простонал я: «Октябрь этот, был — он… Той последнею ночью, глухой, Это здесь проходил я когда-то, И здесь схоронил я когда-то Свою жуткую ношу, — глухой Черной ночью… Какой же, проклятый, Вновь завлек сюда Демон?.. Унылой Полно озеро Обер тоской, Снова в Вере я — в страшной, унылой Стороне, истомленной тоской.УЛЯЛЮМ[84]
Небеса были грустны и серы, Прелых листьев шуршал хоровод, Вялых листьев шуршал хоровод, — Был октябрь одинокий без меры, Был незабываемый год. Шел вдоль озера я, вдоль Оберы, В полной сумрака области Нодд, Возле озера, возле Оберы, В полных призраков зарослях Нодд. Я брел по огромной аллее Кипарисов — с моею душой, Кипарисов — с Психеей, душой. Было сердце мое горячее, Чем серы поток огневой, Чем лавы поток огневой, Бегущей с горы Эореи Под ветра полярного вой, Свергающийся с Эореи, Под бури арктической вой. Разговор наш был грустный и серый, Вялых мыслей шуршал хоровод, Тусклых мыслей шуршал хоровод, Мы забыли унылый без меры Октябрь и мучительный год (Всех годов истребительней год!), Не заметили даже Оберы (Хоть знаком был мне шум ее вод), Даже озера, даже Оберы Не заметили в зарослях Нодд. Еще плотен был мрак уходящий, Но зари уже близился срок, Да, зари уже близился срок, Как вдруг появился над чащей Туманного света поток, Из которого вылез блестящий Двойной удивительный рог, Двуалмазный и ярко блестящий Астарты изогнутый рог. Я сказал: «Горячей, чем Диана, Она движется там, вдалеке, Сквозь пространства тоски, вдалеке, Она видит, как блещет слеза на Обреченной могиле щеке. Льва созвездье пройдя, из тумана К нам глядит с нежным светом в зрачке, Из-за логова Льва, из тумана, Манит ласкою в ясном зрачке». Перст подняв, отвечала Психея: «Нет, не верю я этим рогам, Не доверюсь я бледным рогам, Торопись! Улетим поскорее От беды, угрожающей нам!» Затряслась; ее крылья за нею Волочились по пыльным камням, Зарыдала; а перья за нею Волочились по грязным камням, Так печально ползли по камням! Я ответил: «Нас манит сиянье, Все твои опасения — бред! Все твои колебания — бред! Надежду и Очарованье Пророчит нам радостный свет! Посмотри на сияющий свет! Крепче веруй ты в это сверканье, И оно нас избавит от бед! Положись ты на это сверканье! Нас избавит от горя и бед В темном небе сияющий свет». Целовал я ее, утешая, Разогнал темноту ее дум, Победил темноту ее дум. Так дошли мы до самого края, Видим: склеп, молчалив и угрюм, Вход в него молчалив и угрюм. «Что за надпись, сестра дорогая, Здесь, на склепе?» — спросил я, угрюм. Та в ответ: «Улялюм… Улялюм… Вот могила твоей Улялюм!» Стал я сразу печальный и серый, Словно листьев сухой хоровод, Словно прелой листвы хоровод. Я вскричал: «Одинокий без меры Был октябрь в тот мучительный год! Видел я этот склеп… этот свод… Ношу снес я под каменный свод! Что за демон как раз через год Вновь под тот же привел меня свод? Да, припомнил я волны Оберы, Вспомнил область туманную Нодд! Да, припомнил я область Оберы, Вспомнил призраков в зарослях Нодд».УЛЯЛЮМ[85]
Было небо сурово и серо, Листья были так хрупки и сиры, Листья были так вялы и сиры… Был октябрь. Было горе без меры. Было так одиноко и сыро Возле озера духов Обера, В странах странных фантазий Уира, Там, в туманной долине Обера, В заколдованных чащах Уира. Вдоль рядов кипарисов-титанов Брел вдвоем я с душою моей, Брел с Психеей, душою моей. Что-то в сердце моем непрестанно Клокотало сильней и грозней, Бушевало сильней и грозней, Словно серный поток из вулкана, Там, где правит холодный Борей, Словно лава в утробе вулкана, Там, где полюсом правит Борей. Наша речь была ровной и серой: Мысли были так хрупки и сиры, Листья памяти — вялы и сиры; В Ночь Ночей, когда горю нет меры, Не узнали мы странного мира… (Хоть однажды из вашего мира Мы спускались в долину Обера… Был октябрь… Было мрачно и сыро…) Но забыли мы духов Обера И вампиров, и чащи Уира… Звездный круг в предрассветной тревоге… Ночь осенняя шла на ущерб, Ночь туманная шла на ущерб. И в конце нашей узкой дороги Подымался мерцающий серп, Разливая сиянье, двурогий, Странным светом сверкающий серп, Серп далекой Астарты, двурогий И алмазно блистающий серп. И сказал я: «Так льдиста Диана — Лик Астарты теплей и добрей, В царстве вздохов она всех добрей, Видя, как эту грудь непрестанно Гложут червь и огонь всех огней. Сквозь созвездие Льва из тумана Нам открыла тропинку лучей, Путь к забвенью — тропинку лучей, Мимо злобного Льва из тумана Вышла с тихим свеченьем очей, Через логово Льва из тумана К нам с любовью в свеченье очей!» Но ответила тихо Психея: «Я не верю сиянью вдали, Этой бледности блеска вдали, О, спеши же! Не верю звезде я, Улететь, улететь повели!» Говорила, от страха бледнея И крыла опустив, и в пыли Волочились они по аллее, Так, что перья купались в пыли, Волочились печально в пыли… Я ответил: «Оставим сомненья! Нам навстречу блистают лучи! Окунись в голубые лучи! И поверь, что надежд возвращенье Этот свет предвещает в ночи, Посмотри — он мерцает в ночи! О, доверься, доверься свеченью, Пусть укажут дорогу лучи, О, поверь в голубое свеченье: Верный путь нам укажут лучи, Что сквозь мрак нам мерцают в ночи!» Поцелуй успокоил Психею, И сомненья покинули ум, Мрачным страхом подавленный ум, И пошли мы, и вдруг на аллее Склеп возник, несказанно угрюм. «О, сестра, этот склеп так угрюм! Вижу надпись на створках дверей я… Почему этот склеп так угрюм?» И сказала она: «УЛЯЛЮМ… Здесь уснула твоя Улялюм…» Стало сердце сурово и серо, Словно листья, что хрупки и сиры, Словно листья, что вялы и сиры… «Помню! — вскрикнул я, — горю нет меры! Год назад к водам странного мира С горькой ношей из нашего мира Шел туда я, где мрачно и сыро… Что за демоны странного мира Привели нас в долину Обера, Где вампиры и чаши Уира? Это — озеро духов Обера, Это черные чащи Уира!» Мы воскликнули оба: «Ведь это — Милосердие демонов, но Нам теперь показало оно, Что к надежде тропинки нам нет, и Никогда нам узнать не дано Тайн, которых нам знать не дано! Духи к нам донесли свет планеты, Что в инферно блуждает давно, Свет мерцающий, грешной планеты, Что в инферно блуждает давно!»УЛЯЛЮМ[86]
Небеса были пепельно-пенны, Листья были осенние стылы, Листья были усталые стылы, И октябрь в этот год отреченный Наступил бесконечно унылый. Было смутно; темны, вдохновенны Стали чащи, озера, могилы, — Путь в Уировой чаще священной Вел к Оберовым духам могилы. Мрачно брел я в тени великанов — Кипарисов с душою моей, Мрачно брел я с Психеей моей. Были дни, когда Горе, нагрянув, Залило меня лавой своей. Ледовитою лавой своей. Были взрывы промерзших вулканов, Было пламя в глубинах морей — Нарастающий грохот вулканов, Пробужденье промерзших морей. Пепел слов угасал постепенно, Мысли были осенние стылы, Наша намять усталая стыла. Мы забыли, что год — отреченный, Мы забыли, что месяц — унылый, (Что за ночь — Ночь Ночей! — наступила, Мы забыли, — темны, вдохновенны Стали чащи, озера, могилы), Мы забыли о чаще священной, Не заметили духов могилы. И когда эта ночь понемногу Пригасила огни в небесах, Огоньки и огни в небесах, — Озарил странным светом дорогу Серп о двух исполинских рогах. Серп навис в темном небе двурого, — Дивный призрак, развеявший страх, — Серп Астарты, сияя двурого, Прогоняя сомненья и страх. И сказал я: «Светлей, чем Селена, Милосердней Астарта встает, В царстве вздохов Астарта цветет И слезам, как Сезам сокровенный, Отворяет врата, — не сотрет Их и червь. — О, Астарта, ведь не на Нашу землю меня поведет — Сквозь созвездие Льва поведет, В те пределы, где пепельно-пенна, Лета — вечным забвеньем — течет, Сквозь созвездие Льва вдохновенно, Милосердно меня поведет!» Но перстом погрозила Психея: «Вижу гибельный свет в небесах! Вижу гибель и свет в небесах! Свет все ближе. Беги же скорее!» Одолели сомненья и страх. Побледнела душа, и за нею Крылья скорбно поникли во прах, Ужаснулась, и крылья за нею Безнадежно упали во прах, — Тихо-тихо упали во прах. Я ответил: «Тревога напрасна! В небесах — ослепительный свет! Окунемся в спасительный свет! Прорицанье Сивиллы пристрастно, И прекрасен Астарты рассвет! Полный новой Надежды рассвет! Он сверкает раздольно и властно, Он не призрак летучий, о нет! Он дарует раздольно и властно Свет Надежды. Не бойся! О нет, Это благословенный рассвет!» Так сказал я, проникнуть не смея В невеселую даль ее дум И догадок, догадок и дум. Но тропа прервалась и, темнея, Склеп восстал. Я, мой разум, мой ум — Я (не веря), мой разум, мой ум — Все воскликнули разом: «Психея! Кто тут спит?!» — Я, мой разум, мой ум. «Улялюм, — подсказала Психея, — Улялюм! Ты забыл Улялюм!» Сердце в пепел упало и пену И, как листья, устало застыло, Как осенние листья, застыло, Год назад год прошел отреченный! В октябре бесконечно уныло Я стоял здесь у края могилы! Я кричал здесь у края могилы! Ночь Ночей над землей наступила — Ах! зачем — и забыв — не забыл я: Тою ночью темны, вдохновенны Стали чащи, озера, могилы И звучали над чащей священной Завывания духов могилы! Мы, стеная, — она, я — вскричали: «Ах, возможно ль, что духи могил — Милосердные духи могил — Отвлеченьем от нашей печали И несчастья, что склеп затаил, — Страшной тайны, что склеп затаил, — К нам на небо Астарту призвали Из созвездия адских светил — Из греховной, губительной дали, С небосвода подземных светил?»ЗАГАДКА[87]
Сказал глупец разумный мне когда-то: Как шляпу итальянскую на свет Порой рассматриваем мы разъято, Так различим с полмысли, коль сонет (Петрарки выдумку) вдруг развернем, поэт, И постараемся (прелестной даме Работа не под силу) за словами Загадочный здесь разгадать ответ — Он, как сова пушистая пред вами, Что спряталась от солнечных знамен, С прозрачнейшим из радостных имен Соединенный, углублен стихами, Скользя, сквозит в дыханьи этих строк — Бессмертию бросаемый намек.ЗАГАДКА[88]
Сказал однажды мудрый граф д'Урак: «Найти в сонете мысль — куда как сложно! Нередко он — забава для писак; Его рассматривать на свет возможно, Как дамскую вуаль: ведь ненадежно Скрывать под ней лицо. Иной поэт Такого наворотит — мочи нет, Но взглянешь глубже — суть стихов ничтожна». И прав д'Урак, кляня «Петраркин бред»: В нем уйма слов нелепых и туманных, В нем изобилье бредней такерманных… И вот я сочиняю свой ответ, Куда хочу вложить я смысл незримый, Меж строчек имя скрыв своей любимой.ЗАГАДОЧНЫЙ СОНЕТ[89]
«Сонеты, — учит Соломон дон Дукка, — На редкость мыслью подлинной бедны, В прозрачном их ничтожестве видны Хитросплетенья зауми со скукой. Красавицы чураться их должны. Их понапрасну выдумал Петрарка. Чуть дунь — и все труды его насмарку. Они смешны, слащавы и бледны». Не возражаю Солу. Хоть и зол он, Но прав. Сколь часто, изумляя свет, Убог, как мыльный пузырек, сонет, Не этот, я надеюсь. Тайны полон, Он будет, вечен и неколебим, Беречь свой смысл — ваш милый псевдоним.ЗВОН[90]
1 Слушай — санки… бубенцы… Бубенцы! Это радость, серебринки, Пролетят во все концы! Звон за звоном, словно гроздья, По морозу в ночь и в тень. И мигающие звезды, Ярко брызнув в мерзлый воздух, Динь-динь-динь и День-день-день — И раздольно и гульливо По руническим мотивам Ручейками разливаясь, торопясь во все концы — Бубенцы! Запевают бубенцы — Пролетают и играют бубенцы. 2 Слушай — сладостный, зеркальный Звон венчальный! Звон искристый, золотистый, Звон недальный, беспечальный! Он плывет по стогнам ночи, То протяжней, то короче! Полнозвучный, весь литой, Золотой — Пеньем лютни, лютни плавной Своенравной В тишину, Песней горлинки забавной На весеннюю луну, — Он из чаши колокольной Вольный, как поток раздольный, Нарастает… Нарастает в высь и сладостно он тает, Отдыхая, замирая… Звон за звоном — перезвон, Звон, и звон, и звон, и звон, Перезвон — Отовсюдный, изумрудный, светлый звон… 3 Слушай — гулкий нудный тон, Медный звон. Буйство бури, ужас жгучий… Бам-бом-бам-бам, бом-бам-бом… В ночь сорвавшаяся вьюга Воплем дикого испуга. В страхе смяты все слова, — Все угрознее и глуше В перепуганные уши Черной ночи!.. И едва Различимо в клубах дыма Раз и два, и раз и два — Словно режет визг и скрежет Каждый грохотный удар, Обезумевший взвивает, развевает Он пожар. За обугленные крыши Злым прыжком все выше, выше, Чтоб в отчаяньи летучем Лечь, как зарево, по тучам, Где едва-едва видна Бледноликая луна… Бам-бом-бам-бам, бом-бам-бом! Перезвон Жуткой повестью звучит — Он вопит, рычит, стучит Прямо в грудь дрожащей дали — Долгим стоном — Перезвоном, Лязгом вздыбившейся стали, Спутав все колокола, — Чтоб огнем разъялась мгла В брань да в споры, В крик раздора, В гневный стон — Бом-бом-бом — за звоном звон — Перезвон. Звон-звон-звон-звон. 4 Слушай — звон, железный звон. Этот звон, Что за мир угрюмой думы Навевает властно он! Он в тиши ночной возникнул — Дрожью в сердце он проникнул — Страх, угроза в этом плаче Колокольном, Жуть напоминанья, В горле ржавом — содроганье, Стон невольный. Там звонарь на колокольне — Одиночества бездольней — В сон печальный Однозвучными руками Звук за звуком мерит звуки Муки, тяжкой, словно камень, Муки, скорби подневольной, Тем, кто там, в могиле тесной — Не ему, не ей, — безвестной червой: Властелин теней упорно Сеет звуков — взмахом вздорным — Зерна. Похоронный звон! Плачет, скачет, воет он, Этот похоронный звон, Углубляя смертный сон — Как вороний черный грай, Через край, и край, и край, Этот похоронный звон — Перезвон. Как вороний черный грай, Через край, и край, и край Колыхающийся звон — Перезвон, и звон, и звон, Разливающийся звон. Через край, и край, и край — Похоронный перезвон, Как вороний черный грай — Колыхающийся звон — Перезвон, и звон, и звон. Разливающийся звон, Звон, и звон, и звон, и звон, и звон — Перезвон и звон, Монотонный, похоронный Перезвон.КОЛОКОЛА[91]
I За санями вьется снег, Белый снег. Колокольчики беспечно рассыпают нежный смех И звенят, звенят, звенят В льдистом воздухе ночном, И звенят, и говорят. Звезды радужно горят Кристаллическим огнем. Слышишь ритм, ритм, ритм — Речь руническую рифм? С колокольчиков слетая, музыкально тает он, Этот звон, звон, звон. Звон, звон, звон. Этот быстрый, серебристый перезвон. II Слышишь свадьбы звон литой — Золотой? О, с какою необычной, гармоничной красотой Про любовь, что так светла, Говорят колокола! Золотистых, чистых нот Мерный строй. Звонких звуков хоровод Нарастает, и летает, и плывет Под луной. Звучный звон — со всех сторон, Ливень ласковых мелодий: слышен тем он, кто влюблен. Льется он В ночь и в сон. Он грядущим освящен. В сердце горлинки рожден. Полногласный и прекрасный, Этот звон, звон, звон, Этот звон, звон, звон, звон. Звон, звон, звон. И поющий, и зовущий этот звон! III Слышишь ты тревожный звон — Бронзы звон? Воплем ужаса ночного надрывает сердце он! Он выкрикивает вдруг В ухо ночи свой испуг! Он, не смея замолчать, Может лишь кричать, кричать, Слеп и дик, — В безнадежности взывая к снисхождению огня, Сумасшедшего, глухого, беспощадного огня, Что все выше, выше, выше Скачет в небо с гребня крыши. Хоть безумно напряженье, Но бессильно исступленье: Недоступен бледный, лунный лик! Бронзы звон, звон, звон! Возвещает гибель он, Гарь и прах, Колокольным гулом, ревом, В недра воздуха ночного Изливая мрачный странный страх. Но теперь уж знает слух По звучанью И молчанью, Где багряный смерч потух. Но теперь он без труда Слышит в звоне, Бронзы стоне, Где, грозя, встает беда. Отступая иль взлетая, исторгает ярость звон — Этот звон, Этот звон, звон, звон, звон. Звон, звон, звон. И гудящий, и гремящий этот звон! IV Слышишь ты железный звон — Тяжкий звон? О конце напоминает монотонным пеньем он. И в плену у страха мы, Услыхав в молчанье тьмы Полный скорби и угрозы этот тон! Пробуждаемся дрожа мы: Каждый звук из глоток ржавых — Это стон. И народ, ах, народ, Что под башни самый свод Удален. Всех нас будит, будит, будит Мрачным звоном похорон. Камень катится на грудь нам: Вечным будь, последний сон! Кто их видел — не забудет, И ни звери, и ни люди — Тот народ! Их король — кто тон дает. Он в них бьет, бьет, бьет, Бьет — Гудит пеаном звон! Только грудь раздует он — И гудит пеаном звон! И, вопя, танцует он, Держит ритм, ритм, ритм — Род надгробных грозных рифм — И гудит пеаном звон! Этот звон! Держит ритм, ритм, ритм — Род надгробных грозных рифм: Этот стон и этот звон, Похоронный этот звон Держит ритм, ритм, ритм, И нежданно вносит он Руны радостные рифм В леденящий стон и звон, Этот звон, звон, звон, звон, Звон, звон, звон. И молящий, и грозящий этот звон.КОЛОКОЛА[92]
1 Слышишь сани за холмом? Серебром Радость разливают колокольчики кругом! Колокольчик льется, льется, Пронизав мороз ночной, Звоном в небе отдается, Хрусталем вдали смеется Звездный рой! Ритм размеренный храня, В ритме древних рун звеня, Расплеснулся колокольчик переливом голосов, Колокольчик, колокольчик, Колокольчик, колокольчик, Звонко-льдистым, серебристым переливом голосов! 2 Слышишь колокол другой, Золотой — Свадебного колокола голос молодой? Над ночным благоуханьем Гармоничным ликованьем Льется колокола соло, Золотой Звон литой, Счастья голос, гул веселый, Чтоб с голубкой юный голубь радовался под луной! О, мажор колоколов! Проливая звуков ливни, затопить он все готов! Этот зов, Зов без слов, В днях грядущих, для живущих Для восторгов вечно нов! О, качанье и звучанье золотых колоколов! Колокольных голосов, Колокольных, колокольных, колокольных голосов, В ритме ясных и согласных колокольных голосов! 3 Слышишь ты набата звон? Бронзой он Раскатился и тревогой нарушает сон! У ночных небес в ушах Грозной бронзой воет страх! Голос колокола дик: Только крик, крик, крик!!! Жутко воя, Он вымаливает, плача, снисхожденье у огня, У проклятого, глухого, сумасшедшего огня! Скачет пламя, пламя, пламя Исступленными прыжками, Ввысь отчаянно стремится, Чтобы взвиться и кружиться, Алым дымом белый месяц заслоня! Голоса колоколов, Словно звук тревожных слов, Долетают. Голоса колоколов Неумолчный, жуткий рев В недра стонущих ветров Изливают! Он царит в душе людской — Звон нестройный, беспокойный, Звон, захлестнутый бедой! Слух в гудении басов Различает, Как спадает Гул тяжелых голосов, Отдаляется опасность — глуше рев колоколов, Зов басов, Колокольных, колокольных, колокольных голосов, В крике, в лязге, в дикой пляске колокольных голосов! 4 Слышишь, в воздухе ночном Чугуном Колокола реквием разносится кругом? В замолкающих ночах Нам в сердца вливает страх Угрожающе-спокойный, ровный тон. Каждый звук из глотки ржавой Льется вдаль холодной лавой, Словно стон. Это только тем не больно, Кто живет на колокольне Под крестом, Тем, кто жизнь проводит в звонах Монотонно-приглушенных, Кто восторг находит в том, Что ночной порою нам Камни катит по сердцам! Не мужчины и не женщины они, а звонари, И не звери, и не люди все они, а упыри! А король их тот, кто звоном Славит, славит исступленно Торжество колоколов! Ходит грудь его волною, Пляшет он, смеясь и воя, Под пеан колоколов! Ритм размеренный хранит он. В ритме древних рун звонит он, В торжестве колоколов, Колоколов! Он, в гуденье голосов, Колокольных голосов, Ритм размеренный храня, Этим звоном похоронным Упивается, звоня, Рад гуденью голосов, Колокольных голосов, Рад биенью голосов, Колокольных голосов, Колокольных, колокольных, колокольных, колокольных, Колокольных голосов, И рыданьям, и стенаньям колокольных голосов!ЗВОН[93]
I Слышишь, — в воздухе ночном Серебром Бубенцы гремят на санках, что взметают снег Столбом. Как гремят, гремят, гремят В чуткой тишине морозной! Звонкой радостью объят Небосвод бессчетнозвездный, И мерцают звезды в лад. В этой песне звонкой, складной Лад старинный, лад обрядный. О, заливисто-хрустальный мелодичный перезвон, Легкий звон, звон, звон, звон, Звон, звон, звон, — Ясный, чистый, серебристый этот звон. II Слышишь, — счастьем налитой, Золотой, Звон венчальный, величальный, звон над юною четой, Звон в ночи благоуханной, Благовест обетованный! Падает он с вышины Мерный, веский; Светлой радости полны, Долетают золотые всплески До луны! Ликованьем напоен, Нарастает сладкозвучный, торжествующий трезвон! Яркий звон! Жаркий звон! Упованьем окрылен, Славит будущее он Гимном вольным колокольным. Светлый звон, звон, звон, Стройный звон, звон, звон, звон, Звон, звон, звон, Звон блаженный, вдохновенный этот звон! III Слышишь, — рушит мирный сон Медный звон! Он ужасное вещает: стар и млад им пробужден! В уши тугоухой ночи Изо всей вопит он мочи! Рев испуга страшен, дик, Бессловесный крик, крик, Вопль медный. Он отчаянно взывает к милосердию огня, Беспощадного, глухого, бесноватого огня. Пламя, свой разбой чиня, Лезет ввысь, ввысь, ввысь, — Берегись! Берегись! Вот-вот-вот его клешня Доберется до луны прозрачно-бледной, Сеет ужас и разлад Обезумевший набат, Звон сполошный! Черной жутью напоен Этот звон, звон, звон, Крик захлебывающийся, крик истошный! Слушай, как кричит набат, Завывая, Отбивая Взлет пожара или спад; Слушай, — все расскажет он, Гул нестройный, Разнобойный: Жив огонь иль побежден. То слабее, то сильнее злой неистовствует звон, Ярый звон, Буйный звон, звон, звон, звон, Звон, звон, звон, Исступленный, распаленный этот звон! IV Слышишь, — там, над краем бездны, Звон железный, — Он твердит о жизни бренной, о надежде бесполезной! Тишь ночную всколыхнул Душу леденящий гул, — Мы трепещем, заунывный слыша звон! О, как скорбно, Боже правый, Рвется вон из глотки ржавой Хриплый стон! Что за племя, что за племя — Те, на башнях, кто со всеми Разобщен, Те, кто гудом, гудом, гудом, Горьким гулом похорон, Властвуют над сонным людом, В сонный мозг вонзая звон! Вы не люди, вы не люди, Нелюди вы, звонари, Вам веселье в этом гуде, Упыри! Кто взялся быть звонарем, Надмогильным стал царем, Мечет гром, гром, гром, Гром, Творит священный звон! Ликованьем опьянен, Он творит священный звон! И вопит, и пляшет он, И в раскачке этой складной Лад старинный, лад обрядный, Гимн забытых пра-времен Этот звон: В песне долгой, безотрадной Лад старинный, лад обрядный. Пляшет он под этот звон, Под надрывный звон, звон, Заунывный звон, звон, И в раскачке этой складной За поклоном бьет поклон, В лад старинный, лад обрядный Вновь и вновь берет разгон Под раздольный звон, звон, Колокольный звон, звон, Скорбный звон, звон, звон, звон, Звон, звон, звон, Под прощальный, погребальный этот звон.ЕЛЕНЕ (Елене Уитмен)[94]
Тебя я видел только раз единый — Прошли года — не подсчитать мне: сколько. Но мнится все, что так немного лет. В июле это было; поздней ночью; Подобная твоей душе, по небу Плыла луна уклонною дорогой, Рассеивая свет серебряный На дрему и покой несчетных роз, В саду волшебном ввысь подъявших лица, — В саду волшебном, где несмелый ветер Бродил на цыпочках, качая розы, Подъявшие сиянием любви — В экстазе смертном — ароматы-души К серебряной и шелковой луне, — Где, улыбаясь, умирали розы Присутствием твоим восхищены. А ты была вся в белом, на скамье Темнеющей склоненная — роняла Свой свет луна на лица тихих роз И на тебя, застывшую в печали! То не Судьба ль была июльской ночью — Да, не Судьба ль (чье имя также: Грусть), Что я остановился у решетки? Вдыхая запах задремавших роз, Не шевелясь, стоял я; все заснуло. Лишь ты да я (сливая два созвучья, Вот эти, бьется сердце — о, отрада!) Лишь ты да я — померкло и исчезло Все, все вокруг в блаженный этот миг. (О, сохрани о нем воспоминанье!) Жемчужный свет луны погас, и мраком Окуталась замшоная скамья И длинная аллея и деревья Тихонько шепчущие; запах роз В руках у ветра любящего умер. И было все одной тобой полно — Тобой одной, твоей душой, глазами. Я только их и видел — в целом мире Я видел только их одно мгновенье — Пока луна померкнуть не успела… В кристальных сферах сердце в этот миг Причудливую сказку записало! Твои глаза — таким глубоким горем Они светились и надеждой гордой, И смелостью волнующих желаний, И неизмерною способностью любви! Я помню, как ушла она — Диана — На западное ложе грозных туч, — И ты, меж кипарисов похоронных, Прошла, как призрак… А глаза остались, — Твои глаза … О, им нельзя уйти! В пустынный путь мой, поздней ночью, к дому, Они светили мне… С тех пор со мной Они навек (…не таковы надежды!..) Сквозь горечь лет; и я покорен им. Руководительствовать мной, сомненья Рассеивать своим прозрачным светом И пламенем ненашим освещать Угрюмый мрак души — удел их давний. Они, как звезды, в этом дальнем небе И красота (а красота — надежда). Коленопреклоненный, им молюсь В печальные часы ночей безмолвных И в суете дневной… Они со мной Две сладостно-светящие звезды Вечерние. Их блеск не застит солнце!К ЕЛЕНЕ[95]
Тебя я видел раз, один лишь раз; Не помню, сколько лет назад — но мало. В июле, в полночь, полная луна, Твоей душе подобная, дорогу Искала к самому зениту неба, Роняя света серебристый полог, Исполненный истомы и дремоты, На тысячи подъявших лики роз, Что в зачарованном саду росли, Где колыхнуться ветерок не смел, — Свет лился медленно на лики роз, Они ж в ответ благоуханье душ Ему в экстазе смерти изливали: Свет лился медленно на лики роз, Они же умирали, пленены Тобою и поэзией твоею. Полусклоненная, среди фиалок Ты мне предстала в белом одеянье; Свет лился медленно на лики роз, На лик твой, поднятый — увы! — в печали. Не Рок ли этой полночью в июле, Не Рок ли (что зовется также Скорбью!) Остановил меня у входа в сад, Чтобы вдохнул я роз благоуханье? Ни звука: ненавистный мир уснул, Лишь мы с тобой не спали. (Боже! Небо! Как бьется сердце, лишь услышу вместе Два слова: мы с тобой.) Я огляделся — И во мгновенье все кругом исчезло. (Не забывай, что сад был зачарован!) Луны жемчужный блеск погас на небе, Извилистые тропки, мшистый берег, Счастливые цветы и листьев шелест — Исчезло все, и роз благоуханье В объятьях ветерка тогда скончалось. Все умерло — и только ты жила, Нет, и не ты: лишь свет очей твоих, Душа в очах твоих, подъятых к небу. Я видел их, вселенную мою, Лишь их я видел долгие часы, Лишь их, пока луна не закатилась. Какие горькие повествованья Таились в их кристальной глубине! И горя сумрак! И полет надежды! И море безмятежное величья! И дерзость в жажде славы! — но, бездонна, К любви способность мне открылась в них! Но вот исчезла милая Диана На ложе западном грозовых туч: И, призрак меж стволов, подобных склепу, Ты ускользнула. Но остались очи. Остался взгляд, он не исчез доныне. В ту ночь он к дому осветил мне путь, Меня он не покинул (как надежды). Со мною он — ведет меня сквозь годы, Он мне служитель — я же раб ему. Он служит мне, светя и согревая, Мой долг — спасенным быть его сияньем, Стать чистым в электрическом огне, В огне Элизия стать освященным. Он дал мне Красоту (она ж Надежда), Он в небе — пред его сияньем звездным В часы унылых бдений я колена Склоняю; и в слепящем свете дня Все вижу их — две сладостно-блестящих Венеры, что и солнце не затмит!К ЕЛЕНЕ[96]
Давно, не помню, сколько лет назад, Тебя я увидал, но лишь однажды. Стоял июль, и полная луна Плыла проворно по небу ночному, Паря над миром, как твоя душа. И лился свет, серебряный и тонкий, Баюкая дремотной духотою Раскрывшиеся лики алых роз, Цветущих в зачарованном саду, Где ветерок на цыпочках кружил. В ответ на ласку этих лунных пальцев Раскрывшиеся лики алых роз Дарили саду аромат предсмертный, С улыбкой умирали на куртинах Раскрывшиеся чаши летних роз, Завороженных близостью твоею. А ты, вся в белом, на ковре фиалок Полулежала. Лунный свет купал Раскрывшиеся лики алых роз И лик твой, затуманенный печалью. Сама Судьба июльской жаркой ночью, Сама Судьба (она зовется Скорбью) Меня к калитке сада привела, Чтоб я вдохнул благоуханье роз И тишины. Проклятый мир дремал. Лишь ты да я не спали. Я смотрел Во все глаза, томился, ждал и медлил. Но в этот миг внезапно все исчезло (Не забывай, что сад был зачарован): Растаяли жемчужный блеск луны, Цветочный рай, змеящиеся тропки, Деревьев ропот, мшистые лужайки, И даже роз полночный аромат В объятьях ветра умирал, слабея. Исчезло все, — осталась только ты, Верней, не ты, а глаз волшебный светоч, — Душа в твоих распахнутых глазах. Я видел только их — мой милый мир! — В их глубь гляделся долгими часами, Смотрел, пока луна не закатилась. Какие письмена напечатлело Ты, сердце, на прозрачных сферах глаз! Как боль темна в них и светла надежда, Какое море тихое гордыни, Порывов суетных и как бездонен Их дар любить и ласку расточать! Но вот уже Диана прилегла На ложе грозовой, лохматой тучи, И ты, как призрак, меж деревьев сонных Растаяла. И лишь твои глаза Пронзали тьму, маячили, манили, Мне путь домой, как звезды, освещали; И с той поры, хотя Надежды нет, Они — мои вожатые сквозь годы, Мои служители, а я — их раб. Они горят и дух воспламеняют, А я стараюсь обрести спасенье, Очиститься, воскреснуть, освятившись В их елисейском радужном огне. Мне душу наполняя красотою (Она ж Надежда), светят с горних высей Они, как светочи, я им молюсь В тоскливые часы ночных бессонниц И даже в блеске золотого дня. Всегда мне мягко светят две Венеры, Которых даже солнцу не затмить!FOR ANNIE[97]
Слава Богу, что кризис миновал; не вернется и тот бред беспокойный, — то, что жизнью зовется — и тяжелая немощь никогда не вернется. Изменили мне силы, изменили, бесспорно — я лежу без движенья, безучастно, покорно… Что с того? Я ведь знаю, что мне легче, бесспорно. И так тихо, недвижно я лежу распростертый, что любой очевидец скажет сразу: «Он мертвый», отшатнется с испугом и воскликнет: «Он мертвый!» Унялись мои стоны, слез и вздохов не стало, успокоилось сердце, что так биться устало, так мучительно билось и так биться устало. Тошнота и томленье — все ушло безвозвратно; те ужасные муки не вернутся обратно, как и Жизнь-лихорадка не вернется обратно. Та жестокая жажда, у которой во власти я страдал и томился, уменьшилась отчасти — я не рвусь уж к тем водам отравляющей страсти; я узнал про источник, утоляющий страсти: То источник подземный незаметно для ока, он шумит и струится под землей неглубоко, он струится в пещере — но совсем не глубоко. Тщетно б люди пустые доказать мне хотели, что в жилье моем мрачно, что мне тесно в постели, ведь нигде так не спится, как в подобной постели. Здесь измученный дух мой успокоился в грезах, не жалея о миртах, забывая о розах, как о прежних волненьях, так о миртах и розах. Мне не жаль тех восторгов аромата и ласки… Нет, мне чудятся ныне Лишь анютины глазки, розмарин, — или рута — да анютины глазки, целомудренно-скромны те анютины глазки. Так мой дух отдыхает в торжестве совершенном, и мне грезится Анни в сновиденьи блаженном, мне является Анни в откровеньи блаженном. Как она, моя радость, обняла меня нежно: на груди ее милой я заснул безмятежно, в ее дивных объятьях задремал безмятежно; Уложила, накрыла с той же лаской чудесной и меня поручила благодати небесной, сонму духов бесплотных и Царице Небесной. И так тихо, бесстрастно я лежу распростертый, что и вы поневоле согласитесь: «Он мертвый», отшатнетесь в испуге, восклицая: «Он мертвый!» Что с того? В моем сердце все спокойно и ясно; в нем любовь моей Анни светит ярко, прекрасно, светлый взор моей милой отразился в нем властно, в нем царит моя Анни нераздельно и властно!АННИ[98]
Тебе благодарность, Небесный Отец! Огневая горячка Прошла наконец. И болезни, что жизнью Зовется, конец: Грустно, что сил Больше нет, — но тоской Не томлюсь, не грущу, Потревожить покой Не хочу, — я ценю Безжеланный покой. И спокойный, и тихий я Здесь наконец, — Подумают люди, Взглянув, что — мертвец, В испуге шепнут они: «Это — мертвец»… И грезы, и слезы, И вздохи, и муки Прошли, и теперь Не тревожат и стуки — Там — в сердце — жестокие Жуткие стуки. Затих нестерпимый Мучительный шум; Конец лихорадке, Терзающей ум — И горячечной жизни, Сжигающей ум. Там жуткою жаждой Я был истомлен — Нефтяною рекою ее, С давних времен Истерзал меня страсти Мучительный сон, — Но источником светлым Я здесь утолен. Быстролетной воды Запевающий звон — Успокоил сверкающий Сладостно он — Убаюкал ласкающий Радостно он, Глупец скажет, быть может, Что темен покой. И что узкое ложе В постели такой — Но кто спал когда На постели другой — Если спать, несомненно, В постели такой. Отдыхаю, не знаю Томительных гроз — Забыл и не вспомню Я запаха роз, Бывалой тревоги И мирта, и роз. Лежу беспечальный я, Тихий, бесстрастный; Доносится запах Ромашки прекрасный, Шиповника запах Густой и прекрасный И скромной фиалки Простой и прекрасный. Отрадно мне, тихому, В грезном сиянии С думой-мечтой О любимой мной Анни, Укрывшись волною Волос моей Анни. Целуя, шептала: «Земное, уйди»… И радостно я Задремал на груди — Забылся, уснул На любимой груди. В погасающем свете Нежна и светла Она Божию Матерь Просила — от зла Уберечь, ограждая От горя и зла. Я — укрытый от горести — Сплю, наконец; Знаю, что любит, А вы мне: «мертвец» Сокрушаясь твердите, — но Это ль — конец? Если весь я — любовь, Разве это — мертвец? О нелепые бредни, — нет, Я — не мертвец. Все светлее на сердце — Как в звездном сиянии; Нежно ко мне Наклоняется Анни, Я вижу лицо Дорогой моей Анни, — Словно звезды, глаза Убаюкавшей Анни.К АННИ[99]
О, счастье! Не мучусь Я больше, томясь, Упорной болезнью, И порвана связь С горячкой, что жизнью Недавно звалась. Лежу я недвижно, Лишенный сил, И каждый мускул Как будто застыл. Мне лучше: не мучит Горячечный пыл. Лежу я спокойно, Во сне распростерт, Забыв все недуги, Как будто я мертв, И можно в испуге Подумать — я мертв. Рыданья и вопли Затихли вокруг, Как только прервался Мучительный стук — Терзающий сердце Томительный стук. Тоска, отвращенье, Как тающий воск, Исчезли с болезнью, Мрачившей мой мозг, С горячкой, что жизнью Сжигала мой мозг. Исчезла и пытка, Всех пыток сильней. — Ужасная жажда Души моей К реке ядовитой Проклятых страстей: Насытил я жажду Души моей. Испил я студеной Воды из ключа, Тот ключ потаенный Струится, журча, В земле неглубоко Струится, журча. О нет! Пусть не скажет Никто, что для сна Приют мой мрачен, Постель так тесна, — Ведь тот, кто скажет: Постель так тесна, Он тоже ляжет В такую ж для сна. Мой дух не лелеет Мечтаний о грозах, Не сожалеет О пламенных розах, О том, что алеет На миртах и розах, Дыханье как будто Анютиных глазок Он слышит из руты, Из праздничных связок Цветов розмаринных, Анютиных глазок — Дыханье невинных Анютиных глазок. Он дремлет блаженно В тумане мечтаний О правде нетленной И верности Анни, Витая блаженно Средь локонов Анни. Она с поцелуем Склонилась ко мне, И я, не волнуем Ничем в тишине, Скользя, как по струям, Забылся во сне. Укрыв меня нежно И свет затемня, Она помолилась Потом за меня, Чтоб ангелы неба Хранили меня. И я на постели Лежу распростерт (С истомою в теле), Как будто я мертв, — Прильнув к изголовью, Лежу распростерт (С ее любовью), Как будто я мертв, — И вам всем я страшен, Как будто я мертв. Душа ж моя ярче, Чем в млечном тумане Все звезды на небе, Сверкает с Анни, Горит она светом Любви моей Анни, Лучится ответом Из глаз моей Анни.АННИ[100]
Закончена с жизнью Опасная схватка, Болезнь разрешилась, Прошла лихорадка, Зовут ее Жизнь, А она — лихорадка. Бессильность, недвижность Томят меня мало. Да, сил я лишился. Но мне полегчало — Да, я неподвижен, Но мне полегчало. Спокойно в постели Лежу распростертый, И всякий, кто взглянет, Подумает: мертвый. Он взглянет и вздрогнет И вымолвит: «Мертвый». Боренью, горенью, Страданью, стенанью Конец положило Одно содроганье — Ах, в сердце мучительное Содроганье! Болезнь — лихорадка, Головокруженье — Прошли, миновало Души исступленье — Зовут его Жизнь, А оно — исступленье. Не ведал я в жизни Ужасней напасти, Чем жажда в волнах Иссушающей страсти, Средь мутной реки Богом проклятой страсти, Но влагой иной Я спасен от напасти: Пробился к губам В колыбельном покое Источник, таящийся Здесь, под землею, От вас в двух шагах, У меня под землею. Вотще о моем Не скорбите уделе, Что сплю я во мраке На тесной постели, О, не зарекайтесь От этой постели! Для сна не бывало Прекрасней постели. Душа моя в ней Забывает о грозах, Светлеет И не сожалеет о розах, О трепете страсти, О миртах и розах: В блаженном безмолвии После развязки Над нею склонились Анютины глазки, Святой розмарин И анютины глазки, Девичья невинность, Анютины глазки. Душа отдыхает, Купаясь в тумане Мечтаний о верной Пленительной Анни, И тонет в струящихся Локонах Анни. Познал я объятий Восторг нестерпимый И тихо уснул На груди у любимой — И день мой померк На груди у любимой. Она меня теплым Покровом укрыла И ангелов рая О мире молила, О благе моем Их царицу молила. И вот я спокойно Лежу распростертый (В любви я забылся!) — Вы скажете: мертвый? Но как я спокойно Лежу распростертый (И грежу об Анни!) — Вы скажете: мертвый? Вы взглянете, вздрогнете, Скажете: мертвый! Но ярче всех ярких Светил в мирозданье Зажглось мое сердце Сиянием Анни, Его озаряет Любовь моей Анни, И память о свете В очах моей Анни.ЭЛЬДОРАДО[101]
Весел и смел Ездок летел И день, и ночь. Был рад он… Конь мой, лети! Надо найти Дорогу в Эльдорадо. Но без дорог Он изнемог — Былая где отрада? Он был везде, Но все ж нигде Не встретил Эльдорадо. Вдруг перед ним Старым, седым Виденье с тусклым взглядом. «Призрак, куда Ехать, когда Задумал в Эльдорадо?» — «Выше озер У лунных гор, И ниже Смерти сада Гони, гони Коня сквозь дни Увидеть Эльдорадо».ЭЛЬДОРАДО[102]
Средь гор и долин Спешил паладин, Ни солнце, ни тень не преграда. И юн, и удал, Он с песней искал Таинственный край Эльдорадо. Но тенью легла На складки чела Немых расстояний преграда. Он в дальних краях Ослаб и одрях, Покуда искал Эльдорадо. У сумрачных скал Он тень повстречал: «О тень, всем надеждам преграда, Поведай ты мне, В какой стороне Смогу я найти Эльдорадо?» «Ищи за несметным сонмом планет. Ни в чем я тебе не преграда. Спускайся скорей В долину теней, И там ты найдешь Эльдорадо!»ЭЛЬДОРАДО[103]
Надев перевязь И не боясь Ни зноя, ни стужи, ни града, Весел и смел, Шел рыцарь и пел В поисках Эльдорадо. Но вот уж видна В волосах седина, Сердце песням больше не радо: Хоть земля велика — Нет на ней уголка, Похожего на Эльдорадо. Устал он идти, Но раз на пути Заметил тень странника рядом И решился спросить: «Где может быть Чудесный край Эльдорадо?» «Ночью и днем, Млечным Путем, За кущи Райского сада Держи свой путь, — Ну, и стоек будь, Если ищешь ты Эльдорадо».ЭЛЬДОРАДО[104]
С песней в устах, Отринув страх, В палящий зной, в прохладу — Всегда в седле, По всей земле Рыцарь искал Эльдорадо. Где юный жар? Он грустен и стар, Легла на грудь прохлада: Искал он везде, Но нет нигде, Нет и подобья Эльдорадо. Встала пред ним Тень-пилигрим. Смертным повеяло хладом. «Тень, отвечай: Где этот край, Край золотой Эльдорадо?» «Мчи грядою Лунных гор, Мчи Долиной Тьмы и Хлада, — Молвит Тень, — Мчи ночь и день, Если ищешь Эльдорадо».ЭЛЬДОРАДО[105]
Ночью и днем На коне лихом, Сверкая парчой наряда, Рыцарь скакал И с песней искал Волшебный край Эльдорадо. Но стал он сед Под ношею лет, Душа преисполнилась хлада: Нигде он не мог Найти уголок, Похожий на Эльдорадо. И в последний свой день Он скиталицу-тень Спросил, не сводя с нее взгляда: «О тень, отвечай: Где сыщется край, Чудесный край Эльдорадо?» «По гребням узор — ных лунных гор, Долиною мертвенной ада Скачи через тьму, — Был ответ ему, — Если хочешь найти Эльдорадо!»СОНЕТ К МОЕЙ МАТЕРИ[106]
Постигнув, что не только человек — Но ангелы — из всех благословений, Способных нежность выразить навек, Не отыскали имени блаженней, Я «матерью» назвал тебя, и ты Вошла мне в сердце самою родною И стала жить в нем — в доме пустоты, Покинутом покойною женою. Мою родную мать (по ком я тоже Скорблю) ты материнством превзошла: Жизнь дорога — Виргиния дороже, Ты, дав ей жизнь, мне этим жизнь дала; Отныне же, когда ее не стало, И для меня небытие настало.АННАБЕЛЬ-ЛИ[107]
Многие, многие годы назад, У моря родной мне земли, Жила одна девушка, звали ее Красавицей Аннабель-Ли, И, кроме любви, ни о чем И думать мы с ней не могли. Оба мы были простыми детьми, Детьми той приморской земли; Но выше земной была эта любовь, Любовь к моей Аннабель-Ли, — Настолько, что даже завидовать ей И ангелы в небе могли! Многие, многие годы назад Осенние тучи пришли, И ветром холодным убили они Красавицу Аннабель-Ли. Родные зарыли в могилу ее У моря родной ей земли. Знаю — завидовать нашей любви И ангелы в небе могли! И вот где причина (про то говорят Все люди приморской земли), Что ветер осенний унес от меня Красавицу Аннабель-Ли. Да, наша любовь была выше земной! Ни взрослые так полюбить не могли, Ни мудрые так не могли, — И кто разлучит ее душу со мной? Ни ангелы неба, ни духи земли — Не в силах никто меня с ней разлучить С любимой Аннабель-Ли! Мне при свете луны в душу крадутся сны О красавице Аннабель-Ли; И в мерцаньи ночей вижу свет я очей Дорогой моей Аннабель-Ли… Я расстаться с моей дорогой не могу И всю ночь провожу на морском берегу, На могиле родной мне земли, Возле Аннабель-Ли.АННАБЕЛЬ ЛИ[108]
Это было давно, было очень давно — В королевстве приморской земли. Молодая там радость жила, Ее звали Аннабель Ли. Я любил ее, а она меня — Как любить только мы могли. Были детьми — и я, и она — В старом замке приморской земли. И любовь была красотой любви Для меня и Аннабель Ли. О подобной любви одни в небесах Ангелы знать могли. За это тогда — далеко, давно — В старом замке приморской земли, Из-за тучи злой налетевший вихрь Убил мою Аннабель Ли. В замок торжественно люди вошли, Любимую мной унесли В пустой, глухой и безмолвный склеп, В старом замке приморской земли. Лишь ангелы в страшной зависти к нам О мести решить могли — Да, волею их (и то знают все В королевстве приморской земли) Из-за туч ночных налетевший вихрь Смертью сразил мою Аннабель Ли. Но ведь наша любовь выше тайн и чудес — Как мы, полюбить не могли Другие в пределах земли — И ангелов сонмы на выси небес, Как и демоны в недрах земли, Бессильны могильной плитою отнять От меня мою Аннабель Ли. Когда светит луна, вся душа предана Снам о сладостной Аннабель Ли. Когда звезды встают, надо мною цветут Глаза радостной Аннабель Ли. Вместе с ней мы одни — сквозь все ночи и дни — С дорогой и любимой невестой одни Под тяжелым настилом земли Там, в могиле приморской земли.АННАБЕЛЬ ЛИ[109]
С тех пор пролетели года и года; У моря, где край земли, Вы, может быть, девушку знали тогда По имени Аннабель Ли, Друг другу сердца отдав навсегда, Мы расстаться на миг не могли. Мы были, как дети, она и я, У моря, где край земли, В то давнее, давнее время, когда Жила здесь Аннабель Ли, И ангелы неба смотреть на нас Без зависти не могли. И вот почему из тучи тогда, У моря, где край земли, Ветер холодный смертью дохнул На прекрасную Аннабель Ли. И богатый сородич пришел за ней, И ее схоронили вдали, В пышной гробнице ее схоронили, У моря, где край земли. Да! Ангелы неба смотреть на нас Без зависти не могли — И вот (все это знали тогда У моря, где край земли) Ветер дунул из туч ночных, Сгубил и убил Аннабель Ли. Но самые мудрые никогда Любить так, как мы, не могли, Сильнее любить не могли. И ангелы неба не смели тогда И демоны недр земли Разделить, разлучить душу мою И душу Аннабель Ли. И сиянье луны навевает мне сны О прекрасной Аннабель Ли. Если всходит звезда, в ней мерцает всегда Взор прекрасной Аннабель Ли. Бьет ночной прибой — и я рядом с тобой, С моей душой и женой дорогой, — Там, в гробнице, где край земли, Там, у моря, где край земли!ЭННАБЕЛ ЛИ[110]
Это было давно, очень, очень давно, В королевстве у края земли, Где любимая мною дева жила, — Назову ее Эннабел Ли; Я любил ее, а она меня, Как любить мы только могли. Я был дитя и она дитя В королевстве у края земли, Но любовь была больше, чем просто любовь Для меня и для Эннабел Ли — Такой любви серафимы небес Не завидовать не могли. И вот потому много лет назад В королевстве у края земли Из-за тучи безжалостный ветер подул И убил мою Эннабел Ли, И знатные родичи милой моей Ее от меня унесли И сокрыли в склепе на бреге морском В королевстве у края земли. Сами ангелы, счастья такого не знав, Не завидовать нам не могли, — И вот потому (как ведомо всем В королевстве у края земли) Из-за тучи слетевший ветер ночной Застудил и сгубил мою Эннабел Ли. Но наша любовь сильнее любви Тех, что жить дольше нас могли, Тех, что знать больше нас могли, И ни горные ангелы в высях небес, Ни демоны в недрах земли Не в силах душу мою разлучить С душой моей Эннабел Ли. Ведь коль светит луна, то приносит она Мечтанья об Эннабел Ли; Если звезды горят — вижу радостный взгляд Прекраснейшей Эннабел Ли; Много, много ночей там покоюсь я с ней, С дорогой и любимой невестой моей — В темном склепе у края земли, Где волна бьет о кромку земли.О, TEMPORA! O, MORES![111]
О времена! О нравы! Видеть грустно, Как все вокруг нелепо и безвкусно. О нравах, о приличиях смешно И говорить — приличий нет давно! Что ж до времен, то каждому известно: О «старых добрых временах» нелестно Толкует современный человек И хвалит — деградировавший век! Сидел я долго, голову ломая (Ах, янки, до чего у вас прямая Манера выражаться!), я не знал, Какой избрать зачин, какой финал? Пустить слезу, как Гераклит Эфесский В душещипательной плаксивой пьеске? Или за едким Демокритом вслед Швырнуть, расхохотавшись, книгу лет, Затрепанную, как учебник в школе, И крикнуть: «К дьяволу! Не все равно ли?» Предмет мой, надо знать, имеет вес, Не дай Господь, займется им Конгресс! Дебаты будут длиться две недели: Мы обе стороны во всяком деле Должны заслушать, соблюдая закон, У Боба восемь таковых сторон! Возьмусь я, посмеявшись иль поплакав, Вердикт присяжных будет одинаков. Пока мне лесть и злость не по плечу, Обняв обоих греков, — поворчу. — На что же будешь ты ворчать, приятель? Героя притчи описать не кстати ль? — Ах, сэр, едва не ускользнула нить! Но, черт возьми, зачем народ дразнить? Зачем, раскланиваясь постоянно, По улицам гуляет обезьяна? Читатель, брань случайную прости! Давно ли шимпанзе у нас в чести? (О нет, мы главного не упустили, Быть нелогичными не в нашем стиле: Меняясь, как политик, на ходу, Я к правильному выводу приду!) Друзья, вы много ездили по свету, Я сам топтал порядком землю эту, Перевидал немало городов И клясться хоть на Библии готов, Что в общем (мы же на Конгресс не ропщем За аргументы, принятые в общем), Так вот, уютней в мире нет лагун, Где всякий расторопный попрыгун Коленца б мог выделывать лихие, Сновать, как рыба в собственной стихии. Иль, рулоны кружев подхватив, Скакать через прилавки под мотив Прославленных Вестри, а вечерами К обсчитанной галантерейно даме Лететь на бал и предлагать ей тур! Из выставляемых кандидатур Судьба всех милостивей к претенденту, Отмерившему вам тесьму и ленту. Не пренебрег и нашим городком Такой герой-любовник, — незнаком Я, к счастью, с ним, но видел эту прелесть: От корчей, от ужимок сводит челюсть! Его бегу (в душе я страшный трус) — Вдруг не сдержусь и прысну — вот конфуз! Безмерна власть его над женским полом: Кто ж, фраком опьянясь короткополым С раздвоенным, как у чижа, хвостом, Захочет на мужчин смотреть потом? А черный шелк цилиндра франтовского? — Он частью стал пейзажа городского. Ни дать, ни взять Адонис во плоти! — Воротнички, воздушные почти, А голос создан для небесных арий. Спор о наличьи разума у тварей, Неразрешимый философский спор Бесповоротно разрешен с тех пор, Как был рассмотрен новый наш знакомый: Мы данный факт считаем аксиомой. Нам Истина важней ученых смех! Вопроса нет, он мыслит. Только чем? Готов с любым философом правдивым Я голову ломать над этим дивом. Философ, ты не понял ничего — Упрятан в пятку разум у него! Подумаю — душа уходит в пятки! Не приведи Господь сыграть с ним в прятки: Как пнет для правоты моих же слов! Я перед величайшим из ослов, Как зеркало, стихи раскрою эти, И дабы в недвусмысленном портрете Себя узнал тупица из тупиц, Внизу проставлю имя: Роберт Питтс.МАРГАРЕТ[112]
Что побудило, Маргарет, тебя Отречься от служенья Красоте? Источник чистой мудрости презреть, Поэзию оставить ради скверны? Писать — нелепость? Рифмовать — абсурд? Что ж, я не буду. Ежели писать — Удел людей, молчать — удел богов.ОКТАВИИ[113]
Когда друзей веселых круг Веселье и вино венчали, Тебя, единственный мой друг, Не мог я позабыть в печали, Я сердцем был с тобой. Октавия, не обкради Едва утешенное сердце! — Пусть разрывается в груди Надежда жить тобой!ОДИН[114]
Иначе, чем другие дети, Я чувствовал и все на свете, Хотя совсем еще был мал, По-своему воспринимал. Мне даже душу омрачали Иные думы и печали, Ни чувств, ни мыслей дорогих Не занимал я у других. То, чем я жил, ценил не каждый. Всегда один. И вот однажды Из тайников добра и зла Природа тайну извлекла, — Из грядущих дней безумных, Из камней на речках шумных, Из сиянья над сквозной Предосенней желтизной, Из раскатов бури гневной, Из лазури в час полдневный, Где, тускла и тяжела, Туча с запада плыла, Набухала, приближалась — В демона преображалась.АЙЗЕКУ ЛИ[115]
Добро свершилось или зло, Бог весть, но это ремесло Я посчитал своим уделом, Служа ему душой и телом.ЭЛИЗАБЕТ Р. ХЕРРИНГ[116]
Элизабет, коль первым имя это, Листая твой альбом, увидят там, Иной педант начнет корить поэта За сочиненье вирш по пустякам. А зря!.. Хотя и фокус строки эти, Бранить меня за них причины нет: Едва ли был когда-нибудь на свете Таких забав не любящий поэт. Размером трудным мысли излагает Художник не по прихоти своей — Ему игра созвучий помогает Раскрыть себя в творении полней. Раз у него есть дар, его работа Известным с детства правилом жива: «Не может в стих облечься то, чего ты Глубоко в сердце не обрел сперва».АКРОСТИХ[117]
Элизабет, не мучь меня напрасно: Любовь мою ты гонишь слишком страстно, Играя роль Ксантиппы по примеру. Забытой поэтессы, злой не в меру. Ах, не смотри так нежно, так влюбленно! — Боюсь я участи Эндимиона: Его Селена от любви лечила Так пылко, что от жизни отлучила.СТРОКИ ДЖОЗЕФУ ЛОККУ[118]
Когда его черт приберет? — Вошло у педанта в привычку Выскакивать вечно вперед На утреннюю перекличку. Он выше для тысяч людей, Чем однофамилец-философ: Тот — гений по части идей, А этот — по части доносов.ВСТУПЛЕНИЕ[119]
Покачивая головою, Маша крылами надо мною, В тени ветвей над озерцом, Поросшим тихим тростником, Как попугай, и день за днем, Романс учил меня азам. На мягких травах я лежал — И немладенческим глазам, Младенец верить начинал — И вслед за ним залепетал. Настало время — не для пенья. Миров кровавое кипенье, Тропически-кричащий свет На небе исполинских бед Взошел — и годы, как пустыни, Объял кромешный мрак гордыни — И только молнии зигзаг Терзал порой всеобщий мрак. Анакреоном упоен, Я пил вино и пел, как он, — И слышал Страсти холодок В согласии холодных строк; И — маг, алхимик, чародей — Он счастье делал все больней, Все невозможней, все желанней В реторте пламенных мечтаний, — И Меланхолию одну Я возлюбил в мою весну, Отверг Доступное и — вместо Покоя — впал в безумье жеста, Любовь — мой вечный идеал — С дыханьем Смерти повенчал; Рок, Время, Узы Гименея — Все пропасть между мной и ею. Но годы Кондорами в небе Кружили — и грозил полет Громами гулкими невзгод, — И мне глядеть не выпал жребий На безмятежный небосвод. И если на крылах Покоя Парит мгновение иное И рифмы с лирой перезвон Порой овладевает мною, Преступно было б — если б он Проникся краткой тишиною! Лишь ныне — для души простор: Пропала страсть, погас костер; Что было черным, стало серым; Конец и славе, и химерам! Бунтарь, я проклял тишину! Теперь безропотно усну. Я жаждал страсти понапрасну — Я успокоюсь и погасну, Избуду жизнь мою во сне; Не пир — похмелье любо мне. Но прокляты, обречены И безысходны сами сны. Лишь мимолетная пора Прикосновения пера К бумаге — в Завтра и Вчера Разнообразье вносит. Но И этого не суждено: Рисунок строк давно исчез — И лишь седобородый бес, На миг раскрыв тетрадку снов, Прочтет ее — и был таков.К***[120]
Ни приказать, ни воспретить Я сердцу твоему не в силах, Монарха выбрав одного Из тысячи монархов милых. У тихой пристани любви Приют нашли мы безопасный, Но неужели, добрый друг, На меньшее мы не согласны? Любовь без гибельных страстей, Привязанность, где чувство свято, Где пламя нежности мужской Хранимо преданностью брата. Мы будем счастливы вдвойне, Любви закон единовластный Душевной дружбой подкрепив, — На меньшее мы не согласны!НЕТ КОРОЛЕЙ ГОСПОДНЕЙ ВЛАСТЬЮ[121]
Нет королей господней властью, Но Эллен исключенье, к счастью, — Служа такому королю, Я сами цепи полюблю! Из кости выстроен слоновой Престол, где правит деспот новый, И не осмелится порок Державный преступить порог. Ах, Эллен, за твои объятья Монаршью власть готов признать я, Бунтарский усмиряя нрав: Король не может быть не прав!СТАНСЫ[122]
Звеня пророческой строкой, Мой стих небесной сини просит: Здоровье, счастье и покой Тебе на крыльях он приносит. Перед тобою долгий век — Высоких радостей свидетель — Завидных дней забвенный бег, Где незабвенна добродетель. От скуки дольней охранит Скала небес твой путь счастливый, — Не разобьются о гранит Седого Времени приливы. Твой выбор будет прозорлив — Живи мечтами дорогими! — Чужую радость разделив, Своею поделись с другими. Столетьям мудрости живой Внимая с тонким наслажденьем, Смотри, чтоб ясный разум твой Не омрачился Заблужденьем. Лукавством тайным не греша, Вобрав величье всей вселенной, Скользит свободная душа Под знаком Мудрости нетленной. Веленьем неба и земли Так призван жить мыслитель гордый — От низменных страстей вдали, В мечтах упорный, в целях твердый.МИСС ЛУИЗЕ ОЛИВИИ ХАНТЕР[123]
Прочь бегу, но знаю: От себя бегу. Тщетно заклинаю: Отпустить слугу. Как в цепях, тоскую, Силу колдовскую Сбросить не могу. Так в древесной чаще Хитрая змея Чешуей блестящей Манит соловья. Над травой зеленой Кружит он, влюбленный, Смертью ослепленный, — Так погибну я.СТРОКИ В ЧЕСТЬ ЭЛЯ[124]
Янтарем наполни взбитым Запотелое стекло! — По неведомым орбитам Снова мысли повело. Разобрать причуды хмеля Я уже не в силах сам — За веселой кружкой эля Забываешь счет часам.КОММЕНТАРИИ
ЛИРИКА ЭДГАРА ПО
В ПЕРЕВОДАХ РУССКИХ ПОЭТОВ
ТАМЕРЛАН
Поэма, в которой явственно ощущаются байроновские мотивы, опубликована в 1827 г., дав название первому сборнику Э. По. В том варианте она насчитывала 406 строк. Для второго сборника, вышедшего в 1829 году, автор сократил ее более чем в полтора раза.
Перевод И. Озеровой, датированный 1976 г., печатается по кн.: По Э. А. Стихотворения. М., Радуга, 1988.
ПЕСНЯ
Вошло в сборник «Тамерлан и другие стихотворения». Посвящено Саре Эльмире Ройстер — юношеской любви поэта.
Перевод Н. Вольпин выполнен для изд.: По Э. Избранные произведения в двух томах, т. I. М., Худ. лит-ра, 1972.
МЕЧТЫ
Впервые опубликовано в сб. «Аль-Аарааф: Тамерлан и малые стихотворения» (1829).
Перевод Ю. Корнеева сделан для сб.: По Э. Лирика. Л., Худ. лит-ра, 1976.
ДУХИ МЕРТВЫХ
Вошло в оба ранних сборника Э. По и затрагивает тему, важную для его творчества в целом. Крупнейший знаток наследия поэта Джон Ингрэм писал: «В одном из его стихотворений, «Духи мертвых», содержится прямое указание на присущую ему характерную черту, или всепоглощающую и всеподчиняющую владевшую им идею, что смерть отнюдь не всесильна, что способность к восприятию не гасится могилой, что мертвые не лишены полностью сознания и вовсе не равнодушны к дедам живых. Каждый, кто захочет по-настоящему постичь характер По, должен принять во внимание эту покрытую таинственностью манию, потому что она всегда преследовала его, наполняя его жизнь и произведения ужасом, которым был перегружен его мозг…» (Poems and Essays by Edgar Allan Рое, edited by John H. Ingram. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1884, p. 12).
Перевод В. Топорова впервые опубликован в сб.: По Э. А. Стихотворения. М., Радуга, 1988.
ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА
Один из образцов ранней лирики Э. По. Вошло в первый сборник его стихотворений.
Перевод В. Бетаки сделан для двухтомника избранных произведений Э. По (1972).
Перевод Ю. Корнеева — для сб.: По Э. Лирика. Л., 1976.
МЕЧТА ВО СНЕ
В окончательном виде впервые опубликовано в посмертном издании собр. соч. Э. По. Частично написано в ранний период творчества. Другие варианты перевода названия: «Сон во сне» (К. Бальмонт, В. Брюсов), «Сновиденье в сновиденьи» (М. Квятковская).
Перевод В. Федорова печатается по кн.: По Э. Поэмы и стихотворения в переводах Вас. Федорова. М., Первина, 1923.
Перевод М. Квятковской — по кн.: По Э. Лирика. Л., 1976.
СТАНСЫ
Стихотворение опубликовано в 1827 г. Эпиграф взят из поэмы Байрона «Остров».
Общение с природой, по мнению Э. По, — одно из непременных условий человеческого счастья, что нашло отражение в его стихах, прозе и письмах. После прочтения новеллы «Поместье Арнгейм» Альбер Камю занес в свою записную книжку: «Эдгар По и четыре условия счастья: 1) Жизнь на свежем воздухе; 2) Сознание, что тебя любят; 3) Отказ от всякого честолюбия; 4) Созидание» (Камю А. Творчество и свобода. М., Радуга, 1990, с. 277).
Перевод Ю. Корнеева взят из сб.: По Э. Лирика. Л., 1976.
ГРЕЗА
Опубликовано в сб.: «Тамерлан и другие стихотворения».
Другой вариант перевода названия — «Сон» (В. Брюсов, Г. Кружков).
Перевод Эллиса (Л. Л. Кобылинского), сделанный с французского перевода Стефана Малларме, впервые напечатан в кн.: Вечера современной музыки. Первый камерный вечер. М., 1909.
Перевод Г. Кружкова взят из двухтомника Э. По 1972 г.
СЧАСТЛИВЕЙШИЙ ДЕНЬ
Вошло в сб.: «Тамерлан и другие стихотворения».
Перевод Е. Зета, выполненный с французского, был опубликован в кн.: Зет Е. Преимущественно современные французские лирики в биографиях и произведениях. М., 1895.
Перевод Т. Гнедич («Счастливый день! Счастливый час!») печатается по кн.: По Э. Лирика. Л., 1976.
ОЗЕРО
Одно из ранних стихотворений Э. По, было включено в его первый сборник. Перекликается с балладой Томаса Мура «Озеро Мрачной Топи» (1803).
Перевод Г. Бена взят из двухтомника Э. По 1972.
Перевод Ю. Корнеева — из кн.: По Э. Лирика. Л., 1976.
СОНЕТ К НАУКЕ
Впервые опубликован в качестве вступления к поэме «Аль-Аарааф» во втором сборнике стихотворений Э. По (1829).
Перевод В. Васильева печатается по сб.: По Э. Лирика. Л., 1976.
АЛЬ-ААРААФ
Поэма опубликована во втором сборнике Э. По (1829). Задумана отчасти в подражание «Потерянному раю» Дж. Мильтона. Имеются также многочисленные аллюзии, восходящие к Библии, Корану, Данте, Шекспиру, Гёте, Байрону, Т. Муру, К. Марло, В. Скотту. Это самое большое поэтическое произведение Э. По, насчитывающее 422 стиха (оно осталось незаконченным, ибо по первоначальному замыслу должно было состоять из четырех частей). Как писал Э. По с присущей ему самоиронией, «Аль-Аарааф содержит немного хорошей поэзии и много экстравагантности» (The Letters of Edgar Allan Рое, v. I, N. Y., 1966, p. 32).
Из корреспонденции Э. По становится явно, что Анжело поэмы — это не кто иной, как Микеланджело Буонарроти.)
В «Аль-Аараафе» нашли отражение напряженные философские раздумья Эдгара По о сущности Вселенной и смысле человеческого бытия, о возможности обретения «потерянного рая», приведшие его впоследствии к созданию «Эврики». Быть может, ключ к пониманию этой поэтической «экстраваганцы», которую критики пытались трактовать по-разному, дает одна из записей в «Marginalia» По: «Бесконечное число ошибок проникает в нашу философию вследствие привычки человека рассматривать себя как гражданина только одного мира, одной планеты, вместо того, чтобы думать о себе — по крайней мере хоть иногда — как о настоящем гражданине мира, обитателе Вселенной».
Перевод В. Топорова (третий по счету после переводов К. Бальмонта и В. Брюсова) сделан в 1976 г.
РОМАНС
Сочинение впервые появилось в сборнике 1829 г. под названием «Вступление» и было значительно большим по объему (см. перевод В. Брюсова — «Введение» и перевод В. Топорова — «Вступление», с. 145 наст. тома). В сокращенном виде под названием «Романс» опубликовано в сб. «Стихотворения» (1831).
Перевод Ю. Корнеева печатается по сб.: По Э. Лирика. Л., 1976.
К***
Оба этих альбомных стихотворения были помещены в сборнике 1829 г.
Перевод первого стихотворения М. Квятковской опубликован в сб.: По Э. Лирика. Л., 1976.
Перевод второго стихотворения, сделанный Э. Шустером, воспроизводится по кн.: По Э. Избранное. Биб-ка литературы США. М., Худ. лит-ра, 1984.
СТРАНА ФЕЙ
Стихотворение под этим названием впервые появилось в сборнике 1829 г. Для издания 1831 г. было радикально переработано и в таком виде печаталось впоследствии.
Перевод З. Морозкиной опубликован в первом томе избранных произведений Э. По 1972 г.
Перевод М. Квятковской — По Э. Лирика. Л., 1976.
Перевод Р. Дубровкина («Волшебная страна») — По Э. А. Стихотворения. М., Радуга, 1988.
См. также переводы К. Бальмонта («Фейная страна») и В. Брюсова.
К ЕЛЕНЕ
Впервые напечатано в сборнике 1831 г. Посвящено памяти Джейн Стэнард, матери школьного товарища поэта, скончавшейся в 1824 г. в возрасте 31 года. Эдгару По в то время было пятнадцать лет, и Д. Стэнард стала для него, по собственному признанию, воплощением «первой идеальной любви». Ее образ совмещается в его восприятии с Еленой Прекрасной греческих мифов.
Перевод А. Салтыкова («Стансы к Елене») был опубликован в «Русском обозрении» (1898, январь) и вошел затем в сборник «Стихотворения Эдгара По в лучших русских переводах» (1911).
Перевод В. Томашевского — По Э. Лирика. Л., 1976.
Перевод Г. Кружкова — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод Р. Дубровкина — По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
ИЗРАФЕЛ
Впервые опубликовано в сборнике «Стихотворения» (1831). Окончательный текст вошел в сборник «Ворон и другие стихотворения» (1845). Эпиграф, так же как и название для поэмы «Аль-Аарааф», поэт почерпнул из работы английского ученого Дж. Сэйла «Предварительное рассуждение о Коране» (1734).
Перевод В. Бетаки — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод В. Топорова, первый вариант которого появился в 1976 г., — По Э. А. Стихотворения. М., Радуга, 1988.
СПЯЩАЯ
Впервые опубликовано в 1831 г. под названием «Irene»; в переработанном виде с изменением названия вошло в сборник 1845 г.
Прозаический перевод Н. Г-ского («Уснувшая») — «Золотая нива», 1909, № 2.
Переводы А. Эппеля и Г. Кружкова — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
ДОЛИНА ТРЕВОГИ
Ранний вариант был опубликован в сборнике 1831 г., где он озаглавлен «Долина Ниса» (см. перевод В. Брюсова, с. 155 наст. изд.). Позже переработано и с измененным названием вошло в сборник 1845 г.
Перевод Г. Кружкова — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
ГОРОД СРЕДИ МОРЯ
Впервые опубликовано в сборнике «Стихотворения» (1831) под названием «Осужденный город» (см. перевод В. Брюсова, с. 157 наст. изд.). Более поздний вариант вошел в сборник 1845 г.
Перевод Н. Вольпин — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод Ю. Корнеева — По Э. Лирика. Л., 1976.
ТОЙ, КОТОРАЯ В РАЮ
Первоначально стихотворение, отличающееся большой музыкальностью и написанное под влиянием Байрона, было опубликовано в 1834 г., в тексте рассказа «Свидание» (см. этот рассказ и комментарии к нему во втором томе наст. собр. соч.). Потом, переработанное, печаталось отдельно и вошло в сборник «Ворон и другие стихотворения» (1845).
Перевод В. Рогова выполнен для изд. По Э. Избранное. М., 1958.
Перевод Ю. Корнеева — По Э., Лирика. Л., 1976.
Имеются два различных варианта перевода этого стихотворения, принадлежащие К. Д. Бальмонту. Первый см. стр. 87 наст. изд.; второй — в тексте рассказа «Свидание» (собр. соч. Эдгара По в переводе К. Д. Бальмонта. Изд. 3-е. Т. 2. М., 1913, с. 50):
Ты была мне — услада страданий, Все, чего я желал в забытьи, Ты как остров была в океане, Как журчащие звонко ручьи, И как храм, весь в цветах, весь в тумане, И цветы эти были мои. Слишком радостный сон, чтобы длиться! Упованье, что жило лишь миг! Чей-то зов из грядущего мчится, «Дальше! Дальше!» — слабеющий крик. Но над прошлым (где туча дымится!) Дух мой дрогнул — замедлил — поник. Потому что — о, горе мне! горе! — Блеск души отошел навсегда, Мне поет беспредельное море. «Никогда — никогда — никогда У подстреленной птицы во взоре Не засветится жизни звезда». И часы мои — призраки сказки, И ночные тревожные сны — Там, где взор твой, исполненный ласки, Где шаги твои тайно слышны — О, в какой упоительной пляске — У какой Итальянской волны! Да, в одном из морских караванов, Ту, чей образ так юн и красив, От Любви отвлекли для обманов, От меня навсегда отлучив! От меня, и от наших туманов, И от наших серебряных ив!ГИМН
Впервые стихотворение опубликовано в 1835 году в тексте рассказа «Морелла», но позже исключено автором оттуда и печаталось как отдельное сочинение.
Перевод А. Щербакова — По Э. Лирика. Л., 1976.
См. также перевод В. Рогова (1970) — т. 2 наст. изд.
СЕРЕНАДА
Впервые напечатано в журнале «Baltimore Saturday Visitor» 20 апреля 1833 г. и в прижизненные сборники не входило.
Перевод В. Топорова — По Э. Лирика. Л., 1976.
КОЛИЗЕЙ
Опубликовано в журнале «Baltimore Saturday Visitors» 26 октября 1833 г. Было представлено на конкурс, объявленный этим журналом, и признано лучшим из присланных стихотворений, но премии за него Э. По не получил, так как вышел победителем и в конкурсе на лучший рассказ («Рукопись, найденная в бутылке»), где приз был вдвое больше, а вручить обе премии одному автору жюри не посчитало возможным.
Ощущается перекличка с известным описанием Колизея в «Чайльд Гарольде» Байрона.
Высказывалось предположение, что стихотворение это — часть не завершенной Э. По драмы «Полициан».
Перевод Э. Гольдернесса — По Э. Избранное, М., 1958.
Перевод В. Бетаки — По Э., Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод А. Архипова — По Э. Лирика. Л., 1976.
Перевод Р. Дубровкина — По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
К Ф — С О — Д
В 1835 году это стихотворение было посвящено Элизе Уайт, дочери издателя журнала «Southern Literary Messenger». Но в сборнике «Ворон и другие стихотворения» (1845) обрело нового адресата — поэтессу Фрэнсис Сарджент Осгуд, которой Э. По был сильно увлечен в то время.
Перевод Э. Гольдернесса («В альбом Фрэнсис С. Осгуд») — По Э. Избранное. М., 1958.
Перевод Ю. Корнеева — По Э. Лирика. Л., 1976.
К Ф***
Впервые напечатано в 1835 г. в журнале «Southern Literary Messenger» под названием «К Мэри», но через десять лет поэт перепосвятил стихотворение Фрэнсис С. Осгуд.
Перевод Б. Томашевского — По Э. Лирика. Л., 1976.
ПОДВЕНЕЧНАЯ БАЛЛАДА
Впервые опубликована в 1837 г. в журнале «Southern Literary Messenger», вошла в сборник 1845 г. Вероятно, навеяна историей взаимоотношений поэта с Сарой Эльмирой Ройстер.
Перевод Ю. Корнеева — По Э. Лирика. Л., 1976.
К ЗАНТЕ
Сонет впервые опубликован в 1837 г. в журнале «Southern Literary Messenger», включен в сборник 1845 г.
Перевод П. Новича (Н. Н. Бахтина) — «Стихотворения Эдгара По в лучших русских переводах». СПб., 1911.
Перевод В. Рогова — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод В. Васильева — По Э. Лирика. Л., 1976.
ПРИЗРАЧНЫЙ ЗАМОК
Впервые это аллегорическое стихотворение было опубликовано отдельно в апреле 1839 г. в журнале «Тhe American Museum of Science, Literature and Art». В том же году осенью появилось в тексте рассказа «Падение дома Ашеров».
Перевод Н. Вольпин — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Имеются также переводы А. Голембы (По Э. Избранное. М., 1958) и В. Рогова (По Э. А. Полное собрание рассказов. М., Наука, 1970).
МОЛЧАНИЕ
Сонет (с кодой) опубликован в 1840 году в журнале «Gentleman's Magazine»; включен в сборник 1845 г.
Перевод В. Бетаки — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ
Стихотворение опубликовано в 1843 г. в журнале «Graham's Magazine». Через два года включено в текст рассказа «Лигейя».
Перевод В. Рогова — По Э. А. Полное собрание рассказов. М., 1970.
Перевод И. Гуровой (1972) см. в наст. изд., т. 2.
Имеется также перевод Н. Новича (Н. Н. Бахтина) — «Стихотворения Эдгара По в лучших русских переводах». СПб., 1911.
ЛИНОР
Стихотворение выросло из «Пеана», опубликованного в 1831 г.
Перевод Н. Вольпин — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод Г. Усовой — По Э. Лирика. М., 1976.
СТРАНА СНОВ
Впервые опубликовано в журнале «Graham's Magazine» в 1844 г., вошло в сборник 1845 г.
Перевод С. Андреевского — «Вестник Европы», 1878, № 7.
Перевод И. Вольпин — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
ЕВЛАЛИЯ
Впервые опубликовано в 1845 г.
Перевод Н. Новича (Н. Н. Бахтина) под названием «Нелли» — «Стихотворения Эдгара По в лучших русских переводах», СПб., 1911.
Перевод В. Рогова — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод В. Васильева — По Э. Лирика. Л., 1976.
ВОРОН
Впервые опубликовано 29 января 1845 г. в газете «Evening Mirror» и сразу же принесло поэту долгожданный успех.
«Механизм» создания стихотворения Э. По раскрыл в эссе «Философия творчества» (см. сб.: Эстетика американского романтизма. М., Искусство, 1977).
Перевод С. Андреевского (вообще первый перевод поэтического произведения Э. По на русский язык) — «Вестник Европы», 1878, № 3.
Перевод Л. Пальмина — в кн.: Пальмин Л. И. Сны наяву. М., 1878.
Перевод прозой неизвестного автора — в кн.: Повести, рассказы, критические этюды и мысли. М., 1885. Возможно, этот анонимный переводчик — И. Городецкий (см.: Либман В. А. Американская литература в русских переводах и критике. Библиография 1778–1975. М., Наука, 1977, с. 195).
Перевод Д. Мережковского — «Северный вестник», 1890, № 11.
Перевод Altalena (В. Жаботинского) — в кн.: Наши вечера. Лит. — худож. сборник, вып. 1. Одесса, 1903. Печ. по сб.: Чтец-декламатор, т. 2. Киев, 1907.
Перевод В. Федорова — в кн.: По Э. Поэмы и стихотворения в переводах Вас. Федорова. М., 1923.
Перевод М. Зенкевича — в кн.: Зенкевич М. Из американских поэтов. М., Гослитиздат, 1946.
Перевод В. Бетаки — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод В. Василенко — «Тетради переводчика», вып. 13. М., 1976.
Перевод М. Донского — По Э. Лирика. Л., 1976.
Переводы Н. Голя и В. Топорова — По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
ПРИЗНАНИЕ
Написано в феврале 1846 г. Согласно традиции, влюбленным в день святого Валентина, 14 февраля, полагалось обмениваться любовными посланиями. В стихотворении зашифровано имя Фрэнсис Сарджент Осгуд: следует читать первую букву первой строки, вторую — второй и т. д.
Перевод В. Федорова — в кн.: По Э. Поэмы и стихотворения в переводах Вас. Федорова. М., 1923.
Перевод Г. Бена — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод А. Щербакова — По Э. Лирика. Л., 1976.
К М. Л. Ш.
Два стихотворения, посвященных Марии Луизе Шью, которая ухаживала за больной женой Э. По Вирджинией, а после ее смерти — за самим поэтом, написаны в 1847 г.
Переводы В. Федорова — в кн.: По Э. Поэмы и стихотворения в переводах Вас. Федорова. М., 1923.
Перевод В. Топорова — По Э. Лирика. Л., 1976.
УЛЯЛЮМ
Впервые баллада опубликована в декабре 1847 г. в нью-йоркском журнале «American Review».
О популярности Э. По в России в начале XX в. свидетельствует, помимо всего прочего, стихотворение О. Мандельштама, написанное в 1913 г.:
Мы напряженного молчанья не выносим — Несовершенство душ обидно, наконец! И в замешательстве уж объявился чтец. И радостно его, приветствовали: просим! Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо: Кошмарный человек читает «Улялюм». Значенье — суета и слово — только шум, Когда фонетика — служанка серафима…Перевод А. Курсинского — в кн.: Курсинский А. Сквозь призму души. М., 1906.
Перевод М. Трубецкой — в кн.: Трубецкая М. По дороге. Полтава, 1909.
Перевод В. Федорова — в кн.: По Э. Поэмы и стихотворения в переводах Вас. Федорова. М., 1923.
Перевод Н. Чуковского — «Звезда», 1939, № 2.
Перевод В. Бетаки — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод В. Топорова — По Э. Лирика. Л., 1976.
ЗАГАДКА
Впервые опубликовано в 1848 г. в журнале «Union Magazine». Сонет содержит посвящение Сарре Анне Льюис, зашифрованное по тому же принципу, что и стихи, адресованные Марии Луизе Шью.
Перевод В. Федорова — в кн.: По Э. Поэмы и стихотворения в переводах Вас. Федорова. М., 1923.
Перевод Г. Бена — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод А. Щербакова — По Э. Лирика. Л., 1976.
КОЛОКОЛА
Стихотворение напечатано после смерти автора 27 октября 1849 года в журнале «Union Magazine».
Перевод В. Федорова — в кн.: По Э. Поэмы и стихотворения в переводах Вас. Федорова. М., 1923.
Перевод А. Оленича-Гнененко — «Дон», 1946» № 2.
Перевод В. Бетаки — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод М. Донского — По Э. Лирика. Л., 1976.
К ЕЛЕНЕ
Написано в 1848 г. и посвящено поэтессе Саре Елене Уитмен, с которой Э. По был помолвлен, но брак не состоялся.
Перевод В. Федорова — в кн.: По Э. Поэмы и стихотворения в переводах Вас. Федорова. М., 1923.
Перевод В. Рогова — По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод А. Архипова — По Э. Лирика. Л., 1976.
К АННИ
Опубликовано в апреле 1849 г. в журнале «Flag of Our Union». Посвящено Энни Ричмонд, близкому другу Э. По в последний год его жизни.
Перевод М. Трубецкой — в кн.: Трубецкая М. По дороге. Полтава, 1909.
Перевод В. Федорова — в кн.: По Э. Поэмы и стихотворения в переводах Вас. Федорова. М., 1923.
Перевод М. Зенкевича — в кн.: Зенкевич М. Из американских поэтов. М., 1946.
Перевод А. Сергеева — в кн.: По Э. Стихотворения. Проза. «БВЛ». M., 1976.
ЭЛЬДОРАДО
Баллада опубликована была 21 апреля 1849 г. в журнале «Flag of Our Union».
Перевод В. Федорова — в кн.: По Э. Поэмы и стихотворения в переводах Вас. Федорова. М., 1923.
Перевод В. Васильева — в кн.: По Э. Лирика. Л., 1976.
Перевод Э. Гольдернесса — в кн.: По Э. Избранное. М., 1958.
Перевод Н. Вольпин — в кн.: По Э. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М., 1972.
Перевод В. Рогова — в антологии: Американская поэзия в русских переводах XIX–XX века. М., Радуга, 1983.
СОНЕТ К МОЕЙ МАТЕРИ
Опубликован 7 июля 1849 г. в журнале «Flag of Our Union». Посвящено Марии Клемм, тетке поэта и матери его жены Вирджинии.
Перевод В. Топорова — в кн.: По Э. Лирика. Л., 1976.
ЭННАБЕЛ ЛИ
Опубликовано в газете «New York Daily Tribune» 9 октября 1849 г., в день похорон Э. По.
Первый перевод этого стихотворения в России, как и «Ворона», был сделан С. Андреевским («Вестник Европы», 1878, № 5).
Перевод Д. Садовникова — «Огонек», 1879, № 51.
Перевод В. Федорова — в кн.: По Э. Поэмы и стихотворения в переводах Вас. Федорова. М., 1923.
Перевод А. Оленича-Гнененко — «Дон», 1946, № 2.
Перевод В. Рогова — в кн.: По Э. А. Полное собрание рассказов. М., 1970.
О, TEMPORA! О, MORES!
Стихотворение написано в середине 1820-х годов.
Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
МАРГАРЕТ
Это стихотворение-шутка, составленное из строк Мильтона, Шекспира и других поэтов, было вписано Э. По в 1827 году в альбом Маргарет Бэссет.
Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
ОКТАВИИ
Сочинено в 1827 г. для альбома Октавии Уолтон.
Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
ОДИН
Стихотворение, написанное в 1829 г., сохранилось в альбоме Люси Холмс.
Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
АЙЗЕКУ ЛИ
Написано в 1829 г. и было включено в послание издателю Айзеку Ли, с которым Э. По вел переговоры о публикации сборника своих стихов.
Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
ЭЛИЗАБЕТ Р. ХЕРРИНГ
Этот акростих Э. По сочинил в 1829 г. для своей кузины Элизабет Ребекки Херринг.
Перевод Ю. Корнеева — в кн.: По Э. Лирика. М., 1976.
АКРОСТИХ
Еще один акростих, посвященный Э. Р. Херринг. Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
СТРОКИ ДЖОЗЕФУ ЛОККУ
Сатирическое стихотворение, написанное Э. По во время учебы в Вест-Пойнте. Высмеивает лейтенанта Джозефа Локка, бывшего там помощником военного инструктора.
Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
ВСТУПЛЕНИЕ
Опубликовано в сборнике «Стихотворения» (1831). Позже сокращено и переделано в стихотворение «Романс» (см. с. 264 наст. изд.).
Перевод В. Топорова — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
К***
Опубликовано в 1845 г. Обращено к Фрэнсис С. Осгуд.
Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
НЕТ КОРОЛЕЙ ГОСПОДНЕЙ ВЛАСТЬЮ
Еще одно стихотворение, характеризующее отношение Э. По к Ф. С. Осгуд, которая подписывала свои стихи псевдонимом Эллен Кинг.
Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
СТАНСЫ
Написано в 1845 г. и тоже адресовано Ф. С. Осгуд. Опубликовано в 1848 г. в журнале «Graham's Magazine».
Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
МИСС ЛУИЗЕ ОЛИВИИ ХАНТЕР
Написано в 1847 г., посвящено юной поэтессе Луизе Оливии Хантер.
Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
СТРОКИ В ЧЕСТЬ ЭЛЯ
Шутливое стихотворение написано, по преданию, в таверне провинциального города Лоуэлл в 1848 г.
Перевод Р. Дубровкина — в кн.: По Э. А. Стихотворения. М., 1988.
Святослав Бэлза
Стихотворения и поэмы Эдгара По в переводе Константина Бальмонта
ГЕНИЙ ОТКРЫТИЯ (Эдгар По. 1809–1849)
Он был страстный и причудливый безумный человек.
«Овальный портрет»Некоторые считали его сумасшедшим.
Его приближенные знали достоверно,
что это не так.
«Маска Красной Смерти»Есть удивительное напряженное состояние ума, когда человек сильнее, умнее, красивее самого себя. Это состояние можно назвать праздником умственной жизни. Мысль воспринимает тогда все в необычных очертаниях, открываются неожиданные перспективы, возникают поразительные сочетания, обостренные чувства во всем улавливают новизну, предчувствие и воспоминание усиливают личность двойным внушением, и крылатая душа видит себя в мире расширенном и углубленном. Такие состояния, приближающие нас к мирам запредельным, бывают у каждого, как бы в подтверждение великого принципа конечной равноправности всех душ. Но одних они посещают, быть может, только раз в жизни, над другими, то сильнее, то слабее, они простирают почти беспрерывное влияние, и есть избранники, которым дано в каждую полночь видеть привидения и с каждым рассветом слышать биение новых жизней.
К числу таких немногих избранников принадлежал величайший из поэтов-символистов Эдгар По. Это — сама напряженность, это — воплощенный экстаз — сдержанная ярость вулкана, выбрасывающего лаву из недр земли в вышний воздух, полная зноя котельная могучей фабрики, охваченная шумами огня, который, приводя в движение множество станков, ежеминутно заставляет опасаться взрыва.
В одном из своих наиболее таинственных рассказов, «Человек толпы», Эдгар По описывает загадочного старика, лицо которого напоминало ему образ Дьявола. «Бросив беглый взгляд на лицо этого бродяги, затаившего какую-то страшную тайну, я получил, говорит он, представление о громадной умственной силе, об осторожности, скаредности, алчности, хладнокровии, коварстве, кровожадности, о торжестве, веселости, о крайнем ужасе, о напряженном — о бесконечном отчаянии». Если несколько изменить слова этой сложной характеристики, мы получим точный портрет самого поэта. Смотря на лицо Эдгара По и читая его произведения, получаешь представление о громадной умственной силе, о крайней осторожности в выборе художественных эффектов, об утонченной скупости в пользовании словами, указывающей на великую любовь к слову, о ненасытимой алчности души, о мудром хладнокровии избранника, дерзающего на то, перед чем отступают другие, о торжестве законченного художника, о безумной веселости безысходного ужаса, являющегося неизбежностью для такой души, о напряженном и бесконечном отчаянии. Загадочный старик, чтобы не остаться наедине со своей страшной тайной, без устали скитается в людской толпе; как Вечный Жид, он бежит с одного места на другое и, когда пустеют нарядные кварталы города, он, как отверженный, спешит в нищенские закоулки, где омерзительная нечисть гноится в застоявшихся каналах. Так точно Эдгар По, проникнувшись философским отчаяньем, затаив в себе тайну понимания мировой жизни, как кошмарной игры, большего в меньшем, всю жизнь был под властью демона скитания и от самых воздушных гимнов серафима переходил к самым чудовищным ямам нашей жизни, чтобы через остроту ощущения соприкоснуться с иным миром, чтобы и здесь, в провалах уродства, увидеть хотя северное сияние. И как загадочный старик был одет в затасканное белье хорошего качества, а под тщательно застегнутым плащом скрывал что-то блестящее, бриллианты или кинжал, так Эдгар По в своей искаженной жизни всегда оставался прекрасным демоном, и над его творчеством никогда не погаснет изумрудное сияние Люцифера.
Это была планета без орбиты, как его назвали враги, думая унизить поэта, которого они возвеличили таким названием, сразу указывающим, что это — душа исключительная, следующая в мире своими необычными путями и горящая не бледным сиянием полуспящих звезд, а ярким, особым блеском кометы. Эдгар По был из расы причудливых изобретателей нового. Идя по дороге, которую мы как будто уже давно знаем, он вдруг заставляет нас обратиться к каким-то неожиданным поворотам и открывает не только уголки, но и огромные равнины, которых раньше не касался наш взгляд, заставляет нас дышать запахом трав, до тех пор никогда нами невиданных и однако же странно напоминающих нашей душе о чем-то бывшем очень давно, случившемся с нами где-то не здесь. И след от такого чувства остается в душе надолго, пробуждая или пересоздавая в ней какие-то скрытые способности, так что после прочтения той или другой необыкновенной страницы, написанной безумным Эдгаром, мы смотрим на самые повседневные предметы иным, проникновенным взглядом. События, которые он описывает, все проходят в замкнутой душе самого поэта; страшно похожие на жизнь, они совершаются где-то вне жизни, out of space — out of time, вне времени — вне пространства, их видишь сквозь какое-то окно и, лихорадочно следя за ними, дрожишь оттого, что не можешь с ними соединиться.
Язык, замыслы, художественная манера, все отмечено в Эдгаре По яркою печатью новизны. Никто из английских или американских поэтов не знал до него, что можно сделать с английским стихом, прихотливым сопоставлением известных звуковых сочетаний. Эдгар По взял лютню, натянул струны, они выпрямились, блеснули и вдруг запели всею скрытою силой серебряных перезвонов. Никто не знал до него, что сказки можно соединять с философией. Он слил в органически целое единство художественные настроения и логические результаты высших умозрений, сочетал две краски в одну и создал новую литературную форму, философские сказки, гипнотизирующие одновременно и наше чувство, и наш ум. Метко определив, что происхождение Поэзии кроется в жажде Красоты более безумной, чем та, которую нам может дать земля, Эдгар По стремился утолить эту жажду созданием неземных образов. Его ландшафты изменены, как в сновидениях, где те же предметы кажутся другими. Его водовороты затягивают в себя и в то же время заставляют думать о Боге, будучи пронизаны до самой глубины призрачным блеском месяца. Его женщины должны умирать преждевременно, и, как верно говорит Бодлер, их лица окружены тем золотым сиянием, которое неотлучно соединено с лицами святых.
Колумб новых областей в человеческой душе, он первый сознательно занялся мыслью ввести уродство в область красоты и, с лукавством мудрого мага, создал поэзию ужаса. Он первый угадал поэзию распадающихся величественных зданий, угадал жизнь корабля, как одухотворенного существа, уловил великий символизм явлений Моря, установил художественную, полную волнующих намеков, связь между человеческой душой и неодушевленными предметами, пророчески почувствовал настроение наших дней и в подавляющих мрачностью красок картинах изобразил чудовищные — неизбежные для души — последствия механического миросозерцания.
В «Падении дома Эшер» он для будущих времен нарисовал душевное распадение личности, гибнущей из-за своей утонченности. В «Овальном портрете» он показал невозможность любви, потому что душа, исходя из созерцания земного любимого образа, возводит его роковым восходящим путем к идеальной мечте, к запредельному первообразу, и как только этот путь пройден, земной образ лишается своих красок, отпадает, умирает, и остается только мечта, прекрасная, как создание искусства, но — из иного мира, чем мир земного счастья. В «Демоне извращенности», в «Вилльяме Вильсоне», в сказке «Черный кот» он изобразил непобедимую стихийность совести, как ее не изображал до него еще никто. В таких произведениях, как «Нисхождение в Мальстрём», «Манускрипт, найденный в бутылке» и «Повествование Артура Гордона Пима», он символически представил безнадежность наших душевных исканий, логические стены, вырастающие перед нами, когда мы идем по путям познания. В лучшей своей сказке, «Молчание», он изобразил проистекающий отсюда ужас, нестерпимую пытку, более острую, чем отчаяние, возникающую от сознания того молчания, которым окружены мы навсегда. Дальше, за ним, за этим сознанием, начинается беспредельное царство смерти, фосфорический блеск разложения, ярость смерча, самумы, бешенство бурь, которые, свирепствуя извне, проникают и в людские обиталища, заставляя драпри шевелиться и двигаться змеиными движениями, — царство, полное сплина, страха и ужаса, искаженных призраков, глаз, расширенных от нестерпимого испуга, чудовищной бледности, чумных дыханий, кровавых пятен и белых цветов, застывших и еще более страшных, чем кровь.
Человек, носивший в своем сердце такую остроту и сложность, неизбежно должен был страдать глубоко и погибнуть трагически, как это и случилось в действительности.
Отдельные слова людей, соприкасавшихся с этим великим поэтом, характеризующие его как человека, находятся в полной гармонии с его поэзией. Он говорил тихим, сдержанным голосом. У него были женственные, но не изнеженные манеры. У него были изящные маленькие руки и красивый рот, искаженный горьким выражением. Его глаза пугали и приковывали, их окраска была изменчивой, то цвета морской волны, то цвета ночной фиалки. Он редко улыбался и не смеялся никогда. Он не мог смеяться — для него не было обманов. По удачной формуле одной из женщин, которых он любил, он, как родственный ему Де-Куинси, никогда не предполагал — он всегда знал. Как его собственный герой, капитан фантастического корабля, бегущего в полосе скрытого течения к Южному полюсу, он во имя Открытия спешил к гибели, и хотя на лице у него было мало морщин, на нем лежала печать, указывающая на мириады лет.
Его поэзия, ближе всех других стоящая к нашей сложной больной душе, есть воплощение царственного Сознания, которое с ужасом глядит на обступившую его со всех сторон неизбежность дикого Хаоса.
К. Бальмонт
ОЧЕРК ЖИЗНИ ЭДГАРА ПО
…doubting, dreaming dreams no
mortal ever dared to dream before…
TheRavenЗАМЕЧАНИЕ. Предлагаемый очерк жизни Эдгара По представляет из себя не более как краткую сводку того, что мне казалось в ней наиболее важным и общеинтересным. При составлении его я опирался главным образом на три исследования:
The Life of Edgar Allan Рое. By William F. Gill. Illustrated. London. 1878.
Edgar Allan Рое, his Life, Letters, and Opinions. By John H. Ingram. With Portraits of Рое and his Mother. 2 vols. London. 1880.
Life and Letters of Edgar Allan Рое. By James A. Harrison (Illustrated). 2 vols. New York. 1902 and 1903.
В значительной степени все три исследования повторяют одно другое, находясь одно от другого в естественной временной зависимости. В работе Гилля, хотя и сильно устаревшей, есть доселе очень много ценного. Исследование Ингрэма, по своей точке зрения чисто биографической, является пока наилучшим. Вышедшая значительно позднее работа Гаррисона включает в себя очень много новых материалов, и чисто литературные его оценки и суждения весьма любопытны и красноречивы, но он грешит нагромождением лишних сведений, заставляющих нас слишком близко соприкасаться с незначительными личностями той эпохи, которым лишь там и надлежит оставаться, ибо не все нужно тащить к зеркалу Вечности. Я старался в своем очерке быть строго летописным и, имея в виду не раз еще вернуться к Эдгару По, говорю от самого себя лишь то, что было строго необходимо сказать. Английские души не могут никак обойтись без обвинения или оправдания, приближаясь к существу исключительному. Если что-нибудь из этого проскользнуло и в мои строки, это вынужденно. Я полагаю, что такие гении, как Эдгар По, выше какого-либо обвинения или оправдания. Можно пытаться объяснять красный свет планеты Марс. Обвинять его или оправдывать смешно. И странно обвинять или оправдывать ветер Пустыни, с ее песками и далями, с ее Ужасом и Красотой, ветер, рождающий звуки, неведомые не бывшим в Пустыне.
1. Детство. Отрочество. Юность
Эдгар По был из древнего ирландского рода. Его дед с отцовской стороны, генерал Давид По, в раннем возрасте был взят своими родителями в Соединенные Штаты, полюбил свою новую родину и впоследствии весьма отличился во время войны за независимость. Генерал По в точном смысле слова был патриотом. Чтобы одеть, накормить и пристойно устроить вверенных ему голодных и оборванных солдат, он лишил себя всего своего наследства. Американское правительство впоследствии не возместило его убытков, к крайнему негодованию одного из ближайших друзей генерала По, знаменитого Лафайетта, который, посетив Америку в 1824 году, нашел вдову генерала По скорей в стесненном положении, нежели в состоянии благополучия, — ту самую женщину, которая в 1781 году сама выкроила и наблюдала за приготовлением сотен одеяний для героических оборванцев Лафайетта. «Baltimore Gazette», Балтиморская газета, тех дней со старомодной трогательностью описывает это свидание: «Генерал Лафайэтт чувствительно обнял мистрис По, восклицая в то же время со слезами: «В последний раз, как я обнял вас, Madame, вы были моложе и более цветущей, чем теперь». Он посетил со своею свитой могилу генерала По на «Первом Пресвитерианском Кладбище», и, став на колени, поцеловал землю, бывшую над покойником, и плача воскликнул: «Ici repose un coeur noble!» — «Здесь покоится благородное сердце!» — справедливая дань памяти благого, если не великого человека».
Старший сын генерала По, носивший его имя, Давид, был определен родителями к юриспруденции. Но карьера адвоката его не пленяла. Он увлекся — частью веселыми пирушками, частью сценическими зрелищами, и основал, вместе с несколькими своими юношами-товарищами, некое сообщество для развития вкуса к драме. Заседания этого малого клуба происходили в одной просторной комнате, в доме, принадлежавшем генералу По. Каждую неделю на них читались отрывки из старинных драматургов и игрались ходкие пьесы тех дней. Пренебрежение к юриспруденции и увлечение драматургией окончилось влюбленностью Давида По в юную, красивую и большеглазую английскую актрису, Элизабет Арнольд, которой Судьба предназначила даровать миру Эдгара По. Ее судьба вообще была изумительна. Как гласят биографы, эта красивая девушка имела в себе все элементы духа, будучи «девушкой без какой-либо страны»: она родилась посреди океана, в то время как ее мать, пересекая Атлантику, уезжала из Англии в Америку; ее мать, родив ее, умерла, отца у нее не было, и кто-то чужой, сжалившись над ней, приютил ее, воспитал и приготовил к сцене. Любопытно отметить, что при первом дебюте своем, в августовский вечер 1797 года, в Нью-Йорке, она выступила в пьесе, которая называлась «Балованное дитя». «Каждый, кто взглянет на портрет Элизабет Арнольд, — справедливо говорит Гаррисон, — не может не почувствовать, что именно такое воздушное лицо должно было быть у Марэллы, Элеоноры и Лигейи. Это лицо эльфа, духа, Ундины, которой надлежало стать матерью самого эльфного, самого неземного из поэтов. Таким образом, в жилах Эдгара По слились богатые токи ирландской, шотландской, английской и американской крови и слияли в нем в одно кельтийский мистицизм, ирландскую пламенность, шотландскую мелодию, тонкую, с радужными краями, фантазию Шелли и Кольриджа и живую независимость заатлантического американца, в котором возродились все отличительные свойства Старого мира и которому все эти сокровища музыки и воображения, страсти и тайны были дарованы какой-нибудь фейной крестной матерью. Элизабет Арнольд отличалась в пении, танце и драматической игре, и ей было так же легко исполнять роль Офелии и Корделии, как изобразить с изяществом польский танец под волынку Давида По». Эдгар По впоследствии всегда лелейно относился к памяти своей матери и в самую блестящую пору своей жизни он однажды сказал, что никакой граф никогда не был так горд своим графством, как он своим происхождением от женщины, которая, хотя из хорошей семьи, не поколебалась посвятить драме свою короткую карьеру гения и красоты. Но, если так думал поэт Эдгар По, не так полагал генерал Давид По, и брак отца и матери будущего поэта был одним из тех осужденных браков, которые возникают мгновенно, соединяя для слепого внезапного счастья и долгих зорких часов заботы и нищеты двух юных влюбленных. Родители отреклись от сына и примирились с ним лишь после рождения первого ребенка, Вилльяма. От сцены к сцене молодая талантливая актриса и юный влюбленный актер, не имевший особого дарования, вели бродячую жизнь. От Чарльстона к Нью-Йорку, от Нью-Йорка к Бостону, от Бостона к Ричмонду, от Ричмонда к Вашингтону, и еще, и много разных еще, с малыми детьми, в злополучных повозках того времени, загроможденных театральным хламом.
В высшей степени достопримечательно, что как раз за девять месяцев перед рождением поэта, 18 апреля 1808 года, мистер и мистрис По выступали в трагедии Шиллера «Разбойники» в соучастии со своими старыми друзьями, мистером и мистрис Эшер.
Эдгар По родился в Бостоне 19 января 1809 года, и Гаррисон называет этот год звездным годом в историческом календаре, ибо в этот AnnuzMirabiliz родились его любимые поэты: Элизабет Баррэтт-Баррэтт, впоследствии Броунинг, которой как «благороднейшей из представительниц ее пола» он посвятил в 1845 году «Ворона и Другие Поэмы», и Альфред Тэннисон, которого он называл величайшим поэтом из когда-либо живших; Чарльз Дарвин, Шопен и Мендельсон, Линкольн и Гладстон. Не забудем также, что в этом году, двумя месяцами позднее, родился и родственный Эдгару По Гоголь, самый фантастический из русских писателей.
Когда Эдгару было лишь два года, его мать и его отец почти одновременно умерли от чахотки, оставив троих детей, — Элизабет Арнольд умерла в декабре, в холодном месяце незабвенного Ворона. Двоих малых сирот приютили чужие люди. Эдгар По был усыновлен богатым шотландским купцом Джоном Аллэном, поселившимся в Виргинии; Розали, младший ребенок, другим шотландцем Мэккензи, а старший ребенок, Вилльям, был взят дедом, генералом По. Сохранился рассказ о том, что, когда мистер Аллэн и мистер Мэккензи, услышав, что любимица публики, мистрис По, тяжело больна, пришли к ней, они нашли ее в нищенском помещении на соломенной постели, в доме не было ни монет, ни пищи, ни дров, вся одежда была заложена или продана, дети были полуодетые и полуголодные, а младший ребенок был в оцепенении, ибо старуха, за ним присматривавшая, чтобы успокоить его и придать ему силы, накормила его хлебом, намоченным в джине. Устрашающая картина, в которой для Эдгара По было много предвещательного.
Через две недели после смерти мистрис По театр, в котором она играла, сгорел в Святочный вечер, и во время этого страшного пожара погибло шестьдесят человек. Об этом пожаре знали повсюду в Соединенных Штатах и много лет спустя о нем рассказывали. Упорное предание повествовало также, что в этот вечер оба По сгорели в театре заживо.
Маленький Эдгар уже в два года обращал на себя внимание живостью и умом, которые светились в его детских глазах. Это жена Аллэна, пленившись ребенком, убедила своего мужа усыновить его, ибо у них, несмотря на несколько лёт супружества, детей не было. Эдгар вошел в зажиточный, и даже богатый, дом, в котором приемная мать любила его до самой своей смерти, а приемный отец гордился своим приемышем, преждевременно являвшим различные таланты, — хотя временами был скор на руку, и, будучи вспыльчив, порою сурово наказывал мальчика. К возрасту пяти-шести лет Эдгар умел читать, писать, рисовать, писать красками и декламировать стихи на забаву обедающих гостей; на забаву же их, наученный мистером Аллэном быть приятным для гостей, он становился на стул, поднимал стакан с разбавленным вином и, делая самые жеманные ужимки, провозглашал тост за всех, грациозно прихлебывал вино и с шаловливым смехом опять садился на свое место, при общем одобрении пировавших. Он был одет, как маленький принц, у него была лошадь пони, на которой он ездил верхом, собственные собаки, чтобы сопровождать его, и ливрейный грум. У него всегда были в достаточном количестве карманные деньги, и в детских играх у него всегда была какая-нибудь любимица, которую, пока прихоть длилась, он засыпал подношениями — плодами, цветами и подарками. В связи с одним из таких детских увлечений он влез на дерево, свалился в находившийся перед ним пруд и едва не утонул. Он не всегда слушался мистера Аллэна, и однажды, когда ему грозило суровое наказание, явил необыкновенную для пятилетнего возраста находчивость. Он попросил мистрис Аллэн заступиться за него, но, когда та сказала, что она не может в это вмешиваться, он отправился в сад, собрал хорошую связку прутьев, вернулся домой и молчаливо протянул их мистеру Аллэну. «Это зачем?» — спросил тот. «Чтобы высечь меня», — ответил мальчик, сжав за спиною руки, подняв голову и пристально устремив на своего блюстителя напряженный взгляд больших потемневших глаз. Как и предвидел пятилетний Эдгар, мистер Аллэн был побежден этим мужеством. Но даже тогда, когда дело кончалось не столь благополучным образом, Эдгар не чувствовал злопамятности но поводу действительной или мнимой обиды. Тотчас же после какого-нибудь наказания он мог с истинной сердечностью охватить своими ручонками шею приемного отца и целовать его. Он был живым, светлым и привязчивым ребенком, — стремительным и своенравным, это так, но никогда не угрюмым и не зловольным. Красивый баловень, маленький любимец, голос которого, по собственным его словам, сказанным впоследствии, был законом в доме, и который в том возрасте, когда дети едва оставляют свои помочи, на коих водят их, был вполне предоставлен своей собственной воле и был господином своих поступков. Если бы жизнь продолжала этот означенный для него путь, а не привела резким поворотом к чудовищному нагромождению препятствий, превышающих силы отдельного человека!
В июне 1815 года, за день перед битвой при Ватерлоо, мистер Аллэн отправился со своей семьей в Англию по одному делу, которое, как он думал, задержит его там лишь на малое время, на самом же деле он остался там на целых пять лет. Вместе с ним был и Эдгар, который совершил, таким образом, памятное морское путешествие в том возрасте, когда впечатления западают в душу наиболее глубоко, и, оставаясь пять лет в Англии, захватил своим зорким умом и чувством гениального ребенка все очарование этой отъединенной и таинственной страны. Он был отдан в школу в Сток-Ньюингтоне — тогда одно из предместий Лондона. Этот пригород — вернее селение — состоял в то время из одной длинной улицы, усаженной развесистыми вязами и бывшей остатком одной из проложенных римлянами дорог. Тенистые аллеи, зеленые лужайки, тени Елизаветы, Анны Болейн, ее злополучного возлюбленного, графа Перси, старинное здание, зачаровавшее ребенка своею готической мрачной красотой и позднее описанное им с поэтической точностью в одном из любимых его рассказов «Вилльям Вильсон». В одной из священных загородок большой школьной комнаты, с дубовым потолком и готическими окнами, заседал в свое время долго скрывавший свое преступление и воспетый поэтами знаменитый убийца, Евгений Арам. Когда в воскресное послеполуденье тяжелые ворота здания со скрипом раскрывались и выпускали на волю маленького мечтателя и его товарищей, они шли под гигантскими узловатыми деревьями, среди которых некогда жил друг Шекспира, Эссекс, или смотрели с удивлением на толстые стены и глубокие окна и двери, с их тяжелыми замками и засовами, за которыми был написан «Робинзон Крузо».
Здесь Эдгар По впервые правильно учился английскому языку, латинскому, французскому и математике. А совсем недалеко от него, на небольшом расстоянии от Сток-Ньюингтона, жили в то время гениальные юноши, Байрон, Шелли и Китс, которые в это памятное пятилетие выступили со своими звонкими песнями.
Преподобный доктор Брэнсби, сохранивший в рассказе «Вилльям Вильсон» истинный свой лик и даже свое имя, оказал на Эдгара По сильное влияние не только своими постоянными цитатами из Горация и Шекспира, но и благородным пониманием души ребенка. Он запомнил своего маленького американского воспитанника и годы спустя вспоминал сочувственно о его способностях и с осуждением говорил, что у мальчика всегда было очень много карманных денег.
Пять лет в Англии и дважды совершенное океанское путешествие предрешили многое в развитии отличительных черт Эдгара По как поэта, и дали ему возможность впоследствии верно найти себя. «Грезить, — восклицает Эдгар По в своем рассказе «Свидание», — грезить было единственным делом моей жизни, и я поэтому создал себе, как вы видите, беседку грез». Эта идеальная беседка грез, обрисовывающаяся перед нами во всех духовно-пленительных сказках певучего сновидца, возникла в своих теневых очертаниях впервые в старинной Англии, а морская волна и ропот морского ветра нашептали ему рассказы о тех воздушных существах, которые движутся перед нами в таких его произведениях, как «Манускрипт, найденный в бутылке», «Нисхождение в Мальстрём» или «Остров Феи». Влияние океанского путешествия на детский ум Эдгара превосходно, отмечает Гаррисон. «Ни один добросовестный биограф, — говорит он, — не преминет отметить, какие любопытные психологические эффекты Моря должны были быть оказаны на впечатлительный характер По в продолжении длительных океанских путешествий почти столетие тому назад, когда месяц был быстрым переездом через седую Атлантику, и преждевременно развившийся ребенок, сначала шести, потом двенадцати-тринадцати лет, провел месяц, или целых два месяца, существования на преломлении лета, среди блесков июньских морей. Никто не изобразил ветер в мириаде его магических очертаний, и форм, и ощущений, или воду в ее бесконечных различностях цвета и движения более четко, чем автор «Артура Гордона Пима», «Манускрипта, найденного в бутылке» и «Падения дома Эшер». Эолова рьяность фантазии поэта, шеллиевская многогранность фразы и ритма, с которыми он живописует ветер и воду, бурю и тишь, прудок и озеро, истолковывая тысячекратные тайны воздуха и выпуская на волю, из их запертых уединений с несчетними складками, трепеты внушения и ужаса, должны были по крайней мере зародиться в эти замедленные отроческие странствия по океану. Оба раза он пересекал Атлантику в июне, когда лучезарность звезд являет себя во всей их красоте на преломлении лета и когда «полумесяц Астарты алмазной» и звездные иероглифы неба выступают в лазури сгустками огня, дабы навсегда быть сложенными в сокровищницу в звездных поэмах и в звездных намеках. «Манускрипт, найденный в бутылке» есть водная поэма с начала до конца, написанная в тот ранний возраст, когда юноша живо помнил эти впечатления. Зефироподобные, из паутины сотканные, женщины Сказок суть воплощения шепчущих ветров; их движения суть ветерковые волнообразности воздуха, идущего над склоняющимися колосьями; их мелодичные голоса суть лирические возгласы ветра, возжаждавшего говорить членораздельною речью через горла, подобные флейтам; и полны страсти, и отягощены значением, музыкальные изменения выражения, что свеваются с их губ как благовония, вздохом исшедшие из цветочных чаш».
В 1820 году путники были опять дома, в Виргинии, желанной Эдгару По по многим причинам, а впоследствии возлюбленной им за то, что имя этой области совпадало с именем жены его, которую он идолопоклоннически любил. Полудетские впечатления нашли верное выражение: 1821–1822 годы были начальным периодом созидания стихов.
В 1822 году мистер Аллэн поместил своего приемного сына в школу, в городе Ричмонде, в Штате Виргиния, где Аллэны опять поселились. Воспоминания сверстников и сверстниц неизменно рисуют Эдгара По красивым, смелым, причудливым и своенравным, черты, которые он сохранил на всю жизнь. Некоторые подробности детских шалостей до странности совпадают с теми литературными приемами, которые позднее предстали как отличительные особенности творческого дарования Эдгара По. Кто-то рассказывает: «С отцом и с матерью мы отправились провести Святочный вечер с Аллэнами. Среди игрушек, приготовленных для наших забав, была некая змея, длинная, гибкая, глянцевитая, разделенная как бы на суставы, которые были соединены проволоками, и ребенок, взяв змею за хвост, мог заставить ее извиваться и бросаться кругом самым жизнеподобным образом. Это отвратительное подобие змеи Эдгар взял в руку и, пугая, прикасался им к моей сестре Джэн до тех пор, пока она почти не обезумела». Наивный человек прибавляет: «Этого низкого поступка я ему не мог простить доселе». Вероятно, позднее этот человек не мог ему простить и таких его сказок, как «Черный кот» или «Сердце-Изобличитель». Другой рассказ из тех дней еще более определителей: «Однажды, в доме моего отца было заседание «Джентльменского Клуба Игры в Вист». Члены Клуба и немногие из приглашенных гостей собрались и уселись за столиками, расставленными тут и там в большой зале, и все было так гладко и спокойно, как это было в некоторую «Ночь под Рождество», о которой мы читали, как вдруг появилось привидение. Привидение, несомненно, ожидало, что все общество игроков в вист будет испугано, и, действительно, они были приведены в некоторое движение. Генерал Уинфильд Скотт, один из приглашенных гостей, с решимостью и быстротою старого солдата прыгнул вперед, как будто он руководил нападением на маневрах. Доктор Филипп Торнтон, из Раппагэннока, другой гость, был, однако, ближе к двери и более проворен. Привидение, увидя, что его теснят, начало отступать, пятясь кругом по комнате, но не отвращая своего лица от врага, и, когда доктор дотянулся до него и попытался схватить привидение за нос, привидение хлопнуло его по плечу длинной палкой, которую оно держало в одной руке, в то время как другой противоборствовало, чтобы не быть схваченным за простыню, облекавшую его тело. Когда, наконец, оно вынуждено было сдаться и маска снята была с его лица, Эдгар смеялся так сердечно, как это делало когда-либо раньше какое-нибудь привидение». Очень определителен еще следующий рассказ: «Один школьник, Сэлден, сказал кому-то, что По лгун или мошенник. Будущий поэт услыхал об этом, и вскоре между мальчиками возгорелся бой. Сэлден был дороднее По, и некоторое время он его знатно тузил. Слабый мальчик, по-видимому, подчинился ему без особого сопротивления. Вдруг По опрокинул чашу весов и, к великому удивлению зрителей, превесьма поколотил своего соперника. Когда его спросили, почему он позволил Сэлдену так долго тузить его, По отвечал, что он ждал, когда его противник задохнется, перед тем как показать ему кое-что в искусстве боя».
В Ричмондской школе Эдгар По сделал большие успехи во французском языке и в латинском, но еще больше в плавании и в беге. Один из его товарищей говорит в своих воспоминаниях, что Эдгар По был своевольным, капризным, склонным быть повелительным и, хотя исполненным благородных порывов, не всегда добрым, или даже любезным, и, таким образом, он не был повелителем или даже любимцем школы. Было тут нечто и другое, более важное для психологии школьников. Об Эдгаре По знали, что родители его были актер и актриса и что он зависел от доброты того, кто взял его как приемного сына. Все это вместе влияло, по-видимому, на мальчиков так, что мешало им выбрать его вождем. Нужно еще сказать, что мистер Аллэн гордился своим красивым и одаренным приемышем, но он не испытывал к нему отеческой привязанности — чувство, которого всегда хотело впечатлительное сердце этого тонко-чувствительного существа. Трудно оценить, с каких ранних дней запала горечь в сердце Эдгара По и как рано зоркий его ум увидел несоответствие между внутренними достоинствами отдельного человека и внешним отношением к нему людей.
Очень интересны воспоминания об Эдгаре По доктора Эмблера: «Я помню моего старого школьного сверстника, Эдгара Аллэна По. Я провел мои ранние годы в городе Ричмонде, и в промежуток времени 1823–1824 года я был в постоянной с ним близости. Никто из живущих, смею сказать, не имел наилучшего случая познакомиться с его телесными свойствами, ибо два лета мы раздевались ежедневно для купания и учились плавать в том же самом прудике, в бухточке Шоко. Эдгар По не выказывал способности к плаванию; позднее, однако же, он сделался знаменит, совершив плавание от Уорвика до Моста Майо». Сам Эдгар По, говоря об этом случае своей жизни, замечает: «Любой плавательчерез пороги в мои дни переплыл бы Геллеспонт и ничего бы особенного об этом не думал. Я проплыл от Набережной Лодлэма до Уорвика (шесть миль) под жарким июльским солнцем против одного из самых сильных течений, какие вообще ведомы в реке. Проплыть двадцать миль в тихой воде было бы достижением сравнительно легким. Я бы не так уж много думал и о попытке переплыть Британский Канал из Довера в Калэ». Легкость такой попытки есть, конечно, поэтическое преувеличение, но факт того, что он проплыл шесть миль, засвидетельствован его сверстниками, впоследствии полковником Майо и доктором Кэбеллем. Майо, проплыв три мили, отказался от дальнейшего состязания, а Эдгар По, несмотря на крайне жаркий день, доплыл до конца, но, когда он вышел из воды, все лицо его, шея и спина были покрыты волдырями. Он, однако, не казался очень усталым и немедленно после такого свершения, предпринятого на пари, пошел назад пешком в Ричмонд.
Полковник Майо рассказывает еще о другом, более опасном предприятии. Однажды, посреди зимы, когда они стояли на берегах Реки Иакова, Эдгар По поддразнивал своего товарища и манил прыгнуть в воду, чтобы доплыть с ним до известной точки. После того как они некоторое время барахтались в полузамерзшем потоке, они достигли свай, на которых покоился тогда Мост Майо, и весьма были рады, что могут остановиться и попытаться достичь берега, взобравшись по устою до моста. Достигши моста, они, однако же, заметили, к своему смятению, что помост находится на несколько футов над устоем, и восхождение этим способом есть невозможность. Им не осталось ничего другого, как спуститься и направиться обратно тем же путем, что они и сделали, измученные и полузамерзшие: Эдгар По достиг суши совершенно истощенный, а Майо был подобран дружеской лодкой в ту самую минуту, когда он начал тонуть. Достигши берега, Эдгар По был схвачен страшным приступом рвоты, и оба пловца были больны в течение нескольких недель. — Полковник Майо помнит Эдгара По как надменного, красивого, горячего и своевольного юношу, нерасположенного к рукопашной схватке, но с большой умственной силой, и с всегдашней готовностью уцепиться за какую-нибудь трудную умственную проблему.
В то время, когда Эдгар По был в Ричмондской школе, он пришел однажды к одному из своих товарищей, мать которого звалась Елена Стэннэрд. Собственное ее имя было Джэн, но Эдгар По не любил имя Джэн и заменил его означительным именем Елена. Войдя в комнату, эта леди взяла его за руку и сказала ему несколько ласковых слов, и эта ласка чужого человека до такой степени сильно потрясла мальчика-юношу, что он онемел и был близок к потере сознания. Эта напряженная чувствительность к чужой доброте по отношению к нему была одной из самых выдающихся черт характера Эдгара По за всю его жизнь. Елена Стэннэрд сделалась поверенной его полудетских скорбей, но проклятие, преследовавшее Эдгара По всю его недолгую жизнь, пожелало, чтобы через несколько месяцев она лишилась рассудка и умерла. И мальчик, помнивший потом эту ласковую тень всю жизнь, приходил к ней на могилу много месяцев спустя после ее смерти, и чем темнее и холоднее была ночь, тем он дольше оставался на могиле, чтобы ушедшей было не так холодно в гробу.
Эдгару По было суждено, чтобы всю жизнь его сопровождала тень. Призрак безумной Елены проходит через его сказки и баллады, не покидая его никогда, как призрачно-прекрасный лик его матери, заключенный в медальон, был при нем до смертного его часа.
Если так быстро порвалось первое идеальное соотношение его души с женской душой, приблизительно в это же время он узнал и первое любовное разочарование. Сара Эльмира Ройстер, юная девушка шестнадцати лет, полюбила Эдгара По, который был старше ее лишь на год, и он полюбил ее. «Он был джентльмен в истинном смысле этого слова», — писала она много лет спустя. «Он был одним из самых очаровательных и утонченных людей, которых я когда-либо видела. Я восхищалась им более чем каким-либо человеком когда-нибудь». Эта юношеская любовь длилась до поступления Эдгара По в Университет в 1826 году. Он написал ей оттуда несколько писем, но ей не пришлось их прочесть не по неаккуратности почты. Ее отец перехватил их. Она узнала об этом лишь тогда, когда семнадцати лет мисс Ройстер сделалась мистрис Шельтон. Тривиальный роман, каких в мире были миллионы. Но не каждая душа обманутого получает глубокую царапину в сердце. И судьбе было угодно, чтобы Эдгар По встретился со своей Эльмирой перед самой смертью и вторично стал ее женихом, но как с невестой юности его разлучила жизнь, так с невестою предсмертных дней его разлучила смерть.
2. Юность. Творчество
Виргиниевский Университет, в который поступил Эдгар По в 1826-м году, расположен в очаровательной местности, окруженной горами и описанной позднее поэтом в «Сказке Извилистых Гор». У юного мечтателя, любившего одиночество и совершавшего в горах долгие прогулки наедине с самим собой или в обществе верной собаки, были излюбленные тропинки, которых не знал никто, лесные лужайки, тенистые чащи, лабиринты из серебряных рек, горные обрывы и облака, поднимающиеся кверху из ущелий, туда, к лазури и к Солнцу, как устремляется к Солнцу восходящая дымка мечты.
Этот Университет был только что открыт, и в нем, не в пример прочим Американским Высшим Школам, были усвоены правила полной свободы студентов, что послужило им, впрочем, к ущербу. Неподросшие юноши хотели походить на старших, а старшие весьма усердно играют в карты, — итак, вполне фешенебельно играть в карты. Дьявол карточной игры был первым из демонов, повстречавшихся Эдгару По на его жизненной дороге, и именно этот дьявол обусловил начальный ход его жизненных злополучий.
Вступление Эдгара По в Университет ознаменовалось забавным приключением, очень похожим на Эдгара По. Он поселился в одной комнате с юным земляком, Майльсом Джорджем. Совсем вскорости — оттого ли, что Майльс отказался вместо Эдгара открыть дверь Уэртенбэкеру, который как библиотекарь и факультетский секретарь каждое утро обходил университетское общежитие, чтобы осмотреть студентов, одеты ли они и готовы ли для работы, оттого ли, что Эдгар не был расположен в понедельничное утро сосчитать грязное белье и отдать его прачке, — но только они поссорились. Они не перешли, конечно, низким образом от слова к делу, но, по старому доброму обычаю, назначили друг другу бой, удалились в поле поблизости от Университета, раза два схватились, сообщили друг другу, что они вполне удовлетворены, пожали друг другу руку и возвратились в Университет самыми горячими друзьями, но не обитателями одной и той же комнаты. После этого малого поединка Эдгар По поселился в комнате, означенной числом 13.
Близкий университетский друг Эдгара По, Текер, описывает Эдгара тех дней как любителя всякого рода атлетических и гимнастических игр. Карты и вино были распространенной забавой среди студентов. Страсть Эдгара По к сильным напиткам, как говорит Текер, уже тогда отличалась совершенно особенным свойством. Если он видел искусительный стакан, он испивал его сразу, без сахара и без воды, залпом, и без малейшего видимого удовольствия. Очевидно, лишь для действия, не для вкуса. Одного стакана ему было совершенно достаточно: вся его нервная система от этих нескольких глотков приходила в сильнейшее возбуждение, находившее исход в беспрерывном потоке сумасбродной чарующей речи, которая неудержимо и сиреноподобно зачаровывала каждого слушателя. Другие современники отрицают, однако, чтобы в это время он был подвержен вину, и отмечают только его неудержимую страсть к картам и страсть к сочинительству. Эдгар По любил читать Текеру свои произведения, и если его друг что-нибудь особливо хвалил, тогда он сзывал нескольких друзей и читал написанное вслух. Маленькая комната под номером 13 нередко наполнялась юными слушателями, которые внимали какому-нибудь странному дикому рассказу, захваченные вымыслом и самой интонацией повествующего голоса. Юный поэт был при этом очень щепетилен, и, когда один из слушателей, желая подшутить, сказал раз, что имя героя, Гэффи, встречается слишком часто, гордый дух художника не стерпел, и, прежде чем кто-нибудь успел помешать, вся повесть уже пылала в камине. И говорят, что всю жизнь Эдгар По не очень любил имя Гэффи.
Картежная игра была настолько распространена среди студентов, что университетское начальство наконец решило положить этому предел. Итак, войдя в переговоры с гражданскими властями, оно решило уловить юных игроков и вручить каждому из наиболее отмеченных предложение явиться в суд. В один прекрасный день Шериф, с доброю свитой, стоял в дверях какой-то из аудиторий, как раз в то время, когда утренний колокол должен был прозвучать, и соответственные юноши, при перекличке, должны были получить повестки. Однако уловляемые были вовсе не так просты, чтобы тотчас попасться в сети врага. Им не надо было и слова предостережения. Одна тень Шерифа с его людьми была достаточно красноречива. С Эдгаром По в качестве вождя, все они, кто как мог, ринулись через открытые окна, а некоторые через противоположную дверь, и были таковы. Шериф, его свита и профессор были в полном обладании пустой аудиторией. Началась погоня по горячим следам. Но те, кто считал себя наиболее нацеленной дичью, не направились, конечно, в свои комнаты, где их было легко найти, а по безлюдным путям, хорошо ведомым Эдгару По, бежали в царство обрывистых гор. Они знали, что неладно это — возвращаться в Университет до наступления ночи. Некоторые, в торопливом беге, успели-таки захватить одну-другую колоду карт, дабы сократить часы самоназначенного изгнания. Убежищем был красивый горный дол, в месте, почти недоступном, далеко от пробитого пути. Беглецы оставались здесь без скуки три дня.
Очень живописно еще другое студенческое приключение тех дней, но неизвестно, был ли Эдгар По одним из его участников. Компания пирующих студентов шла вдоль дороги, лежащей между селением и Университетом, как вдруг перед юношами неожиданно предстал профессор Моральной Философии и Политической Экономии. Большинство студентов бежали; но один, впоследствии очень видный адвокат, презрел утайку. «Я, — сказал он, — такой-то, из Тускалузы, слишком твердый, чтобы лететь,[125] и слишком гордый, чтобы сдаться». «И, — сказал профессор, — пожалуй, слишком пьяный, чтобы стоять».
Конечно, не в одних подобных забавах проходила жизнь Эдгара По в Университете. Он превосходно овладел французским и латинским языками. Он мог совершенно легко читать и говорить на обоих языках, хотя его отношение к иностранным языкам было не отношение ученого, а отношение поэта. К греческому он был довольно равнодушен. У него была поразительная память, и ему было достаточно заглянуть в страницу, чтобы уже знать ее. Уэртенбэкер, имевший достаточно случаев видеть близко Эдгара По в его студенческие дни, впоследствии писал о нем в своих воспоминаниях: «Эдгару По было немножко более семнадцати лет, когда он записался в число студентов (родился 19-го января 1809-го года — стал студентом 14 февраля 1826). Он записался на лекции древних и современных языков и изучал латинский, греческий, французский, испанский и итальянский языки. Я сам был членом трех последних классов и могу засвидетельствовать, что он довольно правильно посещал лекции, был успешным студентом и получил отличие на окончательном экзамене латинского языка и французского. В то время это была величайшая почесть, какую мог получить студент. Это давало право на диплом касательно этих двух языков. Профессор итальянского языка однажды предложил студентам изложить в английских стихах отрывок из Тассо. На следующую лекцию оказалось, что один только Эдгар По был способен это сделать. Я помню, что Эдгар По часто читал книги по истории. Как библиотекарь, я не раз имел с ним официальное соприкосновение, но лишь в конце учебного года я однажды встретился с ним в обществе. После того как мы провели вечер вместе в одном частном доме, он пригласил меня на обратном пути к себе в комнату. Была холодная декабрьская ночь, и огонь в его камине почти совсем выгорел. Тогда он взял несколько сальных свечей, разломал небольшой стол, и вскоре огонь весело пылал. Во время нашей беседы он с сожалением говорил о крупной сумме денег, которую он растратил, и о сделанных долгах. Если моя память мне не изменяет, он оценил свой долг в две тысячи долларов, и хотя это были карточные долги, он серьезно и торжественно заявил, что он честью обязан уплатить при первой же возможности все до последнего цента. Достоверно он не был обычно невоздержан, но мог случайно участвовать в пирушке. Я часто видал его в аудитории и в библиотеке, но ни разу не видел, чтобы он был, хотя в самой малейшей степени, под влиянием опьяняющих напитков. Среди профессоров он имел репутацию трезвого, спокойного и добропорядочного юноши, и поведение его единообразно было поведением разумного и воспитанного джентльмена. Эдгар По расстался с Университетом 15 декабря 1826 года; ему не хватало месяца до возраста восемнадцати лет. Уехав, он более не вернулся в Университет, и я думаю, что та ночь, когда я у него был, была его последней студенческой ночью. Я заключаю это не по памяти, а из того факта, что, не имея более надобности в своих свечах и столе, он обратил их в топливо».
Эти воспоминания дополняются воспоминаниями его сверстника Бэруэлля, впоследствии тоже прикосновенного к литературе: «Мои воспоминания об Эдгаре По рисуют его полумальчиком, росту, приблизительно, пять футов три дюйма, несколько кривоногим, но отнюдь не мускулистым или способным к физическим упражнениям. Лицо у него было женственное, с тонко-четкими чертами, глаза темные, влажно блестящие и выразительные. Одевался он хорошо и чисто. Он был очень привлекательным товарищем, веселым и прямодушным, а исполненная разнообразия предварительная жизнь дала ему знание людей и познакомила его с картинами, которые были новы для простодушных провинциалов, в чью среду он попал. Но чем он производил наибольшее впечатление на товарищей, это своими замечательными достижениями в области классических языков». Говоря об аналитических способностях Эдгара По, Бэруэлль наивно прибавляет: «Среди наиболее выдающихся даней этим экстраординарным силам анализа и метафизического рассуждения, может быть замечено, что Жюль Верн, в одной из своих повестей, называет Эдгара По самым способным аналитическим писателем современности, и для расшифрования криптографической тайны в своем собственном повествовании применяет математический метод «Золотого Жука». Похвала Жюль Верна, конечно, может быть приятной, но вполне справедливо вопросить, существовал ли бы вообще Жюль Верн, если бы ранее его не существовал Эдгар По, и существовал ли бы, скажем вскользь, столь прославленный Уэллс — оба прямые ученики и подражатели американского гения.
Джон Уиллис, товарищ Эдгара По по Университету, в своих воспоминаниях говорит, что у него было много благородных качеств, и больше гения, и гораздо больше разнообразия таланта, чем у кого-либо из тех, кого ему приходилось встречать в жизни. «Характер у него, — прибавляет Уиллис, — был скорее сдержанный, у него было мало близких друзей». Другой товарищ по Университету, Томас Боллинг, говорит об Эдгаре По: «Я был знаком с ним в его юные дни, но это, приблизительно, все. Мое впечатление было и есть, что никто не мог бы сказать, что он знал его. У него было меланхолическое лицо всегда, и даже улыбка — потому что я не припомню, чтобы на моих глазах он когда-нибудь смеялся — казалась вынужденной. Когда он принимал участие, вместе с другими, в атлетических упражнениях, причем он превосходил всех способностью вспрыгнуть высоко или прыгнуть далеко. По, все с тем же самым всегда грустным лицом, участвуя в том, что было забава для других, казалось, скорее выполнял задачу, чем развлекался. Однажды, бежа по слегка наклонной плоскости, он прыгнул на двадцать футов, что было более, чем могли бы сделать другие, хотя некоторые достигали девятнадцати футов». Пауэлль говорит в своих «Американских Авторах», что у По была привычка покрывать стены своей спальни набросками углем; Уиллис утверждал, что у него был рисовальный талант и что стены его студенческой комнаты были сплошь покрыты карандашными рисунками. Боллинг вспоминает, что, когда он однажды разговаривал со своим эксцентричным товарищем, Эдгар По продолжал делать какой-то набросок карандашом, как будто он писал, и когда гость, шутя, воззвал к вежливости, Эдгар По ответил, что он весь внимание, и доказал это своими замечаниями, касательно же кажущегося недостатка вежливости сказал, что он пытался разделить свой ум — продолжать разговор и в то же самое время писать что-нибудь разумное о предмете совершенно различном. Боллинг несколько раз уловлял его в этих попытках мыслительного деления, и он говорит, что стихи, возникавшие в подобных условиях, бывали срифмованы вполне хорошо. Мы можем припомнить здесь Дюпена Уголовной Трилогии Эдгара По.
Итак, что же дало Эдгару По краткое пребывание в Университете? Время его проходило в занятии древними и новыми языками, в чтении, в занятии теми спортивными играми, которые и теперь поглощают значительную часть времени Англо-Саксонского студенчества, в одиноких прогулках по Голубым Горам и обрывистым утесам и в бешеной игре в карты.
Среди своевольных, роскошно живущих юношей, которых он всех превышает данными своего ума и гения, и за которыми, за каждым, стоит родная семья, что снизойдет к юношеским проделкам, пожурит и тут же посмеется, подтрунит над любимыми, и уж, во всяком случае, не опорочит имя родного сына, заплатит карточные его долги, — среди этой толпы, молчаливый гений-подкидыш, зависящий от приемного отца, но еще более зависящий от прихотей и порывов своего страстного я, которое должно осуществиться, должно выразиться, на радость или горе, все равно. Дальних путей не видно. Даль окутана дымкой голубой и манящей. Что скрывает эта дымка? В юности нам всегда кажется, что счастье.
Эдгар По вернулся домой, в свой — не свой дом. Невеста его вышла замуж за другого, а приемный его отец Аллэн, которому, не по заслугам, он дал в вечности имя, неразрывно связанное с Эдгаром По, обошелся с ним вовсе не по-отцовски. Он отказался заплатить его долги чести. Произошла ссора. Рыцарски ли думающий юноша примирится с таким унижением? Безотчетно и безрасчетно ставя крест на целой полосе жизни, юноша покинул свой — не свой дом и очутился один в целом мире.
В 1827 году Эдгар По был в Бостоне, в городе, где он родился, и почему именно он приехал в этот город, осталось тайной. Не отвечает ли на это почему тот факт, что он всю жизнь не расставался с медальоном, в котором хранился лик его матери? Мы не знаем. Во всяком случае, в этом городе еще жили тогда, а может быть, живут и доселе люди, чьи старшие знали мать Эдгара По, имя одних было Эшер, имя других было Вильсон, два имени, которых нам уже не забыть.
В Бостоне появилась маленькая книжечка стихов, заглавный ее листок гласил:
ТАМЕРЛАН
И
ДРУГИЕ ПОЭМЫ
БОСТОНЦА
«У юных голова кружится, и сердце бьется горячо.
Ошибки делают, а зрелость потом их будет поправлять».
Купер
БОСТОН:
Кальвин Ф. С. Томас… Печатник
1827.
Этот маленький томик, коего лишь сорок было тиснуто экземпляров, был напечатан девятнадцатилетним издателем, Томасом, тогда жившим в Бостоне. Томас переехал потом на запад и умер в Спрингфилде, в Миссури, в 1876-м году, не зная, кого когда-то он впервые вывел в свет. Этот маленький томик ныне большая библиографическая редкость, и при распродаже Мак-Ки, в ноябре 1900-го года, он был означен в 2.050 долларов (4.100 рублей) и немедленно был куплен мистером Хальси, по внесении задатка в 500 долларов. В предисловии к этому томику юный поэт сообщает, что большая часть стихов была написана в 1821—22-м годах, то есть, когда автору было двенадцать-тринадцать лет. «Они, конечно, не предназначались для печати», — говорит он. Почему они печатаются теперь, это не касается никого, кроме него. В «Тамерлане» он попытался изобразить безумие, даже рисковать лучшими чувствами сердца на алтаре Честолюбия. Он сознает, что в поэме есть недостатки, и льстит себя мыслью, что он мог бы с малыми хлопотами исправить их, но, не похожий в этом на своих предшественников, он слишком любит свои ранние произведения, чтобы исправлять их в своем старом возрасте. Он не скажет, что он равнодушен к успеху этих поэм — успех мог бы побудить его и к другим попыткам, но он может спокойно утверждать, что отсутствие успеха отнюдь не повлияет на него в решении, уже принятом. Это значит бросать критике вызов. Так да будет».
Поэма «Тамерлан», как нужно было ожидать, исполнена байронизма, но отдельные строки столько же характерны для обычного, в те времена, среди юных и молодых поэтов — и в какие времена не обычного? — романтизма, сколько они отличительны, в частности, для основных личных свойств Эдгара По. Тамерлан исполнен врожденной гордости, и он — в привычной властной чаре дневного сновидения. Разве это в малом не настоящий Эдгар По, каким он был всю свою жизнь? И первая строчка поэмы «В час смертный радость утешенья!», если ее сопоставить со смертным часом Эдгара По, как он летописно рассказан нам одной из склонявшихся к нему женщин, теряет свою обычность и становится вещей строкой. Отдельные места этой полудетской поэмы уже дают чувствовать проснувшегося, но еще не выявившегося поэта, имеющего звучный голос.
Зовешь ты чаянием это, Надеждой — тот огонь огня! Но нет мне сна и нет привета, В том только пытка для меня, В том агония возжеланья…Или эти строки: —
Дождь пал на голову мою, Незащищенного, — и ныне Отягощенный я стою. И ветер тяжкий по равнине Меня, промчавшись, оглушил, И обезумил, ослепил.Или эти строки: —
Нет слов, увы, чтоб начертить, Как это радостно любить, Как это любо быть любимым! Как то лицо изобразить В его огне неизъяснимом, Где более чем красота, И каждая его черта — В моем уме — как тени с дымом, Летит на ветре их чета.Или эти строки: —
В одной тебе имел я бытие: Весь мир, и все, что он в себе содержит, Здесь на земле — и в воздухе — и в море — Его услада — малость скорбной доли, И новый встал восторг — мечта вдали, Туманная, тщета видений ночью — И дымные ничто, что были чем-то — (Вот тени — с ними свет, еще воздушней, Чем ежели б сказал я теневой!) — На крыльях на туманных улетали, И, в смутности, явилися они Как образ твой — твой лик — и имя — имя! Два разные — два существа родные.Малые поэмы, следующие за «Тамерланом», сливаются по своему настроению с этими теневыми строками. В одном стихотворении он восклицает:
О, если бы юность моя сновиденьем была бесконечным, Сновиденьем единым была до поры, когда вечности луч, Пробудив мою душу от сна, это завтра соделал бы вечным!И еще один отрывок: —
Мой дух с рожденья в ранней мгле, Презрел запрет лететь спеша, — Теперь, идя по всей земле, Куда ж идешь, моя душа?Восемнадцатилетний юноша в смутном очерке явил себя поэтом, и затем, в течение целого ряда лет, от 1827 до 1833 года, жизнь его в описаниях биографов принимает противоречивые лики, и мы не знаем, был или не был он в какой-то год этого пятилетия в Европе, куда он будто поехал сражаться за греков, как, достоверно, он хотел в 1831-м году сражаться против русских за поляков, — был ли он или не был в Марселе, или ином французском приморском городе, — и не очутился ли он, как то рассказывают, и как рассказывал он сам, в Петербурге, где с ним произошло будто бы обычное осложнение на почве ночного кутежа, и лишь с помощью американского посла он избежал русской тюрьмы. Или он на самом деле, как уверяют другие, под вымышленным именем Эдгара Перри, просто-напросто служил в американской армии, укрывшись таким образом от докучливых взоров? Одно вовсе не устраняет возможности другого, и если легенда, которую можно назвать Эдгар По на Невском Проспекте, есть только легенда, как радостно для нас, его любящих, что эта легенда существует!
Как бы то ни было, промежуток времени между 1827-м годом и 1829, так же как промежуток времени между 1831-м и 1833, затянут неизвестностью, или освещен указаниями, которые представляются недостоверными и неполно убедительными. Ингрэм говорит, что в 1827 году, к концу июня, Эдгар По, как кажется, отбыл из Соединенных Штатов в Европу. Он стремился в Грецию, и, быть может, поэма «Аль-Аарааф», так же как стихотворение «Занте», навеяны путевыми впечатлениями. Может быть, однако, эти поэтические строки имеют столь же мало ценности в качестве точного биографического указания, как строки Лермонтова:
Вот у ног Иерусалима, Богом сожжена, Безглагольна, недвижима Мертвая страна. Дальше, вечно чуждый тени, Моет желтый Нил Раскаленные ступени Царственных могил.Есть, однако, на протяжении всех томов Эдгара По неуловимые, но осязательные указания, что он воочию видел Грецию, Италию и Францию. Но поэт может видеть своим умственным оком все. Один из биографов Эдгара По, Ганнэй, говорит: «Мне любо думать об Эдгаре По, как находящемся на Средиземном море, с его страстной любовью к красивому, — «в годы Апрельской крови», — в климате беспрерывно роскошном и нежащем — все его восприятия чарующего усиленные там до волшебной напряженности». Есть смутное указание, что Эдгар По был в это время и в Англии, оставался некоторое время в Лондоне, познакомился с другом Шелли, Лэйгёнтом, и жил литературным заработком. Есть продиктованное самим Эдгаром По романтическое повествование о том, что он прибыл в некий французский порт, был вовлечен из-за какой-то дамы в ссору, а потом и в игру стальными остриями, в каковой схватке был ранен своим противником. Отнесенный к себе домой, он впал в лихорадку. Бедная женщина, ухаживавшая за ним, рассказала о нем некоей знатной шотландской леди, та сжалилась над ним, приходила к нему и своими голубыми глазами внушила ему поэму «Святые глаза». Эта шотландская леди убедила его вернуться в Америку, а может быть, и помогла ему это сделать. В марте 1829 года, имея мало что, кроме чемодана, нагруженного книгами и рукописями, Эдгар По прибыл в свой — не свой дом, как раз на другой день после похорон мистрис Аллэн, которая была единственным истинным его другом и заступницей в фальшиво к нему относившемся доме. Мистер Аллэн не слишком был обрадован приездом своего приемного сына, и вскоре Эдгар По снова отправился на все четыре стороны.
Это один рассказ — если следовать Ингрэму, наилучшему биографу Эдгара По, но издавшему свое исследование в 1880 году, когда многие документы из жизни Эдгара По еще были неизвестны. Версия Гаррисона, издавшего свою работу в 1902–1903 году, имеет кажущуюся фактическую убедительность, но далеко не полную. Он говорит, что в 1827 году Эдгар По зачислился в Бостоне в армию Соединенных Штатов под вымышленным именем Эдгара А. Перри. Гаррисон ссылается на профессора Вудберри, который устанавливает этот факт через секретаря Военного Министерства Роберта Линкольна. По этим данным, которые у Гаррисона подробно не обозначены, Эдгар По — Эдгар Перри два года образцово исполнял воинскую службу, получил чин сержант-майора, повышение, означавшее в таком возрасте большую честь и дававшееся не иначе как за настоящие заслуги, — и вскоре после смерти мистрис Аллэн, 28 февраля 1829 года, вернулся в Ричмонд. Свидетельства полковника такого-то и капитана такого-то, конечно, есть вещь превосходная. Представляется, однако, весьма любопытным, каким образом у Эдгара По значатся в воинском описании каштановые волосы и светлый цвет лица, так же как рост его означен в пять футов восемь дюймов, — когда у Эдгара По были черные волосы и очень смуглый оливковый цвет лица, рост же его был средний и даже несколько ниже среднего. Потом, фраза в отчете — «офицеры, под командой которых он служил, умерли» — звучит очень плачевно и напоминает весьма распространенную привычку многое сваливать на мертвых. Я не оспариваю Гаррисона, я лишь указываю на странные несоразмерности этого фактического рассказа. Затем сам же Гаррисон, сопоставляя образцовое поведение Эдгара Перри и невозможное поведение Эдгара По, поступившего в 1830 году в военную школу в Вест-Пойнте и через несколько месяцев уволенного оттуда за упорное несоблюдение дисциплины, изумляется и говорит: «Единственное объяснение заключается в том, что или По и Перри были различными существами, или Бес Извращенности Эдгара По находился тогда в восходящей линии, и, узнав в октябре (роковой месяц Эдгара По) о вторичном браке мистера Аллэна, он умышленно разрушил свой превосходный рекорд и нарочно неподчинением дисциплине и невыполнением обязанностей вызвал над собою военный суд и был изгнан из школы, имея в виду заниматься литературой». Затем Гаррисон же говорит в главе пятой, описывая промежуток времени 1831–1836: «В этом именно пункте — от марта 1831 года до лета 1833 года — биография Эдгара По соскользает в полусумрак почти полной неизвестности. Теперь, если когда-либо вообще, случились эти странствия нового Одиссея, о которых говорит Бэруэлль, мистрис Шельтон, мистер Ингрэм, даже мистрис Аллэн (в ее письме к полковнику Эллису), — путешествие в Россию, французское приключение и пр., — причем рассказ о первом путешествии Эдгара По оставил неопровергнутым в биографии его, написанной Хирстом, повествование же о втором, как передают, он сообщил сам мистрис Шью в исповеди, сделанной во время болезни, на предполагавшемся смертном одре. Пробел в два с половиною года слабо освещен лишь письмом Эдгара По к Вильяму Гвину, одному Балтиморскому издателю, от 6 мая 1831 года, где говорится о втором браке мистера Аллэна, упоминается о собственном сумасбродном поведении Эдгара По и сообщается просьба о какой-нибудь работе, с оговоркой — «плата — наименьшее соображение». Другой просвет — просвет весьма сомнительного свойства — дает некая «Мэри Эдгара По», к которой мы вернемся. Чрезвычайно интересным документом из этой эпохи является также недавно найденное следующее собственноручное письмо Эдгара По к полковнику Тэйеру:
«Нью-Йорк, марта 10-го, 1831.
Сэр: не имея более никаких уз, которые связывали бы меня с родной моей страной — ни надежд — ни друзей — я намереваюсь, при первой возможности, направиться в Париж, с целью получить, через поддержку маркиза де Ла Файетта, назначение (если возможно) в Польскую Армию.
В случае вмешательства Франции в пользу Польши, это легко может быть осуществлено — во всяком случае, это будет моим единственным выполнимым планом действий.
Цель этого письма — почтительно попросить вас оказать мне такую помощь, какая находится в вашей власти во исполнение моих намерений.
Свидетельство «о пребывании» в моем классе, есть все, чего я имею права ожидать.
Что-нибудь еще — какое-нибудь письмо к какому-нибудь другу в Париж — или к маркизу — будет добротою, которую я никогда не забуду.
С глубоким почтением, ваш покорный слуга,
Эдгар А. По».
Впредь до дальнейших изысканий тайна остается тайной.
Вернемся несколько назад. В начале 1829 года, как говорит биограф Дидье, мы находим Эдгара По в Балтиморе, с рукописью небольшого томика стихов, который через несколько месяцев был напечатан в виде тоненькой книги — in octavo, в переплете красными крапинками и желтым корешком. В книжке семьдесят одна страница. На шестой посвящение: «Кто глубже всех испьет — сюда». Заглавный листок этого сборника гласит:
АЛЬ-ААРААФ
ТАМЕРЛАН
И
МАЛЫЕ ПОЭМЫ
Эдгара А. По.
БАЛТИМОРА
Хатч и Деннинг
1829.
Малые Поэмы, за небольшим исключением, вошли в позднейшие издания Эдгара По. Одно из этих стихотворений достопримечательно тем, что в нем почти дословно встречаются четырнадцать строк, которые потом были выделены и переделаны в стихотворение, называющееся «Сон во Сне», напечатанное через год после его смерти. В связи с напечатанием этого сборника, у Эдгара По завязалась переписка с Джоном Нилем, тогда издателем «The Yankee and Boston Literary Gazette», «Янки и Бостонской Литературной Газеты», имя которого должно быть с благодарностью сохранено в памяти, ибо он первый приветствовал юношу Эдгара По и всю жизнь относился к нему с настоящим добросердечием, хотя не был с ним близок. Перед опубликованием своего второго томика стихов, Эдгар По послал Нилю несколько стихотворных отрывков и просил его чистосердечно высказаться. На столбцах своей газеты издатель отвечал: «Если Э. А. П. из Балтиморы, — строки которого о Небе — хотя он признается, что он смотрит на них как на безусловно высшее, чем что-либо в общем уровне американской поэзии, кроме двух-трех указываемых безделиц, — являются, пусть и бессмыслицей, скорей бессмыслицей изысканной, — захочет отнестись к себе справедливо, он мог бы создать красивую и, быть может, величественную поэму. Есть добрые основания, чтобы оправдать подобную надежду в таких строках, как эти:
Долы дымные — потоки Теневые — и леса, Что глядят как небеса; Формы их неразличимы, С древ капели — словно дымы. . . . . . . . …Лунный свет, Над деревней, над полями, Над чертогами, везде — Над лесами и морями, По земле и по воде — И над духом, что крылами В грезе веет — надо всем, Что дремотствует меж тем — Их заводит совершенно В лабиринт своих лучей. Глубока и сокровенна, Глубока, под мглой лучей, Страсть дремоты тех теней.У нас нет больше места для других строк».
В ответ на это слабое признание его способности создать что-нибудь достойное, Эдгар По, проникнутый истинной признательностью, поспешил ответить следующим письмом:
«Я молод — мне еще нет двадцати — я поэт — если глубокое почитание всей красоты может сделать меня таковым — и хочу быть им в общепринятом смысле слова. Я отдал бы мир, чтобы воплотить хотя половину тех мыслей, которые проплывают в моем воображении. (Кстати, помните ли вы, или читали ли вы когда-нибудь восклицание Шелли о Шекспире: «Какое число мыслей должно было проплыть и быть в ходу, прежде чем мог возникнуть такой автор!»). Я взываю к вам, как к человеку, любящему ту же самую красоту, которую я обожаю, — красоту природного голубого неба и солнцем осиянной земли — не может быть связи более сильной, чем брата с братом. И не то много, что они любят один другого, а то, что они оба любят одного и того же отца — их чувства привязанности всегда бегут в одном и том же направлении — по тому же самому руслу и не могут не смешиваться. Я праздный и с детства был праздным. Поэтому про меня не может быть сказано, что —
«Я оставил призванье для этого праздного дела, Долг презрел — повеленья отца не свершил» —ибо у меня нет отца — нет матери.
Я собираюсь выпустить в свет том «Поэм» — большая часть которых написана до того, как мне было пятнадцать лет. Говоря о «Небе», издатель «Янки» говорит: «Он мог бы написать красивую, если даже не величественную поэму» — (самые первые слова ободрения, которые, сколько припомню, я когда-либо слышал). Я вполне уверен, что до сих пор я еще не написал ни таковой поэмы, ни иной — но что я могу, в этом я даю клятву — если мне дадут время.
Поэмы, подлежащие опубликованию, суть «Аль-Аарааф», «Тамерлан», одна около четырехсот строк, другая около трехсот, с несколькими небольшими стихотворениями. В «Аль-Аараафе» есть добрая поэзия и много экстравагантности, выбросить которую у меня не было времени.
«Аль-Аарааф» — сказка о другом мире — о звезде, открытой Тихо Браге, которая появилась и исчезла так мгновенно — или скорее, тут нет никакой сказки. Я прилагаю отрывок о дворце главенствующего божества; как вы увидите, я предположил, что многие из утраченных веяний нашего мира улетели (в духе) на звезду Аль-Аарааф — изящное место, более подходящее к их божественности:
Высоко, на эмалевой горе, Средь исполинских воздымаясь пастбищ, Громада возносилася колонн, Не бременя собою светлый воздух, Паросский мрамор, солнца свет прияв Закатного, двойной светил улыбкой На волны те, что искрились внизу. Из звезд был пол, расплавленных, что пали Чрез черный воздух, серебря свой путь, Серебряный рождая в смерти саван, Теперь же устелив дворец Небес. Верховный купол был на тех колоннах. На них он возвышался как венец, Алмаз округлый был окном блестящим, В пурпурный воздух этот круг глядел. Но взоры Серафима зрели дымность, Туманностью тот мир окутан был: Там был оттенок исседа-зеленый, Который для могилы Красоты Природа возлюбила, он таился Вкруг архитравов, одевал карниз, И каждый Херувим, что был изваян, Из мраморных своих глядя жилищ, Земным смотрел в тени глубокой ниши. В богатом этом мире — статуй ряд, Ахэйских, также фризы из Тадмора, Персеполиса, Бальбека, из бездн Гоморры обольстительной! О, волны Теперь над ней — так поздно! Не спасти!»Кроме того, юный Эдгар приводит другой отрывок, о «Молчании»:
Наш мир — мир слов: мы говорим «Молчанье», Когда хотим означить мы покой, Но это — только слово, лишь названье. Природа — говорит. И даже рой Созданий идеальных — с сновиденных Воздушных крыл звук веет теневой, — Но то не так, как в высях совершенных, Но то не так, когда в выси немой Проходит возглаголание Бога, И красный тлеет вихрь…Кроме того, он приводит два, довольно длинных, отрывка из «Тамерлана» и следующие строки из того безымянного стихотворения, которое, в несколько измененном виде, возникло как его «Сон во Сне»:
Радость та, что сном жила — Днем ли — ночью ли ушла — Как виденье ли — как свет — Что мне, раз ее уж нет? Я стою на берегу, Бурю взглядом стерегу, И держу в руках моих Горсть песчинок золотых — Как их мало! Все они Соскользают вниз к волне! Сны ли это? Нет, они Скрылись ярко, как огни, Словно молния-змея В миг — и так исчезну я.Джон Ниль ответно приветствовал Эдгара По и говорил, что, если другие отрывки, со всеми их недостатками, так же ценны, автор «заслужил стоять высоко, очень высоко во мнении сияющего братства». Он убеждал также юного поэта не столько опираться на свое настоящее, сколько, преследуя высокую цель, преодолевать настоящее, упорно веруя в будущее. Истинную сердечность отношения к Нилю Эдгар По сохранил навсегда.
Аль-Аарааф — название звезды, которая, будучи, вероятно, солнцем, одним из солнц, в последнем празднике своего сгорания, появилась внезапно на небе, достигла в несколько дней лучезарности, превышающей блеск Юпитера, так же внезапно исчезла и более не появлялась никогда. Аль-Аарааф — Магометанский Эдем — Чистилище, местопребывание тех, кто слишком хорош для Ада, но к Небу не подходит —
В стороне от Вечности Небес — И однако ж как вдали от Ада!Это сияющий мир, исполненный цветов, звуков, нежных дуновений, красного огня сердца. Этот мир качается на золотом воздухе, как водяная лилия на осиянной воде, оазис в пустыне благословенных, ему светят четыре блестящие солнца.
Земного ничего — один лишь луч, (Очей красы), отброшенный цветами — Земного ничего, лишь дрожь-напев, Мелодия среди лесных прогалин. — Иль голос сердца, где кипела страсть, Звук радости, столь мирно отошедшей, Что словно ропот в раковине он, Как эхо должен быть и так пребудет — О, ничего из всей земной золы — Но вся краса — и все цветы с Любовью — Вся красота — все пышности цветов, Что увивают наши здесь беседки, Украсили тот мир в дали, в дали — Светило то бродячее зажгли.Там растет драгоценный цветок, что сродни высочайшим звездам, — пчела, прикоснувшись к нему, пьянеет, такие там лилии, что вот ощущаешь тень меры любви, тень Сафо; расцветы белогрудые в бальзамическом воздухе, подобные преступной красоте, наказанной, и тем более, прекрасной; цветы, что своим благовонием дышут лишь в ночь; хризантема златого Перу — подсолнечник, что всегда обращает свой лик к солнцу и затягивает свой диск золотистою дымкой; змееподобные алоэ, что, раскрываясь, умирают, а, умирая, дышут запахом ванили; лотосы, с длинными, длинными стеблями, так что дотянутся до самой поверхности воды и качаются на влаге воскипевшего потока; пурпурный нежный гиацинт; цветы как чаши, которым поручено на куреньях своих возносить до небес звуки песни. Там собираются облаком светящимся летучие светлянки и, сцепившись, как один златистый круг, как одна золотая огромная точка, вдруг разлетаются, как несчетные, блестящей чертой повторенной, в даль уходящие летучие лучи. Там можно слышать звук, возникающий при смене светов, ибо явственно слышал не раз ясновидец и слышащий — звук тьмы, по мере того как она заполняет весь горизонт. Мир достойный — для девушки-ангела и ее серафима-любовника. Там живительный гений, дух жизни в жизни, дух живой красоты мира, тот женственный гений, который правит нескончаемой музыкой, явственно слышимой душе в безмерном ночном молчании. Имя светлой этой тени Лигейя. Через десять лет, или скорее, она возникнет в страстном уме, как образ красивейшей женщины, и самой любящей, и самой страстной, ибо она волей побеждает смерть, — теперь же, в уме провидца-юноши, брошенного в мир, и более пустынного в мире, чем один-единственный цветок, качающийся на краю срыва, над кипящим морем, что там внизу, она загорается светом теневым и вызывает в юноше такой восторженный псалом себе: —
К ЛИГЕЙЕ
(Из поэмы Аль-Аарааф)
Лигейя! Лигейя! Красивый мой сон. Ты в мыслях, — и, млея, Рождается звон. Твоя ль эта воля Быть в лепетах грез? Иль, новая доля, Как тот Альбатрос, Нависший на ночи (Как ты на ветрах), Следят твои очи За музыкой в снах? Лигейя! куда бы Ни глянул твой лик, Все магии — слабы, Напев — твой двойник. И ты ослепила Столь многих во сне — Но новая сила Скользит по струне — Звук капель из тучи Цветок обольет, И пляшет певучий, И ливнем поет — И, лепет рождая, Взрастает трава, И музыка, тая, — Жизнь мира, — жива. Но дальше, вольнее, Туда, где ручей Под сеткой, Лигейя, Тех лунных лучей — К затону, где мленье, Там греза жива, И звезд отраженья На нем — острова — На бреге растенья Глядят в водоем, И девы-виденья Захвачены сном — Там дальше иные, Что спали с пчелой, В те сны луговые Войди к ним мечтой — Роса где повисла, Склонись к ним в тиши, Певучие числа В их сон надыши — И ангел вздохнет ли В дремоте ночной, И ангел уснет ли Под льдяной луной — В полях многосевных, Качая свирель, Ты чисел напевных Построй колыбель!Летом 1830 года Эдгар По, ища какого-нибудь прочного положения, поступил в Военную Академию в Вест-Пойнте, основанную в 1802 году, дабы снабжать молодую Северо-Американскую Республику надлежаще вымуштрованными воинами. Образование и содержание там было даровым, и, кроме того, каждый кадет получал ежемесячную стипендию в двадцать восемь долларов. Четырехлетний курс и строгая дисциплина. Как гласит официальный рапорт, в конце концов из общего числа 204 лишь 26 кадетов ко времени рапорта оказались без черных отметок, сопровождающих имена. Один из товарищей Эдгара По, товарищей не только по кадетству, но и по карцеру, Джайбсон, говорит в своих воспоминаниях, что По в то время казался старше своих лет, у него был усталый, измученный, недовольный взгляд, который нелегко было забыть тем, кто с ним близко соприкасался. Между прочим, его очень сердила некая школьная шутка на его счет: кто-то, остря над его усталым видом, сказал, что он выхлопотал для своего сына прием в школу, но сын его помер, и вот отец поступил вместо умершего сына. Эта злая школьная шутка хорошо рисует нам духовную разницу между Эдгаром По тех дней и его товарищами-кадетами.
Чем, собственно, был занят Эдгар По в течение немногих месяцев своего кадетства? Он занимался, конечно, математикой, как то полагалось, жадно поглощал разнообразные книги, какие только можно было достать в школьной библиотеке, поражал своих товарищей обширными сведениями по Английской литературе и читал им на память длинные отрывки из разных авторов, в прозе и в стихах, причем редко повторял или никогда не повторял те же самые отрывки дважды перед одной и той же аудиторией; писал стихотворные «пасквили» на приставников и учителей; и вскоре, возненавидев однообразную рутину военной дисциплины, решил бросить Военную Школу, но так как этого он не мог сделать законным порядком, ибо нуждался в позволении приемного отца, Аллэна, какового тот не дал, Эдгар По, со свойственной ему систематичностью, раз за разом не явился на перекличку, не явился на парад, не явился в церковь, не явился тут-то, не явился туда-то, ослушался в том-то, отказался исполнить приказание такое-то. В результате — то, чего он и хотел: он предстал перед военным судом и был исключен из школы, или, как гласило постановление: «Кадет Эдгар А. По увольняется от службы Соединенным Штатам и не будет более считаться членом Военной Академии после 6-го марта 1831-го года».
Итак, Эдгар По снова был свободен, снова один, лицом к лицу с миром, и первое, что он сделал, — он напечатал новый сборник стихов. Товарищи-кадеты все подписались на получение экземпляров этого сборника и были совершенно разочарованы. Там были какие-то непостижимые стихи — и не было ни одной из сатир на профессоров и прислужников!
Заглавный листок книги гласил —
ПОЭМЫ
Эдгара А. По
Tout le monde a raison. — Rochefoucault.
Второе издание.
Нью-Йорк.
Опубликовано Эламом Блиссом
1831.
В сборнике 124 страницы, и посвящение гласит: «Северо-Американскому Кадетскому Корпусу этот том почтительно посвящается». В виде предисловия напечатано письмо к некоему, очевидно, мифическому, мистеру Б., излагающее литературный Символ веры Эдгара По, оставшийся в общих чертах неизменным на всю его жизнь. Там есть, между прочим, следующие любопытные строки:
«Было сказано, что критический разбор какой-нибудь хорошей поэмы может быть написан тем, кто сам не поэт. Согласно с Вашим и моим представлением о поэзии, я чувствую, что это ложно: чем менее критик одарен поэтически, тем менее справедлива критика, и наоборот. Ввиду этого, и так как на свете мало людей, подобных Вам, я был бы столь же пристыжен одобрением всего мира, как горжусь Вашим. Кто-нибудь другой мог бы заметить: «Шекспир пользуется одобрением всего мира, и, однако, Шекспир величайший из поэтов. Таким образом, мир, по-видимому, судит справедливо. Почему же вы должны были бы стыдиться его благоприятного суждения?» Трудность заключается в истолковании слова «суждение», или «мнение». Действительно, это мнение всего мира. Но оно столь же ему принадлежит, как книга тому человеку, который ее купил; он не написал книгу, но она — его; мир не создал мнения — но оно ему принадлежит. Глупец, например, считает Шекспира великим поэтом — но глупец никогда не читал Шекспира.
Я не верю в Вордсворта. Что в юности у него были ощущения поэта — это я допускаю — в его писаниях есть проблески крайней утонченности (а утонченность есть истинное царство поэта — его El Dorado) — но они имеют вид лучших вспоминаемых дней; и проблески, в лучшем случае, весьма малое доказательство настоящего поэтического огня — мы знаем, что несколько цветков, там и сям, возникают ежедневно в расщелинах ледника. Он достоин осуждения за то, что он истратил свою юность в созерцании с целью поэтизировать в зрелом возрасте. С возрастанием его способности суждения свет, который должен был сделать ее очевидной, поблек. Его суждения, таким образом, слишком корректны. Это трудно понять — но древние Германские Готы поняли бы это, они, имевшие обыкновение обсуждать важные государственные дела дважды: один раз пьяными и один раз трезвыми — трезвыми, чтобы не погрешить в точности, пьяными, чтобы не утратить силы выражения.
О Кольридже я могу говорить лишь с чувством глубокого почтения. Что за подъем ума! Что за гигантская сила! Он лишний раз подтверждает очевидность того факта, «que la plupart des sectes ont raison dans une bonne partie de ce qu'elles annoncent, mais non pas en ce qu'elles nient» («что большинство сект право в значительной части того, что они проповедуют, но не право в том, что они отрицают»). Он заключил, как в тюрьму, свои собственные представления благодаря тому, что поставил преграду перед представлениями других. Прискорбно думать, что такой ум похоронил себя в метафизике и, как цветок Никтанта, все свое благоухание отдает лишь ночи. Читая его поэтические произведения, я трепещу, как тот, кто стоит над вулканом, и по темноте, черными взрывами исходящей из кратера, узнает об огне и свете, которые колышутся там, внизу.
Что такое поэзия? — Поэзия! Это, подобное Протею, представление, со столькими же наименованиями, как девятиименная Корцира. Я как-то обратился к одному ученому: «Дайте мне определение поэзии». — «Tres volontiers», — и, подойдя к книжному шкафу, он принес мне д-ра Джонсона и придавил меня определением. О, тень бессмертного Шекспира! Я представляю себе грозный взгляд твоих духовных очей, глянувших на богохульство этой грубой Большой Медведицы. Подумайте о поэзии, нет, только подумайте о поэзии и потом о д-ре Самьюэле Джонсоне! Подумайте обо всем, что есть воздушного и подобного феям, и потом обо всем, что есть отвратительного и тяжеловесного, подумайте об огромном грузе, о Слоне! И потом — подумайте о Буре — о Сне в Летнюю Ночь — о Просперо — об Обероне — и Титании!
Поэма, как я думаю, может быть противопоставлена научной работе в том смысле, что непосредственная ее задача — наслаждение, а не истина; она может быть противопоставлена также роману, в том смысле, что ее задача — неопределенное наслаждение вместо определенного, и она остается поэмой лишь в той мере, в какой эта цель достигнута. Роман представляет воспринимаемые образы через посредство определенных, поэзия через посредство неопределенных ощущений, для достижения чего существенное значение имеет музыка, ибо воспринимание нежного звука есть самое неопределенное из наших восприятий. Музыка в соединении с мыслью, доставляющей удовольствие, есть поэзия; музыка без мысли — есть просто музыка; мысль без музыки есть проза, в силу крайней своей определенности». Книга содержит в себе всего-навсего одиннадцать поэм: «Введение» («Романс»), «К Елене» («О, Елена, твоя красота для меня…»), «Израфель», «Осужденный Город» (позднее переделанный и переименованный в «Город на Море»), «Фейная Страна», «Ирэна» («Спящая»), «Пэан» (первоначальный набросок «Линор»), «Долина Нис» (позднее «Долина Тревоги»), «Аль-Аарааф», сонет «Знание» и «Тамерлан». Книжечка облечена в зеленый переплет. Изумрудный стебель надежды уже расцвел здесь пышным цветом. В конце концов в намеках и в ускользающих очерках здесь почти весь Эдгар По. Как хорошо говорит Гаррисон, «за три года наступило удивительное усиление точности, определенности, ясной четкости и музыкальности. Что раньше было неверным, как хор шепчущих тростников вдоль берега реки, смутным, как crescendo и diminuendo, идущих оступью, ветров в очи, — собралось в сосредоточенную форму и сделалось воплощенным в стансах «Елены» и «Израфеля». Поэт двадцати одного года еще неловок, неуклюж, спотыкается в рифме и в размере, он новичок в изяществе стиха, но уже его навождают неизреченные словесные мелодии, столь же сладостные для чувства, как Спенсер[126] в журчащем токе некоторых строк, столь же неловок, как Уитмен, в перерывах и зияниях других строк: томик 1831-го года есть зримое рождение великого поэта, коего полное появление на свет потребует еще пятнадцатилетнего промежутка времени. Возрастающая тонкость восприятия и чувства, ощущение магической красоты мира и таинства в этом, сознание гармоний, что истекают, как из ключа, из самых слов в их гласных и согласных сочетаниях и контрастах, поэзия, которая существует в Смерти, в Приговоре, в Скорби, в Грехе (доведенная до крайности его подражателем и почитателем Бодлером во «Fleurs du Mal») — все это навождает пластическое юное воображение своими нежными и ярко-живыми умягчениями и звучит ему прямо на ухо, в его тонкий слух, зовом тритонова рога, маня его к новым, и, порой, еще более счастливым, полям». Гаррисон отмечает также, что как раз за год перед этим Теннисон выпустил в свет «Поэмы, главным образом лирические», и, конечно, этот сборник не содержит ничего более тонкогранного и дремотного по чаре, чем одновременные произведения Эдгара По, между тем как поэма «Аль-Аарааф» может счастливо соперничать с изданной в том же самом году увенчанной поэмой Теннисона «Тимбукту».
Основное различие между Эдгаром По и Теннисоном, сладкогласным певцом счастливой Англии, в ее лике узорного довольства, хорошо выражено юношескими строками Эдгара По:
Лишь там я мог любить душою, Где Смерть смешалась с красотою — Иль Брак, Судьба и Пропасть дней, Восстали между мной и ей.После этого блестящего выступления в мире поэтического творчества, от 1831-го года до 1833 жизнь Эдгара По снова затянута мглой, ибо мы о ней ничего не знаем. Выше упоминалась некая Мэри, «sweetheart», влюбленность юного Эдгара По. Рассказ об этой действительной или мнимой влюбленности помещен в одном американском журнале в 1889 году, и Гаррисон воспроизводит его. Эта Мэри говорит, что первый год по оставлении Кадетского Корпуса Эдгар По провел со своей теткой, с матерью своей будущей жены, Виргинии, мистрис Клемм, в Балтиморе. Эдгар По был красивый очаровательный молодой человек, который писал стихи, каждая юная девушка в него влюбилась бы — и Мэри, конечно, влюбилась. Волосы у него были черные и тонкие, как шелк, нос длинный и прямой и четкие черты лица, бледно-оливковый цвет кожи, красивый рот, музыкальный голос, глаза большие, серые и пронзительные, печальный меланхолический взгляд, и притом такой, что как будто он мог читать сокровенные ваши мысли. Между влюбленными встали препятствием бедность Эдгара По и один стакан вина. Эдгар По напечатал в некотором Балтиморском издании насмешливое стихотворение к Мари, — тогда, кроме бедности и одного стакана вина, выступил на сцену обычный театральный дядюшка влюбленной Мэри, между дядей невесты и отвергнутым женихом произошло бурное объяснение, Эдгар По выхватил из рукава бич из воловьей шкуры, отхлестал театрального дядю и, бросив хлыст к ногам своей возлюбленной, воскликнул: «Вот, я отдаю вам это в подарок!»
Не много нужно проницательности, чтобы оценить по достоинству сию побасенку. Будем ждать, когда до сих пор не найденная Балтиморская Поэма к Мэри будет найдена, и тогда постараемся поверить словам Гаррисона, что «статья бессвязна и ошибочна в некоторых своих утверждениях, но, очевидно, внушена личным знакомством с По в его ранние годы».
Гораздо более логическими кажутся слова Ингрэма, говорящего, что все попытки, сделанные до сих пор для объяснения того, что Эдгар По делал, и где он блуждал, в означенные два года, окончательно потерпели фиаско. «Утверждение, — говорит Ингрэм, — что он жил в Балтиморе, со своей теткой мистрис Клемм, не согласуется с фактом: ее собственная корреспонденция доказывает, что она никогда не знала, где был ее племянник в это междуцарствие своей истории, а сам поэт, по-видимому, никогда не дал какого-либо надежного ключа для выяснения истины. Пауэлль, в своем благомысленном, но несколько опирающемся на воображение очерке жизни По утверждает, что рыцарски чувствующий юноша оставил Ричмонд с намерением предложить свои услуги полякам в их героической борьбе против России». Что нам об этом думать, мы в точности не знаем, но факт существования собственноручного письма Эдгара По, относящегося к этому, перед нами налицо. Как бы то ни было, будем думать — как думал низверженный король Попел, говорящий в «Балладине» Словацкого рыцарю Киркору: «Да примет Небо замысел как дело».
В достоверно историческом лике Эдгар По снова возникает перед нами осенью 1833-го года, как нищенски-голодный и божески-блистательный создатель изумительного рассказа «Манускрипт, найденный в бутылке», от которого не отказался бы ни гений Свифта, ни гений любого чтеца человеческих душ, и как создатель не менее страшного и глубинного рассказа «Нисхождение в Мальстрём». Здесь incipittragoedia, здесь исходная точка всей блестящей параболы, начало кометного пути Эдгара По, — и случилось это по следующему поводу.
Осенью 1833-го года издатели еженедельного литературного журнала «Saturday Visiter», «Субботний Гость», возникшего в Балтиморе за год перед этим и печатавшегося тогда Уильмером, предложили премию в сто долларов и в пятьдесят долларов за лучший рассказ и лучшую поэму, какие будут доставлены состязателями. Когда Эдгар По узнал об этом, он послал шесть имевшихся у него рассказов и стихотворение «Колизей». По тщательном рассмотрении присланного материала три весьма известных в свое время и в своем месте литературных джентльмена единогласно присудили обе премии неведомому тогда юноше, Эдгару По, но затем, несколько изменив решение, присудили премию за лучшую поэму другому, ввиду того, что одна премия Эдгару По была присуждена. Не удовлетворившись этим, судьи состязания напечатали 12-го октября 1833-го года следующую заметку в «Субботнем Госте»:
«Среди прозаических очерков некоторые отличались различными и отменными достоинствами, но совсем своеобразная сила и красота очерков, посланных автором «The Tales of the Folio Club», не оставляют никакой возможности для колебания в этой области. Согласно с этим, мы присудили премию за рассказ, называющийся «Ms. Found in a Bottle», «Манускрипт, найденный в бутылке». Вряд ли было бы справедливо по отношению к автору собрания этих рассказов сказать, что выбранный рассказ есть лучший из шести им предложенных. Мы не можем не сказать, что, как благодаря собственной репутации автора, так и во имя удовольствия общества, весь сборник рассказов долженствует быть опубликованным. Рассказы эти чрезвычайно выделяются необузданным сильным и поэтическим воображением, богатым слогом, изобильной изобретательностью и разнообразной и любопытной образованностью.
(Подписано) Джон П. Кеннэди,
Д. X. Б. Латроб,
ДжэмсX. Миллер».
Один из судей, Латроб, подробно рассказывает в своих воспоминаниях, как происходило присуждение премий. Он повествует, как одна рукопись за другой отправились в корзину, ибо одни произведения были обычным неприемлемым бредом, другие простым плагиатом; он рассказывает, как он, Латроб, будучи младшим из трех, читал рукописи вслух, и когда, пробежавши про себя первую страницу четкой рукописи того, кто оказался Эдгаром По, он сказал, что, кажется, есть наконец что-то похожее на достойное премии, остальные двое со смехом усомнились, и, усевшись поудобнее со своими сигарами в комфортабельных креслах, стали слушать. Не много нужно было прочесть, чтобы слушатели сделались заинтересованными. За первым рассказом последовал второй и третий, и так до конца, причем чтение прерывалось лишь такими возгласами, как «Превосходно!», «Первоклассно!», «Как странно!». «Во всем, что они слушали, — говорит Латроб, — был гений; тут не было неверной грамматики, ни слабого словосочетания, ни дурно поставленного знака препинания, ни изношенных общедоступностей, ни сильной мысли, впавшей в слабость. Логика и воображение сочетались в редкой соразмерности. Временами автор создавал в уме свой собственный мир и затем описывал его — мир, столь зачарованный, столь странный — и в то же время такой волшебно-четкий, что он казался в ту минуту имеющим всю правду действительности… Когда чтение кончилось, трудно было выбрать, что лучше. Снова были перечитаны отрывки из отдельных рассказов, и наконец, выбор остановился на «Манускрипте, найденном в бутылке». Один из рассказов назывался «Нисхождение в Мальстрём», и некоторое время он был предпочтен»…
Кеннэди, автор книги «Horse-Shoe Robinson» и других популярных книг, очень заинтересовался столь успешным, хотя неведомым состязателем и письмом пригласил его к себе в гости. Ответ Эдгара По, где лаконизм слов, исполненных полновесной значительности, занесен в его обычные, четко вписанные буквы, является одним из самых красноречивых, страстных в своей английской сдержанности, воплей человека в пустыне — и не человека в пустыне, а одинокого существа среди несчетного множества других существ, чужих, враждебных, и глядящих, и подглядывающих. Пользуясь словами Ингрэма, можно сказать, что немногие, вероятно, смогут вообразить, как сердце истекало кровью, когда перо писало эти слова:
«Ваше приглашение к обеду ранило меня остро. Я не могу прийти по причине самого унизительного свойства — мой внешний вид. Вы можете представить себе мое уничижение, когда я открываю вам это, но это необходимо».
Побуждаемый благороднейшими чувствами, Кеннэди отыскал юношу и, как он записал в своем дневнике, нашел его совсем одиноким и почти умирающим с голоду. Кеннэди навсегда остался искренним, бескорыстным и благожелательным другом Эдгара По. Он отнесся к нему в ту минуту жизни не как к чужому, хотя бы и любопытному, а как к родному, которого уважают и любят. В дневнике Кеннэди есть запись: «Я дал ему свободный доступ к моему столу и возможность пользоваться одной из моих лошадей для верховой езды, когда он пожелает; в действительности, я приподнял его с самого срыва отчаяния».
С этой минуты жизненный путь Эдгара По почти четко означился. Но собственный гений и одно чужое доброжелательное сердце очень недостаточны, чтобы бестрепетно идти по тропинкам, выложенным битым стеклом.
Латроб в тех «Воспоминаниях», из которых выдержки уже были приведены, подробно описывает свои впечатления от Эдгара По тех дней:
«…Я сидел за своим письменным столом в понедельник после опубликования рассказа «Манускрипт, найденный в бутылке», когда ко мне вошел какой-то джентльмен и рекомендовался как автор рассказа, говоря, что он пришел поблагодарить меня, как одного из членов Комитета, за оказанную ему честь. Воспоминание об этой встрече с мистером По, единственной в моей жизни, очень четко в моей памяти, и мне нужно сделать лишь небольшое усилие моего воображения, чтобы увидеть его сейчас перед собой так явственно, как если бы я видел кого-нибудь из окружающих. Он был скорее ниже среднего роста, и, однако, о нем нельзя было бы сказать, что он маленький человек. Общий вид его был чрезвычайно благолепный, и он держался прямо и хорошо, как тот, кто был приучен к этому. Он был одет в черное, и его сюртук был застегнут до самого горла, где он встречался с черным галстуком, какой носили в это время почти все. Не было заметно ни одной полоски белого. Верхнее платье, шляпа, сапоги и перчатки, очевидно, ведали лучшие свои дни, но что касается починки и чистки щеткой, видимо, все было сделано, чтобы они были представительными. На большинстве людей одежда имеет изношенный и жалкий вид, но вокруг этого человека было что-то, что возбраняло глядящему критиковать его одежду, и описанные подробности были припомнены лишь позднее. Впечатление, однако, было таково, что премия, назначенная мистеру По, не была некстати… Джентльмен было написано во всей его наружности. Его манеры были спокойны и уверенны, и, хотя он пришел поблагодарить за то, что он считал достойным благодарности, не было ничего приторно вежливого в том, что он говорил или делал. Черты его лица я не могу описать в подробности. У него был высокий лоб, замечательный своими большими выпуклостями на висках. Это было отличительное свойство его головы, вы замечали эту особенность сразу, и забыть ее я не мог бы никогда. Выражение лица его было серьезное, кроме тех минут, когда он увлекался разговором, тогда выражение его лица делалось оживленным и переменчивым. Его голос, я помню, был очень приятен по тону, он был выразительно-переливный, почти ритмический, и слова его были выбраны хорошо и без колебаний… Я спросил его, чем он занят, что он пишет. Он ответил, что занят Путешествием на Луну, и тотчас же вдался в несколько ученое рассуждение о законах тяготения, о высоте земной атмосферы и летательных способностях воздушных шаров, оживляясь по мере того, как речь его продолжалась. Вдруг, говоря от первого лица, он начал Путешествие: Описав предварительные приготовления, как их можно найти в одном из его рассказов, называющемся «Приключение некоего Ганса Пфоолля», он оставил землю и, делаясь все более и более воодушевленным, стал описывать свои ощущения, по мере того, как он восходил все выше и выше, пока, наконец, он не достиг той точки в пространстве, где притяжение Луны превозмогало над притяжением Земли, там происходила внезапная опрокинутость лодочки и великое смятение среди тех, кто в ней находился. К этому времени говоривший сделался столь возбужденным, говорил так быстро и так жестикулировал, что, когда перевернутость лодочки произошла, и он, для большей выразительности, хлопнул в ладони и топнул ногой, я был увлечен с ним в пространство и вполне мог бы вообразить, что я был спутником в его воздушном странствии. Когда он окончил свое описание, он извинился за свою возбудимость, над которой он посмеялся сам же. Разговор перешел на другие предметы, и он скоро простился со мной. Я более не видел его никогда… Что я слыхал о нем потом, опять и опять, и год за годом, наряду с теми другими, кто говорит по-английски, об этом упоминать бесполезно, — слышал о нем в выражениях хвалы иногда, иногда в выражениях осуждения, доныне, когда он ушел, оставя за собой славу, которая будет длиться, пока будет длиться наш язык, и я могу о нем думать только как об авторе, который дал миру «Ворона» и «Колокола», и много еще других жемчужин благородного стиха, озарил эту мощь английской речи в прозаических сочинениях, не менее логических, чем вообразительных, и я забываю злоупотребление, которое с основанием или без основания невежество, предрассудок или зависть нагромоздили на его памяти».
После этого события Эдгар По сразу сделался знаменитостью, как сразу сделался знаменитостью Байрон, и уже до конца своих дней он был виден. Как в свете пожара. Отметим, что согласно собственному утверждению Эдгара По, рассказ «Манускрипт, найденный в бутылке» был им напечатан уже в 1831-м году. Нужно многое уметь сжечь в себе, чтобы в двадцать лет быть способным написать такой рассказ. Но все творчество Эдгара По ясно указывает, что много в его жизни было сожженных жизней.
3. Любовь. Борьба
Очень тяжело и даже мучительно судить живых, судить кого бы то ни было, но еще тяжелее и еще мучительнее судить мертвых. Живой в свое оправдание, или просто в разъяснение, может говорить и может одним словом совершенно опрокинуть кажущуюся явность видимых фактов, как одним камнем, вырвав его из-под основания, мы можем разрушить башню или, положив его на вершине, мы можем закрепить узкое построение в том виде, как оно возникло. Некоторые факты, однако же, столь убедительны, что вряд ли какие-нибудь слова, сказанные или несказанные, живых или мертвых, могут изменить к ним отношение, факты, о которых не может быть двух мнений. Казуистически строя доказательства, я, быть может, смогу оправдать себя в том, что, родив ребенка, я предал его небрежению и не был достаточно к нему нежен, — ибо возникновение его в моей жизни предопределено Судьбой, не спрашивавшей у меня, хочу я или не хочу в моей жизни ребенка. Но и этот аргумент есть довод мнимый. Что же сказать обо мне, если я сам, по доброй своей воле, по прихоти своего сердца, взял к себе на воспитание чужого ребенка, воспитал его до известного возраста, весьма юного, приучил его к роскоши и к полному своеволию, дал ему предвкушение моих богатств, — малых или больших, но богатств, — и я, старший, стоявший в жизни твердо на двух своих ногах, я, вдвойне отец, ибо я отец добровольный, — поссорившись со своим сыном — из-за чего бы то ни было, по моей вине, или по его, все равно — вышвырнул его вон из своего дома или равнодушно предоставил ему убираться на все четыре стороны, а умирая, даже не упомянул его имени в своем завещании? Так сделал Аллэн с Эдгаром По. Если в виде оправдания выставлять семейную ссору, о которой ничего точного не известно, известие же имеет вид клеветы — клеветы со стороны заместительницы его приемной матери, любившей его, как мать родная, клеветы со стороны мачехи в определенном смысле этого слова — я не буду даже слушать обвинение и скажу с самого начала — оно лживо. Ибо, когда человек, занявши твердую позицию и тем самым вытеснив другого, начинает говорить и наговаривать на вытесненного, его роль презренна. Я продолжу свой довод — и скажу, что, на мой взгляд, если красиво и естественно, что мать любит своего ребенка, десятикратно красивее и, в высшем благородном порядке, десятикратно естественнее, если мачеха любит своего пасынка или падчерицу и, любя, смягчает углы, а не обостряет их, и, любя, прощает юные вины, если когда-либо какие-либо вины существовали.
В каждом учебнике истории литературы имя гениального американского сказочника и песнопевца, имя одного из величайших поэтов, какие жили на земле, означается Эдгар Аллэн По. Нужно раз навсегда выкинуть лишнюю прибавку к имени Эдгара По. В царстве света и славы, в царстве звука и красок, в царстве воли и своеволия самодурству нет места. Среди имен, каждое из которых означает существо крылатое, в великом святилище мировых слав не может быть места для тех, кто не только не способен на полет, но и не видит полета летучих.
В 1834-м году, в марте Аллэн умер, как чужой для Эдгара По, унося с собой несправедливую неразрешенную ссору. И да не скажем о нем более ни слова.
Кто сколько-нибудь прикосновенен к литературным кругам, тот хорошо знает, сколько боли, неверности, страха и унижения заключается в двух словах жить литературой. И чем острей, идеальней, воздушней талант, чем он своеобразнее и причудливее, тем страшнее и страшнее становится осложнение. Чем сгущеннее творчество, чем выразительнее оно в своей немногословности, тем труднее положение пишущего, который, создав драгоценнейшее ожерелье из двенадцати слов, из двенадцати строк, из трех-четырех страниц, ведь не сумеет же внушить той человеческой разновидности, которая называется Издатель, что слиток золота, который можно подержать на ладони, драгоценнее целой глыбы свинца, которую не сдвинешь. В грубой и грубо-честной торговле меновыми ценностями очевидного достоинства легко требовать справедливости и получить ее, — в той сложной сети соотношений, которая называется литературой, идеальная справедливость в смысле признания дара, и чисто деловая справедливость в смысле достодолжной оплаты литературного труда, есть вещь почти невозможная. Как можно было бы внушить кому-нибудь, что рассказ юного Эдгара По «Тень», в котором три-четыре страницы, или стихотворение «Червь-Победитель», в котором всего несколько строф, полновеснее, чем полное собрание сочинений того или иного заурядного писателя. Как можно было бы втолковать кому-нибудь, что для создания таких изумительностей нужно не только быть гением, но нужно быть гением редкостным, и, мало того, нужно, чтобы этот гений, отмеченный среди гениев, наложил на себя священный искус, не определенного в днях и месяцах, творческого молчания. Только тогда, из незримых поземельному оку сердечных глубин, будут выброшены на верхний воздух эти слитки золота, эти смарагды, рубины и алмазы.
Байрону легко было быть Байроном. Во-первых, его талант был лишь талантом, лишь редко достигавшим гениальности, во-вторых, направление его мысли и свойство его таланта вполне совпадали с общим течением умственной эпохи, требовавшей этой монотонной марсиальной напевности отъединенного, но все же человеческого, гордого я. Его произведения были обречены на большой и даже на огромный успех, как сам он был обречен на то, чтобы не оставить никакого прочного влияния в английской и европейской литературе, и, не создав школы, не иметь преемников, — кроме современников, слишком часто именуемых совершенно неверно Байронистами, ибо общие умственные течения были тогда таковы, и мы легко даем ходкую кличку целому движению, несправедливо означая его именем одного из отмеченных удачей соучастников. Кроме того, и быть может, превыше всего, Байрон жил в Англии и в Европе, где уже много сотен лет была готовая литературная аудитория, а не в Америке, где общество состояло, да и теперь состоит, главным образом, из искателей доллара и учредителей деловых предприятий и где умственная грубость и художественная тупость — господствующий факт. И Байрону как раз кстати пришлось его лордство и богатство. Многое изменилось бы в его жизни и его судьбе, если бы не было ни того, ни другого. Благословим его судьбу — но не лучше ли другая, хотя и мучительная, с ущербами явными и с внутренним блеском сокровенным?
И Шелли, который неизмеримо интереснее как личность, нежели Байрон, и гораздо плодотворнее и своеобразнее его как поэт, в конце концов легко было быть Шелли. Вся обстановка его жизни, все исторические и личные обстоятельства ее клонились к тому, чтобы закрепить его духовный лик в тех чертах, которые были ему дарованы Судьбой, а не исказить их. Красивый цветок, который часто смотрит печально, но в красивом саду он растет, и если часто он обрызган росой, как слезами, он от этого только еще живей и еще красивей. И Шелли была дана Судьбой радость не только не нуждаться самому — беря его жизнь в целом, — но и иметь возможность бросать золотые кружочки золотых возможностей своим друзьям и любимым. И Шелли мог петь свои песни жаворонка, мог создавать волшебный сад для своей Царевны Мимозы, не думая ни о чем, кроме поэтической услады, и, написав одно из своих несравненных видений, в которых звезды целуются с цветами и ветры поют убедительно, он не должен был, роняя розы в грязь, мучительно размышлять о необходимости продать свое сновидение. Жизнь Шелли волшебная греза, исполненная и великой жертвы, но жертвы, взнесенной в тот светлый воздух, где рождаются сияющие венцы. Земле с ее кровью и грязью, с ее сумасшедшим опьянением жестокостью и жестокостью нужны еще и другие жертвы, смущающие своим ликом и возбуждающие в душе не только глубокое сочувствие, но, быть может, и оставляющие в ней скорбное недоумение.
Несмотря на огромное количество чисто журнальной работы, выполненной Эдгаром По в его короткую жизнь, и несмотря на общее утверждение лиц, имевших с ним дело, что он был работником необычайно честным и прилежным, несмотря на успех, который он создавал своим сотрудничеством разным журналам, отдавая им свой гений, свой ум, свою рачительность, свою великую любовь к слову, он всю жизнь прожил в скудной обстановке, часто был в бедности, нередко был в такой бедности, которая уже становилась нищетой. Время от времени, кроме того, на него находило злое наваждение, обусловленное причинами сложными и в конце концов лежавшими вне его контроля. Но с начала до конца, за всю свою жизнь, среди всех своих испытаний, он остался самим собой, он не принизил своего гения, а вознес его в неземной его отъединенности и во всем своем творчестве, достойном быть так названным, лучезарно сохранил свое божеское я, озаренное высокими светильниками, чьи имена Любовь, Смерть, Искушение и Ужас.
Благодаря Кеннэди и благодаря собственному своему дарованию Эдгар По пристроился при «Южном литературном вестнике», который издавался Томасом Уайтом в Ричмонде. В 1834-м и 1835-м году у Эдгара По уже были написаны такие поэмы, как «К одной из тех, которые в раю» и «Колизей», и такие рассказы, как «Береника», «Свидание», «Морэлла», «Ганс Пфоолль», «Король Чума», «Метценгерштейн» и «Тень». Но с прискорбием мы можем видеть, что, кроме поименованных вещей, написанных и частью напечатанных за этот период, в 1835 году Эдгар По напечатал ни много ни мало как сорок еще других рассказов и журнальных статей. Конечно, можно находить чрезвычайно верным замечание английского писателя Мерэдита, что работать можно неограниченное число часов и что ум устает только тогда, когда он отдыхает, но нет ли глубокого умственного и душевного переутомления в таком письме Эдгара По, написанном им к Кеннэди:
Ричмонд, сентября 11-го 1835.
«Дорогой Сэр, — я получил вчера письмо от Доктора Миллера, в котором он говорит мне, что вы в городе. Я спешу поэтому написать вам, — и выразить письменно то, что я всегда находил невозможным выразить устно — мое глубокое чувство благодарности за вашу частую и действительную помощь и доброту. Благодаря вашему влиянию, мистер Уайт пригласил меня помогать ему в издательских обязанностях касательно журнала — с жалованьем 520 долларов в год. Положение это приятно для меня по многим причинам — но, увы! как кажется, ничто не может мне доставить радости — или, хотя бы, малейшего удовольствия. Простите меня, если в этом письме вы найдете много бессвязного. Чувства мои в данную минуту поистине в жалостном состоянии. Я испытываю такую угнетенность духа, какой я никогда раньше не чувствовал. Я напрасно боролся против влияния этой меланхолии — вы поверите мне, когда я вам скажу, что я все еще чувствую себя жалким, несмотря на значительное улучшение моих обстоятельств. Я говорю, что вы поверите мне, и это по той простой причине, что человек, который пишет, чтобы оказать впечатление, тот не пишет так. Сердце мое открыто перед вами — если оно достойно чтения, читайте его. Я несчастен, и я не знаю почему. Утешьте меня — потому что вы можете. Но сделайте это скоро — ибо будет слишком поздно. Напишите мне тотчас. Убедите меня, что это достойно, что это необходимо — жить, и вы явите себя действительно моим другом. Убедите меня делать то, что нужно. Я не понимаю под этим — я не разумею, что вы могли бы считать то, что я пишу вам сейчас, шуткой — о, пожалейте меня! ибо я чувствую, что мои слова бессвязны — но я овладею собой. Вы не сможете не заметить, что у меня такая угнетенность духа, которая погубит меня, если она будет долго продолжаться. Напишите же мне и скоро. Побудите меня делать то, что нужно. Ваши слова будут иметь более веса для меня, чем слова других — потому что вы были моим другом, когда никто другой не был им. Не обманите ожидания, если вы цените спокойствие вашего духа потом».
Нескольких строк из ответа Кеннэди Эдгару По, — писателя и человека, способного на художественную чуткость и на добрый порыв сердца, одного из немногих действенно благих, встреченных Эдгаром По на жизненном пути, — может быть совершенно довольно, чтобы оттенить степень духовного одиночества Эдгара По среди его современников и разницу уровня его души и современных ему душ. Кеннэди пишет:
«Мой дорогой По, — мне горестно видеть вас в таком тягостном состоянии, на которое указывает ваше письмо. — Это странно, что как раз в то время, когда все хвалят вас и когда Судьба начала улыбаться на обстоятельства вашей жизни, доселе злополучные, вы можете быть захвачены этой преподлейшей хандрой. — Это, однако, свойственно вашему возрасту и вашему Темпераменту испытывать такие потрясения, — но будьте уверены, нужно лишь немного решимости, чтобы овладеть противником навсегда. — Вставайте рано, живите благородно, заводите знакомства, которые вас будут развлекать, и я не сомневаюсь, что вы пошлете к черту все эти сердечные предчувствия. — Вы, без сомнения, будете преуспевать отныне в литературе и будете умножать ваш комфорт так же, как укреплять вашу репутацию, которая везде делается более прочной в общественном уважении, о чем я с истинной радостью сообщаю вам. Не могли бы вы писать какие-нибудь фарсы в манере французских водевилей? Если вы можете (а я думаю, что вы можете), вы отлично могли бы пустить их в оборот, продавая театральным антрепренерам в Нью-Йорке. — Мне хочется, чтобы вы направили ваши мысли соответственно этому указанию».
Буки-аз, буки-аз. Страшно жить среди таких людей. Еще страшнее думать, что это чистосердечные слова неглупого человека, продиктованные настоящим желанием дать добрый совет молодому писателю.
Эдгар По отдавал почти все свои силы «Южному Литературному Вестнику» с 1835-го года до 1838-го, но уже к январю 1837-го года он должен был сложить с себя редакторские обязанности и искать иных жизненных возможностей. Журнал же за двенадцатимесячный срок египетского труженичества Эдгара По от 700 подписчиков дошел до 5000. В чисто деловом отношении можно сказать, что кровь и мозг не роскошествующего гения удачно превращались в золотые монеты, находившие гостеприимный приют в издательской копилке. Теперь до самой смерти в жизни Эдгара По будет мелькать панорама различных городов. Балтимора, Чарльстон, Нью-Йорк, Бостон, Ричмонд, Вашингтон, Норфольк, Ричмонд — это был пестрый узор в краткой жизни его матери, Элизабет Арнольд. Балтимора, Ричмонд, Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, — Филадельфия, Нью-Йорк, Ричмонд, Балтимора — подобный же узор, фатальная астрология, в жизни Эдгара По.
Но отныне уже не один будет проходить свою дорогу этот поэт кометной судьбы. В жизни его возникла Долина Многоцветных Трав. В неправдоподобности своей и в странной, волнующей, почти страшной красоте, страшной, ибо действительной и столь необычной, возникла любовь между полудевочкой Виргинией, двоюродной сестрой Эдгара, единственной дочерью сестры его отца, мистрис Клемм, — и Эдгаром По, который на тринадцать лет был старше своей двоюродной сестры. Он видел ее еще ребенком, когда посетил Балтимору, завершив свое кадетство, — когда же между ними возникла любовь, ей, родившейся 13-го августа 1822-го года,[127]было всего двенадцать-тринадцать лет. Они решили обвенчаться. Троюродный брат, Нильсон По, узнав об этом, восстал на таковое решение и предложил мистрис Клемм отдать ему на воспитание Виргинию до того, когда она вступит в возраст, подходящий для замужества. Против этого ревностно восстал Эдгар По, не менее рьяно возмутилось сердце девочки, и мать согласилась на их брак. По свидетельству Вилльяма Гилля, они негласно обвенчались в Балтиморе, но год Эдгар был в разлучности со своей женой-ребенком, а в 1836 году они формально обвенчались в Ричмонде 16 мая. В венчальном документе ошибочно или облыжно сказано, что Виргинии Клемм полностью двадцать один год. Быть может, это какая-нибудь своеобразная американская формула, равносильная слову совершеннолетняя?
Греза смешалась с действительностью, и в жизни Эдгара По была истинная Элеонора-Морэлла-Лигейя. И если не она его, а он ее учил, воспитывал и передал ей свои знания, тогда как Лигейя и Морэлла учат возлюбленного своего, — что можно нам знать о двух любивших, скрытно любивших и вместе бывших? Красивая, живая, нежно любящая и страстно влюбленная, большеглазая девочка-женщина, которой Судьба предназначила в двадцать пять лет умереть от чахотки, с лицом, напоминающим создания Берн-Джонса и Данте Россэтти, Виргиния слишком совпадала со всеми основными чертами Эдгара По, чтобы не входить глубоко в его душу и не возбуждать в нем те сложные мысли и те изысканно редкие настроения, которые проходят перед нами на озаренных страницах его сказок, поэм и философских диалогов.
Расставшись с редакторским местом в «Южном Литературном Вестнике», Эдгар По через несколько месяцев очутился в Нью-Йорке и поселился на Carmine Street, в доме под номером 113Ѕ. Жалостная деревянная лачуга, в преизбытке дававшая место не только Эдгару По и Виргинии с ее матерью, но и трем-четырем нахлебникам, которых мистрис Клемм взяла, дабы сколько-нибудь поправить хозяйственные дела. Один из них, Вилльям Гоуэнс, впоследствии богатый и эксцентричный книгопродавец, оставил в своих воспоминаниях ценное свидетельство: «В течение восьми месяцев или более «в одном доме мы были, один стол нас кормил». В течение этого времени я много видал Эдгара По и имел случай часто соприкасаться с ним, и я должен сказать, что я никогда не видел его хотя бы под малейшим впечатлением напитка или снисходящим до какого-либо ведомого порока. Это был один из самых вежливых, джентльменских и умных собеседников, каких я встречал в течение моих путешествий и остановок в различных частях земного шара; кроме того, у него было добавочное побуждение быть благим человеком, как и хорошим супругом, ибо у него была жена несравненной красоты и очарования; глаза ее могли бы соперничать с глазами какой-нибудь гурии, а лицо ее могло бы бросить вызов гению какого-нибудь Кановы; характер и настроение чрезвычайной нежности; кроме того, она, по-видимому, столь же была предана ему и каждому его интересу, как юная мать своему первенцу… У Эдгара По была замечательно приятная и предрасполагающая наружность, то, что женщины решительно назвали бы — красивый». — «Она была превосходной лингвисткой и отличной музыкантшей, и она была такой-такой красивой, — вспоминает о Виргинии ее мать. — Как часто Эдди говорил: «Никого нет такой красивой, как нежная моя маленькая жена». Эдди был домоседом по всем своим привычкам, он редко выходил из дому на какой-нибудь час без того, чтобы с ним не была его любимая Виргиния или я. Он был, поистине, исполненный нежных чувств добрый супруг и преданный сын по отношению ко мне. Он был исполнен порывов, великодушный, привязчивый и благородный. Вкусы его были очень простые, а восхищение его всем, что было благим и красивым, очень было большим… Мы трое жили только друг для друга».
Гаррисон, приводя автобиографические слова Эдгара По из «Элеоноры» и «Береники», говорит: «Здесь По рисует свой собственный силуэт из облачной страны памяти и самоанализа: сновидец, поэт, безумный, мономаньяк, если вы хотите, страстно преданный мечтательности, столь же страстно, как индус закрепляет на всю свою жизнь свой взгляд на мистическом лотосе, неизреченном цветке, который возносит свою чашу над грязным илом Жизни; пламенный любовник, последней древней расы, лихорадочно влюбленный в красивое, одинокий, затопленный поэтическими видениями, чье око для Неведомого почти небесно ясно, между тем как каждый шаг в текущей действительности — преткновение».
Мысль Эдгара По уходила далеко, ей грезился Полюс, ей грезились грани, предельное во всем, и отсюда — соприкосновение с Запредельным. Он пишет «Повествование Артура Гордона Пима», где картины смерти, ужаса, резни, отъединенного сосредоточения всех настроений впечатлительного человека, странствующего по неведомым Южным морям, написаны с той четкостью и силой, которых можно искать у Дефо, с тем чисто английским даром достигать правдоподобия в неправдоподобном и неизбежного в невозможном, с тем умением обращаться запросто с Ужасом, которые понятны лишь постоянным путникам морей, умеющим быстро и уверенно ходить по палубе корабля, опрокидывающегося набок, но имеющим на суше, быть может, странную походку. Птица Южных морей — Альбатрос.
Изданное в 1838 году в Нью-Йорке «Повествование Артура Гордона Пима» мало имело успеха в Америке, в Англии же оно имело успех большой и было перепечатано, англичане приняли ату повесть за фактическое описание действительного путешествия.
В 1838-м году, в конце года, Эдгар По переселился со своей семьею в Филадельфию и пробыл в этой литературной столице тогдашней Америки до 1844-го года. По видимости, там легче было найти возможность обеспечиться правильным литературным заработком.
Мистер Александр, издатель «Gentleman's Magazine», «Джентльменского Журнала» и основатель Филадельфийской «Saturday Evening Post», «Субботней Вечерней Почты», год спустя после смерти Эдгара По писал о нем, вспоминая о знакомстве в связи с журнальными отношениями: «Я имел долгое и близкое соприкосновение с ним и с радостью пользуюсь случаем засвидетельствовать о единообразной мягкости его нрава и сердечной доброты, которые отличали мистера По за все наше знакомство. При всех своих недостатках, он был джентльмен, чего не может быть сказано о некоторых из тех, кто предпринял неизящную задачу чернить имя Эдгара По, «драгоценную жемчужину его души». Что у мистера По были недостатки, наносившие серьезный ущерб его собственным интересам, никто, конечно, не будет отрицать. Они были, к сожалению, слишком хорошо известны в литературных кругах Филадельфии, если даже и было какое-нибудь желание скрывать их. Но он один был тут лицом страдательным, а не те, кто извлекал выгоду из его высоких, выдающихся талантов». Другой современник, Клэрк, так рисует семейную жизнь Эдгара По тех дней: «Их маленький сад летом и дом их зимой тонули в роскошных виноградных лозах и других вьющихся растениях и были щедро разукрашены изысканными цветами по выбору поэта. Эдгар По был образцом общежительного и домашнего достоинства. Это было для нас счастием соучаствовать в том или ином возникшем наслаждении красотою цветов и наблюдать восторженность, с которой эта, связанная истинно взаимным чувством, чета являла свои цветочные вкусы. Мы привыкли также пользоваться здесь гостеприимством, которое всегда делало дом Эдгара По домом его друзей. Перед нами встают некоторые отдельные случаи из этого, радостно вспоминаемого, знакомства, добрые отношения между женщинами наших семей, в особенности в часы болезни, которые превратили, в большой степени, жизнь Виргинии в источник мучительной заботы для всех, кто имел радость знать ее и быть свидетелем постепенного угасания ее хрупкого тела. Но она была изысканной картиной страдающей очаровательности, всегда храня на красивом лице улыбку резигнации и всегда встречая своих друзей ласковым взглядом. Эдгар По преданно любил ее, и ни превратности судьбы, ни даже тот демон, который навождал его в роковом кубке, не могли исказить или уменьшить эту привязанность, и, несмотря на то, что она была очень напряженная, ответная привязанность была столь же сильна и столь же неистребима в душе его Аннабель-Ли, его нежной жизненной спутницы, чувство которой так трогательно и печально закреплено в словах поэмы:
Я любил, был любим, мы любили вдвоем, Только этим мы жить и могли.«Были оба детьми», «она была дитя», — говорит поэма; и, в действительности, сам По был мало чем иным в повседневных переплетенностях и ответственностях жизни. Когда, разрушив чару своего простого фейного домика, они покинули Филадельфию для Нью-Йорка, мы получили в подарок некоторые из любимых их цветов, и в сохранности они остаются доселе в нашем доме, как память тех счастливых дней с Эдгаром и Виргинией».
Нить изложения уже несколько раз соприкоснулась вскользь с одним мучительным и чрезвычайно важным обстоятельством в жизни Эдгара По. Временами он был одержим. Через некоторые промежутки времени разной длительности он переживал неустранимый приступ некоего наваждения. Имя этого наваждения — Алкоголь. Многие люди прикасаются к вину, пьют вино не только иногда, при том или ином случае, но и каждый день и по нескольку раз в день, не испытывая от этого никакого видимого ущерба и не возбуждая этим ничьих нареканий. Но есть также чрезмерно тонкие сочетания впечатлительности и нервной раздражительности. Есть натуры, которые не выносят прикосновения к вину, в то же время испытывая к нему временами неудержимое или очень трудно удержимое влечение, — двойственное отношение человеческой души к пропасти, когда человек стоит на срыве. Знаешь, что убьешься или разобьешься, и все-таки срыв тянет, притягивает, втягивает. Все злополучие тех людей, которые переживают эти исключительные состояния навождаемости, заключаются в том, что они сами обыкновенно не подозревают пришествия роковой минуты, подкрадывающейся всегда — несмотря ни на какую повторность — в первый раз и совершенно неожиданно. И если даже для человека с заурядной восприимчивостью к вину возможно в одних случаях совершенно безнаказанно, не теряя своего разума и воли, осуществить весьма длительный и многочасовой кутеж, в других же случаях даже незначительное количество вина вызывает у него полную утрату душевного равновесия, — для натур с впечатлительностью к вину болезненною вовсе нельзя безнаказанно приближаться к нему, и одного стакана достаточно, чтобы вызвать полубезумное состояние. Иногда такое полубезумное состояние совершенно не видно постороннему человеку, ибо в таком настроении есть своя строгая систематика. Лишь близкие друзья, хорошо знающие человека, видят по разным неуловимостям, по малой приподнятости бровей или по какому-нибудь еле заметному систематическому и непривычному движению, что воля претерпела потрясение, и в личности на время возникла другая личность. Частичные условия — та или иная степень и тот или иной род предварительной душевной и умственной утомленности, присутствие неприятного человека, наличность огорчения или заботы, отсутствие любящего близкого, который незаметно, вовремя сумеет сказать какое-нибудь, быть может, самое незначительное, но в данную минуту безусловно необходимое слово, сделает самое на вид пустячное движение и этим, однако, предупредит движение душевной лавины — играют роль винтов, блоков, и рычагов, и маховых колес — и один неуловимый атом может уберечь человека от искажения, унижения, и, быть может, уродства, и, быть может, смерти, дав ему лишь художественное ощущение, что вот близко прошла стороною гроза — и один атом может вызвать движение сложного сцепления причин, унося вниз и вкось по наклону с последствиями неисчислимыми.
Я сказал искажение и унижение. Не только это. Не забудем, что вино есть и путь познания. При известном сочетании обстоятельств и при наличности известных душевных данных, вино мгновенно распахивает в душе двери в тайные горницы, создает в ней глубокие просветы, рождает огненные изломы, которые своими резкими поворотами дают возможность взглянуть на предмет, будто бы давно нам известный, с совершенно новой точки зрения, заставляют меня с секундною быстротой ощутить первичную радость жизни, — зрение обостряется, глаз видит линии и краски, которых он перед этим не замечал, вокруг заурядных предметов вырастает тонкий золотистый ореол, предметы превращаются как бы в одушевленные живые существа и делаются увенчанными, слух слышит звук по-иному, и для него возникают новые звуки, а обычная грубость тех или иных голосов одухотворяется, опрокидываясь в идеальность и делаясь как бы подвижным веществом творчества, подобно тому, как на глину, из которой мы лепим, мы не можем в ваянии смотреть как на грязную землю. Греки говорили, что с вином в человека входит дух вещей. Это одно из самых тонких определений действия вина на человеческую душу. Такие или подобные состояния, хоть раз или несколько раз, испытывал, конечно, каждый и самый заурядный человек, которому случалось опьяняться, но заурядный человек, не имея в себе Божеского дара, не может связывать этих просветов с некоторым несознательным творческим процессом и обычно очень быстро забывает об этих зарничных мигах совершенно. Художник не забывает никаких своих переживаний и, извлекая даже, помимо своей воли, творческий опыт решительно из всего, не может, конечно, не извлекать творческого опыта и из таких состояний, что, однако, не дает нам никакого логического права говорить, будто он делает стихи из вина. Надо также помнить, что отвлеченные рассуждения о чем-нибудь суть одно, а осуществление чего-нибудь в соприкосновении с действительностью весьма способно видоизменяться, уклоняясь от кажущейся неизбежности и как бы предначертанности и впадая в предначертанность иную, определить которую мы бессильны. Есть некоторые вещи, которые меняются не только от прикосновения к ним повседневности, но и от простого прикосновения к ним слов. Есть вещи, о которых совсем не надо говорить или надо говорить магически, ибо, возникая в выявленности слов, они мгновенно перерождаются в самой своей сущности. Есть морские девы, живущие далеко от людского, и, если людская рука схватит сирену и повлечет ее на берег, человек не увидит красавицы, а увидит лишь скользкое чудо — морскую медузу.
Быть может, вовсе не нужно было бы говорить о том, что Эдгар По иногда навождался вином, если бы об этом уже не говорили многие и не сказали столько лжей. Я устраняю из своего рассуждения всякий разговор о нравственной оценке явления, — если художник даже делает над собою сознательные опыты. Неужели, когда я пишу картину, нужно много разговаривать о том, что у меня руки запачкались краской! В данном же случае сознательных опытов и не было, а были лишь приступы наваждения, с которыми сам наваждаемый боролся и испытывал великую душевную боль от того, что дух наваждающий оказывался иногда сильнее его противоборствующей воли.
Некоторые свидетельства современников и биографов стоит повторить.
Прежде всего, раньше слов людей посторонних, чрезвычайно значительны, хотя изъяснительны лишь отчасти, слова самого Эдгара По, написанные им в ответ кому-то 4 января 1848 года, приблизительно через год после смерти Виргинии:
«Вы говорите, можете ли вы намекнуть мне, какое это было «страшное злополучие», которое вызвало «неправильности, столь глубоко оплакиваемые?» Да, я могу сделать более, чем намекнуть. Это злополучие было самым большим, какое только может постичь человека. Шесть лет тому назад у жены, которую я любил, как никакой человек никогда не любил до того, порвался кровеносный сосуд, когда она пела. В жизни ее отчаялись: Я простился с ней навсегда и пережил агонии ее смерти. Она поправилась отчасти. И я снова надеялся. В конце года кровеносный сосуд опять порвался. Я пережил в точности ту же самую картину… Потом опять — опять — и даже еще раз опять, в различные промежутки времени. Каждый раз я чувствовал все предсмертные ее пытки — и при каждом усилении недуга я любил ее еще более горячо и уцеплялся за ее жизнь с еще более безнадежным упрямством. Но по телесным свойствам своим я впечатлителен — нервен в весьма необыкновенной степени. Я сделался безумным, с долгими промежутками ужасающего здравомыслия. Во время этих припадков абсолютной бессознательности я пил — один Бог знает, как часто и сколько именно. Как оно и полагается, мои враги приписали безумие напитку, более чем сам факт пития безумию. Поистине, я уже оставил всякую надежду на прочное излечение, когда я нашел некоторое излечение в смерти моей жены. Эту смерть я могу вынести и выношу, как приличествует человеку. Чего я не мог бы больше выносить без полной потери разума, это ужасно, никогда не кончающегося колебания между надеждой и отчаянием. И в смерти того, что было моей жизнью, я получил новое — но, о Боже! — какое печальное существование».
Уиллис говорит: «Мы слышали от одного человека, знавшего его (Эдгара По) хорошо, что от одного стакана вина все его существо внутренно было опрокинуто; демон делался верховенствующим, и, хотя никаких внешних знаков опьянения не было видимо, воля его ощутительно делалась безумной». Лэтто говорит: «Каковы бы ни были его отпадения, что бы он сам о себе ни говорил (Бернс был равно неосторожен и равно говорлив в своих заблуждениях), американский поэт обычным испивателем вина не был никогда; и, однако же, это обвинение возникало опять и опять» Гилль говорит: «Его излишества были немногочисленны, и между ними большие промежутки времени, они или являлись следствием причуд крайней мозговой угнетенности, или бывали случайным уклонением от его, обычно твердого, сопротивления тому, что было для него пагубным гостеприимством». Как говорил один, хорошо его знавший в Ричмонде джентльмен, «он побеждал более искушений на дню, чем большинство делают это в течение года». Гаррисон говорит: «Нет, однако, сомнений, что По предавался возбудителям через неправильные промежутки времени и под давлением сильных искушений. Чтобы он был каким-нибудь привычным пьяницей или привычным поедателем опиума, этому противоречит как единогласное свидетельство его близких друзей — тех, которые действительно его знали, — так и целые нагромождения рукописей, исписанных изысканным почерком, рукописей, писавшихся во все часы дня и ночи, при всех обстоятельствах доброго здоровья и недоброго здоровья, поспешно или в спокойствии, — оставшиеся свидетели телесного состояния, безусловно противоположного состоянию того, кто подвержен белой горячке. Никакой поедатель опиума, никакая обычная жертва спиртных напитков не смогли бы писать этим твердым, четким, стойким, восхитительно разборчивым, женским почерком. Случай Эдгара По никогда не был научно диагнозирован каким-нибудь сведущим неврологом, который бы обладал патологическим и литературным материалом и свободою от предубеждения, необходимыми, чтобы сделать понятным читателям этот случай — более особливый, чем «Факты в деле мистера Вальдемара». Сам По наиболее близко подходит к нему в своей страшной сказке «Гоп-Фрог», где он описывает — не можешь не подумать, что автобиографически — страшное действие одного отдельного стакана вина на уродливого калеку. Его мозг всегда был в горячке, некий вулкан в нем бешенствовал внутренними пламенями и горел расплавленной лавой нервной раздражительности: прибавить одну отдельную каплю внешнего возбудителя — это значило заставить ее перелиться через край и разрушить или опустошить все, что в пределах досягновения. Есть темпераменты, которые приходят в мир опьяненные, как «Богом пьяный Спиноза», столь полные до краев духовным огнем, что нет более места ни для чего другого. Такие темпераменты опасно сочетаются с истерией и безумием, но нужно только глянуть в литературные летописи земного шара, чтобы тотчас же найти там разных Сафо, Луканов, Тассо, Паскалей, Бернсов, Хэльдерлинов, Коллинзов. Что По сохранял до конца безусловное умственное здравие и увеличивал возвышенную разумность и совершенство своего стиля до самых Врат Смерти, это исторический факт, весьма вразумительный и для литературного историка и для патолога».
Между 1838 годом и 1844 Эдгар По создал или пересоздал из раньше им написанных набросков такие неувядаемые поэмы и сказки, как «Молчание», «Заколдованный Замок», «Падение дома Эшер», «Человек Толпы», «Маска красной Смерти», «Сердце-Изобличитель» и «Черный кот». 1845 год есть верховная точка, ибо в этом году появился «Ворон», доставивший ему мировую славу и имевший такой успех у изысканных немногих, а одновременно и у большой толпы, какого не имело и, по видимости, не будет иметь никогда ни одно лирическое стихотворение таких же размеров. Эдгар По вообще умел достигать трудно достижимого соединения высокой художественной ценности произведения с возможностью действовать на самую разнородную публику. «Журнал Грээма», которому Эдгар По отдавал некоторое время всю полноту своего сотрудничества, с 5000 подписчиков дошел до 37 000. Рассказ Эдгара По «Золотой Жук», переведенный на все иностранные языки, на одном английском языке вскоре после его напечатания разошелся в количестве 300 000 экземпляров. Но при таком успехе, внутреннем и внешнем, Эдгар По не имел дара извлекать из своего творчества достаточного количества долларов. Ему платили гроши. Кроме того, Эдгар По усердно писал критические статьи — наиболее слабая область его творчества, ибо слаб и ничтожен самый предмет критики — американская словесность, — и именно благодаря этому он приобрел множество врагов, тем более обиженных, чем меньше они имели права обижаться на точное засвидетельствование их литературных размеров и достоинств. Гаррисон говорит: «С опубликованием в 1840 году сказок «Гротески и Арабески», Эдгар По находился в обстановке беспримерного духовного богатства, не только потому, что он уже свершил, но также и потому, что он обещал. Ляуэлль, Готорн, Мотли, Эмерсон, Лонгфелло, Брайэнт, Ирвинг были его непосредственными современниками и собратьями по искусству: лесные прогалины вокруг него — тогдашние журналы — звучали напевными мужскими и женскими голосами; литературные зверушки (animalcules), жаждущие признания, кишели повсюду и наполняли повременную печать своими песенками. Среди них По вскоре стал возноситься как гигант, и даже величественно себя державший Ирвинг, который долгое время фигурировал в качестве верховного жреца американской литературы, признал его гений — Ирвинг, который в сороковых годах был для Америки тем, чем Гете был для Германии и Вольтер для Франции».
Признание признанием, но литературные зверушки, самая злокачественная раса из живущих на земле, и всегда ужаленные собственной бесталанностью, они умеют жалить других, талантом не обиженных, — заставлять страдать уже одним своим противным прикосновением. А если их много и они связаны в Mutual Adoration Society (Общество Взаимного Обожания)? Горе!
Для живописи американских литературных нравов сообщу, что один из тогдашних литераторов, обиженных критическим отзывом Эдгара По, в ответ на литературную критику, печатно заявил, что Эдгар По не только беспросветный мошенник, но и просто-напросто подделыватель векселей. Эдгару По ничего не оставалось, как прибегнуть к гласности и поручить суду выяснение правдивости или лживости такого обвинения. Наглец, имени которого я не дарую чести возникновения в русских буквах, после печатного опровержения со стороны Эдгара По ответил вторично наглейшим выпадом. Эдгар По прибег к суду, суд выяснил полную лживость обвинения, и клеветник должен был уплатить большой штраф, а кроме того, благоразумно бежал из того Штата, в котором он развивал таковую литературную деятельность. Другой клеветник, имя которого давно пора позабыть совершенно, но который играл некую роль в литературной Америке той эпохи, в свое время весьма прославился печальною славой, ухитрившись неисповедимыми способами поместить в посмертном издании произведений Эдгара По, под видом биографии поэта, отвратительный памфлет на него, что дало Бодлеру возможность не неуместно воскликнуть: «Так, значит, в Америке не запрещают собакам входить на кладбище». Но не будем останавливаться слишком долго на таких существованиях, которые по существу своему призрачны, хотя бы они и имели временную возможность отравлять жизнь гениального человека. Вспомним Дантевское «Guarda е passa», «Взгляни и пройди», и не будем бесплодно скорбеть, что мухи, беспокоившие создателей Пирамид, до сих пор еще не истреблены.
Есть иная боль в жизни гения, иная жестокая предопределенность, и никто не сказал об этом лучше, нежели сам Эдгар По. В своих афористических заметках, называющихся «Внушениями», он говорит: «То, что люди называют «гением», есть состояние умственного недуга, проистекающего из недолжного господствования какой-либо одной из его способностей. Произведения такого гения никогда не здоровы сами по себе, и, в особенности, они всегда изобличают общую умственную недужность… Что поэты (употребляя это слово всеохватно и включая в это понятие художников вообще) суть genusirritabile, раса раздражительная, это хорошо понятно, но почему этого, по-видимому, вообще не видят. Художник есть художник только в силу его изысканного чувства Красоты, чувства, доставляющего ему восхищенный восторг, но в то же самое время включающего в себя, или подразумевающего, равно изысканное чувство Безобразия, диспропорции. Таким образом, Зло — несправедливость, сделанная поэту, который действительно есть поэт, возбуждает его до степени, которая, обычному восприятию, кажется несоразмерной со злом. Никогда поэты не видят несправедливости там, где ее не существует, — но очень часто они видят ее там, где люди, не поэтически настроенные, вовсе не видят никакой несправедливости. Таким образом, поэтическая раздражительность не имеет никакого отношения к «темпераменту» в заурядном смысле слова, но она просто связана с более чем обычным ясновидением относительно злого, несправедливого; причем это ясновидение есть не что иное, как логически сопутствующее обстоятельство, связанное с живыми восприятиями надлежащего — справедливости — соответствия, — словом то χαλόυ (красивое). Но одно ясно — что человек, который не «раздражителен» (для обычного восприятия), не поэт». Еще один отрывок из заметок Эдгара По, исполненный глубокого смысла, таящегося между строк: «Мало есть людей с той особенной впечатлительностью, что есть корень гения, которые бы в ранней своей юности не растратили много из умственной своей энергии тем, что они жили слишком быстро; и в более поздние годы приходит непобедимое желание всхлестывать воображение до такой точки, какой оно могло бы достичь в обычной, нормальной или хорошо упорядоченной жизни. Настойчивое стремление к искусственному возбуждению, которое, к несчастью, отличало слишком многих выдающихся людей, может, таким образом, быть рассматриваемо как душевная недохватка или необходимость — усилие вновь получить потерянное — борьба души, дабы занять положение, которое при других обстоятельствах ей надлежало бы».
Побуждаемый этой чрезмерной впечатлительностью к красоте и соразмерности, видя живым воображением целое множество связующих нитей, которые естественно тянутся от одного художественного произведения к другому, сочетая единством и как бы заимствованием совершенно независимые друг от друга художественные достижения, Эдгар По легко впадал в ошибку, которая ставила его в ложное положение и вызвала не одну вражду к нему: в своих критических отзывах он иногда слишком легко обвинял в плагиате. Часто такие обвинения были и уместны, но они несправедливы были по отношению к такому, например, поэту, как Лонгфелло, мало творческому, но истинно тонкому. Верны по этому поводу слова Гаррисона: «Если бы По случайно вспомнил из запасов своей обширной и точной начитанности Чосера, который весь сияет и звучит воспоминаниями о Данте и Боккаччио; Шекспира с Плутархом и Кельтийскими повествованиями за ним; Мильтона, насыщенного классическими вкусами; и Теннисона, любимца его собственного сердца, сплошь исполненного воспоминаниями о Гомере и Вергилии, — он, быть может, не напал бы так яростно на Лонгфелло, нежнейшего и очаровательнейшего из хамелеоновой школы поэтов, самая сущность которых — окрашиваться тем и приобретать выдыхание того, чем они питаются. И кто, во всяком случае, не предпочтет сверкающую шелковую нить кокона первичному тутовому листку, который послужил ему веществом». Сам Эдгар По несколько позднее с меткостью сказал, что, как доказывает всякая История Литературы, самых частых и самых осязательных примеров плагиата мы должны искать в произведениях наиболее выдающихся поэтов.
Однако. Ведь мы как чужие и с точки зрения чисто исторической, историко-литературной можем быть справедливы — и к Лонгфелло, у которого не слишком громкое, но настоящее имя, и к любому NN, у которого имени нет, не должно быть и не может быть, если даже у него было громкое имя в течение двадцати четырех часов, или двадцати четырех дней, или даже, быть может, целых двадцати четырех лет. И не в именах, как в именах, тут дело, а в том, что имена суть живые сущности, литературные имена суть означения живых личностей, играющих ту или иную определенную действенную роль. Как поэт среди поэтов, как писатель среди живущих писателей, я могу оборонять свое внутреннее я от всякого вмешательства в мою внутреннюю жизнь спорных шумов и гамов текущего дня. Я могу, и, быть может, я должен совершенно уклониться от выказывания и высказывания своего отношения к тому или иному литературному Сегодня. Преследовать лишь свою отдельную, личную, художественную цель. «Schaffe, Kunstler, rede nicht». «Твори, художник, не говори». Не разговаривай, художник, твори и создавай. Эта участь — благая и, быть может, для художника, наипредпочтительная.
Но с другой стороны, если у художника ум аналитический, а не только мечтательный? Если обстоятельства его жизни поместили его в самое средоточие кипящей литературной деятельности и в неизбежность ежедневного внутреннего и внешнего соприкосновения с истинными и ложными величинами минуты? Если из ста величин минуты девяносто или все девяносто девять преувеличены, размещены произвольно, до нестерпимости нехудожественно и ложно, если вся эта игра слов, деятельностей и репутаций есть игра краплеными картами под аккомпанемент фальшивого оркестра? И если у меня, в этой недоброй комнате находящегося, не только анализирующий, четко видящий ум, но и расовая предрасположенность к борьбе, к бою? Сочетание условий жестокое. Или нужно тотчас же бежать из этой недоброй комнаты, иметь смелость показаться трусом и бежать, дабы сохранить неприкосновенным свое внутреннее священное я — или, если подл и неумен, приспособиться к обстоятельствам — или вступить в неравный бой и быть побежденным.
Эдгар По был по крови ирландцем. Ирландцы в большей степени обладают тем свойством, которое френологи называли combativeness. В низшей форме это свойство — простая драчливость, человек есть забияка; в высшей это — вечное желание умственной схватки, битвы с непосредственными сущностями, каковы суть живые люди, или с отвлеченными сущностями, каковы суть мыслительные ценности. Иногда просто желание боя как боя. В Эдгаре По временами как бы возникал мексиканский бог Тецкатлипока, который назывался дразнителемтой и другой стороны. Подобные жизненные битвы прекрасны, а иногда и смешны и жалостны, в силу неизбежного донкихотства. Но если на миг они даже бывают смешны, трагедия подходит быстро и необманно. И у Ницше она возникает как безумие, кончающееся сумасшествием, а у Эдгара По в заревном свете, она возникает как личная разрушенная жизнь, безумие, самоубийственная надорванность и быстрая преждевременная смерть.
В 1845 году Эдгар По — знаменитый поэт «Ворона», перед ним раскрыты все двери, он владеет вниманием, он приходит в гости в тот или другой дом, и по его прихоти в комнате воцаряется полумрак, перед тем как он начнет магнетическим своим голосом читать вслух бессмертную поэму. У него есть друзья. У него также много врагов, которые носят маску раболепной почтительности — и ждут своего часа. Он пишет один за другим критические очерки, составившие некоторое целое, как галерея портретов, нарисованных быстрой, уверенной рукой, не несправедливой и вовсе не унижающейся до зарисовки карикатур, но портретов, быть может, тем более жестоких, чем более они верны. Портретные галереи живых людей могут вообще раздражать; одних, потому что они нарисованы такими, каковы они суть, других, потому что люди им неприятные чрезвычайно приятными изображены, третьих потому, что в галерее вовсе нет никакого их портрета, четвертых, пятых, седьмых и сотых — по самым разнообразным причинам. Вообще подходить слишком близко к осиному гнезду — а литературные круги любой страны и любой эпохи должны быть именно так наименованы — есть занятие рискованное. По мере того как создавались очерки «Нью-йоркских литераторов», подготовлялась почва для бойкота сказочника и поэта. Многие журналы, которые ранее были бы гостеприимными для той или иной поэтической страницы, подписанной красивым именем Эдгара По, превратились для него в закрытую дверь в силу связи с тем или иным обойденным или обиженным. И когда летом 1846 года, побуждаемый собственной усталостью и, главным образом, быстро усиливавшейся болезненностью своей жены Виргинии, Эдгар По поселился в деревенской обстановке в маленьком Голландском коттедже в Фордгаме — в те дни уединенное предместье Нью-Йорка, — материальное положение Эдгара По сделалось очень затруднительным. Он впал в безденежье. Боязнь за жизнь Виргинии и собственное переутомление создали ту тревожность духа, при которой творчество, более или менее, немыслимо. Чем настойчивее была необходимость зарабатывать, тем более сокращалась возможность работать. Он оказался замкнутым в магический круг, скрепы которого ковали Забота, Нужда, Вражда и Одиночество.
Поэт «Ворона» совсем не походил на эту сильную, смелую, но в смелости чрезвычайно осторожную птицу, которая живет только в уединенных горах, и дремучих лесах, и на очень высоких зданиях, не посещаемых людьми, всегда ставя пространственную преграду между собой и возможным врагом. В мире крылатых он скорее напоминает длиннокрылого альбатроса, которого он любил в юности и который, как известно, умеет легко перелетать моря и шутя перенесется от страны к стране, но ходить по земле не умеет вовсе.
Он напоминает мне также любимую птицу моего детства, — красивого черного бархатного стрижа, который быстро и неутомимо летает высоко в синем небе, выше самых высоких колоколен и с пронзительной напевностью свистит в вечернем воздухе.
Не так давно, в Бретани, в Морбигане, где весной и летом так красиво цветет желтый и синий вереск и звучат целый долгий день голоса сотен жаворонков, я был однажды, ранним утром разбужен в своей комнате странным, ритмически шуршащим и красиво прерывистым звуком. Раскрыв глаза, я увидал, что это стриж залетел через окно в мою комнату, а улететь не мог. Он метался по верхним углам, ударяясь в потолок, и, наконец, зацепившись лапками за длинную кисейную занавеску, соскользнул на пол, и, когда, вскочив с постели, я подбежал к нему, он беспомощно ударял крыльями об пол, делая судорожные напрасные движения приподняться и смотря на меня своими черными, немного испуганными, но больше враждебными и упрямыми глазами. Я взял его в свою руку, у него сильно билось сердце, и он с силой старался вырваться из руки и раза два клюнул мои пальцы, но вырваться не мог; лишь через сколько-то секунд, когда я достаточно налюбовался им, я, стоя у окна, разжал свои пальцы, и стремительно, ни разу не оглянувшись, как бы брошенный вперед одним неукротимым порывом, он улетел в утреннее небо.
Я помню еще другого стрижа из времен моего детства в русской деревне. У нас был очень большой деревянный дом, и я любил смотреть из сада, его окружавшего, как свистя и с свистом разрезая своими черными крыльями вышний воздух, — стриж с размаху влетал в свою норку, в свое гнездо, там высоко, под крышей. Он никогда не ошибался в своем полете, и, не замедляя этого молниеносно быстрого лета, всегда метко и верно попадал в свою малую норку. Но однажды, на закате солнца, утомился ли он необычно долгим полетом, или почувствовал в норке что-то неладное, что-то, быть может, постороннее или просто пришла его судьба, но только чуть-чуть он ошибся, влетая в свою норку, именно в силу незамедленности своего всегда столь верного полета, он ударился о край пути к гнезду и убился. Он был еще полуживой, умирающий, весь горячий и через минуту остывший, когда я его взял в свою детскую руку. И у него, у этого быстрого черного гостя вечернего голубого воздуха, глаза, еще за мгновенье столь зоркие, были затянуты бледной дымкой.
4. Смерть Любви, любовь к Любви, Смерть
Произнося одну из своих публичных лекций, имевшую, как и другие, большой успех, именно Рассуждение о Поэтическом Принципе, Эдгар По так определяет впечатлительность поэта: «Поэт признает амброзию, питающую его душу в блестящих светилах, которые сияют в небе, в завитках цветка, в гроздеобразном скоплении низких кустарников, в колыхании нив, в косвенном уклоне высоких Восточных деревьев, в голубых далях гор, в группировке облаков, в мерцании полусокрытых источников, в сверкании серебряных рек, в спокойствии глухих озер, в отражающих звезды глубинах уединенных водоемов. Он воспринимает ее в пении птиц, в Эоловой арфе, во вздохах ночного ветра, в сетующем ропоте леса, в буруне, бьющемся о берег с жалобой, в свежем дыхании лесов, в запахе фиалки, в чувственном аромате гиацинта, в исполненном намеков аромате, который доходит до него на вечерней волне с отдаленных неоткрытых островов через пространство дымных океанов, безграничных, неисследованных. Он владеет ею во всех благородных мыслях, во всех немирских побуждениях, во всех священных порывах, во всех рыцарских великодушных, исполненных жертвы деяниях. Он чувствует ее в красоте женщины, в грации ее походки, в блеске ее глаз, в мелодии ее голоса, в ее нежном смехе, в ее вздохе, в гармоническом шелесте ее платья. Он глубоко чувствует ее в притягательном ее очаровании, в ее пламенном энтузиазме, в ее нежном милосердии, в ее мягком в благоговейном терпении; но больше всего, о, безмерно больше всего, он преклоняется перед ней, он молится ей в вере, в чистоте, в силе, во всем Божественном величии ее любви». Возводя радужный мост, строя постепенность усиливающихся чувств, Эдгар По кончает свой нежно-страстный симфонический вскрик именем Женщины, указанием на Любовь. И если что-нибудь действительно играло главенствующую роль в его жизни, особенно в последние ее годы, это любовь и жажда любви, ненасытная любовь к Любви. Черта эта сказалась в исключительной страстной его привязанности к Виргинии, что была полюблена как полуребенок, любима как женщина, многократно воспета и в поэмах и в сказках, как женщина-призрак, женщина-дух. Эта черта сказалась в безумной любви Эдгара По к Елене Уитман, к Елене тысячи снов, в любви, оставшейся без должного отзыва, ибо отзыв запоздал, а для Эдгара По — любовь, которая замедлила в колебании, не есть любовь. Эта черта сказалась в романтической дружбе Эдгара По, в дружбе влюбленной, с такими женщинами, как красивая поэтесса Осгуд, добрый гений — мистрис Шью, и трогательная в своем чарующем простодушии Анни. Но любовь, когда ей отдаются, не насыщает душу вулканическую. Чем больше любишь, тем больше хочется любить, и сердце сгорает, перегоревшая нить жизни порывается.
В сохранившихся письмах Эдгара По к женщинам, связанным с его судьбой, и в письмах этих женщин сквозит, при всех недомолвках, так много, так много, что они должны быть прочитаны почти без изъяснений и каких-либо дополнений, — голоса звучат, интонации нам слышны, мы слышим и слушаем даже тишину, красноречиво наступающую между одним возгласом и другим, — мы угадываем выражение лиц и движение фигур, хотя мы отделены решеткой и садом и лунною ночью от говорящих, что там, вон там, в странном ночном озаренном доме.
Фрэнсис Локки — красивая девушка. Выдающийся художник Осгуд непременно хочет написать её портрет, и пишет, и рассказывает ей в это время о том, что с ним бывало в его путешествиях, и эта девушка становится его женой, уезжает с ним в Англию, печатает там том стихов, называя их «Гирляндой из диких Цветов». Художественная чета возвращается на родину, и Фрэнсис Осгуд встречается с Эдгаром По, который уже отметил ее дарование и написал о ней слова: «Не писать поэзию, не превращать её в действие, не думать ею, не грезить ею и ею не быть — это совершенно вне ее власти». Мистрис Осгуд описывает первую встречу с Эдгаром По: «Моя первая встреча с поэтом была в Astor House. За несколько дней перед этим мистер Уиллис вручил мне за табльдъотом эту странную, исполненную трепета поэму, озаглавленную «Ворон», говоря, что автор хочет знать мое мнение о ней. Ее действие на меня было столь особенное, столь похожее на действие «неземной, зачарованной музыки», что я почти с чувством страха услышала о его желании познакомиться со мной. Но я не могла бы отказать, не имея вида неблагодарной, ибо я как раз слышала об его восхищенной и пристрастной хвале моих писаний в его лекции об американской литературе. Я никогда не забуду того утра, когда мистер Уиллис позвал меня в гостиную, чтобы принять его. Со своею приподнятой, гордой, красивой головой, с темными своими глазами, сверкающими электрическим светом чувства и мысли, с особенным, неподражаемым слиянием нежности и надменности в выражении и в манерах, он приветствовал меня спокойно, важно, почти холодно; однако же, с такой отличительной серьезностью, что я никак не могла не почувствовать, что нахожусь под глубоким впечатлением. С этого мгновения до его смерти мы были друзьями». Под магнетическим влиянием Эдгара По Фрэнсис Осгуд научилась петь «более смелые песни», и в больших ее глазах не раз промелькнула светлая тень пролетающего Израфеля. Вот ее строки к Эдгару По:
Мне миру не сказать, каким горю я сном, Едва коснешься ты до лютни сладкогласной; Безумья сколько в том, Искусства сколько в том, Сливаясь в Красоту, напев рождают страстный; — Но это знаю я: огнистый менестрель, Небесный Израфель, певец иного мира, Певучести свои вложил в твою свирель, И звон его струны твоя прияла лира.Поэтесса оставила нам также красивый проблеск, который дает нам возможность заглянуть в обстановку Эдгара По тех дней: «Это в его собственном простом, но поэтическом уюте, Эдгар По явился мне в самом красивом свете. Шаловливый, исполненный чувства, остроумный, переменно послушный и своенравный, как избалованный ребенок — для своей юной нежной и обожаемой жены, и для всех, кто приходил к нему, у него было даже при выполнении самых мучительных литературных обязанностей, какое-нибудь доброе слово, какая-нибудь ласковая улыбка, какое-нибудь, полное изящества и учтивости, внимание. За своим письменным столом, под романтическим портретом своей любимой Линор, он мог просиживать час за часом, терпеливо, усердно и не жалуясь, занося своим изысканно-четким почерком и с быстротою почти сверхчеловеческой мысли-молнии, «редкостные и лучистые фантазии» — по мере того как они вспыхивали в его волшебном и всегда бодрствующем мозге. Помню одно утро к концу его пребывания в этом городе (Нью-Йорке), когда он казался особенно веселым и светлым. Виргиния, нежная его жена, написала мне, настоятельно приглашая прийти к ним, и я поспешила на Amity Street. Он как раз кончал серию своих очерков о нью-йоркских литераторах. «Смотрите, — сказал он, торжествующе смеясь и развертывая несколько небольших узких свитков бумаги, — я покажу вам по разнице в длине свиткой различные степени уважения, в каковом я пребываю к вам, людям литературным. В каждом из свитков один из вас закручен и сполна обсужден. Помоги-ка мне, Виргиния!» И один за другим он стал развертывать их. Наконец они приступили к свитку, который казался нескончаемым. Виргиния со смехом побежала к одному углу комнаты с одним концом, а ее муж к противоположному углу с другим. «Чья же это столь удлиненная нежность?» — спросила я. «Послушайте-ка ее, — воскликнул он, — как будто ее маленькое тщеславное сердце не сказало ей, что это она сама».
Другая свидетельница жизни Эдгара По за последний ее период, когда он поселился в деревенской обстановке, мистрис Гев-Никольс рассказывает нам очень живописно о своем первом посещении Фордгама: «Я нашла поэта и его жену и мать его жены, которая была его теткой, живущими в маленьком коттедже, на вершине холма. Там был один акр или два зеленого газона, огороженного вокруг дома, газон был гладок как бархат и чист как ковер, за которым очень хорошо смотрят. Там были большие старые вишневые деревья, бросавшие вокруг себя широкую тень. Комнатки… Перед домом хорошо было сидеть летом под тенью вишен. Когда я первый раз была в Фордгаме, По каким-то образом поймал совершенно подросшую птицу, рисового желтушника.[128]
Он посадил ее в клетку, которую подвесил на гвозде, вбитом в ствол вишневого дерева. Птица, неспособная быть пленницей, была также беспокойна, как ее тюремщик, и беспрерывно прыгала самым неукротимым устрашенным образом из одной стороны клетки в другую. Я пожалела ее, но По непременно хотел ее приручить. Так стоял он там, скрестив руки перед плененной птицей, веря в достижение невозможного. Такой красивый и такой бесстрастный в своей волшебной умственной красоте. «Вы несправедливы, — сказал он мне спокойно на мои упреки. — Эта птица великолепный певец, и как только она сделается ручной, она будет услаждать наш дом своим музыкальным дарованием. Вам бы нужно услышать, как она звенит своими радостными колокольчиками». Голос По был сама напевность. Он всегда говорил тихо, когда в самом страстном разговоре, он заставлял своих слушателей внимать своим мнениям, утверждениям, мечтаниям, отвлеченным рассуждениям или зачарованным грезам. Мистрис По на вид была совершенно юной; у нее были большие черные глаза и жемчужная белизна лица, совершенно бледного. Ее бледное лицо, ее блестящие глаза и ее волосы, цвета воронова крыла, придавали ей неземной вид. Чувствовалось, что она как бы дух отходящий, и когда она кашляла, было совершенно очевидно, что она быстро близится к умиранию. Мать, высокая, сильная женщина, была некоторого рода всемирным Провидением для своих странных детей. По был в это время очень угнетен. Его крайняя бедность, болезнь его жены и его собственная неспособность писать были достаточным объяснением этого. Мы пробыли в доме с полчаса, как пришли новые гости, среди которых были и дамы, и все мы отправились гулять. Мы бродили в лесу и было очень весело, пока кто-то не предложил в качестве забавы прыгать. Я думаю, что верно это был сам По, он был искусен в этом спорте. Два-три джентльмена согласились с ним, и, хотя один из них был высокого роста и был охотником, По далеко опередил их всех. Но, увы, его штиблеты, долго ношенные и заботливо содержимые, на той и другой ноге лопнули от великого прыжка, который сделал его победителем. Я жалела бедную птицу в ее суровой и безнадежной тюрьме, но теперь я жалела бедного По еще больше. Я была уверена, что у него нет других башмаков, сапог или штиблет. Кто среди нас мог бы предложить ему денег, чтобы купить другую пару? Если у кого-нибудь были деньги, кто имел бы бесстыдство предложить их поэту? Когда мы вернулись к коттеджу, я думаю, мы все чувствовали, что мы не должны заходить и видеть злополучного безбашмачного сидящим или стоящим среди нас. Я, однако, забыла в доме книгу стихов По и вошла, чтобы взять ее. Бедная старая мать глянула на его ноги со смятенностью, которой я никогда не забуду. «Эдди, — сказала она, — как могли вы порвать ваши штиблеты?» По, казалось, впал в полуоцепенелое состояние, как только он увидал свою мать. Я рассказала о причине несчастья, и она увлекла меня в кухню. «Не скажете ли вы мистеру (Журнальный Обозреватель) о последней поэме Эдди? Если он только возьмет поэму, у Эдди будет пара башмаков. У него есть рукопись — я относила ее на последней неделе, и Эдди говорит, что это его лучшая вещь. Ведь вы скажете?» Мы уже читали поэму в конклаве, и Небо да простит нас, мы ничего в ней не поняли. Если бы она была написана на одном из утраченных языков, мы также мало могли бы извлечь смысла из ее певучих гармоний. Я, помню, сказала, что это верно лишь мистификация, которую По выдает за поэзию, чтобы увидеть, как далеко его имя может налагать свою власть на людей. Но тут была ситуация. Обозреватель был действенным орудием в разрушении штиблет. «Конечно, они напечатают поэму, — сказала я, — и я попрошу К. поскорее все это устроить». Поэма была оплачена тотчас и опубликована вскоре. Я думаю, что в собрании стихов Эдгара По она рассматривается как чистосердечное произведение поэзии. Но тогда она принесла поэту пару штиблет и двенадцать шиллингов в придачу».
Чем более ухудшалось состояние Виргинии, тем более и более угнетен был Эдгар По, тем менее и менее мог он писать, тем сильней и сильней становилась нужда в доме, и каждое новое ухудшение здоровья или обстоятельств жизни приносило с собой немедленно умноженные числа новых ухудшений. Эдгар По посылал в редакции журналов свои рукописи. Редакции посылали ему обратно его рукописи, а в придачу некоторые доброхотные души посылали анонимные письма умирающей женщине, прилагая к ним вырезки из газет, содержащих ту или иную пасквильную выходку против Эдгара По. «Настала осень, — продолжает свое повествование мистрис Никольс. — Я видела ее (Виргинию) в ее спальне. Все было там так чисто, так опрятно, так скудно и так поражено бедностью, что сердце у меня разрывалось при виде этой страдалицы. Вкруг постели не было занавесей, это была лишь солома, снежно-белое стеганое одеяло и простыни. Погода была холодная, и у больной были приступы страшного озноба, сопровождающие чахоточный жар. Она лежала на соломенной постели, закутанная в плащ своего мужа, а на груди у нее лежала большая, черепахового цвета кошка. Удивительная кошка как будто чувствовала всю свою велику полезность. Плащ и кошка были для страдающей единственным способом согреться, разве только ее муж держал ее руки, а мать согревала ей ноги. Мистрис Клемм страстно любила свою дочь, и ее смятенность, вызванную этим недугом и бедностью и злополучиями, было страшно видеть».
Мистрис Никольс, вернувшись в Нью-Йорк, обратилась к мистрис Шью, прекрасной в своей неведомости женщине, которая жила совершенно вне литературных влияний, ничего даже не читала из написанного Эдгаром По и не знала его лично, но тотчас откликнулась на зов, позаботилась об умирающей, подружилась с Эдгаром По, и это ей посвящены два вдохновенных его песнопения «Из всех, кому тебя увидеть — утро» и «Недавно тот, кто пишет эти строки».
Друзья, где же друзья бывают в такие минуты? Или действительно сердца мужские слепы и умы мужские глухи и только женское сердце слышит таинственный зов Судьбы, до женского сердца доходят призрачные голоса и немедленно зажигают в нем ускоренный действенный ток напевной крови? Один из друзей Эдгара По, Уиллис, ничего лучшего не придумал, как напечатать в некотором журнале сообщение о болезни и нужде Эдгара По и его жены и воззвать к общественной благотворительности. Можно себе представить, с каким ужасом читал Эдгар По эти напечатанные строки и с каким чувством он писал пошедшее по всем газетам письмо, где, сцепив зубы, сообщал, что, конечно, после долгой болезни у него в монетах недостаток и было бы безумием это отрицать, но что совершенно неверно, чтобы он страдал от лишений вне размеров своей способности страдать. К этим, приблизительно, дням относится нежный рассказ Эдгара По «Бочка Амонтильядо». Другой друг, в письмах самый привлекательный из друзей Эдгара По, Чиверс, писал ему 21 февраля 1847 года.
«Мой дорогой друг… я скорблю о вашей жене, ибо она испытывает страдания — но я еще более скорблю о вас, потому что, судя по тому, что вы говорите, она близка к Ангелам, а вы собираете вашу силу, чтобы бороться против Дьявола и вести переговоры с его эмиссарами — глупцами. Если вы приедете на Юг, чтобы здесь жить, я буду заботиться о вас так долго, как вы будете жить — хотя, если существовала когда-либо на земле совершенная тайна, это вы — и одна из самых таинственных. Но приезжайте на Юг и живите со мной, и мы будем обо всем говорить на досуге… Я буду в Нью-Йорке в марте и надеюсь вас увидеть… Верьте, что я истинный друг Эдгара А. По; и если вы не поверите, это не составит разницы — я все же буду вашим другом. Передайте мое искреннее почтение вашей жене и скажите ей от меня, чтобы она еще надеялась на радость здесь, на земле, вне болезни; но что, какова бы ни была ее судьба в этой жизни, есть покой в Небе. Есть Место, где Ангелы восклицают:
Приходи, приходи, в край нетленный, Поспешай, поспешай, К Небесам, в чистый край, Где ты отдых найдешь неизменный. Ваш навсегда. Томас Чиверс.P. S. Эти строки, в сущности, не письмо, но. я лишь пишу вам, чтобы сказать, что Нью-Йорк не такое место, где можно жить счастливо. Я жил там и знаю все об этом.
Приезжайте на Юг!»
Это письмо было написано в феврале, а 29 января в Фордгаме, около Нью-Йорка, Эдгар По писал мистрис Шью:
«Мой самый добрый, самый дорогой друг, — бедная моя Виргиния еще живет, но угасает быстро и еще испытывает сильные страдания. Да даст ей Бог жизни, пока она не увидит вас и не поблагодарит вас еще раз… Приезжайте, — о, приезжайте завтра».
Мистрис Шью приехала и приняла прощальный привет умирающей. 30 января Виргиния умерла, а Эдгар По не отозвался на красивый зов «На Юг, на Юг». Но, быть может, очень жаль, что он не поехал тогда на Юг.
Смертные пелены. Что ж в них особенного? Они возникают в жизни каждого. Они неизбежны, как белый туман над вечерним лугом. Мы думаем о них в раннем детстве, когда видим, как крестьянские женщины стелят под солнцем белые холсты. Они похожи на белый снег, который каждый год затягивает остывшие равнины. В них ничего нет особенного, ничего устрашительного. Но когда тот, кто видел и холст, и туман, и снега, увидит любовь свою, закутанную в смертные пелены, он слышит звоны незримых колоколен, и впервые он понимает больше, чем это может быть выражено в словах.
«Мистрис Шью была так добра к ней, — говорит мистрис Клемм. — Она ухаживала за ней, пока она жила, как если бы это была ее дорогая сестра, а когда она умерла, она одела ее для могилы в красивое полотно. Если бы не она, моя любимица Виргиния была бы положена в могилу в бумажной материи. Я никогда не смогу высказать мою благодарность за то, что моя любимица была похоронена в нежном полотне».
Лен голубой расцвел и отцвел. Он превратился в белое полотно. Из своей смерти голубой цветок свил белые-белые смертные пелены.
Эдгар По впал в оцепенение. Ночью он вставал и уходил на могилу, чтобы долго скорбеть там. Потом снова им овладевало оцепенение.
Можно ли жить, когда любовь умерла? Нельзя. И жизнь, казалось, быстро его оставляла. Но любовь к Любви держит душу на земле, даже и тогда, когда любовь умерла. Эдгару По суждено было прожить еще два года с половиной. И он снова жил. И он снова любил. Но эти любви были только любовью к Любви. А эта жизнь со всеми ее зорями, кровавыми и запоздалыми, со всеми ее мучительными движениями осужденного, которого сжигают перед огромной глазеющей толпой, напоминает вопль Св. Терезы: «Y yo muero, porque no muero», — И я умираю, потому что я не умираю.
Мистрис Шью, которая дала Виргинии на смертном ее ложе торжественное обещание не покинуть ее Эдди, сдержала это обещание в размерах обычной жизни, обычного человека, с обычными взглядами на условности жизни. Единственная дочь доктора, и сама получившая медицинское образование, она видела, что Эдгар По близок к смерти, и сделала все от нее зависящее, чтобы спасти его. Призрак мистрис Шью мелькает перед нами в ласковом свете, когда она берет за руку Эдгара По, и, считая пульс, замечает, что даже тогда, когда он, по-видимому, здоров, у него лишь десять правильных ударов в крови, а затем начинается перебой. Она видится нам наклоняющейся над Эдгаром По, когда он в ее доме, как усталый ребенок, засыпает на двенадцать часов оцепенелым сном, и она призывает к нему знаменитого врача, который говорит, что левая часть мозга у него ранена, и что он должен умереть молодым, — а легкомысленный поэт, проснувшись, даже не подозревает, что вот только что он был опасно болен. Мы видим ее с Эдгаром По в церкви во время полночной службы, детски радующейся на то, что он как настоящий посетитель церкви, следит за службой, держит страницу ее молитвенника, поет с ней псалмы, — видим волнующейся и беспокоящейся, когда, дойдя до строки «Человек он скорбей, и знаком был с печалью», он быстро выходит из церкви, слишком взволнованный, чтобы оставаться, — и снова тихонько радующейся в то мгновение, когда, после проповеди, вся община молящихся встает, чтобы петь гимн «Иисус, души моей Спаситель», и он опять возникает рядом с ней, и бледный, звучным своим голосом, поет слова гимна. Эдгар По, всю жизнь молившийся Морю и Горам, и Лесам, и Ветру, и так далекий от Христа, что во всех его произведениях это слово не встречается ни разу, и весь, — как в блестящие латы закованный рыцарь, — замкнутый в свои лучезарные песнопения — рядом с этой, простодушно молящейся, не читавшей ни его сказок, ни его поэм! Мы видим ее шаловливо поддразнивающей Эдгара По, когда он приходит к ней усталый и говорит, что он должен написать какую-нибудь поэму, а несносные колокола так звучат, что мешают ему о чем-нибудь думать, — и она с улыбкой берет перо и лист бумаги и пишет на нем «Колокола» Эдгара По, и приписывает строку «Колокольчики, маленькие серебряные колокольчики», и он пишет первую строфу, и она внушает снова «Тяжелые железные колокола», и он пишет вторую строфу, и из этого первичного наброска в восемнадцать строк возникает потом бессмертная поэма, о которой уже нельзя не вспомнить, слыша звук колокола, и которая явилась заупокойной службой по самому поэту, вряд ли подозревавшему предвещательную значительность строк, которые он создавал. И еще один проблеск с ней связанный. Мы читаем: «Лишенный товарищества и сочувствия своей ребенка-жены, он мучился тем, что было для него изысканной агонией крайней брошенности. Ночь за ночью он вставал бессонный с постели и, одевшись, шел к могиле утраченной, и, бросаясь на холодную землю, горько плакал целыми часами. Тот самый навождающий страх, который владел им, когда он писал «Ворона», владел им теперь и до такой степени, что он не мог более спать, если около его постели не сидел какой-нибудь друг. Мистрис Клемм, его всегдашняя преданная утешительница, наиболее часто исполняла обязанности сиделки. Поэт, легши в постель, звал ее, и между тем как она гладила своей рукой его широкий лоб, он предавался безумным полетам фантазии в Эдем своих снов. Он никогда не говорил и не двигался в такие мгновения, разве, если рука удалялась от его лба; тогда, с детской настойчивостью, продолжая лежать с полузакрытыми глазами, он восклицал: «Нет, нет, еще не —!» Мать или друг оставалась с ним, пока он совершенно не засыпал, тогда бывший с ним тихонько оставлял его».
Этот друг, что с ним был, убаюкивая и тихонько его оставлял — кто он был? — Не она, что любила напевность и любила делать добро, и любила помогать, помогла, но не до конца, ушла? — Ушла, как все ушли — исчезла из жизни своенравного, причудливого и огорченного, — как листок, — что сияет такой нежной и свежей весной, — совсем, естественно просто, отпадает от ветки с наступлением осени.
«Но в страшный миг, о, милый друг, я не приду к тебе».Три ярких события из последних двух лет Эдгара По необходимо еще отметить, хотя беглым указанием. Возникновение «Эврики»; страстное увлечение, страстная любовь к поэтессе Елене Уитман; и воздушная, идеальная любовь-дружба, влюбленная дружба с самой очаровательной после Виргинии и наиболее искренно его любившей, но бывшей чужою женой, трогательной «Анни».
Несмотря на все потрясения, творческая энергия такого кипучего ума, как вулканический ум Эдгара По, не могла не накопляться и не проявляться. Он всю жизнь лелеял план основать свой собственный журнал, где Эдгар По мог бы целиком и сполна быть Эдгаром По. Эта мысль много раз как бы приближалась к воплощению, и каждый раз блуждающий огонек обманывал. Этот огонек заманил его окончательно в свет последних событий, внутренно как бы и не связанных причинно, а внешне все же кончившихся его смертью. Но прежде чем он отправился в последнее свое странствие для осуществления литературных планов, он успел написать философскую космогоническую поэму «Эврика», которая безмерно удалена от вопросов текущего дня. Он думал, что здесь он действительно нашел Архимедов рычаг, и был так уверен в подавляющем успехе книги, что убеждал издателя, сумевшего заинтересоваться такою отвлеченностью, напечатать 50000 экземпляров. Издатель устранил два нуля и напечатал 500 экземпляров. Деловому человеку вряд ли пришлось раскаиваться.
Страница любви между Эдгаром По и Еленой Уитман, быстро возникшей и быстро порвавшейся, вряд ли может быть рассказана без примешивания слов о личном к тому отношении рассказывающего, но говорить вопросительно или судительно, о том, почему и как это могло случиться, что двое, искренно друг друга любивших, не соединились, — не значило ли бы это неуместно врываться в чужое Святая Святых и пытаться докончить картину, которую не кончил художник. Эдгар По, то была душа огненная, стремительная, быстрая, непреклонная — кому поспеть за ним — для него, как для ребенка, или как для верховного царя — «Все, что я хочу, я хочу сейчас». Как жаль! Как жаль! Нельзя горячими, хоть любящими, перстами раскрыть сегодня ту цветочную чашу, которая раскроется — раскрылась бы — раскроется — завтра-послезавтра. Испанская поговорка гласит: «Manana sera otro dia», «Завтра будет другой день». Одно чувство не умеет торопиться, другое чувство не умеет ждать. При полной правде двух таких свойств двух разных сердец, если основана может быть мелодия между двумя этими сердцами, то лишь на дисгармонии.
Елена Уитман написала том красивых стихов. Многие ее строки и строфы указывают на чрезвычайно близкое сродство с душой Эдгара По, но не предвещательно ли было в ее жизни то, что она родилась в один и тот же день, как и Эдгар По, 19-го января — на шесть лет раньше. Шесть лет ей нужно было ждать, чтобы две таинственно связанные жизни начали осуществляться на одной и той же планете. Полюбив Эдгара По, она не сумела или не смогла соединиться с ним, но любила его как призрак до конца дней, а умерла она в глубокой старости в 1878 году, и никто иной, а именно она, заступилась за него, мертвого, когда умственная чернь сплела вкруг красивого умершего свои беззастенчивые низкие лжи. Ее небольшая, но красивая и выразительная книжка «Эдгар По и его критики» послужила началом обратного в сторону справедливости течения в умах современников по отношению к Эдгару По. Но мне нужен один час, один день счастья с любимой, а не полстолетия памяти обо мне. И разве одну любящую улыбку можно променять на пышный мавзолей, пусть даже на египетски красивую гробницу! И в лице Елены Уитман то же противоречие: у нее красивые влекущие духовные глаза и жадный чувственный рот. Такие лица бывают у тех, кто любит зажигать любовь и тотчас же, испуганный ею, убегает. Эти губы алчут любви, но не насыщаются любовью. И в самой манере одеваться у нее было то же противоречие: она любила шелк, кружевные шарфы, полувоздушные ткани, через которые нежно сквозит красивое тело, но она любила в тоже время носить вкруг шеи черную бархатную ленту, к которой, как медальон, каким-то другом подаренный, был приколот маленький гроб, изваянный из темноцветного дерева.
На последнее свое письмо к ней Эдгар По не получил никакого ответа. Она говорит, что она не смела ответить. А на зов сирены, возникший после разрыва, как напечатанное ее стихотворение «Наш Остров Снов», поэт с морскою душой не ответил ничего. И верно он хранил крепко в своем сердце ее образ, но до самой смерти он не упоминал ее имени.
Совершенно другое существо Анни. К ней прильнула та кроткая сторона души Эдгара По, та детская его нежность, которая больше или меньше существует в каждом поэте, а в Эдгаре По достигала верховности. Быть может, они могли бы быть так счастливы друг с другом, как только это возможно. Но слова чужая жена, чужой муж, которые мы произносим легко и презрительно, для англичанина или американца имеют совсем другую убедительность, не только наклоняя в ту или другую сторону их внешнее поведение, но и столько же владея их сердцами, как известная степень тепла и холода владеет землей — и позволяет в одном случае расцвести горячим гвоздикам, а в другом лишь подснежникам и незабудкам. Анни была незабудка, подснежник, фиалка. Он называл ее троицын цвет. Он знал, что у нее происходит в сердце. Он не написал ей ни одного страстного зазывающего песнопения. Он написал ей тот странный, неожиданный гимн «К Анни», где он любит и смеет любить, но где он живой для себя, для других — мертвец.
Созревают высокие колосья. Из зеленых становятся желтыми. Нива шумит по-особенному. Золотится, шуршит, переливается. Встречается колос с колосом. Нужно их срезать. Час.
Последние дни пришли к Эдгару По. И конец сочетался с началом. Он провел свои последние, солнечные, счастливые дни в городе своего детства — Ричмонде.
«На Юг, на Юг!» Этот зов, не только звучавший в письме друга, но и в сердце того, к кому направлен был зов, осуществился. В городе своего детства, озаренном лучами южного солнца, Эдгар По снова проходил по улицам, знакомым с детства, по тропинкам, знакомым с детства, среди людей, которых он знал, когда был ребенком, маленьким принцем, и когда был влюбленным семнадцатилетним юношей. Он был на Юге, гостеприимном, радушном, который он любил, как любил его тот Праотец английских менестрелей — Чосер, становившийся на колени перед первой весенней маргариткой, ибо он полагал, что маргаритка есть королева цветов, и воскликнувший, во влюбленной жажде улыбки и счастья, свое певучее «Южанин я!»
Краткое лето в осени, пышное лето прощальных свиданий. В английской речи есть выражение для подобных расцветов. Их называют индийским летом.
Эдгар По встретил старых друзей, нашел новых, читал им своего «Ворона», говорил свои бессмертные слова о Красоте и Поэзии, встретил свою, мало ему ведомую сестру Розали, которая гордилась своим братом, но сама, наделенная от природы полуспящим умом, еле-еле умела писать. Он встретил и влюбленность своих юных дней, мисс Ройстер, что давно уже стала и много лет была мистрис Шельтон, а теперь была вдова, — и повинуясь своему капризному сердцу, он пришел к ней с возгласом: «Эльмира, вы ли это? Oh! Elmira is it you?» По-русски нужно было бы сказать: «Эльмира, это ты? Вот я — и вновь с тобой». Она спешила в церковь, когда он к ней пришел — и не могла же пропустить посещения церкви. Все же они свиделись, снова и снова. И опять она стала его невестой. И была бы, верно, его женой, если бы, почти накануне свадьбы, Судьба не позвала его в более далекий путь.
Ричмондцы были довольны видеть Эдгара По. Зная, что поэт хочет начать новый литературный путь и что, конечно, ни новый литературный журнал, ни какое-либо иное предприятие без денег не осуществишь, они явили себя истинно гостеприимными. Эдгар По был приглашен прочесть какую-нибудь лекцию по своему выбору, и цена за вход была назначена пять долларов. Триста человек битком набили залу в старом Exchange Hotel. Он прочел о «Поэтическом Принципе», очаровал своих слушателей, старая Виргиния приветствовала своего сына, и, направляясь в Нью-Йорк, он мог оставить Ричмонд, имея в кармане полторы тысячи долларов. Он простился со своею Эльмирой ненадолго, но в сердце у него было злое предчувствие, что он ее не увидит более, и он ее действительно больше не увидел.
«Вечер кануна, — рассказывает мистрис Уэйсс, — того дня, который был назначен для его отъезда из Ричмонда, Эдгар По провел у своей матери. Он не захотел пойти в залу, где собрались гости, говоря, что предпочитает посидеть спокойно в гостиной. Он говорил о своем будущем, и словно в юности, предвосхищал, предвидел его с таким радостным увлечением. Он сказал, что эти последние немногие недели в обществе его старых и новых друзей были самыми счастливыми, какие он знал за несколько лет и, что, когда он снова покинет Нью-Йорк, все тревоги и мучения его прошлой жизни будут за ним. Никогда не видела я его таким веселым и таким исполненным надежд, как в этот вечер. Он говорил уверенно о своем задуманном журнале «The Stylus». Говоря о своих собственных произведениях, Эдгар По выражал убежденность, что он написал лучшие свои поэмы, но что в прозе он еще может превзойти все то, что он уже сделал. Он уходил последним из дома. Мы стояли на крыльце, и, пройдя несколько шагов, он остановился, обернулся и снова приподнял свою шляпу в последнем прощании. В это самое мгновение блестящий метеор появился на небе, как раз над его головой и исчез на востоке. Мы говорили об этом смеясь; но с печалью я вспоминала об этом позднее».
Эдгар По должен был сперва прибыть в Балтимору по реке Иакова, водный простор которой он измерил отчасти в своем знаменитом юношеском плавании. Что с ним было по прибытии в Балтимору, неизвестно. Говорят, что он встретился с друзьями, попал на именинный праздник, и красивая хозяйка дома попросила его чокнуться с ним. И на поднятый бокал он поднял ответный бокал. Дальнейшее было предопределено. Может быть, однако, это вовсе не так, и роковые приготовленные полторы тысячи долларов побудили неизвестного, выслеживавшего под тем или иным предлогом, приблизиться к нему и отравить его каким-нибудь наркотическим средством. Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, как в точности все это было, но только он занял место в поезде, который уходил из Балтиморы в Филадельфию, — кондуктором, обходившим вагоны, был найден на полу в бессознательном состоянии, — пальто его и чемодан безвозвратно исчезли и никогда не были найдены, — кондуктор довез его до станции Havre de Grace, где скрещиваются два поезда, и посадил его в поезд, возвращающийся в Балтимору. Он прибыл в Балтимору вечером и после неведомых блужданий, или таких блужданий, о которых существуют лишь сомнительные свидетельства, кем-то на какой-то уличной скамейке был узнан, подобран в беспомощном состоянии и отвезен в больницу.
То был октябрь, месяц Листопада, последний месяц Осени, глядящий в наступающую зиму. Несколько дней он пробыл в больнице в тревожном полусознательном состоянии и умер на рассвете 7 октября 1849 года, в воскресное утро.
Мистрис Мэри Моран, жена врача того Балтиморского госпиталя при одном колледже, где умер Эдгар По, — последняя женщина, которая наклонилась к умирающему поэту, — сохранила для нас летопись последних его часов: «Когда в госпиталь принесли молодого человека в оцепенении, было предположено, что он изнемог от опьянения. То были дни выборов, и город был в очень беспорядочном состоянии. Мы скоро увидели, что это какой-то джентльмен; и так как наша семья жила во флигеле при здании колледжа, доктор поместил его в комнату, которой легко было достигнуть по коридору, ведущему из нашего флигеля. Я помогала ухаживать за ним здесь, и в один из промежутков сознательности он спросил меня, есть ли какая-нибудь надежда для него. Думая, что он говорит о физическом своем состоянии, я сказала: «Мой муж думает, что вы очень больны, и если вы хотите отдать какие-нибудь распоряжения касательно ваших дел, скажите, я запишу их». Он ответил: «Я разумел, надежда для такого злосчастного, как я, за пределами этой жизни». Я уверила его, что Великий Целитель сказал, что есть. Я потом прочла ему четырнадцатую главу из Благовестия Святого Иоанна, дала ему успокоительное питье, вытерла бисеринки пота с его лица, поправила его подушку и оставила его. Немного спустя мне принесли весть, что он умер. Я сделала ему саван и помогла убрать его тело для погребения».
Напоминаю начальные и конечные слова четырнадцатой главы Евангелия от Иоанна: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте, в доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам; и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я; а куда Я иду, вы знаете, и путь знаете… Уже не много Мне говорить с вами… Но, чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так говорю: встаньте, пойдем отсюда».
Тишина. Великая тишина. И потом пронзительный вопль: «Анни, мой Эдди умер»… И долгий, спутанный, дрожащий ответный вопль нежного женского юного голоса: «О моя Мать, моя любимая мать, что я скажу вам — как могу я утешить вас — о Мать, узнав о смерти, я сказала нет, нет, это неверно, мой Эдди не может быть мертвым, нет, это не так…»
Есть Море. Печальное Море, которое всегда шумит и пенится, и создает мгновенные узоры, тающие слезами и пеной вкруг пустынного острова, что возносится над водною громадой, как одинокий утес. От утра и до вечера, во всю долгую ночь, от вечерней вари до утренней, светят ли звезды или небо затянуто тучами, горит ли в нежно-голубой синеве огнемечущее Солнце или в тусклом и мертвенно-синем небе встает запоздалая ладья убывающего желтого Месяца, ласков ли ветер или собирается буря, которая топит корабли, вкруг одинокого острова-утеса шумит и шумит, и плещет, и пенится неустающее тоскующее Море, движеньями волн своих рисующее узоры, которые всегда повторяются и каждое мгновение возникают в первый раз. На острове-утесе нет человеческой жизни. Там проходят только стройные невещественные тени, живущие своей особой жизнью в часы Новолуния и умирающие в первый же миг Полнолунья, чтобы снова возродиться, когда тонкий серп, начальный, намекающий, явит в прозрачной лазури серебряный свой иероглиф. Люди не живут на этом острове. Они могут к нему только приближаться. Не живут на нем даже и птицы, они только вьются вкруг него и веют над ним своими крыльями, в часы, когда буря топит корабли. Так стоит тот остров-утес над водой и будет так стоять, а Море, которое никогда не рассказывает своих тайн, никогда не скажет, почему он такой, этот остров. Оно только с утра и до ночи, с ночи до утра, обнимает его бесконечным своим волнением и бросает пену, и переливается, и шумит, шумит.
К.Бальмонт
St.-Brevin l'Ocean.
1911. Сентябрь.
Бретань
Стихотворения
ФЕЙНАЯ СТРАНА
Долы дымные — потоки Теневые — и леса, Что глядят как небеса, Многооблачно-широки, В них неверная краса, Формы их неразличимы, Всюду слезы, словно дымы; Луны тают и растут — Шар огромный там и тут — Снова луны — снова — снова — Каждый миг поры ночной Озаряется луной, Ищут места все иного, Угашают звездный свет, В бледных ликах жизни нет, Чуть на лунном циферблате Знак двенадцати часов, — Та, в которой больше снов, Больше дымной благодати, (Это чара в той стране, Говорит луна луне), Сходит ниже — сходит ниже — На горе на верховой Ставит шар горящий свой — И повсюду — дальше — ближе В легких складках бледных снов Расширяется покров Над деревней, над полями, Над чертогами, везде — Над лесами и морями, По земле и по воде — И над духом, что крылами В грезе веет — надо всем, Что дремотствует меж тем Их заводит совершенно В лабиринт своих лучей, В тех извивах держит пленно, И глубоко, сокровенно О, глубоко, меж теней, Спит луна, и души с ней. Утром, в свете позолоты, Встанут, скинут страсть дремоты, Мчится лунный их покров В небесах, меж облаков. В лете бурь они носимы, Колыбелясь между гроз — Как из жерл вулканов дымы, Или желтый Альбатрос. Для одной и той же цели Та палатка, та луна Им уж больше не нужна — Вмиг дождями полетели Блески-атомы тех снов, И, меняясь, заблестели На крылах у мотыльков, Тех, что будучи земными, Улетают в небеса, Ниспускаются цветными (Прихоть сна владеет ими!), Их крылами расписными Светит вышняя краса.К ЕЛЕНЕ (О, Елена, твоя красота…)
О Елена, твоя красота для меня — Как Никейский челнок старых дней, Что, к родимому краю неся и маня, Истомленного путника мчал все нежней Над волной благовонных морей. По жестоким морям я блуждал, нелюдим, Но классический лик твой, с загадкою грез, С красотой гиацинтовых нежных волос, Весь твой облик Наяды — всю грусть, точно дым, Разогнал — и меня уманила Наяда К чарованью, что звалось — Эллада, И к величью, что звалося — Рим. Вот, я вижу, я вижу тебя вдалеке. Ты как статуя в нише окна предо мной, Ты с лампадой агатовой в нежной руке, О Психея, из стран, что целебны тоске И зовутся Святою Землей!ИЗРАФЕЛЬ
…И ангел Израфель, струны сердца
которого — лютня, и у которого из всех
созданий Бога — сладчайший голос.
Коран На небе есть ангел, прекрасный, И лютня в груди у него. Всех духов, певучестью ясной, Нежней Израфель сладкогласный, И, чарой охвачены властной, Созвездья напев свой согласный Смиряют, чтоб слушать его. Колеблясь в истоме услады, Пылает любовью Луна; В подъятии высшем она Внимает из мглы и прохлады. И быстрые медлят Плеяды; Чтоб слышать тот гимн в Небесах, Семь Звезд улетающих рады Сдержать быстролетный размах. И шепчут созвездья, внимая, И сонмы влюбленных в него, Что песня его огневая Обязана лютне его. Поет он, на лютне играя, И струны живые на ней, И бьется та песня живая Среди необычных огней. Но ангелы дышат в лазури, Где мысли глубоки у всех; Полна там воздушных утех Любовь, возращенная бурей; И взоры лучистые Гурий Исполнены той красотой, Что чувствуем мы за звездой. Итак, навсегда справедливо Презренье твое, Израфель, К напевам, лишенным порыва! Для творчества страсть — колыбель. Все стройно в тебе и красиво, Живи и прими свой венец, О, лучший, о мудрый певец! Восторженность чувств исступленных Пылающим ритмам под стать. Под музыку звуков, сплетенных Из дум Израфеля бессонных, Под звон этих струн полнозвонных И звездам отрадно молчать. Все Небо твое, все блаженство. Наш мир — мир восторгов и бед, Расцвет наш есть только расцвет. И тень твоего совершенства Для нас ослепительный свет. Когда Израфелем я был бы, Когда Израфель был бы мной, Он песни такой не сложил бы Безумной — печали земной. И звуки, смелее, чем эти, Значительней в звучном завете, Возникли бы, в пламенном свете, Над всею небесной страной.ГОРОД НА МОРЕ
Здесь Смерть себе воздвигла трон, Здесь город, призрачный, как сон, Стоит в уединеньи странном, В дали на Западе туманном, Где добрый, злой, и лучший, и злодей Прияли сон — забвение страстей. Здесь храмы и дворцы и башни, Изъеденные силой дней, В своей недвижности всегдашней, В нагроможденности теней, Ничем на наши не похожи. Кругом, где ветер не дохнет, В своем невозмутимом ложе, Застыла гладь угрюмых вод. Над этим городом печальным, В ночь безысходную его, Не вспыхнет луч на Небе дальном. Лишь с моря, тускло и мертво, Вдоль башен бледный свет струится, Меж капищ, меж дворцов змеится, Вдоль стен, пронзивших небосклон, Бегущих в высь, как Вавилон, Среди изваянных беседок, Среди растений из камней, Среди видений бывших дней, Совсем забытых напоследок, Средь полных смутной мглой беседок, Где сетью мраморной горят Фиалки, плющ и виноград. Не отражая небосвод, Застыла гладь угрюмых вод И тени башен пали вниз, И тени с башнями слились, Как будто вдруг, и те, и те, Они повисли в пустоте. Меж тем как с башни — мрачный вид! — Смерть исполинская глядит. Зияет сумрак смутных снов Разверстых капищ и гробов, С горящей, в уровень, водой; Но блеск убранства золотой На опочивших мертвецах, И бриллианты, что звездой Горят у идолов в глазах, Не могут выманить волны Из этой водной тишины. Хотя бы только зыбь прошла По гладкой плоскости стекла, Хотя бы ветер чуть дохнул И дрожью влагу шевельнул. Но нет намека, что вдали, Там где-то дышат корабли, Намека нет на зыбь морей, Не страшных ясностью своей. Но чу! Возникла дрожь в волне! Пронесся ропот в вышине! Как будто башни, вдруг осев, Разъяли в море сонный зев, — Как будто их верхи, впотьмах, Пробел родили в Небесах. Краснее зыбь морских валов, Слабей дыхание Часов. И в час, когда, стеня в волне, Сойдет тот город к глубине, Прияв его в свою тюрьму, Восстанет Ад, качая тьму, И весь поклонится ему.СПЯЩАЯ
В Июне, в полночь, в мгле сквозной, Я был под странною луной. Пар усыпительный, росистый, Дышал от чаши золотистой, За каплей капля, шел в простор, На высоту спокойных гор, Скользил, как музыка без слова, В глубины дола мирового. Спит на могиле розмарин, Спит лилия речных глубин; Ночной туман прильнул к руине; И глянь! там озеро в ложбине, Как бы сознательно дремля, Заснуло, спит. Вся спит земля. Спит Красота! — С дремотой слита (Ее окно в простор открыто) Ирэна, с нею Судеб свита. О, неги дочь! тут как помочь? Зачем окно открыто в ночь? Здесь ветерки, с вершин древесных, О чарах шепчут неизвестных — Волшебный строй, бесплотный рой, Скользит по комнате ночной, Волнуя занавес красиво — И страшно так — и прихотливо — Над сжатой бахромой ресниц, Что над душой склонились ниц, А на стенах, как ряд видений, Трепещут занавеса тени. Тебя тревоги не гнетут? О чем и как ты грезишь тут? Побыв за дальними морями, Ты здесь, среди дерев, с цветами. Ты странной бледности полна. Наряд твой странен. Ты одна. Странней всего, превыше грез, Длина твоих густых волос. И все объято тишиною Под той торжественной луною. Спит красота! На долгий срок Пусть будет сон ее глубок! Молю я Бога, что над нами, Да с нераскрытыми очами, Она здесь вековечно спит, Меж тем как рой теней скользит, И духи в саванах из дыма Идут, дрожа, проходят мимо. Любовь моя, ты спишь. Усни На долги дни, на вечны дни! Пусть мягко червь мелькнет в тени! В лесу, в той чаще темноокой, Пусть свод раскроется высокий, Он много раз здесь был открыт, Принять родных ее меж плит — Да дремлет там в глуши пустынной, Да примет склеп ее старинный, Чью столь узорчатую дверь Не потревожит уж теперь — Куда не раз, рукой ребенка, Бросала камни — камень звонко, Сбегая вниз, металл будил, И долгий отклик находил, Как будто там, в смертельной дали, Скорбя, усопшие рыдали.ДОЛИНА ТРЕВОГИ
Когда-то здесь был ясный дол, Откуда весь народ ушел. Он удалился на войну И поручил свою страну Вниманью звезд сторожевых, Чтоб ночью, с башен голубых, С своей лазурной высоты, Они глядели на цветы, Среди которых целый день Сверкала, медля, светотень. Теперь же кто бы ни пришел, Увидит, как тревожен дол. Нет без движенья ничего, За исключеньем одного: Лишь ветры дремлют пеленой Над зачарованной страной. Не ветром движутся стволы, Что полны зыбью, как валы Вокруг Гебридских островов. И не движением ветров Гонимы тучи здесь и там, По беспокойным Небесам. С утра до вечера, как дым, Несутся с шорохом глухим, Над тьмой фиалок роковых, Что смотрят сонмом глаз людских, Над снегом лилий, что как сон, Хранят могилы без имен, Хранят, и взор свой не смежат, И вечно плачут и дрожат. С их ароматного цветка Бежит роса, бежит века, И слезы с тонких их стеблей — Как дождь сверкающих камней.К ОДНОЙ ИЗ ТЕХ, КОТОРАЯ В РАЮ
В тебе я видел счастье Во всех моих скорбях, Как луч среди ненастья, Как остров на волнах, Цветы, любовь, участье Цвели в твоих глазах. Тот сон был слишком нежен, И я расстался с ним. И черный мрак безбрежен. Мне шепчут Дни: «Спешим!» Но дух мой безнадежен, Безмолвен, недвижим. О, как туманна бездна Навек погибших дней! И дух мой бесполезно Лежит, дрожит над ней, Лазурь небес беззвездна, И нет, и нет огней. Сады надежд безмолвны, Им больше не цвести, Печально плещут волны «Прости — прости — прости», Сады надежд безмолвны, Мне некуда идти. И дни мои — томленье, И ночью все мечты Из тьмы уединенья Спешат туда, где — ты, Воздушное виденье Нездешней красоты!КОЛИЗЕЙ
Прообраз Рима древнего! Святыня, Роскошный знак высоких созерцаний, Оставленный для Времени веками Похороненной пышности и власти. О, наконец, чрез столько-столько дней Различных странствий, жажды ненасытной, (Той жажды, что искала родников Сокрытых знаний, здесь, в тебе лежащих), Смиренным измененным человеком, Склоняюсь я теперь перед тобой. Среди твоих теней, и упиваюсь, Душой своей души, в твоем величьи, В твоей печали, пышности и славе. Обширность! Древность! Память неких дней! Молчание! И Ночь! И Безутешность! Я с вами — я вас вижу в вашей славе — О чары, достовернее тех чар, Что были скрыты садом Гефсиманским, — Властней тех чар, что, с тихих звезд струясь, Возникли над Халдеем восхищенным! Где пал герой, колонна упадает! Где вился золотой орел, там в полночь — Сторожевой полет летучей мыши! Где Римские матроны развевали По ветру сеть волос позолоченных, Теперь там развеваются волчцы! Где, развалясь на золотом престоле, Сидел монарх, теперь, как привиденье, Под сумрачным лучом луны двурогой, В свой каменистый дом, храня молчанье, Проскальзывает ящерица скал! Но подожди! ужели эти стены — И эти своды в сетке из плюща — И эти полустершиеся глыбы — И эти почерневшие столбы — И призрачные эти архитравы — И эти обвалившиеся фризы — И этот мрак — развалины — обломки — И эти камни — горе! эти камни Седые — неужели это все, Что едкие Мгновенья пощадили Из прежнего величия и славы, Храня их для Судьбы и для меня? «Не все — мне вторят Отклики — не все. Пророческие звуки возникают Навеки, громким голосом, из нас, И от Развалин к мудрому стремятся, Как звучный голос от Мемнона к Солнцу. Мы властвуем сердцами самых сильных, Влиянием своим самодержавным Блюдем все исполинские умы. Нет, не бессильны сумрачные камни. Не вся от нас исчезла наша власть, Не вся волшебность светлой нашей славы — Не все нас окружающие чары — Не все в нас затаившиеся тайны — Не все воспоминанья, что, над нами Замедлив, облекли нас навсегда В покров того, что более, чем слава».«Один прохожу я свой путь безутешный…»
Один прохожу я свой путь безутешный, В душе нарастает печаль; Бегу, убегаю, в тревоге поспешной, И нет ни цветка на дороге, ведущей в угрюмую даль. Повсюду мученья; В суровой пустыне, где дико кругом, Одно утешенье, Мечта о тебе, мое счастье, мне светит нетленным лучом. Мне снятся волшебные сны — о тебе. Не так ли в пучине безвестной, Над морем возносится остров чудесный, Бушуют свирепые волны, кипят в неустанной борьбе. Но остров не внемлет, И будто не видит, что дико кругом, И ласково дремлет, И солнце его из-за тучи целует дрожащим лучом.«Я не скорблю, что мой земной удел…»
Я не скорблю, что мой земной удел Земного мало знал самозабвенья, Что сон любви давнишней отлетел Перед враждой единого мгновенья. Скорблю я не о том, что в блеске дня Меня счастливей нищий и убогий, Но что жалеешь ты, мой друг, меня, Идущего пустынною дорогой.ЗАНТЕ
Прекрасный остров! Лучший из цветов Тебе свое дал нежное названье. Как много ослепительных часов Ты будишь в глубине воспоминанья! Как много снов, чей умер яркий свет, Как много дум, надежд похороненных! Видений той, которой больше нет, Нет больше на твоих зеленых склонах! Нет больше! скорбный звук, чье волшебство Меняет все. За этой тишиною Нет больше чар! Отныне предо мною Ты проклят средь расцвета своего! О, гиацинтный остров! Алый Занте! «Isola d'oro! Fior di Levante!»ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ
Во тьме безутешной — блистающий праздник Огнями волшебный театр озарен; Сидят серафимы, в покровах, и плачут, И каждый печалью глубокой смущен. Трепещут крылами и смотрят на сцену, Надежда и ужас проходят, как сон; И звуки оркестра в тревоге вздыхают, Заоблачной музыки слышится стон. Имея подобие Господа Бога, Снуют скоморохи туда и сюда; Ничтожные куклы, приходят, уходят, О чем-то бормочут, ворчат иногда. Над ними нависли огромные тени, Со сцены они не уйдут никуда, И крыльями Кондора веют бесшумно, С тех крыльев незримо слетает — Беда! Мишурные лица! — Но знаешь, ты знаешь, Причудливой пьесе забвения нет. Безумцы за Призраком гонятся жадно, Но Призрак скользит, как блуждающий свет. Бежит он по кругу, чтоб снова вернуться В исходную точку, в святилище бед; И много Безумия в драме ужасной, И Грех в ней завязка, и Счастья в ней нет. Но что это там? Между гаэров пестрых Какая-то красная форма ползет, Оттуда, где сцена окутана мраком! То червь, — скоморохам он гибель несет. Он корчится! — корчится! — гнусною пастью Испуганных гаэров алчно грызет, И ангелы стонут, и червь искаженный Багряную кровь ненасытно сосет. Потухли огни, догорело сиянье! Над каждой фигурой, дрожащей, немой, Как саван зловещий, крутится завеса, И падает вниз, как порыв грозовой — И ангелы, с мест поднимаясь, бледнеют, Они утверждают, объятые тьмой, Что эта трагедия Жизнью зовется, Что Червь-Победитель — той драмы герой!ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК
В самой зеленой из наших долин, Где обиталище духов добра, Некогда замок стоял властелин, Кажется, высился только вчера. Там он вздымался, где Ум молодой Был самодержцем своим. Нет, никогда над такой красотой Не раскрывал своих крыл Серафим! Бились знамена, горя, как огни, Как золотое сверкая руно. (Все это было — в минувшие дни, Все это было давно.) Полный воздушных своих перемен, В нежном сиянии дня, Ветер душистый вдоль призрачных стен Вился, крылатый, чуть слышно звеня. Путники, странствуя в области той, Видели в два огневые окна Духов, идущих певучей четой, Духов, которым звучала струна, Вкруг того трона, где высился он, Багрянородный герой, Славой, достойной его, окружен, Царь над волшебною этой страной. Вся в жемчугах и рубинах была Пышная дверь золотого дворца, В дверь все плыла и плыла, и плыла, Искрясь, горя без конца, Армия Откликов, долг чей святой Был только — славить его, Петь, с поражающей слух красотой, Мудрость и силу царя своего. Но злые созданья, в одеждах печали, Напали на дивную область царя. (О, плачьте, о, плачьте! Над тем, кто в опале, Ни завтра, ни после не вспыхнет заря!) И вкруг его дома та слава, что прежде Жила и цвела в обаяньи лучей, Живет лишь как стон панихиды надежде, Как память едва вспоминаемых дней. И путники видят, в том крае туманном, Сквозь окна, залитые красною мглой, Огромные формы, в движении странном, Диктуемом дико звучащей струной. Меж тем как, противные, быстрой рекою, Сквозь бледную дверь, за которой Беда, Выносятся тени и шумной толпою, Забывши улыбку, хохочут всегда.МОЛЧАНИЕ
Есть свойства — существа без воплощенья, С двойною жизнью: видимый их лик — В той сущности двоякой, чей родник — Свет в веществе, предмет и отраженье. Двойное есть Молчанье в наших днях, Душа и тело — берега и море. Одно живет в заброшенных местах, Вчера травой поросших, в ясном взоре, Глубоком как прозрачная вода, Оно хранит печаль воспоминанья, Среди рыданий найденное званье; Его названье: «Больше Никогда». Не бойся воплощенного Молчанья, Ни для кого не скрыто в нем вреда. Но если ты с его столкнешься тенью (Эльф безымянный, что живет всегда Там, где людского не было следа), Тогда молись, ты обречен мученью!ЛИНОР
О, сломан кубок золотой! душа ушла навек! Скорби о той, чей дух святой — среди Стигийских рек. Гюи де Вир! Где весь твой мир? Склони свой темный взор: Там гроб стоит, в гробу лежит твоя любовь, Линор! Пусть горький голос панихид для всех звучит бедой, Пусть слышим мы, как нам псалмы поют в тоске святой, О той, что дважды умерла, скончавшись молодой. «Лжецы! Вы были перед ней — двуликий хор теней. И над больной ваш дух ночной шепнул: Умри скорей! Так как же может гимн скорбеть и стройно петь о той, Кто вашим глазом был убит и вашей клеветой, О той, что дважды умерла, невинно-молодой?» Peccavimus; но не тревожь напева похорон, Чтоб дух отшедший той мольбой с землей был примирен. Она невестою была, и Радость в ней жила, Надев несвадебный убор, твоя Линор ушла. И ты безумствуешь в тоске, твой дух скорбит о ней, И свет волос ее горит, как бы огонь лучей, Сияет жизнь ее волос, но не ее очей. «Подите прочь! В моей душе ни тьмы, ни скорби нет. Не панихиду я пою, а песню лучших лет! Пусть не звучит протяжный звон угрюмых похорон, Чтоб не был светлый дух ее тем сумраком смущен. От вражьих полчищ гордый дух, уйдя к друзьям, исчез, Из бездны темных Адских зол в высокий мир Чудес, Где золотой горит престол Властителя Небес».СТРАНА СНОВ
Дорогой темной, нелюдимой, Лишь злыми духами хранимой, Где некий черный трон стоит, Где некий Идол, Ночь царит, До этих мест, в недавний миг, Из крайней Фуле я достиг, Из той страны, где вечно сны, где чар высоких постоянство, Вне Времени — и вне Пространства. Бездонные долины, безбрежные потоки, Провалы и пещеры, Гигантские леса, Их сумрачные формы — как смутные намеки, Никто не различит их, на всем дрожит роса. Возвышенные горы, стремящиеся вечно Обрушиться, сквозь воздух, в моря без берегов, Течения морские, что жаждут бесконечно Взметнуться ввысь, к пожару горящих облаков. Озера, беспредельность просторов полноводных, Немая бесконечность пустынных мертвых вод, Затишье вод пустынных, безмолвных и холодных, Со снегом спящих лилий, сомкнутых в хоровод. Близ озерных затонов, меж далей полноводных, Близ этих одиноких печальных мертвых вод, Близ этих вод пустынных, печальных и холодных, Со снегом спящих лилий, сомкнутых в хоровод, — Близ гор, — близ рек, что вьются, как водные аллеи, И ропщут еле слышно, журчат — журчат всегда, — Вблизи седого леса, — вблизи болот, где змеи, Где только змеи, жабы, да ржавая вода, — Вблизи прудков зловещих и темных ям с водою, Где притаились Ведьмы, что возлюбили мглу, — Вблизи всех мест проклятых, насыщенных бедою, О, в самом нечестивом и горестном углу, — Там путник, ужаснувшись, встречает пред собою Закутанные в саван видения теней, Встающие внезапно воздушною толпою, Воспоминанья бывших невозвратимых Дней. Все в белое одеты, они проходят мимо, И вздрогнут и, вздохнувши, спешат к седым лесам, Виденья отошедших, что стали тенью дыма, И преданы, с рыданьем, Земле — и Небесам. Для сердца, чьи страданья — столикая громада, Для духа, что печалью и мглою окружен, Здесь тихая обитель, — услада, — Эльдорадо, — Лишь здесь изнеможденный с собою примирен. Но путник, проходящий по этим дивным странам, Не может — и не смеет открыто видеть их, Их таинства навеки окутаны туманом, Они полусокрыты от слабых глаз людских. Так хочет их Властитель, навеки возбранивший Приоткрывать ресницы и поднимать чело, И каждый дух печальный, в пределы их вступивший, Их может только видеть сквозь дымное стекло. Дорогой темной, нелюдимой, Лишь злыми духами хранимой, Где некий черный трон стоит, Где некий Идол, Ночь царит, Из крайних мест, в недавний миг, Я дома своего достиг.ВОРОН
Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой, Над старинными томами я склонялся в полусне, Грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался, Будто кто-то постучался — постучался в дверь ко мне. «Это верно», прошептал я, «гость в полночной тишине, Гость стучится в дверь ко мне». Ясно помню… Ожиданья… Поздней осени рыданья… И в камине очертанья тускло тлеющих углей… О, как жаждал я рассвета! Как я тщетно ждал ответа На страданье, без привета, на вопрос о ней, о ней, О Леноре, что блистала ярче всех земных огней, О светиле прежних дней. И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет, Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне. Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя: «Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне, Поздний гость приюта просит в полуночной тишине, — Гость стучится в дверь ко мне». Подавив свои сомненья, победивши опасенья, Я сказал: «Не осудите замедленья моего! Этой полночью ненастной я вздремнул, и стук неясный Слишком тих был, стук неясный, — и не слышал я его, Я не слышал» — тут раскрыл я дверь жилища моего; — Тьма, и больше ничего. Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный, Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого; Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала, Лишь — «Ленора!» — прозвучало имя солнца моего, — Это я шепнул, и эхо повторило вновь его, Эхо, больше ничего. Вновь я в комнату вернулся — обернулся — содрогнулся, — Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того. «Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось, Там за ставнями забилось у окошка моего, Это ветер, усмирю я трепет сердца моего, — Ветер, больше ничего». Я толкнул окно с решеткой, — тотчас важною походкой Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней, Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво, И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей, Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей, Он взлетел — и сел над ней. От печали я очнулся и невольно усмехнулся, Видя важность этой птицы, жившей долгие года. «Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты презабавно», — Я промолвил, — «но скажи мне: в царстве тьмы, где Ночь всегда, Как ты звался, гордый Ворон, там, где Ночь царит всегда?» Молвил Ворон: «Никогда». Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало, Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда. Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится, Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь когда — Сел над дверью — говорящий без запинки, без труда — Ворон с кличкой: «Никогда». И, взирая так сурово, лишь одно твердил он слово, Точно всю он душу вылил в этом слове «Никогда», И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он, Я шепнул: «Друзья сокрылись вот уж многие года, Завтра он меня покинет, как Надежды, навсегда». Ворон молвил: «Никогда». Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной, «Верно, был он», я подумал, «у того, чья жизнь — Беда, У страдальца, чьи мученья возрастали, как теченье Рек весной, чье отреченье от Надежды навсегда В песне вылилось — о счастье, что, погибнув навсегда, Вновь не вспыхнет никогда». Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая, Кресло я свое придвинул против Ворона тогда, И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной Отдался душой мятежной: «Это — Ворон, Ворон, да. Но о чем твердит зловещий этим черным «Никогда», Страшным криком «Никогда». Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный, Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда, И с печалью запоздалой, головой своей усталой, Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда: Я один, на бархат алый та, кого любил всегда, Не прильнет уж никогда. Но, постой, вокруг темнеет, и как будто кто-то веет, То с кадильницей небесной Серафим пришел сюда? В миг неясный упоенья я вскричал: «Прости, мученье! Это Бог послал забвенье о Леноре навсегда, Пей, о, пей скорей забвенье о Леноре навсегда!» Каркнул Ворон: «Никогда». И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты, иль дух ужасный, Искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда, — Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый, В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда! О, скажи, найду ль забвенье, я молю, скажи, когда?» Каркнул Ворон: «Никогда». «Ты пророк», вскричал я, «вещий! Птица ты иль дух зловещий, Этим Небом, что над нами — Богом, скрытым навсегда — Заклинаю, умоляя, мне сказать, — в пределах Рая Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда, Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?» Каркнул Ворон: «Никогда». И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая! Ты из царства тьмы и бури, — уходи опять туда, Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья, черной, Удались же, дух упорный! Быть хочу — один всегда! Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь — всегда!» Каркнул Ворон: «Никогда». И сидит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон вещий, С бюста бледного Паллады не умчится никуда, Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный, Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда, И душа моя из тени, что волнуется всегда, Не восстанет — никогда!ЛЕЛЛИ
Исполнен упрека, Я жил одиноко, В затоне моих утомительных дней, Пока белокурая нежная Лелли не стала стыдливой невестой моей, Пока златокудрая юная Лелли не стала счастливой невестой моей. Созвездия ночи Темнее, чем очи Красавицы-девушки, милой моей. И свет бестелесный Вкруг тучки небесной От ласково-лунных жемчужных лучей Не может сравниться с волною небрежной ее золотистых воздушных кудрей, С волною кудрей светлоглазой и скромной невесты — красавицы, Лелли моей. Теперь привиденья Печали, Сомненья Боятся помедлить у наших дверей. И в небе высоком Блистательным оком Астарта горит все светлей и светлей. И к ней обращает прекрасная Лелли сиянье своих материнских очей, Всегда обращает к ней юная Лелли фиалки своих безмятежных очей.«Недавно тот, кто пишет эти строки…»
Недавно тот, кто пишет эти строки, Пред разумом безумно преклоняясь, Провозглашал идею «силы слов» — Он отрицал, раз навсегда, возможность, Чтоб в разуме людском возникла мысль Вне выраженья языка людского: И вот, как бы смеясь над похвальбой, Два слова — чужеземных — полногласных, Два слова Итальянские, из звуков Таких, что только ангелам шептать их, Когда они загрезят под луной, «Среди росы, висящей над холмами Гермонскими, как цепь из жемчугов», В его глубоком сердце пробудили. Как бы еще немысленные мысли, Что существуют лишь как души мыслей, Богаче, о, богаче, и страннее, Безумней тех видений, что могли Надеяться возникнуть в изъясненьи На арфе серафима Израфеля, («Что меж созданий Бога так певуч»). А я! мне изменили заклинанья. Перо бессильно падает из рук. С твоим прекрасным именем, как с мыслью, Тобой мне данной, — не могу писать, Ни чувствовать — увы — не чувство это. Недвижно так стою на золотом Пороге, перед замком сновидений, Раскрытым широко, — глядя в смущеньи На пышность раскрывающейся дали, И с трепетом встречая, вправо, влево, И вдоль всего далекого пути, Среди туманов, пурпуром согретых, До самого конца — одну тебя.«Из всех, кому тебя увидеть — утро…»
Из всех, кому тебя увидеть — утро, Из всех, кому тебя не видеть — ночь, Полнейшее исчезновенье солнца, Изъятого из высоты Небес, — Из всех, кто ежечасно, со слезами, Тебя благословляет за надежду, За жизнь, за то, что более, чем жизнь, За возрожденье веры схороненной, Доверья к Правде, веры в Человечность, — Из всех, что, умирая, прилегли На жесткий одр Отчаянья немого И вдруг вскочили, голос твой услышав, Призывно-нежный зов: «Да будет свет!», — Призывно-нежный голос, воплощенный В твоих глазах, о, светлый серафим, — Из всех, кто пред тобою так обязан, Что молятся они, благодаря, — О, вспомяни того, кто всех вернее, Кто полон самой пламенной мольбой, Подумай сердцем, это он взывает И, создавая беглость этих строк, Трепещет, сознавая, что душою Он с ангелом небесным говорит.УЛЯЛЮМ
Небеса были серого цвета, Были сухи и скорбны листы, Были сжаты и смяты листы. За огнем отгоревшего лета Ночь пришла, сон глухой черноты, Близь туманного озера Обер, Там, где сходятся ведьмы на пир, Где лесной заколдованный мир, Возле дымного озера Обер, В зачарованной области Вир. Там однажды, в аллее Титанов, Я с моею Душою блуждал. Я с Психеей, с Душою блуждал. В эти дни трепетанья вулканов Я сердечным огнем побеждал, Я спешил, я горел, я блистал; — Точно серные токи на Яник, Бороздящие горный оплот, Возле полюса, токи, что Яник Покидают, струясь от высот. Мы менялися лаской привета, Но в глазах затаилася мгла, Наша память неверной была, Мы забыли, что умерло лето, Что Октябрьская полночь пришла, Мы забыли, что осень пришла, И не вспомнили озеро Обер, Где открылся нам некогда мир, Это дымное озеро Обер, И излюбленный ведьмами Вир. Но когда уже ночь постарела, И на звездных небесных часах Был намек на рассвет в небесах, — Что-то облачным сном забелело Перед нами, в неясных лучах, И внезапно предстал серебристый Полумесяц, двурогой чертой, Полумесяц Астарты лучистый, Очевидный двойной красотой. Я промолвил: «Астарта нежнее И теплей, чем Диана, она — В царстве вздохов, и вздохов полна: Увидав, что, в тоске не слабея, Здесь душа затомилась одна, — Чрез созвездие Льва проникая, Показала она в облаках Путь к забвенной тиши в небесах, И чело перед Львом не склоняя, С нежной лаской в горящих глазах, Над берлогою Льва возникая, Засветилась для нас в небесах». Но Психея, свой перст поднимая, «Я не верю», промолвила, «в сны Этой бледной богини Весны. О, не медли, — в ней бледность больная! О, бежим! Поспешим! Мы должны!» И в испуге, в истоме бессилья, Не хотела, чтоб дальше мы шли, И ее ослабевшие крылья Опускались до самой земли, — И влачились — влачились в пыли. Я ответил: «То страх лишь напрасный, Устремимся на трепетный свет, В нем кристальность, обмана в нем нет, Сибиллически — ярко — прекрасный, В нем Надежды манящий привет, Он сквозь ночь нам роняет свой след. О, уверуем в это сиянье, Так зовет оно вкрадчиво к снам, Так правдивы его обещанья Быть звездой путеводною нам, Быть призывом, сквозь ночь, к Небесам!» Так ласкал, утешал я Психею Толкованием звездных судеб, Зоркий страх в ней утих и ослеп. И прошли до конца мы аллею, И внезапно увидели склеп, С круговым начертанием склеп. «Что гласит эта надпись?» — сказал я, И, как ветра осеннего шум, Этот вздох, этот стон услыхал я: «Ты не знал? Улялюм — Улялюм — Здесь могила твоей Улялюм». И сраженный словами ответа, Задрожав, как на ветке листы, Как сухие под ветром листы, Я вскричал: «Значит, умерло лето, Это осень и сон черноты, Небеса потемневшего цвета. Ровно — год, как на кладбище лета Я здесь ночью Октябрьской блуждал, Я здесь с ношею мертвой блуждал. Эта ночь была ночь без просвета, Самый год в эту ночь умирал, — Что за демон сюда нас зазвал? О, я знаю теперь, это — Обер, О, я знаю теперь, это — Вир, Это — дымное озеро Обер И излюбленный ведьмами Вир».К ЕЛЕНЕ (Тебя я видел раз…)
Тебя я видел раз, один лишь раз. Ушли года с тех пор, не знаю, сколько, — Мне чудится, прошло немного лет. То было знойной полночью Июля; Зажглась в лазури полная луна, С твоей душою странно сочетаясь, Она хотела быть на высоте И быстро шла своим путем небесным; И вместе с негой сладостной дремоты Упал на землю ласковый покров Ее лучей сребристо-шелковистых, — Прильнул к устам полураскрытых роз. И замер сад. И ветер шаловливый, Боясь движеньем чары возмутить, На цыпочках чуть слышно пробирался. Покров лучей сребристо-шелковистых Прильнул к устам полураскрытых роз, И умерли в изнеможеньи розы, Их души отлетели к небесам, Благоуханьем легким и воздушным; В себя впивая лунный поцелуй, С улыбкой счастья розы умирали, — И очарован был цветущий сад — Тобой, твоим присутствием чудесным. Вся в белом, на скамью полусклонясь, Сидела ты, задумчиво-печальна, И на твое открытое лицо Ложился лунный свет, больной и бледный. Меня Судьба в ту ночь остановила, (Судьба, чье имя также значит Скорбь), Она внушила мне взглянуть, помедлить, Вдохнуть в себя волненье спящих роз. И не было ни звука, мир забылся, Людской враждебный мир, — лишь я и ты, — (Двух этих слов так сладко сочетанье!). Не спали — я и ты. Я ждал — я медлил — И в миг один исчезло все кругом. (Не позабудь, что сад был зачарован!). И вот угас жемчужный свет луны, И не было извилистых тропинок, Ни дерна, ни деревьев, ни цветов, И умер самый запах роз душистых В объятиях любовных ветерка. Все — все угасло — только ты осталась — Не ты — но только блеск лучистых глаз, Огонь души в твоих глазах блестящих. Я видел только их — и в них свой мир — Я видел только их — часы бежали — Я видел блеск очей, смотревших ввысь. О, сколько в них легенд запечатлелось, В небесных сферах, полных дивных чар! Какая скорбь! какое благородство! Какой простор возвышенных надежд, Какое море гордости отважной — И глубина способности любить! Но час настал — и бледная Диана, Уйдя на запад, скрылась в облаках, В себе таивших гром и сумрак бури; И, призраком, ты скрылась в полутьме, Среди дерев, казавшихся гробами, Скользнула и растаяла. Ушла. Но блеск твоих очей со мной остался. Он не хотел уйти — и не уйдет. И пусть меня покинули надежды, — Твои глаза светили мне во мгле, Когда в ту ночь домой я возвращался, Твои глаза блистают мне с тех пор Сквозь мрак тяжелых лет и зажигают В моей душе светильник чистых дум, Неугасимый светоч благородства, И, наполняя дух мой Красотой, Они горят на Небе недоступном; Коленопреклоненный, я молюсь, В безмолвии ночей моих печальных, Им — только им — и в самом блеске дня Я вижу их, они не угасают: Две нежные лучистые денницы — Две чистые вечерние звезды.К МОЕЙ МАТЕРИ
(К мистрис Клемм, матери жены Эдгара По, Виргинии)
Когда в Раю, где дышит благодать, Нездешнею любовию томимы, Друг другу нежно шепчут серафимы, У них нет слов нежней, чем слово Мать. И потому-то пылко возлюбила Моя душа тебя так звать всегда, Ты больше мне, чем мать, с тех пор, когда Виргиния навеки опочила. Моя родная мать мне жизнь дала, Но рано, слишком рано умерла. И я тебя как мать люблю, — но Боже! Насколько ты мне более родна, Настолько, как была моя жена Моей душе — моей душе дороже!К АННИ
Хваление небу! Опасность прошла, Томленье исчезло, И мгла лишь была, Горячка, что «Жизнью» Зовется — прошла. Прискорбно, я знаю, Лишился я сил, Не сдвинусь, не стронусь, Лежу, все забыл — Но что в том! — теперь я Довольней, чем был. В постели, спокойный Лежу наконец, Кто глянет, тот дрогнет, Помыслит — мертвец: Узрев меня, вздрогнет, Подумав — мертвец. Рыданья, стенанья, И вздохи, и тени, Спокойны теперь, И это терзанье, Там в сердце: — терзанье, С биением в дверь. Дурнотные пытки Безжалостных чар Исчезли с горячкой, Развеян угар, С горячкою «Жизнью», Что жжет, как пожар. Из пыток, чье жало Острей, чем змеи, Всех пыток страшнее, Что есть в бытии, — О, жажда, о, жажда Проклятых страстей, То горные смолы, Кипучий ручей. Но это утихло, Испил я от вод, Что гасят всю жажду: — Та влага поет, Течет колыбельно Она под землей, Из темной пещеры, Струей ключевой, Не очень далеко, Вот тут под землей. И о! да не скажут, В ошибке слепой — Я в узкой постели, В темнице глухой: — Человек и не спал ведь В постели другой — И коль спать, так уж нужно Быть в постели такой. Измученный дух мой Здесь в тихости грез, Забыл, или больше Не жалеет он роз, Этих старых волнений Мирт и пахнущих роз: — Потому что, спокойный Лелея привет, Запах лучший вдыхает он — Троицын цвет, Розмарин с ним сливает Аромат свой и свет — И рута — и красивый он, Троицын цвет. И лежит он счастливый, Видя светлые сны, О правдивости Анни, О красивой те сны, Нежно, локоны Анни В эти сны вплетены. Сладко так целовала — «Задремли — не гляди» — И уснул я тихонько У нее на груди, Зачарованный лаской На небесной груди. С угасанием света Так укрыла тепло, И молила небесных, Да развеют все зло, Да царица небесных Прочь отвеет все зло. И лежу я в постели, И утих наконец, (Ибо знаю, что любит), В ваших мыслях — мертвец, А лежу я довольный, Тишина — мой венец, (На груди моей — ласка), Вы же мните — мертвец, Вы глядите, дрожите, Мысля — вот, он мертвец. Но ярчей мое сердце Всех небесных лучей, В сердце искрится Анни, Звезды нежных очей, Сердце рдеет от света Нежной Анни моей, Все любовью одето Светлой Анни моей!АННАБЕЛЬ-ЛИ
Это было давно, это было давно, В королевстве приморской земли: Там жила и цвела та, что звалась всегда, Называлася Аннабель-Ли, Я любил, был любим, мы любили вдвоем, Только этим мы жить и могли. И, любовью дыша, были оба детьми В королевстве приморской земли, Но любили мы больше, чем любят в любви, — Я и нежная Аннабель-Ли, И, взирая на нас, серафимы небес Той любви нам простить не могли. Оттого и случилось когда-то давно, В королевстве приморской земли, — С неба ветер повеял холодный из туч, Он повеял на Аннабель-Ли; И родные толпой многознатной сошлись И ее от меня унесли, Чтоб навеки ее положить в саркофаг, В королевстве приморской земли. Половины такого блаженства узнать Серафимы в раю не могли, — Оттого и случилось (как ведомо всем В королевстве приморской земли), — Ветер ночью повеял холодный из туч И убил мою Аннабель-Ли. Но, любя, мы любили сильней и полней Тех, что старости бремя несли, — Тех, что мудростью нас превзошли, — И ни ангелы неба, ни демоны тьмы Разлучить никогда не могли, Не могли разлучить мою душу с душой Обольстительной Аннабель-Ли. И всегда луч луны навевает мне сны О пленительной Аннабель-Ли: И зажжется ль звезда, вижу очи всегда Обольстительной Аннабель-Ли; И в мерцаньи ночей я все с ней, я все с ней, С незабвенной — с невестой — с любовью моей — Рядом с ней распростерт я вдали, В саркофаге приморской земли.КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА
I Слышишь, сани мчатся в ряд, Мчатся в ряд! Колокольчики звенят, Серебристым легким звоном слух наш сладостно томят, Этим пеньем и гуденьем о забвеньи говорят. О, как звонко, звонко, звонко, Точно звучный смех ребенка, В неясном воздухе ночном Говорят они о том, Что за днями заблужденья Наступает возрожденье, Что волшебно наслажденье — наслажденье нежным сном. Сани мчатся, мчатся в ряд, Колокольчики звенят, Звезды слушают, как сани, убегая, говорят, И, внимая им, горят, И мечтая, и блистая, в небе духами парят; И изменчивым сияньем Молчаливым обаяньем, Вместе с звоном, вместе с пеньем, о забвеньи говорят. II Слышишь к свадьбе звон святой, Золотой! Сколько нежного блаженства в этой песне молодой! Сквозь спокойный воздух ночи Словно смотрят чьи-то очи, И блестят, Из волны певучих звуков на луну они глядят. Из призывных дивных келий, Полны сказочных веселий, Нарастая, упадая, брызги светлые летят. Вновь потухнут, вновь блестят, И роняют светлый взгляд На грядущее, где дремлет безмятежность нежных снов, Возвращаемых согласьем золотых колоколов! III Слышишь, воющий набат, Точно стонет медный ад! Эти звуки, в дикой муке, сказку ужасов твердят. Точно молят им помочь, Крик кидают прямо в ночь, Прямо в уши темной ночи Каждый звук, То длиннее, то короче, Выкликает свой испуг, — И испуг их так велик, Так безумен каждый крик, Что разорванные звоны, неспособные звучать, Могут только биться, виться, и кричать, кричать, кричать! Только плакать о пощаде, И к пылающей громаде Вопли скорби обращать! А меж тем огонь безумный, И глухой и многошумный, Все горит То из окон, то по крыше, Мчится выше, выше, выше, И как будто говорит: Я хочу Выше мчаться, разгораться, встречу лунному лучу, Иль умру, иль тотчас-тотчас вплоть до месяца взлечу! О, набат, набат, набат, Если б ты вернул назад Этот ужас, это пламя, эту искру, этот взгляд, Этот первый взгляд огня, О котором ты вещаешь, с плачем, с воплем, и звеня! А теперь нам нет спасенья, Всюду пламя и кипенье, Всюду страх и возмущенье! Твой призыв, Диких звуков несогласность Возвещает нам опасность, То растет беда глухая, то спадает, как прилив! Слух наш чутко ловит волны в перемене звуковой, Вновь спадает, вновь рыдает медно-стонущий прибой! IV Похоронный слышен звон, Долгий звон! Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни кончен сон. Звук железный возвещает о печали похорон! И невольно мы дрожим, От забав своих спешим И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим. Неизменно-монотонный, Этот возглас отдаленный, Похоронный тяжкий звон, Точно стон, Скорбный, гневный, И плачевный, Вырастает в долгий гул, Возвещает, что страдалец непробудным сном уснул. В колокольных кельях ржавых, Он для правых и неправых Грозно вторит об одном: Что на сердце будет камень, что глаза сомкнутся сном. Факел траурный горит, С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит. Кто-то черный там стоит, И хохочет, и гремит. И гудит, гудит, гудит, К колокольне припадает, Гулкий колокол качает, Гулкий колокол рыдает, Стонет в воздухе немом И протяжно возвещает о покое гробовом.СОН ВО СНЕ
Пусть останется с тобой Поцелуй прощальный мой! От тебя я ухожу, И тебе теперь скажу: Не ошиблась ты в одном, — Жизнь моя была лишь сном. Но мечта, что сном жила, Днем ли, ночью ли ушла, Как виденье ли, как свет. Что мне в том, — ее уж нет. Все, что зрится, мнится мне, Все есть только сон во сне. Я стою на берегу, Бурю взором стерегу. И держу в руках своих Горсть песчинок золотых. Как они ласкают взгляд! Как их мало! Как скользят Все — меж пальцев — вниз, к волне, К глубине — на горе мне! Как их бег мне задержать, Как сильнее руки сжать? Сохранится ль хоть одна, Или все возьмет волна? Или то, что зримо мне, Все, есть только сон во сне?ЭЛЬДОРАДО
Между гор и долин Едет рыцарь один, Никого ему в мире не надо. Он все едет вперед, Он все песню поет, Он замыслил найти Эльдорадо. Но в скитаньях — один, Дожил он до седин, И погасла былая отрада. Ездил рыцарь везде, Но не встретил нигде, Не нашел он нигде Эльдорадо. И когда он устал, Пред скитальцем предстал Странный призрак — и шепчет: «Что надо?» Тотчас рыцарь ему: «Расскажи, не пойму, Укажи, где страна Эльдорадо?» И ответила Тень: «Где рождается день, Лунных Гор где чуть зрима громада. Через ад, через рай, Все вперед поезжай, Если хочешь найти Эльдорадо!»ПРИЛОЖЕНИЕ
Юношеская поэма Эдгара По (в передаче прозой)
ПРИМЕЧАНИЕ. Поэма «Аль-Аарааф», воздушностью своей сходная с наиболее отвлеченными и красиво-туманными поэмами Шелли, была написана Эдгаром По в ранней юности, скорее в отрочестве, между 14-ю и 17-ю годами. Будучи как бы поэтическим текстом к еще не написанной — но долженствующей быть созданной — музыкальной симфонии, она чрезвычайно определительна для художественного чувства Эдгара По: в ней есть, в зачатке, Провидение многих позднейших его сказок и поэм.
К. Бальмонт
АЛЬ-ААРААФ[129][130]
Часть I
О! Ничто земное, только луч (Цветами назад отброшенный) очей Красоты, Как в тех садах, где день Восходит из самоцветов Черкесских — О! ничто земное, только журчанье Сладкозвонное лесного ручейка — Или (музыка сердцем страстного) Радости голос тихонько так ускользающий, Что, словно ропот в раковине, Отзвук его длится и будет длиться — О! ничто из наших прахов — Но вся красота — все цветы, Что слушают Любовь нашу, и красят наши рощи — Расцвечивает тот мир дальний, дальний — Звезду бродячую. То было сладостное время для Нэзасэ — ибо там Мир ее лежал, раскинувшись на золотом воздухе, Близ четырех сверкающих солнц — покой на время Оазис в пустыне благословенных. Далеко-далеко — в морях лучей, что кружат Горный свой блеск над безоковной душой Душой, что едва лишь (волны столь сцепленны) Прорваться может к ее предуказанной верховности — К отдаленным сферам, время от времени, она мчалась, И к нашей наконец, единой Богом возлюбленной — Но, ныне, владычица царства, что на якоре, Она взглянула в Бесконечность — и преклонила колени, И, среди воскурений и вышне-осененных псалмов Омывает в светах четвертичных свои ангельские члены. Счастливейшая теперь, очаровательнейшая на той дальней, чарующей земле, Где «Помысл Красоты» родился, (Прядями ниспадая средь множеств дрогнувших звезд, Словно женские волосы средь жемчугов, доколе, вдали Не зажглась она над холмами Ахейскими, и там пребыла) Она взглянула в Бесконечность — и преклонила колени, Пышные облака, сводами, над нею свивались — Знаменья соответствующие прообразу мира ее — Зримые лишь в Красоте — не нарушая созерцания Другой красоты, искрящейся сквозь свет — Прядь, что вилась вокруг каждой звездной формы, И весь опаловый воздух красками окаймлен. Торопливая бросилась она на колени на ложе Из цветов: — были там лилии, как те, что вздымали главу На красивом Мысе Дэукато [131], и устремлялись Так ревниво кругом, чтобы прильнуть К летящим шагам той — гордость глубокая Что любила смертного — и так умерла [132] Сефалика, зацветающая юными пчелами, Обвивала багряный свой стебель вокруг ее колен: — И цветок-жемчужина — Требизондой прозванный [133] Жилица высочайших звезд, где некогда пред ней поблекли Все другие обольстительности: — медвяная роса того цветка (Сказочный нектар, язычниками ведомый) Дурманно-сладкий, падал каплями с Небес, И пал на сады непрощенных В Требизонд — и на один солнечный цветок Столь подобный ей, вышней, что, и в этот час, Все пребывает он, терзая пчелу, Безумием и непривычной грезой: — В Небесах, и по всей их округе, лист И венчик волшебного растения в скорби Безутешной томится — в скорби, что клонит главу его, И безумьях раскаиваясь, что уж давно улетели, Вздымая свою белую грудь к благовонному воздуху, Как провинившаяся красота, которую пожурили, и она стала еще более прекрасна: — И Никтансии тоже, священные как свет, Она боится овеять благовонием, делая благовонной ночь. — И Клития была там самоуглубленная средь множества солнц, [134] Меж тем как упрямые слезы бегут по ее лепесткам. — И этот цветок возжелавший, что вырос на Земле [135] — И умер, прежде чем едва в рожденьи взнесся, Пронзив свое сердце душистое дабы воспарить Дорогой своей к Небесам из королевского сада: — И лотосом Валиснерия, сюда заплывший [136] В ратоборстве с водами Роны: — И самый чарующий твой, пурпурный аромат, о, Занте! [137] Isola d'oro — Fior di Levante! И цвет Нелюмбо, что вечно и вечно колышется, С Индусским богом любви уплывая вниз по священной реке [138] — Красивые цветы, и волшебные! которым доверено Вознести песни Богини, благоуханиями, до самых Небес. [139] — «Дух! чья обитель — там, В небе глубоком, Где чудовищное и красивое В красоте состязаются! За чертой голубою — Предел звезды, Что отвращается при виде Твоей преграды и границы — Преграды пройденной Кометами, что были низринуты Со своей гордыни и со своих престолов — Чтобы невольницами быть до конца — Чтобы быть носительницами огня (Красного огня сердец) С быстротой, что не смеет утомляться, И с болью, что не пройдет — Ты, что живешь — это мы знаем — В Вечности — мы это чувствуем — Но тень на том челе Дух какой разоблачит? Хоть существа, которых твоя Нэзасэ, Твоя вестница, ведала, Грезили о твоей Бесконечности Прообразе их собственной — [140] Воля твоя свершена, О! Господи! Звезда взнеслась высоко, Чрез сонмы бурь, но она парит Под жгучим твоим оком: — И здесь, в помысле, тебе — В помысле, что только и может Взойти до царствия твоего, и там быть Соучастником твоего престола — Крылатой Мечтою [141] Провозвестье мое даровано, Пока тайна не станет ведома В пределах Небес». Она умолкла — и схоронила потом горящую свою щеку, Смущенная, среди лилий там, ища Убежища от пламенности Его ока; Ибо звезды трепетали пред Божеством. Она не шевелилась — не дышала — ибо голос был там, Что торжественно преисполнял спокойный воздух! Звук молчания в содрогнувшемся слухе, Который грёза поэтов зовет «Музыкой сфер». Наш мир — мир слов: — Спокойствие мы зовем «Молчание» — которое есть простейшее слово из всех. Вся Природа говорит, и даже воображаемые лики Зыбят теневые звуки со своих привиденных крыл — Но ах! не так, как, когда в царствах выси Извечный глас Бога проходит, И красные тлеют вихри в небе. «Что в том, что миры по кругам бегут незримым [142], Прикованы звеньями к малому строю, и к солнцу одному — Где вся моя любовь — безумье, и толпа Мнит, что ужасы мои лишь грозовые облака, Буря, землетрясение, и ярость океана, (Ах! хотят они перечить мне в моем гневном пути?) — Что в том, что в мирах с единственным солнцем Пески Времени становятся смутными, ускользая, Он твой — мой блеск, так данный, Дабы пронести мои тайны чрез вышнее Небо. Покинь необитаемым твой кристаллический дом, и лети, Со всей твоей свитой, сквозь лунное небо — Разлучаясь — как светляки Сицилийской ночи [143] И свей другим мирам сияние иное Разоблачи тайны твоего посланничества Тем гордым светилам, что искрятся — и, так, пребудь Каждому сердцу преградой и заклятием, Да не шатнутся звезды в грехе человека!» Восстала дева в желтой ночи, Едино-лунное повечерие! — на Земле мы предаем Веру нашу единой любви — и единую луну обожаем — Родина юной Красоты не имела иной. Как эта желтая звезда взошла из пуховых часов, Дева восстала от цветочного своего алтаря, И дугой устремила свой путь — над озаренными горами и дымными долами, Но не покинула еще своего Теразейского царства. [144]Часть II
Высоко в горах с эмалевой главой — Как та, где сонный пастух, на своем ложе Исполинского пастбища лежащий привольно, Приподняв свои отяжелевшие веки, вздрагивает и смотрит, Многократно бормоча «Верю, отпустите мне», Какое время в Небесах означено луной — С розоватою главою, что, башней там вдали вздымаясь В солнце светлый эфир, прияла луч Закатных солнц в повечерии — в полдень ночи, Меж тем как луна плясала красиво-странным светом — Взнесенная на высоте такой, высилась громада Сверкающих колонн на освобожденном воздухе Отсвечивая от Паросского мрамора эту двойную улыбку Далеко вниз на волну, что искрилась там И взлелеяла юную гору в ее логовище. Из расплавленных звезд здесь пол, как те, что пали [145] Через эбеновый воздух серебря саван Собственного своего разрушения, меж тем как они умирали — Украшая там обители неба, Купол, созвенным светом спущенный с Небес, Тихонько покоился на тех колоннах, как венец — Окно из кругового алмаза, там, Глядело сверху в багряный воздух, И лучи от Бога устремляли эту метеорную цепь И дважды опять окружали сиянием всю красоту, — Разве что между Горним небом и этим кольцом Какой-нибудь дух беспокойный взмахнет своим сумрачным крылом. Но на колоннах глаза Серафима узрили Смутность этого мира: — тот серовато-зеленый цвет, Что возлюблен Природой, как лучший для могилы Красоты, Подстерегал в каждом выступе, вкруг притолки каждого — И каждый херувим изваянный, там, Что из мраморного своего обиталища выглядывал, Казался земным в тени своей ниши — Ахейские изваяния в мире столь богатом. Фризы из Тадмора из Персеполиса [146] — Из Баальбека, и тихой, светлой бездны Красивой Гоморры! О, волна [147] Теперь над тобой — но слишком поздно, чтобы спасти! Звук любит ликовать в летнюю ночь: — Свидетель тому ропот серых сумерек, Что прокрадывался на ухо, в Эйрако [148], Многим безумным звездочетам, давно тому назад — Что прокрадывается всегда в слух того, Кто задумчиво глядит в темнеющую даль, И видит тьму, идущую как тучу — Не есть ли ее облик — голос ее — совершенно осязаемый и громкий? [149] Но что это! — оно идет — оно доносит Музыку с собою — то быстрый шорох крыл — Миг Перерыва — и потом плывучая, падучая волна Напевная — и вот Нэзасэ вновь в своих чертогах. От дикой силы своевольной торопливости Щеки ее заалели, и губы ее приоткрыты; Пояс, что обвивался вокруг ее чарующего стана Порвался от тяжелого биения ее сердца. Посредине этого чертога, чтоб вздохнуть, Она приостановилась и вострепетала, Занте! вся В волшебном свете, что целовал ее золотые волосы, И хотел бы остаться там, но мог лишь мерцать. Юные цветы шептали напевно [150] Счастливым цветам этой ночью — и дерево дереву: — Брызгами водометы роняли музыку На многие звездами озаренные могилы, или луной озаренный дол; Молчание все же снизошло на все телесное — На красивые цветы, на искристые водопады, и на ангельские крылья — И звук один, что от духа возник, Нес привев чарованью девой пропетому: — «Под голубым колокольчиком или сиянием северным Или под разросшимся диким побегом, Что отклоняет от дремлющего Лунный луч [151] — Осиянные созданья! вы, что размышляете, С полузакрытыми глазами, О звездах, вашим чудом Привлеченных с небес, Пока не засверкают они сквозь тень, и Не снизойдут на ваше чело Как очи девы, Что взывает к вам ныне — Восстаньте! от своей дремоты В беседках из фиалок, Долг дабы свершить приличествующий Этим звездно-озаренным часам — И стряхните с кос ваших, Отягченных росой, Дыхание тех поцелуев, Что тяготят их еще — (О, как без тебя, Любовь! Могли бы ангелы быть благословенными?) Те поцелуи истинной Любви, Что к покою вас убаюкали! Восстаньте! — Отряхните с крыл ваших Всякую помеху: — Роса ночная — Она бы обременила ваш полет: — И истинной любви ласки — О! покиньте их! Легки они на косах, Но сердцу — свинец. Лигейя! Лигейя! Красивая моя! Самая смутная мысль о которой Обратится в напев, О! твоя ли это воля Носиться на ветерках? Или все еще в причуде, Как одинокий Альбатрос, [152] Нависши на ночи (как он на воздухе) Следит с восторгом За гармонией там? Лигейя! где бы Ни был твой лик, Нет чар, чтоб отъяли От тебя твою музыку. Ты оковала много глаз В дремотном сне — Но звуки еще встают, Что твое бодрствование блюдеть — Звук дождя, Что сбегает к цветку И пляшет опять В ритме ливня — Шепот, что исходит [153] От прорастания травы — Это музыка вещества — Но слепков лишь, увы! — Так дальше, милая, Ты дальше лети К ручьям, что покоятся ясные Под лунным лучом — К одинокому озеру, что улыбается В дреме своей глубокого покоя, К сонму звезд-островов, Что украшают, как драгоценность, его лоно — Где дикие цветы, расстилаясь, Переплели свою тень, На берегу его спит Многое множество дев — Иные покинули прохладную прогалину, и Спали с пчелой [154] — Пробуди их, дева моя, На болоте и на лугу — Иди! вдохни в их дремоту, Тихонько, на ухо, Музыкальные числа, Они задремали, чтобы услышать их — Ибо, что, разбудить может Ангела, так скоро, Чей сон зачался Под холодной луной, Если не чара, которую никакая дремота Колдовства не ввергнется в испытанье, Ритмическое число Что убаюкало его и усыпило?» Духи по крыльям, и ангелы на вид, Тысячи серафимов устремились чрез Горнее небо, Юные грезы еще реяли на дремотном порханья их — Серафимы во всем, кроме «Веденья», свет пронзающий, Что упадал, преломленный, за грани твои, далеко, О, Смерть! от ока Бога над той звездой: — Сладостно было это заблуждение — сладостнее еще та смерть — Сладостно было то заблуждение — даже у нас дыханье Знания делает мутным зеркало нашей радости — Для них, то был бы Самум, истребительный — Ибо какая польза (им) знать, Что Истина есть Обман — или что Благословение есть Скорбь? Сладостна была их смерть — для них умереть значило созреть. Последним восторгом насыщенной жизни — За пределами этой смерти нет бессмертия — Но сон самоуглубленный, и нет там «быть» — И там — о! да пребудет там усталый дух мой Вдали от Вечности Небес — и однако как далеко от Ада! [155] Какой преступный дух, в какой смутной заросли Не услышал волнующие призывы этой песни? — Только два: они пали: ибо Небо не дарует милости Тем, кто не слушает биение своих сердец. Дева-ангел и ее любовник-серафим — О! где (и можете искать по всему небесному простору) Любовь была, слепая, близь трезвого Долга ведома? Необузданная Любовь пала — средь «слез совершенного стона» [156] Благой он дух был — он, что пал: — Блуждатель у ключа одетого мхом — Высматриватель светов, что сияют там высоко — Сновидец в лунном луче близ любви своей: Какое чудо в том? ибо каждая звезда там окоподобна, И ласково так глядит сверху на волосы Красоты — И оне, и каждый одетый мхом ключ были священны Его сердцу, любовью одержимому и печалью. Ночь обрела (для него ночь скорби) На горном утесе юного Анджело — Нависнув, она наклонилась через все торжественное небо, И нахмурилась на звездные миры, что под ней покоились. Здесь сидели он со своей любовью — свое темное око приковав Взором орла вдоль небосвода: — Вот обратил его к ней — но тут же — Содрогнувшись — снова к кругу Земли. «Янтэ, милая, смотри! как дышет тот луч! Какая в том чара, смотреть далеко туда! Она не чудилась такой, в то осеннее повечерье, Когда я покинул пышные ее чертоги — не оплакивая, что покидаю, Тот вечер — тот вечер — я должен бы помнить — Солнечный луч упадал, в Лемносе, как ворожба, На арабески резные золоченого чертога, Где пребывал я, и на ткани стен — И на веки мои — О, тяжелый свет! Как дремотно навис он на них, погружая и в ночь! По цветам, раньше, и по мгле, и по любви они блуждали С Персиянином Саади в его Гулистане: — Но, О, свет тот! — Я заснул — Смерть между тем Проскользнула над чувствами моими на этом чарующем острове Так бережно, что ни единый шелковый волос Не проснулся, как спал — не узнал, что там был он. «Последним место на Шаре Земли, где я ступал, Был гордый храм, именуемый Парфеноном. [157] Более красоты ютилось вкруг его стен украшенных колоннами, Чем даже в горячей груди твоей бьется [158] И когда старое Время крыло мое расчаровало, Тогда устремился я оттуда — как орел с своей башни, И годы оставил я позади в один час. Тем временем как над ее воздушными пределами я висел, Половина сада на ее шаре метнулась, Развернувшись как свиток пред моим взором — Необитаемые города пустыни также! Янтэ, красота столпилась предо мною тогда, И почти я возжелал быть снова одним из людей». «Мой Анджело! зачем же быть одним из них? Более яркое жилище здесь для тебя — И зеленее поля, чем в том мире вверху, И чары женщины — и страстная любовь». «Но слушай! Янтэ! Когда воздуха такого нежного Не стало мне, и мой крылатый дух мчался ввысь, Быть может, мозг мой закружился — но мир, Покинутый едва, был в хаос ввергнут, Ринулся от устоя своего, на ветрах разъятый, И пламя покатил вкось через огненное Небо. Показалось мне, нежность моя, что тогда перестал я парить, И я упал — не быстро как поднимался раньше, Но вниз, трепетным движеньем Чрез свет воспламененных лучей, к этой золотой звезде! Не длителен размер был моих часов падучих, Ибо ближайшей из всех звезд к нам была твоя — Страшная звезда! что пришла, в ночь ликованья, Как красный Дэдалион на смятенную Землю». «Мы прибыли — и на твою Землю — но не нам Дано веление владычицы нашей оспаривать: — Мы прибыли, любовь моя; вокруг, ввыси, внизу, Веселые светляки ночи, мы проходим и уходим, И ничего не спрашиваем — разве что встретим ангельский привет, Который нам она дарует, как даровано ее Богом — Но, Анджело, никогда седое Время не развертывало Зачарованного крыла своего над более красивым миром! Дымен был малый диск ее, и лишь ангельские глаза Одни могли видеть призрак в небесах, Когда впервые Аль-Аарааф познал, что путь его лежит Стремглав, туда, над звездным морем, Но когда слава его вознеслась на небо, Как пламенная грудь Красоты под очами возлюбленного, Мы приостановились пред наследием людей, И твоя звезда затрепетала — как тогда Красота!» Так в беседе, влюбленные провожали Ночь, что убывала и убывала и не приводила дня. Пали они: — ибо Небеса надежды не даруют тем, Кто не слушает биение своих сердец.НАПЕВ Юношеское стихотворение Эдгара По
Напев, с баюканьем дремотным, С крылом лениво-беззаботным, Средь трепета листов зеленых, Что тени стелят на затонах, Ты был мне пестрым попугаем — Той птицею, что с детства знаем — Тобой я азбуке учился, С тобою в первом слове слился, Когда лежал в лесистой дали, Ребенок — чьи глаза уж знали. А ныне Кондоры-года Так мчатся бурею всегда, Так потрясают Небесами, Летя тревожными громами, Что, замкнут в их жестокий круг, Я позабыл, что есть досуг. И если час спокойный реет, И пухом душу мне овеет, Минутку петь мне не дано, Мне в рифмах быть возбранено. Иль разве только, что огнями Все сердце вспыхнет со струнами.КОММЕНТАРИИ
Эдгар По считал заблуждением бытующее мнение, будто хорошую критическую статью о стихах может написать тот, кто сам не является поэтом. Напротив, полагал он, «чем менее поэтичен критик, тем менее справедлив его отзыв, и наоборот». [159]
Действительно, лучшее, на наш взгляд, определение самому Эдгару По дал в 1909 году, когда исполнилось 100 лет со дня его рождения, другой поэт, наш соотечественник Николай Гумилев, назвавший создателя «Ворона» «великим математиком чувства». [160] И вправду — мало у кого можно обнаружить столь тесное слияние «алгебры» и «гармонии», столь математически-изящные формы искусства слова, служащие выражению сокровенных движений мятущейся души.
В том же году в статье, написанной к юбилею Эдгара По, Бернард Шоу охарактеризовал его как «утонченнейшего из художников, истого литературного аристократа», как «самого подлинного, самого классического из современных писателей». [161]
Более чем на полвека раньше Шарль Бодлер, страстно увлеченный Эдгаром По и по сути открывший его творчество французскому читателю, отметил избранничество гениального американца, его ненасытную любовь к Прекрасному, которая «есть великий титул, то есть сумма всех титулов По». Бодлер также признавал: «Жизнь По, его нрав, манеры, внешний облик — все, что составляет его личность; представляется мне одновременно мрачным и блестящим (…). Герои По или вернее герой его — человек со сверхъестественными способностями, человек с расшатанными нервами, человек, пылкая и страждущая воля которого бросает вызов всем препятствиям; человек со взглядом острым, как меч, обращенным на предметы, значимость которых растет по мере того, как он на них смотрит. Это — сам По». [162]
Хотя первый русский перевод (с французского) произведения Э. По появился еще при жизни писателя (это произошло в 1847 году, когда в «Новой библиотеке для воспитания» был напечатан «Золотой жук»), и за ним последовал еще ряд разрозненных публикаций, фактически наиболее раннюю попытку основательно представить отечественной публике По-новеллиста предпринял журнал «Время», где в первом номере за 1861 год была помещена подборка из трех рассказов: «Сердце-обличитель», «Черный кот» и «Черт в ратуше», а через номер к ним добавились «Похождения Артура Гордона Пэйма». Подборке было предпослано предисловие, авторство которого, как было позже установлено, принадлежит Ф. М. Достоевскому. Там подчеркивалась разница между фантастикой Э. Т. А. Гофмана и Э. По и утверждалось, что американский писатель фантастичен лишь внешним образом: «Эдгар По только допускает внешнюю возможность неестественного события (доказывая, впрочем, его возможность, и иногда даже чрезвычайно хитро) и, допустив это событие, во всем остальном совершенно верен действительности… Он почти всегда берет саму исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение, и с какою силою проницательности, с какою поражающею верностию рассказывает он о состоянии души этого человека! Кроме того, в Эдгаре Поэ есть именно одна черта, которая отличает его решительно от всех других писателей и составляет резкую его особенность: это сила воображения». [163]
Достоевский не прошел мимо художественного опыта Эдгара По, и показательно, что чуткие поэты обратили внимание на это. Валерий Брюсов: «Фантастические образы в поэмах Эдгара По — только внешность, деистические сентенции — только условность, истинное же их содержание — в своеобразии человеческой психологии, в понимании которой, кстати сказать, американский поэт является прямым предшественником и во многом учителем нашего Достоевского. Кто будет не только читать слова, но вникать в смысл сказанного, тот найдет в поэмах Эдгара По настоящие откровения о глубинах нашей психики, частью предварившие выводы экспериментальной психологии нашего времени, частью освещающие такие стороны, которые и поныне остаются неразрешенными проблемами науки».
Александр Блок: «Произведения По созданы как будто в наше время, при этом захват его творчества так широк, что едва ли правильно считать его родоначальником так называемого «символизма». Повлияв на поэзию Бодлера, Маллармэ, Россетти, — Эдгар По имеет, кроме того, отношение к нескольким широким руслам литературы XIX века. Ему родственны и Жюль Верн, и Уэльс, и иные английские юмористы, и такие утонченные стилисты, как Обри Бердслей с его рисунками и новеллами, и, наконец, наш Достоевский». [164]
Чрезвычайно важна мысль Блока о том, что влияние Эдгара По развивалось по нескольким широким руслам литературы — теперь мы уже вправе сказать, не только XIX, но и ХX века.
Воздействие Эдгара По на мировую литературу поистине многообразно. Если говорить о России, то он повлиял на несколько поколений поэтов, завороженных магией его стихов. И многие русские лирики (в первую очередь, конечно, «серебряного века») могли бы сказать о себе вслед за Б. Пастернаком:
Пока я с Байроном курил, Пока я пил с Эдгаром По…Недаром тот же А. Блок намеревался написать статью «Запечатанная поэзия» (Эдгар По — подземное течение в России). [165]
Это бурное подземное течение проникало и в русла прозы, затрагивая таких крупнейших художников, как Достоевский, Леонид Андреев, Андрей Белый (не только в стихах которого, но и в романе «Петербург» кружит «красное домино», пришедшее из «Маски Красной Смерти»).
Составляя свою «идеальную» Библиотеку всемирной литературы, требовательный книгочей Герман Гессе включил туда всего двух американских авторов — Эдгара По и Уолта Уитмена. Любопытно, что эта строгая оценка полностью совпадает с мнением Бернарда Шоу, который в цитировавшейся выше статье писал со свойственной ему экстравагантностью: «Если бы Судный день был приурочен к столетию со дня рождения По, среди мертвых нашлось бы всего два человека, родившихся после провозглашения Декларации независимости, чье ходатайство о помиловании могло бы спасти всю нацию от неминуемого проклятия, при этом крайне сомнительно, согласились бы они сами просить Высший суд о смягчении приговора. Эти двое, конечно, По и Уитмен…»
Вспомним, что и Андре Моруа, очерчивая необходимый для образованной личности «круг чтения» в «Открытом письме молодому человеку о науке жить», причислят Эдгара По к крупнейшим литературным величинам: «Вы не можете обойтись ни без Шекспира (как и Гомер, он пополнил сокровищницу общечеловеческих мифов), ни без Лопе де Веги, ни без Свифта, ни без Диккенса, ни без Эдгара По, ни без великого Гёте, ни без Данте, ни без Сервантеса…». [166]
Творчество Эдгара По сформировалось на почве романтизма, став одной из его вершин. Но иной раз метафора точнее передает суть явления, чем строгая дефиниция. И, вероятно, прав Винсент Буранелли, утверждающий, что «Эдгар По прошел по романтической радуге и оказался на другом ее конце». [167]
Невольно всплывает в памяти философский зачин «Береники»: «Многострадальность человеческая необъятна. Она обходит землю, склоняясь, подобно радуге, за ширь горизонта, и обличья ее так же изменчивы, как переливы радуги; столь же непреложен каждый из ее тонов в отдельности, но, смежные, сливаясь, как в радуге, становятся неразличимыми, переходят друг в друга. Склоняясь за ширь горизонта, как радуга!.. Но если в этике говорится, что добро приводит и ко злу, то так же точно в жизни и печаль родится из радости…» (см. наст. изд. т. 2).
Причудливо смешивая на своей палитре краски, с дерзновением гения своенравно нарушая каноны романтического искусства и стремясь как можно глубже заглянуть в «бездну души». Эдгар По предвосхитил многие пути дальнейшего движения поэзии и прозы. И к своему пантеону литературных предтеч или богов его причисляли приверженцы различных школ и направлений. Если Достоевского привлекала в нем, тонкость психологического анализа, сила воображения, проявляющаяся в поразительной рельефности деталей, то поэтов-символистов — «крылатость» его души, трагически ощущающей себя в мире бескрылых существ, виртуозное умение вплетать «цветы зла» в венки стихов и прозы, словно дарованное «Ангелом Необъяснимого» или «Демоном Извращенности», гипнотическое воздействие его ритмов и музыки слов; адептам модернистской прозы оказалась близка склонность По к фантастическому гротеску, мистификации и пародированию. А. Блок справедливо указал на то, сколь многим обязаны Эдгару По Жюль Верн и Герберт Уэллс. Наконец, не забудем, что он стал основоположником детектива, ибо первым произведением, написанным в этом жанре, по праву принято считать «Убийство на улице Морг» — новеллу, в которую, по образному выражению А. Куприна, как в футляр, умещается Конан Дойл с Шерлоком Холмсом.
Воздавший должное романтике детектива и мастерству сэра Артура Конан Дойла Г. К. Честертон писал в одном из эссе: «Неуместно ироническое отношение к Дюпену Эдгара По, с которым Холмс не выдерживает никакого сравнения. Остроумные догадки Шерлока Холмса сродни ярким цветам, поднявшимся из сухой земли лондонского пригорода; прозрения Дюпена — это цветы, растущие на раскидистом мрачном дереве мысли. А потому язык Дюпена сочетает в себе бурное воображение с выверенной точностью мысли, сверхъестественные порывы — с логикой закона. Главный просчет создателя Шерлока Холмса заключается в том, что Конан Дойл изображает своего детектива равнодушным к философии и поэзии, из чего следует, что философия и поэзия противоположны детективам. И в этом Конан Дойл уступает более блестящему, более мятежному Эдгару По, который специально оговаривает, что Дюпен не только верил в поэзию и восхищался ею, но и сам был поэтом». [168]
Не только шевалье Ш. Огюст Дюпен, но и творец этого образа сочетал в себе бурное воображение с выверенной точностью мысли, что и дало основание Н. Гумилеву назвать Эдгара По «великим математиком чувства».
Хорошо известно, что при жизни Эдгар По не был избалован славой вплоть до публикации «Ворона», сделавшего его имя известным. Ему удалось опубликовать всего четыре сборника стихов: «Тамерлан и другие стихотворения» (1827), «Аль-Аарааф, Тамерлан и малые стихотворения» (1829), «Стихотворения» (1831), «Ворон и другие стихотворения» (1845).
Его первой прозаической книгой стала «Повесть о приключениях Артура Гордона Пэйма» (1838). За нею последовал двухтомник «Гротески и арабески» (1840; фактически вышел в свет в ноябре 1839 г.), куда вошли 25 новелл (14 в первый том и 11 — во второй). Сборник «Рассказы» (1845) содержал 12 вещей, три из которых («Падение дома Ашеров», «Разговор Эйрос и Хармионы» и «Страницы из жизни знаменитости») повторялись из предыдущего двухтомника. За год с небольшим до смерти Эдгара По вышла его последняя книга «Эврика» (1848). Этот «опыт о материальной и духовной Вселенной» задуман как космогонический трактат или — точнее — как поэма в прозе, посвященная тому, как Разум человеческий нащупывает путь в поисках Истины о мироздании, и является данью автора сразу трем спутницам Аполлона, которым он поклонялся всю жизнь: Урании музе астрономия, Каллиопе — музе эпической поэзии и знания, Эрато — музе лирической поэзии.
Многие произведения Эдгара По остались рассеянными в американской периодике и были собраны лишь после его смерти.
Первый том настоящего издания представляет собой наиболее полное из когда-либо выходивших собраний русских переводов поэзии Эдгара По, накопившихся более чем за столетие. Почти каждое стихотворение дано в нескольких версиях (к примеру, помещено 14 переводов знаменитого «Ворона»). Такой свод позволяет читателю, с одной стороны, проследить за различными этапами освоения поэтического наследия Э. По в России, а с другой — получать максимальную «информацию о подлиннике», каковой всего лишь является в большинстве случаев переложение стихотворения с одного языка на другой.
Том построен следующим образом: первый и второй разделы отведены соответственно работам Константина Бальмонта и Валерия Брюсова, особенно много сделавших для перенесения поэзии Эдгара По на русскую почву; в третьем разделе собраны работы других переводчиков.
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ ЭДГАРА ПО В ПЕРЕВОДЕ КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА
К. Д. Бальмонт заинтересовался Эдгаром По еще в начале своего творческого пути. В 1895 году он опубликовал в собственном переводе две книги «любимого песнопевца» — «Баллады и фантазии» и «Таинственные рассказы». В 1901–1912 гг. в издательстве «Скорпион» вышло подготовленное им собрание сочинений Э. По в пяти томах, стереотипно затем повторенное, а в 1911–1913 гг. появилось 3-е, переработанное, издание (заключительный том которого не был отпечатан).
В предисловии ко 2-му изданию этого собрания сочинений К. Бальмонт писал: «Произведения Эдгара По представляют из себя тот первоисточник, в котором черпали многие из своих вдохновений и заимствовали многие из своих художественных приемов властители целых поколений — Бодлер, Вилье де-Лиль-Адан, Малларме, Мэтерлинк, Оскар Уайльд и другие. Даже в нашем великом Достоевском чувствуется влияние Эдгара По. Художественная передача его произведений имеет, таким образом, не только непосредственное значение, но и косвенное. Кто интересуется психологией современной души, тот найдет в них целый ряд незаменимых указаний».
Для Бальмонта Эдгар По — «Колумб новых областей в человеческой душе»; свое восторженное к нему отношение русский поэт выразил и в стихах сборника «Сонеты солнца, меда и луны» (1917):
ЭДГАР ПО
В его глазах фиалкового цвета Дремал в земном небесно-зоркий дух. И так его был чуток острый слух, Что слышал он передвиженья света. Чу. Ночь идет. Мы только видим это. Он — слышал. И шуршанья норн-старух, И вздох цветка, что на луне потух. Он ведал все; он — меж людей комета. И друг безвестный полюбил того, В ком знанье лада было в хаос влито, Кто возводил земное в божество. На смертный холм того, чья боль забыта, Он положил, любя и чтя его, Как верный знак, кусок метеорита.В поэзии Бальмонта легко обнаруживаются следы влияния Эдгара По в области техники стиха и образного строя, а также реминисценции из него. Показателен в этом отношении финал его стихотворения «Мои звери» (1903) — своеобразного гимна кошке:
В ее зрачках — непознанная чара, В них — фосфор и круги нездешних сфер, Она пленила страшного Эдгара, Ей был пленен трагический Бодлер, — Два гения, влюбленные в мечтанья, Мои два брата в бездне мировой, Где нам даны безмерные страданья И беспредельность музыки живой.Бальмонтовские переводы сыграли в свое время важную роль в ознакомлении отечественной читающей публики с творчеством Эдгара По. Однако они неровны по своему качеству, за что подвергались критике, в частности, со стороны В. Брюсова. Сам Бальмонт, например, скромно охарактеризовал сделанное им переложение «Колоколов» как «скорей подражание, чем перевод», — не забудем тем не менее, что именно это «подражание» в силу своей музыкальности вдохновило С. В. Рахманинова на создание великолепной поэмы для симфонического оркестра, хора и солистов. Недаром А. Блок отметил в рецензии: «Эдгар По требует переводчика, близкого его душе, непременно поэта, очень чуткого к музыке слов и к стилю. Перевод Бальмонта удовлетворяет всем этим требованиям, кажется, впервые». [169]
ГЕНИЙ ОТКРЫТИЯ
Впервые опубликовано в журнале «Ежемесячные сочинения», 1900, № 10, с. 109–113. Перепечатано в качестве вступления к первому тому собрания сочинений Э. По (М., Скорпион, 1901, с. VII–XII; изд. 3-е: М., Скорпион, 1911, с. IX–XIV). Без изменений вошло в книгу статей К. Бальмонта «Горные вершины» (М., Гриф, 1904, с. 49–53). В недавнее время переиздано в кн.: Бальмонт К. Избранное. М., Худ. лит-ра, 1980, с. 589–593.
ОЧЕРК ЖИЗНИ ЭДГАРА ПО
Опубликован в кн. Собр. соч. Эдгара По в переводе с английского К. Д. Бальмонта, том V. М., 1 — 107.
Стихотворения «Фейная страна», «К Елене (О, Елена, твоя красота…)», «Израфель», «Город на море», «Спящая», «Долина тревоги», «К одной из тех, которые в Раю», «Колизей», «Один прохожу я свой путь безутешный», «Я не скорблю, что мой земной удел», «Занте», «Червь-победитель», «Заколдованный замок», «Молчание», «Линор», «Страна снов», «Ворон», «Лелли», «Недавно тот, кто пишет эти строки», «Из всех, кому тебя увидеть — утро», «Улялюм», «К Елене (Тебя я видел раз…)», «К моей матери», «К Анни», «Аннабель Ли», «Колокольчики и колокола», «Сон во сне», «Эльдорадо» печатаются по 3-му изданию собр. соч. Эдгара По (т. 1. М., Скорпион, 1911, с. 1 — 64), где по сравнению с первыми двумя изданиями добавлены переводы четырех стихотворений; «Фейная страна», «К Елене (О, Елена, твоя красота…)», «Спящая» и «К Анни».
Поэма «Аль-Аарааф» и стихотворение «Напев» были помещены К. Д. Бальмонтом в качестве приложения ко второму тому 3-го издания собр. соч. Э. По (с. 321–343).
Святослав Бэлза
Стихотворения и поэмы Эдгара По в переводе Валерия Брюсова
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Причины, побудившие меня приняться за этот труд — перевод лирических стихов Эдгара По, — я считаю достаточно важными. Лирика Эдгара По — одно из замечательнейших явлений в мировой поэзии. Исключительно своеобразная сама по себе, заключающая в себе ряд созданий, которые должны быть признаны классическими образцами словесного искусства, она в то же время — источник весьма многих течений в позднейшей литературе. Круг идей, вложенных в поэмы Эдгара По, и многие его технические приемы были позднее широко разработаны и использованы поэтами конца XIX века, английскими, французскими, немецкими, русскими и др., и правильно оценивать их произведения невозможно без ближайшего знакомства с одним из основных их первоисточников. Между тем до сих пор в русской литературе не только не существовало удовлетворительного перевода поэм Эдгара По, но напечатанные переводы — за исключением не более, как двух-трех, — дают совершенно превратное представление о его поэзии, что особенно должно сказать о переводах К. Бальмонта. Прозаические произведения Эдгара По имеются по-русски в переводах, если не совершенных, то добросовестных, но его поэмы, можно сказать, совсем неизвестны русскому читателю. Некоторые центральные произведения, как «Юлалюм», «Фейная страна», «Город на море», «Червь-победитель» и др. — искажены в существующих передачах до неузнаваемости, так что все самое основное из них выпало; другие, как «Аль-Аарааф», «Вступление», «Долина Ниса», «Мечты» и т. д. — вообще никогда не были переданы по-русски.
Не надо забывать при этом, что — как это давно и убедительно доказано — подлинное влияние на литературу оказывают иностранные писатели только в переводах: иноязычные оригиналы читаются слишком ограниченным числом лиц, так как лишь немногие настолько владеют иностранным языком (в данном случае английским), чтобы читать на нем для своего удовольствия, тем более такого трудного стилиста, как Эдгар По, да и самые книги на чужих языках гораздо менее доступны, особенно в провинции, нежели русские. Поэтому можно утверждать, что до сих пор значение Эдгара По, поэта, для нашей литературы было ничтожно как в смысле непосредственного влияния его высокого мастерства в технике словесного искусства, так и для выработки правильного понимания задач поэзии, что требует знакомства со всеми высшими достижениями в этой области. Этот пробел в нашей переводной литературе необходимо было заполнить, и я нашел возможным взять на себя этот труд, так как творчество Эдгара По изучал с большим вниманием, с своей ранней юности, т. е. уже в течение 25–30 лет.
Ко всему этому должно добавить, что известное предубеждение, сложившееся против идеологии Эдгара По в тех кругах, которые отстаивают материалистическое миропонимание, в значительной мере основано на недоразумении. Увлекавшийся одно время мистическими учениями, Эдгар По, выросший и живший в практической и материалистической республике Северной Америки, был, по существу, «неисправимым» реалистом. В зрелые годы жизни он сознательно отрекся от своих мистических мечтаний, но, независимо от того, всю жизнь клал в основу своих убеждений — данные науки и положительного знания, такова и философия его «Эврики». Фантастические образы в поэмах Эдгара По — только внешность, деистические сентенции — только условность, истинное же их содержание — в своеобразии человеческой психологии, в понимании которой, кстати сказать, американский поэт является прямым предшественником и во многом учителем нашего Достоевского. Кто будет не только читать слова, но вникать в смысл сказанного, тот найдет в поэмах Эдгара По настоящие откровения о глубинах нашей психики, частью предварившие выводы экспериментальной психологии нашего времени, частью освещающие такие стороны, которые и поныне остаются неразрешенными проблемами науки.
Валерий Брюсов
1923
Прилагаемый «биографический очерк» имеет задачей только ориентировать читателя при его ознакомлении с лирикой Эдгара По и потому содержит изложение только внешних событий в жизни поэта.
ЭДГАР ПО Биографический очерк
[Важнейшие биографии Э. По: по-английски — Дж. Ингрэма (J.H.Ingram. Е. А. Рое, his life, letters and opinions. 1891; позднее появилось новое изд., значительно пополненное), Дж. Гаррисона (Life and letters of E. A. Рое. 1903); по-французски — Ш. Бодлэра (в фактическом отношении устарела), Э. Ловриэра (Е. Lauvгiere. Е. Roe, sa vie et son oeuvre. 1904); по-русски — К. Бальмонта (Собр. соч. Э. По. Биография. 1912).]
Величайший из американских поэтов родился 19 января 1809 года в Бостоне, США. Его родители, актеры бродячей труппы, умерли, когда Эдгару было всего два года. Мальчика принял и усыновил зажиточный купец из Виргинии, Дж. Аллэн. Детство Эдгара прошло в обстановке богатой. Аллэны не жалели средств на его воспитание; хотя порой дела их шли неудачно, так что им даже грозило банкротство, мальчик этого не чувствовал: его одевали «как принца», у него была своя лошадь, свои собаки, свой грум. Когда Эдгару было шесть лет, Аллэны поехали в Англию; там отдали мальчика в дорогой пансион в Лондоне, где он учился пять лет. По возвращении Аллэнов, в 1820 году, в Штаты, Эдгар поступил в колледж в Ричмонде, который кончил в 1826 году. Заканчивать образование Эдгара отправили в университет в Ричмонде, тогда только что основанный.
Эдгар развился рано; в пять лет — читал, писал, рисовал, декламировал, ездил верхом. В школе — легко поглощал науки, приобрел большой запас знаний по литературе, особенно английской и латинской, по всеобщей истории, по математике, по некоторым отраслям естествознания, как астрономия, физика. Физически Эдгар был силен, участвовал во всех шалостях товарищей, а в университете — во всех их кутежах. Характер будущего поэта с детства был неровный, страстный, порывистый; в его поведении было много странного. С ранних лет Эдгар писал стихи, увлекался фантастическими планами, любил производить психологические опыты над собой и другими; сознавая свое превосходство, давал это чувствовать.
Жизнь в богатстве кончилась для Эдгара, когда ему не было и полных 17 лет. В университете он пробыл всего год. Осенью 1826 года произошел разрыв между Дж. Аллэном и его приемным сыном. Кто был «виноват», теперь выяснить трудно. Есть свидетельства, неблагоприятные для Эдгара; рассказывают, что он подделал векселя с подписью Дж. Аллэна, что однажды, пьяный, наговорил ему грубостей, замахнулся на него палкой, и т. п. С другой стороны, неоткуда узнать, что терпел гениальный юноша от разбогатевшего покровителя (Дж. Аллэн получил неожиданное наследство, превратившее его уже в миллионера), вполне чуждого вопросам искусства и поэзии. По-видимому, искренно любила Эдгара только г-жа Аллэн, а ее муж давно уже был недоволен эксцентричным приемышем. Поводом к ссоре послужило то, что Аллэн отказался заплатить «карточные долги» Эдгара. Юноша считал их «долгами чести» и не видел иного исхода для спасения этой «чести», как покинуть богатый дом, где воспитывался.
Для Эдгара По началась скитальческая жизнь. Покинув дом Аллэнов, он поехал в родной Бостон, где напечатал сборник стихов под псевдонимом «бостонца»; книжечка, впрочем, «в свет не вышла». Это издание, вероятно, поглотило все сбережения юноши. Не имея приюта, он решился на крутой шаг — и поступил солдатом в армию, под вымышленным именем. Службу он нес около года, был у начальства «на хорошем счету» и даже получил чин сержант-майора. В конце 1827 года или в начале 1828 года, поэт, однако, не выдержал своего положения, обратился к приемному отцу, прося помощи, и, вероятно, выражал раскаяние. Дж. Аллэн, может быть, по ходатайству жены, пожалел юношу, оплатил наем заместителя и выхлопотал Эдгару освобождение. Но, приехав в Ричмонд, Эдгар уже не застал в живых своей покровительницы: г-жа Аллэн умерла за несколько дней до того (28 февраля 1829 года).
Получив свободу, Эдгар По вновь обратился к поэзии. Он вновь побывал в Балтиморе и познакомился там со своими родственниками по отцу (которые разошлись с ним из-за его женитьбы на актрисе) — с сестрой, с бабушкой, с дядей Георгом По и его сыном Нельсоном По. Последний мог познакомить Эдгара с редактором местной газеты, У. Гвином. Через Гвина Эдгар получил возможность обратиться к видному тогда нью-йоркскому писателю Дж. Нилю. И Гвину, и Нилю начинающий поэт представил на суд свои стихи. Отзыв, при всех оговорках, был самый благоприятный. Результатом было то, что в конце 1829 года в Балтиморе вторично был издан сборник стихов Э. По под его именем, озаглавленный «Аль-Аарааф, Тамерлан и малые поэмы». На этот раз книжка поступила в магазины и в редакции, но прошла незамеченной.
Между тем Дж. Аллэн настаивал, чтобы Эдгар закончил свое образование. Решено было, что он поступит в Военную Академию в Вест-Пойнте, хотя по годам он уже не подходил к этой школе для юношей. В марте 1830 года, через ходатайство Аллэна, Эдгар все же был принят в число студентов, и его приемный отец подписал за него обязательство отслужить в армии пять лет. Вряд ли Эдгар охотно шел в Академию; во всяком случае, он скоро убедился, что карьера, навязанная ему приемным отцом, — совершенно для него неприемлема. Нормальным порядком покинуть школу Эдгар не мог. С обычной горячностью он взялся за дело иначе и сумел добиться того, что в марте 1831 года был из Академии исключен. Этим юный поэт опять вернул себе свободу, но, конечно, вновь рассорился с Дж. Аллэном.
Из Вест-Пойнта Эдгар По уехал в Нью-Йорк, где поспешил издать третий сборник стихов, названный, однако, «вторым изданием»: «Поэмы Эдгара А. По. Второе издание». Средства на издание были собраны подпиской; подписались многие товарищи из Академии, ожидавшие, что найдут в книге те стихотворные памфлеты и эпиграммы на профессоров, которыми студент Аллэн-По стал известен в школе. Таким подписчикам пришлось разочароваться. Покупателей у книги, расцененной дорого, в 2,5 доллара, не нашлось. Немногочисленные рецензии подсмеивались над «непонятностью» стихов.
В 1831 году Эдгар По делал попытки занять какое-либо определенное положение в обществе. Сохранилось от этого времени два письма. Первое, от 10 марта 1831 года, Эдгар По послал некоему полковнику Тэйеру с фантастической просьбой: помочь ему, Эдгару, как сержант-майору американской армии, поступить в ряды французских войск, если Франция вступится за Польшу и пошлет повстанцам 1831 года помощь против России. Вероятно, письмо осталось без ответа. Второе, от 6 мая 1831 года, адресовано Уильяму Гвину, о котором уже упоминалось: Эдгар По просил доставить какую-нибудь литературную работу. Если ответ и был, то отрицательный. Тогда же, летом 1831 года, Эдгар По искал места учителя в одной школе в Балтиморе, но тоже безуспешно. Есть еще сомнительные сведения, что Эдгар По вновь обращался к своему приемному отцу и что тот выдавал ему какие-то денежные пособия. Во всяком случае, пособия эти были крайне незначительны.
Три года, с осени 1831 но осень 1833 года, — самый темный период в биографии Эдгара По. Летом 1831 года Эдгар По жил в Балтиморе, у своей тетки, г-жи Клемм, матери той Виргинии, которая стала женой поэта; заметим, что Виргинии тогда было всего девять лет. С осени 1831 года следы Эдгара По теряются. Некоторые биографы предполагали, что на эти годы падает поездка Эдгара По в Европу. В своих стихах и рассказах Эдгар По не раз говорит о разных местностях Европы тоном очевидца (например, в стихотворении «К Занте»). Но никакие документальные данные такой поездки не подтверждают, да и вряд ли у Эдгара По могли быть средства на нее. Вероятно, что эти три года Эдгар По провел в Балтиморе, существуя на скудные пособия Дж. Аллэна, на случайные заработки и пользуясь помощью г-жи Клемм, которая любила юного поэта, как сына, но сама была бедна. К концу этого периода Эдгар По дошел до крайней стесненности, вернее до подлинной нищеты.
Несомненно, что за эти годы молодой поэт все же много работал. Им был написан ряд новелл — лучших в раннем периоде его творчества. Осенью 1833 года балтиморский еженедельник «Saturday Visitor» («Субботний Гость») объявил конкурс на лучший рассказ и на лучшее стихотворение. Эдгар По послал на конкурс шесть рассказов и отрывок в стихах «Колисей». Члены жюри, Дж. Кеннеди, Д. Латроб и Дж. Миллер, единогласно признали лучшими и рассказ, и стихи Эдгара По. Однако, не считая возможным выдать две премии одному лицу, премировали только рассказ «Манускрипт, найденный в бутылке», за который автору и была выдана премия в сто долларов. Деньги подоспели как раз вовремя. Эдгар По буквально голодал и, когда Кеннеди пригласил его к себе обедать, должен был отказаться за отсутствием мало-мальски приличного костюма…
Весной следующего года, в марте 1834 года, умер Дж. Аллэн, не оставив по завещанию своему приемному сыну ни цента. Но к этому времени Эдгар По уже начал работать в журналах. Сначала он помещал кое-что в «Saturday Visitor»; потом был рекомендовав Кеннеди в одно нью-йоркское издание к Томасу Уайту, издававшему в Ричмонде «Southern Literary Messenger» («Южный Литературный Вестник»). В этом последнем журнале Эдгар По стал сотрудничать регулярно, поместив там ряд статей и, между прочим, весной 1835 года, новеллы «Морэлла» и «Береника», а потом «Приключения Ганса Пфалля», имевшие у американской публики огромный успех. Говорят, что при сотрудничестве Эдгара По, тираж журнала возрос с 700 до 5000 подписчиков.
Дж. Уайт пригласил Эдгара По редактировать «Вестник», с жалованьем в десять долларов в неделю. Эдгар По должен был переехать в Ричмонд, но до отъезда пожелал обвенчаться с той Виргинией, которую знал с детства и давно любил. Виргиния во многом была подобна идеальным героиням сказок Эдгара По; красота ее была исключительная. Но летом 1835 года Виргинии все еще не было полных тринадцати лет (так как она родилась 22 августа 1822 года). Родственники Эдгара, особенно Нельсон По, о котором уже упоминалось, были против такого брака с девочкой, но Эдгар настаивал, и мистрис Клемм, мать невесты, приняла его сторону. Эдгар и Виргиния были негласно обвенчаны, но новобрачная осталась в доме матери, и через год (16 мая 1836 года) церемония венчания была повторена открыто; впрочем, и тогда Виргинии недоставало трех месяцев до четырнадцати лет.
Новобрачные предполагали жить вместе с м-с Клемм в Ричмонде, где у Эдгара По была квартира в доме Уайта. Однако между редактором и издателем неожиданно произошел разрыв, причины которого не вполне выяснены. 3 января 1837 года Эдгар По сложил с себя обязанности редактора «Вестника», дававшие ему уже пятнадцать долларов в неделю, и в том же месяце уехал с семьей в Нью-Йорк как в самый крупный литературный центр Штатов. В Нью-Йорке поэт поселился в жалком домишке (на Carmine-Street), причем м-с Клемм решила там открыть пансион, вернее просто сдавать жильцам «комнаты со столом».
В Нью-Йорке Эдгар По прожил почти два года. Он сотрудничал в разных изданиях, преимущественно в «American Museum» («Американский Музей»), напечатав за это время несколько из замечательнейших своих поэм и новелл, в том числе и «Лигейю». Отдельно он издал «Приключения Артура Гордона Пима», повесть, прошедшую мало замеченной в Америке, но имевшую большой успех в Англии. Гонорар Эдгара По обычно не превышал 5–6 долларов за рассказ, редко доходя до десяти долларов, так что поэт постоянно нуждался. Любопытно, что наибольший материальный успех выпал на долю составленного Эдгаром По руководства по хронологии, которое, по существу, было почти плагиатом, — сокращением и поверхностной переделкой труда одного шотландского профессора: работа была исполнена столь удачно, что переделку покупали предпочтительно перед оригиналом.
В конце 1838 года Эдгар По с семьей вновь переселился, на этот раз — в Филадельфию, тоже большой литературный центр, соперничавший с Нью-Йорком. По было предложено место редактора, опять с жалованьем в десять долларов в неделю, со стороны «Gentleman's Magazine» (буквально: «Джентльменский Журнал», т. е. Журнал для читателей избранных, культурных), возникшего только в предыдущем году. В этом издании Эдгар По опять поместил ряд замечательных новелл, в том числе «Падение дома Эшер», и нес все тяготы чисто журнальной работы. Там же, в 1840 году, Эдгар По начал печатать «Записки Юлия Родмана», самое крупное (по размерам) свое произведение после «Приключений Артура Пима»; но «Записки» остались незаконченными. Сотрудничал Эдгар По и в других изданиях.
Долго и упорно Эдгар По мечтал основать собственный журнал; даже был уже напечатан проспект о ежемесячнике «Penn Magazine», но издание не осуществилось, конечно, по недостатку средств. С февраля 1841 года «Gentleman's Magazine» соединился с журналом «The Casket» («Шкатулка») в одно издание под названием «Graham's Magazine» («Журнал Греэма»), руководителем которого остался Эдгар По. В короткое время тираж этого нового журнала достиг значительной цифры в 40000 экземпляров. Положение Эдгара По как будто упрочивалось. В конце 1840 года Эдгар По собрал свои новеллы в отдельном издании, в двух томах, под заглавием «Гротески и Арабески». В любопытном предисловии к этому изданию Эдгар По защищается от упрека в «германизме», говоря, что «страх», составляющий тему многих рассказов, — явление не «германское», а психическое.
Сравнительное преуспеяние Эдгара По длилось недолго. «Гротески», по издательскому выражению, «не пошли»; «Журнал Греэма» неожиданно распался. Издатель журнала пригласил для работы в редакции Р. Гризвольда, которого Эдгар По имел поводы считать своим лучшим врагом. Нервность, страстность Эдгара По повела к тому, что он немедленно покинул редакцию, чтобы не возвращаться в нее более. Это произошло в марте 1842 года. После того начались тщетные поиски места и заработка. Эдгару По давали обещания, но не исполняли их; проходили месяцы, скудные сбережения исчерпывались. В несчастьи Эдгар По все чаще уступал болезненному влечению к алкоголю, и его враги пользовались его болезнью, чтобы унизить его. Р. Гризвольд, занявший место Эдгара По в «Журнале Греэма», печатал яростные нападки на поэта. Эдгар По, по возможности, отвечал, не щадя самолюбия бездарного стихокропателя. Эта полемика много повредила Эдгару По в литературных кругах.
Не без труда Эдгар По нашел наконец скудную работу в «Saturday Museum» («Субботний Музей»). Между тем гениальные сказки и новеллы поэта, оплачиваемые ничтожным гонораром, два-три доллара за страницу, печатались в мелких американских журналах, в том числе «Элеонора», «Колодец и Маятник», «Тайна Мари Роже». Только «Золотой Жук», рукопись которого долго валялась в редакции «Журнала Греэма», доставил автору премию в сто долларов на конкурсе, который был организован захудалым изданием «The Dollar Newspaper» («Временник в один доллар»). Рассказ был затем перепечатан несчетное число раз, но не принес автору более ничего: законы о печати были тогда в Штатах еще несовершенны. Несколько больший заработок давали публичные лекции, и Эдгар По все чаще стал выступать лектором, пользуясь между прочим кафедрой для полемики со своими врагами, особенно с Гризвольдом.
Так просуществовал Эдгар По с семьей годы 1841–1843, живя в маленьком домишке, в предместье Филадельфии. Но тяжелое испытание подстерегало поэта. У Виргинии, после пения, лопнул кровеносный сосуд. Несколько дней она была при смерти; потом оправилась, но с тех пор ее жизнь стала медленным умиранием. Кровотечения из горла повторялись и каждый раз грозили смертью. Эдгар По дошел до пределов отчаяния. Он утратил способность работать систематически. Рядом с вином, он стал прибегать к опию. Для жены и ее матери то был ужас; для самого Эдгара — стыд, так как он и сам считал свою болезнь пороком; для литературных врагов — предлог для неистовых обвинений и коварных соболезнований. К 1844 году Эдгар По с семьей снова дошел до нищеты; они голодали. Положение было таково, что Эдгар По написал письмо Гризвольду, прося ссудить пять долларов.
В апреле 1844 года По опять переехал в Нью-Йорк. Издатель местной газеты нажил хорошие деньги, устроив ловкую рекламу рассказу Эдгара По «Перелет через Атлантику», но сам автор подучил гроши. В нью-йоркских журналах было напечатано несколько новелл Эдгара По, но гонорар едва спасал от голодной смерти. В январе 1845 года журнал «The Evening Mirror» («Вечернее Зеркало») напечатал поэму «Ворон», которую поэт тщетно предлагал в другие издания. За это свое знаменитейшее создание Эдгар По получил десять долларов. (Позднее, в 1891 году, автограф «Ворона» был продан на аукционе за 225 долларов, а автограф «Колоколов», в 1905 году, за 2100 долларов.) Впрочем, успех поэмы был исключительный; о ней много говорили, сам автор мог прочесть несколько лекций о «Вороне» в разных городах; поэта стали приглашать, как знаменитость, в «лучшее» общество Нью-Йорка.
Полоса успеха длилась около года. Благодаря публичным лекциям появились кое-какие деньги. Затем, в том же 1845 году, было выпущено отдельное собрание стихов Эдгара По, «Ворон и другие поэмы», потребовавшее повторения в том же году, а в следующем, 1846-м, переизданное в Англии. Ряд новых новелл Эдгара По был напечатан в разных журналах. Наконец, издатели нового «Brodway Journal» («Бродвейский Журнал») пригласили Эдгара По членом редакции. Последнее, однако, вряд ли послужило поэту на пользу. Он скоро рассорился с соиздателями и отважно принял на одного себя все ведение журнала. Но всего гения поэта, всей той изумительной трудоспособности, которую он умел проявлять по временам, оказалось недостаточно; был нужен капитал, а денег не было. Эдгар По занимал по маленьким суммам, опять обращался к Гризвольду за ссудой в пятьдесят долларов, но это не могло спасти издание. Уже 25 декабря 1845 года Эдгар По должен был сложить обязанности редактора.
С 1846 года возобновилась прежняя бедственная жизнь, — жалкие гонорары, скудные доходы с лекций, не всегда удачных, приступы алкоголизма, и все это — рядом с умирающей безумно любимой женой.
Поэт-энтузиаст строил химерические проекты, задумывал грандиозные литературные планы, но все это оставалось мечтами. В ту эпоху у Эдгара По уже были верные друзья, Уиллис, г-жа Осгуд, г-жа Шю и др., которые, сколько могли, помогали поэту. Из воспоминаний этих лиц рисуется мучительная картина жизни Эдгара По в этом году. Сидя у постели угасающей Виргинии, поэт опять не в силах был работать. Денег в доме не было; есть было нечего; зимой не было дров. Эдгар согревал руки больной своим дыханием или клал ей на грудь большую кошку: большего, чтобы защитить Виргинию от холода, он сделать не мог. 30 января 1847 года Виргиния умерла. Только благодаря помощи г-жи Шю похороны были «приличны», что особенно оценила м-с Клемм.
Последние годы жизни Эдгара По, 1847–1849, были годы метаний, порой полубезумия, порой напряженной работы, редких, но шумных успехов, горестных падений и унижений, и постоянной клеветы врагов (из коих одного поэт даже привлек к суду). Виргиния, умирая, взяла клятву с г-жи Шю не покидать Эдди (Эдгара); она и его другие друзья старались удерживать его от неосторожных поступков, но это было не легко. Эдгар По еще пленялся женщинами, воображал, что вновь любит, была речь о его женитьбе на подруге его юности, Эльмире Райт. В жизни он держал себя странно, вызывая недоумение окружающих. Однако он издал еще несколько гениальных произведений: «Юлалюм», «Колокола», «Аннабель Ли». Он написал также философскую книгу «Эврика», которую считал величайшим откровением, когда-либо данным человечеству.
Но недуг уже разрушал жизнь поэта; припадки алкоголизма становились все мучительнее, нервность возрастала почти до психического расстройства. Г-жа Шю, не умевшая понять болезненного состояния поэта, сочла нужным устраниться из его жизни. Осенью 1849 года наступил конец. Полный химерических проектов, считая себя вновь женихом, Эдгар По, в сентябре этого года, с большим успехом читал в Ричмонде лекцию о «Поэтическом принципе». Из Ричмонда Эдгар По выехал, имея 1500 долларов в кармане. Что затем произошло, осталось тайной. Может быть, поэт подпал под влияние своей болезни; может быть, грабители усыпили его наркотиком. Эдгара По нашли на полу в бессознательном состоянии, ограбленным. Поэта привезли в Балтимору, где Эдгар По и умер в больнице 7 октября 1849 года.
По собственному распоряжению Эдгара По, редактором посмертного издания его сочинений был избран Р. Гризвольд. Это роковым образом предопределило посмертную судьбу поэта на долгие десятилетия. В память ближайших поколений благодаря заботам Гризвольда Эдгар По вошел как полусумасшедший пьяница, автор занимательных, но диких и извращенных произведений. Медленно, очень медленно стараниями истинных ценителей творчества Эдгара По удавалось изменять такое предвзятое мнение. Только в конце XIX и в начале XX века была восстановлена, в документально обоснованных биографиях, подлинная судьба поэта, составлено действительно полное собрание его сочинений и дана возможность читателям правильно судить о величайшем из поэтов новой Америки.
Валерий Брюсов
ЛИРИКА 1821–1849
1821–1827
1 ОЗЕРО
К ***
Меня, на утре жизни, влек В просторном мире уголок, Что я любил, любил до дна! Была прекрасна тишина Угрюмых вод и черных скал, Что бор торжественный обстал. Когда же Ночь, царица снов, На все бросала свой покров И ветр таинственный в тени Роптал мелодию: усни! — Я пробуждался вдруг мечтой Для ужаса страны пустой. Но этот ужас не был страх, Был трепетный восторг в мечтах: Не выразить его полней За пышный блеск Голконды всей, За дар Любви — хотя б твоей! Но Смерть скрывалась там, в волнах Тлетворных, был в них саркофаг — Для всех, кто стал искать бы там Покоя одиноким снам, Кто скорбной грезой — мрачный край Преобразил бы в светлый рай.2 ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА
Был полдень в июне И полночь в ночи; С орбит своих звезды Бледно лили лучи Сквозь холодные светы Царицы Луны. Она была — в небе, Блеск на гребнях волны. Дышал я бесплодно Улыбкой холодной, — Холодной слишком — для меня! Ее диск туманный, Как саван обманный, Проплыл, — и обернулся я К Звезде вечерней… О, как размерней Ласкает красота твоя! Мечте так милы, Полные силы, Сверканья твои с вышины. Пью, умиленный, Твой огонь удаленный, А не бледные блики Луны.3 СОН
В виденьях темноты ночной Мне снились радости, что были: Но грезы жизни, сон денной, Мне сжали сердце — и разбили. О, почему не правда дня — Сны ночи тем, чей взгляд В лучах небесного огня Былое видеть рад! О сон святой! — о сон святой! — Шум просыпался в мире тесном, Но в жизнь я шел, ведом тобой, Как некий дух лучом чудесным. Пусть этот луч меж туч, сквозь муть, Трепещет иногда, — Что ярче озарит нам путь, Чем Истины звезда!4 ГИМН ГАРМОДИЮ И АРИСТОГЕТОНУ Подражание греческому
Под миртами меч я укрою в свой срок, Подобно героям старинным, Что в сердце тирану вонзили клинок, Возвращая свободу Афинам. Любимые тени! Бессмертны вы там, Где все, кто по славе нам ведом, В Элисии бродят по белым цветам, Где пирует Ахилл с Диомедом. Свежим миртом копье я укрою, как встарь Гармодий, храбрый и славный, Когда окропил он священный алтарь Тирании кровью державной. Вы, с Афин и с их мраморов смывшие стыд, Вы, отмстители древней свободы, Для веков без конца ваша слава звенит. Умащенная звуками оды!5 ИМИТАЦИЯ
Сумрак неизмеримый Гордости неукротимой, Тайна, да сон, да бред: Это — жизнь моих ранних лет Этот сон всегда был тревожим Чем-то диким, на мысль похожим Существ, что были в былом. Но разум, окованный сном, Не знал, предо мной прошли ли Тени неведомой были. Да не примет никто в дар наследий Видений, встававших в бреде, Что я тщетно старался стряхнуть, Что, как чара, давили грудь! Оправдались надежды едва ли; Все же те времена миновали, Но навек я утратил покой На земле, чтоб дышать тоской. Что ж! пусть канет он дымом летучим, Лишь бы с бредом, чем был я мучим!6 ДУХИ СМЕРТИ
И будет дух твой одинок. Под серым камнем сон глубок, — И никого — из всех, из нас, Кто б разгадал твой тайный час! Пусть дух молчание хранит: Ты одинок, но не забыт, Те Духи Смерти, что с тобой Витали в жизни, — и теперь Витают в смерти. Смутный строй Тебя хранит; их власти верь! Ночь — хоть светла — нахмурит взор, Не побледнеет звезд собор На тронах Неба, но мерцаньем Вновь звать не будет к упованьям; Их алые круги тебе Напомнят о твоей судьбе, Как бред, как жар, как боль стыда, С тобой сроднятся навсегда. Вот — мысли, что ты не схоронишь; Виденья, что ты не прогонишь Из духа своего вовек, Что не спадут, как воды рек Вздох Бога, дальний ветер — тих; Туманы на холмах седых, Как тень — как тень, — храня свой мрак, Являют символ или знак, Висят на ветках не случайно… О, тайны тайн! О, Смерти тайна!7 ПЕСНЯ
Я помню: ты, в день брачный твой, Как от стыда, зарделась вдруг, Хоть счастье было пред тобой, И, весь любовь, мир цвел вокруг. Лучистый блеск в твоих очах (Что не таила ты) Был — все, что на земле, в мечтах, Есть выше красоты! Быть может, девичьим стыдом Румянец был, — как знать! — Но пламенем он вспыхнул в том, Кто мог его понять. Кто знал тебя в день брачный твой, Когда могла ты вспыхнуть вдруг, Хоть счастье было пред тобой, И, весь любовь, мир цвел вокруг.8 СЧАСТЛИВЕЙШИЙ ДЕНЬ
Счастливейший день! — счастливейший час! — Что сердце усталое знало! Вы, гордые грезы! надежды на власть! Все, все миновало. Надежды на власть! — Да! я помню: об том (Мне память былое приводит) Мечтал я когда-то во сне молодом… Но пусть их проходят! И гордые грезы? — Теперь мне — что в них! Пусть яд их был мною усвоен, Но пусть он палит ныне темя других. Мой дух! будь спокоен. Счастливейший день! — счастливейший час! — Что сердце усталое знало, Вы, гордые взгляды! вы, взгляды на власть! Все, все миновало. Но если бы снова и взяли вы верх, Но с бредом мученья былого, — Вас, миги надежд, я отверг бы, отверг, Чтоб не мучиться снова! Летите вы с пеньем, но гибель и страх Змеится, как отблеск, по перьям, И каплет с них яд, сожигающий в прах Того, кто вас принял с доверьем.1828–1829
1 ВВЕДЕНИЕ
Романс! ты любишь петь, качаясь, Глаза закрыв, крылья смежив, В зеленых ветках старых ив, Что спят, над озером склоняясь. Мне был знаком тот милый край, Где жил ты, пестрый попугай! — Ты азбуке учил ребенка, Твой голос повторял я звонко, Блуждая в чаще без конца, Дитя, с глазами мудреца. Что грозы тропиков, настали Года, где петь не стало сил, Где бледных молний бороздил Зигзаг разорванные дали; Он, с громом, в небе обнажал Мрак беспросветный, как провал; Но тот же мрак, в каймах лучистых, Жег крылья молний серебристых. Ленив я с детства был, любил Вино, читал Анакреона, — Но в легких строфах находил Я зовы страсти затаенной. Алхимии мечты — дано Веселье превращать в страданья, Наивность — в дикие желанья, Игру — в любовь, в огонь — вино! Так, юн, но здрав умом едва ли, Я стал любовником печали, Привык тревожить свой покой, Томиться призрачной тоской. Я мог любить лишь там, где грозно Дышала Смерть над Красотой, Где брачный факел «Рок» и «Поздно» Вздымали между ней и мной. А после вечный Кондор лет Потряс все небо слишком властно Шумящей бурей гроз и бед; Под твердью мрачной и ненастной Я забывал, что я — поэт. Когда ж он с крыльев, в день спокойный, Ронял мне в сердце светлый пух, Все ж нежно петь не смел я вслух, Не обретал я лиры стройной: Для песни и душа должна Созвучной быть с тобой, струна! Но ныне все прошло бесследно! Печаль и Слава — отошли, Мрак разрешился в сумрак бледный, Огни чуть теплятся вдали. Глубок во мне был омут страсти, Но хмель на дне оставил муть; Кто у Безумства был во власти, Тот жаждет одного — уснуть: Храню одно из всех пристрастий, — В Мечте навеки отдохнуть! Да! но мечты подобных мне — заране Осуждены рассеяться в тумане. Но я клянусь, что я страдал один, Искал живые, нежащие звуки, Чтоб вырвать миг у тягостных годин, Пока еще все радости, все муки Не скрыты ранним инеем седин, Пока бесенок лет, с лукавым взглядом, Не мог в сознаньи спутать все черты, И Старость белая не стала рядом, Взор отвратив от вымыслов мечты.2 СОНЕТ К НАУКЕ
Наука! ты — дитя Седых Времен! Меняя все вниманьем глаз прозрачных, Зачем тревожишь ты поэта сон, О коршун! крылья чьи — взмах истин мрачных! Тебя любить? и мудрой счесть тебя? Зачем же ты мертвишь его усилья, Когда, алмазы неба возлюбя, Он мчится ввысь, раскинув смело крылья! Дианы коней кто остановил? Кто из леса изгнал Гамадриаду, Услав искать приюта меж светил? Кто выхватил из лона вод Наяду? Из веток Эльфа? Кто бред летних грез, Меж тамарисов, от меня унес?3 ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ ПРЕДО МНОЙ…
К ***
Прежняя жизнь предо мной Предстает, — что и верно, — мечтой; Уж я не грежу бессонно О жребии Наполеона, Не ищу, озираясь окрест, Судьбы в сочетании звезд. Но, мой друг, для тебя, на прощанье, Одно я сберег признанье: Были и есть существа, О ком сознаю я едва, Во сне предо мной прошли ли Тени неведомой были. Все ж навек мной утрачен покой, — Днем ли, — во тьме ль ночной, — Наяву ль, — в бреду ль, — все равно ведь; Мне душу к скорби готовить! Стою у бурных вод, Кругом гроза растет; Хранит моя рука Горсть зернышек песка; Как мало! как спешат Меж пальцев все назад! Надежды? Нет их, нет! Блистательно, как свет Зарниц, погасли вдруг… Так мне пройти, мой друг! Столь юным? — О, не верь! Я — юн, но не теперь Все скажут: я — гордец. Кто скажет так, тот — лжец! И сердце от стыда Стучит во мне, когда Все то, чем я томим, Клеймят клеймом таким! Я — стоик? Нет! Тебе Клянусь: и в злой судьбе Восторг «страдать» — смешон! Он — бледен, скуден — он! Не ученик Зенона — Я. Нет! — Но — выше стона!4 МЕЧТЫ
О! будь вся юность — лишь единый сон, Так, чтобы дух проснулся, пробужден Лучами Вечности, как мы — денницы, Будь этот сон — страданье без границы, — Его все ж предпочел бы, чем коснеть В реальности, тот, кто привык терпеть, Чье сердце было и пребудет страстно — Мук хаосом здесь, на земле прекрасной! Но был ли б этот, в долгой темноте Прошедший, сон похож на грезы те, Какими в детстве был я счастлив? — (Ибо Небес прекрасней ждать сны не могли бы!) При летнем солнце я тонул в мечтах О Красоте и о живых лучах; Я сердце отдал, с жаром неустанным, Моей фантазии далеким странам И существам, что сотворил я сам… Что, большее, могло предстать мечтам? То было раз, — лишь раз, — но из сознанья Не выйдет этот миг! — Очарованье Иль чья-то власть гнели меня; льдяной Во тьме дышал ли ветер надо мной, В моем уме свой облик оставляя? Луна ль звала, над сном моим пылая, Холодной слишком? — звезды ль? — только тот Миг был как ветер ночи (да пройдет!), Я счастлив был — пусть в грезах сна пустого! Я счастлив был — в мечтах! — Люблю я слово «Мечта»! В ее стоцветной ворожбе, Как в мутной, зыбкой, призрачной борьбе С реальностью видений, той, что вещий Бред создает, — прекраснейшие вещи Любви и рая есть, что мне сродни, Но чем не дарят юношества дни!5 МНЕ В ЮНОСТИ ЗНАКОМ БЫЛ НЕКТО…
Как часто мы забываем время, когда в одиночестве созерцаем трон Вселенной, — ее леса, ее пустыни, ее горы, — мощный ответ, даваемый Природой нашему сознанию. I Мне в юности знаком был некто, кто С землей был в тайной связи, как она с ним, — С рожденья, в блеске дня, и в красоте; В нем пылко-зыбкий факел жизни — черпал Свой свет от солнца и от звезд, из них Огни, себе родные, извлекая. Но этот мощный дух знал — (не в часы Своих пыланий) — власть свою над ними. II Быть может, мысль мою мог увести К порывам яркий свет луны сходящей, Но верить я готов, что этот свет Властней, чем нам об этом повествуют Науки дней былых, и что (будь то Лишь невещественная сущность мысли) Он волшебством живительным кропит Нас, как роса ночная, летом, травы. III Она ль влияет в час, когда (как глаз, Что ширится при виде милом) спавший Сном косным, вдруг, — слеза в очах, — дрожит? А, между тем, таиться ей зачем бы При нашей яви? но, что здесь, при нас Все время, — лишь тогда колдует странным Созвучьем, как разбитой арфы стон, И будит нас. — То — символ и страницы. IV Того, что мы найдем в иных мирах, Что в красоте дарует Бог наш тем лишь, Кто иначе лишился бы небес И жизни, их в бреду страстей утратив; А также зов — высокий зов к душе, Боровшейся не с верой, с благочестьем, Чей трон с отчаянья повержен в прах, — Венчанной чувств огнем, как диадемой.6 СТРАНА ФЕЙ
Сядь, Изабель, сядь близ меня, Где лунный луч скользит играя, Волшебней и прекрасней дня. Вот — твой наряд достоин рая! Двузвездьем глаз твоих я пьян! Душе твой вздох как небо дан! Тебе взвил кудри отблеск лунный, Как ветерок цветы в июне. Сядь здесь! — Кто нас привел к луне? Иль, дорогая, мы — во сне? Огромный был цветок в саду (Для вас он роза), — на звезду В созвездьи Пса похож; колеблем Полночным ветром, дерзко стеблем Меня хлестнул он, что есть сил, Живому существу подобен, Так, что, невольно гневно-злобен, Цветок надменный я сломил, — Неблагодарности отмстил, — И лепестки взвил ветер бурный, Но в небе вдруг, в просвет лазурный. Взошла из облаков луна, Всегда гармонии полна. Есть волшебство в луче том (Ты поклялась мне в этом!) Как фантастичен он, — Спирален, удлинен; Дробясь в ковре зеленом, Он травы полнит звоном. У нас все знать должны, Что бледный луч луны, Пройдя в щель занавески, Рисуя арабески, И в сердце темноты Горя в любой пылинке, Как в мошке, как в росинке, — Сон счастья с высоты! Когда ж наступит день? Ночь, Изабель, и тень Страшны, полны чудес, И тучевидный лес, Чьи формы брезжут странно В слепых слезах тумана. Бессмертных лун чреда, — Всегда, — всегда, — всегда, — Меняя мутно вид, Ущерб на диск, — бежит, Бежит, — улыбкой бледной Свет звезд гася победно. Одна по небосклону Нисходит — на корону Горы, к ее престолу Центр клонит, — долу, — долу, — Как будто в этот срок Наш сон глубок — глубок! Туман огромной сферы, Как некий плащ без меры, Спадает в глубь долин, — На выступы руин, — На скалы, — водопады, — (Безмолвные каскады!) — На странность слов, — о горе! — На море, ах! на море!7 АЛЬБОМНЫЕ СТИХИ
I К РУЧЬЮ
Живой ручей! как ясен ты, Твой бег лучами вышит, Твой блеск — эмблема красоты, Души, открытой тайнам чувств, Привольной прихоти искусств, Чем дочь Альберто дышит. Когда она глядит в тебя, Дрожишь ты, многоводен, И, детский лик волной дробя, Со мной, ручей, ты сходен; Как ты, вбираю я в себя Ее черты глубоко, И я, как ты, дрожу, дробя Души — взыскующее око!II
К ***
Та роща, где, в мечтах, — чудесней Эдемских, — птицы без числа: Твои уста! и все те песни: Слова, что ты произнесла! На небе сердца, — горе! горе! — Нещадно жгуч твой каждый взгляд! И их огни, как звезды — море, Мой дух отравленный палят. Ты, всюду — ты! Куда ни ступишь! Я в сон спешу, чтоб видеть сны: О правде, что ничем не купишь, И о безумствах, что даны!III
К ***
Не жду, чтоб мой земной удел Был чужд земного тленья; Года любви я б не хотел Забыть в бреду мгновенья. И плачу я не над судьбой Своей, с проклятьем схожей: Над тем, что ты грустишь со мной, Со мной, кто лишь прохожий.1830–1831
1 К ЕЛЕНЕ
Елена! Красота твоя — Никейский челн дней отдаленных, Что мчал меж зыбей благовонных Бродяг, блужданьем утомленных, В родимые края! В морях Скорбей я был томим, Но гиацинтовые пряди Над бледным обликом твоим, Твой голос, свойственный Наяде, Меня вернули к снам родным: К прекрасной навсегда Элладе И к твоему величью, Рим! В окне, что светит в мрак ночной, Как статуя, ты предо мной Вздымаешь лампу из агата. Психея! край твой был когда-то Обетованною страной!2 ДОЛИНА НИСА
Так далеко, так далеко, Что конца не видит око, Дол простерт живым ковром На Востоке золотом. То, что там ласкает око, Все — далеко! ах, далеко! Этот дол — долина Ниса. Миф о доле сохранился Меж сирийцев (темен он: Смысл веками охранен); Миф — о дроте Сатаны, Миф — о крыльях Серафимов, О сердцах, тоской дробимых, О скорбях, что суждены, Ибо кратко — «Нис», а длинно — «Беспокойная долина». Прежде мирный дол здесь был, Где никто, никто не жил. Люди на войну ушли; Звезды с хитрыми очами, Лики с мудрыми лучами, Тайну трав здесь берегли; Ими солнца луч, багрян, Дмился, приласкав тюльпан, Но потом лучи белели В колыбели асфоделей. Кто несчастен, знает ныне: Нет покоя в той долине! Елена! как твои глаза, Фиалки смотрят в небеса; И, над могилой, тучных трав Роняют стебли сок отрав; За каплей капля, вдоль ствола Сползает едкая смола; Деревья, мрачны и усталы, Дрожат, как волны, встретя шквалы, Как волны у седых Гебрид; И облаков покров скользит По небу, объятому страхом; И ветры вопль ведут над прахом, И рушат тучи, как каскады, Над изгородью дымов ада; Пугает ночью серп луны Неверным светом с вышины, И солнце днем дрожит в тоске По всем холмам и вдалеке.3 СТРАНА ФЕЙ
Мгла долов — тень по кручам — Лес, подобный тучам, Чьи формы брезжут странно В слепых слезах тумана. Бессмертных лун чреда, — Всегда, — всегда, — всегда, — Меняя мутно вид, Ущерб на диск, — бежит, — Бежит, — улыбкой бледной Свет звезд гася победно. И, в полночь по луне, — Одна, туманней всех (Не та ль, что в вышине Всех дольше длила бег), Нисходит — долу — долу — Свой центр клоня к престолу Горы, на снег вершин, Туман огромной сферы Скрывает, — плащ без меры, — Сон хижин и руин, И лес на всем просторе, И море, — о! и море! Всех духов, что скользят, Все существа, что спят, Вбирая полно их В лабиринт лучей своих, Как будто в этот срок Их сон глубок, — глубок! Им вскроет день глаза, И лунный их покров Взлетит на небеса С тяжелым севом гроз: Он стал — цепь облаков Иль желтый альбатрос, И та же днем луна Им больше не нужна, Как одеянье тайны — (Но как все чрезвычайно!) А атомы луны Днем в дождь разрешены; Не их ли мотыльки, Когда летят, легки, В лазурь, ах! для паденья (Вовек без достиженья), Во образе пыльцы Приносят образцы!4 ОСУЖДЕННЫЙ ГОРОД
Смотри! Там Смерть воздвигла трон, Где старый город погружен На дымном Западе в свой сон, Где добрый и злой, герой и злодей Давно сошли в страну теней. Дворцы, палаты, башни — там Так чужды нашим городам! Не вносят наши свой убор Так адски сумрачно в простор! Не дрогнет строй промшенных башен; Не тронет ветер с моря — пашен; И воды, в забытьи немом, Покоются печальным сном. Все те же — только небеса, Где звезд блистают диадемы; Взор дев равняем с ними все мы, Но там! там женские глаза Столь горестны, что их сравненье С звездой — сошло б за оскорбленье! Там ни единый луч с высот Над долгой ночью не блеснет. Лишь блеск угрюмых, скорбных вод Струится молчаливо к крышам, Змеится по зубцам и выше, По тронам, — брошенным беседкам, — Изваянным цветам и веткам, — По храмам, — башням, — по палатам, — По Вавилону — сродным скатам, — Там, где святилищ длинный ряд, Где, фризом сплетены, висят Фиалки, — маски, — виноград. Открытых храмов и гробов Зияет строй у берегов, Но все сокровища дворцов, Глаза алмазные богов, И пышный мертвецов убор — Волны не взманят: нем простор. И дрожь, увы! не шелохнет Стеклянную поверхность вод. Кто скажет: есть моря счастливей, Где ветер буйствует в порыве! С тенями слиты, башни те Висят как будто в пустоте, А с башни, что уходит в твердь, Как Исполин, вглубь смотрит Смерть. Но что же! воздух задрожал; Зыбь на воде, — поднялся вал, Как будто, канув в глубину, Те башни двинули волну, И крыши башен налету Создали в небе пустоту. Теперь на водах — отблеск алый, Часы — бессильны и усталы; Когда ж, под грозный гул, во тьму, Во глубь, во глубь весь город канет, С бесчетных тронов Ад восстанет С приветствием ему, И Смерть в страну у знойных вод Свой грозный трон перенесет.5 АЙРИНА
Поет луна, звезда колдуний: — Вот полночь в сладостном Июне. Рой снов крылатых с высоты Сомлел на веках Красоты, Иль на челе ее ведет В старинных масках хоровод, И в локоны, что зыбко свисли, Он впутал облики и мысли. Дурманный пар наитий, мглистый, Плывет от кроны золотистой. Высь башен тает, чтоб уснуть, Туманом окружая грудь Как Лета (видишь!), дремлют воды Сознательно в тиши природы, Чтоб не проснуться годы, годы! Вдыхает розмарин могила; На волнах лилия почила; И ели, там и сям, в тумане, Чуть зыблясь, шепчут песню, пьяны, Дубам хмельным, но одиноким, Склоненным к пропастям глубоким. Вкусила Красота покой, Раскрыв окно на мир ночной. Айрина спит — с своей судьбой. Лучи ей на ухо поют: «Прекрасная! зачем ты тут? Твой странен вид, — странны ресницы, Твой странен локон, что змеится. Ты, чрез моря, пришла откуда, Дубам суровым нашим — чудо? Чем ветер мнил тебе служить, Окно спеша на мглу открыть, Чтоб, сквозь него, тебе напели Твой сон хмельной напевы елей, Качая пурпур балдахина, Как знамя, над тобой, Айрина? Прекрасная! проснись! проснись! Во имя Господа проснись! О странно, странно, как, взрастая И тая, ждет здесь тень цветная!» Айрина спит. Спать мертвым тоже, Пока любивших горе гложет. Дух в летаргии длит молчанье, Пока в слезах — Воспоминанье. Но вот — две-три недели минут; Улыбки с уст унынье сдвинут. Дух, оскорблен, стряхнув истому, Прочь реет, к озеру былому, Где, меж друзей, он, в дни былые, Купался в голубой стихии; Там из травы, никем не смятой, Плетет венок, но ароматы С чела прозрачного ветрам Поют (внемлите тем словам!): «Увы! увы!» — Тоской объятый, Дух ищет прежние следы В спокойной ясности воды; Их не найдя, летит в бездонность, В неведомую углубленность. Айрина спит. О, если б сон Глубок мог быть, как долог он! О! только б червь не всполз на ложе! Тогда, — о, помоги ей, Боже! — Пусть навсегда сон снидет к ней, И спальня станет тем святей, А одр — печальный мавзолей! Пусть где-то в роще, древней, темной, Над ней восстанет свод огромный, Тот склеп, в чьи двери из металла Она, дитя, кремни метала, Привыкнув тешиться, ребенком, Их отзвуком чугунно-звонким, Те двери (вход иного мира), Что, словно два крыла вампира, Вскрывались грозно, в глубь свою Вбирая всю ее семью!6 ПЭАН
Как реквием читать, — о смех! — Как петь нам гимн святой! Той, что была прекрасней всех И самой молодой! Друзья глядят, как на мечту, В гробу на лик святой, И шепчут: «О! Как красоту Бесчестить нам слезой?» Они любили прелесть в ней, Но гордость кляли вслух. Настала смерть. Они сильней Любить посмели вдруг. Мне говорят (а между тем Болтает вся семья), Что голос мой ослаб совсем, Что петь не должен я, И что мой голос, полн былым, Быть должен, в лад скорбей, Столь горестным, — столь горестным, — Что тяжко станет ей. Она пошла за небосклон, Надежду увела; Я все ж любовью опьянен К той, кто моей была! К той, кто лежит, — прах лучших грез, Еще прекрасный прах! Жизнь в золоте ее волос, Но смерть, но смерть в очах. Я в гроб стучусь, — упорно бью, И стуки те звучат Везде! везде! — и песнь мою Сопровождают в лад. В Июне дней ты умерла, Прекрасной слишком? — Нет! Не слишком рано ты ушла, И гимн мой буйно спет. Не только от земли отторг Тебя тот край чудес: Ты видишь больше, чем восторг Пред тронами небес! Петь реквием я не хочу В такую ночь, — о нет! Но твой полет я облегчу Пэаном древних лет!1833
1 КОЛИСЕЙ
Лик Рима древнего! Ковчег богатый Высоких созерцаний, Временам Завещанных веками слав и силы! Вот совершилось! — После стольких дней Скитаний тяжких и палящей жажды — (Жажды ключей познанья, что в тебе!) Склоняюсь я, унижен, изменен, Среди твоих теней, вбирая в душу Твое величье, славу и печаль. Безмерность! Древность! Память о былом! Молчанье! Безутешность! Ночь глухая! Вас ныне чувствую, — вас, в вашей силе! — Нет, в Гефсимании царь Иудейский Столь правым чарам не учил вовек! У мирных звезд халдей обвороженный Столь властных чар не вырывал вовек! Где пал герой, здесь падает колонна! Где золотой орел блистал в триумфе, Здесь шабаш ночью правит нетопырь! Где римских дам позолоченный волос Качался с ветром, здесь — полынь, волчцы! Где золотой вздымался трон монарха, Скользит, как призрак, в мраморный свой дом, Озарена лучом луны двурогой, Безмолвно, быстро ящерица скал. Но нет! те стены, — арки те в плюще, — Те плиты, — грустно-черные колонны, — Пустые глыбы, — рухнувшие фризы, — Карнизов ряд, — развалины, — руины, — Те камни, — ах, седые! — это ль все, Все, что от славы, все, что от колосса Оставили Часы — Судьбе и мне? «Не все, — вещает Эхо, — нет, не все! Пророческий и мощный стон исходит Всегда от нас, от наших глыб, и мудрым Тот внятен стон, как гимн Мемнона к Солнцу: Мы властны над сердцами сильных, властны Самодержавно над душой великих. Мы не бессильны, — мы, седые камни, — Не вся иссякла власть, не все величье, — Не вся волшебность нашей гордой славы, — Не вся чудесность, бывшая вкруг нас, — Не вся таинственность, что в нас была, — Не все воспоминанья, что висят Над нами, к нам приникнув, как одежда, Нас облекая в плащ, что выше Славы!»1835
1 ОДНОЙ В РАЮ
В твоем все было взоре, О чем грустят мечты: Была ты — остров в море, Алтарь во храме — ты, Цветы в лесном просторе, И все — мои цветы! Но сон был слишком нежен И длиться он не мог, Конец был неизбежен! Зов будущего строг: «Вперед!» — но дух, мятежен, Над сном, что был так нежен, Ждет — медлит — изнемог. Увы! — вся жизнь — в тумане, Не будет больше нег. «Навек, — навек, — навек!» (Так волны в океане Поют, свершая бег). Орел, убит, не встанет, Дуб срублен, дровосек! Все дни мои — как сказки, И снами ночь живет: Твои мне блещут глазки, Твой легкий шаг поет, В какой эфирной пляске У итальянских вод. Ты в даль морей пространных Плывешь, меня забыв, Для радостей обманных, Для грез, чей облик лжив, От наших стран туманных, От серебристых ив.2 ГИМН
Зарей, — днем, — в вечера глухие, — Мой гимн ты слышала, Мария! В добре и зле, в беде и счастьи, Целенье мне — твое участье! Когда часы огнем светали, И облака не тмили далей, Чтоб не блуждать как пилигрим, Я шел к тебе, я шел к твоим. Вот бури Рока рушат явно Мое «теперь», мое «недавно», Но «завтра», веруют мечты, Разгонят мрак — твои и ты!3 К МАРИИ
К Ф.
Любимая! меж всех уныний, Что вкруг меня сбирает Рок (О, грустный путь, где средь полыни Вовек не расцветет цветок), Я все ж душой не одинок: Мысль о тебе творит в пустыне Эдем, в котором мир — глубок. Так! память о тебе — и в горе Как некий остров меж зыбей, Волшебный остров в бурном море, В пучине той, где на просторе Бушуют волны, все сильней, — Все ж небо, с благостью во взоре, На остров льет поток лучей.4 В АЛЬБОМ
Френсис Сарджент Осгуд
Ты хочешь быть любимой? — Верь Тому пути, которым шла. Будь только то, что ты теперь, Не будь ничем, чем не была. Так мил твой взор, так строен вид, Так выше всех ты красотой, Что не хвалить тебя — то стыд, Любить — лишь долг простой.1836
1 ИЗРАФЕЛИ
…И ангел Израфели, чье сердце — лютня и чей голос — нежней чем голоса всех других созданий Бога
(Коран). Есть дух небесных келий, «Чье сердце — лютни стон». Нигде в мирах не пели Нежней, чем Израфели; Все звезды онемели, Молчали, в сладком хмеле, Едва запел им он. Грезя в высоте, Вся любви полна, Покраснев, луна Звуки те Ловит через темь; Быстрые Плеяды (Коих было семь) С ней полны услады. И шепчут, в сладком хмеле, Хор звезд, все духи в мире, Что сила Израфели — В его напевной лире; И он вверяет струнам, Всегда живым и юным, Чудесный гимн в эфире. Но ангел — гость лазури, Где строй раздумий — строг, Любовь — предвечный бог; И взоры светлых Гурий Полны той красотой, Что светит нам — звездой. Да, там, в лазури ясной, Ты прав, о Израфели, Презрев напев бесстрастный. Наш лавр, бард светлокудрый, Прими, как самый мудрый! Живи среди веселий! С экстазами эфира Твои согласны звуки. Страсть, радость, скорбь и муки — Слиты с палящей лирой. Молчите, духи мира! Лазурь — твоя! у нас Тоска, несовершенство; Здесь розы, — не алмаз; Тень твоего блаженства Наш самый яркий час. Когда б я жил, Где Израфели, Он, — где мне Рок судил, Быть может, струны б не звенели Его мелодией веселий, Но смелей бы полетели Звуки струн моих до области светил.1837
1 К ЗАНТЕ
Ты взял, прекрасный остров, меж цветов Нежнейшее из всех названий нежных! Как много будит пламенных часов В мечтаньях вид холмов твоих прибрежных! Как много сцен — каких блаженств былых, Как много грез — надежд похороненных, И ликов той, что не мелькнет на склонах, Вовек не промелькнет в лесах твоих. «Вовек!» о звук магически-печальный, Все изменяющий! и ты — вовек Не будешь мил, о, остров погребальный! Кляну цветы вдоль тихоструйных рек, Край гиацинтовый! пурпурный Занте! Isola d'oro, fior di Levante!2 СВАДЕБНАЯ БАЛЛАДА
Обручена кольцом, Вдыхая ладан синий, С гирляндой над лицом, В алмазах, под венцом, — Не счастлива ль я ныне! Мой муж в меня влюблен… Но помню вечер синий, Когда мне клялся он: Как похоронный звон Звучала речь, как стон Того, кто пал сражен, — Того, кто счастлив ныне. Смягчил он горечь слез Моих, в тот вечер синий; Меня (не бред ли грез?) На кладбище отнес, Где мертвецу, меж роз, Шепнула я вопрос: «Не счастлива ль я ныне?» Я поклялась в ответ Ему, в тот вечер синий. Пусть мне надежды нет, Пусть веры в сердце нет, Вот — апельсинный цвет: Не счастлива ль я ныне? О, будь мне суждено Длить сон и вечер синий! Все ужасом полно Пред тем, что свершено. О! тот, кто мертв давно, Не будет счастлив ныне!1838
1 НЕПОКОЙНЫЙ ЗАМОК
В той долине изумрудной, Где лишь ангелы скользят, Замок дивный, замок чудный Вырос — много лет назад! Дух Царицы Мысли веял В царстве том. Серафим вовек не реял Над прекраснейшим дворцом! Там, на башне, — пурпур, злато, — Гордо вились знамена. (Это было — все — когда-то, Ах, в былые времена!) Каждый ветра вздох, чуть внятный В тихом сне, Мчался дальше, ароматный, По украшенной стене. В той долине идеальной Путник в окна различал Духов, в пляске музыкальной Обходивших круглый зал, Мысли трон Порфирородной, — А Она Пела с лютней благородной Гимн, лучом озарена. Лаллом, жемчугом горела Дверь прекрасного дворца: Сквозь — все пело, пело, пело Эхо гимна без конца; Пело, славя без границы, Эхо, ты — Мудрость вещую Царицы, В звуках дивной красоты. Но, одеты власяницей, Беды вторглись во дворец. (Плачьте! — солнце над Царицей Не затеплит свой венец!). И над замком чудным, славным, В царстве том, Память лишь о стародавнем, Слух неясный о былом. В той долине путник ныне В красных окнах видит строй Диких призраков пустыни, В пляске спутанно-слепой, А сквозь двери сонм бессвязный, Суетясь, Рвется буйный, безобразный, Хохоча, — но не смеясь!2 ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ
Смотри! огни во мраке блещут (О, ночь последних лет!). В театре ангелы трепещут, Глядя из тьмы на свет, Следя в слезах за пантомимой Надежд и вечных бед. Как стон, звучит оркестр незримый: То — музыка планет. Актеров сонм, — подобье Бога, — Бормочет, говорит, Туда, сюда летит с тревогой, — Мир кукольный, спешит. Безликий некто правит ими, Меняет сцены вид, И с кондоровых крыл, незримый, Проклятие струит. Нелепый Фарс! — но невозможно Не помнить мимов тех, Что гонятся за Тенью, с ложной Надеждой на успех, Что, обегая круг напрасный, Идут назад, под смех! В нем ужас царствует, в нем властны Безумие и Грех. Но что за образ, весь кровавый, Меж мимами ползет? За сцену тянутся суставы, Он движется вперед, Все дальше, — дальше, — пожирая Играющих, и вот Театр рыдает, созерцая В крови ужасный рот. Но гаснет, гаснет свет упорный! Над трепетной толпой Вниз занавес спадает черный, Как буря роковой. И ангелы, бледны и прямы, Кричат, плащ скинув свой, Что «Человек» — названье драмы, Что «Червь» — ее герой!1840
1 МОЛЧАНИЕ
Есть свойства, бестелесные явленья, С двойною жизнью; тип их с давних лет, — Та двойственность, что поражает зренье: То — тень и сущность, вещество и свет. Есть два молчанья; берега и море, Душа и тело. Властвует одно В тиши. Спокойно нежное, оно Воспоминаний и познанья горе Таит в себе, и «больше никогда» Зовут его. Телесное молчанье, Оно бессильно, не страшись вреда! Но если встретишь эльфа без названья, — Молчанья тень, в пустынях без следа, Где человек не должен ставить ногу, Знай: все покончено! предайся Богу!1842
1 ЛИНОР
Расколот золотой сосуд, и даль душе открыта! Лишь тело тут, а дух несут, несут струи Коцита А! Ги де Вер! рыдай теперь, теперь иль никогда! Твоя Линор смежила взор, — в гробу, и навсегда! Обряд творите похорон, запойте гимн святой, Печальный гимн былых времен о жертве молодой, О той, что дважды умерла, скончавшись молодой! «Лжецы! вы в ней любили прах, но гордость кляли в ней! Когда в ней стебель жизни чах, вы были с ней нежней. Так как же вам творить обряд, как петь вам гимн святой? Не ваш ли взгляд, недобрый взгляд, не вы ли клеветой Невинность в гроб свели навек, — о! слишком молодой!» Peccavimus. Но наших уз не отягчай! звучит Пусть грустный звон, но пусть и он ее не огорчит. Линор идет, — «ушла вперед», — с Надеждой навсегда. Душа темна, с тобой она не будет никогда, — Она, дитя прекрасных грез, что ныне тихий прах. Жизнь веет в золоте волос, но смерть в ее очах… Еще есть жизнь в руне волос, но только смерть в очах. «Прочь! в эту ночь светла душа! Не плакать мне о ней! Меж ангелов пою, спеша, пэан далеких дней. Пусть звон молчит, пусть не смутит, в ее мечтах, вдали, Ту, что плывет к лучам высот от проклятой земли, К друзьям на зов, от всех врагов (и сон земной исчез)! Из ада ввысь несись, несись — к сиянию небес, Из мглы, где стон, туда, где трон властителя небес!1844
1 СТРАНА СНОВ
Тропкой темной, одинокой, Где лишь духов блещет око, Там где ночью черный трон (Этим Идолом) взнесен, Я достиг, недавно, сонный, Граней Фуле отдаленной, И божественной, и странной, дикой области, взнесенной Вне Пространств и вне Времен. Бездонный дол, безмерности потока, Пещеры, бездны, странные леса; На облики, каких не знало око, Что миг, то каплет едкая роса. Горы рушатся всечасно В океан без берегов, Что валы вздымает властно До горящих облаков. Озер просторы, странно полноводных, Безмерность вод, — и мертвых, и холодных, Недвижность вод, — застывших в мгле бессилии Под снегом наклоненных лилий. Там близ озер, безмерно полноводных, Близ мертвых вод, — и мертвых, и холодных, — Близ тихих вод, застывших в мгле бессилий Под снегом наклоненных лилий, — Там близ гор, — близ рек, бегущих, Тихо льющих, век поющих; — Близ лесов и близ болот, Где лишь водный гад живет; Близ прудов и близ озер, Где колдуний блещет взор; В каждом месте погребальном, В каждом уголку печальном, Встретит, в ужасе немом, Путник — Думы о былом, — Формы, в саванах унылых, Формы в белом, тени милых, Что идут со стоном там, В агонии, предаваясь и Земле и Небесам! Для сердец, чья скорбь безмерна, Это — край услады верной, Для умов, что сумрак Ада Знают, это — Эль-Дорадо! Но, в стране теней скользя, Обозреть ее — нельзя! Тайн ее вовек, вовек Не познает человек; Царь ее не разрешит, Чтоб был смертный взор открыт; Чье б скорбное Сознанье там ни шло, Оно все видит в дымное стекло. Тропкой темной, одинокой, Где лишь духов блещет око, Из страны, где Ночью — трон (Этим Идолом) взнесен, Я вернулся, утомленный, С граней Фуле отдаленной.2 ВОРОН
Как-то в полночь, в час унылый, я вникал, устав, без силы, Меж томов старинных, в строки рассужденья одного По отвергнутой науке, и расслышал смутно звуки, Вдруг у двери словно стуки, — стук у входа моего. «Это — гость, — пробормотал я, — там, у входа моего, Гость, — и больше ничего!» Ах! мне помнится так ясно: был декабрь и день ненастный, Был как призрак — отсвет красный от камина моего. Ждал зари я в нетерпеньи, в книгах тщетно утешенье Я искал в ту ночь мученья, — бденья ночь, без той, кого Звали здесь Линор. То имя… Шепчут ангелы его, На земле же — нет его. Шелковистый и не резкий, шорох алой занавески Мучил, полнил темным страхом, что не знал я до того. Чтоб смирить в себе биенья сердца, долго в утешенье Я твердил: «То — посещенье просто друга одного». Повторял: «То — посещенье просто друга одного, Друга, — больше ничего!» Наконец, владея волей, я сказал, не медля боле: «Сэр иль Мистрисс, извините, что молчал я до того. Дело в том, что задремал я, и не сразу расслыхал я, Слабый стук не разобрал я, стук у входа моего». Говоря, открыл я настежь двери дома моего. Тьма, — и больше ничего. И, смотря во мрак глубокий, долго ждал я, одинокий, Полный грез, что ведать смертным не давалось до того! Все безмолвно было снова, тьма вокруг была сурова, Раздалось одно лишь слово: шепчут ангелы его. Я шепнул: «Линор», и эхо — повторило мне его, Эхо, — больше ничего. Лишь вернулся я несмело (вся душа во мне горела). Вскоре вновь я стук расслышал, но ясней, чем до того. Но сказал я: «Это ставней ветер зыблет своенравней, Он и вызвал страх недавний, ветер, только и всего, Будь спокойно, сердце! Это ветер, только и всего. Ветер, — больше ничего!» Растворил свое окно я, и влетел во глубь покоя Статный, древний Ворон, шумом крыльев славя торжество, Поклониться не хотел он; не колеблясь, полетел он, Словно лорд иль лэди, сел он, сел у входа моего, Там, на белый бюст Паллады, сел у входа моего, Сел, — и больше ничего. Я с улыбкой мог дивиться, как эбеновая птица, В строгой важности — сурова и горда была тогда. «Ты, — сказал я, — лыс и черен, но не робок и упорен, Древний, мрачный Ворон, странник с берегов, где ночь всегда! Как же царственно ты прозван у Плутона?» Он тогда Каркнул: «Больше никогда!» Птица ясно прокричала, изумив меня сначала. Было в крике смысла мало, и слова не шли сюда. Но не всем благословенье было — ведать посещенье Птицы, что над входом сядет, величава и горда, Что на белом бюсте сядет, чернокрыла и горда, С кличкой «Больше никогда!» Одинокий, Ворон черный, сев на бюст, бросал, упорный, Лишь два слова, словно душу вылил в них он навсегда. Их твердя, он словно стынул, ни одним пером не двинул, Наконец, я птице кинул: «Раньше скрылись без следа Все друзья; ты завтра сгинешь безнадежно!..» Он тогда Каркнул: «Больше никогда!» Вздрогнул я, в волненьи мрачном, при ответе столь удачном. «Это — все, — сказал я, — видно, что он знает, жив года С бедняком, кого терзали беспощадные печали, Гнали в даль и дальше гнали неудачи и нужда. К песням скорби о надеждах лишь один припев нужда Знала: больше никогда!» Я с улыбкой мог дивиться, как глядит мне в душу птица. Быстро кресло подкатил я, против птицы, сел туда: Прижимаясь к мягкой ткани, развивал я цепь мечтаний, Сны за снами; как в тумане, думал я: «Он жил года, Что ж пророчит, вещий, тощий, живший в старые года, Криком: больше никогда?» Это думал я с тревогой, но не смел шепнуть ни слога Птице, чьи глаза палили сердце мне огнем тогда. Это думал и иное, прислонясь челом в покое К бархату; мы, прежде, двое так сидели иногда… Ах! при лампе, не склоняться ей на бархат иногда Больше, больше никогда! И, казалось, клубы дыма льет курильница незримо, Шаг чуть слышен серафима, с ней вошедшего сюда. «Бедный! — я вскричал, — то Богом послан отдых всем тревогам, Отдых, мир! чтоб хоть немного ты вкусил забвенье, — да? Пей! о, пей тот сладкий отдых! позабудь Линор, — о, да?» Ворон: — «Больше никогда!» «Вещий, — я вскричал, — зачем он прибыл, птица или демон? Искусителем ли послан, бурей пригнан ли сюда? Я не пал, хоть полн уныний! В этой заклятой пустыне, Здесь, где правит ужас ныне, отвечай, молю, когда В Галааде мир найду я? обрету бальзам когда?» Ворон: — «Больше никогда!» «Вещий, — я вскричал, — зачем он прибыл, птица или демон? Ради неба, что над нами, часа страшного суда, Отвечай душе печальной: я в раю, в отчизне дальной, Встречу ль образ идеальный, что меж ангелов всегда? Ту мою Линор, чье имя шепчут ангелы всегда?» Ворон: — «Больше никогда!» «Это слово — знак разлуки! — крикнул я, ломая руки. Возвратись в края, где мрачно плещет Стиксова вода! Не оставь здесь перьев черных, как следов от слов позорных! Не хочу друзей тлетворных! С бюста — прочь, и навсегда! Прочь — из сердца клюв, и с двери — прочь виденье навсегда!» Ворон: — «Больше никогда!» И, как будто с бюстом слит он, все сидит он, все сидит он, Там, над входом, Ворон черный, с белым бюстом слит всегда! Светом лампы озаренный, смотрит, словно демон сонный. Тень ложится удлиненно, на полу лежит года, — И душе не встать из тени, пусть идут, идут года, — Знаю, — больше никогда!1845
1 СПЯЩАЯ
То было полночью, в Июне, В дни чарованья полнолуний; И усыпляюще-росистый Шел пар от чаши золотистой, За каплей капля, ниспадал На мирные вершины скал И музыкально, и беспечно Струился по долине вечной. Вдыхала розмарин могила; На водах лилия почила; Туманом окружая грудь, Руина жаждала — уснуть; Как Лета (видишь?) дремлют воды, Сознательно, в тиши природы, Чтоб не проснуться годы, годы! Вкусила красота покой… Раскрыв окно на мир ночной, Айрина спит с своей Судьбой. Прекрасная! о, почему Окно открыто в ночь и тьму? Напев насмешливый, с ракит, Смеясь, к тебе в окно скользит, — Бесплотный рой, колдуний рой И здесь, и там, и над тобой; Они качают торопливо, То прихотливо, то пугливо, Закрытый, с бахромой, альков, Где ты вкусила негу снов; И вдоль стены, и на полу Трепещет тень, смущая мглу. Ты не проснешься? не ужаснешься? Каким ты грезам отдаешься? Ты приплыла ль из-за морей Дивиться зелени полей? Наряд твой странен! Ты бледна! Но как твоя коса пышна! Как величава тишина! Айрина спит. О если б сон Глубок мог быть, как долог он! Храни, о небо, этот сон! Да будет святость в этой спальне! Нет ложа на земле печальней. О Боже, помоги же ей Не открывать своих очей, Пока скользит рой злых теней. Моя Любовь, спи! Если б сон Стал вечным так, как долог он! Червь, не тревожь, вползая, сон! Пусть где-то в роще, древней, темной, Над ней восстанет свод огромный, Свод черной и глухой гробницы, Что раскрывал, как крылья птицы, Торжественно врата свои Над трауром ее семьи, — Далекий, одинокий вход, Та дверь, в какую, без забот, Метала камни ты, ребенком, — Дверь склепа, с отголоском звонким, Чье эхо не разбудишь вновь (Дитя греха! моя любовь!), Дрожа, заслыша долгий звон: Не мертвых ли то слышен стон?2 ЮЛЭЛЕЙ
Я жил один, В стране кручин (В душе был озерный покой). Но нежная стала Юлэлей моей стыдливой женой, Златокудрая стала Юлэлей моей счастливой женой! Темней, ах, темней Звезды, ночей, Чем очи любимицы грез! И легкий туман, Луной осиян, С переливами перлов и роз, Не сравнится с небрежною прядью — скромной Юлэлей волос, Не сравнится с случайною прядью — огнеокой Юлэлей волос. Сомнений и бед С поры этой нет, Ибо вместе мы с этих пор, И ярко днем Озаряет лучом Нам Астарта небесный простор, И милая взводит Юлэлей к ней материнский свой взор, И юная взводит Юлэлей к ней свой фиалковый взор!3 ГОРОД НА МОРЕ
Смотри! Смерть там воздвигла трон, Где странный город погружен, На дымном Западе, в свой сон. Где добрый и злой, герой и злодей Давно сошли в страну теней. Дворцы, палаты, башни там (Ряд, чуждых дрожи, мшистых башен) Так чужды нашим городам! Не тронет ветер с моря — пашен; И воды, в забытьи немом, Покоятся печальным сном. Луч солнца со святых высот Там ночи долгой не прервет; Но тусклый блеск угрюмых вод Струится молча ввысь, на крыши Змеится по зубцам, и выше, По храмам, — башням, — по палатам, — По Вавилону — сродным скатам, — Тенистым, брошенным беседкам, — Изваянным цветам и веткам, — Где дивных капищ ряд и ряд, Где, фризом сплетены, висят — Глазки, — фиалки, — виноград. Вода, в унынии немом, Покоится покорным сном; С тенями слиты, башни те Как будто виснут в пустоте; А с башни, что уходит в твердь, Как Исполин, вглубь смотрит Смерть. Глубь Саркофагов, капищ вход Зияют над мерцаньем вод; Но все сокровища дворцов, Глаза алмазные богов, И пышный мертвецов убор — Волны не взманят: нем простор. И дрожь, увы! не шелохнет Стеклянную поверхность вод. Кто скажет: есть моря счастливей, Где вихри буйствуют в порыве, Что бури есть над глубиной Не столь чудовищно немой! Но что же! Воздух задрожал! Встает волна, — поднялся вал! Как будто, канув в глубину, Те башни двинули волну, Как будто крыши налету Создали в небе пустоту! Теперь на водах — отблеск алый, — Часы — бессильны и усталы, — Когда ж под грозный гул во тьму, Во глубь, во глубь, весь город канет, С бесчестных тронов ад восстанет, С приветствием ему!4 БЕСПОКОЙНАЯ ДОЛИНА
Прежде мирный дол здесь был, Где никто, никто не жил; Люди на войну ушли, Звездам вверив волю пашен, Чтоб в ночи, с лазурных башен, Тайну трав те стерегли. Где, лениво скрыт в тюльпаны, Днем спал солнца луч багряный. Видит каждый путник ныне: Нет покоя в той пустыне. Все — в движеньи, все — дрожит, Кроме воздуха, что спит Над магической пустыней. Здесь ветра нет; но в дрожи лес, Волна волне бежит в разрез, Как в море у седых Гебрид. А! ветра нет, но вдаль бежит Туч грозовых строй в тверди странной, С утра до ночи, — непрестанно, Над сонмом фиалок, что стремят Ввысь лики, словно женский взгляд, И лилий, что дрожат, сплетясь У плит могил в живую вязь, Дрожат, — и с куп их, что слеза, По каплям, вниз течет роса; Дрожат; — что слезы, вниз, меж тем, Спадают капли крупных гемм.1846
ВАЛЕНТИНА
Фантазия — для той, чей взор огнистый — тайна! (При нем нам кажется, что звезды Леды — дым). Здесь встретиться дано, как будто бы случайно, В огне моих стихов, ей с именем своим. Кто всмотрится в слова, тот обретет в них чудо: Да, талисман живой! да, дивный амулет! Хочу на сердце я его носить! Повсюду Ищите же! Стихи таят в себе ответ. О, горе, позабыть хоть слог один. Награда Тогда потеряна. А между тем дана Не тайна Гордия: рубить мечом не надо! Нет! С крайней жаждою вникайте в письмена! Страница, что теперь твой взор, горящий светом, Обходит медленно, уже таит в стихах Три слова сладостных, знакомых всем поэтам, Поэта имя то, великое в веках! И пусть обманчивы всегда все буквы (больно Сознаться), ах, пусть лгут, как Мендес Фердинанд, — Синоним истины тут звуки!.. Но довольно. Вам не понять ее, — гирлянда из гирлянд.1847
1 ЮЛАЛЮМ
Скорбь и пепел был цвет небосвода, Листья сухи и в форме секир, Листья скрючены в форме секир. Моего незабвенного года, Был октябрь, и был сумрачен мир. То был край, где спят Обера воды, То был дымно-туманный Уир, — Лес, где озера Обера воды, Ведьм любимая область — Уир. Кипарисов аллеей, как странник, Там я шел с Психеей вдвоем, Я с душою своей шел вдвоем, Мрачной думы измученный странник. Реки мыслей катились огнем, Словно лава катилась огнем, Словно серные реки, что Яник Льет у полюса в сне ледяном, Что на северном полюсе Яник Со стоном льет подо льдом. Разговор наш был — скорбь без исхода Каждый помысл — как взмахи секир, Память срезана взмахом секир: Мы не помнили месяца года (Ах, меж годами страшного года!), Мы забыли, что в сумраке мир, Что поблизости Обера воды (Хоть когда-то входили в Уир!), Что здесь озера Обера воды, Лес и область колдуний — Уир! Дали делались бледны и серы, И заря была явно близка, По кадрану созвездий — близка, Пар прозрачный вставал, полня сферы, Озаряя тропу и луга; Вне его полумесяц Ашеры Странно поднял двойные рога, Полумесяц алмазной Ашеры Четко поднял двойные рога. Я сказал: «Он нежнее Дианы. Он на скорбных эфирных путях. Веселится на скорбных путях. Он увидел в сердцах наших раны, Наши слезы на бледных щеках; Он зовет нас в блаженные страны, Сквозь созвездие Льва в небесах — К миру Леты влечет в небесах. Он восходит в блаженные страны И нас манит, с любовью в очах, Мимо логова Льва, сквозь туманы, Манит к свету с любовью в очах». Но, поднявши палец, Психея Прошептала: «Он странен вдали! Я не верю звезде, что вдали! О спешим! о бежим! о скорее! О бежим, чтоб бежать мы могли!» Говорила, дрожа и бледнея, Уронив свои крылья в пыли, В агонии рыдала, бледнея И влача свои крылья в пыли, Безнадежно влача их в пыли. Я сказал: «Это — только мечтанье! Дай идти нам в дрожащем огне, Искупаться в кристальном огне. Там, в сибиллином этом сияньи, Красота и надежда на дне! Посмотри! Свет плывет к вышине! О, уверуем в это мерцанье И ему отдадимся вполне! Да, уверуем в это мерцанье, И за ним возлетим к вышине, Через ночь — к золотой вышине!» И Психею, — шепча, — целовал я, Успокаивал дрожь ее дум, Побеждал недоверие дум, И свой путь с ней вдвоем продолжал я. Но внезапно, высок и угрюм, Саркофаг, и высок и угрюм, С эпитафией дверь — увидал я. И, невольно, смущен и угрюм, «Что за надпись над дверью?» сказал я. Мне в ответ: «Юлалюм! Юлалюм! То — могила твоей Юлалюм!» Стало сердце — скорбь без исхода, Каждый помысл — как взмахи секир, Память — грозные взмахи секир. Я вскричал: «Помню прошлого года Эту ночь, этот месяц, весь мир! Помню: я же, с тоской без исхода, Ношу страшную внес в этот мир (Ночь ночей того страшного года!). Что за демон привел нас в Уир! Так! то — мрачного Обера воды, То — всегда туманный Уир! Топь и озера Обера воды, Лес и область колдуний — Уир!»2 ЭНИГМА
«Сыскать, — так молвил Соломон Дурак, — Нам не легко в сонете пол-идеи. И чрез пустое видим мы яснее, Чем рыбин чрез неапольский колпак. Суета сует! Он не под силу дамам, И все ж, ах! рифм Петрарки тяжелей. Из филина пух легкий, ветер, взвей, — И будет он, наверно, тем же самым». Наверняка тот Соломон был прав; Смысл не велик лирических забав, — Что колпаки иль пузыри из мыла! Но за сонетом у меня есть сила, Бессмертен мой, как будто темный, стих: Я имя поместил в словах моих!3 К МАРИИ-ЛУИЗЕ (ШЮ)
Из всех, кто близость чтут твою, как утро Кому твое отсутствие — как ночь, Затменье полное на тверди вышней Святого солнца, кто, рыдая, славят Тебя за все, за жизнь и за надежду, За воскресенье веры погребенной В людей, и в истину, и в добродетель, Кто на Отчаянья проклятом ложе Лежали, умирая, и восстали, Твой нежный зов познав: «Да будет свет», Твой нежный зов заслышав, воплощенный В блеск серафический твоих очей, — Кто так тебе обязан, что подобна Их благодарность обожанью, — вспомни О самом верном, преданном всех больше, И знай, что набросал он эти строки, Он, кто дрожит, их выводя, при мысли, Что дух его был с ангельским в общеньи.1848
1 ЗВОН
I Внемлешь санок тонким звонам, Звонам серебра? Что за мир веселий предвещает их игра! Внемлем звонам, звонам, звонам В льдистом воздухе ночном, Под звездистым небосклоном, В свете тысяч искр, зажженном Кристаллическим огнем, — С ритмом верным, верным, верным, Словно строфы саг размерным, С перезвякиваньем мягким, с сонным отзывом времен, Звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон, Звон, звон, звон, Бубенцов скользящих санок многозвучный перезвон! II Свадебному внемлешь звону, Золотому звону? Что за мир восторгов он вещает небосклону! В воздухе душистом ночи Он о радостях пророчит; Нити золота литого, За волной волну, Льет он в лоно сна ночного, Так чтоб горлинки спросонок, умиленные, немели, Глядя на луну! Как из этих фейных келий Брызжет в звонкой эвфонии перепевно песнь веселий! Упоен, унесен В даль времен Этой песней мир под звон! Про восторг вещает он. Тех касаний, Колыханий, Что рождает звон, Звон, звон, звон, звон, звон, Звон, звон, звон, Ритм гармонии в перезвоне, — звон, звон, звон! III Слышишь злой набата звон, Медный звон? Что за сказку нам про ужас повествует он! Прямо в слух дрожащей ночи Что за трепет он пророчит? Слишком в страхе, чтоб сказать, Может лишь кричать, кричать. В безразмерном звоне том Все отчаянье взыванья пред безжалостным огнем, Все безумье состязанья с яростным, глухим огнем, Что стремится выше, выше, Безнадежной жаждой дышит, Слился в помысле одном, Никогда, иль ныне, ныне, Вознестись к луне прозрачной, долететь до тверди синей: Звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон, Что за повесть воет он Об отчаяньи немом! Как он воет, вопит, стонет, Как надежды все хоронит В темном воздухе ночном! Ухо знает, узнает В этом звоне, В этом стоне: То огонь встает, то ждет; Ухо слышит и следит В этом стоне, Перезвоне: То огонь грозит, то спит. Возрастаньем, замираньем все вещает гневный звон, Медный звон, Звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон, Звон, звон, звон, Полный воем, полный стоном, исступленьем полный звон. IV Похоронный слышишь звон, Звон железный? Что за мир торжеств унылых заключает он! Как в молчаньи ночи Дрожью нас обнять он хочет, Голося глухой угрозой под раскрытой звездной бездной! Каждый выброшенный звук, Словно хриплый возглас мук. Это — стон. И невольно, ах! невольно, Кто под башней колокольной Одиноко тянут дни, Звон бросая похоронный, В монотонность погруженный, Горды тем, что богомольно Камень на сердце другому навалили и они. Там не люди, и не звери, Нет мужчин и женщин, где стоит звонарь: Это — демоны поверий, Звон ведет — их царь. Он заводит звон, Вопит, вопит, вопит он Гимн-пэан колоколов, Сам восторгом упоен Под пэан колоколов. Вопит он, скакать готов, В ритме верном, верном, верном, Словно строфы саг размерном, Под пэан колоколов И под звон; Вопит, пляшет, в ритме верном, Словно строфы саг размерном, В лад сердцам колоколов, Под их стоны, под их звон, Звон, звон, звон; Вопит, пляшет, в ритме верном, Звон бросая похорон Старых саг стихом размерным; Колокол бросая в звон, В звон, звон, звон, Под рыданья, стоны, звон, Звон, звон, звон, звон, звон, Звон, звон, звон, Под стенящий, под гудящий похоронный звон.2 ЕЛЕНЕ
Тебя я видел раз, лишь раз; шли годы; Сказать не смею сколько, но не много. То был Июль и полночь; и от полной Луны, что, как твоя душа, блуждая, Искала путь прямой по небесам, — Сребристо-шелковым покровом света, Спокойствие, и зной, и сон спадали На поднятые лики тысяч роз, В саду волшебном выросших, где ветер Смел пробегать на цыпочках едва, — На поднятые лица роз спадали, Струивших, как ответ на свет любовный В безумной смерти, аромат души, — На лица роз спадали, что смеялись И умирали в том саду, заклятом Тобой и чарой близости твоей. Одетой в белом, на ковре фиалок, Тебя лежащей видел я; свет лунный Скользил на поднятые лица роз И на твое, — ах! поднятое с грустью. Была ль Судьба — та полночь, тот Июль, Была ль Судьба (что именуют Скорбью), Что повелела мне у входа медлить, Вдыхая ароматы сонных роз? Ни шага вкруг; проклятый мир — дремал, Лишь ты и я не спали (Боже! небо! Как бьется сердце, единя два слова). Лишь ты и я не спали. Я смотрел, И в миг единый все вокруг исчезло (О, не забудь, что сад был тот — волшебный!) Луны погасли перловые блестки, Скамьи из моха, спутанные тропки, Счастливые цветы, деревья в грусти, — Все, все исчезло; даже запах роз В объятьях ароматных вздохов умер. Исчезло все, — осталась ты, — нет, меньше, Чем ты: лишь дивный свет — очей твоих, Душа твоих взведенных ввысь очей. Лишь их я видел: то был — весь мой мир; Лишь их я видел; все часы лишь их, Лишь их, пока луна не закатилась. О, сколько страшных сказок сердца было Написано на тех кристальных сферах! Что за тоска! Но что за упованья! И что за море гордости безмолвной! Отважной гордости, л несравненной Глубокой силы роковой Любви! Вот, наконец, Диана, наклоняясь На запад, стерла грозовые тучи; Ты, призрак, меж деревьев, осенявших Тебя, исчезла. Лишь глаза остались, Не уходили, — не ушли вовек, Мне освещая одинокий к дому Мой путь, светили (как надежды) — вечно. Они со мной ведут меня сквозь годы, Мне служат, между тем я сам — их раб; Их дело — обещать, воспламенять Мой долг; спасаем я их ярким блеском, Их электрическим огнем очищен, Я освящен огнем их елисейским. Мне наполняя душу Красотой (Она ж — Надежда), светят в небе — звезды, Что на коленях чту в ночных томленьях; Но вижу их и в полном блеске полдня, Всегда их вижу — блещущие нежно Венеры две, что не затмит и солнце.3 МАРИИ-ЛУИЗЕ (ШЮ)
Тому недавно, тот, кто это пишет, В безумной гордости своим сознаньем, «Власть слов» поддерживая, отрицал, Чтоб мысль могла в мозгу у человека Родиться, не вмещаемая словом. И вот, на похвальбу в насмешку словно, Два слова, — два чужих двусложья нежных, По звуку итальянских, — тех, что шепчут Лишь ангелы, в росе мечтая лунной, «Что цепью перлов на Гермоне виснет», — Из самых глубей сердца извлекли Безмысленные мысли, души мыслей, Богаче, строже, дивней, чем виденья, Что Израфели, с арфой серафим (Чей «глас нежней, чем всех созданий божьих»), Извлечь бы мог! А я! Разбиты чары! Рука дрожит, и падает перо. О нежном имени, — хоть ты велела, — Писать нет сил; нет сил сказать, помыслить, Увы! нет сил и чувствовать! Не чувство — Застыть в недвижности на золотом Пороге у открытой двери снов, Смотря в экстазе в чудные покои, И содрогаться, видя, справа, слева, Везде, на протяженьи всей дороги, В дыму пурпурном, далеко, куда Лишь достигает взор, — одну тебя!1849
1 АННАБЕЛЬ ЛИ
Много лет, много лет прошло, У моря, на крае земли. Я девушку знал, я ее назову Именем Аннабель Ли, И жила она только одной мечтой — О своей и моей любви. Я ребенком был, и ребенок она, У моря, на крае земли, Но любили любовью, что больше любви, Мы, и я и Аннабель Ли! Серафимы крылатые с выси небес, Не завидовать нам не могли! Потому-то (давно, много лет назад, У моря, на крае земли) Холоден, жгуч, ветер из туч Вдруг дохнул на Аннабель Ли, И родня ее, знатная, к нам снизошла, И куда-то ее унесли, От меня унесли, положили во склеп, У моря, на крае земли. Вполовину, как мы, серафимы небес Блаженными быть не могли! О, да! потому-то (что ведали все У моря, на крае земли) Полночью злой вихрь ледяной Охватил и убил мою Аннабель Ли! Но больше была та любовь, чем у тех, Кто пережить нас могли, Кто мудростью нас превзошли, И ни ангелы неба, — никогда, никогда! — Ни демоны с края земли Разлучить не могли мою душу с душой Прекрасной Аннабель Ли! И с лучами луны нисходят сны О прекрасной Аннабель Ли, И в звездах небеса горят, как глаза Прекрасной Аннабель Ли, И всю ночь, и всю ночь, не уйду я прочь, Я все с милой, я с ней, я с женой моей Я — в могиле, у края земли, Во склепе приморской земли.2 МОЕЙ МАТЕРИ
И ангелы, спеша в просторах рая Слова любви друг другу прошептать, Признаньями огнистыми сжигая, Названья не найдут нежней, чем: «мать». Вот почему и вас так звал всегда я: Вы были больше для меня, чем мать, Вы в душу душ вошли, — с тех пор, как, тая, Виргиния взнеслась, чтоб отдыхать! Моя родная мать скончалась рано, Она — мне жизнь дала, вы дали — той, Кого любил я нежно и безгранно. Вы более мне стали дорогой Так бесконечно, как в священной дрожи, Душе — она, чем жизнь своя дороже.3 К ЭННИ
Слава небу! был кризис, — Опасность прошла. С болезнью, что грызла, Что медленно жгла, Та, что названа «Жизнью», Лихорадка прошла. Грустно я знаю, Что нет больше сил; Мне и членом не двинуть, Я лежу, я застыл; Ну, так что же! Мне лучше, Когда я застыл. Я покоюсь так мирно, В постели простерт, Что тот, кто посмотрит, Подумает: мертв, — Задрожит, меня видя, Подумав: он — мертв. Стенанья, страданья, Вздохи, рыданья — Утихли вдруг, И сердца жестокий, Ужасный, глубокий Сердца стук Болезнь и тошноты, И муки — прошли, Лихорадки исчезли, Что череп мой жгли; Те, что названы «Жизнью», Лихорадки прошли. И о! из всех пыток Что была всех сильней, Успокоилась жажда В груди моей, Ты жгучая жажда Проклятых страстей: Я глотнул; и погас он, Нефтяной ручей! Я глотнул чистой влаги, Что катилась, журча, Струилась так близко Под ногой, из ключа, — Из земли, в неглубокой Пещере ключа. И о! никогда пусть Не подскажет вам хмель, Что темно в моей келье, Что узка в ней постель. Разве люди в иную Ложатся постель? Чтобы спать, лишь в такую Должно лечь постель. Рассудок мой — Тантал — В ней исполнен грез, Забыл, не жалеет О прелести роз, О волненьях при виде Мирт и роз. Теперь, когда спит он, И покой так глубок, Святей ему дышит Анютин глазок; Аромат здесь он слышит Твой, Анютин глазок! Розмарин здесь, и рута, И Анютин глазок. Так, я счастлив в постели Дыханием грез И прелестью Энни, Омытый в купели Ароматных волос — Прекрасной Энни. Поцелуем согретый, Лаской нежим, — на грудь Преклонился я к Энни. Чтоб тихо уснуть, — Ей на грудь, словно в небо, Чтоб глубоко уснуть. Свет погашен; покрыт я, Постель тепла. Энни ангелов молит; Да хранят ото зла, Да хранит их царица Меня ото зла. И лежу я спокойно, В постели простерт, Любовь ее зная, А вы скажете: мертв! Я покоюсь так мирно, В постели простерт, Любовью согретый, А вам кажется: мертв! Вы, увидя, дрожите, Подумав: мертв! И ярче сердце, Чем на небе звезды Ночью весенней В нем светит Энни! Горит разогрето Любовию Энни, И мыслью и светом Глаз моей Энни!4 ЭЛЬДОРАДО
Он на коне, В стальной броне; В лучах и в тенях Ада, Песнь на устах, В днях и годах Искал он Эль-Дорадо. И стал он сед От долгих лет, На сердце — тени Ада. Искал года, Но нет следа Страны той — Эль-Дорадо. И он устал, В степи упал… Предстала тень из Ада, И он, без сил, Ее спросил: «О Тень, где Эль-Дорадо?» «На склоне чер — ных Лунных гор Пройди, — где тени Ада!» В ответ Она: «Во мгле без дна — Для смелых — Эль-Дорадо!»ПОСМЕРТНЫЕ
1 СОН ВО СНЕ
В лоб тебя целую я, И позволь мне, уходя, Прошептать, печаль тая: Ты была права вполне, — Дни мои прошли во сне! Упованье было сном; Все равно, во мгле иль днем, В дымном призраке иль нет, Но оно прошло, как бред. Все, что в мире зримо мне, Или мнится, — сон во сне. Стою у бурных вод, Кругом гроза растет; Хранит моя рука Горсть зернышек песка. Как мало! Как скользят Меж пальцев все назад… И я в слезах, — в слезах: О Боже! как в руках Сжать золотистый прах? Пусть будет хоть одно Зерно сохранено! Все ль то, что зримо мне Иль мнится, — сон во сне?2 ЛЕОНЕНИ
«Леонени — имя дали серафимы ей, Свет звезды лучистой взяли для ее очей, Взял мрак ночей безлунных для волос глубокорунных, И меня при песнях струнных обручили с ней. Это было ночью лета, и мои мечты Расцвели лучом привета, как цветут цветы, Расцвели, забыв ненастье и опять поверив в счастье, Чтобы глубже мог упасть я в бездну нищеты! Я расслышал тихий ропот, — так журчит вода, Серафимов дальний шепот: «Песнь одна всегда! На земле все — только тени, всех обманет ложь мгновений, С нами будет Леонени вечно молода». Снова радостью нетленной вспыхнул небосклон: День последний, незабвенный, утро похорон! Всем сердцам кругом звучала внятно музыка хорала. Леонени исчезала от меня, как сон.ПОЭМЫ
1829
1 ТАМЕРЛАН
Заката сладкая услада! Отец! я не могу признать, Чтоб власть земная — разрешать Могла от правой казни ада. Куда пойду за гордость я, Что спорить нам: слова пустые! Но, что надежда для тебя, То мне — желаний агония! Надежды? Да, я знаю их, Но их огонь — огня прекрасней, Святей, чем все о рае басни… Ты не поймешь надежд моих! Узнай, как жажда славных дел Доводит до позора. С детства (О, горе! страшное наследство!) Я славу получил в удел. Пусть пышно ею был украшен Венец на голове моей, Но было столько муки в ней, Что ад мне более не страшен. Но сердце плачет о весне, Когда цветы сияли мне; И юности рог отдаленный В моей душе невозвратим, Поет, как чара: над твоим Небытием — звон похоронный! Я не таким был прежде. Та Корона, что виски мне сжала, Мной с бою, в знак побед, взята. Одно и то же право дало Рим — Цезарю, а мне — венец: Сознанья мощного награда, Что с целым миром спорить радо И торжествует наконец! На горных кручах я возрос. Там, по ночам, туман Таглея Кропил ребенка влагой рос; Там взрывы ветра, гулы гроз, В крылатых схватках бурно рея, Гнездились в детский шелк волос. Те росы помню я! Не спал Я, грезя под напев ненастья, Вкушая адское причастье; А молний свет был в полночь ал; И тучи рвал, и их знамена, Как символ власти вековой, Теснились в высоте; но вой Военных труб, но буря стона Кричали в переменной мгле О буйных битвах на земле. И я, ребенок, — о, безумный! — Пьянея под стогласный бред, Свой бранный клич, свой клич побед, Вливал свой голос в хаос шумный. Когда мне вихри выли в слух И били в грудь дождем суровым, Я был безумен, слеп и глух; И мне казалось: лавром новым Меня венчать пришел народ. В громах лавины, в реве вод Я слышал, — рушатся державы, Теснятся пред царем рабы; Я слышал — пленников мольбы, Льстецов у трона хор лукавый. Лишь с той поры жестокой страстью Я болен стал, — упиться властью, А люди думали, она, Та страсть, тирану врождена. Но некто был, кто, не обманут Мной, знал тогда, когда я был Так юн, как полон страстных сил (Ведь с юностью и страсти вянут), Что сердце, твердое, как медь, Способно таять и слабеть. Нет речи у меня, — такой, Чтоб выразить всю прелесть милой; С ее волшебной красотой Слова померятся ли силой? Ее черты в моих мечтах — Что тень на зыблемых листах! Так замереть над книгой знанья Запретного мне раз пришлось; Глаз жадно пил строк очертанья… Но буквы, — смысл их, — все слилось В фантазиях… — без содержанья. Она была любви достойна; Моя любовь была светла; К ней зависть — ангелов могла Ожечь в их ясности спокойной. Ее душа была — что храм, Мои надежды — фимиам Невинный и по-детски чистый, Как и сама она… К чему Я, бросив этот свет лучистый, К иным огням пошел во тьму! В любовь мы верили, вдвоем, Бродя в лесах и по пустыням; Ей грудь моя была щитом; Когда же солнце в небе синем Смеялось нам, я — небеса Встречал, глядя в ее глаза. Любовь нас учит верить в чувство. Как часто, вольно, без искусства, При смехе солнца, весь в мечтах, Смеясь девической причуде, Я вдруг склонялся к нежной груди И душу изливал в слезах. И были речи бесполезны; Не упрекая, не кляня, Она сводила на меня Свой взгляд прощающий и звездный. Но в сердце, больше чем достойном Любви страстей рождался спор, Чуть Слава, кличем беспокойным, Звала меня с уступов гор. Я жил любовью. Все, что в мире Есть, — на земле, — в волнах морей, — И в воздухе, — в безгранной шири, — Все радости, — припев скорбей (Что тоже радость), — идеальность, — И суета ночной мечты, — И, суета сует, реальность (Свет, в коем больше темноты), — Все исчезало в легком дыме, Чтоб стать, мечтой озарено, Лишь лик ее, — и имя! — имя! — Две разных вещи, — но одно! Я был честолюбив. Ты знал ли, Старик, такую страсть? О, нет! Мужик, потом не воздвигал ли Я трон полмира? Мне весь свет Дивился, — я роптал в ответ! Но, как туманы пред рассветом, Так таяли мои мечты В лучах чудесной красоты, — Пусть длиться было ей (что в этом!) Миг, — час, — иль день! Сильней, чем страсть, Гнела ее двойная власть. Раз мы взошли с ней до вершины Горы, чьи кручи и стремнины Вставали из волнистой тьмы, Как башни; созерцали мы, В провалах — Низкие холмы И, словно сеть, ручьи долины. Я ей о гордости и власти Там говорил, — но так, чтоб все Одним лишь из моих пристрастий Казалось. — И в глазах ее Читал я, может быть невольный, Ответ — живой, хоть безглагольный! Румянец на ее щеках Сказал: она достойна трона! И я решил, что ей корона Цветы заменит на висках. То было — мысли обольщенье! В те годы, — вспомни, мой отец, — Лишь в молодом воображеньи Носил я призрачный венец. Но там, где люди в толпы сжаты, Лев честолюбия — в цепях, Над ним с бичом закон-вожатый; Иное — между гор, в степях. Где дикость, мрачность и громадность В нем только разжигают жадность. Взгляни на Самарканд. Ведь он — Царь всей земли. Он вознесен Над городами; как солому, Рукой он держит судьбы их; Что было славой дней былых, Он разметал подобно грому. Ему подножьем — сотни стран, Ступени к трону мировому; И кто на троне — Тамерлан! Все царства, трепетны и немы, Ждут, что их сломит великан, — Разбойник в блеске диадемы! Ты, о Любовь, ты, чей бальзам Таит целенье неземное, Спадающая в душу нам, Как дождь на луг, иссохший в зное! Ты, мимо пронося свой дар, Спаляющая как пожар! Ты, полнящая все святыни Напевами столь странных лир И дикой прелестью! — отныне Прощай: я покорил весь мир. Когда надежд орел парящий Постиг, что выше нет вершин, Он лет сдержал, и взор горящий Вперил в свое гнездо у льдин. Был свет вечерний. В час заката Печаль находит на сердца: Мы жаждем пышностью богатой Дня насладиться до конца. Душе ужасен мрак тумана, Порой столь сладостный; она Внимает песню тьмы (и странно Та песнь звучит, кому слышна!) В кошмаре так, на жизнь похожем, Бежать хотим мы и не можем. Пусть эта белая луна На все кругом льет обольщенье; Ее улыбка — холодна; (Все замерло, все без движенья); И, в этот час тоски, она — Посмертное изображенье! Что наша юность? — Солнце лета. Как горестен ее закат! Уж нет вопросов без ответа, Уж не прийти мечтам назад; Жизнь вянет, как цветок, — бескровней, Бескрасочней от зноя… Что в ней! Я в дом родной вернулся, — но Чужим, пустым он стал давно. Вошел я тихо в сени дома Дверь мшистую толкнув, поник У входа, — и во тьме возник Там голос, прежде столь знакомый! О, я клянусь тебе, старик! В аду, в огне и вечной ночи, Нет, нет отчаянья жесточе! Я вижу в грезах осиянных, — Нет! знаю, ибо смерть за мной Идя из области избранных, Где быть не может снов обманных, Раскрыла двери в мир иной, И истины лучи (незримой Тебе) мне ярки нестерпимо, — Я знаю, что Иблис в тени Поставил людям западни. Иначе как же, в рощах нежных Любви, той, чей так светел взгляд, Той, что на перья крыльев снежных Льет каждодневно аромат Людских молитв, дар душ мятежных, — В тех рощах, где лучи снуют Сквозь ветви блеском столь богатым, Что даже мошки, даже атом От глаз Любви не ускользнут, — Как мог, — скажи мне, там разлиться Яд честолюбия в крови, Столь дерзко, чтоб с насмешкой впиться В святые волосы Любви!2 АЛЬ-ААРААФ
Астрономом Тихо-де-Браге была открыта новая звезда, Аль-Аарааф, которая неожиданно появилась на небе, — в несколько дней достигла яркости, превосходившей яркость Юпитера, — и почти вдруг исчезла и вновь не появлялась никогда.
Часть I
Ничто земное, — разве луч Прекрасных глаз, что, снова жгуч В глазах цветов, где, нежно-нем, День всходит из черкесских гемм; Ничто земное, — разве пенье Ручья в лесном уединеньи, — Иль (музыка сердец влюбленных!) Восторгов зов, столь напряженных, Что, словно раковины шум, Их это длится в тайнах дум; — Не часть земных несовершенств, — Вся Красота, весь мир Блаженств, Что есть в Любви, что есть в Саду, Сполна украсили Звезду, Ах, — удаленную Звезду! Для Несэси был год счастливым; мир Ее тогда вплыл в золотой эфир И временно близ четырех солнц, пленный, Кружил, — оаз среди пустынь вселенной, — В морях лучей, чей эмпирейский свет Жег душу той, кому запретов нет, Той, кто, всходя до грани совершенства, Едва вмещала полноту блаженства. К далеким сферам путь ведя порой, Она плыла — туда, где шар земной. Но ныне, найденной страны Царица, Забыла скиптр, дала рулю кружиться, Чтоб в аромате, в свете четверном, Под гимн планет, спать серафимским сном. И в дни блаженства, на Звезде Мечты, (Где родилась «идея Красоты», Чтоб, вдаль упав, меж звезд, в лучах наитий, Как женских локонов и перлов нити, — С холмов Ахейских просиять), — она Взглянула в небо, ниц преклонена. Сонм облаков рдел вкруг, как балдахины, В согласьи с дивной пышностью картины, Являл свой блеск, но не мешал являть Другим вещам их блеск, их благодать; Гирляндами он ниспадал на скалы, Влив радуги в воздушные опалы. Итак, мечты Царицу ниц склонили К цветам. Вокруг — вздымались чаши лилий, Тех, что белели у Левкадских скал, [170] Чей длинный стебель дерзко оплетал Шаги беглянки [171] (смертного любившей, Любовью гордой жизнь свою сгубившей); — Сефалики, под роем пчел клонясь, Плели из стеблей пурпурную вязь; — Цветы, что прежде, в виде гемм чудесных, Цвели на высших из планет небесных, Все затмевая прелестью своей, Чей мед сладчайший, — нектар древних дней, — Пьянил до бреда [172] (с высоты вселенной За то их свергли в мир несовершенный, Где мы зовем их «требизондский цвет»; На них поныне блеск иных планет; Они у нас, пчел муча неустанно Своим безумием и негой странной, О небе грезят; никнут от тоски Меж сказочной листвы их лепестки; В раскаяньи и в скорби безутешной Они клянут безумства жизни грешной, Бальзам вдыхая в белые уста; Так падшей красоты — светла мечта!); — Никанты, [173] дня святей, что, не желая Благоухать, жгут ночь благоухая; — Те клитии, [174] что плачут, смущены, Солнц четырех свет видя с вышины; — Те, что родятся на Земле с невольной Тоской о небе; сердцем богомольно Льют аромат, чтоб, чуть открыв глаза, Сад короля сменить на небеса [175] Те валиснерий лотосы, [176] высот Жильцы по воле бурных Ронских вод; — Твоих благоуханий пурпур, Занте, [177] Isola d'oro, fior di Levante; — Цветок Нелумбо, [178] чей лелеет сон В святой реке Индусский Купидон; Цветок волшебный, дымкой фимиама Взносящий в небо гимны храма. [179] ГИМН НЕСЭСИ «Дух! ты, кто в высоте, Там, где в эфире ясном Равно по красоте Ужасное с прекрасным! Где твердь завершена, Где грань орбитам звездным, Откуда плыть должна Звезда назад по безднам! Где твой предел святой, Незримый лишь кометам, Наказанным судьбой За грех пред вечным светом, Несущим пламя в даль, Луч алый преступленья И вечную печаль, — Вовек без промедленья! Мы знаем: ты — во всем! Ты — в вечности: мы верим! Но на челе твоем И тень — мы чем измерим? Друзья весны моей Хранили убежденье, Что вечности твоей Мы, в малом, отраженье [180] Но, все, как ты решил; Звезда моя далеко, И путь ей меж светил Твое казало око. Здесь мне мечтой взнестись К тебе, что — путь единый: В твою святую высь Или в твои глубины. Твой рок мне возвещен Фантазией священной, [181] Пока не станет он Открыт для всей вселенной!» Царица смолкла, скрыв лицо глубоко Меж стеблей лилий, пламенного ока Не в силах снесть (в эфире мировом Звезда, дрожа, была пред божеством); Не шевелилась, даже не дышала, — И некий Голос, высший, слышно стало, — Грохот молчанья, без границ, без мер, Что мы признали б музыкою сфер. Наш мир — мир слов, и мы зовем «молчаньем» — Спокойствие, гордясь простым названьем. Все звуки издает в краю людей (Есть даже голос у земных идей). Не то в иных возвышенных мирах, Где голос рока повергает в прах, Под алый ветер, бьющий в небесах. ГОЛОС «Пусть есть миры, орбиты чьи незримы [182] Что лишь единым солнцем предводимы, Те, где безумие — моя любовь, Где гнев мой внятен только через кровь, Чрез гром, землетрясенья, бури в море (Путь гнева моего встречать им — горе); Пусть есть миры, где солнце лишь одно, Где время помрачать века должно! — Но на тебе горят мои сиянья: Неси мирам мои предначертанья; Покинь покой кристального жилья! Сквозь небо ты и вся твоя семья, Как луциолы полночью в Мессине, [183] К далеким звездам путь вершите ныне! Святые тайны разглашать в мирах, Грядущих гордо! Стань и грань и страх В сердцах, где преступленья, — чтоб созвездья Не дрогнули в предчувствии возмездья!» Царица встала. Небосвод ночной, Шафранный, ярок был одной луной (Как на Земле, где, в песнях паладина, Единая любовь с луной единой). И как луна встает из облаков, Царица шла от алтаря цветов К дворцу, на высь, где день мерцал, слабея, — Еще не покидая Терасеи. [184]Часть II
Была гора с вершиной из эмали (Пастух такие в лиловатой дали, Проснувшись ночью на ковре из трав, Туманно видит, веки чуть разжав, Когда он шепчет: «будь мне легок жребий!» А белая луна — квадрантом в небе). Была гора, чью розовую высь, — Как стрелы башен, что в эфир взнеслись, — Зашедших солнц еще слепили очи, Тогда как в странном блеске, в полдень ночи, Луна плясала; — а на выси там Многоколонный возвышался храм, Сверкая мрамором, чье повторенье На зыби водной, в прихоти движенья, Вторично жило жизнью отраженья. Из звезд падучих [185] сделан был помост, — Тех сквозь ночной эбен летящих звезд, Чья серебром рассыпанная стая Жильям небес поет хвалу, блистая. На световых цепях был утвержден Храм: диадема над кольцом колонн. Окно, — алмаз огромный, — было вскрыто На куполе, пред пурпуром зенита. Лет метеоров, режа высоту, Благословлял всю эту красоту, Когда не застил блесков Эмпирея Тревожный дух, на скорбных крыльях рея. Взор серафический в алмаз окна Мог различать, как сны морского дна, Наш мир, одетый в плащ серо-зеленый; Над гробом мертвой красоты — колонны; — И ангелов изваянных, что взгляд Из мраморных гробов в эфир стремят; — И в темных нишах строй ахейских статуй, Детей мечты, когда-то столь богатой; — Тадмора фриз; — в Персеполе [186] ряды Дворцов и башен; — Бальбека сады; — Гоморры [187] пышный блеск (о! волны грозно Идут на вас, но вам спасаться поздно!). Звук веселиться любит ночью летней: Так в Эйрако, [188] — в час сумерек приметней, — Священный ропот волнами входил В слух мудрецов, следивших бег светил, И так же входит в слух того, кто ныне, Задумчив, смотрит в дальний мрак пустыни, И звуки тьмы, сходящей с вышины, Так осязательны и так плотны! [189] Но что это? — вот близится, — и это — Мелодия, — вот крыльев трепет где-то, — Вот пауза, — звук вновь, — аккорд в конце. И Несэси опять в своем дворце. От быстрого полета, нежно-алой Покрылись краской щеки, грудь вздыхала Прерывисто, и лента, что вилась Вкруг стана нежного, — оборвалась. Она ждала, переводя дыханье, Окликнув: Занте! — Дивное мерцанье, Ей золото волос поцеловав, Уснуть не в силах, искрилось, как сплав. Шептались гармонически растенья, Цветок с цветком и с веткой ветка, пенье Ручьев пленяло музыкой ночной, При звездах — в рощах, в долах — под луной. Все ж от вещей молчанье шло незримо, — От волн, и трав, и крыльев серафима; Лишь музыка, что мыслью создана, В лад нежных слов звучала, как струна. ПЕСНЯ НЕСЭСИ Под жасмином, под маком, Под ветвями, что сны Охраняющим мраком Берегут от луны, — Лучезарные сестры! Вы, кто взоры смежив, Чарой пламенно-острой, Звездам шлете призыв, — Чтобы им опуститься К вашим ликам на час, Словно взором Царицы, Призывающей вас, — Пробуждайтесь, хранимы Ароматом цветов: Некий подвиг должны мы Совершить в царстве снов! Отряхните, ликуя, С черноты ваших кос Каждый след поцелуя В каплях утренних рос! (Ибо ангел не в силах Без любви жить и час, И заря усыпила Поцелуями вас!) Встаньте! С крыльев стряхните Рос чуть видимый гнет: Их прозрачные нити Ваш замедлят полет. След любовной истомы Свейте, свейте в конец! В косах — блеск невесомый, Он для сердца — свинец! * * * Где Лигейя? — Далеко ль, Кто прекрасней всех дев, Чей и помысл жестокий Переходит в напев? Или ты пожелала Задремать в куще роз? Или грезишь устало, Как морской альбатрос, [190] На полночном молчаньи, Как на воздухе он, Внемля в страстном мечтаньи Мелопее времен? * * * Знаю! где бы Лигейю Ни сковала мечта, Та же музыка с нею Неразрывно слита. Ты, Лигейя, смежаешь Много взоров мечтой, Но, уснув, ты внимаешь Песням, сродным с тобой, — Что цветам, беспрерывней, Дождь лепечет в саду, Чтоб затем, в ритме ливней, Поплясать их в бреду, — Тем, что ропщут [191] при всходе Чуть прозябшей травы, — Звукам, вечным в природе, Повторенным, увы! О, далеко, далеко Унеси свои сны, Где источник глубокий Спит под лаской луны, — Где над озером сонным В звездах вся синева, И посевом зеленым К ним глядят острова, — Где, в извилинах лилий, Дикий берег не смят, И где в неге бессилий Девы юные спят, — Те, что пчел разумея, Вместе с ними — во сне, [192] — Пробудись, о Лигейя, Там, в блаженной стране! Девам спящим — в виденьи Музыкально шепни! (Чтоб услышать то пенье, И уснули они). Ибо ангелов что же Пробуждает от сна, В час, когда так похожа На виденье луна, Как не чара, чудесней Чар, сводящих луну: Ритм пленительной песни, Низводящей ко сну! Взлетели ангелы с цветов полей, Сонм серафимов взнесся в эмпирей, И сны, на крыльях тяжких, бились где-то (Всем — серафимы, кроме Знанья, света Могучего, взрезающего твердь, Твоей преломленного гранью, Смерть!) Всем заблужденье было сладко, слаще — Смерть. — На земле познаний вихрь свистящий Мрачит нам зеркала счастливых дум: Им этот вихрь был смертным, как самум. Зачем им знать, что свет померк во взоре. Что Истина есть Ложь, а Счастье — Горе? Была сладка их смерть, — последний час Был жизни завершительный экстаз, За коим нет бессмертия, нет жизни, Но — сон сознательный, сон в той отчизне Грез, что — вне рая (— вещая страна! — ), Но и от ада как удалена! [193]Часть III
Но кто, преступный дух, во мгле какой, Гимну не вняв, презрел призыв святой? Их было двое, — (в небе нет прощенья Тем, кто не понял тайного влеченья!) — Дух-дева, с ней — влюбленный серафим. Где ж ты была (путь помыслов незрим), Любовь ослепшая? ты, долг священный? [194] Им — пасть, меж слез печали совершенной. То был могучий дух, который пал, Блуждатель вдоль ручьев у мшистых скал, Огней, горящих с выси, созерцатель, При свете лунном, близ любви, мечтатель. (Там каждая звезда — взор с высоты, И кротко нежит кудри красоты; Там все ручьи у мшистых скал — священны Для памяти, в любви и в грусти пленной.) Ночь обрела, — ночь горя для него! — Над пропастью утеса — Энджело; Он, озирая глубь небесной шири, Глядел с презреньем на миры в эфире. С возлюбленной вот сел он на скале; Орлиным взором стал искать во мгле, Нашел, — и, снова обратясь к любимой, Ей указал на блеск земли чуть зримой. РАССКАЗ ЭНДЖЕЛО «Ианте! милая! следи тот луч! (Как сладостно, что взор наш так могуч!) Он был не тот, когда я в день осенний Покинул Землю, — ах! без сожалений! Тот день, — тот день, — припомнить должен я, Закат над Лемном [195] час, лучи струя — На арабески залы золотой, Где я стоял, на ткани с их игрой И на мои ресницы. — (Свет заката! Как веки им пред ночью сладко сжаты!) Цветы, туман, любовь, — мне мир был дан, И твой, персидский Сади, Гюлистан! Но этот свет! — Я задремал. — И телом На дивном острове смерть овладела Так нежно, что не дрогнул шелк волос, Не изменилось тени в зыби грез. Последней точкой на земле зеленой Был для меня храм гордый Парфенона, [196] — Тот, в чьих колоннах больше красоты, Чем жгучей грудью выдаешь и ты. Лишь время мне полет освободило, Я ринулся, — орел ширококрылый, — В единый миг сливая все, что было. Меня опоры воздуха несли; Внизу ж открылся уголок Земли: Я различал, как в движимой картине, Ряд городов разрушенных, в пустыне… Все было так прекрасно, что желать Почти я мог — вновь человеком стать!» ИАНТЕ «Мой Энджело! Тебе ль — удел земного! Ты здесь обрел цель счастья мирового: Даль зеленей, чем на земле туманной, И чару женщины в любви безгранной!» ЭНДЖЕЛО «Но слушай, Ианте: я чуть мог вздохнуть, А дух мой в небе продолжал свой путь. Казалось мне: тот мир, что мной покинут, (То был ли бред!) — в кипящий хаос ринут, Сорвался с места, вихрями влеком, Огнем понесся в небе огневом. Казалось мне: мой лёт остановился; Я падал — медленней, чем я взносился; И в трепетном паденьи, сквозь ряды Лучей горящих, к золоту звезды Мой путь был краток: ближе всех светила Твоя звезда. — Но, — страшное светило! — В ночь радостей, зачем, угроз полно, Дэдалий алый, поднялось оно?» ИАНТЕ «Так! то — Земля! — Противиться царице Не смели мы. Нам, Энджело, — смириться! Как луциолы, там и здесь, везде, Мы реяли по золотой звезде, Одним блаженны, что царица нас Благословит одним сияньем глаз. Но Время, сказкой крыльев шевеля, Не крыло сказки дивней, чем Земля! Все поняла я. Диск Земли был мал; Его лишь ангел в небе различал, Когда впервые убедились мы, Что нам к нему — путь в океане тьмы; Но вот Земля блистает с высоты Пророчеством грядущей Красоты! А мы с тобой от тайны отреклись… Скала дрожит. Час близится. Склонись!» Ианте смолкла. Становилась тень Бледней, бледней, — но не рождался день. И двое пали. — В небе нет прощенья Тем, кто не понял тайного влеченья.КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I ОБЪЯСНЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА
Перевод сделан по тексту так наз. «Нового Тамерлановского издания»:
The Tales and Poems of Edgar AllanРое. In ten volumes. New York. The Brampton Society publishers. New Tamerlan Edition.
Помимо того, переводчик пользовался еще следующими изданиями:
Poems and Essays by Edgar AllanРое. Edited by John H. Ingram. Leipzig, 1884. Tauchnitz edition.
The Poems of Edgar AllanРое. With an essay by Andrew Lang. Portland. Maine. 1906. Thomas B. Mosher.
The Poetical Works of Edgar AllanРоеof America. With a notice by James Hannay esq. London, 1856. Addey and Co.
В указанных четырех изданиях встречаются разногласия в тексте. В основу переводчик клал текст Нового Тамерлановского изд., которое к тому же значительно полнее трех других, но в некоторых случаях принимал чтения, предложенные таким знатоком Эдгара По, как Ингрэм, а в одном случае остановился на поправке А. Ланга. Изд. 1856 года служило образцом, так сказать, традиционного текста и традиционного понимания стихов Эдг. По.
Из переводов широко пользовался переводчик французскими, особенно следующими:
EdgarРое. Poesies completes, traduites par Gabriel Mourey. Paris, 1909. Mercure de France.
Les Poemes d'Edgar Рое. Traduction en prose de Stephane Mallarme. Paris, 1889. Leon Vanier ed.
Edgar Рое. Sa vie et son oeuvre par Emile Lauvriere. Paris, 1904, Felix Alcan ed.
Перевод Г. Мурея — очень близок к подлинному, передает текст слово за словом, подстрочно, но помогая нередко разобраться в запутанных конструкциях оригинала. Перевод Ст. Маллармэ, напротив, — довольно свободен, но удачно воссоздает художественность оригинала, почему способствовал иногда найти соответственные выражения по-русски. Переводы, включенные в критическую биографию, написанную Э. Ловриером, занимают среднее положение: не столь художественные, как у Маллармэ, они свободны от буквальности Мурея. Кроме того, книга Ловриера вообще дала очень много для понимания текста Эдгара По, так как в ней собран огромный фактический материал. Переводчик пользовался еще переводами двух стихотворений («Ворон» и «К моей матери»), сделанными Ш. Бодлэром.
Другими французскими переводами (которых довольно много) переводчик не пользовался. Из немецких переводов имел в своем распоряжении только перевод Гедвиги Лахман (Берлин, 1891); из итальянских — А. Ортенси (Ланчиано, 1892).
Русские переводы стихов Э. По довольно многочисленны, но, к сожалению, большинство настолько неудачно, что они не могли принести никакой пользы переводчику.
Наибольшей известностью пользуются переводы К. Бальмонта (наиболее полное их собрание в I томе «Собраний сочинений Э. По в переводе К. Д. Бальмонта», изд. 3-е, М., 1911, где дан перевод 28 стихотворений). Наиболее удовлетворительны из них те, где перевод сделан белыми стихами (без рифм). В переводах с рифмами К. Бальмонт лишь очень приблизительно передает смысл английских стихов, пропуская огромное количество отдельных мыслей, образов, тем более нюансов подлинника. Форма передана не менее неудовлетворительно: утрачена вся звуковая игра стиха, особенности стихосложения, характерный поэтический синтаксис Э. По и т. под.; местами не сохранен даже размер. Достаточно привести два-три примера. К. Бальмонт пишет:
И дни мои — томленье, И ночью все мечты Из тьмы уединенья Спешат туда, — где ты, Воздушное виденье Нездешней красоты!Это передача следующих английских стихов:
And all my days are trances, And all my nightly dreams Are where thy dark eye glances, And where thy footstep gleams — In what ethereal dances, By what eternal streams!К. Бальмонт начинает одну поэму:
Во тьме безутешной — блистающий праздник, Огнями волшебный театр озарен. Сидят серафимы в покровах и плачут, И каждый печалью глубокой смущен.Эдгар По начинает ту же поэму;
Lo! 'tis a gala night Within the lonesome latter years! An angel throng, bewinged, bedight In veils, and drowned in tears. Sit in a theatre, to see… etc.К. Бальмонт пишет:
Ты в (?) мыслях, и, млея (?), Рождается звон (?).Это значит:
Whose harshest idea Will to melody run.Или у К. Бальмонта:
И, лепет рождая (?), Взрастает трава, И музыка, тая (?),— Жизнь мира жива.Это:
The murmur that springs From the growing of grass Are the music of things — But are modell'd, alas!К. Бальмонт переводит отдельные слова, а смысл, к которому относятся эти отдельные слова, часто становится понятен только по справке с подлинником.
Весьма неудовлетворительны также переводы Вас. Федорова («Эдгар По. Поэмы и стихотворения», М., 1923, где дан перевод 12 стихотворений). Не говоря о том, что многое передано прямо неверно, в этих переводах безнадежно искажен самый тон поэзии Э. По: пропали все оттенки мыслей, изящно изысканный стих заменен тяжелым и порой трудно произносимым, вместо оригинальных рифм даны самые шаблонные и т. п. Для желающих предлагается сравнить с подлинником центральные создания Э. По «Ворон» и «Юлалюм» или его изящную шутку «Энигма», которая в передаче Вас. Федорова обратилась в малопонятный набор слов.
Наибольшее число русских переводов стихов Э. По падает на поэму «Ворон»: С. Андреевского, Д. Мережковского, К. Бальмонта, Altalena (В. Жаботинского), Вас. Федорова, не считая трех (напечатанных) редакций моего. Очень слабы переводы С. Андреевского и Вас. Федорова, лучший, кажется, Altalena. В моем переводе (последняя редакция) сделана попытка точно передать выражения «nothing more» и «nevermore», но, конечно, вряд ли ворон может выкрикивать слоги: «Больше никогда».
Очень большое число стихотворений Эдгара По впервые появляется в русском переводе в данном издании. Особенно относится это к так наз. «первоначальным редакциям» поэм, которые у Эдгара По часто являются совершенно самостоятельными произведениями. Впервые в данном издании стихи Эдгара По расположены в хронологическом порядке, чего не делают даже английские издания. Это расположение потребовало отдельного расследования, так же как библиографические данные, собранные в примечаниях.
Из критических работ об Эдгаре По я пользовался: — авторитетнейшим Дж. Ингрэма (Е. А. Рое, his life and opinions, London, 1891), упомянутой выше книгой Э. Ловриера (Е. А. Рое, sa vie et son oeuvre, Paris, 1904), очерком жизни Э. По, составленным К. Бальмонтом (Соч., т. VI), где использована, непосредственно оставшаяся мне неизвестной, книга А. Гаррисона (Life and letters of E. A. Рое, New-York, 1902–1903, 2 vol.), известными статьями Ш. Бодлэра, а в отделе библиографии также книжкой: Karl Hans Strobl, Worte Poes, mit einer Bibliographie von Moritz Grolig. Minden i. Westf. (1907).
2 СБОРНИКИ СТИХОВ ЭДГАРА ПО, изданные при его жизни
При жизни Эдгара По было издано четыре сборника стихов, которые далее означаются как изд. 1827 года, изд. 1829 года, изд. 1831 года и изд. 1845 года:
1. Tamerlane and other poems. By a Bostonian. Boston, 1827. Calvin F. S. Thomas. 12°. 40 стр. (Изд. 1827 года).
2. Al Aaraaf, Tamerlan and minor poems. Baltimore, 1829. Hatch and Dunning. 8°. 72 стр. (Изд. 1829 года).
3. Poems. Second edition. New-York, 1831. Elam Bliss. 12°. 124 стр. (Изд. 1831 года).
4. The Raven and other Poems. New-York, 1845. Wiley and Putnam. 12°. 92 стр. (Изд. 1845 г. Этот последний сборник, при жизни Эдг. По, был переиздан еще три раза: в том же издательстве в том же, 1845, году и в следующем, 1846, году, в Лондоне — в 1846 году).
В промежутках между выходом названных изданий стихи Эдг. По печатались в разных американских журналах, так же, как после 1845 года, вплоть до смерти автора. Некоторые впервые были напечатаны после его смерти.
I. СБОРНИК 1827 г.
Первый сборник (изд. 1827), вышедший анонимно («Тамерлан и другие поэмы одного Бостонца»), всего в 40 страниц разгонистой печати, содержит юношеские произведения Эдг. По. В предисловии автор заявляет, что многие из них написаны в 1822 и даже 1821 году, когда автор был 12—13-летним мальчиком. При склонности Эдг. По к мистификациям можно не придавать полной веры этому показанию; к тому же Эдг. По постоянно, год за годом, переделывал и исправлял свои стихи. Все же, и в год выхода сборника, автору было едва 18 лет. Книжка была напечатана за счет самого Эдг. По, но в обращение не поступила. Позднее Эдг. По объяснял это «семейными обстоятельствами», — насколько верно, неизвестно.
Центральное место в сборнике 1827 года занимает поэма «Тамерлан», написанная под сильнейшим влиянием Байрона. Героем избран восточный завоеватель, тип человека с титаническими страстями и разочарованного. Тамерлан рассказывает некоему монаху свою жизнь, свою сверхчеловеческую любовь, свои подвиги, свое разочарование в жизни. Форма (4-стопный ямб) — та же, что в поэмах Байрона. В поэме много технических недостатков; стиль очень неровен. Позже Эдг. По дважды переделывал поэму, многое из нее выкинул, вставлял в нее части из других своих стихотворений, исправил наиболее бросающиеся в глаза недостатки. В последней редакции «Тамерлана» гораздо больше мастерства, нежели в ранней, но зато, в силу огромных сокращений, сюжет стал почти непонятен. — «Тамерлан» представляет интерес только для изучения эволюции Эдг. По, как поэта: сходных байронических поэм писалось в 20-х годах XIX века очень много.
Из других, очень немногих, стихотворений, входивших в сборник 1827 года, мы взяли для перевода те, в которых сказывается раннее мастерство стихотворца («Озеро», «Вечерняя Звезда»), те, которые любопытны в биографическом отношении («Сон», «Гимн Гармодию и Аристогетону»), и, наконец, те, где уже проступает будущее своеобразие Эдгара По («Имитация», «Духи смерти»). Два стихотворения («Счастливейший день» и «Песня»), — несомненно, слабые и юношески-несовершенные, но также интересны с биографической точки зрения. Надо заметить, что этим почти исчерпывается все содержание сборника 1827 года.
II. СБОРНИК 1829 г.
Второй сборник (изд. 1829), изданный в Балтиморе, лишь немногим превышающий размеры первого, так как состоит из 72 страниц, появился в свет после тех двух лет, которые Эдг. По провел частью на военной службе, частью в самых тяжелых условиях жизни. У автора было мало досуга, чтобы серьезно переработать свои юношеские создания. Тем не менее «Тамерлан», в изд. 1829 года, появился совершенно в новом виде, сильно сокращенный, почти уже приняв форму окончательной своей редакции. Рядом поставлена другая поэма, перевод которой дан в нашем изд., «Аль-Аарааф», имеющая все недостатки «неопытной руки, еще не знающей края» (выражение А. А. Фета), но по многим частностям весьма замечательная, а главное — проявляющая исключительную силу фантазии в авторе, который делает — для этой эпохи крайне оригинальную — попытку: слить искусство с наукой, основать поэтические создания на данных точного знания (в частности — астрономии, всю жизнь особенно увлекавшей Эдгара По).
Из стихотворений, входивших в изд. 1827 года, в сборнике 1829 года совершенно исключено пять. Новых стихотворений прибавлено девять. Из этих последних одно, в изд. 1829 года озаглавленное «Введение», было потом переработано для изд. 1831 г. (преимущественно — сокращено), где помещено под заглавием «Романс», другое, в изд. 1829 года, озаглавленное «Имитация» (в нашем изд. — «Прежняя жизнь предо мной»), было позднее частично использовано для других поэм; из семи остающихся тут — малозначительные «альбомные» стихотворения (какие Эдг. По продолжал писать всю свою жизнь, достигнув потом большого изящества в этом жанре), а четыре, в разных отношениях, — заслуживают большего внимания. Для эволюции идей Эдг. По очень важны «Мечты» и «Мне в юности…»; прекрасно сделан умный «Сонет к науке», который часто перепечатывался в разных антологиях; уже совершенно своеобразна поэма «Страна фей», которую можно предпочесть позднейшим обработкам той же темы. Добавим, что то же должно сказать о стихотворении «Прежняя жизнь…», которое прямо испорчено во второй редакции, и о «Введении», которое потеряло всю трагическую завлекательность своей интимной искренности в позднейшем, объективно-сдержанном, «Романсе».
III. СБОРНИК 1831 г.
Летом 1830 года Эдг. По поступил в военное училище, но в марте 1831 года уже покинул его. Тотчас после того был издан сборник стихов юного поэта, помеченный как «второе издание» (под первым разумелся сборник 1829 года, как бы только повторявший изд. 1827 года). Эпиграфом к книге выбраны слова Рошфуко: «Все в мире — правы». Книга посвящена «Кадетскому Корпусу С. Ш.». Длинное предисловие, в форме письма к мистеру Б***, излагает взгляды автора на поэзию и на современных поэтов.
Как «второе издание», книга заключает мало нового: в общей сложности, на 124 стр. только 11 произведений. В том числе две крупные поэмы: «Тамерлан», в своей третьей, окончательной редакции, причем в поэму включены стихи из некоторых ранних стихотворений, например, «Озеро», и «Аль-Аарааф», во 2-й редакции, не очень значительно отличающейся от 1-й. Из прежних стихотворений повторено только «Введение» из изд. 1829 года, сильно сокращенное и озаглавленное «Романс». Остальные семь стихотворений, напечатанные впервые, это: «К Елене», «Израфели», «Осужденный город», «Страна фей», «Айрина», «Пэан», «Долина Ниса». Большинство из них было позднее вновь переработано и напечатано вновь под новыми заглавиями.
IV. СБОРНИК 1845 г.
Большой успех «Ворона» в начале 1845 года дал возможность Эдгару По собрать свои новые поэмы в отдельном издании. То был томик, тоже небольшой, в 92 страницы, куда вошли далеко не все поэмы, написанные Эдгаром По даже в позднейшие годы. Сборник посвящен: «Благороднейшей представительнице своего пола, автору Драмы Изгнания, мисс Элисабет Баррет Баррет из Англии, с восторженным поклонением и самым искренним уважением». Далее следует небольшое предисловие, где Эдгар По, между прочим, говорит: «В силу обстоятельств, не зависевших от моей воли, я, ни в один из периодов моей жизни, не имел возможности вполне серьезно заняться тем, что в более благоприятных условиях стало бы избранным полем моей деятельности» (т. е. областью поэзии, стихов).
3 ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ СТИХОТВОРЕНИЯМ
1821–1827
Озеро. — Вечерняя Звезда. — Сон. Эти три стихотворения впервые напечатаны в изд. 1827 года и позднейшим переделкам не подвергались.
Гимн Гармодию и Аристогетону. Тоже. Стихотворение имеет в подлиннике подзаголовок «Перевод с греческого». В действительности, это — совершенно свободная обработка античной темы, и только первый образ (в первом стихе) заимствован из одного древнегреческого текста, коего сохранились всего 4 строки. Напомним, что Эдг. По хорошо был знаком с классическими языками; любил цитировать античных писателей, и их влияние сказывается на его творчестве.
Имитация. Заглавие в подлиннике — «Imitation»» т. е., буквально, «Подражание». Несомненно, однако, что Эдг. По не «подражает» в этих стихах никакому литературному образцу. Позднее, несколько строк этого стихотворения использовано автором для поэмы «Прежняя жизнь предо мной», включенной в изд. 1829 года.
Духи смерти. Стихи, проявляющие уже все своеобразие поэзии Эдг. По, были потом, без изменений, повторены в изд. 1829 года.
Песня. Я помню: ты… Стихи, не перепечатанные в изд. 1829 года. В композиции стихотворения, в намеке «могла ты…» и т. под. уже есть характерные черты поэзии Эдг. По. До некоторой степени «Песня» является прототипом будущей «Свадебной баллады» 1837 года.
Счастливейший день. Стихи, не перепечатанные в изд. 1829 г. Стихотворение, несомненно, — слабое, но заслуживающее внимания в биографическом отношении: в нем отразился горький жизненный опыт 18-летнего юноши. По техническим особенностям подлинника, перевод на русский язык не может быть точным. Перевод, помещенный в тексте, сделан другим размером, нежели стих подлинника.
1828–1829
Введение. Впервые появилось в изд. 1829 года под заглавием «Introduction», на первом месте. Перепечатано в изд. 1831 года под заглавием «Romance» («Романс»), со значительным сокращением, как и перепечатывается в новых изданиях. Эта завершительная редакция состоит всего их двух строф:
РОМАНС
Романс ты любишь петь, качаясь, Глаза закрыв, крылья смежив, В зеленых ветках старых ив, Что спят, над озером склоняясь. Мне был знаком тот мирный край, Где жил ты, пестрый попугай! Ты азбуке учил ребенка, Твой голос повторял я звонко, Блуждая в чаще без конца, Дитя с глазами мудреца. Но ныне вечный Кондор лет Все небо потрясает властно Шумящей бурей гроз и бед; Под твердью мрачной и ненастной Во мне беспечных звуков нет. А если сронит в день спокойный Он в сердце мне прозрачный пух, Я нежно петь не смею вслух, В моих руках нет лиры стройной; Я знаю, что душа должна Созвучной быть с тобой, струна!Сонет к науке. Впервые появился в изд. 1829 года и перепечатан в изд. 1831 года без изменений.
Прежняя жизнь предо мной. Напечатано в изд. 1829 года под заглавием «Имитация K***» (Imitation, т. е. Подражание). Часть стихотворения повторяет, с некоторыми видоизменениями, стихи из поэмы, озаглавленной «Имитация» в изд. 1827 года (стихи 9-16). Другая часть (ст. 17–22) была позднее включена в стихотворение «Сон во сне», напечатанное в 1849 году.
Мечты. Впервые появилось в изд. 1829 года.
Мне в юности… Впервые напечатано в изд. 1829 года. Подлинник написан правильными рифмованными октавами. Мы предпочли перевод белым стихом, чтобы сохранить все уклоны мысли, так как стихотворение важнее по содержанию, чем своей формой. Науки дней былых (ср. «Ворон») — астрология; спавший сном косным вдруг дрожит — лунатик. Вопрос о влиянии луны на нервную систему человека до сих пор не вполне разрешен наукой.
Страна фей. Впервые появилось в изд. 1829 года; в совершенно переработанном виде вошло в изд. 1831 года, см. дальше.
Альбомные стихи. Впервые напечатаны в изд. 1829 года.
1830–1831
К Елене. Впервые напечатано в изд. 1831 года. Стихотворение вспоминает Елену Стандарт, которую Эдгар По знал, будучи учеником Академии в Ричмонде. Это была одна из немногих женщин, обративших внимание на сироту Эдгара и приласкавших его. Елена Стандарт вскоре умерла (в припадке психического расстройства); Эдгар По, ряд месяцев, ежедневно приходил на ее могилу. Позднейшие стихи Э. По «К Елене» обращены к поэтессе Елене Уитман. В переводе стихи 7-й и 8-й переданы четырьмя стихами, почему 2-я строфа в переводе имеет 7 стихов вместо 5.
Долина Ниса. Впервые появилось в изд. 1831 года, в переработанном виде вошло в изд. 1845 года под заглавием «Беспокойная Долина», см. дальше.
Страна фей. См. [стихи] 1828–1829 года под тем же названием.
Осужденный город. Впервые появилось в изд. 1831 года; в несколько сокращенном и измененном виде вошло в изд. 1845 года, см. дальше.
Айрина. Впервые появилось в изд. 1831 года и перепечатано в «Literary Messenger», май 1836 года; в переработанном виде, под заглавием «Спящая», появилось в «Broadway Journal», май 1845 года, и вошло в изд. 1845 года; см. дальше. В переводе, чтобы полнее передать подлинник, добавлено 2 стиха, 5-й и 6-й с конца, которые, впрочем, могут быть и опущены без нарушения связи мыслей и строения формы.
Пэан. Впервые появилось в изд. 1831 года; в переработанном виде, под заглавием «Линор», помещено в «Pionner» 1842 года; см. дальше.
1833
Колисей. Впервые напечатано в «Saturday Visitor» 1832 года в Балтиморе; перепечатано в «Southern Literary Messenger» 1835 года с пометкой «премированная поэма». Поэме действительно была присуждена 1-я премия на конкурсе, который был организован журналом, но Эдг. По не получил премии, так как ему же, на том же конкурсе, была присуждена 1-я премия за рассказ («Манускрипт, найденный в бутылке»). Может быть, «Колисей» — отрывок из драмы «Полициано», оставшейся незаконченной.
1835
Одной в раю. Впервые появилось в тексте рассказа «Визионер» (позднее переименованного в «Свидание») в 1835 году; в переработанном виде появилось в «Gentleman's Magazine», в июле 1839 года, под заглавием «К Ианте на небесах»; под нынешним заглавием вошло в изд. 1845 года. В переводе дана ранняя редакция поэмы; в позднейшей опущена последняя строфа.
Гимн. Впервые появилось, в составе рассказа «Морелла» в «Southern Literary Messenger», в апреле 1835 года; в переработанной редакции, под заглавием «Гимн», появилось отдельно в «Broadway Journal» в августе 1845 года и вошло в изд. 1845 года. Перевод дает позднейшую редакцию.
К Марии. Впервые появилось в «Southern Literary Messenger», в июле 1835 года, под заглавием «К Марии»; с некоторыми изменениями перепечатано в «Graham's Magazine», в марте 1842 года, под заглавием «К той, которая ушла»; с новыми изменениями перепечатано в «Broadway Journal», в апреле 1845 года, под заглавием «К Ф.», т. е. к Френсис Сарджент Осгуд, о которой см. дальше, 1845 год. Перевод дает последнюю редакцию стихотворения (т. е. 1845 года).
В альбом. Впервые появилось в «Southern Literary Messenger» в сентябре 1835 года, под заглавием «В альбом» (точнее: «Стихи, написанные в альбом»), причем стихи были обращены к Елизе Уайт, дочери издателя журнала, с небольшими изменениями перепечатано в «Gentleman's Magazine», в августе 1839 года, под заглавием «К…»; вновь перепечатано в «Broadway Journal», в сентябре 1845 года, под заглавием «К Френсис Сарджент Осгуд», как ответ на ее стихи к Эдгару По, и вошло в изд. 1845 года. О Фр. С. Осгуд см. дальше, 1845 год. Перевод дает последнюю редакцию стихотворения.
1836
Израфели. Впервые напечатано в 1836 году.
1837
К Занте. Впервые напечатано в «Southern Literary Messenger» в январе 1837 года; перепечатано в изд. 1845 года.
Свадебная баллада. Впервые напечатано в «Southern Literary Messenger», январь 1837 года (написано, вероятно, много раньше). Перепечатано в «Broadway Journal», август 1845 года, и в изд. 1845 года. В этой завершенной редакции сделано существенное изменение: выпущена вся 3-я строфа, так что в позднейших изд. баллада состоит только из четырех строф. Это, несомненно, усиливает художественность впечатления, но делает стихотворение не вполне ясным: слишком многое читатель должен угадать. Сохранилось известие, что стихи производили потрясающее впечатление в чтении самого Эдг. По. Баллада была несколько раз положена на музыку и часто исполнялась в концертах.
1838
Неспокойный замок. Впервые появилось в «American Museum», в апреле 1838 года; позднее включено в состав рассказа «Падение дома Эшер» (1839), отдельно перепечатано в изд. 1845 года.
Червь-победитель. Впервые появилось в «American Museum», в сентябре 1838 года; позднее включено в состав рассказа «Лигейя»; отдельно перепечатано в «Graham's Magazine», в январе 1843 года; позднее перепечатано в изд. 1845 года. При перепечатках в поэму вносились автором различные поправки; перевод дает последнюю редакцию поэмы.
1840
Молчание. Впервые появилось в «Gentleman's Magazine», в апреле 1840 года; перепечатано в изд. 1845 года. В подлиннике, как и в переводе 15 стихов, так что форма сонета не выдержана («Сонет с кодой»).
1842
Линор. См. выше «Пэан», 1831 год.
1844
Страна снов. Впервые напечатано в «Gentleman's Magazine», в июне 1844 года; перепечатано в изд. 1845 года.
Ворон. Поэма была написана осенью 1844 года; Эдг. По долго предлагал ее разным журналам, но безуспешно; впервые она была напечатана в «Evening Mirror», 20 января 1845 года; позднее перепечатан в изд. 1845 года, в его повторениях и многих других. Эта поэма сразу получила огромную популярность, и Эдгара По стали называть «певцом Ворона». По другим известиям наброски «Ворона» восходят еще к 1843 или даже к 1842 году.
1845
Спящая. См. 1830–1831 годы, «Айрина».
Юлэлей. Впервые напечатано в «American Review», в июле 1845 года; перепечатано в изд. 1845 года.
Город на море. Напечатано в изд. 1845 года. См. 1830–1831 годы, «Осужденный город».
Беспокойная долина. То же. См. 1830–1831 годы. «Долина Ниса».
Френсис Сарджент Осгуд. В журналах 1845 года напечатано Эдгаром По (и перепечатано в изд. 1845 года) два стихотворения, обращенные к Френсис Сарджент Осгуд, одно с ее полным именем, другое под заглавием «К Ф.». Оба являются переделкой стихов, напечатанных еще в 1835 году, где и см. их, обращенных тогда к другим лицам. Фр. Сарджент Осгуд была женой художника, сама писала статьи и стихи; о последних Эдг. По отзывался в печати благосклонно. Личное их знакомство относится к 1845 году, к эпохе после появления «Ворона». Стихи с полным именем г-жи Осгуд были напечатаны, как ответ на ее послание в стихах к Эдгару По, напечатанное в «Broadway Journal».
К Ф. См. предыдущее.
1846
Валентина. Написано в начале 1846 года. Читая 1-ю букву 1-го стиха, 2-ю — 2-го, 3-ю — 3-го и т. д., получаем имя: Френсис Сарджент Осгуд, о которой см. выше, 1845 год.
1847
Юлалюм. Написано осенью 1847 года; напечатано в «American Review», в декабре 1847 года, без подписи автора. В рукописи имелась еще одна, заключительная строфа, откинутая Эдгаром По по совету г-жи Уитман:
Мы вскричали ль — мы двое: — «Что ж это? Иль ведьмы в Уирских лесах, Ведьмы, с сердцем, полным привета, Чтоб закрыть нам дорогу в лесах, Оградить нас от тайны в кустах, Смели вызвать духов планеты Из пределов Луны в небесах, Духов ярко-преступной планеты Из Эреба душ в небесах!»Энигма. Эти стихи были посланы в письме к С. А. Лиуйс, в ноябре 1847 года, напечатаны в «Union Magazine» в марте 1848 года. Складывая буквы, как в стихотворении «Валентина», получаем имя Сарра Анна Лиуйс (Sarah Anna Lewis). То была писательница, сблизившаяся с Эдг. По в последние годы его жизни и, вместе с несколькими друзьями, помогавшая несчастному поэту. Эдг. По называл ее Стелла.
К Марии-Луизе Шю. Написано в 1847 году, точнее дата неизвестна, В посмертном собрании соч. Эдг. По стихи ошибочно были отнесены к числу юношеских. С Марией-Луизой Шю Эдгар По встретился в 1846 году; заботы и влияние ее во многом облегчили тяжелую жизнь поэта и его умиравшей жены.
1848
Звон. Набросано впервые летом 1848 года у Марии-Луизы Шю (о которой см. выше); переделано осенью того же года и послано Эдгаром По в журнал, который не напечатал поэмы; новая обработка, февраля 1849 года, тоже не была принята редакциями журналов: наконец, третья обработка, мая 1849 года, была напечатана в «Union Magazine», в октябре 1849 года, т. е. в месяц смерти Эдгара По. Самая ранняя редакция поэмы (автограф ныне принадлежит Дж. Ингрэму) также была напечатана в 1849 году, по смерти Эдгара По. Перевод в тексте воспроизводит окончательную редакцию, а здесь мы даем перевод первоначального наброска:
I Звон, ах! звон! Звон из серебра! О, как сказочно то пенье, Та игра! Пенье нежных голосов, Голосов из серебра, Это пенье, пенье, пенье Бубенцов! II Звон, ах! звон! Тягостный железный звон! О, как грозны и суровы Эти зовы, Зов глубоких голосов, Монотонно строгий зов! Весь дрожу, бежать готовый, Я под звон колоколов, Под их зов, зов, зов!Елене. Напечатано в «Union Magazine», в ноябре 1848 года; написано на несколько месяцев раньше. Стихи обращены к Елене Уитман, внушившей Эдгару По его последнюю любовь.
Марии-Луизе Шю. Написано в 1848 году; напечатано только в посмертном собрании соч. Эдг. По. О М.-Л. Шю см. выше, 1847 год.
1849
АннабельЛи. Написано в начале 1849 года; Эдгар По послал стихи в «Union Magazine», где они появились лишь в январе 1850 года, через три месяца по смерти автора; не видя этих своих стихов в печати, Эдгар По вторично послал их в «Southern Literary Messenger», но и там они были помещены лишь по смерти автора, в ноябре 1849 года; раньше всего они появились в одном некрологе Эдгара По в нью-йоркской газете «Tribune». Полагают, что стихи внушены воспоминаниями об умершей жене.
Моей матери. Написано в начале 1849 года; Эдгар По послал стихи в «Flag of our Union», но этот журнал вскоре прекратился, впервые стихи появились в «Leaflet of Memory», в 1850 году. Стихи обращены к Марии Клемм, тетке поэта и матери его жены Виргинии. Мария Клемм действительно была истинной матерью поэту.
К Энни. Впервые напечатано в «Flag of our Union» весной 1849 года; ввиду ряда опечаток, Эдг. По напечатал эти стихи вторично в «Ноте journal», 1849 год. «Энни» была молодая женщина, которая «внесла немного света в последние месяцы жизни Эдгара По»; он писал ей длинные страстные письма.
Эль-Дорадо. Впервые напечатано в «Flag of our Union», 1849 год. В переводе сохранена особенность подлинника: разделение одного слова между двумя стихами (более обычная в поэзии античной).
ПОСМЕРТНЫЕ
Сон во сне. Время, когда написано это стихотворение, неизвестно. Некоторые стихи входили в поэму 1828–1829 годов «Прежняя жизнь предо мной», другие — в обработку поэмы «Тамерлан» 1831 года; девять первых стихов были посланы Эдг. По в 1849 году, в письме под заглавием «К Энни». Впервые напечатано в посмертном собр. соч. Эдгара По.
Леонени. Впервые напечатано в 1904 году; написано, вероятно, в 1849 году.
ПОЭМЫ
Тамерлан. Впервые появилось в изд. 1827 года; со значительными переделками перепечатано в изд. 1829 года и с новыми изменениями в изд. 1831 года. В предисловии к изд. 1827 года Эдгар По говорит о «Тамерлане»: «Автор хотел показать в этой поэме, как опасно рисковать лучшими чувствами сердца, принося их на алтарь честолюбия. Он сознает, что в поэме много недостатков (помимо характера главного героя), которые он мог бы без труда — в чем он уверен — исправить; но, в отличие от своих предшественников, он слишком любит свои первые создания, чтобы их изменять или исправлять, раз они стали уже старыми». Перевод воспроизводит последнюю редакцию поэмы, во многом отличающуюся от первой. Между прочим, большие сокращения сделали неясным самое развитие сюжета.
Аль-Аарааф. Впервые появилось в изд. 1829 года; с некоторыми изменениями перепечатано в изд. 1831 года. В первой редакции поэме было предпослан сонет «К науке». Кроме того, поэма начиналась следующими 29 стихами, позднее замененными:
Звезда мечты! Светила ты Мне долгой ночью лета. Склонясь к ручью, Я жизнь твою Теперь пою,— Ты ж с высоты В стихи влей брызги света. В тебе нет наших зол, и ты — Вся красота, и все цветы, Что есть в любви, что есть в садах, В садах пленительной мечты, Где девы дремлют на цветах, Где с гор черкесских ветер посребренный На ложе из фиалок никнет сонный. О, мало, мало на тебе Подобного земной судьбе! Здесь взоры Красоты прекрасней Всех, даже той, что всех несчастней. Здесь в далях вечно реют песни. Что всех грустней и всех чудесней. Пускай сердца стареют, — звон Так постепенно заглушен, Что, словно раковины шум, Он эхо длит в восторге дум. Твоих печалей символ — лист Спадающий, светл и лучист; Скорбь на тебе — свята, и более: В ней даже нет и меланхолии!Перевод воспроизводит последнюю редакцию поэмы. Однако в переводе допущены некоторые отступления от текста подлинника. Во-первых, в переводе поэма разделена на три части, тогда как в оригинале — только на две (III часть перевода непосредственно следует за II). Во-вторых, в переводе, для ясности, введены подзаголовки: «Гимн Несэси», «Рассказ Энджело» и т. д. В-третьих, перевод заключительных стихов (последних 20) передает только общую идею оригинала, как ее понимает переводчик, ибо точная передача английского текста оставила бы многое слишком неясным: перевод этого места поэмы, вероятно, всегда будет переходить в толкование. В-четвертых, часть примечаний Эдгара По, в которых юный поэт желал блеснуть своей эрудицией, выпущена или сокращена, а именно: примечание о «школе гуманитариев» продолжается ссылками на Мильтона, сообщением о секте антропоморфистов и т. под.; примечание о рае и аде (конец II части перевода) продолжается цитатой из испанского поэта Луиса Понса де Леон; в одном примечании обсуждается ритм стиха, в других приводятся еще параллели из Мильтона, и т. д. В том же примечании, где приведены испанские стихи, автор неожиданно излагает идею всей поэмы в следующих словах: «Грусть не исключена из мира Аль Аараафа, но это та печаль, которую живые сохраняют по умершим и которая для некоторых подобна опьянению от опиума. Страстное возбуждение любовью и та легковесность духа, которая является следствием такой отравы, суть наименее здоровые радости Аль Аараафа. Наказание за них и есть завершительная гибель всего населения звезды и уничтожение для душ, избравших ее своим местопребыванием после смерти».
В свое время поэма прошла незамеченной, как и вообще сборники 1829 и 1831 годов, хотя в «Аль-Аарааф» сказываются уже все характерные черты поэзии Эдгара По. В 1846 году, уже после успеха «Ворона», Эдгар По имел неосторожность объявить в Бостоне, на 16 октября, вечер, на котором хотел прочесть свою новую поэму. К назначенному сроку билеты на вечер были проданы, но новой поэмы написано не было. В отчаянии поэт просил г-жу Осгуд написать стихи вместо него; та, конечно, отказалась. Тогда Эдгар По прочел «Аль-Аарааф», поэму, никому тогда не известную. Но бостонской публикой она была встречена более чем холодно. Во время самого чтения большая часть слушателей покинула зал.
КОММЕНТАРИИ
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ ЭДГАРА ПО
В ПЕРЕВОДЕ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА
В данном разделе целиком воспроизводится ставшая библиографической редкостью (тираж 2150 экз.) книга: Эдгар По. Полное собрание поэм и стихотворений. Перевод и предисловие Валерия Брюсова с критико-библиографическим комментарием. М.-Л., Гос. изд. «Всемирная литература», 1924, 128 с.
В. Я. Брюсов, как он признается в «Предисловии переводчика», изучал творчество Эдгара По «с большим вниманием» с юных лет и до конца дней сохранял напряженный интерес к нему. Первый вариант брюсовского перевода «Ворона» появился еще в 1905 г. («Вопросы жизни», 1905, № 1, с. 187–190). Новая редакция этого перевода вошла в сборник: Стихотворения Эдгара По в лучших русских переводах под ред. Н. Новича. (Н. И. Бахтина). СПб, Стелла, 1911. Третья редакция появилась четыре года спустя («Биржевые новости», 1915, 1(14) июня). И, наконец, для «Полного собрания поэм и стихотворений» Эдгара По текст перевода был переработан еще раз. Уже один этот пример показывает, сколь серьезно относился Брюсов к переводу поэзии Эдгара По, стремясь достичь максимальной близости к оригиналу, — причем обращая внимание не только на точную передачу смысла, сохранение формы, но и на звукопись. Можно сказать, что к решению этой сложной задачи он подходил в равной степени как поэт и как ученый-филолог.
Влияние «величайшего из американских поэтов» Брюсов испытал не только в стихах, но и в прозе (сборник рассказов «Земная ось», 1907). Он опубликовал также литературоведческое исследование об Эдгаре По (в кн. История западной литературы. Под ред. Ф. Д. Батюшкова. Т. III. М., 1914, с.328–344), где дал ему такую характеристику: «Романтик по своим литературным убеждениям, мыслитель-рационалист по своему сознательному миросозерцанию и визионер по складу души». Оценивая то новое, что внес автор «Ворона» в мировую литературу, Брюсов пришел к выводу: «До Эдгара По «страшное» было почти синонимом «чудесного», «сверхъестественного» и, главное, входило в повествование, как произвольное нарушение всех обычных условий бытия. Эдгар По едва ли не первый попытался найти «страшное» в естественном и подчинить чудесное логике, установить законы для невозможного…»
Святослав Бэлза
1
Перевод И. Озеровой
(обратно)2
Перевод Н. Вольпин
(обратно)3
Перевод Ю. Корнеева
(обратно)4
Перевод В. Топорова
(обратно)5
Перевод В. Бетаки
(обратно)6
Перевод Ю. Корнеева
(обратно)7
Перевод Вас. Федорова
(обратно)8
Перевод М. Квятковской
(обратно)9
Перевод Ю. Корнеева
(обратно)10
Перевод Эллиса
(Л. Л. Кобылинского)
(обратно)11
Перевод Г. Кружкова
(обратно)12
Перевод Е. Зета
(обратно)13
Перевод Т. Гнедич
(обратно)14
Перевод Г. Бена
(обратно)15
Перевод Ю. Корнеева
(обратно)16
Перевод В. Васильева
(обратно)17
Перевод В. Топорова
(обратно)18
Перевод Ю. Корнеева
(обратно)19
Перевод М. Квятковской
(обратно)20
Перевод Э. Шустера
(обратно)21
Перевод З. Морозкиной
(обратно)22
Перевод М. Квятковской
(обратно)23
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)24
Перевод А. Салтыкова
(обратно)25
Перевод Б. Томашевского
(обратно)26
Перевод Г. Кружкова
(обратно)27
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)28
Перевод В. Бетаки
(обратно)29
Перевод В. Топорова
(обратно)30
Перевод Н. Г-ского
(обратно)31
Перевод А. Эппеля
(обратно)32
Перевод Г. Кружкова
(обратно)33
Перевод Г. Кружкова
(обратно)34
Перевод Н. Вольпин
(обратно)35
Перевод Ю. Корнеева
(обратно)36
Перевод В. Рогова
(обратно)37
Перевод Ю. Корнеева
(обратно)38
Перевод Ал. Ал. Щербакова
(обратно)39
Перевод В. Топорова
(обратно)40
Перевод Э. Гольдернесса
(обратно)41
Перевод В. Бетаки
(обратно)42
Перевод А. Архипова
(обратно)43
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)44
Пер. Э. Гольдернесса
(обратно)45
Перевод Ю. Корнеева
(обратно)46
Перевод В. Томашевского
(обратно)47
Перевод Ю. Корнеева
(обратно)48
Перевод Н. Новича
(обратно)49
Золотой остров! Цветок Леванта! (ит.)
(обратно)50
Перевод В. Рогова
(обратно)51
Перевод В. Васильева
(обратно)52
Перевод Н. Вольпин
(обратно)53
Перевод В. Бетаки
(обратно)54
Перевод В. Рогова
(обратно)55
Перевод П. Вольпин
(обратно)56
Перевод Г. Усовой
(обратно)57
Покаемся! (лат.)
(обратно)58
Пер. С. Андреевского
(обратно)59
Перевод Н. Вольпин
(обратно)60
Перевод Н. Новича
(обратно)61
Перевод В. Рогова
(обратно)62
Перевод В. Васильева
(обратно)63
Перевод С. Андреевского
(обратно)64
Перевод Л. Пальмина
(обратно)65
Переводчик неизвестен
(обратно)66
Перевод Д. Мережковского
(обратно)67
Перевод Altalena
(В. Жаботинского)
(обратно)68
Перевод Вас. Федорова
(обратно)69
Перевод М. Зенкевича
(обратно)70
Перевод В. Бетаки
(обратно)71
Перевод В. Василенко
(обратно)72
Перевод М. Донского
(обратно)73
Перевод Николая Голя
(обратно)74
Перевод В. Топорова
(обратно)75
Перевод Вас. Федорова
(обратно)76
Перевод Г. Бена
(обратно)77
Перевод Ал. Ал. Щербакова
(обратно)78
Перевод Вас. Федорова
(обратно)79
Перевод Вас. Федорова
(обратно)80
Перевод В. Топорова
(обратно)81
Перевод А. Курсинского
(обратно)82
Перевод М. Трубецкой
(обратно)83
Перевод Вас. Федорова
(обратно)84
Перевод Н. Чуковского
(обратно)85
Перевод В. Бетаки
(обратно)86
Перевод В. Топорова
(обратно)87
Перевод Вас. Федорова
(обратно)88
Перевод Г. Бена
(обратно)89
Перевод Ал. Ал. Щербакова
(обратно)90
Перевод Вас. Федорова
(обратно)91
Перевод А. Оленича-Гнененко
(обратно)92
Перевод В. Бетаки
(обратно)93
Перевод М. Донского
(обратно)94
Перевод Вас. Федорова
(обратно)95
Перевод В. Рогова
(обратно)96
Перевод А. Архипова
(обратно)97
Перевод М. Трубецкой
(обратно)98
Перевод Вас. Федорова
(обратно)99
Перевод М. Зенкевича
(обратно)100
Перевод А. Сергеева
(обратно)101
Перевод Вас. Федорова
(обратно)102
Перевод В. Васильева
(обратно)103
Перевод Э. Гольдернесса
(обратно)104
Перевод Н. Вольпин
(обратно)105
Перевод В. Рогова
(обратно)106
Перевод В. Топорова
(обратно)107
Перевод Д. Садовникова
(обратно)108
Перевод Вас. Федорова
(обратно)109
Перевод А. Оленича-Гнененко
(обратно)110
Перевод В. Рогова
(обратно)111
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)112
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)113
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)114
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)115
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)116
Перевод Ю. Корнеева
(обратно)117
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)118
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)119
Перевод В. Топорова
(обратно)120
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)121
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)122
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)123
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)124
Перевод Р. Дубровкина
(обратно)125
Не вполне передаваемая игра смысла: fly — значит летать и убегать.
(обратно)126
Эдмунд Спенсер (1553–1598), напевный создатель «Царицы Фей».
(обратно)127
Гаррисон дает дату 22-го августа, Ингрэм дает — 13-ое.
(обратно)128
«Рисовый желтушник живет в Северной Америке летом… По пути на Юг он залетает в Центральную Америку и главным образом в Вест-Индию… Пока самки высиживают яйца, самцы, задирая друг друга, гоняются в лесу злаков… Пение одного самца подзадоривает других, скоро их поднимается на воздух множество… Пение этой птицы нравится даже избалованному уху. Звуки, издаваемые рисовым желтушником, отличаются разнообразном, быстро и, по-видимому, без всякого порядка, следуют один за другим и повторяются с таким усердием, что нередко пение одного самца можно принять за пение полудюжины». (Брэм. Жизнь животных. Птицы.)
(обратно)130
Некая звезда открыта была Тихо-Браге, она появилась внезапно на небесах — достигла в несколько дней яркости, превышающей яркость Юпитера, — затем также внезапно исчезла и никогда с тех пор не была более увидена.
(обратно)131
santa maura — некогда deucadia.
(обратно)132
Сапфо.
(обратно)133
Этот цветок весьма отмечен Леуэнхёком и Турнефором. Пчела, отведавшая его, пьянеет.
(обратно)134
Клития ChrysanthemumPeruvianum, или употребляя более известное выражение, подсолнечник — что непрестанно обращается к Солнцу, прикрываясь, — как Перу — страна, откуда он родом, — дымкой росы, которая прохлаждает и освежает его цветы днем во время наиболее жестокой жары. — В. de St. Pierre.
(обратно)135
Его разводят в королевских садах в Париже, известный разряд змеевидного алоэ без колючек, большой красивый цветок которого выдыхает сильный запах ванили во время своего цветения, весьма кратковременного. Он расцветает около июля месяца; вы замечаете тогда, как постепенно раскрываются его лепестки, распускаются, вянут и умирают. — St. Pierre.
(обратно)136
Можно находить на Роне красивую лилию из рода Валиснерия. Стебель ее тянется на протяжении трех или четырех футов — поддерживая таким образом венчик в речной зыби над водой.
(обратно)137
Гиацинт.
(обратно)138
Есть Индусское предание, что Купидон был впервые увиден плывущим на одном из этих цветков вниз по реке Гангу, и что он все еще любит колыбель своего младенчества. (Nelumbum — розовый лотос. К. Б.).
(обратно)139
И чаши златые, полные благовоний, которые суть молитвы святых. — Rev. of St. John.
(обратно)140
Гуманисты утверждали, что Бог должен быть разумеем как имеющий воистину человеческий облик. — См. Clarke's Sermons, vol., p. 26.
Все свойство замысла Мильтона вынуждало его придерживаться языка, который, как показалось бы на первый взгляд, приводил его к их учению; но немедленно убеждаешься, что он охраняет себя от обвинения в приверженности к одному из самых невежественных заблуждений темных веков церкви. — Dr. Summer's Notes on Milton 's Christian Doctrine.
Мнение это, несмотря на многие свидетельства обратного, никогда не могло стать достаточно общим. Андей, некий Сириец из Месопотамии, был осужден за это мнение, как еретик. Он жил в начале четвертого века. Ученики его назывались Антропоморфисты. — См. Du Pin.
Среди малых поэм Мильтона есть такие строки:
Dicite sacrorum praesides nemorum Deae, etc, Quis ille primus eujus ex imagine Natura solers finxit numanum genus? Eternus, incorruptus, aequaevus polo, Unusque et universus exemplar Dei!И дальше,
Non cui profundum Caecitas lumen dedit Dircaeus augur vidit hune alto sinu, etc. (обратно)141
Seltsamen Tochter Jovis Seinem Schosskinde Der Phantasie. Goethe. (обратно)142
Незримые — слишком малые, чтоб быть зримыми. — Leqqe.
(обратно)143
Я часто замечал особенное движение светляков: — они собираются все вместе, и разлетаются, из общего средоточья, бесчисленными лучами-радиусами.
(обратно)144
therasaea или terasea, остров, упоминаемый Сенекой, который, в один миг, возник из моря на глазах изумленных моряков.
(обратно)145
some star which, from the ruin'd roof Of shaked Olympus, by mischance, did fall. Milton. (обратно)146
Вольтер, говоря о Персеполисе, рассказывает: — «Я хорошо знаю восхищение, внушаемое этими руинами — но замок, воздвигнутый у подножия цепи бесплодных утесов — может ли он быть совершенством искусств!»
(обратно)147
«О, волна» — ula deguisi Турецкое название; но на собственных ее берегах ее зовут Бахар Лот или Альмотана. Несомненно, более чем два города погрузились в «Мертвое Море». В долине Сиддим их было пять: — Адма, Зебоим, Зоар, Содом и Гоморра. Стефан Византийский называет восемь и Страбон тринадцать (потопших) — но последнее без всякого основания. Говорят (Тацит, Страбон, Иосиф, Даниил, Hay, Маундрелль, Троило, д'Арвьё), что после чрезвычайной засухи, останки колонн и стен видимы над поверхностью воды. В любое время года, эти останки могут быть увидены, если смотреть вглубь в прозрачное озеро, и на таком расстоянии одни от других, что вполне допустимо существование нескольких поселений на пространстве, занимаемом теперь «Асфальтовым Морем».
(обратно)148
Эйрако — Халдея.
(обратно)149
Я часто думал, что я четко слышал звук тьмы по мере того, как он проскользал через горизонт.
(обратно)150
«Феи пользуются цветами для разговора». — Merry Wives of Windsor.
(обратно)151
В Священном Писании есть такой отрывок: — «Солнце не поразит тебя днем, ни луна — ночью». Быть может не всем известно, что луна, в Египте, имеет силу причинять слепоту тем, что спят с лицом, обращенным к ее лучам, на каковое обстоятельство очевидно и намекается здесь.
(обратно)152
Говорят, что Альбатрос спит на лету.
(обратно)153
Я встретился с этой мыслью в одной старинной английской сказке, которую я не могу теперь достать; привожу по памяти: — Истинная сущность, и, как бы, первоисточник, и происхождение всякой музыки есть весьма приятственный звук, что производят деревья лесов, когда они растут.
(обратно)154
Дикая пчела не уснет в тени, если там есть лунный свет. Рифма этого стиха может показаться натянутой.
Some have left the cool glade, and Have slept with the bee — Arouse them, my maiden, On moorland and lea.Она подражает однако В. Скотту, или скорее Клоду Галькро — в чьих устах я восторгнут действительностью впечатления: —
«О! were there an island, Tho'ever so wild Where woman might smile, and No man be beguiled», etc. «О! если бы остров был, Пусть был бы так дик, Где женщина могла бы улыбаться, и Мужчина не был бы обманутым», и т. д. (обратно)155
Согласно Арабам, существует промежуточная среда между Небом и Адом, где люди не подвергаются никакой каре, но все же еще не достигают того покоя и даже счастья, каковые полагают они присущими небесному блаженству.
Un no rompido sueno — Un dia purо — alegre — libre — Quiete — Libre de amor — de zelo — De odio — de esperanza — de rezelo. — Luis Ponce de Leon. Непрерываемый сон — День чистый — вольный — веселый — Спокойный — Вольный от любви — от ревности — От ненависти — от надежды — от опасений. — ЛюисПонсэ де Леон.Печаль не исключена из «Аль-Аараафа», но это та печаль, которую живые любят лелеять к мертвым, и которая в некоторых умах походит на бред от опиума. Страстная возбужденность любви, и резвость духа, сопровождающая опьянение, суть наименее святые услады — ценою которых, для тех душ, что избирают Аль-Аарааф своим местопребыванием после жизни, является конечная смерть и уничтожение.
(обратно)156
There be tears of perfect moan Wept for thee in Helicon. Milton. О тебе там, в Геликоне, Были слезы в верном стоне, Мильтон. (обратно)157
Он был цел еще в 1687 г. — самое возвышенное место в Афинах.
(обратно)158
Shadowing more beauty in their airy brows Than have the white breasts of the queen of love. — Marlowe. Тая в бровях высоких больше чары, Чем грудь таит владычицы любви. — Марло. (обратно)159
Цит. по сб.: Эстетика американского романтизма. М., Искусство, 1977, с. 87.
(обратно)160
Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., Современник, 1990, с. 82.
(обратно)161
Шоу Б. Автобиографические заметки. Статьи. Письма. М., Радуга, 1989. с. 168–173.
(обратно)162
Цит. по кн.: По Э. А. Полное собрание рассказов. М., Наука, 1970, с. 785–788.
(обратно)163
Достоевский Ф. М. Полное собр. соч. в 30 тт., т. 19. М., Наука, 1979, с. 88.
(обратно)164
Блок А. Собр. соч., т. 5. М.-Л., 1982, с. 617.
(обратно)165
См. там же, т. 7. М.-Л., 1963, с 81.
(обратно)166
Моруа А. Надежды и воспоминания. М., Прогресс, 1983, с. 313.
(обратно)167
Buranelli V. Edgar Allan Рое. N. Y., 1961, р. 29.
(обратно)168
Честертон Г. К. Писатель в газете. М., Прогресс, 1984, с. 265.
(обратно)169
Блок А. Собр. соч., т… 5, М.-Л., 1962, с. 618.
(обратно)170
Санта Маура — в древности Левкадия.
(обратно)171
Сапфо.
(обратно)172
Этот цветок привлек внимание Левенгека и Турнефора; пчела, питающаяся им, становится пьяной.
(обратно)173
Ночные красавицы.
(обратно)174
В просторечии — подсолнечник, Chrysanthemum Peruvianum.
(обратно)175
Цветок из рода алоэ, культивируемый в королевском саду, в Париже; он отцветает в июле, роняет лепестки, вянет и гибнет.
(обратно)176
Род водяной лилии, растущей в ложе Роны; его стебель очень длинен и тем предохраняет цветок во время разливов реки.
(обратно)177
Гиацинты.
(обратно)178
Намек на индусскую легенду, по которой Бог любви родился в водяном цветке и поныне любит этот цветок, как свою детскую колыбель.
(обратно)179
Золотые кадильницы, фимиам которых был молитвами святых (Апокалипсис, гл. VIII, ст. 3).
(обратно)180
Школа гуманитариев утверждала, что Бог имеет человеческий образ (см. «Проповеди» Клэрка).
(обратно)181
Всегда животворную, — Любимицу Зевсову, — Богиню Фантазию (Гете).
(обратно)182
Слишком малы, чтобы быть видимы (Ледж).
(обратно)183
Я часто замечал странные движения луциол; — они собираются в группу и улетают, как бы из общего центра, по бесчисленным радиусам.
(обратно)184
Терасея — остров, упоминаемый Сенекой; он в один миг поднялся из моря на глазах у изумленных моряков.
(обратно)185
Одна звезда, из потрясенной кровли Олимпа падшего, упала вниз (Мильтон).
(обратно)186
Вольтер говорит о Персеполе: «Мне известно, как многие восхищаются этими развалинами, — но может ли дворец, воздвигнутый у цепи бесплодных скал, быть высоким созданием искусства?»
(обратно)187
По-турецки — Ула Дегиви; но окрестные жители зовут Мертвое море — Бахар-Лот или Аль-Мотанах. В море исчезло, несомненно, более двух городов. В долине Сиддима их было пять: Адрах, Зебоим, Зоар, Содом, Гоморра. Стефан Византийский называет восемь, Страбон — тринадцать. Тацит, Страбон, Иосиф Флавий, Даниил де Сен-Саба, Но, Мондрель, Троило, д'Арвие говорят, что после сильных засух над водой видны остатки стен и колонн; но эти остатки видны и сквозь прозрачную воду озера, притом на таком расстоянии одни от других, что надо допустить существование нескольких городов на пространстве, которое ныне занято Мертвым морем.
(обратно)188
Эйрако — Халдея.
(обратно)189
Мне часто казалось, что я слышу гул ночи, поднимающийся с горизонта.
(обратно)190
Говорят, что альбатрос спит, паря в воздухе.
(обратно)191
Я нашел эту мысль в старой английской сказке, которую цитирую на память: «Самая сущность, первичный источник, происхождение всякой музыки — в пленительном шуме, который издают прорастающие растения».
(обратно)192
Дикие пчелы не спят в темноте, если светит луна.
(обратно)193
По верованию арабов есть среднее состояние между адом и раем, пребывающие в котором не несут наказаний, но и не испытывают спокойного счастия, составляющего эдемское блаженство.
(обратно)194
Меж слез печали совершенной — выражение Мильтона.
(обратно)195
Лемн (Лемнос) — остров в Греции.
(обратно)196
Еще в 1687 г. он был цел и являлся высшей точкой Афин.
(обратно)


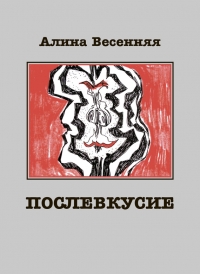


Комментарии к книге «Том 1», Эдгар Аллан По
Всего 0 комментариев