Осип Мандельштам Камень
Стихотворения 1928 г.
Камень
«Звук осторожный и глухой…»
Звук осторожный и глухой Плода, сорвавшегося с древа, Среди немолчного напева Глубокой тишины лесной…1908
«Сусальным золотом горят…»
Сусальным золотом горят В лесах рождественские елки; В кустах игрушечные волки Глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль, О, тихая моя свобода И неживого небосвода Всегда смеющийся хрусталь!1908
«Только детские книги читать…»
Только детские книги читать, Только детские думы лелеять, Всё большое далёко развеять, Из глубокой печали восстать. Я от жизни смертельно устал, Ничего от нее не приемлю, Но люблю мою бедную землю, Оттого, что иной не видал. Я качался в далеком саду, На простой деревянной качели, И высокие темные ели Вспоминаю в туманном бреду.1908
Нежнее нежного Лицо твое, Белее белого Твоя рука, От мира целого Ты далека, И вcе твое — От неизбежного. От неизбежного Твоя печаль, И пальцы рук Неостывающих, И тихий звук Неунывающих Речей, И даль Твоих очей.1909
На бледно-голубой эмали, Какая мыслима в апреле, Березы ветви поднимали И незаметно вечерели. Узор отточенный и мелкий, Застыла тоненькая сетка, Как на фарфоровой тарелке Рисунок, вычерченный метко, — Когда его художник милый Выводит на стеклянной тверди, В сознании минутной силы, В забвении печальной смерти.1909
«Есть целомудренные чары…»
Есть целомудренные чары — Высокий лад, глубокий мир, Далёко от эфирных лир Мной установленные лары. У тщательно обмытых ниш В часы внимательных закатов Я слушаю моих пенатов Всегда восторженную тишь. Какой игрушечный удел, Какие робкие законы Приказывает торс точеный И холод этих хрупких тел! Иных богов не надо славить: Они как равные с тобой! И, осторожною рукой, Позволено их переставить.1909
«Дано мне тело – что мне делать с ним…»
Дано мне тело – что мне делать с ним, Таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить Кого, скажите, мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок, В темнице мира я не одинок. На стекла вечности уже легло Мое дыхание, мое тепло. Запечатлеется на нем узор, Неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновения стекает муть — Узора милого не зачеркнуть.1909
«Невыразимая печаль…»
Невыразимая печаль Открыла два огромных глаза, Цветочная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена Истомой – сладкое лекарство! Такое маленькое царство Так много поглотило сна. Немного красного вина, Немного солнечного мая — И, тоненький бисквит ломая, Тончайших пальцев белизна.<1909>
«На перламутровый челнок…»
На перламутровый челнок Натягивая шелка нити, О, пальцы гибкие, начните Очаровательный урок! Приливы и отливы рук — Однообразные движенья, Ты заклинаешь, без сомненья, Какой-то солнечный испуг, — Когда широкая ладонь, Как раковина, пламенея, То гаснет, к теням тяготея, То в розовый уйдет огонь!<1911>
«Ни о чем не нужно говорить…»
Ни о чем не нужно говорить, Ничему не следует учить, И печальна так и хороша Темная звериная душа: Ничему не хочет научить, Не умеет вовсе говорить И плывет дельфином молодым По седым пучинам мировым.1909
«Когда удар с ударами встречается…»
Когда удар с ударами встречается, И надо мною роковой, Неутомимый маятник качается И хочет быть моей судьбой, Торопится, и грубо остановится, И упадет веретено; И невозможно встретиться, условиться, И уклониться не дано. Узоры острые переплетаются, И всё быстрее и быстрей Отравленные дротики взвиваются В руках отважных дикарей…1910
«Медлительнее снежный улей…»
Медлительнее снежный улей, Прозрачнее окна хрусталь, И бирюзовая вуаль Небрежно брошена на стуле. Ткань, опьяненная собой, Изнеженная лаской света, Она испытывает лето, Как бы не тронута зимой; И если в ледяных алмазах Струится вечности мороз, Здесь – трепетание стрекоз Быстроживущих, синеглазых.1910
Silentium[1]
Она еще не родилась, Она и музыка, и слово, И потому всего живого Ненарушаемая связь. Спокойно дышат моря груди — Но, как безумный, светел день, И пены бледная сирень — В мутно-лазоревом сосуде. Да обретут мои уста Первоначальную немоту, Как кристаллическую ноту, Что от рождения чиста! Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись! И, сердце, сердца устыдись, С первоосновой жизни слито!1910
Слух чуткий парус напрягает, Расширенный пустеет взор, И тишину переплывает Полночных птиц незвучный хор. Я так же беден, как природа, И так же прост, как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса. Я вижу месяц бездыханный И небо мертвенней холста; Твой мир болезненный и странный Я принимаю, пустота!1910
«Как тень внезапных облаков…»
Как тень внезапных облаков Морская гостья налетела И, проскользнув, прошелестела — Смущенных мимо берегов. Огромный парус строго реет; Смертельно бледная волна Отпрянула – и вновь она Коснуться берега не смеет; И лодка, волнами шурша, Как листьями…1910
«Из омута злого и вязкого…»
Из омута злого и вязкого Я вырос, тростинкой шурша, И страстно, и томно, и ласково Запретною жизнью дыша. И никну, никем не замеченный, В холодный и топкий приют, Приветственным шелестом встреченный Коротких осенних минут. Я счастлив жестокой обидою И в жизни, похожей на сон, Я каждому тайно завидую И в каждого тайно влюблен.1910
«В огромном омуте прозрачно и темно…»
В огромном омуте прозрачно и темно, И томное окно белеет; А сердце, отчего так медленно оно И так упорно тяжелеет? То всею тяжестью оно идет ко дну, Соскучившись по милом иле, То, как соломинка, минуя глубину, Наверх всплывает, без усилий… С притворной нежностью у изголовья стой И сам себя всю жизнь баюкай, Как небылицею, своей томись тоской И ласков будь с надменной скукой.1910
«Как кони медленно ступают…»
Как кони медленно ступают, Как мало в фонарях огня! Чужие люди, верно, знают, Куда везут они меня. А я вверяюсь их заботе, Мне холодно, я спать хочу; Подбросило на повороте Навстречу звездному лучу. Горячей головы качанье И нежный лед руки чужой, И темных елей очертанья, Еще не виданные мной.1911
«Скудный луч, холодной мерою…»
Скудный луч, холодной мерою, Сеет свет в сыром лесу. Я печаль, как птицу серую, В сердце медленно несу. Что мне делать с птицей раненой? Твердь умолкла, умерла. С колокольни отуманенной Кто-то снял колокола. И стоит осиротелая И немая вышина — Как пустая башня белая, Где туман и тишина. Утро, нежностью бездонное, — Полу-явь и полу-сон, Забытье неутоленное — Дум туманный перезвон…1911
«Воздух пасмурный влажен и гулок…»
Воздух пасмурный влажен и гулок; Хорошо и не страшно в лесу. Легкий крест одиноких прогулок Я покорно опять понесу. И опять к равнодушной отчизне Дикой уткой взовьется упрек: Я участвую в сумрачной жизни И невинен, что я одинок! Выстрел грянул. Над озером сонным Крылья уток теперь тяжелы, И двойным бытием отраженным Одурманены сосен стволы. Небо тусклое с отсветом странным — Мировая туманная боль — О, позволь мне быть также туманным И тебя не любить мне позволь.1911
«Сегодня дурной день…»
Сегодня дурной день, Кузнечиков хор спит, И сумрачных скал сень — Мрачней гробовых плит. Мелькающих стрел звон И вещих ворон крик… Я вижу дурной сон, За мигом летит миг. Явлений раздвинь грань, Земную разрушь клеть, И яростный гимн грянь, Бунтующих тайн медь! О, маятник душ строг — Качается глух, прям, И страстно стучит рок В запретную дверь к нам…1911
«Смутно-дышащими листьями…»
Смутно-дышащими листьями Черный ветер шелестит, И трепещущая ласточка В темном небе круг чертит. Тихо спорят в сердце ласковом Умирающем моем Наступающие сумерки С догорающим лучом. И над лесом вечереющим Встала медная луна; Отчего так мало музыки И такая тишина?1911
«Отчего душа так певуча…»
Отчего душа так певуча, И так мало милых имен, И мгновенный ритм – только случай, Неожиданный Аквилон? Он подымет облако пыли, Зашумит бумажной листвой, И совсем не вернется – или Он вернется совсем другой… О, широкий ветер Орфея, Ты уйдешь в морские края — И, несозданный мир лелея, Я забыл ненужное «я». Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот… Неужели я настоящий, И действительно смерть придет?1911
Раковина
Быть может, я тебе не нужен, Ночь; из пучины мировой, Как раковина без жемчужин, Я выброшен на берег твой. Ты равнодушно волны пенишь И несговорчиво поешь; Но ты полюбишь, ты оценишь Ненужной раковины ложь. Ты на песок с ней рядом ляжешь, Оденешь ризою своей, Ты неразрывно с нею свяжешь Огромный колокол зыбей; И хрупкой раковины стены, — Как нежилого сердца дом, — Наполнишь шепотами пены, Туманом, ветром и дождем…1911
«О небо, небо, ты мне будешь сниться!..»
О небо, небо, ты мне будешь сниться! Не может быть, чтоб ты совсем ослепло, И день сгорел, как белая страница: Немного дыма и немного пепла!1911
«Я вздрагиваю от холода…»
Я вздрагиваю от холода — Мне хочется онеметь! А в небе танцует золото — Приказывает мне петь. Томись, музыкант встревоженный, Люби, вспоминай и плачь И, с тусклой планеты брошенный, Подхватывай легкий мяч! Так вот она – настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Что, если над модной лавкою, Мерцающая всегда, Мне в сердце длинной булавкою Опустится вдруг звезда?1912
«Я ненавижу свет…»
Я ненавижу свет Однообразных звезд. Здравствуй, мой давний бред, — Башни стрельчатой рост! Кружевом, камень, будь И паутиной стань: Неба пустую грудь Тонкой иглою рань. Будет и мой черед — Чую размах крыла. Так – но куда уйдет Мысли живой стрела? Или, свой путь и срок, Я, исчерпав, вернусь: Там – я любить не мог, Здесь – я любить боюсь…1912
«Образ твой, мучительный и зыбкий…»
Образ твой, мучительный и зыбкий, Я не мог в тумане осязать. «Господи!» – сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, И пустая клетка позади…1912
«Нет, не луна, а светлый циферблат…»
Нет, не луна, а светлый циферблат Сияет мне, и чем я виноват, Что слабых звезд я осязаю млечность? И Батюшкова мне противна спесь: «Который час?», его спросили здесь — А он ответил любопытным: «вечность».1912
Пешеход
<М. Л. Лозинскому>
Я чувствую непобедимый страх В присутствии таинственных высот. Я ласточкой доволен в небесах, И колокольни я люблю полет! И, кажется, старинный пешеход, Над пропастью, на гнущихся мостках, Я слушаю, как снежный ком растет, И вечность бьет на каменных часах. Когда бы так! Но я не путник тот, Мелькающий на выцветших листах, И подлинно во мне печаль поет; Действительно, лавина есть в горах! И вся моя душа – в колоколах, — Но музыка от бездны не спасет!1912
Казино
Я не поклонник радости предвзятой, Подчас природа – серое пятно, — Мне, в опьяненьи легком, суждено Изведать краски жизни небогатой. Играет ветер тучею косматой, Ложится якорь на морское дно, И бездыханная, как полотно, Душа висит над бездною проклятой. Но я люблю на дюнах казино, Широкий вид в туманное окно И тонкий луч на скатерти измятой; И, окружен водой зеленоватой, Когда, как роза, в хрустале вино, — Люблю следить за чайкою крылатой!1912
Золотой
Целый день сырой осенний воздух Я вдыхал в смятеньи и тоске; Я хочу поужинать, и звезды Золотые в темном кошельке! И, дрожа от желтого тумана, Я спустился в маленький подвал; Я нигде такого ресторана И такого сброда не видал! Мелкие чиновники, японцы, Теоретики чужой казны… За прилавком щупает червонцы Человек – и все они пьяны. Будьте так любезны, разменяйте, — Убедительно его прошу, — Только мне бумажек не давайте — Трехрублевок я не выношу! Что мне делать с пьяною оравой? Как попал сюда я, Боже мой? Если я на то имею право — Разменяйте мне мой золотой!1912
Лютеранин
Я на прогулке похороны встретил Близ протестантской кирки, в воскресенье, Рассеянный прохожий, я заметил Тех прихожан суровое волненье. Чужая речь не достигала слуха, И только упряжь тонкая сияла, Да мостовая праздничная глухо Ленивые подковы отражала. А в эластичном сумраке кареты, Куда печаль забилась, лицемерка, Без слов, без слез, скупая на приветы, Осенних роз мелькнула бутоньерка. Тянулись иностранцы лентой черной, И шли пешком заплаканные дамы. Румянец под вуалью, и упорно Над ними кучер правил в даль, упрямый. Кто б ни был ты, покойный лютеранин, Тебя легко и просто хоронили. Был взор слезой приличной затуманен, И сдержанно колокола звонили. И думал я: витийствовать не надо. Мы не пророки, даже не предтечи, Не любим рая, не боимся ада И в полдень матовый горим, как свечи.1912
Айя-София
Айя-София – здесь остановиться Судил Господь народам и царям! Ведь купол твой, по слову очевидца, Как на цепи подвешен к небесам. И всем векам – пример Юстиниана, Когда похитить для чужих богов Позволила эфесская Диана Сто семь зеленых мраморных столбов. Но что же думал твой строитель щедрый, Когда, душой и помыслом высок, Расположил апсиды и экседры, Им указав на запад и восток? Прекрасен храм, купающийся в мире, И сорок окон – света торжество; На парусах, под куполом, четыре Архангела прекраснее всего. И мудрое сферическое зданье Народы и века переживет, И серафимов гулкое рыданье Не покоробит темных позолот.1912
Notre Dame
Где римский судия судил чужой народ, Стоит базилика – и, радостный и первый, Как некогда Адам, распластывая нервы, Играет мышцами крестовый легкий свод. Но выдает себя снаружи тайный план, Здесь позаботилась подпружных арок сила, Чтоб масса грузная стены не сокрушила, И свода дерзкого бездействует таран. Стихийный лабиринт, непостижимый лес, Души готической рассудочная пропасть, Египетская мощь и христианства робость, С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес. Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, Я изучал твои чудовищные ребра, Тем чаще думал я: из тяжести недоброй И я когда-нибудь прекрасное создам…1912
Старик
Уже светло, поет сирена В седьмом часу утра. Старик, похожий на Верлэна, Теперь твоя пора! В глазах лукавый или детский Зеленый огонек; На шею нацепил турецкий Узорчатый платок. Он богохульствует, бормочет Несвязные слова; Он исповедоваться хочет — Но согрешить сперва. Разочарованный рабочий Иль огорченный мот — А глаз, подбитый в недрах ночи, Как радуга цветет. Так соблюдая день субботний, Плетется он – когда Глядит из каждой подворотни Веселая беда; А дома – руганью крылатой, От ярости бледна, — Встречает пьяного Сократа Суровая жена!1913
Петербургские строфы
<Н. С. Гумилёву>
Над желтизной правительственных зданий Кружилась долго мутная метель, И правовед опять садится в сани, Широким жестом запахнув шинель. Зимуют пароходы. На припеке Зажглось каюты толстое стекло. Чудовищна, – как броненосец в доке — Россия отдыхает тяжело. А над Невой – посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина! И государства <крепкая> порфира, Как власяница грубая, бедна. Тяжка обуза северного сноба — Онегина старинная тоска; На площади Cената – вал сугроба, Дымок костра и холодок штыка… Черпали воду ялики, и чайки Морские посещали склад пеньки, Где, продавая сбитень или сайки, Лишь оперные бродят мужики. Летит в туман моторов вереница; Самолюбивый, скромный пешеход — Чудак Евгений – бедности стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянет!1913
«Здесь я стою – я не могу иначе…»
«Hier stehe Ich – Ich kann
niсht anders…»
«Здесь я стою – я не могу иначе…» Не просветлеет темная гора — И кряжистого Лютера незрячий Витает дух над куполом Петра.<1915>
«…Дев полуночных отвага…»
…Дев полуночных отвага И безумных звезд разбег, Да привяжется бродяга, Вымогая на ночлег. Кто, скажите, мне сознанье Виноградом замутит, Если явь – Петра созданье, Медный всадник и гранит? Слышу с крепости сигналы, Замечаю, как тепло. Выстрел пушечный в подвалы, Вероятно, донесло. И гораздо глубже бреда Воспаленной головы Звезды, трезвая беседа, Ветер западный с Невы…1913
Бах
Здесь прихожане – дети праха — И доски вместо образов, Где мелом, Себастьяна Баха, Лишь цифры значатся псалмов. Разноголосица какая В трактирах буйных и в церквах, А ты ликуешь, как Исайя, О, рассудительнейший Бах! Высокий спорщик, неужели, Играя внукам свой хорал, Опору духа в самом деле Ты в доказательстве искал? Что звук? Шестнадцатые доли, Органа многосложный крик, Лишь воркотня твоя, не боле, О, несговорчивый старик! И лютеранский проповедник На черной кафедре своей С твоими, гневный собеседник, Мешает звук своих речей.1913
«В спокойных пригородах снег…»
В спокойных пригородах снег Сгребают дворники лопатами; Я с мужиками бородатыми Иду, прохожий человек. Мелькают женщины в платках, И тявкают дворняжки шалые, И самоваров розы алые Горят в трактирах и домах.1913
«Мы напряженного молчанья не выносим…»
Мы напряженного молчанья не выносим — Несовершенство душ обидно, наконец! И в замешательстве уж объявился чтец, И радостно его приветствовали: «Просим!» Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо: Кошмарный человек читает «Улялюм». Значенье – суета, и слово – только шум, Когда фонетика служанка серафима. О доме Эшеров Эдгара пела арфа. Безумный воду пил, очнулся и умолк… Я был на улице. Свистел осенний шелк…1913
Адмиралтейство
В столице северной томится пыльный тополь, Запутался в листве прозрачный циферблат, И в темной зелени фрегат или акрополь Сияет издали, воде и небу брат. Ладья воздушная и мачта-недотрога, Служа линейкою преемникам Петра, Он учит: красота – не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра. Нам четырех стихий приязненно господство, Но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространства превосходство Сей целомудренно построенный ковчег? Сердито лепятся капризные медузы, Как плуги брошены, ржавеют якоря; И вот разорваны трех измерений узы, И открываются всемирные моря.1913
«В таверне воровская шайка…»
В таверне воровская шайка Всю ночь играла в домино. Пришла с яичницей хозяйка; Монахи выпили вино. На башне спорили химеры: Которая из них урод? А утром проповедник серый В палатки призывал народ. На рынке возятся собаки, Менялы щелкает замок. У вечности ворует всякий; А вечность – как морской песок: Он осыпается с телеги — Не хватит на мешки рогож — И, недовольный, о ночлеге Монах рассказывает ложь!1913
Кинематограф
Кинематограф. Три скамейки. Сентиментальная горячка. Аристократка и богачка В сетях соперницы-злодейки. Не удержать любви полета: Она ни в чем не виновата! Самоотверженно, как брата, Любила лейтенанта флота. А он скитается в пустыне — Седого графа сын побочный. Так начинается лубочный Роман красавицы-графини. И в исступленьи, как гитана, Она заламывает руки. Разлука; бешеные звуки Затравленного фортепьяно. В груди доверчивой и слабой Еще достаточно отваги Похитить важные бумаги Для неприятельского штаба. И по каштановой аллее Чудовищный мотор несется, Стрекочет лента, сердце бьется Тревожнее и веселее… В дорожном платье, с саквояжем, В автомобиле и в вагоне, Она боится лишь погони, Сухим измучена миражем. Какая горькая нелепость: Цель не оправдывает средства! Ему – отцовское наследство, А ей – пожизненная крепость!1913
Теннис
Средь аляповатых дач, Где шатается шарманка, Сам собой летает мяч — Как волшебная приманка. Кто, смиривший грубый пыл, Облеченный в снег альпийский, С резвой девушкой вступил В поединок олимпийский? Слишком дряхлы струны лир: Золотой ракеты струны Укрепил и бросил в мир Англичанин вечно юный! Он творит игры обряд, Так легко вооруженный, Как аттический солдат, В своего врага влюбленный! Май. Грозовых туч клочки. Неживая зелень чахнет. Всё моторы и гудки — И сирень бензином пахнет. Ключевую воду пьет Из ковша спортсмэн веселый; И опять война идет, И мелькает локоть голый!1913
Американка
Американка в двадцать лет Должна добраться до Египта, Забыв «Титаника» совет, Что спит на дне, мрачнее крипта. В Америке гудки поют, И красных небоскребов трубы Холодным тучам отдают Свои прокопченные губы. И в Лувре океана дочь Стоит, прекрасная, как тополь; Чтоб мрамор сахарный толочь, Влезает белкой на Акрополь. Не понимая ничего, Читает «Фауста» в вагоне И сожалеет, отчего Людовик больше не на троне.1913
Домби и сын
Когда, пронзительнее свиста, Я слышу английский язык — Я вижу Оливера Твиста Над кипами конторских книг. У Чарльза Диккенса спросите, Что было в Лондоне тогда: Контора Домби в старом Сити И Темзы желтая вода. Дожди и слезы. Белокурый И нежный мальчик Домби-сын; Веселых клерков каламбуры Не понимает он один. В конторе сломанные стулья; На шиллинги и пенсы счет; Как пчелы, вылетев из улья, Роятся цифры круглый год. А грязных адвокатов жало Работает в табачной мгле — И вот, как старая мочала, Банкрот болтается в петле. На стороне врагов законы: Ему ничем нельзя помочь! И клетчатые панталоны, Рыдая, обнимает дочь…1913
«Отравлен хлеб и воздух выпит…»
Отравлен хлеб и воздух выпит. Как трудно раны врачевать! Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать! Под звездным небом бедуины, Закрыв глаза и на коне, Слагают вольные былины О смутно пережитом дне. Немного нужно для наитий: Кто потерял в песке колчан; Кто выменял коня – событий Рассеивается туман; И, если подлинно поется И полной грудью наконец, Всё исчезает – остается Пространство, звезды и певец!1913
«Летают Валькирии, поют смычки…»
Летают Валькирии, поют смычки. Громоздкая опера к концу идет. С тяжелыми шубами гайдуки На мраморных лестницах ждут господ. Уж занавес наглухо упасть готов; Еще рукоплещет в райке глупец. Извозчики пляшут вокруг костров. Карету такого-то! Разъезд. Конец.1913
1913 («Ни триумфа, ни войны!..»)
Ни триумфа, ни войны! О, железные, доколе Безопасный Капитолий Мы хранить осуждены? Или римские перуны — Гнев народа – обманув, Отдыхает острый клюв Той ораторской трибуны; Или возит кирпичи Солнца дряхлая повозка, И в руках у недоноска Рима ржавые ключи?<1914>
«…На луне не растет…»
…На луне не растет Ни одной былинки; На луне весь народ Делает корзинки — Из соломы плетет Легкие корзинки. На луне – полутьма И дома опрятней; На луне не дома — Просто голубятни; Голубые дома — Чудо-голубятни…1914
<Ахматова>
Вполоборота, о, печаль, На равнодушных поглядела. Спадая с плеч, окаменела Ложно-классическая шаль. Зловещий голос – горький хмель — Души расковывает недра: Так – негодующая Федра — Стояла некогда Рашель.1914
«О временах простых и грубых…»
О временах простых и грубых Копыта конские твердят. И дворники в тяжелых шубах На деревянных лавках спят. На стук в железные ворота Привратник, царственно ленив, Встал, и звериная зевота Напомнила твой образ, скиф! — Когда с дряхлеющей любовью, Мешая в песнях Рим и снег, Овидий пел арбу воловью В походе варварских телег.1914
«На площадь выбежав, свободен…»
На площадь выбежав, свободен Стал колоннады полукруг — И распластался храм Господень, Как легкий крестовик-паук. А зодчий не был итальянец, Но русский в Риме: ну, так что ж? Ты каждый раз, как иностранец, Сквозь рощу портика идешь; И храма маленькое тело Одушевленнее стократ Гиганта, что скалою целой К земле беспомощно прижат!1914
«Есть иволги в лесах, и гласных долгота…»
Есть иволги в лесах, и гласных долгота В тонических стихах единственная мера. Но только раз в году бывает разлита В природе длительность, как в метрике Гомера. Как бы цезурою зияет этот день: Уже с утра покой и трудные длинноты; Волы на пастбище, и золотая лень Из тростника извлечь богатство целой ноты.1914
«”Мороженно!” Солнце. Воздушный бисквит…»
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит. Прозрачный стакан с ледяною водою. И в мир шоколада с румяной зарею, В молочные Альпы, мечтанье летит. Но ложечкой звякнув, умильно глядеть — И в тесной беседке средь пыльных акаций Принять благосклонно от булочных граций В затейливой чашечке хрупкую снедь… Подруга шарманки, появится вдруг Бродячего ледника пестрая крышка — И с жадным вниманием смотрит мальчишка В чудесного холода полный сундук. И боги не ведают – что он возьмет: Алмазные сливки иль вафлю с начинкой? Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой, Сверкая на солнце, божественный лед.1914
«Есть ценностей незыблемая скала…»
Есть ценностей незыблемая скала Над скучными ошибками веков. Неправильно наложена опала На автора возвышенных стихов. И вслед за тем, как жалкий Сумароков Пролепетал заученную роль, Как царский посох в скинии пророков, У нас цвела торжественная боль. Что делать вам в театре полуслова И полумаск, герои и цари? И для меня явленье Озерова — Последний луч трагической зари.1914
«Природа – тот же Рим и отразилась в нем…»
Природа – тот же Рим и отразилась в нем. Мы видим образы его гражданской мощи В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, На форуме полей и в колоннаде рощи. Природа – тот же Рим, и, кажется, опять Нам незачем богов напрасно беспокоить — Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать, Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!1914
«Пусть имена цветущих городов…»
Пусть имена цветущих городов Ласкают слух значительностью бренной. Не город Рим живет среди веков, А место человека во вселенной. Им овладеть пытаются цари, Священники оправдывают войны, И без него презрения достойны, Как жалкий сор, дома и алтари!1914
«Я не слыхал рассказов Оссиана…»
Я не слыхал рассказов Оссиана, Не пробовал старинного вина; Зачем же мне мерещится поляна, Шотландии кровавая луна? И перекличка ворона и арфы Мне чудится в зловещей тишине; И ветром развеваемые шарфы Дружинников мелькают при луне! Я получил блаженное наследство — Чужих певцов блуждающие сны; Свое родство и скучное соседство Мы презирать заведомо вольны. И не одно сокровище, быть может, Минуя внуков, к правнукам уйдет; И снова скальд чужую песню сложит И как свою ее произнесет.1914
Европа
Как средиземный краб или звезда морская, Был выброшен водой последний материк; К широкой Азии, к Америке при<ник>, Слабеет океан, Европу омывая. Изрезаны ее живые берега, И полуостровов воздушны изваянья; Немного женственны заливов очертанья: Бискайи, Генуи ленивая дуга… Завоевателей исконная земля, Европа в рубище Священного союза; Пята Испании, Италии медуза, И Польша нежная, где нету короля; Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта Гусиное перо направил Меттерних, — Впервые за сто лет и на глазах моих Меняется твоя таинственная карта!1914
Посох
Посох мой – моя свобода — Сердцевина бытия, Скоро ль истиной народа Станет истина моя? Я земле не поклонился, Прежде чем себя нашел; Посох взял, развеселился И в далекий Рим пошел. А снега на черных пашнях Не растают никогда, И печаль моих домашних Мне по-прежнему чужда. Снег растает на утесах — Солнцем истины палим, — Прав народ, вручивший посох Мне, увидевшему Рим!1914
1914 («Собирались эллины войною…»)
Собирались эллины войною На прелестный остров Саламин, — Он, отторгнут вражеской рукою, Виден был из гавани Афин. А теперь друзья-островитяне Снаряжают наши корабли — Не любили раньше англичане Европейской сладостной земли. О, Европа, новая Эллада, Охраняй акрополь и Пирей! Нам подарков с острова не надо — Целый лес незваных кораблей.<1916>
Ода Бетховену
Бывает сердце так сурово, Что и любя его не тронь! И в темной комнате глухого Бетховена горит огонь. И я не мог твоей, мучитель, Чрезмерной радости понять. Уже бросает исполнитель Испепеленную тетрадь… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кто этот дивный пешеход? Он так стремительно ступает С зеленой шляпою в руке, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С кем можно глубже и полнее Всю чашу нежности испить; Кто может, ярче пламенея, Усилье воли освятить; Кто по-крестьянски, сын фламандца, Мир пригласил на ритурнель И до тех пор не кончил танца, Пока не вышел буйный хмель? О, Дионис, как муж, наивный И благодарный, как дитя! Ты перенес свой жребий дивный То негодуя, то шутя! С каким глухим негодованьем Ты собирал с князей оброк Или с рассеянным вниманьем На фортепьянный шел урок! Тебе монашеские кельи — Всемирной радости приют, — Тебе в пророческом весельи Огнепоклонники поют; Огонь пылает в человеке, Его унять никто не мог. Тебя назвать не смели греки, Но чтили, неизвестный бог! О, величавой жертвы пламя! Полнеба охватил костер — И царской скинии над нами Разодран шелковый шатер. И в промежутке воспаленном, Где мы не видим ничего, Ты указал в чертоге тронном На белой славы торжество!1914
«Уничтожает пламень…»
Уничтожает пламень Сухую жизнь мою, И ныне я не камень, А дерево пою. Оно легко и грубо. Из одного куска И сердцевина дуба, И весла рыбака. Вбивайте крепче сваи, Стучите, молотки, О деревянном рае, Где вещи так легки.<1915>
«И поныне на Афоне…»
И поныне на Афоне Древо чудное растет, На крутом зеленом склоне Имя Божие поет. В каждой радуются келье Имябожцы-мужики: Слово – чистое веселье, Исцеленье от тоски! Всенародно, громогласно Чернецы осуждены; Но от ереси прекрасной Мы спасаться не должны. Каждый раз, когда мы любим, Мы в нее впадаем вновь. Безымянную мы губим Вместе с именем любовь.<1915>
Аббат («О, спутник вечного романа…»)
О, спутник вечного романа, Аббат Флобера и Золя — От зноя рыжая сутана И шляпы круглые поля; Он всё еще проходит мимо, В тумане полдня, вдоль межи, Влача остаток власти Рима Среди колосьев спелой ржи. Храня молчанье и приличье, Он должен с нами пить и есть И прятать в светское обличье Сияющей тонзуры честь. Он Цицерона, на перине, Читает, отходя ко сну: Так птицы на своей латыни Молились Богу в старину. Я поклонился, он ответил Кивком учтивым головы, И, говоря со мной, заметил: «Католиком умрете вы!» Потом вздохнул: «Как нынче жарко!» И, разговором утомлен, Направился к каштанам парка, В тот замок, где обедал он.<1915>
«От вторника и до субботы…»
От вторника и до субботы Одна пустыня пролегла. О, длительные перелеты! — Семь тысяч верст – одна стрела. И ласточки, когда летели В Египет водяным путем, Четыре дня они висели, Не зачерпнув воды крылом.1915
«О свободе небывалой…»
О свободе небывалой Сладко думать у свечи. – Ты побудь со мной сначала, — Верность плакала в ночи. – Только я мою корону Возлагаю на тебя, Чтоб свободе, как закону, Подчинился ты, любя… – Я свободе, как закону, Обручен, и потому Эту легкую корону Никогда я не сниму. Нам ли, брошенным в пространстве, Обреченным умереть, О прекрасном постоянстве И о верности жалеть!1915
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»
Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся, Как журавлиный клин в чужие рубежи — На головах царей божественная пена — Куда плывете вы? Когда бы не Елена, Что Троя вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер – всё движется любовью. Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит, И море черное, витийствуя, шумит И с тяжким грохотом подходит к изголовью.1915
«С веселым ржанием пасутся табуны…»
С веселым ржанием пасутся табуны И римской ржавчиной окрасилась долина; Сухое золото классической весны Уносит времени прозрачная стремнина. Топча по осени дубовые листы, Что густо стелются пустынною тропинкой, Я вспомню цезаря прекрасные черты — Сей профиль женственный с коварною горбинкой! Здесь, Капитолия и Форума вдали, Средь увядания спокойного природы, Я слышу Августа и на краю земли Державным яблоком катящиеся годы. Да будет в старости печаль моя светла: Я в Риме родился, и он ко мне вернулся; Мне осень добрая волчицею была, И – месяц цезарей – мне август улыбнулся.1915
«Я не увижу знаменитой “Федры”…»
Я не увижу знаменитой «Федры», В старинном многоярусном театре, С прокопченной высокой галереи, При свете оплывающих свечей. И, равнодушен к суете актеров, Сбирающих рукоплесканий жатву, Я не услышу, обращенный к рампе, Двойною рифмой оперенный стих: – Как эти покрывала мне постылы… Театр Расина! Мощная завеса Нас отделяет от другого мира; Глубокими морщинами волнуя, Меж ним и нами занавес лежит. Спадают с плеч классические шали, Расплавленный страданьем крепнет голос, И достигает скорбного закала Негодованьем раскаленный слог… Я опоздал на празднество Расина… Вновь шелестят истлевшие афиши, И слабо пахнет апельсинной коркой, И словно из столетней летаргии Очнувшийся сосед мне говорит: – Измученный безумством Мельпомены, Я в этой жизни жажду только мира; Уйдем, покуда зрители-шакалы На растерзанье Музы не пришли! Когда бы грек увидел наши игры…1915
Tristia
«– Как этих покрывал и этого убора…»
– Как этих покрывал и этого убора Мне пышность тяжела средь моего позора! – Будет в каменной Трезене Знаменитая беда, Царской лестницы ступени Покраснеют от стыда, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И для матери влюбленной Солнце черное взойдет. – О, если б ненависть в груди моей кипела — Но, видите, само признанье с уст слетело. – Черным пламенем Федра горит Среди белого дня. Погребальный факел чадит Среди белого дня. Бойся матери, ты, Ипполит: Федра-ночь – тебя сторожит Среди белого дня. – Любовью черною я солнце запятнала… . . . . . . . . . . . . . . . . . Мы боимся, мы не смеем Горю царскому помочь. Уязвленная Тезеем На него напала ночь. Мы же, песнью похоронной Провожая мертвых в дом, Страсти дикой и бессонной Солнце черное уймем.<1915>
Зверинец
Отверженное слово «мир» В начале оскорбленной эры; Светильник в глубине пещеры И воздух горных стран – эфир; Эфир, которым не сумели, Не захотели мы дышать. Козлиным голосом, опять, Поют косматые свирели. Пока ягнята и волы На тучных пастбищах водились И дружелюбные садились На плечи сонных скал орлы, — Германец выкормил орла, И лев британцу покорился, И галльский гребень появился Из петушиного хохла… А ныне завладел дикарь Священной палицей Геракла, И черная земля иссякла, Неблагодарная, как встарь. — Я палочку возьму сухую, Огонь добуду из нее, Пускай уходит в ночь глухую Мной всполошенное зверье! Петух, и лев… . . . . . . . . . Мы для войны построим клеть, Звериные пригреем шкуры, — А я пою вино времен — Источник речи италийской — И в колыбели праарийской Славянский и германский лен! Италия, тебе не лень Тревожить Рима колесницы, С кудахтаньем домашней птицы Перелетев через плетень? . . . . . . . . . . . . В зверинце заперев зверей, Мы успокоимся надолго, И станет полноводней Волга, И рейнская струя светлей — И умудренный человек Почтит невольно чужестранца, Как полубога, буйством танца На берегах великих рек.1916
На розвальнях, уложенных соломой, Едва прикрытые рогожей роковой, От Воробьевых гор до церковки знакомой Мы ехали огромною Москвой. А в Угличе играют дети в бабки И пахнет хлеб, оставленный в печи. По улицам меня везут без шапки, И теплятся в часовне три свечи. Не три свечи горели, а три встречи — Одну из них сам Бог благословил, Четвертой не бывать, а Рим далече — И никогда он Рима не любил! Ныряли сани в черные ухабы И возвращался с гульбища народ. Худые мужики и злые бабы Переминались у ворот. Сырая даль от птичьих стай чернела И связанные руки затекли: Царевича везут, немеет страшно тело — И рыжую солому подожгли.1916
«В Петербурге мы сойдемся снова…»
В Петербурге мы сойдемся снова, Словно солнце мы похоронили в нем, И блаженное, бессмысленное слово В первый раз произнесем: В черном бархате <советской> ночи, В бархате всемирной пустоты, Всё поют блаженных жен родные очи, Всё цветут бессмертные цветы. Дикой кошкой горбится столица, На мосту патруль стоит, Только злой мотор во мгле промчится И кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь: За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи <советской> помолюсь. Слышу легкий театральный шорох И девическое «ах» — И бессмертных роз огромный ворох У Киприды на руках. У костра мы греемся от скуки, Может быть, века пройдут, И блаженных жен родные руки Легкий пепел соберут. Где-то хоры сладкие Орфея И родные темные зрачки, И на грядки кресел с галереи Падают афиши-голубки. Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи, В черном бархате всемирной пустоты Всё поют блаженных жен крутые плечи, А ночного солнца не заметишь ты.<1920>
Соломинка
I
Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок, Спокойной тяжестью — что может быть печальней — На веки чуткие спустился потолок, Соломка звонкая, соломинка сухая, Всю смерть ты выпила и сделалась нежней, Сломалась милая соломка неживая — Не Саломея, нет, соломинка скорей. В часы бессонницы предметы тяжелее, Как будто меньше их – такая тишина — Мерцают в зеркале подушки, чуть белея, И в круглом омуте кровать отражена. Нет, не соломинка в торжественном атласе, В огромной комнате, над черною Невой, Двенадцать месяцев поют о смертном часе, Струится в воздухе лед бледно-голубой. Декабрь торжественный струит свое дыханье, Как будто в комнате тяжелая Нева. Нет, не Соломинка, Лигейя, умиранье — Я научился вам, блаженные слова.II
Я научился вам, блаженные слова: Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита. В огромной комнате тяжелая Нева И голубая кровь струится из гранита. Декабрь торжественный сияет над Невой. Двенадцать месяцев поют о смертном часе. Нет, не Соломинка в торжественном атласе Вкушает медленный томительный покой. В моей крови живет декабрьская Лигейя, Чья в саркофаге спит блаженная любовь. А та, Соломинка, быть может, Саломея, Убита жалостью и не вернется вновь.1916
«Мне холодно. Прозрачная весна…»
Мне холодно. Прозрачная весна В зеленый пух Петрополь одевает, Но, как Медуза, невская волна Мне отвращенье легкое внушает. По набережной северной реки Автомобилей мчатся светляки, Летят стрекозы и жуки стальные, Мерцают звезд булавки золотые, Но никакие звезды не убьют Морской воды тяжелый изумруд.1916
«В Петрополе прозрачном мы умрем…»
В Петрополе прозрачном мы умрем, Где властвует над нами Прозерпина; Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, И каждый час – нам смертная година. Богиня моря, грозная Афина, Сними могучий каменный шелом. В Петрополе прозрачном мы умрем, — Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.1916
«Не веря воскресенья чуду…»
Не веря воскресенья чуду, На кладбище гуляли мы. – Ты знаешь, мне земля повсюду Напоминает те холмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Где обрывается Россия Над морем черным и глухим. От монастырских косогоров Широкий убегает луг. Мне от владимирских просторов Так не хотелося на юг, Но в этой темной, деревянной И юродивой слободе С такой монашкою туманной Остаться – значит быть беде. Целую локоть загорелый И лба кусочек восковой. Под смуглой прядью золотой. Целую кисть, где от браслета Еще белеет полоса. Тавриды пламенное лето Творит такие чудеса. Как скоро ты смуглянкой стала И к Спасу бедному пришла, Не отрываясь целовала, А гордою в Москве была. Нам остается только имя: Чудесный звук, на долгий срок. Прими ж ладонями моими Пересыпаемый песок.1916
Эта ночь непоправима, А у вас еще светло. У ворот Ерусалима Солнце черное взошло. Солнце желтое страшнее — Баю-баюшки-баю — В светлом храме иудеи Хоронили мать мою! Благодати не имея, И священства лишены, В светлом храме иудеи Отпевали прах жены. И над матерью звенели Голоса израильтян. Я проснулся в колыбели — Черным солнцем осиян…1916
Золотистого меда струя из бутылки текла Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела: – Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, Мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела. Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни Сторожа и собаки – идешь, никого не заметишь — Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни: Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь. После чаю мы вышли в огромный коричневый сад, Как ресницы на окнах опущены темные шторы, Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград, Где воздушным стеклом обливаются сонные горы. Я сказал: виноград, как старинная битва, живет, Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке, В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот Золотых десятин благородные, ржавые грядки. Ну а в комнате белой, как прялка, стоит тишина. Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала. Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, Не Елена – другая — как долго она вышивала? Золотое руно, где же ты, золотое руно? Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный!1917
«Еще далёко асфоделей…»
Еще далёко асфоделей Прозрачно-серая весна. Пока еще на самом деле Шуршит песок, кипит волна. Но здесь душа моя вступает, Как Персефона, в легкий круг; И в царстве мертвых не бывает Прелестных, загорелых рук. Зачем же лодке доверяем Мы тяжесть урны гробовой, И праздник черных роз свершаем Над аметистовой водой? Туда душа моя стремится, За мыс туманный Меганом, И черный парус возвратится Оттуда, после похорон! Как быстро тучи пробегают Неосвещенною грядой, И хлопья черных роз летают Под этой ветряной луной. И, птица смерти и рыданья, Влачится траурной каймой Огромный флаг воспоминанья За кипарисною кормой. И раскрывается с шуршаньем Печальный веер прошлых лет; Туда, где с темным содроганьем В песок зарылся амулет; Туда душа моя стремится, За мыс туманный Меганом, И черный парус возвратится Оттуда, после похорон!1917
Декабрист
– Тому свидетельство языческий сенат — Сии дела не умирают! — Он раскурил чубук и запахнул халат, А рядом в шахматы играют. Честолюбивый сон он променял на сруб В глухом урочище Сибири, И вычурный чубук у ядовитых губ, Сказавших правду в скорбном мире. Шумели в первый раз германские дубы, Европа плакала в тенетах. Квадриги черные вставали на дыбы На триумфальных поворотах. Бывало, голубой в стаканах пунш горит. С широким шумом самовара Подруга рейнская тихонько говорит, Вольнолюбивая гитара. – Еще волнуются живые голоса О сладкой вольности гражданства! Но жертвы не хотят слепые небеса: Вернее труд и постоянство. Всё перепуталось, и некому сказать, Что, постепенно холодея, Всё перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея.1917
<Кассандре>
Я не искал в цветущие мгновенья Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз, Но в декабре – торжественное бденье — Воспоминанье мучит нас… <И в декабре семнадцатого года Всё потеряли мы, любя: Один ограблен волею народа, Другой ограбил сам себя… Но если эта жизнь – необходимость бреда, И корабельный лес – высокие дома — Лети, безрукая победа, Гиперборейская чума! На площади с броневиками Я вижу человека: он Волков горящими пугает головнями: Свобода, равенство, закон! Больная, тихая Кассандра, Я больше не могу – зачем Сияло солнце Александра, Сто лет тому назад сияло всем? Когда-нибудь в столице шалой, На скифском празднике, на берегу Невы, При звуках омерзительного бала Сорвут платок с прекрасной головы…>1917
В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа. Нам пели Шуберта – родная колыбель. Шумела мельница, и в песнях урагана Смеялся музыки голубоглазый хмель. Старинной песни мир – коричневый, зеленый, Но только вечно молодой, Где соловьиных лип рокочущие кроны С безумной яростью качает царь лесной. И сила страшная ночного возвращенья — Та песня дикая, как черное вино: Это двойник – пустое привиденье Бессмысленно глядит в холодное окно!1917
«Твое чудесное произношенье…»
Твое чудесное произношенье — Горячий посвист хищных птиц; Скажу ль: живое впечатленье Каких-то шелковых зарниц. «Что» – голова отяжелела. «Цо» – это я тебя зову! И далеко прошелестело: Я тоже на земле живу! Пусть говорят: любовь крылата, Смерть окрыленнее стократ; Еще душа борьбой объята, А наши губы к ней летят. И столько воздуха и шелка И ветра в шепоте твоем, И как слепые ночью долгой Мы смесь бессолнечную пьем.1917
«Что поют часы-кузнечик…»
Что поют часы-кузнечик, Лихорадка шелестит, И шуршит сухая печка, — Это красный шелк горит. Что зубами мыши точат Жизни тоненькое дно, — Это ласточка и дочка Отвязала мой челнок. Что на крыше дождь бормочет, — Это черный шелк горит, Но черемуха услышит И на дне морском: прости. Потому что смерть невинна, И ничем нельзя помочь, Что в горячке соловьиной Сердце теплое еще.1917
«Когда на площадях и в тишине келейной…»
Когда на площадях и в тишине келейной Мы сходим медленно с ума, Холодного и чистого рейнвейна Предложит нам жестокая зима. В серебряном ведре нам предлагает стужа Валгаллы белое вино, И светлый образ северного мужа Напоминает нам оно. Но северные скальды грубы; Не знают радостей игры, И северным дружинам любы: Янтарь, пожары и пиры. Им только снится воздух юга — Чужого неба волшебство — – И все-таки упрямая подруга Откажется попробовать его.1917
«Среди священников левитом молодым…»
<А. В. Карташеву>
Среди священников левитом молодым На страже утренней он долго оставался. Ночь иудейская сгущалася над ним И храм разрушенный угрюмо созидался. Он говорил: небес тревожна желтизна, Уж над Евфратом ночь: бегите, иереи! А старцы думали: не наша в том вина; Се черно-желтый свет, се радость Иудеи. Он с нами был, когда, на берегу ручья, Мы в драгоценный лен Субботу пеленали И семисвещником тяжелым освещали Ерусалима ночь и чад небытия.1917
«На страшной высоте блуждающий огонь…»
На страшной высоте блуждающий огонь, Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звезда, блуждающий огонь, Твой брат, Петрополь, умирает. На страшной высоте земные сны горят, Зеленая звезда мерцает. О, если ты, звезда, воде и небу брат, Твой брат, Петрополь, умирает. Чудовищный корабль на страшной высоте Несется, крылья расправляет — Зеленая звезда, в прекрасной нищете, Твой брат, Петрополь, умирает. Прозрачная весна над черною Невой Сломалась, воск бессмертья тает; О, если ты звезда, – Петрополь, город твой, Твой брат, Петрополь, умирает.1918
Когда в теплой ночи замирает Лихорадочный форум Москвы, И театров широкие зевы Возвращают толпу площадям, Протекает по улицам пышным Оживленье ночных похорон, Льются мрачно-веселые толпы Из каких-то божественных недр. Это солнце ночное хоронит Возбужденная играми чернь, Возвращаясь с полночного пира Под глухие удары копыт. И как новый встает Геркуланум Спящий город в сияньи луны: И убогого рынка лачуги, И могучий дорический ствол.1918
<Прославим, братья, сумерки свободы…>
<Прославим, братья, сумерки свободы — Великий сумеречный год!> В кипящие ночные воды Опущен грузный лес тенет. Восходишь ты в глухие годы — О солнце, судия, народ. Прославим роковое бремя, Которое в слезах народный вождь берет. <Прославим власти сумрачное бремя — Ее невыносимый гнет.> В ком сердце есть – тот должен слышать, время, Как твой корабль ко дну идет. Мы в легионы боевые Связали ласточек, – и вот Не видно солнца; вся стихия Щебечет, движется, живет; Сквозь сети – сумерки густые Не видно солнца и земля плывет. Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля. Земля плывет. Мужайтесь, мужи. Как плугом, океан деля, Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам стоила земля.<1918>
Tristia
Я изучил науку расставанья В простоволосых жалобах ночных. Жуют волы, и длится ожиданье, Последний час вигилий городских, И чту обряд той петушиной ночи, Когда, подняв дорожной скорби груз, Глядели вдаль заплаканные очи, И женский плач мешался с пеньем муз. Кто может знать при слове – расставанье, Какая нам разлука предстоит, Что нам сулит петушье восклицанье, Когда огонь в акрополе горит, И на заре какой-то новой жизни, Когда в сенях лениво вол жует, Зачем петух, глашатай новой жизни, На городской стене крылами бьет? И я люблю обыкновенье пряжи: Снует челнок, веретено жужжит. Смотри, навстречу, словно пух лебяжий, Уже босая Делия летит! О, нашей жизни скудная основа, Куда как беден радости язык! Всё было встарь, всё повторится снова, И сладок нам лишь узнаванья миг. Да будет так: прозрачная фигурка На чистом блюде глиняном лежит, Как беличья распластанная шкурка, Склонясь над воском, девушка глядит. Не нам гадать о греческом Эребе, Для женщин воск что для мужчины медь. Нам только в битвах выпадает жребий, А им дано гадая умереть.1918
«На каменных отрогах Пиерии…»
На каменных отрогах Пиерии
Водили музы первый хоровод, Чтобы, как пчелы, лирники слепые Нам подарили ионийский мед. И холодком повеяло высоким От выпукло-девического лба, Чтобы раскрылись правнукам далеким Архипелага нежные гроба. Бежит весна топтать луга Эллады, Обула Сафо пестрый сапожок, И молоточками куют цикады, Как в песенке поется, перстенек. Высокий дом построил плотник дюжий, На свадьбу всех передушили кур, И растянул сапожник неуклюжий На башмаки все пять воловьих шкур. Нерасторопна черепаха-лира, Едва-едва беспалая ползет, Лежит себе на солнышке Эпира, Тихонько грея золотой живот. Ну, кто ее такую приласкает, Кто спящую ее перевернет — Она во сне Терпандра ожидает, Сухих перстов предчувствуя налет. Поит дубы холодная криница, Простоволосая шумит трава, На радость осам пахнет медуница. О, где же вы, святые острова, Где не едят надломленного хлеба, Где только мед, вино и молоко, Скрипучий труд не омрачает неба И колесо вращается легко.1919
«Сестры – тяжесть и нежность – одинаковы ваши приметы…»
Сестры – тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы. Медуницы и осы тяжелую розу сосут. Человек умирает, песок остывает согретый, И вчерашнее солнце на черных носилках несут. Ах, тяжелые соты и нежные сети, Легче камень поднять, чем имя твое повторить! У меня остается одна забота на свете: Золотая забота, как времени бремя избыть. Словно темную воду, я пью помутившийся воздух. Время вспахано плугом и роза землею была. В медленном водовороте тяжелые, нежные розы, Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!1920
«Вернись в смесительное лоно…»
Вернись в смесительное лоно, Откуда, Лия, ты пришла, За то, что солнцу Илиона Ты желтый сумрак предпочла. Иди, никто тебя не тронет, На грудь отца в глухую ночь Пускай главу свою уронит Кровосмесительница-дочь. Но роковая перемена В тебе исполниться должна: Ты будешь Лия – не Елена, Не потому наречена — Что царской крови тяжелее Струиться в жилах, чем другой — Нет, ты полюбишь иудея, Исчезнешь в нем – и Бог с тобой.1920
Веницейской жизни мрачной и бесплодной Для меня значение светло. Вот она глядит с улыбкою холодной В голубое дряхлое стекло. Тонкий воздух кожи. Синие прожилки. Белый снег. Зеленая парча. Всех кладут на кипарисные носилки, Сонных теплых вынимают из плаща. И горят, горят в корзинах свечи, Словно голубь залетел в ковчег. На театре и на праздном вече Умирает человек. Ибо нет спасенья от любви и страха: Тяжелее платины Сатурново кольцо! Черным бархатом завешенная плаха И прекрасное лицо. Тяжелы твои, Венеция, уборы. В кипарисных рамах зеркала. Воздух твой граненый. В спальне тают горы Голубого, дряхлого стекла. Только в пальцах роза или склянка — Адриатика зеленая, прости! Что же ты молчишь, скажи, венецианка, Как от этой смерти праздничной уйти? Черный Веспер в зеркале мерцает. Всё проходит. Истина темна. Человек родится. Жемчуг умирает. И Сусанна старцев ждать должна.1920
«В хрустальном омуте какая крутизна!..»
В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы, И сумасшедших скал колючие соборы Повисли в воздухе, где шерсть и тишина. <С висячей лестницы пророков и царей Спускается орган, Святого Духа крепость. Овчарок бодрый лай и добрая свирепость, Овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней Я христианства пью холодный горный воздух, Крутое «Верую» и псалмопевца роздых, Ключи и рубища апостольских церквей. Какая линия могла бы передать Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном? И с христианских гор в пространстве изумленном, Как Палестрины песнь, нисходит благодать.>1919
Феодосия
Окружена высокими холмами, Овечьим стадом ты с горы сбегаешь, И розовыми, белыми камнями В сухом прозрачном воздухе сверкаешь. Качаются разбойничьи фелюги, Горят в порту турецких флагов маки, Тростинки мачт, хрусталь волны упругий И на канатах лодочки-гамаки. На все лады, оплаканное всеми, С утра до ночи «яблочко» поется. Уносит ветер золотое семя — Оно пропало – больше не вернется. А в переулочках, чуть свечерело, Пиликают, согнувшись, музыканты, По двое и по трое, неумело, Невероятные свои варьянты. О, горбоносых странников фигурки! О, средиземный радостный зверинец! Расхаживают в полотенцах турки, Как петухи, у маленьких гостиниц. Везут собак в тюрьмоподобной фуре, Сухая пыль по улицам несется, И хладнокровен средь базарных фурий Монументальный повар с броненосца. Идем туда, где разные науки, И ремесло – шашлык и чебуреки, Где вывеска, изображая брюки, Дает понятье нам о человеке. Мужской сюртук – без головы стремленье, Цирюльника летающая скрипка И месмерический утюг – явленье Небесных прачек – тяжести улыбка. Здесь девушки стареющие в челках Обдумывают странные наряды, И адмиралы в твердых треуголках Припоминают сон Шехерезады. Прозрачна даль. Немного винограда. И неизменно дует ветер свежий. Недалеко до Смирны и Багдада, Но трудно плыть, а звезды всюду те же.1919 <—1922>
«Когда Психея-жизнь спускается к теням…»
Когда Психея-жизнь спускается к теням В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной, Слепая ласточка бросается к ногам С стигийской нежностью и веткою зеленой. Навстречу беженке спешит толпа теней, Товарку новую встречая причитаньем, И руки слабые ломают перед ней С недоумением и робким упованьем. Кто держит зеркало, кто баночку духов: Душа ведь – женщина, ей нравятся безделки. И лес безлиственный прозрачных голосов Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий. И в нежной сутолке, не зная, что начать, Душа не узнает прозрачныя дубравы, Дохнет на зеркало; и медлит передать Лепешку медную с туманной переправы.1920
«Я слово позабыл, что я хотел сказать…»
Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, На крыльях срезанных, с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется. Не слышно птиц. Бессмертник не цветет. Прозрачны гривы табуна ночного. В сухой реке пустой челнок плывет. Среди кузнечиков беспамятствует слово. И медленно растет, как бы шатер иль храм, То вдруг прокинется безумной Антигоной, То мертвой ласточкой бросается к ногам, С стигийской нежностью и веткою зеленой. О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд И выпуклую радость узнаванья. Я так боюсь рыданья Аонид, Тумана, звона и зиянья. А смертным власть дана любить и узнавать, Для них и звук в персты прольется, Но я забыл, что я хочу сказать, И мысль бесплотная в чертог теней вернется. Всё не о том прозрачная твердит, Всё ласточка, подружка, Антигона… А на губах, как черный лед, горит Стигийского воспоминанье звона.1920
«Чуть мерцает призрачная сцена…»
Чуть мерцает призрачная сцена, Хоры слабые теней, Захлестнула шелком Мельпомена Окна храмины своей. Черным табором стоят кареты, На дворе мороз трещит, Всё космато – люди и предметы; И горячий снег хрустит. Понемногу челядь разбирает Шуб медвежьих вороха. В суматохе бабочка летает. Розу кутают в меха. Модной пестряди кружки и мошки, Театральный легкий жар, А на улице мигают плошки И тяжелый валит пар. Кучера измаялись от крика, И храпит и дышит тьма. Ничего, голубка Эвридика, Что у нас студеная зима. Слаще пенья итальянской речи Для меня родной язык, Ибо в нем таинственно лепечет Чужеземных арф родник. Пахнет дымом бедная овчина, От сугроба улица черна. Из блаженного, певучего притина К нам летит бессмертная весна. Чтобы вечно ария звучала: – Ты вернешься на зеленые луга, — И живая ласточка упала На горячие снега.1920
«Мне Тифлис горбатый снится…»
Мне Тифлис горбатый снится, Сазандарий стон звенит, На мосту народ толпится, Вся ковровая столица, А внизу Кура шумит. Над Курою есть духаны, Где вино и милый плов, И духанщик там румяный Подает гостям стаканы И служить тебе готов. Кахетинское густое Хорошо в подвале пить, — Там в прохладе, там в покое Пейте вдоволь, пейте двое, Одному не надо пить. В самом маленьком духане Ты товарища найдешь, Если спросишь телиани. Поплывет Тифлис в тумане, Ты в духане поплывешь. Человек бывает старым, А барашек молодым, И под месяцем поджарым С розоватым винным паром Полетит шашлычный дым…1920 <—1928>
«Мне жалко, что теперь зима…»
Мне жалко, что теперь зима, И комаров не слышно в доме. Но ты напомнила сама О легкомысленной соломе. Стрекозы вьются в синеве И ласточкой кружится мода; Корзиночка на голове Или напыщенная ода? Советовать я не берусь, И бесполезны отговорки, Но взбитых сливок вечен вкус И запах апельсинной корки. Ты всё толкуешь наобум От этого ничуть не хуже, Что делать, самый нежный ум Весь помещается снаружи. И ты пытаешься желток Взбивать рассерженною ложкой. Он побелел, он изнемог, И все-таки еще немножко. И, право, не твоя вина, Зачем оценки и изнанки? Ты как нарочно создана Для комедийной перебранки. В тебе всё дразнит, всё поет, Как итальянская рулада, И маленький вишневый рот Сухого просит винограда. Так не старайся быть умней, В тебе всё прихоть, всё минута. И тень от шапочки твоей Венецианская баута.1920
«Возьми на радость из моих ладоней…»
Возьми на радость из моих ладоней Немного солнца и немного меда, Как нам велели пчелы Персефоны. Не отвязать неприкрепленной лодки, Не услыхать в меха обутой тени, Не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, Мохнатые, как маленькие пчелы, Что умирают, вылетев из улья. Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, Их родина – дремучий лес Тайгета, Их пища – время, медуница, мята. Возьми ж на радость дикий мой подарок, Невзрачное сухое ожерелье Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.1920
«За то, что я руки твои не сумел удержать…»
За то, что я руки твои не сумел удержать, За то, что я предал соленые нежные губы — Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать. Как я ненавижу пахучие, древние срубы. Ахейские мужи во тьме снаряжают коня, Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко, Никак не уляжется крови сухая возня, И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка. Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел? Зачем преждевременно я от тебя оторвался. Еще не рассеялся мрак и петух не пропел, Еще в древесину горячий топор не врезался. Прозрачной слезой на стенах проступила смола, И чувствует город свои деревянные ребра, Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла, И трижды приснился мужам соблазнительный образ. Где милая Троя? где царский, где девичий дом? Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник. И падают стрелы сухим деревянным дождем, И стрелы другие растут на земле, как орешник. Последней звезды безболезненно гаснет укол, И серою ласточкой утро в окно постучится, И медленный день, как в соломе проснувшийся вол, На стогнах шершавых от долгого сна шевелится.1920
«Когда городская выходит на стогны луна…»
Когда городская выходит на стогны луна, И медленно ей озаряется город дремучий, И ночь нарастает унынья и меди полна, И грубому времени воск уступает певучий; И плачет кукушка на каменной башне своей, И бледная жница, сходящая в мир бездыханный, Тихонько шевелит огромные спицы теней, И желтой соломой бросает на пол деревянный…1920
«Я наравне с другими…»
Я наравне с другими Хочу тебе служить, От ревности сухими Губами ворожить. Не утоляет слово Мне пересохших уст, И без тебя мне снова Дремучий воздух пуст. Я больше не ревную, Но я тебя хочу, И сам себя несу я, Как жертву палачу. Тебя не назову я Ни радость, ни любовь. На дикую, чужую Мне подменили кровь. Еще одно мгновенье, И я скажу тебе, Не радость, а мученье Я нахожу в тебе. И словно преступленье Меня к тебе влечет Искусанный в смятеньи Вишневый нежный рот. Вернись ко мне скорее, Мне страшно без тебя, Я никогда сильнее Не чувствовал тебя, И всё, чего хочу я, Я вижу наяву. Я больше не ревную, Но я тебя зову.1920
«Я в хоровод теней, топтавших нежный луг…»
Я в хоровод теней, топтавших нежный луг, С певучим именем вмешался, Но всё растаяло, и только слабый звук В туманной памяти остался. Сначала думал я, что имя – серафим И тела легкого дичился, Немного дней прошло, и я смешался с ним И в милой тени растворился. И снова яблоня теряет дикий плод, И тайный образ мне мелькает, И богохульствует, и сам себя клянет, И угли ревности глотает. А счастье катится, как обруч золотой, Чужую волю исполняя, И ты гоняешься за легкою весной, Ладонью воздух рассекая. И так устроено, что не выходим мы Из заколдованного круга, Земли девической упругие холмы Лежат спеленутые туго.1920
1921–1925
Концерт на вокзале
Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит, Но, видит Бог, есть музыка над нами, Дрожит вокзал от пенья Аонид И снова, паровозными свистками Разорванный, скрипичный воздух слит. Огромный парк. Вокзала шар стеклянный. Железный мир опять заворожен. На звучный пир в элизиум туманный Торжественно уносится вагон. Павлиний крик и рокот фортепьянный — Я опоздал. Мне страшно. Это сон. И я вхожу в стеклянный лес вокзала, Скрипичный строй в смятеньи и слезах. Ночного хора дикое начало, И запах роз в гниющих парниках, Где под стеклянным небом ночевала Родная тень в кочующих толпах. И мнится мне: весь в музыке и пене, Железный мир так нищенски дрожит, В стеклянные я упираюсь сени; <Горячий пар зрачки смычков слепит.> Куда же ты? На тризне милой тени В последний раз нам музыка звучит.<1923?>
«Умывался ночью на дворе…»
Умывался ночью на дворе — Твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч – как соль на топоре, Стынет бочка с полными краями. На замок закрыты ворота, И земля по совести сурова. Чище правды свежего холста Вряд ли где отыщется основа. Тает в бочке, словно соль, звезда, И вода студеная чернее, Чище смерть, соленее беда, И земля правдивей и страшнее.1921
«Кому зима – арак и пунш голубоглазый…»
Кому зима – арак и пунш голубоглазый, Кому душистое с корицею вино, Кому жестоких звезд соленые приказы В избушку дымную перенести дано. Немного теплого куриного помета И бестолкового овечьего тепла; Я всё отдам за жизнь — мне так нужна забота — И спичка серная меня б согреть могла. Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка, И верещанье звезд щекочет слабый слух, Но желтизну травы и теплоту суглинка Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух. Тихонько гладить шерсть и ворошить солому, Как яблоня зимой в рогоже голодать, Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому, И шарить в пустоте, и терпеливо ждать. Пусть <заговорщики> торопятся по снегу Отарою овец и хрупкий наст скрипит, Кому зима – полынь и горький дым к ночлегу — Кому – крутая соль торжественных обид. О, если бы поднять фонарь на длинной палке, С собакой впереди идти под солью звезд И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке. А белый, белый снег до боли очи ест.1922
«С розовой пеной усталости у мягких губ…»
С розовой пеной усталости у мягких губ Яростно волны зеленые роет бык, Фыркает, гребли не любит – женолюб, Ноша хребту непривычна, и труд велик. Изредка выскочит дельфина колесо Да повстречается морской колючий еж, Нежные руки Европы – берите всё, Где ты для выи желанней ярмо найдешь. Горько внимает Европа могучий плеск, Тучное море кругом закипает в ключ, Видно, страшит ее вод маслянистый блеск, И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч. О, сколько раз ей милее уключин скрип, Лоном широкая палуба, гурт овец И за высокой кормою мельканье рыб — С нею безвесельный дальше плывет гребец.1922
«Холодок щекочет темя…»
Холодок щекочет темя И нельзя признаться вдруг, И меня срезает время, Как скосило твой каблук. Жизнь себя перемогает, Понемногу тает звук, Всё чего-то не хватает, Что-то вспомнить недосуг. А ведь раньше лучше было, И пожалуй, не сравнишь, Как ты прежде шелестила, Кровь, как нынче шелестишь. Видно, даром не проходит Шевеленье этих губ, И вершина колобродит, Обреченная на сруб.1922
«Как растет хлебов опара…»
Как растет хлебов опара, Поначалу хороша, И беснуется от жару Домовитая душа, — Словно хлебные Софии С херувимского стола Круглым жаром налитые Поднимают купола. Чтобы силой, или лаской Чудный выманить припек, Время – царственный подпасок — Ловит слово-колобок. И свое находит место Черствый пасынок веков, Усыхающий довесок Прежде вынутых хлебов.1922
«Я не знаю, с каких пор…»
Я не знаю, с каких пор Эта песенка началась — Не по ней ли шуршит вор, Комариный звенит князь? Я хотел бы ни о чем Еще раз поговорить, Прошуршать спичкой, плечом Растолкать ночь – разбудить. Приподнять, как душный стог, Воздух, что шапкой томит, Перетряхнуть мешок, В котором тмин зашит, Чтобы розовой крови связь, Этих сухоньких трав звон, Уворованная нашлась Через век, сеновал, сон.1922
«Я по лесенке приставной…»
Я по лесенке приставной Лез на всклоченный сеновал, — Я дышал звезд млечных трухой, Колтуном пространства дышал. И подумал: зачем будить Удлиненных звучаний рой, В этой вечной склоке ловить Эолийский чудесный строй? Звезд в ковше Медведицы семь, Добрых чувств на земле пять, Набухает, звенит темь И растет и звенит опять. Не своей чешуей шуршим, Против шерсти мира поем. Лиру строим, словно спешим Обрасти косматым руном. Из гнезда упавших щеглов Косари приносят назад, — Из горящих вырвусь рядов И вернусь в родной звукоряд. Чтобы розовой крови связь И травы сухорукий звон Распростились: одна скрепясь, А другая – в заумный сон.1922
«Ветер нам утешенье принес…»
Ветер нам утешенье принес, И в лазури почуяли мы Ассирийские крылья стрекоз, Переборы коленчатой тьмы. И военной грозой потемнел Нижний слой помраченных небес, Шестируких летающих тел Слюдяной перепончатый лес. Есть в лазури слепой уголок, И в блаженные полдни всегда, Как сгустившейся ночи намек, Роковая трепещет звезда. И с трудом пробиваясь вперед, В чешуе искалеченных крыл, Под высокую руку берет Побежденную твердь Азраил.1922
Московский дождик
…Он подает, куда как скупо, Свой воробьиный холодок Немного нам, немного купам, Немного вишням на лоток. И в темноте растет кипенье — Чаинок легкая возня, Как бы воздушный муравейник Пирует в темных зеленях; Из свежих капель виноградник Зашевелился в мураве. Как будто холода рассадник Открылся в лапчатой Москве!1922
Век
Век мой, зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки, И своею кровью склеит Двух столетий позвонки? Кровь-строительница хлещет Горлом из земных вещей, Захребетник лишь трепещет На пороге новых дней. Тварь, покуда жизнь хватает, Донести хребет должна, И невидимым играет Позвоночником волна. Словно нежный хрящ ребенка Век младенческий земли — Снова в жертву, как ягненка, Темя жизни принесли. Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, Узловатых дней колена Нужно флейтою связать. Это век волну колышет Человеческой тоской, И в траве гадюка дышит Мерой века золотой. И еще набухнут почки, Брызнет зелени побег, Но разбит твой позвоночник, Мой прекрасный жалкий век. И с бессмысленной улыбкой Вспять глядишь, жесток и слаб, Словно зверь, когда-то гибкий, На следы своих же лап.<1922>
Нашедший подкову
Глядим на лес и говорим: Вот лес корабельный, мачтовый: Розовые сосны, До самой верхушки свободные от мохнатой ноши, Им бы поскрипывать в бурю Одинокими пиниями В разъяренном безлесном воздухе; Под соленой пятою ветра устоит отвес, пригнанный к пляшущей палубе, И мореплаватель, В необузданной жажде пространства, Влача через влажные рытвины хрупкий прибор геометра, Сличит с притяженьем земного лона Шероховатую поверхность морей. А вдыхая запах Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку корабля, Любуясь на доски, Заклепанные, слаженные в переборки Не вифлеемским мирным плотником, а другим — Отцом путешествий, другом морехода, — Говорим: И они стояли на земле, Неудобной, как хребет осла, Забывая верхушками о корнях, На знаменитом горном кряже, И шумели под пресным ливнем, Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку соли Свой благородный груз. С чего начать? Всё трещит и качается. Воздух дрожит от сравнений. Ни одно слово не лучше другого, Земля гудит метафорой, И легкие двуколки В броской упряжи густых от натуги птичьих стай Разрываются на части, Соперничая с храпящими любимцами ристалищ. Трижды блажен, кто введет в песнь имя; Украшенная названьем песнь Дольше живет среди других — Она отмечена среди подруг повязкой на лбу, Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного одуряющего запаха — Будь то близость мужчины, Или запах шерсти сильного зверя, Или просто дух чобра, растертого между ладоней. Воздух бывает темным, как вода, и всё живое в нем плавает, как рыба, Плавниками расталкивая сферу, Плотную, упругую, чуть нагретую, — Хрусталь, в котором движутся колеса и шарахаются лошади, Влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханный заново Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами. Воздух замешан так же густо, как земля: Из него нельзя выйти, в него трудно войти. Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой. Дети играют в бабки позвонками умерших животных. Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу. Спасибо за то, что было: Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете. Эра звенела, как шар золотой, Полая, литая, никем не поддерживаемая, На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет». Так ребенок отвечает: «Я дам тебе яблоко», или: «Я не дам тебе яблока». И лицо его точный слепок с голоса, который произносит эти слова. Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла. Конь лежит в пыли и храпит в мыле, Но крутой поворот его шеи Еще сохраняет воспоминанье о беге с разбросанными ногами, Когда их было не четыре, А по числу камней дороги, Обновляемых в четыре смены По числу отталкиваний от земли пышущего жаром иноходца. Так Нашедший подкову Сдувает с нее пыль И растирает ее шерстью, пока она не заблестит, Тогда Он вешает ее на пороге, Чтобы она отдохнула, И больше уж ей не придется высекать искры из кремня. Человеческие губы, которым больше нечего сказать, Сохраняют форму последнего сказанного слова, И в руке остается ощущенье тяжести, Хотя кувшин наполовину расплескался, пока его несли домой. То, что я сейчас говорю, говорю не я, А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы. Одни на монетах изображают льва, Другие — голову; Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки С одинаковой почестью лежат в земле. Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы. Время срезает меня, как монету, И мне уже не хватает меня самого…1923
Грифельная ода
Звезда с звездой – могучий стык, Кремнистый путь из старой песни, Кремня и воздуха язык, Кремень с водой, с подковой перстень; На мягком сланце облаков Молочный грифельный рисунок — Не ученичество миров, А бред овечьих полусонок. Мы стоя спим в густой ночи Под теплой шапкою овечьей. Обратно в крепь родник журчит Цепочкой, пеночкой и речью. Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг Свинцовой палочкой молочной, Здесь созревает черновик Учеников воды проточной. Крутые козьи города; Кремней могучее слоенье: И все-таки еще гряда — Овечьи церкви и селенья! Им проповедует отвес, Вода их учит, точит время; И воздуха прозрачный лес Уже давно пресыщен всеми. Как мертвый шершень, возле сот, День пестрый выметен с позором. И ночь-коршунница несет Горящий мел и грифель кормит. С иконоборческой доски Стереть дневные впечатленья, И, как птенца, стряхнуть с руки Уже прозрачные виденья! Плод нарывал. Зрел виноград. День бушевал, как день бушует: И в бабки нежная игра, И в полдень злых овчарок шубы; Как мусор с ледяных высот — Изнанка образов зеленых — Вода голодная течет Крутясь, играя, как звереныш. И как паук ползет по мне — Где каждый стык луной обрызган, На изумленной крутизне Я слышу грифельные визги. Твои ли, память, голоса Учительствуют, ночь ломая, Бросая грифели лесам, Из птичьих клювов вырывая? Мы только с голоса поймем, Что там царапалось, боролось, И черствый грифель поведем Туда, куда укажет голос. Ломаю ночь, горящий мел Для твердой записи мгновенной, Меняю шум на пенье стрел, Меняю строй на стрепет гневный. Кто я? Не каменщик прямой, Не кровельщик, не корабельщик: Двурушник я, с двойной душой. Я ночи друг, я дня застрельщик. Блажен, кто называл кремень Учеником воды проточной. Блажен, кто завязал ремень Подошве гор на твердой почве. И я теперь учу дневник Царапин грифельного лета, Кремня и воздуха язык, С прослойкой тьмы, с прослойкой света, И я хочу вложить персты В кремнистый путь из старой песни, Как в язву, – заключая в стык Кремень с водой, с подковой перстень.<1923>
«Язык булыжника мне голубя понятней…»
Язык булыжника мне голубя понятней; Здесь камни – голуби, дома, как голубятни, И светлым ручейком течет рассказ подков По звучным мостовым прабабки городов. Здесь толпы детские, событий попрошайки, Парижских воробьев испуганные стайки, Клевали наскоро крупу свинцовых крох, Фригийской бабушкой рассыпанный горох. И в воздухе плывет забытая коринка, И в памяти живет плетеная корзинка, И тесные дома – зубов молочных ряд — На деснах старческих, как близнецы стоят. Здесь клички месяцам давали, как котятам, И молоко и кровь давали нежным львятам, А подрастут они – то разве года два Держалась на плечах большая голова. Большеголовые – там руки поднимали И клятвой на песке, как яблоком, играли. Мне трудно говорить: не видел ничего, Но все-таки скажу: я помню одного, Он лапу поднимал, как огненную розу, И как ребенок всем показывал занозу, Его не слушали: смеялись кучера, И грызла яблоки, с шарманкой, детвора, Афиши клеили, и ставили капканы, И пели песенки, и жарили каштаны, И светлой улицей, как просекой прямой, Летели лошади из зелени густой.1923
«Как тельце маленькое крылышком…»
Как тельце маленькое крылышком По солнцу всклянь перевернулось, И зажигательное стеклышко На эмпиреи загорелось. Как комариная безделица В зените ныла и звенела И под сурдинку пеньем жужелиц В лазури мучилась заноза: Не забывай меня: казни меня, Но дай мне имя, дай мне имя: Мне будет легче с ним – пойми меня — В беременной глубокой сини.1923
1 января 1924
Кто время целовал в измученное темя, — С сыновней нежностью потом Он будет вспоминать — как спать ложилось время В сугроб пшеничный за окном. Кто веку поднимал болезненные веки — Два сонных яблока больших, — Он слышит вечно шум – когда взревели реки Времен обманных и глухих. Два сонных яблока у века-властелина И глиняный прекрасный рот, Но к млеющей руке стареющего сына Он, умирая, припадет. Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох, Еще немного – оборвут Простую песенку о глиняных обидах И губы оловом зальют. О, глиняная жизнь! О, умиранье века! Боюсь, лишь тот поймет тебя, В ком беспомощная улыбка человека, Который потерял себя. Какая боль искать потерянное слово, Больные веки поднимать И с известью в крови для племени чужого Ночные травы собирать. Век. Известковый слой в крови больного сына Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, И некуда бежать от века-властелина… Снег пахнет яблоком, как встарь. Мне хочется бежать от моего порога. Куда? На улице темно, И, словно сыплют соль мощеною дорогой, Белеет совесть предо мной. По переулочкам, скворешням и застрехам, Недалеко, собравшись как-нибудь, — Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом, Всё силюсь полость застегнуть. Мелькает улица, другая, И яблоком хрустит саней морозный звук, Не поддается петелька тугая, Всё время валится из рук. Каким железным, скобяным товаром Ночь зимняя гремит по улицам Москвы, То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром Из чайных розовых – как серебром плотвы. Москва – опять Москва. Я говорю ей: «здравствуй! Не обессудь, теперь уж не беда, По старине я принимаю братство Мороза крепкого и щучьего суда». Пылает на снегу аптечная малина, И где-то щелкнул ундервуд; Спина извозчика и снег на пол-аршина: Чего тебе еще? Не тронут, не убьют. Зима-красавица и в звездах небо козье Рассыпалось и молоком горит, И конским волосом о мерзлые полозья Вся полость трется и звенит. А переулочки коптили керосинкой, Глотали снег, малину, лед, Всё шелушится им советской сонатинкой, Двадцатый вспоминая год. Ужели я предам позорному злословью — Вновь пахнет яблоком мороз — Присягу чудную четвертому сословью И клятвы крупные до слез? Кого еще убьешь? Кого еще прославишь? Какую выдумаешь ложь? То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш — И щучью косточку найдешь; И известковый слой в крови больного сына Растает, и блаженный брызнет смех… Но пишущих машин простая сонатина — Лишь тень сонат могучих тех.1924
«Нет, никогда, ничей я не был современник…»
Нет, никогда, ничей я не был современник: Мне не с руки почет такой. О, как противен мне какой-то соименник, То был не я, то был другой. Два сонных яблока у века-властелина И глиняный прекрасный рот, Но к млеющей руке стареющего сына Он, умирая, припадет. Я с веком поднимал болезненные веки — Два сонных яблока больших, И мне гремучие рассказывали реки Ход воспаленных тяжб людских. Сто лет тому назад подушками белела Складная легкая постель, И странно вытянулось глиняное тело, — Кончался века первый хмель. Среди скрипучего похода мирового Какая легкая кровать. Ну что же, если нам не выковать другого, Давайте с веком вековать. И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке Век умирает – а потом Два сонных яблока на роговой облатке Сияют перистым огнем!1924
«Вы, с квадратными окошками, невысокие дома…»
Вы, с квадратными окошками, невысокие дома, Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима. И торчат, как щуки ребрами, незамерзшие катки, И еще в прихожих слепеньких валяются коньки. А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар, Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар. Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора, И сама собой сдирается с мандаринов кожура. И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой, Электрическою мельницей смолот мокко золотой. Шоколадные, кирпичные, невысокие дома, Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима. И приемные с роялями, где, по креслам рассадив, Доктора кого-то потчуют ворохами старых «Нив». После бани, после оперы, — всё равно, куда ни шло. Бестолковое последнее трамвайное тепло.1924
«Сегодня ночью, не солгу…»
Сегодня ночью, не солгу, По пояс в тающем снегу Я шел с чужого полустанка. Гляжу изба: вошел в сенцы, Чай с солью пили чернецы, И с ними балует цыганка. У изголовья, вновь и вновь, Цыганка вскидывает бровь, И разговор ее был жалок: Она сидела до зари И говорила: подари Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок. Того, что было, не вернешь, Дубовый стол, в солонке нож, И вместо хлеба – еж брюхатый; Хотели петь – и не смогли, Хотели встать – дугой пошли Через окно на двор горбатый. И вот проходит полчаса, И гарнцы черного овса Жуют, похрустывая, кони; Скрипят ворота на заре, И запрягают на дворе; Теплеют медленно ладони. Холщевый сумрак поредел. С водою разведенный мел, Хоть даром, скука разливает, И сквозь прозрачное рядно Молочный день глядит в окно И золотушный грач мелькает.1925
«Я буду метаться по табору улицы темной…»
Я буду метаться по табору улицы темной За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за вечным, за мельничным шумом… Я только запомнил каштановых прядей осечки, Придымленных горечью, нет — с муравьиной кислинкой; От них на губах остается янтарная сухость. В такие минуты и воздух мне кажется карим, И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой, И то, что я знаю о яблочной розовой коже… Но всё же скрипели извозчичьих санок полозья, В плетенку рогожи глядели колючие звезды, И били в разрядку копыта по клавишам мерзлым. И только и свету — что в звездной колючей неправде, А жизнь проплывет театрального капора пеной; И некому молвить: «из табора улицы темной…»1925
Новые стихи
Октябрь 1930 – июнь 1931
«Куда как страшно нам с тобой…»
Куда как страшно нам с тобой, Товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш табак, Щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, Заесть ореховым пирогом — Да, видно, нельзя никак…Октябрь 1930
Как бык шестикрылый и грозный Здесь людям является труд И, кровью набухнув венозной, Предзимние розы цветут…Октябрь 1930
Армения
1
Ты розу Гафиза колышешь И нянчишь зверушек-детей, Плечьми осьмигранными дышишь Мужицких бычачьих церквей. Окрашена охрою хриплой, Ты вся далеко за горой, А здесь лишь картинка налипла Из чайного блюдца с водой.2
Ты красок себе пожелала — И выхватил лапой своей Рисующий лев из пенала С полдюжины карандашей. Страна москательных пожаров И мертвых гончарных равнин, Ты рыжебородых сардаров Терпела средь камней и глин. Вдали якорей и трезубцев, Где жухлый почил материк, Ты видела всех жизнелюбцев, Всех казнелюбивых владык. И, крови моей не волнуя, Как детский рисунок просты, Здесь жены проходят, даруя От львиной своей красоты. Как люб мне язык твой зловещий, Твои молодые гроба, Где буквы – кузнечные клещи И каждое слово – скоба…3
Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло, Всех-то цветов мне осталось – лишь сурик да хриплая охра. И почему-то мне начало утро армянское сниться, Думал – возьму посмотрю, как живет в Эривани синица, Как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки, Из очага вынимает лавашные влажные шкурки… Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала, Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала? Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый, Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны. Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил, Время свое заморозил и крови горячей не пролил. Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо, Я не хочу твоего замороженного винограда!4
Закутав рот, как влажную розу, Держа в руках осьмигранные соты, Всё утро дней на окраине мира Ты простояла, глотая слезы, И отвернулась со стыдом и скорбью От городов бородатых Востока — И вот лежишь на москательном ложе, И с тебя снимают посмертную маску.5
Руку платком обмотай и в венценосный шиповник, В самую гущу его целлулоидных терний Смело, до хруста ее погрузи — Добудем розу без ножниц! Но смотри, чтобы он не осыпался сразу — Розовый мусор – муслин — лепесток соломоновый — И для шербета негодный дичок, Не дающий ни масла, ни запаха.6
Орущих камней государство — Армения, Армения! Хриплые горы к оружью зовущая — Армения, Армения! К трубам серебряным Азии вечно летящая — Армения, Армения! Солнца персидские деньги щедро раздаривающая — Армения, Армения!7
Не развалины, нет — но порубка могучего циркульного леса, Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного христианства, Рулоны каменного сукна на капителях — как товар из языческой разграбленной лавки, Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов И нахохленные орлы с совиными крыльями, еще не оскверненные Византией.8
Холодно розе в снегу: на Севане снег в три аршина… Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани, Сытых форелей усатые морды несут полицейскую службу на известковом дне. А в Эривани и в Эчмиадзине весь воздух выпила огромная гора. Ее бы приманить какой-то окариной иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту. Снега, снега, снега на рисовой бумаге. Гора плывет к губам. Мне холодно. Я рад…9
О порфирные цокая граниты, Спотыкается крестьянская лошадка, Забираясь на лысый цоколь Государственного звонкого камня. А за нею с узелками сыра, Еле дух переводя, бегут курдины, Примирившие дьявола и Бога, Каждому воздавши половину…10
Какая роскошь в нищенском селеньи Волосяная музыка воды! Что это? пряжа? звук? предупрежденье? Чур-чур меня! Далeко ль до беды! И в лабиринте влажного распева Такая душная стрекочет мгла, Как будто в гости водяная дева К часовщику подземному пришла.11
Я тебя никогда не увижу, Близорукое армянское небо, И уже не взгляну, прищурясь, На дорожный шатер Арарата, И уже никогда не раскрою В библиотеке авторов гончарных Прекрасной земли пустотелую книгу, По которой учились первые люди.12
Лазурь да глина, глина да лазурь, Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь, Как близорукий шах над перстнем бирюзовым, Над книгой звонких глин, над книжною землей, Над гнойной книгою, над глиной дорогой, Которой мучимся, как музыкой и словом.16 октября—5 ноября 1930
«На полицейской бумаге верже…»
На полицейской бумаге верже —
Ночь наглоталась колючих ершей —
Звезды живут – канцелярские птички, —
Пишут и пишут свои раппортички.
Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать —
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешенье.
Октябрь 1930
Не говори никому, Всё, что ты видел, забудь — Птицу, старуху, тюрьму Или еще что-нибудь. Или охватит тебя, Только уста разомкнешь При наступлении дня Мелкая хвойная дрожь. Вспомнишь на даче осу, Детский чернильный пенал Или чернику в лесу, Что никогда не сбирал.Октябрь 1930
Колючая речь Араратской долины, Дикая кошка – армянская речь, Хищный язык городов глинобитных, Речь голодающих кирпичей. А близорукое шахское небо — Слепорожденная бирюза — Всё не прочтет пустотелую книгу Черной кровью запекшихся глин.Октябрь 1930
«Как люб мне натугой живущий…»
Как люб мне натугой живущий, Столетьем считающий год, Рожающий, спящий, орущий, К земле пригвожденный народ. Твое пограничное ухо — Все звуки ему хороши — Желтуха, желтуха, желтуха В проклятой горчичной глуши!Октябрь 1930
«Дикая кошка – армянская речь…»
Дикая кошка – армянская речь Мучит меня и царапает ухо. Хоть на постели горбатой прилечь… О, лихорадка, о, злая моруха! Падают вниз с потолка светляки, Ползают мухи по липкой простыне, И маршируют повзводно полки Птиц голенастых по желтой равнине. Страшен чиновник – лицо как тюфяк, Нету его ни жалчей, ни нелепей, — Командированный – мать твою так! — Без подорожной в армянские степи. Пропадом ты пропади, говорят, Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу, Старый повытчик, награбив деньжат, Бывший гвардеец, замыв оплеуху. Грянет ли в двери знакомое: «Ба! Ты ли, дружище?» Какая издевка! Долго ль еще нам ходить по гроба, Как по грибы деревенская девка?.. Были мы люди, а стали людье, И суждено – по какому разряду? — Нам роковое в груди колотье Да эрзерумская кисть винограду.Октябрь 1930
«И по-звериному воет людье…»
И по-звериному воет людье,
И по-людски куролесит зверье…
Чудный чиновник без подорожной
Командированный к тачке острожной, —
Он Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму.
Октябрь 1930
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда – так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей. Узнавай же скорее декабрьский денек, Где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, я еще не хочу умирать: У тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок Ударяет мне вырванный с мясом звонок, И всю ночь напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных.Декабрь 1930
«Мы с тобой на кухне посидим…»
Мы с тобой на кухне посидим, Сладко пахнет белый керосин, Острый нож да хлеба каравай… Хочешь, примус туго накачай, А не то веревок собери — Завязать корзину до зари, Чтобы нам уехать на вокзал, Где бы нас никто не отыскал.Январь 1931
«Помоги, Господь, эту ночь прожить…»
Помоги, Господь, эту ночь прожить, Я за жизнь боюсь – за твою рабу… В Петербурге жить – словно спать в гробу.Январь 1931
«С миром державным я был лишь ребячески связан…»
С миром державным я был лишь ребячески связан, Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья, И ни крупицей души я ему не обязан, Как я ни мучил себя по чужому подобью. С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой Я не стоял под египетским портиком банка, И над лимонной Невою под хруст сторублевый Мне никогда, никогда не плясала цыганка. Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных Я убежал к нереидам на Черное море И от красавиц тогдашних — от тех европеянок нежных — Сколько я принял смущенья, надсады и горя! Так отчего ж до сих пор этот город довлеет Мыслям и чувствам моим по старинному праву? Он от пожаров еще и морозов наглеет, Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый. Не потому ль, что я видел на детской картинке Леди Годиву с распущенной рыжею гривой, Я повторяю еще про себя под сурдинку: Леди Годива, прощай… Я не помню, Годива.Февраль 1931
«После полуночи сердце ворует…»
После полуночи сердце ворует Прямо из рук запрещенную тишь. Тихо живет – хорошо озорует: Любишь – не любишь, ни с чем не сравнишь. Любишь – не любишь, поймешь – не поймаешь… Не потому ль, как подкидыш, дрожишь, Что пополуночи сердце пирует, Взяв на прикус серебристую мышь.Март 1931
«Колют ресницы. В груди прикипела слеза…»
Колют ресницы. В груди прикипела слеза. Чую без страху, что будет и будет гроза. Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. Душно – и все-таки до смерти хочется жить. С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук, Дико и сонно еще озираясь вокруг, Так вот бушлатник шершавую песню поет В час, как полоской заря над острогом встает.2 марта 1931
«Я скажу тебе с последней…
Ma voix aigre et fausse… [2]
P.Verlain Я скажу тебе с последней Прямотой: Всё лишь бредни, шерри-бренди, Ангел мой. Там, где эллину сияла Красота, Мне из черных дыр зияла Срамота. Греки сбондили Елену По волнам, Ну а мне – соленой пеной По губам. По губам меня помажет Пустота, Строгий кукиш мне покажет Нищета. Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли, Всё равно. Ангел Мэри, пей коктейли, Дуй вино! Я скажу тебе с последней Прямотой: Всё лишь бредни, шерри-бренди, Ангел мой.2 марта 1931
«Жил Александр Герцевич…»
Жил Александр Герцевич, Еврейский музыкант, — Он Шуберта наверчивал, Как чистый бриллиант. И всласть, с утра до вечера, Заученную вхруст, Одну сонату вечную Играл он наизусть… Что, Александр Герцевич, На улице темно? Брось, Александр Сердцевич, — Чего там! Всё равно! Пускай там итальяночка, Покуда снег хрустит, На узеньких на саночках За Шубертом летит: Нам с музыкой-голубою Не страшно умереть, — Там хоть вороньей шубою На вешалке висеть… Всё, Александр Герцевич, Заверчено давно, Брось, Александр Скерцевич, Чего там! Всё равно!27 марта 1931
«За гремучую доблесть грядущих веков…»
За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей, — Я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей: Запихай меня лучше, как шапку, в рукав Жаркой шубы сибирских степей… Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, Ни кровавых костей в колесе; Чтоб сияли всю ночь голубые песцы Мне в своей первобытной красе, — Уведи меня в ночь, где течет Енисей И сосна до звезды достает, Потому что не волк я по крови своей И меня только равный убьет.17—28 марта 1931, 1935
«Ночь на дворе. Барская лжа…»
Ночь на дворе. Барская лжа: После меня хоть потоп. Что же потом? Хрип горожан И толкотня в гардероб. Бал-маскарад. Век-волкодав. Так затверди ж назубок: Шапку в рукав, шапкой в рукав — И да хранит тебя Бог!Март 1931
«Нет, не спрятаться мне от великой муры…»
Нет, не спрятаться мне от великой муры За извозчичью спину Москвы. Я – трамвайная вишенка страшной поры, И не знаю, зачем я живу. Мы с тобою поедем на «А» и на «Б» Посмотреть, кто скорее умрет, А она то сжимается, как воробей, То растет, как воздушный пирог. И едва успевает грозить из угла — Ты как хочешь, а я не рискну! У кого под перчаткой не хватит тепла, Чтоб объехать всю курву-Москву.Апрель 1931
«Я с дымящей лучиной вхожу…»
Я с дымящей лучиной вхожу К шестипалой неправде в избу: Дай-ка я на тебя погляжу — Ведь лежать мне в сосновом гробу. А она мне соленых грибков Вынимает в горшке из-под нар, А она из ребячьих пупков Подает мне горячий отвар. – Захочу, – говорит, – дам еще. — Ну а я не дышу, сам не рад… Шасть к порогу: куда там… В плечо Уцепилась и тащит назад. Вошь да глушь у нее, тишь да мша, Полуспаленка, полутюрьма. – Ничего, хороша, хороша… Я и сам ведь такой же, кума…4 апреля 1931
«Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня…»
Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня, За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня, За музыку сосен савойских, полей Елисейских бензин, За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских картин. Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин, За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин. Я пью, но еще не придумал — из двух выбираю одно: Веселое асти-спуманте иль папского замка вино.11 апреля 1931
Рояль
Как парламент, жующий Фронду, Вяло дышит огромный зал, Не идет Гора на Жиронду, И не крепнет сословий вал. Оскорбленный и оскорбитель, Не звучит рояль-Голиаф, Звуколюбец, душемутитель, Мирабо фортепьянных прав. – Разве руки мои – кувалды? Десять пальцев – мой табунок! — И вскочил, отряхая фалды, Мастер Генрих – конек-горбунок. . . . . . . . . . . . . . . Чтобы в мире стало просторней, Ради сложности мировой, Не втирайте в клавиши корень Сладковатой груши земной. Чтоб смолою соната джина Проступила из позвонков, Нюренбергская есть пружина, Выпрямляющая мертвецов.16 апреля 1931
«Сохрани мою речь навсегда…»
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, За смолу кругового терпенья, — за совестный деготь труда. — Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье — Обещаю построить такие дремучие срубы, Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи — Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду — Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе И для казни петровской в лесах топорище найду.3 мая 1931
Канцона
Неужели я увижу завтра — Слева сердце бьется – слава, бейся! — Вас, банкиры горного ландшафта, Вас, держатели могучих акций гнейса? Там зрачок профессорский, орлиный — Египтологи и нумизматы — Это птицы сумрачно-хохлатые С жестким мясом и широкою грудиной. То Зевес подкручивает с толком Золотыми пальцами краснодеревца Замечательные луковицы-стекла — Прозорливцу дар от псалмопевца. Он глядит в бинокль прекрасный Цейса — Дорогой подарок царь-Давида — Замечает все морщины гнейсовые, Где сосна иль деревушка-гнида. Я покину край гипербореев, Чтобы зреньем напитать судьбы развязку, Я скажу «села» начальнику евреев За его малиновую ласку. Край небритых гор еще неясен, Мелколесья колется щетина, И свежа, как вымытая басня, До оскомины зеленая долина. Я люблю военные бинокли С ростовщическою силой зренья. Две лишь краски в мире не поблекли: В желтой – зависть, в красной – нетерпенье.26 мая 1931
«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…»
Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето: С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких, железных, В черной оспе блаженствуют кольца бульваров. Нет на Москву и ночью угомону, Когда покой бежит из-под копыт. Ты скажешь: где-то там, на полигоне, Два клоуна засели – Бим и Бом, И в ход пошли гребенки, молоточки, То слышится гармоника губная, То детское молочное пьянино: До-ре-ми-фа И соль-фа-ми-ре-до… Бывало, я, как помоложе, выйду В проклеенном резиновом пальто В широкую разлапицу бульваров, Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном, Где арестованный медведь гуляет — Самой природы вечный меньшевик, И пахло до отказу лавровишней!.. Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен… Я подтяну бутылочную гирьку Кухонных крупно скачущих часов. Уж до чего шероховато время, А все-таки люблю за хвост его ловить: Ведь в беге собственном оно не виновато, Да, кажется, чуть-чуть жуликовато. Чур! Не просить! Не жаловаться! Цыц! Не хныкать! Для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал? Мы умрем, как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. Есть у нас паутинка шотландского старого пледа, Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру, — Выпьем, дружок, за наше ячменное горе, Выпьем до дна! Из густо отработавших кино Убитые, как после хлороформу, Выходят толпы. До чего они венозны, И до чего им нужен кислород! Пора вам знать: я тоже современник, Я человек эпохи Москвошвея, Смотрите, как на мне топорщится пиджак, Как я ступать и говорить умею! Попробуйте меня от века оторвать, Ручаюсь вам – себе свернете шею! Я говорю с эпохою – но разве Душа у ней пеньковая и разве Она у нас постыдно прижилась, Как сморщенный зверек в тибетском храме: Почешется – и в цинковую ванну, — Изобрази еще нам, Марь Иванна! Пусть это оскорбительно, – поймите: Есть блуд труда, и он у нас в крови. Уже светает… Шумят сады зеленым телеграфом. К Рембрандту входит в гости Рафаэль. Он с Моцартом в Москве души не чает — За карий глаз, за воробьиный хмель. И словно пневматическую почту Иль студенец медузы черноморской Передают с квартиры на квартиру Конвейером воздушным сквозняки, Как майские студенты-шелапуты…Май—4 июня 1931
«Еще далёко мне до патриарха…»
Еще далёко мне до патриарха, Еще на мне полупочтенный возраст, Еще меня ругают за глаза На языке трамвайных перебранок, В котором нет ни смысла, ни аза: Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь, — Но в глубине ничуть не изменяюсь… Когда подумаешь – чем связан с миром, То сам себе не веришь: ерунда! Полночный ключик от чужой квартиры, Да гривенник серебряный в кармане, Да целлулоид фильмы воровской. Я, как щенок, кидаюсь к телефону На каждый истерический звонок: В нем слышно польское «Дзенькуе, пани», Иногородний ласковый упрек Иль неисполненное обещанье. Всё думаешь: к чему бы приохотиться Посереди хлопушек и шутих; Перекипишь – а там, гляди, останется Одна сумятица да безработица: Пожалуйста, прикуривай у них! То усмехнусь, то робко приосанюсь И с белорукой тростью выхожу: Я слушаю сонаты в переулках, У всех лотков облизываю губы, Листаю книги в глыбких подворотнях, И не живу, и все-таки живу. Я к воробьям пойду и к репортерам, Я к уличным фотографам пойду И в пять минут – лопаткой из ведерка — Я получу свое изображенье Под конусом лиловой шах-горы. А иногда пущусь на побегушки В распаренные душные подвалы, Где чистые и честные китайцы Хватают палочками шарики из теста, Играют в узкие нарезанные карты И водку пьют, как ласточки с Ян-Цзы. Люблю разъезды скворчащих трамваев, И астраханскую икру асфальта, Накрытого соломенной рогожей, Напоминающей корзинку асти, И страусовые перья арматуры В начале стройки ленинских домов. Вхожу в вертепы чудные музеев, Где пучатся кащеевы Рембрандты, Достигнув блеска кордованской кожи, Дивлюсь рогатым митрам Тициана И Тинторетто пестрому дивлюсь — Как тысяче крикливых попугаев. И до чего хочу я разыграться — Разговориться – выговорить правду — Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, — Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, — Сказать ему, – нам по пути с тобой…Май – сентябрь 1931
Примечания
1
Тишина (лат. заглавие стихотворения Тютчева).
(обратно)2
Мой голос резкий и фальшивый… (франц.)
(обратно)




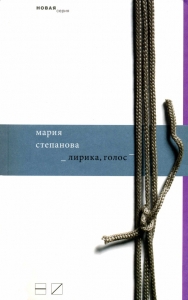
Комментарии к книге «Камень (сборник)», Осип Эмильевич Мандельштам
Всего 0 комментариев