Велимир Хлебников Полное собрание сочинений Том 3. Поэмы 1905-1922
Приносим глубокую благодарность Д. К. Бернштейну, А. Р. Биряльцевой, З. Г. Годович, И. В. Ермаковой, М. С. Киктеву, ЕМ. Кише, А. А. Мамаеву, М. П. Митуричу-Хлебникову, А. Е. Парнису, С. В. Старкиной, Н. С. Шефтелевич, а также всем сотрудникам рукописных и книжных фондов ГММ, ИМАИ, ИРАН, РГАЛИ, РНБ, оказавшим помощь в подготовке настоящего тома ценными материалами и благожелательным содействием.
Поэмы 1905–1922
Царская невеста*
XVI столетие
I
Прощался с нежным прошлым голос, Моля простить измену дев, И заплетали девы волос, Невесту в белое одев. Ее белее не был одолен, Когда свой рок вняла у них. И не подымала глаз с колен, Когда мимо нее прошел жених. Она сидела в белом вся. Как жертва агняя вначале, О чем-то нежное прося, Уста шептали и молчали. Она сидела в низком кресле, Ее охорашивали нему. Думы к грядущему знать чресла Летели, нежные, к нему.II
Было тесно на пиру, На столе было тесно медам. «Красавицу беру, Отцу сейчас я честь воздам. Честь ждет тебя великая»,– Царь захохотал. Шут, над плечом царя хихикая, О чем-то с радостью шептал. Отец о чести, весел, грезил, Не мнил, пируя, ни о чем, Когда из рук летящий жезел Его седин стал палачом. И он упал, брадою страшен, Ее подняв, как глаз слепца. Так между блюд и между брашен Жених казнил жены отца. И стол – изделье столяров – Стонал под тяжестью «ударю», Когда звон гусель гусляров Хвалу вел государю. И на поверхность пола доек Сквозь пира досок трещины Лился на землю струйкой мозг Того, чья честь была обещана.III
[И царь был бешено красив, Слова вонзая долгой мукой, Ее, неспящую, спросив: «Что будет мне в любви порукой? Нет, щепкой ты не станешь, нет!» Глаз из седых смотрел бровей, Седой паук как из тенет.] И лишь раздался соловей, Супруг, стуча по полу палкой, Он из опочивальни идет прочь, Под ропот девы жалкий: «Меня безвинно не порочь». Но кто невесты лепет слушал? Он погашен глухим рыданьем. Шаги уходят дальше, глуше, Как будто идут на свиданье. И вздрогнул пол и сотряснулись окна Когда, кидая бешен взор, Был посох в землю воткнут, И царь пошел на конный двор. Он дверью дальной хлопнул, Кому-то крикнул «гей!» И засуетилися холопы, Тревожа стойлами коней.IV
Одна в полурассветной теми Она плечами вздрагивает в рыданьях, Мыслью уходя за теми, Кто отдал ее сюда печальной данью. «Вот голубица. Ее ли коршуну не клевать? Она будет биться. Задерните кровать. Один возьмет ее пусть в стане, Другой пусть у изголовья встанет, Закройте чем-нибудь колени. Не слушайте молений». Слуги с злорадством в взоре блещут, Несут ее не бережней, чем вещи. Не вырвался крик сквозь сомкнутости уст, Но глаз блестел сквозь золотой кос куст. И двое молодых рабов Страшной подверглися огюле: За то, что нежную почувствовали любовь, На землю мертвыми упали. Ее молчащую садили В, колышась, ждущей колымаге, Чтобы в озерном тонком иле Холмом прозрачным стала влага. Были кони разъяренны, Шею гнула пристяжка косая, Были зубы оголенны, Они приподымали губы, кусая. И кони бешено храпели, И тройка дикая рвалась, Когда соседние пропели Чернцы: «Спаси, помилуй нас!» И царь пронзительно загикал И о крыльцо ногой затопал! Были кони слишком тихи, Были слуги слишком робки! С пронзительным глухим криком С цепей спускал царь псов, Когда путь тройке дикой Раскрыл двора ворот засов. Скакали псы вслед тройке, лая. В клубах крутящей ее пыли Княжна, едва живая, Узрела озера залив. И кони прянули с обрыва И плыли, рассекая твердь, И в этот миг, бессмертие как красива, Она одно просила: смерть. Исчезли со дна вздохи, Стал пищей нежной труп. А там под звон и хохот Царь ищет встречных губ. Была ее душа Дум грустных улей, Когда, сомнением дыша, Над нею волны вход сомкнули. И в миг, когда водяного деда челядь Ей созидала в хлябях встречу, Ей вспоминалися качели И сенных девушек за песней вече. Ей вспоминалась речь бояр И говор старых мамок, Над речкой красный яр И отчий древний замок. И вспомнился убийца отний, Себя карающий гордец, Тот, что у ней святыню отнял, Союз пылающих сердец. Думы воскресали, Бия, как волны в мель откоса. Утопленницы чесали Ее златые косы, Завивая; Княжна стояла как живая.1905, <1912>
Мария Вечора*
Выступы замок простер В синюю неба пустыню. Холодный востока костер Утра встречает богиню. И тогда-то Звон раздался от подков. Бел, как хата, Месяц ясных облаков Лаву видит седоков. И один из них широко Ношей белою сверкнул, И в его ночное око Сам таинственный разгул Выше мела белых скул Заглянул. «Не святые, не святоши, В поздний час несемся мы, Так зачем чураться ноши В час царицы ночи – тьмы!». Уж по твердой мостовой Идут взмыленные кони. И опять взмахнул живой Ношей мчащийся погони. И кони устало зевают, замучены, Шатаются конские стати. Усы золотые закручены Вождя веселящейся знати. И, вящей породе поспешная дань, Ворота раскрылися настежь. «Раскройся, раскройся, широкая ткань, Находку прекрасную застишь. В руках моих дремлет прекрасная лань!». И, преодолевая странный страх, По пространной взбегает он лестнице И прячет лицо в волосах Молчащей кудесницы. «В холодном сумраке покоя, Где окружили стол скамьи, Веселье встречу я какое В разгуле витязей семьи?» И те отвечали с весельем: «Правду промолвил и дело. Дружен урод с подземельем, И любит высоты небесное тело».– «Короткие четверть часа Буду вверху и наедине. Узнаю, ли льнут ее волоса К моей молодой седине». И те засмеялися дружно. Качаются старою стрелкой часы. Но страх вдруг приходит. Но все же наружно Те всадники крутят лихие усы… Но что это? жалобный стон и трепещущий говор, И тела упавшего шум позже стука. Весь дрожа, пробегает в молчании повар И прочь убегает, не выронив звука. И мчатся толпою, недоброе чуя, До двери высокой, дубовой и темней, И плачет дружинник, ключ в скважину суя, Суровый, сердитый, огромный. На битву идут они к женственным чарам, И дверь отворилась под тяжким ударом Со скрипом, как будто куда-то летя, Грустящее молит и плачет дитя. Но зачем в их руках заблистали клинки? Шашек лезвия блещут из каждой руки. Как будто заснувший, лежит общий друг, И на пол стекают из крови озера. А в углу близ стены – вся упрек и испуг – Мария Вечора.<1907>, 1914
Алчак*
Как раньше, темен длинный берег, Где дева с звоном длинных серег, С грустящим криком, с заломом рук Кинулась в море, ринулась в звук Иссиня-светлых вод, Закончив грустный год, В валов и рев и стук… Один молчал, другая ждала, Один был бел, другая мало, И в лодке их вдвоем качало, Когда в венке из пены человек Подслушал нежной с хладным спор, Двоих печальный разговор, Сквозь волн прибойных хладный бег. «Ты кто? – крылатый ящер, Потомок змей, несчастья пращур, Ты попиратель слабой веры В чертогах строгих морской пещеры? Моих желаний, моих надежд Срыватель ясный во сне одежд? На закате темном тих, Кто, какой ты силы сын? Сладкий „он“ иль чуженин? О, оставь, оставь меня, Пожалей взамен других. Милый! милый! – что ты сделал! Другом быть ужель не мог?» И пожатьем узко-белым Сквозь рыдающие всхлипы ей ответит ве<т>ер в белом, Шевеля упавших кипы: «Жизнь одна у нас – ужели Мы не в праве, мы не можем, Только волны посвежели, Припадать к холодным ложам? Имя бога призывая, В час истомы и досуга, Вспомни, вспомни, дорогая, Вспомни, вспомни, о подруга! Разве я тебя заставил, Разве я тебя принудил Счастья плод сорвать без правил, Как могучий случай судил?» Но она ответит: «Нет! Нет, речистый, не сумеешь Лани вынуть медный вред, Только холодом повеешь!» И она заплачет снова, Слышны стоны сквозь платок. Он же верх гребня резного Прочь срывает, как цветок. Он гребет сильнее веслами Прямо к берегу к крутому, Где за елями за рослыми Пещеры манят их истому. Но она моленьям звонким Не ответствует, глуха, И в ответ на просьбу к гонкам Смотрит прямо и суха. Видит друга иль не видит? Любит или ненавидит? Он, ее хулой обидя, С нею рядом страшно сидя, Страстны речи лепеча, Умоляя и крича, Хочет мысль ее прочесть, Хочет месть ее отвесть. Но, угрозою полна, Отодвинувшись врозь снова К краю легкого челна, Она шепчет страсти слово: «Если эта жизнь обманет, – О, несчастье, о, беда!» В нем ее ничто не манит. (Очи страшного суда.) Челн о волны бился валок, Билась вольная волна. Он был, плача тихо, жалок. Она грустию полна. И потом уходит гордо Поправляя волоса, По тропинке горной твердо, Где белеют паруса. Чтоб с чела того утеса, Где поет и воет плесо, Где гнездуют ястреба, Тело слабое неслося В влаги вольные гроба. Он обернулся, молвив: «Прощай. О солнце, ее не освещай. Сокройся и падай, печальное, в море, Сокройтесь и волны, свидетели горя!» Алчак хранит святую тайну Ее ужасного конца. А юноша… он не случайно Бежит любезного венца…<1908>
Журавль*
В. Каменскому
На площади в влагу входящего угла, Где златом сияющая игла Покрыла кладбище царей, Там мальчик в ужасе шептал: «Ей-ей! Смотри, закачались в хмеле трубы – те!» Бледнели в ужасе заики губы И взор прикован к высоте. Что? Мальчик бредит наяву? Я мальчика зову. Но он молчит и вдруг бежит – какие страшные скачки! Я медленно достаю очки. И точно: трубы подымали свои шеи, Как на стене тень пальцев ворожеи. Так делаются подвижными дотоле неподвижные на болоте выпи, Когда опасность миновала. Среди камышей и озерной кипи Птица-растение главою закивала. Но что же? скачет вдоль реки в каком-то вихре Железный, кисти руки подобный, крюк. Стоя над волнами, когда они стихли, Он походил на подарок на память костяку рук! Часть к части, он стремится к вещам с неведомой еще силой – Так узник на свидание стремится навстречу милой! Железные и хитроумные чертоги в каком-то яростном пожаре, Как пламень, возникающий из жара, На место становясь, давали чуду ноги. Трубы, стоявшие века, Летят, Движениям подражая червяка, Игривей в шалости котят. Тогда части поездов, с надписью «для некурящих» и «для служилых», Остов одели в сплетенные друг с другом жилы. Железные пути срываются с дорог Движением созревших осенью стручков. И вот, и вот плывет по волнам, как порог, Как Неясыть иль грозный Детинец, от берегов отпавшийся Тучков! О, Род Людской! Ты был как мякоть, В которой созрели иные семена! Чертя подошвой грозной слякоть, Плывут восстанием на тя иные племена! Из желез И меди над городом восстал, грозя, костяк, Перед которым человечество и все иное лишь пустяк, Не более одной желез. Прямо летящие, в изгибе ль Трубы возвещают человечеству погибель. Трубы незримых духов се! поют: «Змее с смертельным поцелуем Была людская грудь уют. Злей не был и Кощей, Чем будет, может быть, восстание вещей. Зачем же вещи мы балуем?» Вспенив поверхность вод, Плывет наперекор волне железно-стройный плот. Сзади его раскрылась бездна чорна, Разверзся в осень плод, И обнажились, выпав, зерна. Угловая башня, не оставив глашатая полдня – длинную пушку, Птицы образует душку. На ней в белой рубашке дитя Сидит безумное, летя, И прижимает к груди подушку. Крюк лазает по остову С проворством какаду. И вот рабочий, над Лосьим островом, Кричит, безумный: «Упаду!» Жукообразные повозки, Которых замысел по волнам молний сил гребет, В красные и желтые раскрашенные полоски, Птице дают становой хребет. На крыше небоскребов Колыхались травы устремленных рук. Некоторые из них были отягощением чудовища зоба. В дожде летящих в небе дуг Летят, как листья в непогоду, Трубы, сохраняя дым и числа года. Мост, который гиератическим стихом Висел над шумным городом, Объяв простор в свои кова, Замкнув два влаги рукава, Вот медленно трогается в путь С медленной походкой вельможи, которого обшита золотом грудь, Подражая движению льдины, И им образована птицы грудина. И им точно правит какой-то кочегар, И, может быть, то был спасшийся из воды в рубахе красной и лаптях волгарь С облипшими ко лбу волосами И с богомольными вдоль щек из глаз росами. И образует птицы кисть Крюк, остаток от того времени, когда четверолапым зверем только ведал жисть. И вдруг бешеный ход дал крюку возница, Точно когда кочегар геростратическим желанием вызвать крушение поезда соблазнится. Много – сколько мелких глаз в глазе стрекозы – оконные Дома образуют род ужасной селезенки, Зелено-грязный цвет ее исконный, И где-то внутри их, просыпаясь, дитя отирает глазенки. Мотри! Мотри! Дитя, глаза протри! У чудовища ног есть волос буйнее меха козы. Чугунные решетки – листья в месяц осени, Покидая место, чудовища меху дают ось они. Железные пути в диком росте Чудовища ногам дают легкие трубчатообразные кости, Сплетаясь змеями в крутой плетень, И длинную на город роняют тень. Полеты труб были так беспощадно явки, Покрытые точками, точно пиявки, Как новобранцы к месту явки, Летели труб изогнутых пиявки – Так шея созидалась из многочисленных труб. И вот в союз с вещами летит поспешно труп. Строгие и сумрачные девы Летят, влача одежды длинные, как ветра сил напевы. Какая-то птица, шагая по небу ногами могильного холма С восьмиконечными крестами, Раскрыла далекий клюв И половинками его замкнула свет. И в свете том яснеют толпы мертвецов, В союз спешащие вступить с вещами. Могучий созидался остов. Вещи выполняли какой-то давнишний замысел, Следуя старинным предначертаниям. Они торопились, как заговорщики, Возвести на престол, кто изнемог в скитаниях, Кто обещал: «Я лалы городов вам дам и сел, Лишь выполните, что я вам возвещал». К нему слетались мертвецы из кладбищ И плотью одевали остов железный. «Ванюша Цветочкин, то Незабудкин, бишь,– Старушка уверяла, – он летит, болезный». Изменники живых, Трупы злорадно улыбались, И их ряды, как ряды строевых, Над площадью желчно колебались. Полувеликан, полужуравель, Он людом грозно правил, Он распростер свое крыло, как буря волокна, Путь в глотку зверя предуказан был человечку, Как воздушнике путь в печку. Над готовым погибнуть полем Узники бились головами в окна, Моля у нового бога воли. Свершился переворот. Жизнь уступила власть Союзу трупа и вещи. О человек! Какой коварный дух Тебе шептал, убийца и советчик сразу: «Дух жизни в вещи влей!» Ты расплескал безумно разум, И вот ты снова данник журавлей. Беды обступали тебя снова темным лесом, Когда журавль подражал в занятиях повесам. Дома в стиле ренессанс и рококо – Только ягель, покрывший болото. Он пляшет в небе высоко В пляске пьяного сколота. Кто не умирал от смеха, видя, Какие выкидывает в пляске журавель коленца! Но здесь смех приобретал оттенок безумия, Когда видели исчезающим в клюве младенца. Матери выводили Черноволосых и белокурых ребят И, умирая во взоре, ждали. Одни от счастия лицо и концы уст зыбят, Другие, упав на руки, рыдали. Старосты отбирали по жеребьевке детей – Так важно рассудили старшины – И, набросав их, как золотистые плоды, в глубь сетей, К журавлю подымали в вышины. Сквозь сетки ячейки Опускалась головка, колыхая шелком волос. Журавль, к людским пристрастись обедням, Младенцем закусывал последним. Учителя и пророки Учили молиться, о необоримом говоря роке. И крыльями протяжно хлопал, И порой людишек скучно лопал. Он хохот-клик вложил В победное «давлю». И, напрягая дуги жил, Люди молились журавлю. Журавль пляшет звончее и гольче еще, Он людские крылом разметает полчища, Он клюв одел остатками людского мяса, Он скачет и пляшет в припадке дикого пляса. Так пляшет дикарь над телом побежденного врага. О, эта в небо закинутая в веселии нога!.. Но однажды он поднялся и улетел вдаль. Больше его не видали.1909
«Передо мной варился вар…»*
Передо мной варился вар В котле для жаренья быка. Десять молодых чертенят Когтями и языками усердно раздували жар, И накалились докрасна котла бока. Струи, когда они кипят, они звенят. Они советовались, как заговорщики: «Вот здесь жар в углях потолки!» Совы с криком подымались в потолки, Кипел горящий пар и огненные рождал цветки. Божественный повар Готовился из меня сотворить битки. Он за плечо меня взял, и его мышцы были здоровы. Готовясь в пещь меня швырнуть, Сладкоголосого в земные дни поверг в кипящую смолою глубь. Я умолял его вернуть К реке Сладим, текущей Мимо с цветами и птицами кущи, Но он ответствовал сурово: – О, блудодей словес, ответствуй, что делал ты на трижды обвернутой моим крылом земле? – Что делал, что знал ты? Он трепетать меня заставил, как эста балты. И, трепеща и коснея, в мышцах его рук себя ощущал, как камень в дубовом зажатый комле. Я отвечал: «Моя муза больше промышляла извозом Из запада скитальцев на восток, И ее никто не изобличил в почтенном занятьи вора. Впрочем, она иногда не боялась навозом Теплым запачкать одеяния бедный цветок Или низ платья, мимо скотного проходя двора». Тут тощий и скаредный лик Высунулся из-за плеча и что-то шептал, И его длинный язык По небу нёба прилежной птицею летал, И он головой качал, суров. – Ты прав, – сказал он, наконец. О, поэт, поэт, забудь луга, коров И друга нашего прийми венец! Но ведь это прелесть! – Заметил Вячеслав. – Ив этом челюсть Каких-то старых страшных глав. Я заметил в этом глаз… Не правда ли, она прекрасно улеглась Красивостью небесных струй, Которых ждет воздушный поцелуй? – Да. Я тоже нахожу,– Лениво молвил Амизук. – Я, может быть, не так сужу, И, может, глупость, что я скажу, Но только мне кажется, что понравилось. Очень. Он вдруг покраснел и был, казалось, сильно озабочен. Другие сидели молча, не издав ни звука. – Скажите, вы где изволили вкусить блага наук? – Паук? – Ах, нет… наук. Писатель, который уже сменил надежды на одежды Всеобщего уважения и почета, Заслуженной пользуясь славой звездочета, Которому не закрыты никакие двери спален, Сидел, и томен, и печален, Одной рукой держась за локоть, Набитый мышьяком, И сквозь общий хохот Он был один, казалось, не рад обмолвке с пауком. А впрочем, он был наедине с последними «Весами». Младой поэт с торчащими усами, Который в Африке Видел изысканно пробегающих жираф к реке, К нему подошел и делал пальцами, как пробегает по стене паук, Тем вызывая неземных отображение на лице страдальца мук. Писатель скорбно-печально расхохотался, Но тот, кто в Африке скитался, Его не покидал И тем заставил скрыться под софу. Меж тем, там кто-то, как Дэдал, Перелетал на милый всем Корфу. То видя, неземной улыбкой улыбаяся, ясница Взирала голубыми очами. О, кто б умел сказать, что <ей> снится Ночами? Поэт, поклонник жираф, Взирал и важен, и самодоволен. Он не любил отрав И бегством пленника доволен. Свой взор струит, как снисходительный указ, Смотрящий сверху Вячеслав. Он любит шалости проказ, От мудрой сухости устав. С буйством хмеля в глазах Освобожденного от уз невольника Кто-то всечеловеческий вплетает страх В немного странную игру природы: треугольник, Которого катеты, сроки и длина Чудесно связаны с последних дней всего забвением. Столовая немного удивлена Внезапным среди лозы и кудрей откровением. И укрощают буйство быстрое речей, Но оно клокочет, как весной ручей. Амизук прилег болванчиком На голубом диванчике. Он в красной рубашке, И мысли ползают по его глазам, как по стеклу букашки. Он удивлен речей началом, И мысли унесены его на одиннадцатую версту, Где лен прикреплен мочалом К шесту. – А вы? у вас есть что-нибудь? Вы прочтете? – Обращаются к тому, кто все думает, все думает о богатой тете, О, золотой презренный прах, К сидящему на кресле в черных воротничках,– Так что его можно было принять за араба, – о, мысли скачки, Если б цвет предков переходил на воротнички. – Я? Я с удовольствием. Он подымается и гордо С осанкой важной лорда Читает: «России нет, не стало больше, Ее раздел рассек, как Польшу». Или: «Среди людей мне делать нечего, Среди зверей я буду вечером». Или: «Куда ходил я мед пить жизни И высокомерным быть к богам. О, тризны, тризны Умершим врагам». – Очень мило, – изрекают. Блестят доверчиво глаза, А там, скача и спотыкаясь, по ладам скачет бирюза. – Очень мило. Вы очень удачно похитили у раешников меру. Глаза сказавшего с лукавством устремлены на Веру Константиновну Иванову-Шварсалон. С окошка Кошка Смотрела на салон. И бьют часы уж два. К столу собираются гости едва, Гостей власоноша не дозовется. И уселись за стол, как полководцы, Ученики военных училищ, У них отсутствуют мечи лишь. – Что? что? еще мальчики! Они не знают, во сколько обходится, – Был рассержен толстяк сутулый. И вот из божницы сходит Богородица И становится тихо за стулом. И когда заговорили о человеке и вере, – тогда Ее божественные веки дрожали прелестию стыда. Она скользнула в дверь за Ниссой, Она спустилась по лестнице вниз и Она сошла на далекую площадь И, обняв, осыпала поцелуями в голову лошадь. Так изливала Богородица свое горе, А над ней опрокинутое сияло звездное море.1909
Карамора № 2-ой*
Обойщик, с волчанкой На лице, в уме обивает стены, Где висящие турчанки Древлянским напевам смены. Так Лукомского сменяет Водкин. Листопад, снежный отрок метели. Мелькают усы и бородки. Иные свободными казаться хотели. Вот Брюллова. Шаловливая складка у губ. И в общем кошка, совсем не змея. О, кто из нас в уме (решая задачу) не был Лизогуб При виде ея. Мое сердце – погибающая Помпея Кисти Брюллова, В ваших глазах пей я Добычу пчел лова. О том, что есть, мы можем лишь молчать. На то, что сказано, легла лукавая печать. Я прав. Ведь дружно, нежно и слегка Мы вправе брать и врать взаймы у пустяка. Вот новая Сафо: внучка какого-то деда, Она начинала родовое имя с «дэ», да. Как Сафо, она, мне мнится, кого-то извела. Как софа, она и мягка, и широка, но тоже не звала. Сафо с утра прельщает нас, Когда заутра всходим на Парнас. «Куда идешь? Куда идешь? Я – здесь, Сафо, о, молодежь!» Софа зовет прилечь, уснуть, Когда идти иссякла нудь. «Куда идешь, о, нежный старче! Меня на свете нет теплее, мягче, жарче». Но как от вершин Парнасских я ни далек, Я был неподвижен, как яствами наполненный кулек, Когда, защищаемый софой, Я видел шествующую Сафо. Но, знать, пора уж в скуки буре Цветку завянуть в каламбуре. С элегией угасающей оргии В глазах Сидит пренебрегающий Георгием Боец, испытанный в шахматных ходов грозах. Он задумчиво сидит, и перед ним плывут по водам селезни. И вдруг вскочил и среди умолкших восклицает: «их все лизни!» – Все с изумлением взирают на его исступ, Но он стоит, и взор его и дик, и туп. Сидит с головою сизой и бритой, как колено верблюда, Кто-то, чтобы удобней, быть может, узнице гарема шепнуть: «люблю? – да!» Над лицом веселым и острым. Он моряк, и наяды его сестры. Здесь пробор меж волос и морщины на лбу лица печального имеют сходство с елкой, Когда на него с холста смеется человек с черно-серой испаньолкой. Тот в обличьи сельского учителя Затаил, о! занятье мучителя, Вечно веселого и забавного детки, Жителя дубров и зеленой ветки. Остро-сонный взгляд, Лохматый, быстрый вид. Глаза углят Следы недавние обид. Здесь из угла Смотрит лицо мужицкого Христа, Безумно-русских глаз игла, Вонзаясь в нас, страшна, чиста. В нем взор разверзнут каких-то страшных деревень, И лица других после его – ревень. Когда кто-то молчанием сверкал, Входил послушник радостный зеркал, Он сел, Где арабчонок радостный висел. Широко осклабляясь, он уселся радостен, Когда черные цветки – зная о зное – его смотрела рада стен. Молодчик, изловчась, Пустил в дворянство грязи ком. Ну, что же! добрый час! Одним на свете больше шутником, Но в нем какая-то надежда умерла, Когда услышали ложь, как клекот меляного орла. Спокоен, ясен и весел За стол усаживается NN, Он резво скачет длинными ушами, Как некогда в пустыне Шами – Вот издает веселый звук дороги лук, полей и сел Взорами ушей смеющийся осел. Кого-то в мысли оцукав, Сидит глазами бледными лукав. Но се! Из теста помещичьего изваянный Зевес Не хочет свой «венок» вытаскивать из-за молчания завес. Но тот ушами машет неприкаянно И вытаскивает потомство Каина. И тот, чья месть горда, надменна, высока, В потомстве Каина не видит «ка». Тот думает о том, кое счастливое лукошко Лукомского холсты опрокинуло на неосторожного зеваку-прохожего. И вдруг в его глазах – гщетно просящая о пощаде, вспыхивает, мяуча страшно, кошка, Искажая облик лица в общем пригожего, Тщательно застегнутого на золотые пуговицы. Он был, как военный, строен и других выше. Волосатое темя подобно колену. Слабо улыбаются желтые зубы. Смотрите! приподнялись длинные губы И похотливо тянут гроб Верлена. Мертвец кричит: «Ай-яй! Я принимаю господ воров лишь в часы от первого письма до срока смерти. Я занят смертью, господа, и мой окончен прием. Но вы идите к соседу. Мы гостей передаем. Дэлямюзик!» Ему в ответ: «Друзья, валяй! И дух в высотах кражей смерьте». Верлен упорствует. Можно еще следовать В очертании обуви и ее носка, Или в искусстве обернуть шею упорством белого, как мука, куска, Или в способе, как должна подаваться рука… Но если кто в области, свободной исконно, Следует, вяло и сонно, закройщика законам,– Пусть этот закройщик и из Парижа – В том неизменно воскресает рыжий. Или мы нуждаемся в искусственных – веке, носе и глазе? Тогда Россия – зрелище, благодарное для богомаза. В ней они увидеть должны жизнь в день страшного суда, Когда все звало: «Смерть, скорей, от мук целя, сюда, сюда!» Бедный Верлен, поданный кошкой На блюде ее верных искусств! Рот, разверзавшийся для пищи, как любопытного окошко – Ныне пуст. Я не согласен есть весенних кошек, которые так звонко некогда кричали, Вместо ярко-красных с белыми глазами ягнят, умиравших дрожа, Пусть кошки и поданы на человечьем сале – Проказят кладбищ сторожа. Думал ли, что кошек моря, он созидает моря И морскую болезнь для путевого? Вот обильная почва размышлений для Стоящего с разинутым ртом полового. И я не хочу отрицать существования изъяна, Когда Верлен подан кошкой вместо русского Баяна.<конец 1909 – начало 1910>
Песнь мне*
Я помню гордые черты С чертогом распри шалашов. Я прыгнул в бездну с высоты И стал вражды враждебный шов. Вотще упреки дураков! К расчету хитрому негоден, Я и в одежде из оков Хожу спокоен и свободен. С улыбкой ясной, просто Я подымаю жизнь До высоты своего роста. В век книг Воскликнул я: «Мы только зверям Верим!» И мой язык велик порой, Как сон задернутый горой. Я проклял вещь, Священ и вещ. Ей быть полезною рабыней, А не жестокою богиней. Прожить свой век Хотеть я мог, Как с пляской ног Враг похоронных дрог. То свету солнца Купальского Я пел, ударив в струны, То, как конь Пржевальского, Дробил песка буруны. И я там жил, брега Овидия, Я там бы жил, вас ненавиди я, Но вдруг вернулся переменчив, Улыбкой ясною застенчив. Я спорить не берусь, Но, думаю, мы можем Так жить, чтоб стала Русь Нестыдной жизни ложем. Трость для свирели я срезал Воспеть отечества величие, Врага в уста я не лобзал, Щадя обычаи приличия. Земля гробниц старинных скифов, Страна мечетей, снов халифов, В ней Висла, море и Амур, Перун, наука и амур. Сей разноязычный кровей стан Окуй, российское железо! Тунгуз сказал: «Там властен великан, Где зреют белые березы». И с северянкой стройной, белой Идет за славой русский смелый. Потом ты выберешь другую Подругу верную тебе, Главу, быть может, золотую Она возносит на столбе. И с ней узнаешь юга зной И холод веток вырезной. Пусть произойдет кровосмешение! Братья, полюбимте <сестер> друг друга. Судьбы железное решение Прочесть я мог в часы досуга. Так молодой когда-то орочон Любил коварную сестру И после проклял, научен, Ушел к близмлечному костру. Волнуясь, милуя, жалея, <Твои>, о Россия, цвета лелея, Пел о радости высокого Долга другом быть жестокого. Святое мы спасаем в скрепах Из дел свирепых. Отцов ненавидим вину. Будем русскому вину Сосуды крепки и чугунны, Будем мы гунны. Не надо червонного слабого золота Для заступа, жерла и молота. И, изумлены бедствий урожаем, Мы видим, мы мужаем. Мы, как разгневанный король, Нам треплет ветер волос, До нас что было голь, На плечах меха колос. Пусть свободные становища Обляжет русских войск змея. Так из чугунного чудовища Летит жемчужная струя. Сейчас блистают звезды, Везде царит покой. У русского подъезда Я стал, как часовой. И если кто-нибудь поодаль встанет, То бойся: выстрел грянет. Здесь за белую щеку бабра Схватил отчаянный охотник. А в городе дом-гору озирает храбро Вскарабкавшийся на крышу плотник. Здесь в водах русла Невского Крылом сверкает самолет, Там близ кумира Лобачевского Мятель мятежная поет. Там вздохи водопадные кита И ледовитые чертоги, Здесь же влетают стрепета И ходят эллинские боги. Я, как индеец, твари не обижу, Я не обижу и тебя, Лишь высокомерье нищих ненавижу, Достоинство любя. О, русского взоры, Окиньте имение, Шестую часть вселенной, Леса, моря, соборы… «Моя» местоимение Скажи, коленопреклоненный. Будем чугунно-углы, Мы, северяне, и вы, юга дети смуглы. И в мертвую [влюбленность] в цветок В миг безвольный и гробовый Я окровавил свой платок И с ним повел вас в лес дубовый. Невольный навевая страх, Входил я в грязных сапогах, Как победитель, как Аттила. А ныне все мило в земных дарах. И тот мне мил, Чей век судьба позолотила. О, вы, что русские именем, Но видом заморские щеголи, Заветом «свое на не русское выменим» Вы виды отечества трогали. Как пиршеств забытая свеча, Я лезвие пою меча. И вот, ужасная образина Пустынь могучего посла, Я прихожу к вам тенью Разина На зов [широкого] весла. От ресниц упала тень, А в руке висит кистень.<1910>
Змей поезда Бегство*
Посвящается охотнику за лосями павдинцу Попову; конный, он напоминал Добрыню.
Псы бежали за ним, как ручные волки.
Шаг его: два шага простых людей.
1
Мы говорили о том, что считали хорошим, Бранили трусость и порок. Поезд бежал, разумным служа ношам,2
Змеей качаемый чертог. Задвижками стекол стукал, Шатал подошвы ног.3
И одурь сонная сошла на сонных кукол, Мы были – утесы земли. Сосед соседу тихо шушукал42
4
В лад бега железного скользкой змеи. Испуг вдруг оживил меня. Почудилось, что жабры Блестят за стеклами в тени.5
Я посмотрел. Он задрожал, хоть оба были храбры. Был ясен строй жестоких игол. Так, змей крылатый! Что смерть, чума иль на охоте бабры6
Пред этим бледным жалом! им призрак нас дразнил и дрыгал. Имена гордые, народы, почестей хребты – Над всем, все попирая, призрак прыгал.7
То видя, вспомнил я лепты, Что милы суровому сердцу божеств. «Каковых ради польз, – воскликнул я, – ты возродил черты8
Могучих над змеем битвы торжеств? Как ужас или как творец неясной шутки Он принял вид и облик подземных существ?»9
Но в тот же миг заметил я ножки малютки, Где поприще бега было с хвостом. Эти короткие миги были столь жутки,10
Что я доныне помню, что было потом. Гребень высокий, как дальние снежные горы, Гада покрыл широким мостом.11
Разнообразные людские моры, Как знаки жили в чешуе. Смертей и гибели плачевные узоры12
Вились по брюху, как плющ по стене. Наместник главы, зияла раскрытая книга, Как челка лба на скакуне.13
Сгибали тело чудовища преемственные миги, То прядая кольцами, то телом коня, что встал, как свеча. Касалися земли нескромные вериги.14
И пасть разинута была, точно для встречи меча. Но сеть звездами расположенных колючек Испугала меня, и я заплакал, не крича.44
15
Власам подобную читая книгу, попутчик Сидел на гаде, черный вран, Усаженный в концах шипами и сотнями жучек.16
Крыла широкий сарафан Кому-то в небе угрожал шипом и бил, и зори За ним светлы, как око бабра за щелью тонких ран.17
И спутник мой воскликнул: «Горе! горе!» И слова вымолвить не мог, охвачен грустью. Угроза и упрек блестели в друга взоре.18
Я мнил, что человечество – верховье, мы ж мчимся к устью, И он крылом змеиным напрягал, Блестя зубов ужасной костью.19
И вдаль поспешно убегал, Чтоб телу необходимый дать разбег И старого движенья вал.20
В глазах убийство и ночлег, Как за занавеской желтой ссору, Прочесть умел бы человек.45
21
Мы оглянулись сразу и скоро На наших сонных соседей: Повсюду храп и скука разговора.22
Все покорялось спячке и беседе. Я вспомнил драку с змеем воина, Того, что, меч держа, к победе23
Шел. И воздух гада запахом, а поле кровию напоены Были, когда у ног, как труп безжизненный, чудовище легло; Кипела кровию на шее трупа черная пробоина.24
Но сердце применить пример старинный не могло. Меж тем после непонимаемых метаний Оно какой-то цели досягло25
И, сев на корточки, вытягивало шею. Рой желаний Его томил и мучил, чем-то звал. Окончен был обряд каких-то умываний,26
Он повернулся к нам – я в страхе умирал! Соседа сонного схватил и, щелкая, Его съедал. Змей стряпчего младого пожирал!27
Долина огласилась голкая Воплем нечеловеческим уст жертвы. Но челюсть, частая и колкая,28
Медленно пожирала члены мертвы. Соседей слабо убаюкал сон, И некоторые из них пошли, где первый.29
«Проснитесь! – я воскликнул. – Проснитесь! Горе! гибнет он!» Но каждый не слыхал, храпел с сноровкой, Дремотой унесен.30
Тогда, доволен сказки остановкой, Я выпрыгнул из поезда прочь. Чуть не ослеплен еловою мутовкой,31
Боец, я скрылся в куст, чтоб жить и мочь. Товарищ моему последовал примеру. Нас скрыла ель – при солнце ночь.32
И мы, в деревья скрывшись, как в пещеру, Были угасших страхов пепелище. Мы уносили в правду веру.33
А между тем рассудком нищи Змеем пожирались вместо пищи.Алферово
1910
«Немотичей и немичей…»*
Немотичей и немичей Зовет взыскующий сущел, Но новым грохотом мечей Ему ответит будущел. Сумнотичей и грустистёлей Зовет рыданственный желел За то, что некогда свистели, В свинце отсутствует сулел. Свинец согласно ненавидим – Сию железную летаву За то, что в мигах мертвых видим Звонко-багримую метаву. Вон хряскнул позвоночный столб, Вон хрустнул тот хребет. Смерть лихорадочно гребет Остатки талых толп. Очистая лучшадь, ты здесь, Ты здесь в этом вихре проклятий? В этом вихре навучих чудес, Среди жалостных смерти молятий? Вселенночку зовут, мирея, полудети… И умиратище клянут. Быть мертвым звала добродетель, Они послушались понуд. В землю ничком упали те, Кого навье, собой не грея, Зовут к полночной красоте, Над миром тенью тени рея. Смерть скажет вою: – Ну, лежи! Души навилой начинались вселеннёжи. Пора начать нам милежи! Ты… Мы-с, мясом теплым нас нежи. Пальбы послышались сугубири И смерти Нав прохохотал: Все, все, о дщерь, все, все бери! Меж тем рассвет светал. Вселеннава нежно очи Зальет густой смолой. А там просторы темной ночи Пронзит протяжный крик: долой! Пушек рокочущих ли звук, гроза ль, Но к лбу прильнет смертнирь-лобзаль. И некто упадет на земь ничком, И землю оросит кровавым ручейком. Мечи! глашатаи известий! Так точна, лившись, кровь. К освобождающей невесте Влечет железная свекровь. Иссякло иль великое могно? Иль слово честно, мы – логно? И сол миреющей в нас лжи, Злобач над павшими хохочет. У звонницы пронзят его стрижи, И дольний выстрел пророкочет. «Мое собро», – укажет Нав, В недавнем юноше узнав, Кто пашней стал свинцовых жит, Кто перед ним ничком лежит. О, власть! Хохочи или не хохочи, Ложись на землю или пляши, Идут толпою рухачи И их сердел: кругом руши! О, время, – вайе ли покоя Тобой не утешено сердце какое? Толпу умел ли кто понять? Толпе хотел ли кто пенять? Был временем разим негут. Его везде преследуют поступки зла. Восставшие бегут. Жизнь скручена тугой узла. Веселиенеющий священно ужас Влачит их тяж, натужась. И безумиенеющий людел Забыл, что властен некий бог и этот бог – Родел. В лицву вселилась ужасва И машет радостно крылами. И казнью страшною – летва Из площадей под колоколами. Тел бегственных свинцом латва, Слима наклонившим ружья рухом. Жужжит свинцовая летва, Бегву страша морячим духом. Изнемогли хотеть хотыки. Они легли у ног владыки. И вот, в мгновения гремяч, На землю падает, чернея, мяч… Волна мгновенная давит, Шум рева был мгновен и голк, Был страшен подымающийся с земли пугок! Полунеземной, ужасный вид! Сквозь черноту растерзанной одежды сверкала белизна подкладки. Он, прислонясь, стоял к плечу столба. Со лба, Раньше красиво гладкого, Промеж бровей и по переносице И на бойца торчащие усы [Стекали красные росы. Был страшен глаз сияющий упор, Казалось, с дальней бойни переносится И над пугоком качается топор.] Веселош, грехош, святош Хлябиматствует лютеж. И тот, что стройно с стягом шел, Вдруг стал нестройный бегущел. [Тогда огни толпу разили – Негистели звенистёлей – То пленных отроков узили, Когда бичи, бия, свистели.] И каждого мнепр или мнестр, Как в море Русское, струился в навину, Дух совести был в каждом пестр И созидал невинному вину. [Любно, братно, ровно, Которые звало уставшее зовно, Вы к нам пришли в последних трупах, Застывших в разнообразно страшных купах.] О, этот в море крови плавающий равнебен! Совсем бы, если <бы> ты не был! В тебе скрывалось злое волебро, И гасло милых милебро. Был огнезарственный мечты младбищ сулебен. Был мощный, мощный, о! осебенелым стать добром силебен. А ныне… многих доблестных в холмах подземных под березами кладбищ селебен. Многих… столь… росит улыбку сулатирь, Руки раскидал добыча вранов силатирь. Летая, небу рад зорирь. И сладок, думает горирь. Людей с навиной единебен, От лет младых, младых сумнебен И многих сильных столь гинебен. К свободе сладостный зовел! Куда народы ты завел? Туда дороги больше нет! Там бездна взор сквозит сквозь лик тенет! Уж сколько раз слабеющий верок Своею кровью озарял обманчивый порог И клял солгавшую надежду, Когда крыл черных стали тежды. Железавут играет в бубен, Надел на пальцы шумы пушек. Играя, ужасом сугубен, Он мир полей далеко рушит. [Иссякла ль русская ведава? Поет мятежная ходава. О боли небылимой ходатири поют, И в них нашли навини свой уют…] Раздорствует и мятежноссорствует страна, Она рыданием полна. Лишь снова в род объединит когда венел, Покой найдет нынел. Летел закатственный рудел, Когда бессутствовал Родел, И туч златимых серебро Зерцало Руси соребро. Смерть распростерла крылья над державой, Земля покрыта была в миг множавой. И пуст некогда благословляемый очаг, То всякий мог прочесть в очах. Влюбленнинеющий вселеннич Над девой русской трепетал. Вселеннинеющий забвеннич В ее глазах еще блистал. Он, вселеннебро разверзнув крыл, Богучесть взгляда устремил И властно властево раскрыл, Где нет безрадостных скорбил. Раскрыло горние чертоги Вселенствовальное крыло. Ее зовет в свои лежоги Небесное село. Она летит к душ сонных сестрам, По смерти к жизни склонам. И благо желающим божестром Ее приемлют те на лоно. И тот безмолвно пал навзничь С мольбой к летоше-навирю: «О, пощади, меня, панич!» Но тот: «Не можем, говорю». Он пал благоухан. Нав жиязя манит, Как князя русского татарский хан, Когда сбегает кровь с ланит. Быть может, Смерть, как милостивая ханьша, Велела смерть ускорить раньше. И узкоглазая сидит, Поджав спокойно ножки, Но уж супруг ее сердит За нищим брошенную крошку. Он грозно надвигает брови И требует кумыс. Слуги приносят ему крови И подобострастно шепчут: мы-с. На небе бледном виден ужасчук В мечавом и величавом на челе венце. А на земле страдало мук. И ни кровинки на лице.<1910>, 1913
Медлум и Лейли*
Два царя в высоком Курдистане, Дочь и сын растут у них. Годы носят свои дани, Молодые уж невеста и жених. Серебро и чернь во взорах, Дышат негою ресницы, Сердце бьется, Лейли шорох Медлума слушает десницы. И в жизни царских детей Плетет паутину страданье. Жили когда-то между людей Медлум и Лейли – так гласило преданье. В время осеннее, В день вознесения, Только три поцелуя Смертным даю я. Только раз в году Я вас вместе сведу, И с звездой сплетет звезду Три лобзания на ходу. Будешь инок, купец и вояка, Девой смертной, владыкой иль рыбарь, Только пусть воля будет трояка, Чтобы божьей свободе был выбор. И почует воздух холю, Дышит светом ветерок, И исполнит твою волю Ветхий деньми кроткий бог. Узревший, что серебряным крылом Медлум закроет слабую Лейли, Становится волшебным мудрецом Среди сынов земли. Луч золотой Полночь пронзил, То Медлума лобызанье той, Кому Медлум бессмертно мил. Божественный свет <Угас> в небесах, Неясный шлют привет Деревья в лесах. И душа пылает всюду По лицу земной природы, И, смирясь, внимают чуду Изумленные народы. Все меняет говор, норов И правдивый гонит лик Для любви нескромных взоров, Для проказы и погонь, И трепещет, как огонь, Человеческий язык. К временам стародавним Возвращается племя земли, Камень беседует с камнем О веселии вечной любви. Загорясь противоречьем К временам обыкновенным, Все запело человечьим Песен словом вдохновенным. В этот миг золотого сияния В небе плещущих огненных крыл Только выскажи лучшие желания Три, чтобы выбор у Господа был. – Кто был обижен земной Сечей отцовских мечей, По смерти оденется мной В светоч венка из лучей. Из сумрака серого Рождается дерево, Нагибаясь к соседу, И веет беседу. Час божества В листьях растения, Глаз существа Видит в смущении. В душах отчаянья мрак, Если расстроится любящих брак. Два разрушенных венца, Два страданья без конца. Где живут два рода в ссоре, Где отцов пролита кровь, Там узнает желчь и горе И безгрешная любовь. И Медлум, и Лейли Узнают роковое «нет». Что ответить им могли Питомцы неги слабых лет? Священны в желаниях родители, Но и у молодых есть права, В отчаянии к бессмертия обители Лейли промолвила слова: – О, если расставаться нужно Двоим нам в свете этом, То разреши, Господь, чтоб дружно Гореть могли мы звездным светом. Бог, чье страшно молвить имя Рту земного и везде, Повели, чтобы могли мы Вверить жребий свой звезде! И молитвы тихой колос Сотворяет зерно хлеба, И Господь услышал голос С высоты ночного неба. Где жизни правдой бедность, Там проходят чудеса, Лучами прекрасную бледность Раздвояют небеса. Где веселию граница Нигде не знавшего вражды? И, чуда новая страница, Горят две яркие звезды. Небосклон Двух сияющих сторон Вам жилищем обречен, Там блестите ты и он. Там, звездою мчась вдоль круга, Над местами, где любили, Пусть Медлум узнает друга В ярком вечера светиле. Ты, отрок непорочный, Возьмешь простор восточный, А ты, прекрасная Лейли, Взойди над сумраком земли. И, покорна небесам, Запад выбрала Лейли, И к восточных звезд лесам Пригвождает желчь земли. Старики, подьемля вежды, Мимо призрака земли Узнают во тьме одежды Мимо мчащейся Лейли. И, узрев чело для дум На востоке между тучами, Говорят: то наш Медлум Объят грезами летучими.<1910>
«Напрасно юноша кричал…»*
Напрасно юноша кричал Родных товарищей веселья, Никто ему не отвечал, Была пуста и нема келья. Народ на вид мученья падок, Народу вид позора сладок, Находчив в брани злой глагол. И, злоязычием покрыт охочим, Потупив голову, он шел. Ему Господь – суровый отчим. Ремнем обвитый кругом стана, Он счастья пасынок и пленник, Он возвращенный вспять изменник. Кругом суровая охрана, Для ней пустое голос денег. Чья скорбь и чье лицо, Как луч, блистающий сквозь тьму, В толпе почудилось ему? И чье звенит по мостовой кольцо? Сей вид условный Души печали, но немой, Что всемогущий быт сословный Сокрыл прозрачною фатой. Но любопытные старухи, Кивая, шепчутся о ней. И надвигает капелюхи Стража, сдвигался тесней. И вот уж дом. Хвала [Пророку мира] Магомету! Да благословит сей дом Алла! С словами старого совета Значенья полны письмена Хранила старая стена. Молчит суровое собранье, Оплот булгарского владавца, Выбирает, потупив взоры, наказанье, Казнь удалого красавца. И он постиг свою судьбу,– Висеть в закованном гробу На священном дубу, На том, что выше всех лесов. Там ночуют орлы, Там ночные пиры Окровавленных сов. [Озирая гроб дубовый, – Казнь легка и высока! – Так заметил суд суровый]. И на ящик замка Опустился засов. Молитвы краткие поклоны Прервали плавно текший суд, И в ящик стук, и просьбы стоны, И прочь тяжелый гроб несут. Пространство, меры высоты, Его отделяют от земли. Зачем уделы красоты, Когда от казни не спасли? Внизу – поток, холмы, леса, Над ним [сияет звезд] костер. Потомство темное простер Дуб в [ночные] небеса. Булгар, борясь с пороком И карая зло привычек, На этом дереве высоком, Где сонмы живут птичек, Сундук повесил с обреченным, В пороке низком уличенным. Как гвоздь и млат, мрак гробовой; Биясь о стены головой, Живя в гробу, еще живой, Сквозь деревянные одежды Искал луча надежды. Но нет ее. И ветер не уронит Гроб, прикованный цепями, И снова юноша застонет К смерти прикован<ный> людями. Он долго должен здесь висеть, В тугих ремней, зав<язан>, сеть… Когда же гроб истлевший упадет, Засохший труп в нем взор найдет. То видит Бог. Ужасна кара За то, что был беспечен в страже Владавца темного коня. Закон торгового булгара, Рабынь искусного в продаже, Жесток, невинного виня. [И если гордость уберечь Владавца отрок не сумел, Тому виной не слабых меч, Но ночь – царица дел. Он не уберег Владавца темного коня. С признаньем смешанный упрек: Богини страсти то вина]. Служанки робкой в ставню стук: – Пора! Пора! Пусть госпожи уходит друг До света со двора. – Уж поздно, исчезают грезы, И звезды сделались серей. Уходишь ты, – приходят слезы. Прости, прости – и будь скорей И восточных благовоний Дым рассеял свет лучей. Отрок, утром посторонний, Исчезает из дверей. Но не ржет и не храпит Конь, избранник табунов, Лишь поодаль всадник мчит Князя волжских скакунов. В глубине святой дубровы, Где туманно и сыро, Взором девственным суровы Поют девы позморо. Встав кумирами на кадки Под дубровою в тени, Встав на сломанные пни, В изваяний беспорядке, Тихо молятся они. Из священных ковшей Молодой атепокштей От злых козней застрахованное, От невзгоды очарованное Подает золотистое пиво. И огни блестят на диво Строем блещущих свечей, Точно ветреный ручей. Песнь раздалась вновь сугубо, Слух великого отца Не отсутствует нигде. И незримого жреца В глубине святого дуба Тихо гремлет «сакмедэ!» И его дрожащий голос Громче сонма голосов На поляне меж лесов, Где полдуба откололось. И тихо, тихо. Тишина Прильнула к <–> кустам. Вдруг смотрят, перст прижав к устам, Идет прекрасная жена. Обруч серебряный обвил Волну разметанных власов, И взор печалью удивил Робких обитателей лесов. Упали робкие мордвины: – Мы покорны, мы невинны. Словами Бога убеждают И славословьем услаждают. Не так ли пред бурею Травы склоняются листы? Они не знают, видят гурию Иль деву смертной красоты. Она остановилась. – Где он? – Промолвила она и оборотилась. Вдруг крик и стон. Внезапная встала прислуга, Хватает за руку пришелицу И мчит ее за мост, где влага. И вот уж коней слышен топот, За нею пыль по полю стелется, И вот уж замер грустный ропот. И, пораженная виденьем, Мордва стоит в оцепененьи, И гаснут на устах Давно знакомые песнопенья. Быть может, то Сыржу Вновь пленяет Мельканзо. Я видел деву. Я сужу: У ней небесное лицо. Над мужниной висит зазубренный тесак, А над женскою постелью Для согласования веселья Был шелковый дурак, Под ним же ожерелье. И, как разумная смена вещей, Насытив тело нежной лаской, Жену встречает легкой таской. Так после яств желают щей. А между тем, всегда одна Ходила темная молва: Будто красавица-вдова Была к владавцу холодна. И, мстя за холод и отказ, Жестокий он дает наказ: Коня счастливцу дать стеречь, Похитить, умчать и казни обречь. Но о лукавой цели умолчали Слухи позора и печали.<1911>
Лесная дева*
В лесу, где лебедь с песней стонет И тенью белой в пруду тонет, Где вьется горностай Среди нечастого осинника, И где серебряный лисицы лай Тонко звенит в кустах малинника,– Там белозадые бродили лоси С желтопозолоченным руном И тростников качались оси За их молчащим табуном. Две каменных лопаты Несет самец поодаль, тих, И с визгом жалобным телята, Согнувшись, пьют сосцы лосих. В сосне рокочет бойко С пером небесным сойка. И страстью нежною глубок Летит проворный голубок. Гадюка черная свисала Дугой с широкого сучка, И пламя солнца освещало Злобную черту ее зрачка. [Качает ветер купола Могучих сосен и дубов. Молчат цветов колокола В движеньях тихих лепестков]. И сосны стройные стонали, Шатая желтые стволы. То неги стон, то крик печали, То визг грохочущей пилы. В холодном озере в тени Бродили сонные лини. И в глубине зеркальных окон Сверкает полосатый окунь. А сине-черный скворушка На солнце чистит перышко. Царственно блестящие стволы Свечи покрыли из смолы. С глухого муравейника Взлетит, стуча крылом, глухарка, И перья рдяного репейника Осветит солнце жарко. Взовьется птица. Сядет около. Чу, слышен ровный свист дрозда. Вон умная головка сокола Глядит с глубокого гнезда. Нагие древяницы Свисали телом с темной ели, И их печальные зеницы О чем-то <мнили>, о чем-то пели. И с грудью медно-красной И белой сединой Плыл господин воды ненастной, Красивый водяной. Скользя в пахучей пляске, Низко-свистящие ужи, Черны, тягучи, вязки, Дружили в зарослях межи. Здесь темный храм Чреды немых дубов, Спокоен, грустен, прям, Качает тяжестью годов. Когда лесной стремится уж Вдоль зарослей реки, По лесу виден смутный муж С лицом печали и тоски. Брови приподнятый печальный угол… И он изгибом тонких рук Берет свирели ствол (широк и кругол) И издает тоскливый звук. Предтечею утех дрожит цевница, Воздушных дел покорная прислуга. На зов спешит певца подруга – Золотокудрая девица. Пылает взоров синих колос, Звенит ручьем волшебным голос! И персей белизна струится до ступеней, Как водопад прекрасных гор. Кругом собор растений, Сияющий собор. Над нею неба лучезарная дуга, Уступами стоят утесы; Ее блестяща нога Закутана в златые косы. Волос из золота венок, Внутри блистает чертог ног: Казалось, золотым плащом Задернут стройный был престол. Очей блестящим лучом Был озарен зеленый пол. И золотою паутиной Она была одета, Зеленою путиной Придя на голос света. Молчит сияющий глагол. Так, красотой своей чаруя, Она пришла (лесная дева) К волшебнику напева, К ленивцу-тарарую. И в сумрака лучах Стоит беззлобный землежитель, И с полным пламенем в очах Стоит лучей обитель. Нехитрых лепестков златой венок: То сжали косы чертог ног. Достигнута святая цель, Их чувство осязает мель, Угас Я рилы хмель. Она, заснув с ласкающей свободой, Была как омут ночью или водоем. А он, лесник чернобородый, Над ней сидел и думал. С ней вдвоем, Как над речной долиной дуб, Сидел певец – чрез час уж труп. Храма любви блестят чертоги, Как ночью блещущий ручей. Нет сомнений, нет тревоги В беглом озере ночей. Без слов и шума и речей… Вдруг крик ревнивца Сон разбудил ленивца. Топот ног. Вопль, брани стон, На ноги вспрыгнул он. Сейчас вкруг спящей начнется сеча, И ветер унесет далече Стук гневной встречи. И в ямах вся поверхность почвы. О, боги неги, пойдите прочь вы! И в битве вывернутые пни, И страстно борются они. Но победил пришлец красавец, Разбил сопернику висок И снял с него, лукавец, Печаль, усмешку и венок. Он стал над спящею добычей И гонит мух и веткой веет. И, изменив лица обычай, Усопшего браду на щеки клеит. И в перси тихим поцелуем Он деву разбудил, грядущей близостью волнуем. Но далека от низкого коварства, Она расточает молодости царство, Со всем пылом жены бренной, Страсти изумлена переменой. Коварство с пляской пробегает, Пришельца голод утолив, Тогда лишь сердце постигает, Что значит новой страсти взрыв. Она сидит и плачет тихо, Прижав к губам цветок. За что, за что так лихо Ее оскорбил могучий рок? И доли стана Блестели слабо в полусвете. Она стояла скорбно, странно, Как бледный дождь в холодном лете. Вкруг глаза, синего обманщика, Горят лучи, не семя одуванчика? Широких кос закрыта пеленой, Стояла неги дщерь, Плеч слабая стеной… Шептали губы: «Зверь! Зачем убил певца? Он кроток был. Любил свирель. Иль страсть другого пришлеца Законная убийству цель? В храмовой строгости берез Зачем убил любимца грез? Если нет средств примирить, Я бы могла б разделить, Ему дала бы вечер, к тебе ходила <б> по утрам,– Теперь же все – для скорби храм! И эти звезды и эти белые стволы – Ничто! Ничто! – теперь мне не милы. Был сердцем страстным молодой, С своею черной бородой Он был дитя. Чего хотя, Нанес убийственный удар? Ты телом юн, а сердцем стар, С черно-синей ночью глаз И мелкокудрым златом влас. Иль нет: убей меня, Чтоб возле, здесь, была я труп, Чтоб не жила, себя кляня За прикасанье твоих губ». И тот молчит. Стеная Звонко, уходит та И рвет со стоном волосы. Тьма ночная Зажгла на небе полосы (Темно-кровавые цвета). А он бежит? Нет, с светлою улыбкой, Сочтя приключение ошибкой, Смотрит сопернику в лицо, Снимает хладное кольцо. И, сев на камень, Зажженный в сердце пламень Излил в рыданьях мертвенной свирели, И торжеством глаза горели.1911
Сельская дружба*
Как те виденья тихих вод, Что исчезают, лишь я брызну, Как голос чей-то в бедствий год: «Пастушка, встань, спаси отчизну!» Вид спора молний с жизнью мушки Сокрыт в твоих красивых взорах, И перед дланию пастушки, Ворча, реветь умолкнут пушки, И ляжет смирно копий ворох. Так, в пряже таинственной с счастьем и бедами, Прекрасны, смелы и неведомы, Юношей двое явились однажды, С смелыми лицами, взорами жажды. Наутро пришли они, мокрые, в росах, В руке был у каждого липовый посох. То вестники блага – подумал бы каждый. Смелы, зорки, расторопны, В русые кудрей покрытые копны, К труду привычны и охотники, Они просилися в работники. Какой-то пришли они тайной томя, Волнуемы подвигом общим,– На этих приход мы не ропщем. Так голубь порою крылами двумя В время вечернее мчится и серое. И каждый взглянул на них, сразу им веруя. Но голубь летит все ж единый. Пришли они к нам урожая годиной. Сюда их тропа привела, Два шумных и легких крыла. С того напрасно снят, казалось, шлем: Покрыт хвостом на медной скрепе, Он был бы лучше и свирепей. Он русый стог на плечах нес Для слабых просьб и тихих слез. Другой же, кроток, чист и нем, Мечтатель был и ясли грез. Как лих и дик был тот в забрале, И весел голос меж мечей! Иные сны другого ум избрали, Ему был спутником ручей, И он умел в тиши часами Дружить с ночными небесами, Как строк земли иным созвучие, Как одеянье сердцу лучшее. Село их весело приемлет И сельский круг их сказкам внемлет. Твердят на все спокойно «да!» Не только наши города. Они вошли в семью села. Им сельский быт был дан судьбой. И как два серые крыла: Где был один, там был другой. Друг с другом жизни их сплелись, С иными как-то не сошлись. И все приветствуют их. Умолкли злые языки, Хотя ворчали старики: «Тот слишком лих, тот слишком тих». Они прослыли голубки (К природе образы близки), И парубки, хотя раней косились, Но и те угомонились. Не знаю, что тому виною, – Решенье жен совсем иное. Они, наверное, правы. Кто был пред ними наяву Осколком века Святослава И грозных слов «иду на вы», Пред тем, склонив свою главу, Проходит шумная орава. Так, дикий шорох чуть услышат В ночном пасущиеся кони, Прядут ушами, робко дышат: Ведь все есть в сумрака законе. Когда сей воин, отцов осколок, Встречался, меряя проселок, На его быстрый взор спускали полог. Перед другим же, подбоченясь, Смелы, бойки, как новый пенязь, Играя смело прибаутками И смело-радостными шутками, Стояли весело толпой, На смех и дерзость не скупой. Бранили отрока за то, Что, портя облик молодой, Спускался клок волос седой На мысли строгое чело, Был сирота меж прядей черных. Казнили стаей слов задорных За то, что рано поседел, Храня другой судьбы удел, Что пустяки ему важны И что ему всегда немного нездоровится, А руки слабы и нежны– Породы знак, гласит пословица. Ходила бойкая молва, Что несправедлив к нему закон За тайну темную рождения. И что другой судьбы права На жизнь, счастье, наслаждение Хранил в душе глубоко он. Хоть отнял имя, дав позор, Но был отец Ивана важен Где-то. То, из каких-то жизни скважен, Все разузнал болтливый взор. Враждуя с правом и тоской, С своей усмешкой удальской, Стаю молний озорницы Бросали в чистые зарницы. «Не я, не мы», – кричали те В безумца, верного мечте, Весною красненький цветок, Зимой холодный лед снежка Порой оттуда, где платок, Когда летал исподтишка. Позднее с ними примирились И называть их договорились: Наш силач (Пропащая головушка), И наш скрипач (И нам соловушка). Ведь был силен, чьи кудри были русы, А тот на скрипке знал искусы. Был сельский быт совсем особый. В селе том жили хлеборобы. В верстах двенадцати Военный жил; ему покой давно был велен: В местах семнадцати Он был и ранен и прострелен То верной, то шальною пулей (Они летят, как пчелы в улей). И каждый вечер, вод низами, К горбунье с жгучими глазами Сквозь луга и можжевельник С громкой песней ходил мельник. Идя тропою ивняка, Свою он «Песню песней» пел, Тогда село наверняка, Смеясь, шептало: «Свой труд окончить он успел». Копыто позже путь топтало. Но осенью, когда пришли морозы, Сверкнули прежние угрозы В глазах сердитых стариков, Как повесть жизни и грехов, И раздавалось бранное слово. Потом по-старому пошло все снова, Только свадьбы стали чаще С хмелем ссоры и смятений Да порой в вечерней чаще Замечали пляску теней. Но что же? Недолго длилось все и то же, Однажды рев в деревне раздался, Он вырос, рос и на небо взвился. Забилась сторожа доска! В том крике – смертная тоска. Набат? Иль бешеные волки? «Ружье подай мне! Там, на полке». Притвор и ствол поспешно выгнув, В окошко сада быстро прыгнув, Бегут на помощь не трусы. Бог мой! От осаждающей толпы Оглоблей кто-то отбивался. В руках полена и цепы, Но осажденный не сдавался. За ним толпой односельчане, Забыв свирели и заботы, Труды, обычай и работы, На мясе, квасе и кочане Обеды скудные прервав, Идут в защиту своих прав. Излишни выстрел и заряд. Слова умы не озарят. На темный бой с красавцем пришлым Бегут, размахивающим дышлом. Тогда, кто был лишь грез священник, Сбежал с крыльца семи ступенек. Молва далеко рассказала Об этом крике: «Не боюсь!» Какая сила их связала, Какое сердце и союз! В его руке высокий шест Полетом страшным засвистал И круг по небу начертал. Он им по воздуху провел, Он, хищник в стае голубей. Умолкли возгласы «убей!» И отступили люди мест, И побежали люди сел. «В тихом омуте-то черт!» – Молвил тот, кто был простерт. Наверно, месяц пролежал Борис, кругом покрытый льдом,– Недуг кончиной угрожал. Он постарел и поседел. Иван, гордясь своим трудом, Сестрою около сидел, И в темный час по вечерам, Скорбна, как будто войдя в храм, Справлялась не одна села красавица, Когда Борис от ран поправится. И он окрепнул наконец, Но вышел слабый, как чернец. Меж тем и сельских людей гнев Улегся, явно присмирев. Борис однажды клятву дал Реку Остер двенадцать раз, Не отдыхая, переплыть. Указ судьбы его не спас. Он на седьмом погиб. Не плакал, не рыдал Иван, но, похоронив, решил уйти. Иных дней жребий темный вынул И, незамеченный, покинул Нас. Не знаю, где решил он жить. Быть может, он успел забыть Тот край, как мы его забыли, Забвенью предали пути. Но голубь их скитаний хром, Отныне сломанным крылом Дрожит и бьется, узник пыли. Так тяжко падает на землю Свинцом пронзенный дикий гусь. Но в их сердцах устало внемлю Слова из книги общей: «Русь».<1911>
Сельская очарованность*
Напялив длинные очки, С собою дулась в дурачки. Была нецелою колода, Но любит шалости природа. Какой-то зверь протяжно свистнул, Топча посевы и золу. Мелькнув поломанной соломкой, Слетело двое голубей. Встревожен белой незнакомкой, Чирикал старый воробей. «Полей простор чернеет, оран, Поет пастух с слезливой дудкой, Тебе на плечи сядет ворон, С вонзенной в перья незабудкой. В мою ладонь давайте руку, Ведь я живу внутри овина, И мы, смеясь, пройдем науку,– Она воздушна и невинна». Как белочка, плутовка Подсолнухи грызет, А божия коровка По локтю рук ползет Сквозь кожи снег, где блещет жилка, Туда, щиты свои раздвинув, Слетела с русого затылка, Над телом панцирь крыл раскинув. В руке качался колос Соседней спелой нивы. К земле струился волос, Желания ленивы. «О, я пишу. Тебя здесь вывел».– «А ты мне… ты мне опротивел».– «Ужели?» – «В самом деле!» Был стан обтянут бечевой. В руке же цветик полевой. На ней охоты сапоги, Смазны они и широки. «Ни глупой лести, ни почету, Здесь нет уюта, жизни места. Девица рощи, звездочету Будь мотыльковая невеста».– «Я – лесное правительство Волей чистых усмешек И мое местожительство,– Где зеленый орешек».– «И книги полдня, что в прекрасном Лучей сверкают переплете, Вблизи, лишь, насморку опасным, С досадой дымом назовете. Вблизи столь многое иное, О чем певец в созвучьях спорит, О чем полкан, печально ноя, Ему у будки в полночь вторит».– «Я не негодую: Ты мне всего, всего дороже! Скажи, на ведьму молодую Сегодня очень я похожа? Ах, по утрам меня щекоткой не буди!.. Как это глупо! сам суди: Я только в полночь засыпаю; И утром я не так ступаю!» – «Но дней грядущих я бросил счета, Мечтания, страсть и тебя, нищета!» Синеет лог, чернеет лес. В ресницах бог, А в ребрах бес. И паутины ячея, И летних мошек толчея. То истина: не всех пригожих Пленяет шелковая тряпка. «Мне холодно», – надвинув кожух, Сказала дева зябко. Сквозняк и ветер, вот причина! Тепла широкая овчина, И блещет белое плечо Умно, уютно, горячо. «У стрекоз возьму я шалость. Они смотрятся в пруды. Унесу твою усталость, Искуплю твои труды. Я до боли в селезенке Стану бешено скакать, Чтобы мрачные глазенки Научилися блистать». Но что там? женщина какая-то Ушами красная платка… «Ахти, родимый, маета, Избушка далека. На, блинчики с сметаной, Всё доверху лукошко. С тобою краля панна? Устала я немножко… Ты где ходил? в лесу, не дале? А наши тя видали. Ты бесом малым с ней юлил, Ей угодить все норовил. Ужо отведай каравай! Прощайте! прощевай! Да вот, чтоб сон ваш не был плох, Али принесть лишай и мох? Ведь всё здесь камни и пески, Они, их шут возьми, жестки. Пусть милость неба знает тя!» Она ушла, вздохнув, кряхтя. Торчали уши Ее, платок горел как мак. Шаги все делалися глуше. Ее сокрыл широкий мрак. «Как очаровательны веснушки! Они идут твоей старушке, Невзгод и радостей пастушке. Друг друга мы плечом касались, Когда от ливня рек спасались, Полунаги и босиком… Прогулку помнишь ты вдвоем, С одним грибом-дождевиком? Но он нас плохо защищал. И кто-то на небе трещал. Вкруг нас собрался водоем. Поля от зноя освежались. Друг к другу мы тогда прижались. „Пострелы“, – молвил пастушонок И стал близ нас угрюм и тонок. За ним пришла его овчарка. Нам было радостно и жарко. С тех пор прошло уж много дней, А ты не сделался родней». Она сидит, главою низкая, Цветок полей руками тиская. «И череп всё облагородит. Все, все минует и проходит. Не стану я, умрешь и ты. Смешливы сонного черты. Спи, голубчик, соловей, Если звонок соловей. Ты знаешь, кто я? Я – „не тронь меня“. Близ костра печально стоя, Боюсь грубого огня. Упади, слеза нескромница: Мотылькам про солнце помнится». Мечта и грусть в глубоких взорах. Под нею был соломы ворох. И с восхитительной замашкой Ты шила синюю рубашку.<1911–1912>
Вила и леший*
Мир
Горбатый леший и младая Сидят, о мелочах болтая. Она, дразня, пьет сок березы, А у овцы же блещут слезы. Ручей, играя пеной, пел, И в чащу голубь полетел. Здесь только стадо пронеслось Свистящих шумно диких уток, И ветвью рог качает лось, Печален, сумрачен и чуток. Исчез и труд, исчезло дело; Пчела рабочая гудела, И на земле и в вышине Творилась слава тишине. Овца задумчиво вздыхает И комара не замечает. Комар, как мак, побагровел И звонко с песней улетел. Качая черной паутиной На землю падающих кос, Качала Вила хворостиной От мошек, мушек и стрекоз. Лег дикий посох мимо ног; На ней от воздуха одежда, Листов березовых венок Ее опора и надежда. Ах, юность, юность, ты что дым! Беда быть тучным и седым! Уж леший капли пота льет С счастливой круглой головы. Она рассеянно плетет Венки синеющей травы. «Тысячелетние громады Морщиной частою измучены. Ты вынул меня из прохлады, И крылышки сетью закручены. Леший добрый, слышишь, что там? Натиск чей к чужим высотам? Там, на речке, за болотом?» Кругом теснилась мелюзга, Горя мерцанием двух крыл, И ветер вечером закрыл Долину, зори и луга. «Хоть сколько-нибудь нравится Тебе моя коса?» – «Конечно, ты красавица, То помнят небеса. Ты приютила голубков, Косою черная с боков!» А над головой ее летал, Кружился, реял, трепетал Поток синеющих стрекоз (Где нет ее, там есть мороз), Младую Вилу окружал И ей в сияньи услужал. Вокруг кудрявы древеса, Сини, могучи небеса. Младенец с пышною косой Стоял в дуброве золотой, Живую жизнь созерцал И сердцу милым нарицал. «Спи, голубчик, спи, малюта, В роще мира и уюта!» Рукой за рог шевелит нежно, Так повторив урок прилежно, На небо смотрит. Невзначай На щеку каплет молочай. Рукою треплет белый чуб, Его священную чуприну. «Чуть-чуть ты стар, немного глуп, Но все же брат лугам и крину». Но от темени до пят Висит воздушная ограда, Синий лен сплести хотят Стрекоз реющее стадо. «Много, много мухоморов, Есть в дуброве сухостой, Но нет люда быстрых взоров, Только сумрак золотой. Где гордый смех и где права? Давно у всех душа сова!» На мху и хвое леший дремлет, Главу рукой, урча, объемлет. Как мотылек, восток порхал И листья дуба колыхал. Военный проходит С орлом на погоне; И взоров не сводит, Природа в загоне. Она встает, она идет, Где речки слышен зов – туда, Где мышь по лону вод плывет И где задумчива вода.Голос с реки:
Я белорукая, Я белокожая, Ручьям аукая, На щук похожая, О землю стукая, Досуг тревожу я. «Кто там, бедная, поет? Злую волю кто кует?» В тени лесов, тени прохладной Стоял угрюмый и злорадный Рыбак. Хохол волос упал со лба. Вблизи у лоз его судьба. Точно грешник виноватый, Боязливый, вороватый, Дикий, стройный, беспокойный, Здесь рыбак пронес уду, Верен вольному труду. Неслась веселая вода. Постой, разбойница, куда? «Где печали, Где качели, Где играли Мы вдвоем? Верещали Из ущелий Птицы. Бился водоем». Козлоногих сторожей Этой рощи, этих стад, Без копья и без ножей Распрю видеть умный рад. Пусть подъемлют черти руку, Возглашая, что довольно! Веселясь лбов крепких стуку, Веселюсь и я невольно. Страсть, ты первая посылка, Чтоб челом сразиться пылко. Над лысой старостью глумится Волшебноокая девица. Хребтом прекрасная сидит, Огнем воздушных глаз трепещет, Поет, смеется и шалит, Зарницей глаз прекрасных блещет И сыпет сверху муравьев. Они звончее соловьев На ноги спящего поставят И страшным гневом позабавят. Как он дик и как он согнут, Веткой длинною дрожа, Как персты его не дрогнут, Палкой длинной ворожа. Как дик и свеж Владыка мреж! «Я, в сеть серебряных ячеек Попавши сомом, завоплю, В хвосте есть к рыбкам перешеек, Им оплеуху налеплю». Рукою ловит комаров И садит спящему на брови. «Ты весел, нежен и здоров, Тебе не жалко капли крови. Дубам столетним ты ровесник, Но ты рогат, но ты кудесник». Подобно шелка черным сетям, С чела спускалася коса, В нее, летя к голодным детям, Попалась желтая оса. «Осы боюсь!» Осу поймала; Та изогнула стан дугой И в ухо беса, что дремало, Вонзился хвост осы тугой. Ручную садит пчелку В его седую холку. Он покраснел, чуть-чуть рассержен, И покраснел заметно он, Но промолчал: он был воздержен И не захотел нарушить сон. «Как ты осклиз, как ты опух, Но все же витязь верный, рьяный, Капуста заячья, лопух! Козел, всегда собою пьяный!» Устало, взорами небесная Дышала трудно, но прелестная. Сверчки свистели и трещали И прелесть жизни обещали. Досуг лукавством нежным тешит И волос ногтем длинным чешет. И на плечо ее прилег Искавший радость мотылек. Но от головы до самых ног Снует стрекозьих крыл станок. Там небеса стоят зеленые, Какой-то тайной утомленные. Но что? «Ква-ква!» – лягушка пела, пасть ужа. Уже бледна вскочила Вила, вся дрожа. И внемлет жалобному звуку, Подъемля к небу свою руку. Власы волной легли вдоль груди, Где жило двое облаков, Для восхищенных взоров судей, Для взоров пылких знатоков! О, этот бледный страха крик! Подъемлет голову старик. «Не все же, видно, лес да ели, Мы, видно, крепко надоели. Ты дюже скверная особа». (Им овладели гнев и злоба). «Души упрямца нету вздорней. Смотри, смотри! Смотри проворней! Мы капли жизни бережем, Она же съедена ужом». Там жаба тихо умирает И ею уж овладевает. Блестя, как рыбки из корзинки, По щекам падали слезинки. Он телом стар, но духом пылок, Как самовар, блестит затылок. Он гол и наг: ветхи колосья Мехов, упавших на бедро, Склонились серые волосья На лоб и древнее чело. Его власы – из снега льны, Хоть мышцы серы и сильны. «Мой товарищ желтоокий! Посмотри на мир широкий. Ты весной струей из скважин Жадно пьешь березы сок, Ты и дерзок и отважен, Телом спрятан у осок. И, грозя согнутым рогом, Сладко грезишь о немногом». Исполнен неясных овечьих огней, Он зенками синими водит по ней. И просит грустящий, глазами скользя, Но Вила промолвила тихо: нельзя! И машет строго головой. Тот вновь простерт, стал чуть живой. Рога в сырой мох погрузил И плача, звуком мир пронзил. Вблизи цветка качалась чашка, С червем во рту сидела пташка. Жужжал угрозой синий шмель, Летя за взяткой в дикий хмель. Осока наклонила ось, Стоял за ней горбатый лось. Кричал мураш внутри росянки И несся свист златой овсянки. Ручей про море звонко пел, А леший снова захрапел! В меха овечьи сел слепень, Забывши свой сосновый пень. Мозоль косматую копытца Скрывала травка медуница. И вечер шел. Но что ж: из пара Встает таинственная пара. Воздушный аист грудью снежной, Костяк вершины был лишен, И, помогая выйти нежно, Достоин жалости, смешон. Он шею белую вперил На небо, тучами покрыто, И дверь могилы отворил Своей невесте того быта. Лучами солнце не пекло. Они стоят на мокрых плитах. И что же? Светское стекло Стояло в черепе на нитях. Но скоро их уносит мгла, Земная кружится игла. Но долго чьи-то черепа Стучали в мраке, как цепа. А Вила злак сухой сломила, С краев проворно заострила И в нос косматому ввела, И кротко взоры подняла. Рукой по косам провела, О чем-то слезы пролила, И сев на пень взамену стула, Она заплакала, всхлипнула. И вдруг (о, радость) слышит: чих! То старый бешено чихнул, Изгнать соломинку вздрогнул. «Мне гнев ужасен лешачих. Они сейчас меня застанут, Завоют, схватят и рванут, И все мечты о лучшем канут, И речи тихие уснут. Покрыты волосом до пят, Все вместе сразу завопят. Начнут кусаться и царапать И снимут с кожи белой лапоть. Союз друзей враждой не понят, На всех глаголах ссор зазвонят И хворостиною погонят Иль на веревке поведут. Мне чья-то поступь уж слышна, Ах, жизнь сурова и страшна!» – «Смотри, сейчас сюда нагрянут, Пощечин звонких нададут, Грызня начнется и возня, Иди, иди же, размазня!» Себя обвив концом веревки, Меж тем брюшко сребристо-лысое Ему давало сходство с крысою. Ушел, кряхтя, в места ночевки. Печально в чаще исчезал, Куда идти, он сам не знал. Он в чащу плешину засунул И, оглянувшись, звонко плюнул: «Га! еще побьют».– «Достоин жалости бедняга! Пускай он туп, Пускай он скряга! Мне надо много денег!» – «А розог веник?» – «Ожерелье в сорок тысяч Я хочу себе достать!» – «Лучше высечь… Лучше больше не мечтать». – «И медведя на цепочке… Я мукой посыплю щечки. Будут взоры удлиненными, Очи больше современными. Я достану котелок На кудрей моих венок. Рот покрасив меджедхетом, Я поссорюсь с целым светом И дикарскую стрелу Я на щечке начерчу. Вызывая рев и гнев, Стану жить я точно лев. Сяду я, услыша ропот, И раздастся общий шёпот».– «То-то, на той сушине растет розга».– «Иди, иди, ни капли мозга!» – «Иду, иду в мое болото. Трава сыра». – «Давно пора!» Досады полная вконец,– Куда ушел тот сорванец? – Бросала колкие надсмешки, Сухие листья, сыроежки, Грибы съедобные, и ветки, И ядовитые заметки. Летела нитка снежных четок Вслед табунку лесных чечеток. С сосновой шишкой – дар зайчишки – Сухая крышка мухомора Летит, как довод разговора. Слоны, улитки-слизняки, И веткой длинной сквозняки, А с ними вместе города Летят на воздух все туда. Она все делалась сердитей И говорила: «Погодите. О ты, прижимающий ухо косое, Мой заяц, ответь мне, какого ты соя?» Как расшалившийся ребенок, Покинут нянькой нерадивой, Бесился в ней бесенок, Покрытый пламенною гривой. К ручейной влаге наклонясь, Себя спросила звонко: ась? И личиком печальным чванится Стран лицемерия изгнанница. Она пошла, она запела Грозно, воинственно, звонко. И над головою пролетела В огне небес сизоворонка. Кругом озера и приволье, С корой березовой дреколье, Поля, пространство и леса, И голубые небеса. Вела узорная тропа: На частоколе черепа. И рядом низкая лачуга, Приют злодеев и досуга. Овчарка встала, заворчав, Косматый сторож величав. Звонков задумчивых бренчанье, Овчарки сонное ворчанье. Повсюду дятлы и синицы, И белоструйные криницы. «Слышу запах человечий? Где он, дикий? мех овечий?» Вид прекрасный, вид пригожий, Шея белая легка, Рядом с нею, у подножий, Два трепещут мотылька. И много слов их ждет прошептанных, И много троп ведет протоптанных.1912
Шаман и Венера*
Шамана встреча и Венеры Была так кратка и ясна: Она вошла во вход пещеры, Порывам радости весна. В ее глазах светла отвага И страсти гордый, гневный зной: Она пред ним стояла нага, Блестя роскошной пеленой. Казалось, пламенный пожар Ниспал, касаясь древка снега. Глаз голубых блестел Стожар, Прося у желтого ночлега. «Монгол! – свои надувши губки, Так дева страсти начала. (Мысль, рождена из длинной трубки, Проводит борозды чела.) – Ты стар и бледен, желт и смугол, Я же роскошная река! В пещере дикой дай мне угол, Молю седого старика. Я, равная богиням, Здесь проведу два-три денька. Послушай, рухлядь отодвинем, Чтоб сесть двоим у огонька. Ты веришь? видишь? – снег и вьюга! А я, владычица царей, Ищу покрова и досуга Среди сибирских дикарей. Еще того недоставало – Покрыться пятнами угрей. Монгол! Монгол! как я страдала! Возьми меня к себе, согрей!» Покрыта пеплом из снежинок И распустив вдоль рук косу, Она к нему вошла. Как инок, Он жил один в глухом лесу. «Когда-то храмы для меня Прилежно воздвигала Греция. Могол, твой мир обременя, Могу ли у тебя согреться я? Меня забыл ваять художник, Мной не клянется больше витязь. Народ безумец, народ безбожник, Куда идете, оглянитесь?» – «Не так уж мрачно,– Ответил ей, куря, шаман.– Озябли вы, и неудачно Был с кем-нибудь роман».– «Подумай сам: уж перси эти Не трогают никого на свете. Они полны млека, как крынки. (По щекам катятся слезинки.) И к красоте вот этой выи Холодны юноши живые. Ни юношей, ни полководцев, Ни жен любимцев, ни уродцев, Ни утомленных стариков, Ни в косоворотках дураков. Они когда-то увлекали Народы, царства и престолы, А ныне, кроткие, в опале Томятся, спрятанные в полы. И веришь ли? меня заставили одеть Вот эти незабудки, Ну, право, лучше умереть, Чем эти шутки. Это жестоко». Она отошла И, руки протянув, вздохнула. «Как эта жизнь пошла!» И руки к небу протянула. «Всё, всё, монгол, всё, всё – тщета, Мы – дети низких вервий. И лики девы – нищета, Когда на ней пируют черви!» Шаман не верил и смотрел, Как дева (золото и мел) Присела, зарыдав, И речь повел, сказав: «Напрасно вы сели на обрубок – Он колок и оцарапает вас». Берет с стола красивый кубок И пьет, задумчив, русский квас. Он замолчал и, тих, курил, Смотря в вечернее пространство. Любил убрать, что говорил, Он в равнодушия убранство. И дева нежное «спасибо» Ему таинственно лепечет. И глаза синего изгиба Взор шаловливо мечет, И смотрит томно, ибо Он был красив, как белый кречет. Часы летели и бежали, Они в пещере были двое. И тени бледные дрожали Вокруг вечернего покоя. Шаман молчал и вдаль глядел, Венера вдруг зевнула. В огонь шаман глядел, Венера же уснула. Заветы строгие храня Долга к пришелицам святого Могол сидел, ей извиня Изгибы тела молодого. Так девы сон лелея хрупкий Могол сидел с своею трубкой. «Ах, ах!» – она во сне вздыхала, Порою глазки открывала, Кого-то слабо умоляла, Защитой руку подымая, Кому-то нежно позволяла И улыбалася, младая. И вот уж утро. Прокричали На елях бледные дрозды. Полна сомнений и печали Она на смутный лик звезды Взирала робко и порой О чем-то тихо лепетала, Про что-то тихо напевала. Бледнело небо и светало. Всходило солнце. За горой О чем-то роща лепетала. От сна природа пробудилась, Младой зари подняв персты. Венера точно застыдилась Своей полночной наготы. И, добродетели стезей идя неопытной ногой, Она раздумывала, прилично ли нагой Явиться к незнакомому мужчине. Но был сокрыт ответ богини. От кос затылок оголив, Одна, без помощи подруг, Она закручивает их в круг. Но тот, как раньше, молчалив. Затылок белый так прекрасен, Для чистых юношей так ясен. Но, лицемерия престол, Сидит задумчивый могол. Венера ходит по пещере И в горести ломает руки. «Это какие-то звери! Где песен нежных звуки? От поцелуев прежних зноя, Могол! могол, спаси меня! Я вся горю! горя и ноя Живу, в огнистый бубен чувств звеня. Узнай же! знаешь, что тебе шепну на ухо? Ты знаешь? знаешь? – я старуха!.. Никто не пишет нежных писем, Никто навстречу синим высям Влюбленных глаз уж не подъемлет, Но всякий хладно с книжкой дремлет. Но всякий хладно убегает Прочь от себя за свой порог, Лишь только сердце настигает Любви назначенный урок. Как все это жестоко! – Сказала дева, вдруг заплакав.– Скажи хоть ты: ужель с Востока Идет вражда к постелям браков? К ногам снегов, к венкам из маков? С хладом могилы отрок одинаков». Но, неразговорчив и сердит Как будто, тот сидит. Напрасно с раннего утра, Раньше многоголосых утра дудок, Она из синих незабудок, В искусстве нравиться хитра, Сплела венок почти в шесть сажен И им обвилась для нежных дел. По-прежнему могол сидел Угрюм, задумчив, важен. Вдруг сердце громче застучало. «Могол, послушай, – так начала Она, – быть может, речь моя чудна И даже дика и мало прока. Я буду здесь бродить одна (Ты знаешь: я ведь одинока), Срывать цветы в густом лесу, Вплетать цветы в свою косу. Вдали от шума и борьбы, Внутри густой красивой рощи Я буду петь, сбирать грибы, Искать в лесу святого мощи, Что может этой жизни проще?» – «Изволь, душа моя, – ответил Могол с сияющей улыбкой.– Я даже в лесу встретил Дупло с прекрасной зыбкой». В порыве нежном хорошея, Она бросается ему на шею, Его ласкает и целует. Ниспали волосы, как плащ. Могол же морщится, тоскует. Она в тот миг была палач. Она рассказывает ему Про вредный плод куренья. «Могол, любезный, не кури! Внемли рыданью моему». Он же с глазами удовлетворенья Имя произносит Андури. Шаман берет рукою бубен И мчится в пляске круговой, Ногами резвыми стучит. Венера скорбная молчит Или сопровождает голос трубен, Дрожа звенящей тетивой. Потом хватает лук и стрелы И мимо просьб, молитв, молений Идет охотник гордый, смелый К чете пасущихся оленей. И он таинственно исчез, Где рос густой зеленый лес. Одна у раннего костра Венера скорбная сидит. То грусть. И, ей сестра, Она задумчиво молчит. Цветы сплетая в сарафан, Как бело-синий истукан, Глядит в необеспокоенные воды – Зеркало окружающей природы. Поет, хохочет за двоих Или достает откуда-то украдкой Самодержавия портных Новое уложение законов И шепчет тихо: «Как гадко!..» Или: «Как безвкусно… фу, вороны!» Сам-друг с своею книжкой Она прилежно шепчет, изучает, Воркует, меряет под мышкой И… не скучает. И воды после переходит И по поляне светлой бродит. Сплетает частые венки, На косах солнца седоки. О чем-то с горлинкой воркует И подражательно кокует. Венера села на сосновый пень И шепчет робко: «Ветер телепень! Один лишь ты меня ласкаешь Своею хрупкою рукой, Мне один не изменяешь, Людей отринувши покой. Лишь тебе бы я дарила Сном насыщенный ночлег, Двери я бы отворила, Будь ты отрок, а не бег… Будь любимый человек… Букашки и все то, что мне покорно! Любите, любите друг друга проворно Счастье не вернется никогда!» И вот приходит от труда, Ему навстречу выбегает, Его целует и ласкает, Берет оленя молодого, На части режет, и готово Ее стряпни простое блюдо; Сидит и ест… ну, право же, не худо! Шаман же трубку тихо курит И взор устало, томно щурит. И, как чудесная страна, Пещера в травы убрана. Однажды белый лебедь Спустился с синей высоты, Крыло погибшее колебит И, умирая, стонет: «Ты! Иди, иди! тебя зовут, Иди, верши свой кроткий труд. От крови черной пегий Я, умирающий, кляну: Иди, иди, чаруя негой Свою забытую страну. Тебе племен твоих собор Готовит царственный убор. Иди, иди, своих лелея! Ты им других божеств милее. Я, лебедь умирающий, кляну: Дитя, вернись в свою страну, Забыв страну озер и мохов, Иди, приемля дань из вздохов». И лебедь лег у ног ея, Как белоснежная змея. Он, умирающий, молил И деву страсти умилил. «Шаман, ты всех земных мудрей! Как мной любима смоль кудрей, И хлад высокого чела, И взгляда острая пчела. Я это все оставлю, Но в песнях юноши прославлю Вот эти косы и эту грудь. Ведун мой милый, все забудь! И водопад волос могуче-рыжий, И глаз огонь моих бесстыжий, И грудь, и твердую и каменную, И духа кротость пламенную. Как часто после мы жалеем О том, что раньше бросим!» И взором нежности лелеем, Могол ей молвит: «Просим Нас не забывать, И этот камень дикий, как кровать Он благо заменял постели, Когда с высокой ели Насмешливо свистели Златые свиристели». И с благословляющей улыбкой Она исчезает ласковой ошибкой.1912
Суд над старым годом*
1
Новый год на суд приходит И такую речь заводит: «Что здесь было, мне поведайте, А затем обедайте». И в усы старик закрякал: «Сам я царство отдаю,– Старый год, смеясь, заплакал,– Так оставь мне жизнь мою.2
Судей ждал я, ждать наскучась. Почему такая участь Суждена мне, старику? Вдруг пришел: кукареку! Позабыв про долг приязни, Позабыв со мной гуторить, Назначаешь время казни. Вдруг назначил… Поздно спорить!»3
«Это верно он заметил,– Заступился месяц светел.– Что ж, отбросив казнь лютую, Сердце старца испытую». «Перед казнью запятую Ты на время мне поставил, А жизнь мною прожитую Обесславил мимо правил.4
Это худо. Так негоже. Старцам честь всего дороже. Так не делают нигде, Ни в весельи, ни в беде. Люд осведомится: вы чей? У пригожего пришельца, А потом велит обычай Года старого есть тельце».5
Стал невесел он, как деверь, Не дает старик тебе вер. Прямо старого не взять, Вижу нож и рукоять. Но вы сделали ошибку, Вместо е поставлю ять. Чу, сокрыв свою улыбку, Хочет малый год пенять.6
Если сделана она, То не наша то вина. Квасу весело здесь не пито Меж веселого меж лепета. Здесь сидели дружно мы И курили свой тютюн, Как гребцы кругом кормы. Ждали, к нам приходит юн.7
И недели здесь сидели, Песни пели еле-еле, От мороза грустно ежась, Судьбой дедушки тревожась. Нет, не правда! Мы все знали, Юный год напрасно строг. Если худшее (едва ли), Дед отправится в острог.8
В год невзгод, как в годы случая, Верным будет сердце лучшее. Знать, не страшны ни морозы, Ни жестоких слов угрозы. Это первая победа, Что веселой чередой Утешали слезы деда С белой снежной бородой.9
Да, мы плакали не раз, Будь с ним добрым, – вот наш сказ. Если так сказал коварно, Это нынче благодарно! Вас на гуслях воспоют, Сложат песни вам на славу, В цепь его же закуют, Бросят мишке на забаву.10
Наш пришелец современнее, Быть вам грубым с нами менее. Он наш друг и он нам мил, Мучил семь дней и томил. Семь трудились только суток, Так велит закон иль норов. Да и эти полны шуток, Смеха, легких разговоров.11
И неясных обожаний, И кумиров развенчаний? Пусть хотя бы даже эдак. Смех не так уж част и редок. Как бы ни был смысл ваш едок, Остроумен, зол и колок, Не смутишь тем ты соседок, Не боимся мы иголок.12
Что ни слово, примем жарче, Что ж на это скажешь, старче? Ты силен с такой защитой, Смотришь более сердитей. Год пришелец! Не порочим Мы тебя словес речьбой, Так зачем пришел, как отчим, И грозишь творить разбой?13
Так-то так, но меж словес Не сокрыт ли хитрый бес? Где два юных смелых глаза, Там веселье и проказа. Я боюсь, чтоб не надули Нас веселые недели. Слишком весело взглянули, Когда рядышком сидели.14
С их лукавым словарем Ни проснемся, ни умрем. Лучше будет, если вместе Обмозгуем дело чести. Уж зима уходит белая, Скоро лето и весна. Расскажи мне, что вы, делая, Жили день и миги сна.15
Ты жесток к нам, мы невинны. Нет в нас жизни половины. И не знаем всех вестей, Всех упадших крепостей. Если смотрим щегольски, Если взор в мечах ресницы, То затем, что седоки Рока ласковой десницы.16
Это будет без лукавства, Озорства, самоуправства. В этом честный виден разум, Время дать отпор проказам. Ветер так заметил умный, Он на крыльях поднялся И, прозрачный, стройный, шумный, Быстро на небо взвился.17
Все твердит одно, как дятел: Видно, новый сразу спятил. Чай, мы вместе, мы его! Нет, голубчик, не того! Дед, родной, тебя морочат. Тебя жалко: дедка беден. Нет, не ты, но мертвый кочет, Он же будет нами съеден.18
Помним всё же: быть соседом Неприятно с людоедом. Коли речь шла не о дедке, Мы бы стали людоедки. Козявки, мошки, много надо ли, Чтоб был стол великолепен. Ведь умеет быть от падали Сытым младший Юрий Репин.19
Пить скорее сок березы Буду, лить чем белы слезы, Что попал на стол теленок, Дитя слабое пеленок. Слезы вымой, дед любимый, Резво по снегу пляши. Слезы вымой, подсудимый, И улыбкой насмеши.20
«Ишь ты выдумал какое, Что, уха я иль жаркое? Сами знаем, было б худо, Будь я подан вам на блюдо Руки кверху, ноги в боки, Раз и два, два, два и три. Мы же смотрим резвооки. Крепче, милая, смотри».21
Раскраснелся он и вымок От скачков и от ужимок. Лихо, лихо дед плясал, Снег на елки разбросал. Как награду чудной прыти Этих добрых старых ног, Не пойти ль и раздобыта Победителю венок?22
«Быть спящими обязанность, Но тут есть недосказанность. Не уйду я, дам присягу, Здесь всхрапнуть я только лягу». «Вот что, дед, брады не комкай, Борода твоя чиста. Ляг, но раньше почеломкай Меня в красные уста».23
«Это дело, это любо, Протяни, мальчишка, губы. Это точно есть обычай, Смена власти и величий. Эх, я лихо расплясался, Вспомнил молодость свою, Даже горб мой зачесался, Что тут делать, не таю».24
Посмотрите, засыпает, Даже голубь улетает, Чтобы сну не помешать, Чаши сна не осушать. «Вот что, слухай, детвора, Не хотел я остепениться, Теперь вижу, что пора! Жизнь уходит прочь, изменница.25
На пуховой, на постельке Вас качал я в колыбельке, А теперь я отхожу И не очень я тужу. Сам, вы видите, устал И уж жребий жизни вынул. Кубок жизни опростал И дном кверху опрокинул».26
Кто узнает, кто поведает, Что о чем во сне беседует. Будет гость наш хорохориться, Станем петь, за песней спорится. Жизнь веселые остроты Замышляет и находит. Тот пришел, а тот в ворота В те же самые уходит.27
Я боюсь, что ненароком Мы напомним о жестоком. Лучше будем, сестры, тихи, Избегая слов шумихи. Это верно и умно, Надо спящего щадить. Но сейчас уже темно, Скоро полночь будет бить.28
«Так-то так, – сказал, кто слышит,– Посмотрите, он не дышит». Что? Неправда! Быть не может. Да, рот ветра не тревожит. Грудь крепка и неподвижна, И ее застыла кузница. Красота лица так книжна, Уж другого мира узница.29
В глубине глаз темносиней Тает вестник вьюги, иней. Уронив на жизнь намеки, Остывает краснощекий, Белобрадый старый год. Так печалью веют тучи, Озарив собой заход, Обагрив гор снежных кручи.30
Год – младенец, будь приветлив. Каждый вождь в начале сметлив. Всё обман и суета, Эта жизнь и жизнь та. Мы же видим: точно пар, Подымается он к тучам И венками легких пар Помогает быть летучим.31
Позабыв игру и песенки, Взмахом крыл поставив лесенки, Улетает в небеса Года старого краса. Мы крылом гробницу движем. Старый дедушка малинов И следит, в гробу недвижим, Стрелку страшных властелинов.32
То, что будет, чья вина? Старость люди не забыли. Но что будет впредь страна, Где сердца давно уж были? Новый год, смеясь, я встречу, Встречу хладен и спокоен. Так готов рассеять сечу Каждый умный светлый воин.Декабрь 1912
Хаджи-Тархан*
Где Волга прянула стрелою На хохот моря молодого, Гора Богдо своей чертою Темнеет взору рыболова. Слово песни кочевое Слуху путника расскажет: Был уронен холм живой, Уронил его святой,– Холм, один пронзивший пажить! А имя, что носит святой, Давно уже краем забыто. Высокий и синий, боками крутой, Приют соколиного мыта! Стоит он, синея травой, Над прадедов славой курган. И подвиг его и доныне живой Пропел кочевник-мальчуган. И псов голодающих вторит ей вой. Как скатерть желтая, был гол От бури синей сирый край. По ней верблюд, качаясь, шел И стрепетов пожары стай. Стоит верблюд сутул и длинен, Космат, с чернеющим хохлом. Здесь люда нет, здесь край пустынен, Трепещут ястребы крылом. Темнеет степь; вдали хурул Чернеет темной своей кровлей, И город спит, и мир заснул, Устав разгулом и торговлей. Как веет миром и язычеством От этих дремлющих степей! Божеств морских могил величеством Будь пьяным, путник, пой и пей. Табун скакал, лелея гривы, Его вожак шел впереди. Летит как чайка на заливы, Волнуя снежные извивы, Уж исчезающий вдали. Ах, вечный спор горы и Магомета, Кто свят, кто чище и кто лучше. На чьем челе Коран завета, Чьи брови гневны, точно тучи. Гора молчит, лаская тишь, Там только голубь сонный несся. Отсель урок: ты сам слетишь, Желая сдвинуть сон утеса. Но звук печально-горловой, Рождая ужас и покой, Несется с каждою зарей Как знак: здесь отдых, путник, стой! И на голубые минареты Присядет стриж с землей на лапах, А с ним любви к иным советы И восковых курений запах. Столбы с челом цветочным Рима В пустыне были бы красивы. Но, редкой радугой любима, Она в песке хоронит ивы. Другую жизнь узнал тот угол, Где смотрит Африкой Россия, Изгиб бровей людей где кругол, А отблеск лиц и чист и смугол, Где дышит в башнях Ассирия. Мила, мила нам пугачевщина, Казак с серьгой и темным ухом. Она знакома нам по слухам. Тогда воинственно ножовщина Боролась с немцем и треухом. Ты видишь город стройный, белый, И вид приволжского кремля? Там кровью полита земля, Там старец брошен престарелый, Набату страшному внемля. Уже не реют кумачи Над синей влагою гусей. Про смерть и гибель трубачи, Они умчались от людей. И Волги бег забыл привычку Носить разбойников суда, Священный клич «сарынь на кичку» Здесь не услышать никогда. Но вновь и вновь зеленый вал Старинной жаждой моря выпит. Кольцом осоки закрывал Рукав реки – морской Египет. В святых дубравах Прометея Седые смотрятся олени. В зеркалах моря сиротея С селедкой плавают тюлени. Сквозь русских в Индию, в окно, Возили ружья и зерно Купца суда. Теперь их нет. А внуку враг и божий свет. Лик его помню суровый и бритый, Стада ладей пастуха. Умер уж он; его скрыли уж плиты, Итоги из камня, и грез, и греха. Помню я свет отсыревшей божницы. Там жабы печально резвились! И надпись столетий в камней плащанице! Смущенный, наружу я вышел и вылез. А ласточки бешено в воздухе вились У усыпальницы предков гробницы. Чалмы зеленые толпой Здесь бродят в праздник мусульман, Чтоб предсказал клинок скупой Коней отмщенья водопой И месть гяуру (радость ран). Казани страж – игла Сумбеки, Там лились слез и крови реки. Там голубь, теменем курчав, Своих друзей опередил И падал на землю стремглав, Полет на облаке чертил. И отражен спокойным тазом, Давал ума досугу разум. Мечеть и храм несет низина И видит скорбь в уделе нашем. Красив и дик зов муэдзина, Зовет народы к новым кашам. С булыжником там белена На площади ясной дружила, И башнями стройно стена И город и холм окружила. И туча стрел неслась не раз. Невест восстанье было раз. Чу! слышен плач, и стан княжны На руках гнется лиходея. Соседи радостью полны, И под водою блещет шея. И помнит точно летописец Сии труды на радость злобы, И гибель многих вольных тысяч, И быстро скованные гробы. Настала красная пора В низовьях мчащегося Ра. Война и меч, вы часто только мяч Лаптою занятых морей, И волжская воля, ты отрок удач, Бросая на север мяч гнева полей. «Нас переженят на немках, клянусь!» Восток надел венок из зарев, За честь свою восстала Русь, И, тройку рек копьем ударя, Стоял соперник государя. Заметим кратко: Ломоносов Был послан морем Ледовитым, Спасти рожден великороссов, Быть родом, разумом забытым. Но что ж! забыв его венок, Кричим гурьбой: падам до ног. И в звуках имени Хвалынского Живет доныне смерть Волынского. И скорбь безглавых похорон Таится в песни тех сторон. Ты видишь степь: скрипит телега, Песня лебедя слышна, И живая смерть Олега Вещей юности страшна. С косой двойною бог скота, Кого стада вскормили травы, Стоит печально. Все тщета! Куда ушли столетья славы? Будь неподвижною, севера ось, Как остов небесного судна. В бурю родились, плывем на авось, Смотрим загадочно, грозно и чудно. И светел нам лик в небе брошенных писем, Любим мы ужас, вой смерча и грех. Как знамя мы молодость в бурю возвысим, Рукой огневою начертим мы смех. Ах, мусульмане те же русские, И русским может быть ислам. Милы глаза, немного узкие, Как чуть открытый ставень рам. Что делать мне, мой грешный рот? Уж вы не те, уж я не тот! Казак сдувал с меча пылинку, На лезвие меча дыша. И на убогую былинку Молилась Индии душа. Когда осаждался тот город рекой, Он с нею боролся мешками с мукой. Запрятав в брови взоры синие, Исполнен спеси и уныния, Верблюд угрюм, неразговорчив, Стоит, надсмешкой губы скорчив. И, как пустые рукавицы, Хохлы горба его свисают, С деньгой серебряной девица Его за повод потрясает. Как много просьб к друзьям встревоженным В глазах торгующих мороженым! Прекрасен в рубищах их вырез. Но здесь когда-то был Озирис. Тот город, он море стерег! И впрямь, он был моря столицей. На Ассирию башен намек Околицы с сельской станицей. И к белым и ясным ночным облакам Высокий и белый возносится храм С качнувшейся чуть колокольней. Он звал быть земное довольней. В стволах садов, где зреет лох, Слова любви скрывает мох. Над одинокою гусяной Широкий парус, трепеща, Наполнен свежею моряной, Везет груз воблы и леща. Водой тот город окружен, И в нем имеют общих жен.1913
Марина Мнишек*
«Пане! Вольны вы Меня пленить блестящим разговором, Умом находчивым и спорым, В котором всё – днепровская струя И широко-синие заливы, Но знайте! Я Если и слыву всех польских дев резвей В мазурке, пляске нежной, В одежде панны белоснежной, То знайте, нет меня трезвей, Когда я имею дело с делом: Я спорю с старцем поседелым». Смотрит ласково, прищурясь, и добавляет: «Я не обещаю и не обольщаю, Но, юноша, заключите свои самые пылкие желанья В самую ужасную темницу. Пока я не московская царица, Я говорю вам: до свиданья!» Ей покоренный юноша ей смотрит вслед И хочет самому чуть слышный дать ответ: «Панна! В моих желаньях нет обмана!» Она уходит и платьем белым чуть белеет. Он замысел упорный в мечтах своих лелеет. «Панны! Вы носитесь [На шеях в вас влюбленных паничей], А после жизнью хладной коситесь, И жребий радости ничей. Добро! И я предстану пред тобой, Моих желаний страстною рабой, Одет в венок, багрец и серебро». И вечером того же дня, Когда средь братин и медов, Высоких кубков и рогов Собралась братья и родня Обречь часы вечерней лени, Марина села на колени К отцу. Под звуки трубачей, Дворни, шутов и скрипачей Рукой седины обнимает И пиру радостно внимает. Вся раскрасневшись, дочь прильнула К усов отцовских седине И в шуме, став с ним наедине, Шепнула: «Тату! Тату! Я буду русская царица!» Не верит и смеется, И смотрит ласково на дочку, И тянет старый мед, И шепчет: «Мне сдается, Тебя никто сегодня не поймет!» По-прежнему других спокойны лица. Урсула смотрит просто, кротко На них двоих и снова быстрою иголкой, Проворной, быстрою и колкой, На шелке «Вишневецкий» имя шьет Кругом шелкового цветочка. Меж тем дворовые девицы Поют про сельские забавы, Трудясь над вычурным нарядом Под взором быстрым Станислава, Ему отвечая украдкой пылким взглядом. А Мнишек временем вечерним, К словам прислушиваясь дочерним, Как и что ему лепечет, Ей отвечает: «То знает чет и нечет, В твоих словах рассудка нет». Таков был Мнишка дочери ответ. Сечь Запорожская (так сопка извергает Кумир с протянутой рукой) Так самозванцев посылает, Дрожи, соседних стран покой! Соседних стран покой, дрожи, Престол, как путник перед ударом молнии, бежи! Сквозь степи, царства и секиры Летят восстания кумиры. И звонким гулом оглашает Его паденье ту страну, Куда посол сей упадает, Куда несет и смуту и войну Его пылающий полет. В старинном дереве свичадо, Дар князя польского Сапеги, Невест-прабабушек отрада, Свидетель ласк усталой неги, Залогов быстроглазых ребятишек,– Кого ты не было услада, Кого не заключало в свои бреги! Пред ним стоит Марина Мнишек. Две стройные руки С пухом подмышек Блестят, сияньем окруженные, В стекле прекрасном отраженные, Блестят под кружевом рукавным. С усмешкой полуважной, полузабавной Девица думает о доле самодержавной. Блошанку дева с плеч спускает И тушит бледную свечу. И слабо дышит, засыпает, Доступна лунному лучу Золотокудрой головой И прочь простертою рукой Под изогнутой простыней. Зарница пышет. Завтра вёдро. А мимо окон ходит бодро Ее помолвленный жених, Костер вечерних дум своих. От тополей упали тени, Как черно-синие ступени. Лунным светом серебрим, Ходит юноша по ним, Темной скорбию томим. И мыслит: «Я ей не ровесник Моей породой и судьбой. Военный жребий: ты – кудесник! Мой меч – за царственный разбой!» Много благородства и упрямки В Сапеги старом замке. В озерах нежатся станицы Белокрылых лебедей. И стерегут пруд, как ресницы – Широко раскрытые зеницы, Стада кумирные людей. Там камень с изображением борьбы, С [движением] протянутой руки Смотрел на темные дубы, За голубые тростники. Уж замысел кровавый Стал одеваться новой плотью. Уж самозванец мнит себя с державой, Красуясь в призрачной милоти. «Карает провиденье дерзость. Что же? Возмездьем страшным горделивый, Я оценю за плаху ложе, И под мечом судьбы красивый. А вы, толпа седых бояр! С поклоном низким в пыли серой Вы обопретесь на ладони, Когда любима мной без меры Займет престол, молясь Мадонне. Я буду, может быть, убит, Исчезнет имя с самих плит, Убит в дворце великолепном Убийцей, раньше раболепным… У водопада, где божок С речным конем затеял ссору, Ты снимала сапожок, Одевала ножку скоро. И от взгляда скрывалась за тенью березы… Пускай гудят колокола, Когда [девические] грезы Станут военные дела. Сему свидетель провиденье!» Порой его давит виденье: Косматый конь с брадою мужа, Рысью каменно-гулкой Стуча копытом по каменным плитам, Протягивал руку, Чтобы прогулкой Рассеять их скуку. И мчался после бело-пегий (Кругами расходилась лужа) Из тополевого сада Сапеги. Так на досуге пламенея, В своем решенье каменея, Он ходит, строг и нелюдим, Сам-друг с желанием своим. Стояла ночь. Как полководцы, Стояли тихо тополя. Смотрели в синие колодцы Звезды, лучами шевеля. И уж приблизился рассвет, И ум готовит свой ответ. Охота. Звон. Как в сказках, На тылах кисти – кречета, И пляшет жеребцов черкасских Умных кровная чета. Промчалась нежная козуля. Убит матерый был кабан. И годы всем сочла зозуля: Ей дар пророчить дан. И много игр веселых и забавных Знал старый князь. Гостей своих в чертогах славных Он веселил, развеселясь. И говорит: «Сегодня у Потоцкого ночуем. Он дома, он хандрит. Он болен почечуем». И думает Марина: Сам польский король будет саном ее деверь. К ее ногам красивым током Царицы белого плаща Упали юг, восток и север. Везде затихнут мятежи, Могучим чувством трепеща Исполнить волю госпожи. Ее удел слепой успех. Она примирит костел с Востоком. И Мнишек молвил: «Он и ты – вы пара. Пусть Божия меня постигнет кара, Если мои имения и рабы, Бочонки с золотом, ковры Ему не будут брошены мостом тяжелым В его походе за престолом». Гнев разгорелся в старике, И он держак сжал в пястуке. И молвил ксендз: «Полячка, посох Держа в руке, клади свой след в восточных росах. Умеет с запада порой Солнце взойти на послух свой. Покорна вести веры правой, Вернись в костел с своей державой». Покоем полно Тушино. Огни потушены. Храпят ночные табуны, Друзья в час мира и войны. И атаманова подруга, Как месяц ясный, белолика, Бьет оземь звонкою подковой Гвоздей серебряного круга И мчится в пляске стройна, дика, Красою гордая здоровой. Лишь гремлют песней кашевары Про Днепр, про Сечу и порог. Очкуром вяжет шаровары Воин дебелый и высок. Бежите, русские, бежите. Быть безоружными дрожите. Худая слава Про царство русское бежит. Повсюду войско Владислава, И русского ничто уж не дрожит. Война, война… Он в польском шлеме, Латинских латах Повел на битву племя Людей суровых и усатых. Литва и Польша, Крым и Сечь, Все, с чьих плеч О землю стукал меч, Делили с ним похода время. В Калугу гонит князь коня, Пронзая смутным взором даль, Там саблей долгою звеня, Сошлися лях, литвин, москаль. То Смута. Годы лихолетья и борьбы, Насильств, походов и вражды. Поутру бой, разбой иль схватка, А вечером удалая присядка. Когда дрожит земля и гнется Под шагом шаек полководца, Пирушки и попойки, И жены веселы и бойки. Станицей зорь, пожарищ, зарев, Солнцем ночным висячих марев Отметил путь противник государев. И часто длинными ножами кончался разговор, Кто всея Руси царь – князь Шуйский или вор? И девы русские порой просили братьев заколоть, Рукой осязая трепетное сердце, Не в силах в жизни побороть Пых нестерпимый иноверца. А между тем толпой шиши, Затаены в лесной глуши, Точили острые ножи. И иногда седой боярин Их оделял сребром и златом, За ревность к Руси благодарен, Сойдя к отшельникам усатым. В шубе овец золоторунных Стоит избранник деревень, И с дюжиной углов чугунных Висит в его руке кистень. Любимец жен, в кудрей венце, На вид удалый и здоровый, Рубцы блистали на лице, Предметы зависти суровой. Он стан великих сторожил И Руси храбростью служил. Из мха и хвои шалаши Скрывали русских палаши. Святая чернь и молодежь Так ополчилася на ложь. Тело одних стесняли вериги, Другие читали старинные книги. На пришельцев негодуя, Здесь обитали они скромно, С работой песни чередуя И дело делая огромно. И дивно стукались мечи, Порою пламенно звенели, Казалось, к битве бирючи Взывали в тихие свирели. Так, стеснены в пределах косных, Висят мечи на темных соснах. На темных соснах здесь почила Седая древность. Людей же здесь соединила К отчизне ревность. Смерть, милостивая смерть! Имей же жалость! Приди и утоли ее усталость. Осталась смерть – последнее подобие щита! А сзади год стыда, скитанья, нищета. «Дворяне! Руку на держак!» – Лишь только крикнул Ляпунов, Русь подняла тесак, Сев на крупы табунов. Давно ль Москва в свои кремли Ее звала медноглаголым гулом? Давно ль сыны ее земли Дружили с буйством и разгулом? Давно ль царицей полумира Она вошла в свою столицу, И сестры месяца – секиры Умели стройно наклониться? Темрюк, самота, нелюдим Убит соперником своим. Их звала ложь: обычаи страны, заветы матерей – Всё-всё похерьте. Народ богатырей Пусть станет снедью смерти. И опечалилась земля, Завету страшному внемля. И с верховыми табунами Смешались резвые пехотники. С отчизны верными сынами Здесь были воду жечь охотники. Всякий саблею звенит, Смута им надежный щит. Веселые детинушки Несут на рынок буйную отвагу. Сегодня пьют меды и брагу, А завтра виснут на осинушке. «Мамо! Мне хочется пить!» – «Цыть, детка, цыть! Ты не холопья отрасль, ты дворянин. Помни: ты царский сын!» Вдруг объята печалью: Отчизне и чужбине чужд, Валуева пищалью Убит мятежный муж. Плачьте, плачьте, дочери Польши! Надежд не стало больше. Под светы молнии узорной Сидела с посохом Марина. Одна, одна в одежде черной, Врагов предвидя торжество, Сидела над обрывом, Где мчатся волны сквозь стремнины. И тихо внемлет божество Ее роптания порывам. Москвы струя лишь озарится Небесных пламеней золой, Марина, русская царица, Острога свод пронзит хулой. «Сыну, мой сыну! Где ты?» Ее глаза мольбой воздеты, И хохот, и безумный крик, И кто-то на полу холодном Лежит в отчаянья бесплодном. Ключами прогремит старик. Темничный страж, угрюм и важен, Смотрел тогда в одну из скважин. Потом вдруг встанет и несется В мазурке легкокрылой, С кем-то засмеется, улыбнется, Кому-то шепчет: «Милый». Потом вдруг встанет, вся дрожа, Бела, как утром пороша, И шепчет, озираясь: «Разве я не хороша?» Вдруг к стражу обращается, грозна: «Где сын мой? Ты знаешь! – с крупными слезами, С большими черными глазами.– Ты знаешь, знаешь! Расскажи!» И получает краткое в ответ: «Кат зна!» «Послушай, услужи: Ты знаешь, у меня казна. Освободи меня!» Но он уйдет, лицо не изменя. Так погибала медленно в темнице Марина, русская царица.<1913–1914>
Жуть лесная*
1
О, погреб памяти! Я в нем Давно уж не был. Я многому сегодня разучился и разучен. Согнем рост лет И смугло двинемся с огнем. Медведь от свечи бросится во след, Собакой ляжет, скучен, Тулуп оденет иночий, Он тень от свечи иначе.2
[Я и тень моя вдвоем] Бросим взоры в водоем. В ту таинственную жуть Сладко взоры окунуть. Вас ли оплакивать мне, Руку держа на ремне. Мне, кому шлем на стене В воздухе душных гробов Скован [на кузне] из мхов. Но на грусть мою внезапную Только черной свечкой капну я. Золотой и острый шлем [Точно] луковица нем. Встанет он, как знак вопроса, Над челом великоросса. Полночный шорох Стоит во взорах.3
Спросить ли мне вас, люди, что вы, Думая, мня о бывалом? А вместе со мною готовы Идти по духовным подвалам? Орел, клювом бровь возьми, Лоб морщинами надми, Рот усмешкою сожми! С незнакомыми людьми Я сошел на дно ступенек, И Гапон – мой современник. Он друзьями был задушен, Мертвым строкам не послушен.4
Тот священник, тело скорчив, Замолчал, быв разговорчив. Перья их без передышки Записные чертят книжки. И поспешно невпопад Им дает чернила ад. Резкий в прописи скачок, У друзей ищи крючок! В их глазах читай: быть может, Уж последний вечер прожит.5
Итак, подвал… Отнюдь не тот, Где родич волка щерит рот, А внизу стоят передники, Там и ты, и собеседники, Где славу с грязного крыльца Взирают маски наглеца, И где с предутренней пощечиною Прославлен сумрак позолоченный.6
Порой лицо весельем пьяно, И круль ворон грохочет рьяно. Я там бывал. Зачем, зачем? – меня вы спросите. Чтобы пробор вам закивал, Ему едва зрачки вы скосите. Была там часто в лицах новость, На взорах жила нездоровость. Навек расстаться с ней обеты Иль буду завтра здесь. Приметы: Кто хочет рано поседеть, Да утра должен в ней сидеть. [А вот тот стол, сижу там я И славой потные друзья.]7
Пронес бы Пушкин сам глаз темных мглу, Занявши в «Собаке» подоконник, Узрел бы он: седой поклонник Лежит ребенком на полу. А над врагом, грозя уже трехногим стулом, С своей ухваткой молодецкой, Отец «Перуна», Городецкий Дает леща щекам сутулым.8
Воздушный обморок и ах, Турчанки обморока шали, Стучит кулак в воротниках, Соседи слабо не дышали. А «будем как солнце», на ножках качаясь, Ушел, в королевстве отчаясь, И на лице его печать О том, что здесь лучше б молчать. С своей бородой золотой Он ставит точку с запятой. Тогда мы, ближнее любя, Бросали ставку на себя. Раскрыта дверь. Как паровоз, Дохнули полночь и мороз. Глубокий двор. Уже тулуп Звенит, громыхая ключом. Там веселятся люди – глуп, Кому не все лишь нипочем.9
Итак, в подвале моей души Мой скудный светоч не туши. На дланях чьих итог мозоль Позднее скажет: ты король. В зеленой чарке королеву Найдя, вернется он к напеву. Но мы бывали там, зане Красивы трупы на стене. Одежд небесные цвета! Не те лета, страна не та! Пусть воротники воздушны и стоячи, Помяты вожжами от клячи. Не то цветок, не то кистень Бросал на все кудряво тень.10
Старея над головоломкой Вопроса сложного порой, Столкнетесь с чванной незнакомкой, Трусишка разум за горой. Скрытый черных кружев складкой Водопад слетает гладкий. И нежных ручек худоба. Склоняя: я раба, раба, Обвила кружева скоба. А воздух черный, теневой Обвеян умной синевой Иначе пустенькой беседы, Не без притязаний на победы.11
Сей головастик сажи белой Метели узкой утюга, Кичась, сидит, бросая смело Паза на гордого врага, Летит усталый к небу вздох, Кипит жемчужной змейкой пена, Сукна сверкает черный мох, Шипит багряное полено. И битвой горлам серебристым, Покрытый слабою бумагой, Шипит стакан, наполнен истым Безумьем песни. Пей, отвага! О, люди, люди, я вчера Вернул волшебный скрип пера.12
Как много отдал я приказов Всегда без подписи моей Внимали им Нева и Азов, Но доброхотно без цепей. Теперь даем приказ вселенной То делать ей, что та захочет, Я буду длить обыкновенный Сон, пусть мне жребий ножик точит, Пусть горло им уже щекочет. Так я <нрзб.> откровенный.13
Есть масти грубые лжецов, Для них ты то Олег и Вещий, То ты в толпе из тех ецов, Кто здесь не вхожи: слишком вещи. Журчит багровый уголек, Он слезка солнечной судьбы. И по-немецки пел кулек: Я есмь, я есмь, я был. Из храма Мы вынем р и вставим ель. Для хлама Нужный свиристель. В его груди оставив коготь, Мы больше его не будем трогать. К нему не ведаю вражды, Мне чувства темные чужды.14
Сюда нередко вхож и част Пястецкий или просто Пяст. В его убогую суму Бессмертье бросим и ему, Хотя (Державина сюда!) Река времен не терпит льда. Я в настроеньи Святослава Сюда вошел кудрями желтый. Сказал согнутый грузом его нрава Я самому себе: тяжел ты. Число сословий я умножил, Назвав людей духовной чернию; И тем удобно потревожил Досуг собрания вечерний. А впрочем, впрочем взятки прочь, Я к милосердию охочь. Здесь чепуху, там мелют вздор, Звенит прибор, блестит пробор. Да, видя плащ простолюдина, Не верят серому холсту, Когда с угрозой господина Вершками мерит он версту. Его сияющие латы, Порой блеснув через прореху, Сулят отпор надежный смеху И мщеньем требуют отплаты. Так просто он бесспорно мой. А утром, утром путь домой.15
Чернеет камень, покрытый пухом, Из камня сосны начеку. И к молний звонкому звонку Ночной извозчик чуток ухом. В простынях льда Пятно зеленое. Мы навсегда В тебя влюбленные. И утро освещало медность небес. А в спутнице бедность – не бес. С суровоусой страны входы Изящновыйного моста, И солнце в венке непогоды Сюда наклоняет уста. Прекрасен избранный из ста, Он на могилу свежевскопанную. На книгу, пальцами растрепанную, Лицом усталым пусть походит, В нем есть то, что нами водит. Зелен и кругол Искусства храм. Оскомин угол. Живу я там.16
Забыв вселенную, живем мы, Воюя с властью вещества, Полны охальства и истомы, В могучих латах озорства. Утратил вожжи над собой Я в этот год, забывши, кто я. Но поздно, поздно бить отбой, Пускай прикроют песни Ноя. Носатый бес отворит двери, И вас засыпет град вопросов. Отвечу я: по крайней мере, Я буду с ней обутым в осень. Устало я уж в кресло сел, А бес расспросом беспокоил, Права быть глупостью присвоил И тем порядком надоел. Я со стены письма Филонова Смотрю, как конь усталый, до конца. И много муки в письме у оного, В глазах у конского лица. Свирепый конь белком желтеет, И мрак залитый им густеет, С нечеловеческою мукой На полотне тяжелом, грубом Согбенный будущей наукой Дает привет тяжелый губам.17
Листок немецкий проворно тычет Мне носатая. Проклятый год! Чугунный рок рожденных кличет Для этих сплетен и невзгод. Решетки окон. Златовеет Живот чудовища соседнего. Мороз был умным, он умеет Бельмо соткать в глазу последнего Еще не мертвого окна Узором снежным волокна. Но что ж, довольно на сегодня, Был гроба сводом этот сводня. Пока, пока же помолчим, Позднее в крышку застучим. Порой под низкой крышкой гроба Твердим упорно: о, зазноба!18
Из глыб мычания Скуем кумиры. В стенах молчания Прорубим дыры. Узнайте, дети, чей призыв И вечно юн, и вечно жив. Я был березой, у которой Порезом ранен был висок. Сойдя своей походкой скорой, Ты принесла зимой цветок.19
Хвалебных слов ты недостойна, От глаз до ног ты вся позор, Но взята страстью ты спокойна И дышит зноем влажный взор. Пожимаешься ты телом, И, крадучись точно кошка, Ты глядишь по оголтелым Стенам, позже на окошко. И я острее длинной бритвы Порежу тихие молитвы, Скажу на слезы: это рок, Чтоб был, как бритва, я жесток. Чету народов, как щенят, В уме бросая в водоем, Туда иду, куда клонят Меня слова «тебя поем». Для догадок: На лесть я падок. Породе русской вернуть язык Такой, Чтоб соловьиный свист и мык Текли там полною рекой. О, колос, падай! Падать сладко. Гафиза, жизни мудреца, Здесь черноснежная разгадка С небрежной правдою лица. Высшеучебные парнишки Ее зовут Мария Мнишка.20
Сижу я, обувью ворча, Часы приема у врача. Там травоядная столовая Для посетителей соловая. Моих медведей берлога близко К подолу снежных облаков. Взлетел наверх; висит записка: «О, доро… мой… сию… готов». О, трепет пальцев, беглый стук И треск, как будто в печке пламенный, И лоск знакомых [красных] рук, И ступки стан изящно-каменный. Тростник иль мыслящая печь, И страсть ты тоже печка только. Она, чтоб ляхов гнев навлечь, Она немного тоже полька. Я <между подданных> устал, у повелителя сосну, В повиновении лишь нега. Так ищет верную сосну В полете птица до ночлега. Струею рабской я плесну, Чтоб был потоптан грязью снег. Но что ж! С чела моего снята хмара Тем долгим месяцем угара. Чуть-чуть свою утратил совесть, Зато есть чем заполнить повесть. Мыча, как слон, али чирикая, Здравствуй, здравствуй, я великое. Из руд возможного упорной киркою Я книгу прошлого запачкал, чиркая, Хотя здесь, может, дед Платон Нашел бы целым свой закон. Не поединком беспокоясь. Своею шашкою кичась, Заткнув и Пушкина за пояс, Вошел я к вам сюда сейчас. В тот месяц был сапог дыряв, И мне грозило наводнение, И я, надежду потеряв, Шептал: дружок, не озорничай, На службе будь людских приличий! Я город опишу таким: [он], как заноза, Вошел в то место, где Спиноза Когда-то жил, как в сумке двуутробки. На бой! За мной, созвучия! Не будьте робки! Итак, подвала опишем точно обстановку. Воображенье, брось винтовку! У птиц умирающих, Навеки пристреленных, Взял в долг тот художник суровые глаза, От пыли щеткой мягкой вытер, И их повез с собою в Питер. Подруга, ступка, стрекоза, Лепешки мяты и сырок, И чайник вместо самовара, Небрежных к утвари урок, В углу пивных сосудов пара. Ту ночь провел я до утра. У этих двух, зачем – не знаю, Была беседа их пестра. Валежник ищет так костра. Присохла в нем душа сквозная. Но между ищущих огня Ищите, люди, и меня. Звонок. Кивок. А, это вы? Поклон рассерженный. А, это вы? Привет воздержанный. Я был в немилости тогда, Того достигнув без труда. И вот вошел отменно сух, Я был тогда отважней мух. Священной жертвою полену Придвинусь к теплому колену. Ты снова бросил на весы Уж лысый меч своей красы. Идут толпой седые мысли. И я застыл весь серый в кресле. Ответьте мне: зачем я сер? Бывал ли до меня пример. Белели волосы, как лен, Глаза же острые чернели. Ужель перед зеркалом трудно Ресниц подчеркнуть серебро? Как в море горящее судно Возникло прямое перо. Вот образцы моих острот: Я близоруких спелый рот. Теперь на Каспии, тогда же Чужой невольник на продаже. Уста и мышцы расхвалив, Стояли около друзья, Как мать богатыря. Порою с хохотом слюнявым Из лести ткали мне ковер. Пока же личиком смазливым Звала езиня у озер. И, как ночные мотыльки, Просили некоторые встречи, Но крыльев смяты лепестки! И ясны прежние предтечи. Да, в этот дом, высокий и тяжелый, Входил я часто невеселый. На копьях сил умри, зима, Была тех дней моя мечта. Но все же я скажу без шуток, Зачем же истину скрывать, Одетый, трое целых суток, Я не покидывал кровать. В бессильной злобе только вскакивая, Недели ревности оплакивая. А между тем, мертвец зеленый Стоял в углу красноречиво. Его родитель воспаленный, Узрев певца, изрек: и пива. Как умно шамкали враги, Они жевали сапоги, Его приятели-покойники Взирали умно из холстов. Как полотенце рукомойника Из кружев ободы перстов. Весенний хлыст развесист ивы. Слеза? Серебряный пушок. И встречи первые бурливы, Еще рассудок-пастушок. Видали: хищная ворона Порой несет в когтях ягненка? Вой пастуховский, бивень звона. А рядом бьется с клячей конка. Да на чумной растут заразе Молочно-сизые цветы, Вбирая в хобот воли грязи По длани [рока я и ты]. Горячий жар слов подкупал Ее несвязанные речи. Но мака я не узнавал Сквозь лихорадку (ум овечий). А между тем, его зерном Питался часто перед сном. Как в невод бились зерна мака В концы ручейные очей. Она сотрудник гайдамака И верит в силу «я» лучей. . . . . . . . . . . . . . . . И сил могучих полна и эта Лысокурая моя. Частушка ей сейчас пропета. Тебе свою сальную шкуру Тигрица-столица несет, А ей белокурый понуро В созвездиях место дает. Неситесь песни о скитальцах, Стучите кости на узких пальцах, И громко ревите слова моряков Сквозь бурю, за волны до тех облаков. Перевернув зарницы выси И отделившись легче мыси, Не знаю, мертв я иль живой, Сейчас поверю я, что вы Прилипните к потолку главой Одной работой своей воли. Гребя веслом, везет проказа Ушкуй задумчивых пьянчуг. За денщикова бровью глаза Проходит дым, огонь и юг. И дым закутает нас дымкой, Как чайка синяя носясь, А муж томительной ужимкой Посмотрит, веком вбок косясь. В какой серый мрачный гроб Замкнуты сизой клетки здания. А в песне море и озноб И трепет ночью мироздания, И клекот белого орлана, И чаек хохот или плач. О, водопадный хрип горлана! Душа летела, как Кивач. Славное море, священный Байкал Тот выход песни замыкал.1914
Олег Трупов*
Зачем виденью моему Я дал кладбищенское слово? Апчхи! Могил усопших «мму» Свирель взять именем готова. Ах, Глеб Убийцын или Трупов – Не все ль равно? где краски скупы, Не нужно девам и чело, Уст полумертвое село. Так цветик, вынут из стакана, Теряет свежесть нежных жил, Лицо роняет ниже стана. Но он в воде, и он ожил. Олегу Трупу были девы – Вод нежносвистные напевы. Ведь взор обгонит шаг усталых, Ведь взор метельней скакуна. Так разум, даже пеплом малых,– Скакун столетий табуна. Вы жили в Пушкине и с ним Труп Гончаровой был любим. Тобой, певцом Бахчисарая, Та бриль – зеленая, сырая – Рукой небрежною одета Над бровью Трупова Олега С упрямой бровию обета. Что жизнь у смертного ночлега? Промолвит: «Он был некто». Так Теперь я вижу – свой пятак… Конечно, чтец! бре-гись! мой нож! На вас, на нас, на общий люд Отменно не был он похож: Где вы нежны – Олег был лют, Где вы тростник – там князем бурь Бросал всему устало: дурь! Где вы лишь блещущий сапог – Он одуванчиков венок. И в отраженьи на секире Себя постигнув в взоре жен, Он покорял ресниц Сибири, По Ленам ласки унесен. Надменный хлыст сверкнет китам: Их, серых, три, он с ними там. «Меня вези в страну тамтам!» Как голубь, если налетается, Вдруг упадает в синий таз, Я верю, Пушкина скитается Его душа в чудесный час. И вдруг, упав на эти строки, Виёт над пропастью намеки. Платком столетия пестра Поет – моей душе сестра. Но я почти что чту мечту, Когда та пахнет кровью снега. (Сейчас орлицей на лету Схвачу я озеро Онега). Безумный год. Безумий четки В год трупа снимет с тени тень. То скучный вечер умной тетки, То спора Разинский кистень! Живые уж не веселили, Мне трупы равенство сулили [Но вековою бездной злят]. Болеет жемчуг. И ты, о зеркало, болей За образ черных соболей. Опять наготы наготове Твои набатовы зрачки. Вода журчит. Итог Любовей – [Всегда готовые] крючки. Так в даче дикой в время оно Друзья снимали труп Гапона. А снег летел. Стучались враны. Их книгами смерть предуказана. Священник стриженый и странный Крутился сумрачно-взлохмаченный. Свои вечерние зрачки закрыв суровою ладонью, Зима прильнула к подоконью. Народа волны, гул и гам. Снежинок царство льнет к ногам. Под руководством деловерца Угрюмые, злые и хор о хор Из глоток заводов, чье умерло сердце, Хлынули люди с копьями зорь. И снег мгновенно покраснел И клювом ворона чернел. Где самоубийца раз висел И облупился потолок, Я в кресло дружеское сел. В чем он ходил? Перчатки, котелок… И уж испуганной орлицей Хлопочет Пронин над теплицей. Я вспомнил, что было вчера: <нрзб> обои, <нрзб> веера. Я обманулся у Невы, Доверив все двадцати-трехлетью. Очей неверной синевы Коварен зов за черной сетью. (Сейчас вы та же, та же, та же Отчасти и немного даже). Вот юноша. Он еще не стар. Он немного седой. Он знает, что мыслей и жизни пожар Война заливает свинцовой водой. Многим их 20, закрытых щитом, [Вождям] дадут раньше и отымут потом. В своей зеленой гладкой коже В чужой руке покорный ножик. И этот вечер золотой – Он так изыскан и изящен, Что только серной кислотой Лечить возьмется раны наши. Крыла ударом серым лечит Внезапной смерти белый кречет. Глаза холодно-ледяные Так часто в дружеской молве. Они нужны решать иные Беспутно томной голове. Хотите, дам вам мировую славу… А, так! Вы не смеетесь по какому праву? О дне крутом и дней былого в <мороте> Зачем вы целый час так тараторите? Я улыбнулся, я молчал. И вежливо холодно-ледяными Глазами друг мой отвечал И прошептал чужое имя. Окурка погасил он уголек, Не посмотрев условленный упрек. Как белые льны и как снежные глины, Волос упадал за уступом уступ. Концы ресниц чудесно длинны, А рот чаровательно глуп. Две точки зрачков в серединах колец, Глаза эти каменные – их высек резец. День белого взмаха ресницами,– Девичество смерти скитается, снится нам. Другим народом, другою кровью Пьянятся нищие любовью. К чужого моря люда устью Летят, весло направив грустью. Изящный вечер. Пел Эн-ин С восточной сладостью напева. И вот уж – легок на помин – Пришел 13-й, и цева В устах незримого звенит Беседы скорой. Журчали речи водопадом И, поздравляя с новым гадом, Мы, созерцаемые тьмами Старинной жаловались Маме. Бросали холод веера. И умер говор. Что, пора? Глеб Трупов властно пил зрачки И думал: есть звук мировой. Дорогу, дорогу, идут дурачки, То смерть приближалась с толпой моровой. Глеб Трупов не был уж красив, В нем лишь орлиный взмах бровей. Свои глаза, как бес скосив, Волком он вырос у дверей. Морозный день. Бросает синий дым плита На улицах Казани. Тогда про пляску живота Он слышал много указаний. Все курят дым, и лишь клянется кто-то, Что все еще черны тенёта. И черный дым на черном теле. Ай-ай! где-где? цветы слетели. Но как описывал <Рагозин>, <Волнений дым> прозрачен и морозен. Вы хохот помните его, Что окна сумрачно гудели. И после шепот: «ничего». И просьба, чтобы не галдели. Кривляясь той, что выросла на рынке, Себя закрыв в цветочный сноп, Зеленым золотом кувшинок Обвил хохочущий свой лоб. Как пережиток крепостничества, Зеленых ив качнет девичество. Он долго, долго хохотал, Как будто Пушкина читал. Красавиц смуглые колечки Ужели ты припоминал, Когда в проворных волнах речки Он тело зверское купал. Собрание плетей, тройчатки, Бичи, хлысты, орудия Батыя. Я кто? десятая, семнадцатая? Перчатки Сняв, дала увидеть кольца золотые. Любимая, приставом строгой молвы, Она: то – милый, то – на «вы». Волшебно-тонкой сладка боль, Я взял из кожи мягкий хлыст По уговору многих воль И им взмахнул короткий свист. Мыслитель толстый и опухший, как мертвец Смотрел с стены. Какой-то живописец Так написал его, что сам игры отец Его велел как друга высечь. И смелый замысел стать тем, О ком задумались века, Чей образ сквозь столетий тень Чертила важная рука, Расположением чернил Кто судьбы ваши изменил Нечеловеческой игрой, Кто исказил гробов покой, Кому сей мир – зеленый стол, Кому давно не милы страсти, Кому знаком восставший вол, А звезды – радостные масти.<1915–1916>
<Воззвание Председателей Земного Шара>*
Только мы, свернув ваши три года войны В один завиток грозной трубы, Поем и кричим, поем и кричим, Пьяные прелестью той истины, Что Правительство Земного Шара Уже существует. Оно – Мы. Только мы нацепили на свои лбы Дикие венки Правителей Земного Шара. Неумолимые в своей загорелой жестокости, Встав на глыбу захватного права, Подымая прапор времени, Мы, обжигатели сырых глин человечества В кувшины времени и балакири, Мы, зачинатели охоты за душами людей, Воем в седые морские рога, Скликаем людские стада – Эго-э? Кто с нами? Кто нам товарищ и друг? Эго-э! кто за нами? Так пляшем мы, пастухи людей и Человечества, играя на волынке. Эво-э! Кто больше? Эво-э! Кто дальше? Только мы, встав на глыбу Себя и своих имен, Хотим среди моря ваших злобных зрачков, Пересеченных голодом виселиц И искаженных предсмертным ужасом, Около прибоя людского воя, Назвать и впредь величать себя Председателями Земного Шара. Какие наглецы, – скажут некоторые.– Нет, они святые, – возразят другие. Но мы улыбнемся, как боги, И покажем рукою на Солнце. Поволоките Его на веревке для собак, Повесьте Его на словах: Равенство, Братство, Свобода, Судите Его вашим судом судомоек За то, что в преддверьях Очень улыбчивой весны Оно вложило в нас эти красивые мысли, Эти слова и дало Эти гневные взоры. Виновник – Оно. Ведь мы исполняем Солнечный шепот, Когда врываемся к вам как Главноуполномоченные Его приказов, Его строгих велений. Жирные толпы человечества Протянутся по нашим следам, Где мы прошли. Лондон, Париж и Чикаго Из благодарности заменят свои Имена нашими. Но мы простим им их глупость. Это дальнее будущее, А пока, матери, Уносите своих детей, Если покажется где-нибудь государство. Юноши, скачите и прячьтесь в пещеры И в глубь моря, Если увидите где-нибудь государство. Девушки и те, кто не выносит запаха мертвых, Падайте в обморок при слове «границы»: Они пахнут трупами. Ведь каждая плаха была когда-то Хорошим сосновым деревом, Кудрявой сосной. Плаха плоха только тем, Что на ней рубят головы людям. Так, государство, и ты Очень хорошее слово со сна – В нем есть И звуков: Много удобства и свежести. Ты росло в лесу слов: Пепельница, спичка, окурок, Равный меж равными; Но зачем оно кормится людьми? Зачем отечество стало людоедом, А родина его женой? Эй! Слушайте! Вот мы от имени всего человечества Обращаемся с переговорами К государствам прошлого: Если вы, о государства, прекрасны, Как вы любите сами о себе рассказывать И заставляете рассказывать о себе Своих слуг, То зачем эта пища богов? Зачем мы, люди, трещим у вас на челюстях Между клыками и коренными зубами? Слушайте, государства пространств, Ведь вот уже три года Вы делали вид, Что человечество – только пирожное, Сладкий сухарь, тающий у вас во рту; А если сухарь запрыгает бритвой и скажет: мамочка! Если его посыпать нами, Как ядом? Отныне мы приказываем заменить слова: «Милостью Божьей» «Милостью Фиджи». Прилично ли Господину Земному Шару (Да творится воля Его) Поощрять соборное людоедство В пределах себя? Не высоким ли холопством Со стороны людей, как едомых, Защищать своего верховного Едока? Послушайте! Даже муравьи Брызгают муравьиной кислотой на язык медведя. Если же возразят, Что государство пространств неподсудно Как правовое соборное лицо, Не возразим ли мы, что и человек Тоже двурукое государство Шариков кровяных и тоже соборен. Если же государства плохи, То кто из нас ударит палец о палец, Чтобы отсрочить их сон Под одеялом: навеки? Вы недовольны, о государства И их правительства, Вы предостерегающе щелкаете зубами И делаете прыжки. Что ж! Мы – высшая сила И всегда сможем ответить На мятеж государств, Мятеж рабов,– Метким письмом. Стоя на палубе слова «надгосударство звезды» И не нуждаясь в палке в час этой качки, Мы спрашиваем: что выше – Мы, в силу мятежного права И неоспоримые в своем первенстве, Пользуясь охраной законов о изобретении И объявившие себя Председателями Земного Шара, Или вы, правительства Отдельных стран прошлого, Эти будничные остатки около боен Двуногих быков, Трупной влагой коих вы помазаны? Что касается нас, вождей человечества, Построенного нами по законам лучей При помощи уравнений рока, То мы отрицаем господ, Именующих себя правителями, Государствами и другими книгоиздательствами И торговыми домами «Война и К°», Приставившими мельницы милого благополучия К уже трехлетнему водопаду Вашего пива и нашей крови С беззащитно-красной волной. Мы видим государства, павшие на меч С отчаяния, что мы пришли. С родиной на устах, Обмахиваясь веером военно-полевого устава, Вами нагло выведена война В круг невест человека. А вы, государства пространств, успокойтесь И не плачьте, как девочки. Как частное соглашение частных лиц, Вместе с обществами поклонников Данте, Разведения кроликов, борьбы с сусликами, Вы войдете под сень изданных нами законов. Мы вас не тронем. Раз в году вы будете собираться на годичные собрания, Делая смотр редеющим силам И опираясь на право союзов. Оставайтесь добровольным соглашением Частных лиц, никому не нужным И никому не важным, Скучным, как зубная боль У бабушки 17 столетия. Вы относитесь к нам, Как волосатая ного-рука обезьянки, Обожженная неведомым богом-пламенем, К руке мыслителя, спокойно Управляющей вселенной, Этого всадника оседланного рока. Больше того: мы основываем Общество для защиты государств От грубого и жестокого обращения Со стороны общин времени. Как стрелочники У встречных путей Прошлого и Будущего, Мы так же хладнокровно относимся К замене ваших государств Научно построенным человечеством, Как к замене липового лаптя Зеркальным заревом поезда. Товарищи рабочие! Не сетуйте на нас: Мы, как рабочие-зодчие, Идем особой дорогой к общей цели. Мы – особый род оружия. Итак, боевая перчатка Трех слов: Правительство Земного Шара Брошена. Перерезанное красной молнией, Голубое знамя безволода, Знамя ветреных зорь, утренних солнц Поднято и развевается над землей. Вот оно, друзья мои! Правительство Земного Шара. Пропуск в Правительство Звезды: Сун-Ят-сену, Рабиндранат Тагору, Вильсону, Керенскому. Предложения Законы быта да сменятся Уравнениями рока. Персидский ковер имен государств Да сменится лучом человечества. Мир понимается как луч. Вы – построение пространств. Мы – построение времени. Во имя проведения в жизнь Высоких начал противоденег Владельцам торговых и промышленных предприятий Дать погоны прапорщика Трудовых войск С сохранением за ними оклада Прапорщиков рабочих войск. Живая сила предприятий поступает В распоряжение мирных рабочих войск.21 апреля 1917
Война в мышеловке*
1
Вы помните? я щеткам сапожным Малую Медведицу повелел отставить от ног подошвы, Гривенник бросил вселенной и после тревожно Из старых слов сделал крошево. Где конницей столетий ораны Лохматые пашни белой зари, Я повелел быть крылом ворону И небу сухо заметил: «Будь добро, умри!» И когда мне позже приспичилось, Я, чтобы больше и дольше хохотать, Весь род людей сломал, как коробку спичек, И начал стихи читать. Был шар земной Прекрасно схвачен лапой сумасшедшего. – За мной! Бояться нечего!2
И когда земной шар, выгорев, Станет строже и спросит: кто же я? Мы создадим «Слово Полку Игореве» Или же что-нибудь на него похожее. Это не люди, не боги, не жизни, Ведь в треугольниках – сумрак души! Это над людом в сумрачной тризне Теней и углов Пифагора ковши! Чугунная дева вязала чулок Устало, упорно. Широкий чугун Сейчас полетит, и мертвый стрелок Завянет, хотя был красивый и юн. Какие люди, какие масти В колоде слухов, дань молве! Врачей зубных у моря снасти И зубы коренные, но с башнями «Бувэ»! И старец пены, мутный взором, Из кружки пива выползая, Грозит судьбою и позором, Из белой пены вылезая. Малявина красивицы, в венке цветов Коровина, Поймали небоптицу. Хлопочут так и сяк. Небесная телега набила им оскомину. Им неприятен немец, упитанный толстяк. И как земно и как знакомо И то, что некоторые живы, И то, что мышь на грани тома, Что к ворону По – ворон Калки ленивый!3
Как! И я, верх неги, Я, оскорбленный за людей, что они такие, Я, вскормленный лучшими зорями России, Я, повитой лучшими свистами птиц,– Свидетели: вы, лебеди, дрозды и журавли! – Во сне провлекший свои дни, Я тоже возьму ружье (оно большое и глупое, Тяжелее почерка) И буду шагать по дороге, Отбивая в сутки 365.317 ударов – ровно. И устрою из черепа брызги, И забуду о милом государстве 22-летних, Свободном от глупости возрастов старших, Отцов семейства (общественные пороки возрастов старших). Я, написавший столько песен, Что их хватит на мост до серебряного месяца… Нет! Нет! Волшебницы дар есть у меня, сестры небоглазой, С ним я распутаю нить человечества, Не проигравшего глупо Вещих эллинов грез, Хотя мы летаем. Я ж негодую на то, что слова нет у меня, Чтобы воспеть мне изменившую Избранницу сердца. Ныне в плену я у старцев злобных, Хотя я лишь кролик пугливый и дикий, А не король государства времен, Как зовут меня люди: Шаг небольшой, только ик, И упавшее О, кольцо золотое, Что катится по полу.4
Вы были строгой, вы были вдохновенной, Я был Дунаем, вы были Веной. Вы что-то не знали, о чем-то молчали, Вы ждали каких-то неясных примет. И тополи дальние тени качали, И поле лишь было молчанья совет. Панна пены, панна пены, Что вы, тополь или сон? Или только бьется в стены Роковое слово «он»? Иль за белою сорочкой Голубь бьется с той поры, Как исчезнул в море точкой Хмурый призрак серой при? Это чаек серых лёт! Это вскрикнувшие гаги! Полон силы и отваги Через черес он войдет!5
Где волк воскликнул кровью: «Эй! Я юноши тело ем»,– Там скажет мать: «Дала сынов я». Мы, старцы, рассудим, что делаем. Правда, что юноши стали дешевле? Дешевле земли, бочки воды и телеги углей? Ты, женщина в белом, косящая стебли, Мышцами смуглая, в работе наглей! «Мертвые юноши! Мертвые юноши!» – По площадям плещется стон городов. Не так ли разносчик сорок и дроздов? – Их перья на шляпу свою нашей. Кто книжечку издал «Песни последних оленей», Висит, продетый кольцом за колени, Рядом с серебряной шкуркою зайца, Там, где сметана, мясо и яйца. Падают Брянские, растут у Манташева… Нет уже юноши, нет уже нашего Черноглазого короля беседы за ужином. Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам!6
Не выли трубы набат о гибели: «Товарищи милые, милые выбыли». Ах, вашей власти вне не я – Поет жестокий узор уравнения. Народы бросились покорно, Как Польша, вплавь, в мои обители, Ведь я люблю на крыльях ворона Глаза красивого Спасителя! За ним, за ним! Туда, где нем он! На тот зеленый луг, за Неман! За Неман свинцовый и серый! За Неман, за Неман, кто верует!<7>
Я задел нечаянно локтем Косы, сёстры вечернему ворону, А мост царапал ногтем Пехотинца, бежавшего в сторону. Убийцы, под волнами всхлипывая, Лежали, как помосты липовые. Чесала гребнем смерть себя, Свои могучие власы, И мошки ненужных жизней Напрасно хотели ее укусить.<8>
Девы и юноши, вспомните, Кого мы и что мы сегодня увидели, Чьи взоры и губы истом не те, А ты вчера с позавчера, увы, дели! Горе вам, горе вам, жители пазух, Мира и мора глубоких морщин, Точно на блюде, на хворях чумазых, Поданы вами горы мужчин. Если встал он, Принесет ему череп «Эс», Вечный и мирный, жизни первей! Это смерть идет на перепись Пищевого довольства червей. Поймите, люди, да есть же стыд же, Вам не хватит в Сибири лесной костылей, Иль позовите с острова Фиджи Черных и мрачных учителей И проходите годами науку, Как должно есть человечью руку. Нет, о друзья! Величаво идемте к Войне-Великаньше, Что волосы чешет свои от трупья. Воскликнемте смело, смело как раньше: «Мамонт наглый, жди копья! Вкушаешь мужчин а 1а Строганов». Вы не взошли на мой материк! Будь же неслыхан и строго нов Похорон мира глухой пятерик Гулко шагай и глубокую тайну Храни вороными ушами в чехлах, Я верю, я верю, что некогда «Майна!» Воскликнет Будда или Аллах. Белые дроги, белые дроги, Черное платье и узкие ноги. Был бы лишь верен, вернее пищали с кремнями, мой ум бы, Выбрал я целью оленя лохматого. За мною, Америго, Кортец, Колумбы! Шашки шевелятся, вижу я мат его!<9>
Капает с весел сияющий дождь, Синим пловцом величая. Бесплотным венком ты увенчан, о вождь! То видим и верим, чуя и чая. Где он? Наши думы о нем! Как струи, огни без числа, Бесплотным и синим огнем Пылая, стекают с весла. Но стоит, держа правило, Не гордится кистенем. И что ему на море мило? И что тосковало о нем? Какой он? Он русый, точно зори, Как колос спелой ржи, А взоры – это море, где плавают моржи. И жемчугом синим пламена Зажгутся опять как венок. А он, потерявший имёна, Стоит молчалив, одинок. А ветер забился все крепче и крепче, Суровый и бешеный моря глагол! Но имя какое же шепчет Он, тот, кому буря престол? Когда голубая громада Закрыла созвездий звено, Он бросил клич: «Надо, Веди, голубое руно!»<10>
И люди спешно моют души в прачешной, И спешно перекрашивают совестей морды, Чтоб некто, лицом сумасшествия гордый, Над самым ухом завыл: «Ты ничего не значишь, эй!» И многие, надев воротнички, Не знали, что делать дальше с ними: Встав на цыпочки, повесить на сучки Иль написать обещанное имя.<11>
Котенку шепчешь: «Не кусай». Когда умру, тебе дам крылья. Уста напишет Хокусай, А брови – девушки Мурильо.<12>
Табун шагов, чугун слонов! Венки на бабра повесим сонно, Скачемте вместе, Самы и Самы, Нас много – хоботных тел. Десять – ничто. Нас много – друзей единицы. Заставим горлинок пушек снаряды носить. Движением гражданина мира первого – волка Похитим коней с Чартомлыцкого блюда. Ученее волка (первого писаря русской земли) Прославим мертвые резцы и мертвенную драку Шею сломим наречьям, точно гусятам, Нам наскучило их «га-га-га»! Наденем намордник вселенной, Чтоб не кусала нас, юношей, И пойдем около белых и узких борзых С хлыстами и тонкие. Лютики выкрасим кровью руки, Разбитой о бивни вселенной, О морду вселенной. И из Пушкина трупов кумирных Пушек наделаем сна. От старцев глупых вещие юноши уйдут И оснуют мировое государство Граждан одного возраста.<13>
Одетый в сеть летучих рыб, Нахмурил лоб суровый бог рыб. Какой-то общий шум и шип, И, точно красный выстрел, погреб. За алым парусом огня Чернеют люди и хлопочут. Могил видением казня, Разбой валов про смерть пророчит. И кто-то, чернильницей взгляда недобрый, Упал, плетнем смерти подняв свои ребра, Упав, точно башен и пушек устав. Вот палуба поднялась на дыбы, Уже не сдержана никем. Русалки, готовьте гробы! Оденьте из водорослей шлем, От земли печальной вымыв, И покройте поцелуями этот бледный желтый воск кости. А на небе, там, где тучи, Человеческие плоскости Ломоть режут белых дымов. Люди, где вы? Вы не вышли Из белой праотцев могилы, И только смерть, хрипя на дышле, Дрожит и выбилась из силы. Она устала. Пожалейте Ее за голос «куд-кудах»! Как тяжело и трудно ей идти, Ногами вязнет в черепах. Кто волит, чтоб чугунный обод Не переехал взоров ласточки, Над тем качнулся зверский хобот И вдруг ударил с силой вас тоски. И бьет тяжелою колодой Он оглупевшего зверка, И масти красною свободой Наполнят чашу, пусть горька.<14>
Свобода приходит нагая, Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, Беседуем с небом на «ты». Мы, воины, строго ударим Рукой по суровым щитам: Да будет народ государем Всегда, навсегда, здесь и там! Пусть девы споют у оконца, Меж песен о древнем походе, О верноподданном Солнца Самодержавном народе.<15>
Эта осень такая заячья, И глазу границы не вывести Осени робкой и зайца пугливости. Окраскою желтой хитер Осени желтой житер. От гривы до гребли Всюду мертвые листья и стебли. И глаз остановится слепо, не зная, чья – Осени шкурка или же заячья?<16>
Вчера я молвил: «Гулля, гулля!» И войны прилетели и клевали Из рук моих зерно. И надо мной склонился дёдер, Обвитый перьями гробов, И с мышеловкою у бедер, И мышью судеб меж зубов. Крива извилистая трость И злы синеющие зины. Но белая, как лебедь, кость, Глазами зетит из корзины. Я молвил: «Горе! Мышелов! Зачем судьбу устами держишь?» Но он ответил: «Судьболов Я и волей чисел – ломодержец». И мавы в битвенных одеждах, Чьи кости мяса лишены, И с пляской конницы на веждах, Проходят с именем жены. Крутясь волшебною жемжуркой, Они кричали: «Веле! Веле!» И к солнцу прилепив окурок, К закату призраком летели. А я червонною сорочкой Гордился, стиснув удила,– Война в сорочке родила. Мой мертвый взор чернеет точкой.<17>
Узнать голубую вражду И синий знакомый дымок, Я сколько столетий прожду? Теперь же я запер себя на замок. О боги! Вы оставили меня И уж не трепещете крылами за плечами, И не заглядываете через плечо в мой почерк. В грязи утопая, мы тянем сетьми Слепое человечество. Мы были, мы были детьми, Теперь мы – крылатое жречество. Уж сиротеют серебряные почки В руке растерянной девицы, Ей некого, ей незачем хлестать! Пером войны поставленные точки И кладбища большие, как столица, Иных людей иная стать. Где в простыню из мертвых юношей Обулась общая земля, В ракушке сердца жемчуг выношу, Вас злобным свистом жалейки зля. Ворота старые за цепью, И нищий, и кривая палка, И государства плеч (отрепье) Блестят, о умная гадалка!<18>
Воин! Ты вырвал у небес кий И бросил шар земли. И новый Ян Собеский Выбросил: «Пли!» Тому, кто Уравнение Минковского На шлеме сером начертал, И песнезовом Маяковского На небе черном проблистал.<19>
Ты же, чей разум стекал, Как седой водопад, На пастушеский быт первой древности, Кого числам внимал И послушно скакал Очарованный гад В кольцах ревности И змея плененного пляска и корчи, И кольца, и свист, и шипение Кого заставляли все зорче и зорче Шиповники солнц понимать, точно пение. Кто череп, рожденный отцом, Буравчиком спокойно пробуравил И в скважину надменно вставил Росистую ветку Млечного Пути, Чтоб щеголем в гости идти. В чьем черепе, точно стакане, Была росистая ветка черных небес, И звезды несут вдохновенные дани Ему, проницавшему полночи лес. Я, носящий весь земной шар На мизинце правой руки, – Мой перстень неслыханных чар – Тебе говорю: Ты! Ты вспыхнул среди темноты. Так я кричу, крик за криком, И на моем каменеющем крике Ворон священный и дикий Совьет гнездо и вырастут ворона дети, А на руке, протянутой к звездам, Проползет улитка столетий! Блаженна стрекоза, разбитая грозой, Когда она прячется на нижней стороне Древесного листа. Блажен земной шар, когда он блестит На мизинце моей руки!<20>
Страну Лебедию забуду И ноги трепетных Моревен. Про Конецарство, ведь оттуда я, Доверю звуки моей цеве. Где конь благородный и черный Ударом ноги рассудил, Что юных убийца упорный, Жуя, станет жить, медь удил. Где конь звероокий с волной белоснежной Стоит, как судья у помоста, И дышло везут колесницы тележной Дроби преступные, со ста. И где гривонос благородный Свое доверяет копыто Ладони покорно холодной, А чья она – всеми забыто. Где гривы – воздух, взоры – песни, Все дальше, дальше от ням-ням! Мы стали лучше и небесней, Когда доверились коням. О, люди! Так разрешите вас назвать! Жгите меня, Но так приятно целовать Копыто у коня: Они на нас так непохожи, Они и строже и умней, И белоснежный холод кожи, И поступь твердая камней. Мы не рабы, но вы посадники, Но вы избранники людей! И ржут прекрасные урядники, В нас испытуя слово «дей!» Над людом конских судей род Обвил земной шар новой молнией. Война за кровь проходит в брод. Мы крикнем: «Этот дол не ей!» И черные, белые, желтые Забыли про лай и про наречья. Иной судья – твой шаг, тяжел ты! И власть судьи не человечья. Ах, князь и кнезь, и конь, и книга Речей жестокое пророчество. Они одной судьбы, их иго Нам незаметно, точно отчество.<21>
Ветер – пение Кого и о чем? Нетерпение Меча стать мячом. Я умер, я умер, И хлынула кровь По латам широким потоком. Очнулся я иначе, вновь Окинув вас воина оком.1919. (1915–1918)
Каменная баба*
Старик с извилистою палкой И очарованная тишь. И, где хохочущей русалкой Над мертвым мамонтом сидишь, Шумит кора старинной ивы, Лепечет сказки по-людски, А девы каменные нивы – Как сказки каменной досюг. Вас древняя воздвигла треба. Вы тянетесь от неба и до неба. Они суровы и жестоки, Их бусы – грубая резьба. И сказок камня о Востоке Не понимают ястреба. Стоит с улыбкою недвижной, Забытая неведомым отцом, И на груди ее булыжной Блестит роса серебряным сосцом. Здесь девы скок темноволосой Орла ночного разбудил, Ее развеянные косы, Его молчание удил! И снежной вязью вьются горы, Столетних звуков твердые извивы. И разговору вод заборы Утесов, сверху падших в нивы. Вон дерево кому-то молится На сумрачной поляне. И плачется, и волится Словами без названий. О тополь нежный, тополь черный, Любимец свежих вечеров! И этот трепет разговорный Его качаемых листов Сюда идет: пиши-пиши, Златоволосый и немой. Что надо отроку в тиши Над серебристою молвой? Рыдать, что этот Млечный Путь не мой? «Как много стонет мертвых тысяч Под покрывалом свежим праха! И я последний живописец Земли неслыханного страха. Я каждый день жду выстрела в себя. За что? За что? Ведь всех любя, Я раньше жил, до этих дней, В степи ковыльной, меж камней». Пр ишел и сел. Рукой задвинул Лица пылающую книгу. И месяц плачущему сыну Дает вечерних звезд ковригу. «Мне много ль надо? Коврига хлеба И капля молока, Да это небо, Да эти облака!» Люблю и млечных жен, и этих, Что не торопятся цвести. И это я забился в сетях На сетке Млечного Пути. Когда краснела кровью Висла И покраснел от крови Тисс, Тогда рыдающие числа Над бедным миром пронеслись. И синели крылья бабочки, Точно двух кумирных баб очки. Серо-белая, она Здесь стоять осуждена Как пристанище козявок, Без гребня и без булавок, Рукой грубой указав Любви каменный устав. Глаза – серые доски – Грубы и плоски. И на них мотылек Крылами прилег. Огромный мотылек крылами закрыл И синее небо мелькающих крыл, Кружевом точек берёг Вишневой чертой огонек. И каменной бабе огня многоточие Давало и разум и очи ей. Синели очи и вырос разум Воздушным бродяги указом. Вспыхнула темною ночью солома? Камень кумирный, вставай и играй Игор игрою и грома. Раньше слепец, сторож овец, Смело смотри большим мотыльком, Видящий Млечным Путем. Ведь пели пули в глыб лоб, без злобы, чтобы Сбросил оковы гроб мотыльковый, падал в гробы гроб. Гоп! Гоп! в небо прыгай, гроб! Камень, шагай, звезды кружи гопаком. В небо смотри мотыльком. Помни, пока Эти веселые звезды, пламя блистающих звезд – На голубом сапоге гопака Шляпкою блещущий гвоздь. Более радуг в цвета! Бурного лёта лета! Дева степей уж не та!20 марта 1919
Поэт*
Весенние святки
Как осень изменяет сад, Дает багрец, цвет синей меди, И самоцветный водопад Снегов предшествует победе, И жаром самой яркой грезы Стволы украшены березы, И с летней зеленью проститься Летит зимы глашатай – птица, Где тонкой шалью золотой Одет откос холмов крутой, И только призрачны и наги Равнины белые овраги, Да голубая тишина Просила слова вещуна, – Так праздник масляницы вечный Души отрадою беспечной Хоронит день недолговечный, Хоронит солнца низкий путь, Зимы бросает наземь ткани И, чтобы время обмануть, Бежит туда быстрее лани. Когда над самой головой Восходит призрак золотой И в полдень тень лежит у ног, Как очарованный зверок, Тогда людские рощи босы Ткут пляски сердцем умиленных, И лица лип сплетают косы Листов зеленых. Род человечества, игрою легкою дурачась, ты, В себе самом меняя виды, Зимы холодной смоешь начисто Пустые краски и обиды. Иди, весна! Зима, долой! Греми весеннее трубой! И человек, иной чем прежде, В своей изменчивой одежде, Одетый облаком и наг, Цветами отмечая шаг, Летишь в заоблачную тишь С весною быстрою сам-друг, Прославив солнца летний круг. Широким неводом цветов Весна рыбачкою одета, И этот холод современный Ее серебряных растений, И этот ветер вдохновенный Из полуслов и полупения, И узел ткани у колен, Где кольца чистых сновидений. Вспорхни, сосед, и будь готов Нести за ней охапки света И цепи дыма и цветов. И своего я потоки, Моря свежего взволнованней, Ты размечешь на востоке И посмотришь очарованней. Сини воздуха затеи. Сны кружились точно змеи. Озаренная цветами, Вдохновенная устами, Так весна встает от сна. Все, кто предан был наживе, Счету дней, торговле отданных, Счету денег и труда, – Все сошлись в одном порыве Любви к Деве верноподданных, Веры в праздник навсегда. Крик шута и вопли жен, Погремушек бой и звон, Мешки белые паяца, Умных толп священный гнев, Восклицали: «Дева Цаца!» Восклицали нараспев, В бурных песнях опьянев. Двумя занятая лавка, Темный тополь у скамейки. Шалуний смех, нечаянная давка, Проказой пролитая лейка. В наряде праздничном цыган, Едва рукой касаясь струн, Ведет веселых босоножек. Шалун, Черноволосый, черномазый мальчуган Бьет тыквою пустой прохожих. Глаза и рот ей сделал ножик. Она стучит, она трещит, Она копье и ловкий щит. Потоком пляски пробежали В прозрачных одеяньях жены. «Подруги, верно ли? едва ли, Что рядом пойман леший сонный? Подруги, как мог он в веселия час Заснуть, от сестер отлучась? Прости, дружок, ну, добрый путь, Какой кисляй, какая жуть!» И вот, наказанный щипками, Бежит неловкими прыжками И скрыться от сестер стремится, Медведь, и вдруг, свободнее чем птица, Долой от злых шалуний мчится. Волшебно-праздничною рожей, Губами красными сверкнув, Толпу пугает чернокожий, Копье рогожей обернув. За ним с обманчивой свободой Рука воздушных продавщиц, Темнея солнечной погодой, Корзину держит овощей. Повсюду праздничные лица И песни смуглых скрипачей. Среди недолгой тишины Игра цветами белены. Подведены, набелены, Скакали дети небылицы, Плясали черти очарованно, Как призрак призраком прикованный, Как будто кто-то ими грезит, Как будто видит их во сне, Как будто гость замирный лезет В окно красавице весне. Слава смеху! Смерть заботе! Из знамен и из полотен, Что качались впереди, Смех, красиво беззаботен, С осьминогом на груди Выбегает смел и рьян, Жрец проделок и буян. Пасть кита несут, как двери Отворив уста широко, Два отшельника-пророка, В глуби спрятаны как звери, Спорят об умершей вере. Снег за снегом, Все летит к вере в прелести и негам. Вопит задумчиво волынка, Кричит старик «кукареку», И за снежинкою снежинка Сухого снега разноцветного Садилась вьюга на толпу. Среди веселья беззаветного, Одетый бурной шкурой волка, Проходит воин; медь и щит. Жаровней-шляпой богомолка Старушка набожных смешит. Какие синие глаза! Сошли ли наземь образа? Дыханьем вечности волнуя, Идут сквозь праздник поцелуя! Священной живописью храма, Чтобы закрыл глаза безбожник, Иль дева нежная ислама, Чтоб в руки кисти взял художник? «Скажи, соседка, – мой Создатель! Кто та живая Богоматерь?» – «Ее очами теневыми Был покорен страстей язык, Ее шептать святое имя Род человеческий привык». Бела, белее изваяния, Струя молитвенный покой, Она, божественной рукой, Идет, приемля подаяние. И что ж! и что ж! Какой злодей Ей дал вожатого шута! Она стыдится глаз людей, Ее занятье – нищета! Но нищенки нездешний лик, Как небо синее, велик. Казалось, из белого камня изваян Поток ее белого платья, О нищенка дальних окраин, Забывшая храм Богоматерь! Испуг. Молчат… И белым светом залита Перед видением толпа детей, толпа дивчат. Но вот веселье окрепло. Ветер стона, хохот пепла, С диким ревом краснокожие Пробежали без оглядки, За личинами прохожие Скачут в пляске и присядке. И за ней толпа кривляк С писком плача, гик шутов, Вой кошачий, бой котов, Пролетевшие по улице, Хохот ведьмы и скотов, Человек-верблюд сутулится, Говор рыбы, очи сов, Сажа плачущих усов, На телеге красный рак, С расписными волосами, В харе святочной дурак Бьет жестянкою в бочонок, Тащит за руку девчонок. Мокрой сажи непогода, Смоляных пламен костры, Близорукие очки текут копотью по лицам, По кудрявых влас столицам. И в ночной огнистой чаре, В общей тяге к небылицам Дико блещущие хари, Лица цвета кумача Отразились, как свеча Среди тысячи зеркал, Где огонь, как смерть, плескал. Смеху время! Звездам час! Восклицали, ветром мчась. И копья упорных снежинок, Упавших на пол мостовой. Скамья. Голо выбритый инок Вдвоем с черноокой женой. Как голубого богомольцы, Качались длинных кудрей кольца, И полночь красным углем жег В ее прическе лепесток. И что ж! Глаза упорно-синие Горели радостью уныния И, томной роскоши полны, Ведут в загадочные сны. Но, полна мятели, свободы от тела, Как очи другого, не этого лика, Толпа бесновалась, куда-то летела, То бела, как призрак, то смугла и дика. И около мертвых богов, Чьи умерли рано пророки, Где запады, с ними востоки, Сплетался усталый ветер шагов, Забывший дневные уроки. И их ожерельем задумчиво мучая Свой давно уж измученный ум, Стоял у стены вечный узник созвучия, В раздоре с весельем и жертвенник дум. Смотрите, какою горой темноты, Холмами, рекою, речным водопадом Плащ, на землю складками падая, Затмил голубые цветы, В петлицу продетые Ладою. И бровь его, на сон похожая, На дикой ласточки полет, И будто судорогой безбожия Его закутан гордый рот. С высокого темени волосы падали Оленей сбесившимся стадом, Что, в небе завидев врага, Сбегает, закинув рога, Волнуясь, беснуясь морскими волнами, Рогами друг друга тесня, Как каменной липой на темени, И черной доверчивой мордой. Все дрожат, дорожа и пылинкою времени, Бросают сердца вожаку И грудой бегут к леднику. И волосы бросились вниз по плечам Оленей сбесившимся стадом По пропастям и водопадам, Ночным табуном сумасшедших оленей, С веселием страха, быстрее чем птаха! Таким он стоял, сумасшедший и гордый Певец (голубой темноты строгий кут, Морского волною обвил его шею измятый лоскут). И только алмаз Кизил-Э Зажег красноватой воды Звездой очарованной, к булавке прикованной, Плаща голубые труды, Девичьей душой застрахованной. О девушка, рада ли, Что волосы падали Рекой сумасшедших оленей, Толпою в крутую и снежную пропасть, Где белый белел воротничок? В час великий, в час вечерний Ты, забыв обет дочерний, Причесала эти волосы, Крылья дикого орлана, Наклонясь, как жемчуг колоса, С голубой душою панна. И как ветер делит волны, Свежей бури песнью полный, Первой чайки криком пьяный, Так скользил конец гребенки На других миров ребенке, Чьи усы темнеют нивой Пашни умной и ленивой. И теперь он не спал, не грезил и не жил, Но, багровым лучом озаренный, Узор стен из камней голубых Черными кудрями нежил. Он руки на груди сложил, Прижатый к груде камней призрак, Из жизни он бежал, каким-то светом привлеченный, Какой-то грезой удивленный, И тело ждало у стены Его души шагов с вершин, Его обещанного спуска, Как глина, полная воды, Но без цветов пустой кувшин, Без запаха и чувства. У ног его рыдала русалка. Она, Неясным желаньем полна, Оставила шум колеса И пришла к нему, слыхала чьи Песни вечера не раз. Души нежные русалочьи Покорял вечерний час. И забыв про ночные леса, И мельника с чортом божбу, И мельника небу присягу, Глухую его ворожбу, И игор подводных отвагу, Когда рассказом звездным вышит Пруда ночного черный шелк, И кто-то тайну мира слышит, Из мира слов на небо вышед, С ночного неба землю видит И ждет к себе, что кто-то выйдет, Что нежный умер и умолк, Когда на камнях волос чешет Русалочий прозрачный пол И прячется в деревьях липы, Конь всадника вечернего опешит, И только гулкий голос выпи Мычит на мельнице, как вол, Утехой тайной сердце тешит Усталой мельницы глагол, И всё порука от порока, Лишь в омуте блеснет морока, И сновидением обмана Из волн речных выходит панна. И горделива и проста Откроет дивные уста, Поет про очи синие, исполненные прелести, Что за паутиною лучей, И про обманчивый ручей, Сокрыт в неясном шелесте. Тогда хотели звезды жгучие Соединить в одно созвучие И смуглую веру воды, Веселые брызги русалок, И мельницы ветхой труды, И дерево, полное галок, И девы ночные виды. И вот, одинока, горда, Отправилась ты в города. При месяце белом Синеющим телом Пугает людей. Стучится в ворота И входит к нему. В душе у девы что-то Неясное уму. Но сердце вещее не трогали Ночные барышни и щеголи, Всегда их улицы полны И густо ходят табуны. Русалка, месяца лучами – Невеста в день венца, Молчанья полными глазами, Краснея, смотрит на певца. Глаза ночей. Они зовут и улетают Туда, в отчизну лебедей, И одуванчиком сияют В кругах измученных бровей, И нежно, нежно умоляют. «Как часто мой красивый разум, На мельницу седую приходя, Ты истязал своим рассказом О празднике научного огня. Ведь месяцы сошли с небес, Запутав очи в черный лес, И, обученные людскому бегу, Там водят молнии телегу И толпами возят людей На смену покорных коней. На белую муку Размолот старый мир Работаю рассудка, И старый мир – он умер на скаку! И над покойником синеет незабудка, Реки чистоглазая дочь. Над древним миром уже ночь! Ты истязал меня рассказом, Что с ним и я, русалка, умерла, И не река девичьим глазом Увидит времени орла. Отец искусного мученья, Ты был жесток в ночной тиши. Несу венок твоему пенью, В толпу поклонниц запиши!» Молчит, руками обнимая, Хватает угол у плаща И, отшатнувшись и немая, Вдруг смотрит молча, трепеща. «Отец убийц! отец убийц – палач жестокий, А я, по-твоему, – в гробу? И раки кушают меня, клешнею черной обнимая? Зачем чертой ночной мороки, Порывы первые ломая, Ты написал мою судьбу? Как хочешь назови меня: Собранием лучей, Что катятся в окно, Ручей-печаль, чей бег небесен, Иль „нет“ из „да“ в долине песен, Иль разум вод сквозь разум чисел, Где синий реет коромысел. Из небытия людей в волне Ты вынул ум, а не возвысил За смертью дремлющее „но“. Иль игрой ночных очей, На лоне ночи светозарных, И омутом, где всадник пьет, Иль месяца лучом, что вырвался из скважин, Иль мне быть сказкой суждено, Но пощади меня! Отважен, Переверни концом копье!» Тогда рукою вдохновенной На Богоматерь указал: «Вы сестры. В этом нет сомнений. Идите вместе, – он сказал.– Обеим вам на нашем свете Среди людей не знаю места (Невеста вод и звезд невеста). Но, взявшись за руки, идите Речной волной бежать сквозь сети Или нести созвездий нити В глубинах темного собора Широкой росписью стены, Или жилицами волны Скитаться вы обречены, Быть божествами наяву И в белом храме и в хлеву, Жить нищими в тени забора, Быть в рубище чужом и грязном, Волною плыть к земным соблазнам И быть столицей насекомых, Блестя в божественные очи, Спать на земле и на соломах, Когда рука блистает ночи. В саду берез, в долине вздохов Иль в хате слез и странных охов, Поймите, вы везде изгнанницы, Вам участь горькая останется Везде слыхать «позвольте кланяться». По белокаменным ступеням Он в сад сошел и встал под Водолеем. «Клянемся, клятве не изменим,– Сказал он, руку подымая, Сорвал цветок и дал обеим.– Сколько тесных дней в году, Стольких воль повторным словом Я изгнанниц поведу По путям судьбы суровым». И призраком ночной семьи Застыли трое у скамьи.16-19 октября 1919. 1921.
«Полужелезная изба…»*
Полужелезная изба, Деревьев тонкая резьба. О, белый ветер умных почек! Он плещется в окно. И люди старше нас Здесь чтили память Гаршина. Ему, писателю, дано Попасть к тебе, безумью барщина! Душою по лавинам Безумных гор рассыпать крылья И гибнуть пленником насилья. Души приказ был половинам: Одной носиться по Балканам, Другой сразиться с черным великаном, Поймавшим аленький цветочек, И сквозь железный переплет Стремиться в лестницы пролет. Русалка черных пропастей Тучу царапающего дома, С четою черных дыр, с охапкою костей, Кому ты не знакома? Похожий на зарю цветок, И он – мучения венок! Кругом безумного лица Огонь страдания кольца. С тех пор ручная молния вонзила В покои свой прозрачный хлев, Прозрачный и высокий, Свершилась прадедов мечта: Судьба людская покорила Породу новую скота. Хрипит русалкой голос дев, Пророка сердце – их потеха. Понять их сердце не успев, Они узор вражды доспеха. Опять! Опять! Все то же, то же: Род человеческий – прохожий Все той же сумрачной долины, Где полог звезд надменно синий. Лишь туч суровая семья Бег неприютный осеняет, Шатром верховное тая, И ветер тени удлиняет. Все неуютно, все уныло И все, что есть, то было, было! И к каждому виску народа Приставлено по дулу. И оба дали по посулу, Что переменится природа Страны заката и восхода. – Милостивый государь, позвольте закурить! Ключи! ключи стучат! Нужно отворить. – Давай, давай, будемте смолить. – Есть спички? Ни черта! – Милостивый государь, я пробыл в чреве у кита Три ночи и три дня, После французы, немцы и американцы спасли меня У Южной Африки зимой. И Гинденбург – племянник мой! Дедушка-леший воду проносит Славянским хитрым простецом. И думец-меньшевик неясно просит (Он бел и бледен, без кровинки): «Как брату! Дайте хлеб как брату…» – Можно войти? – рычит медвежий голос,– Я голоден! Славяне, скифы и германцы Жили селами… Я голоден… Уйдите, оборванцы! Ну, буду убирать светелку.– Безумный беглыми руками играет Ребикова «Елку». – Ну что же, новости какие? – Пал Харьков, скоро Киев.– Блестят имена Кесслера и Саблина. Старо-Московская ограблена. Богач летит, вскочив в коляску, И по пятам несется труд В своей победе удалой. Но пленных не берут. Пять тысяч за перевязку, А после голову долой. В снегу на большаке Лежат борцы дровами, ненужными поленами, До потолка лежат убитые, как доски, В покоях прежнего училища. Где сумасшедший дом? В стенах или за стенами? Москвы суровый клич: «За черным золотом на Дон!» – Ну что ж, Москву покажут на Дону! Прорубим на Кубань окно! – А мы махнем к Махно И, притаившись по лесам, Подымем ближе к небесам Слуг белого цветка: Блеснут погоны золотые! Батьки Махно сыны лихие Костры раскинут удалые, И мерным звуком винтарей Разят поклонников царей (Где раньше погибал «Спартак»), «Нет сдачи» – пулей рокоча. А после кровный уносил рысак На Дон далекий богача. В объятьях пушечного шума, Где с мертвым бешенством у рта Навеки лег на боковую Послушник вековому вечу С суровой раною на лбу,– Ведут тяжелую пальбу. И вот удачу боевую Коней доверив табуну, Промчалась алая Кубань Волной воинственной мазурки, Как мотыльки, трепещут бурки. Сабурка – мы? Иль вы з Сабурке? Ужели прав ваш сон кровавый, Где поколения пропали, Как вишни белые в цвету? И мы, безумные, припали Лицом к темничному стеклу… – На Дон! На Дон! И дико захохочет он: «Железяку на пузяку! Стройся!» А надзиратель крикнет: «успокойся!» Быть посему и бить по всему! Страна Олелька и Украйна! Где звезд небесных детвора! В полях головки белокурые, У сельской хаты те же белые цветы. Но бьются лени и труды. И носят храбрых кони куцые, И над могильницей Байды Стоят сыны Конфуция. И сквозь курган к умершим некогда отцам Доносится: «Мир – хижинам, война – дворцам!» Плитой могильною Серка Смотрел в окно холодный день. Шатром конины Голодных псов сокрыла туша. Давно ли вишня, хмель и груша Богинями весны цвели на Украине! Ночей заплаканные очи Стоят над Байдиной могилой, И кто-то скачет что есть мочи В долину красного цветка. Земного шара Рада Витает над страной, Где дикий половчин Громил стрелою пахаря И жалось к дереву овечье стадо. Как вопль смерти громок! Нагое тело без овчин Лежит – не надо знахаря. И так же лег его потомок. Пред смертью, что ему звучали: Опришков голоса с Карпат? Московский к бедноте набат? Теперь засни и стань цветами…1919
«Какой остряк, какой повеса…»*
Какой остряк, какой повеса Дал проигрыш закону веса? Как месяц обнаружил зоркий, Он древний туз покрыл семеркой! И ставку снял у игрока, И рок оставил в дураках, И горку алую червонцев Схватил голодною рукой, Где только солнца, солнца, солнца Катились звонкою рекой… Лети в материк А, Письмо летерика! И в кольцах облачных тулупа Сверли и пой, крыло шурупа, Судьбу и на небе ругая Скучно, скупо и зло, Службой ежедневною орлов. Летела Вила полунагая, Назол волос рукой откинув И в небо взор могучий кинув, Два черных, буйных солнца в падших звездах – глаза ее, А стан – курильни сизый воздух и зарево. Одна в небесных плоскостях. Где солнце, ясное тепло? Кому себя вручить, одолжить? Кому девичью нежность выдам? Меня умчал железный выдум, Чугунной чарой птицы вала Мне буря косы целовала. Отдавая дань почета, Я ночь, как птица, вековала На ветке дикого полета И грустно, грустно горевала. Плывет гроза – потопа знак. И вот лечу в воздушных оползнях, Чтобы в белых глины толщах Червяком подземным ползать. И точить ходы Сквозь орех высот, Через предел ночных скорлуп, И мой узок плот Уносит облачный шуруп Ни туды, ни сюды… Ей богу, хуже стрекозы! Чисто кара, где же грех? На птице без перьев, без кожи, без мяс, А одни стучат лишь кости, Решиться на суровый постриг, К безумцу неба устремясь, Куда-то ласточкою мчась, Забыв про тех, кто целовал Вот эти плечи, вот эти косы, И эти ноги, тайной босы, Обняв рукой железный вал, И мчаться, как на святки в гости Неведомо к кому, нет, не пойму, И облаку кричать «пади!» С неясной силою в груди, Лететь над морем с полчищем стрекоз И в снежных цепях видеть коз Зеленых глаз нездешний ситец,– В безумном страхе уноситесь! Сложили челюсти – ножи, В бореньи с бурями мужая, Чума густых колосьев ржи, Чума садов и урожая. Орлы из мух с крылами из слюды, Зеленой вестники беды. В набат кричат, веревкой дергая, Поля людей в степях за Волгою. Над пятнами таких пожарищ Сейчас лечу, стрекоз товарищ. От дерзких глаз паденья Закрыта плоскостями В построенной купальне, Чтоб труп не каялся в земле Перед священником высот За черный грех и за полет В падения исповедальне, В разлуке длинной с теми, Кому нежна ведунья. Хотели этого века. Я ваше небо проточу Суровой долей червяка, Как будто бы гнилой осенний лист, Как мякоть яблока уж перезрелую. А может быть, стащу с небесных веток Одно, другое солнышко Рукою дикою воровки, Парой хорошеньких ручонок. И светляка небес Воткну булавкой В потоп моих волос, Еще стыдливый и неловкий, Для зависти девчонок Подсолнух золотой, Кудрявый полднями миров, Пчелой запутается в косах, В ней зажужжит цветок полей, Что много, много выше всяких тополей. Я расскажу вечерним славкам, Что мной морей похищен посох: Господства на море игрушка жезла В руках того, под кем земля исчезла. Второе море это небо – На небе берег к морю требуй! А если спросят, что я делаю, Скажу, что, верно, в возрасте долоев Все ваше небо – яблоко гнилое, Пора прийти и червякам! И смерти лик знаком векам, И, верно, мне за солнца кражу Сидеть в земном остроге место, А это уже гаже. О, подвиг огненный! Я мамонта невеста, Он мой мертвый бог ныне. Лесному лосю-сохачу, Как призрак, хохочу, Лесной русалкою сижу На белой волне бивня И вот невестою дрожу Для женихов косого ливня. Забыв лесных бродяг, повес, С ознобом вперемеж, вразвалку, Богиню корчить и русалку, И быть копьем для поединка С суровым шишаком небес, В суровой воина руке. На помощь, милые слезинки, Бурливой плыть теперь реке. Водою горною, бывало, Спеша, как девичий рассказ, Коса неспешно подметала Влюбленный мусор синих глаз (Глаза – амбары сказок). Здесь остановится, здесь поторопится, Жестокая застынет, Пока столб пыли минет И пыл сердец к стыду не скопится. Тогда – за лень! И труд – долой! В него летит письмо метлой. Теперь сижу, сижу, дрожу, Какая мразь! какая жуть! И если б, тяжести крамольник, Упал на землю летерик, Какой великий треугольник Описан моим телом, Как учителей хрустящим мелом Углем описан на доске. За партой туч увидел ученик, Звездой пылая вдалеке, Как муравейник – башни колокольни. Но можно ту столицу,– Крик радости довольной,– Зажечь военной чечевицей. Нет, злая мысль, мысль-злодейка. Но если солнышко – копейка, То где же рубль? Во мне? в тебе? в чужой судьбе? Где песен убыль? Где лодка людей кротка И где гребцом – чахотка. Так Вила мирная журчала, С косой широкою мыслитель. Гроза далекая ворчала… На шкуре мамонта люблю Вороньей стаи чет и нечет, Прообраз в завтра углублю, Пока мне старцы не перечат. Над мертвой мамонтовой шкурой Вороны, разбудив снега полей, кружились. Пророка посохом шагает То, что позже сбудется, Им прошлое разбудится. Какая глубина – потонешь! «Орлы в Орле». «Крошу Шкуро». Серп ущербленный. И вдруг Воронеж, Где Буденный: Легли, разбиты, шкурой мамонта – Шкуро и Мамонтов. Умейте узнавать углы событий В мгновенной пене слов: Это нож дан В сердце граждан. В глазу курганы Ночных озер, В глазах цыганы Зажгли костер.<1919–1920>, 1921
Ночь в окопе*
Семейство каменных пустынниц Просторы поля сторожило. В окопе бывший пехотинец Ругался сам с собой: «Могила! Объявилась эта тетя, Завтра мертвых не сочтете, Всех задушит понемножку! Ну, сверну собачью ножку!» Когда-нибудь Большой Медведицы Сойдет с полей ее пехота, Теперь лениво время цедится И даже думать неохота. «Что задумался, отец? Али больше не боец? Дай затянем полковую, А затем на боковую!» Над мерным храпом табуна И звуки шорохов минуя «Международника» могучая волна Степь объяла ночную. Здесь клялись небу навсегда. Росою степь была напоена. И ало-красная звезда Околыш украшала воина. «Кто был ничем, Тот будет всем». Кто победит в военном споре? Недаром тот грозил углом Московской брови всем довольным, А этот рвался напролом К московским колокольням. Не два копья в руке морей, Протянутых из севера и юга, Они боролись: раб царей И он, в ком труд увидел друга. Он начертал в саду невест, На стенах Красного Страстного: «Ленивый да не ест». Труд свят и зверолова. Молитве верных чернышей Из храма ветхого изгнав, Сюда войны учить устав Созвал любимых латышей. Но он суровою рукой Держал железного пути. Нет, я не он, я не такой! Но человечество – лети! Лицо сибирского Востока, Громадный лоб, измученный заботой, И, испытуя, вас пронзающее око, О хате жалится охотою. «Она одна, стезя железная! Долой, беседа бесполезная. Настанет срок, и за царем И я уйду в страну теней. Тогда беседе час. Умрем И всё увидим, став умней. Когда врачами суеверий Мои послы во тьме пещеры Вскрывали ножницами мощи И подымали над толпой Перчатку женскую, жилицу Искусно сделанных мощей, Он умер, чудотворец тощий. Но эта женская перчатка Была расстрелом суеверий. И пусть конина продается, И пусть надсмешливо смеется С досок московских переулков Кривая конская головка, Клянусь кониной, мне сдается, Что я не мышь, а мышеловка. Клянусь ею, ты свидетель, Что будет сорванною с петель И поперек желанья Бога Застава к алому чертогу, Куда уж я поставил ногу. Я так скажу – пусть будет глупо Оно глупцам и дуракам, Но пусть земля покорней трупа Моим доверится рукам. И знамена, алей коня, Когда с него содрали кожу, Когтями старое казня, Летите, на орлов похожи! Я род людей сложу как части Давно задуманного целого. Рать алая! твоя игра! Нечисты масти У вымирающего белого». Цветы нужны, чтоб скрасить гробы, А гроб напомнит, мы цветы… Недолговечны, как они. Когда ты просишь подымать Поближе к небу звездочета Или когда, как Божья Мать, Хоронишь сына от учета, Когда кочевники прибыли, Чтоб защищать твои знамена, Или когда звездою гибели Грядешь в народ одноплеменный, Москва, богиней воли подымая Над миром светоч золотой, Русалкой крови орошая Багрянцем сломанный устой, Ты где права? ты где жива? Скрывают платья кружева, Когда чернеющим глаголем Ты встала у стены, Когда сплошным Девичьим полем Повязка на рубце войны. В багровых струях лицо монгольского Востока, Славянскою волнуяся чертой, Стоит могуче и жестоко, Как образ новый, время, твой! Проклятый бред! Молчат окопы, А звезды блещут и горят… Что будет завтра – бой? навряд. За сторожевым военным валом Таилась конница врагов: «Журавель, журавушка, жур, жур, жур…» Оттоль неслось на утренней заре. И доски каменные дур, Тоска о кобзаре, О строе колеса и палок Семейства сказочных русалок. Но чу? «Два аршина керенок Брошу черноглазой, Нож засуну в черенок, Поскачу я сразу. То пожаром, то разбоем Мы шагаем по земле. Черемуху воткнув в винтовку, Целуем милую плутовку. Мы себе могилу роем В серебристом ковыле». Так чей-то голос пел. Ворчал старик: «Им мало дедовской судьбы. Ну что ж, заслужите, пожалуй, Себе сосновые гробы. А лучше бы садить бобы Иль новый сруб срубить избы, Сажать капусту или рожь, Чем эти копья или нож». Курган языческой Рогнеде Хранил девические кости, Качал ковыль седые ости. И ты, чудовище из меди, Одетое в железный панцирь. На холмах алые кубанцы. Подобное часам, на брюхе броневом Оно ползло, топча живое! Ползло, как ящер до потопа, Вдоль нити красного окопа. Деревья падали на слом, Заставы для него пустое. И такал звонкий пулемет, Чугунный выставив живот. Казалось, над муравейником окопа Сидел на корточках медведь, Неодолимый точно медь, Громадной лапою тревожа. И право храбрых – смерти ложе! И стоны слабых: «Боже, Боже!» Опять брони блеснул хребет И вновь пустыня точно встарь. Но служит верный пулемет Обедню смерти, как звонарь. Друзьями верными несомая По степи конница летела. Как гости, как старинные знакомые, Входили копья в крикнувшее тело. А конь скакал… Как желт зубов оскал! И долго медь с распятым Спасом Цепочкой била мертвеца. И как дубина: «бей по мордасам!» Летит от белого конца. Трепещет рана, вся в огне, Путь пули через богородиц. На золотистом скакуне Проехал полководец. Его уносит иноходец. Как ветка старая сосны Гнездо суровое несет, Так снег Москвы в огне весны Морскою влагою умрет. И если слезы в тебе льются, В тебе, о старая Москва, Они когда-нибудь проснутся В далеком море как волна. Но море Черное, страдая К седой жемчужине Валдая, Упорно тянется к Москве. И копья длинные стучат, И голоса морей звучат. Они звучат в колосьях ржи, И в свисте отдаленной пули, И в час, когда блеснут ножи. Морские волны обманули, Свой продолжая рев валов, Седы, как чайка-рыболов, Не узнаваемы никем, Надели человечий шлем. Из белокурых дикарей И их толпы, всегда невинной, Сквозит всегда вражда морей И моря белые лавины. Из Чартомлыцкого кургана, Созвавши в поле табуны, Они летят, сыны обмана, И, с гривой волосы смешав И длинным древком потрясая, Немилых шашками секут, И вдруг – все в сторону бегут, Старинным криком оглашая Просторы бесконечных трав. С звериным воем едет лава. Одни вскочили на хребты И стоя борются с врагом, А те за конские хвосты Рукой держалися бегом. Оставив ноги в стременах, Лицом волочатся в траве И вдруг, чтоб удаль вспоминать, Опять пануют на коне Иль ловят раненых на руки. И волчей стаи шорохи и звуки… Чтоб путник знал о старожиле, Три девы степи сторожили, Как жрицы радостной пустыни. Но руки каменной богини Держали ног суровый камень, Они зернистыми руками К ногам суровым опускались, И плоско-мертвыми глазами Былых таинственных свиданий Смотрели каменные бабы. Смотрело Каменное тело На человеческое дело. «Где тетива волос девичьих? И гибкий лук в рост человека, И стрелы длинные на перьях птичьих, И девы бурные моего века?» – Спросили каменной богини Едва шептавшие уста. И черный змей, завит в кольцо, Шипел неведомо кому. Тупо-животное лицо Степной богини. Почему Бойцов суровые ладони Хватают мертвых за виски, И алоратные полки Летят веселием погони? Скажи, суровый известняк, На смену кто войне придет? – Сыпняк.1920
<Три сестры>*
Как воды далеких озер За темными ветками ивы, Молчали глаза у сестер, А все они были красивы. Одна, зачарована богом Жестоких людских образов, Стояла под звездным чертогом И слушала полночи зов. А та замолчала навеки, Душой простодушнее дурочки, Боролися черные веки С зрачками усталой снегурочки. Лукавый язык из окошка на птичнике Прохожего дразнит цыгана, То, полная песен язычника, Молчит на вершине кургана. Она серебристые глины Любила дикарского тела, На сене, на стоге овина Лежать – ей знакомое дело. И, полная неба и лени, Жует голубые цветы. И в мертвом засохнувшем сене Плыла в голубые черты. Порой, быть одетой устав, Оденет речную волну, Учить своей груди устав Дозволит ветров шалуну. Она одуванчиком тела Летит к одуванчику мира. И сказка ручейная пела, Глаза человека – секира. И в пропасть вечернего неба Смотрели девичьи глаза, И волосы черного хлеба От ветра упали назад. Была точно смуглый зверок, Где синие блещут глазенки, Небес синева, как намек, Блеснет на ресницах теленка. И волосы – золота темного мед – Похожи на черного солнца восток; Как черная бабочка небо сосет И хоботом узким пьет неба цветок. И неба священный подсолнух, То золотом черным, то синим отливом Блеснет по разметанным волнам, Проходит, как ветер по нивам. Идет, как священник, и темной рукой Дает темным волнам и сон и покой. То, может быть, Пушкин иль Ленский По ниве идут деревенской. И слабая кашка запутает ноги Случайному гостю сельской дороги. Другая окутана сказкой Умерших <недавно> событий. К ней тянутся часто за лаской Другого дыхания нити. Она величаво, как мать, Проходит сквозь призраки вишни И любит глаза подымать, Где звезды раскинул Всевышний. Дрожали лучи поговоркою, И время столетьями цедится, И смотрит задумчиво-зоркая, Как слабо шагает Медведица. И дышит старинная вольница, Ушкуйницы гордая стать. О, строгая ликом раскольница, Поморов отшельница-мать. Стонавших радостно черемух Зовет бушующий костер. Там, в стороне от глаз знакомых, Находишь, дикая, шатер. И точно хохот обезьяны, Взлетели косы выше плеч. И ветров синие цыганы Ведут взволнованную речь. Чтоб мертвецы забыли сны, Она несет костер весны, Его накинула на плечи, Забывши облик человечий.30 марта 1920, 1922
Ладомир*
I
И замки мирового торга, Где бедности сияют цепи, С лицом злорадства и восторга Ты обратишь однажды в пепел. Кто изнемог в старинных спорах И чей застенок там, на звездах, Неси в руке гремучий порох – Зови дворец взлететь на воздух. И если в зареве пламен Уж потонул клуб дыма сизого, С рукой в крови взамен знамен Бросай судьбе перчатку вызова. И если меток был костер, И взвился парус неба синего, Шагай в пылающий шатер, Огонь за пазухою – вынь его! Когда сам Бог на цепь похож, Холоп богатых, где твой нож? Холоп богатых, улю-лю, Тебя дразнила нищета, Ты полз, как нищий, к королю И целовал его уста. Высокой раною болея, Снимая с зарева засов, Хватай за ус созвездье Водолея, Бей по плечу созвездье Псов! Это шествуют творяне, Заменивши д на ш, Ладомира соборяне С Трудомиром на шесте. Это Разина мятеж, Долетев до неба Невского, Увлекает и чертеж И пространство Лобачевского. Пусть Лобачевского кривые Украсят города Дугою над рабочей выей Всемирного труда. И будет молния рыдать, Что вечно носится слугой, И будет некому продать Мешок, от золота тугой. Смерть смерти будет ведать сроки, Когда вернется он опять, Земли повторные пророки Из всех письмен изгонят ять. В день смерти зим и раннею весной Нам руку подали венгерцы. Свой замок цен, рабочий, строй Из камней ударов сердца. И, чокаясь с созвездьем Девы, Он вспомнит умные напевы И голос древних силачей И выйдет к говору мечей. И будет липа посылать Своих послов в совет верховный, И будет некому желать Событий радости греховной. И пусть мещанскою резьбою Дворцов гордились короли, Так часто вывеской разбою Святых служили костыли. Когда сам Бог на цепь похож, Холоп богатых, где твой нож? Вперед, колодники земли, Вперед, добыча голодовки, Кто трудится в пыли, А урожай снимает ловкий. Гайда, колодники земли, Гайда, свобода голодать, А вам, продажи короли, Глаза оставлены рыдать. Туда, к мировому здоровью, Наполнимте солнцем глаголы. Перуном плывут по Днепровью, Как падшие боги, престолы. Лети, созвездье человечье, Все дальше, далее в простор И перелей земли наречья В единый смертных разговор. Где роем звезд расстрел небес, Как грудь последнего Романова, Бродяга дум и друг повес Перекует созвездье заново. И будто перстни обручальные Последних королей и плахи, Носитесь в воздухе печальные Раклы, безумцы и галахи. Учебников нам скучен щебет, Что лебедь черный жил на юге, Но с алыми крылами лебедь Летит из волн свинцовой вьюги. И пусть последние цари, Улыбкой поборая гнев, Над заревом могил зари Стоят, окаменев. Ты дал созвездию крыло, Чтоб в небе мчались пехотинцы, Ты разодрал племен русло И королей пленил в зверинцы. И он сидит, король-последыш, За четкою железною решеткой, Оравы обезьян соседыш И яда дум испивший водки. Вы утонули в синей дымке, Престолы, славы и почет, И, дочерь думы-невидимки, Слеза последняя течет.II
Столицы взвились на дыбы, Огромив копытами долы, Живые шествуют – дабы На приступ на престолы! Море вспомнит и расскажет Грозовым своим глаголом – Замок кружев девой нажит, Пляской девы пред престолом. Море вспомнит и расскажет Громовым своим раскатом, Что дворец был пляской нажит Перед ста народов катом. С резьбою кружев известняк Дворца подруги их величий, Теперь плясуньи особняк В набат умов бросает кличи. Ты помнишь час ночной грозы, Ты шел по запаху врага, Тебе кричало небо «взы!» И выло с бешенством в рога. И по небу почерк палаческий, Опять громовые удары, И кто-то блаженно-дураческий Смотрел на земные пожары. Упало Гэ Германии, И русских Эр упало. И вижу Эль в тумане я Пожаров в ночь Купала. Смычок над тучей подыми, Над скрипкою земного шара И черным именем клейми Пожарных умного пожара. Ведь царь лишь попрошайка, И бедный родственник король,– Вперед, свободы шайка, И падай, молот воль! Ты будешь пушечное мясо И струпным трупом войн – пока На волны мирового пляса Не ляжет ветер гопака. И умный череп Гайаваты Украсит голову Монблана – Его земля не виновата, Войдет в уделы Людостана. Это ненависти ныне вести, Их собою окровавь, Вам, былых столетий ести, В море дум бросайся вплавь. И опять заиграй, заря, И зови за свободой полки, Если снова железного кайзера Люди выйдут железом реки. Где Волга скажет «лю», Янцекиянг промолвит «блю», И Миссисипи скажет «весь», Старик Дунай промолвит «мир», И воды Ганга скажут «я», Очертит зелени края Речной кумир. Всегда, навсегда, там и здесь, Всем всё, всегда и везде! – Наш клич пролетит по звезде. Язык любви над миром носится И Песня песней в небо просится. Морей пространства голубые В себя заглянут, как в глазницы, И в чертежах прочту судьбы я, Как блещут алые зарницы. Вам войны выклевали очи, Идите, смутные слепцы, Таких просите полномочий, Чтоб дико радовались отцы. Я видел поезда слепцов, К родным протянутые руки, Дела купцов – всегда скупцов – Порока грязного поруки. Вам войны оторвали ноги – В Сибири много костылей,– И, может быть, пособят боги Пересекать простор полей. Гуляйте ночью, костяки, В стеклянных просеках дворцов, И пусть чеканят остряки Остроты звоном мертвецов. В последний раз над градом Круппа, Костями мертвых войск шурша, Носилась золотого трупа Везде проклятая душа. Ты населил собой остроги, Из поручней шагам созвуча, Но полно дыма и тревоги, Где небоскреб соседит с тучей. Железных кайзеров полки Покрылись толстым слоем пыли, Былого пальцы в кадыки Впилися судорогой были. Но струны зная грыж, Одев рубахой язву, Ты знаешь страшный наигрыш, Твой стон – мученья разве?.. И то впервые на земле: Лоб Разина резьбы Коненкова Священной книгой на Кремле, И не боится дня Шевченко. Свободы воин и босяк, Ты видишь, пробежал табун? То буйных воль косяк, Ломающих чугун. Колено ставь на грудь! Будь сильным как-нибудь! И ветер чугунных осп, иди Под шепоты «Господи, Господи». И древние болячки от оков Ты указал ночному богу – Ищи получше дураков! – И небу показал дорогу. Рукой земли зажаты рты Закопанных ядром. Неси на храмы клеветы Венец пылающих хором. Кого за горло душит золото Неумолимым кулаком, Он, проклиная силой молота, С глаголом молнии знаком. Панов не возит шестерик Согнувших голову коней, Пылает целый материк Звездою – пламени красней. И вы, свободы образа, Кругом венок ресницы тайн, Блестят громадные глаза Гурриэт-эль-Айн. И изречения Дзонкавы Смешает с чистою росой, Срывая лепестки купавы, Славянка с русою косой. Где битвы алое говядо Еще дымилось от расстрела, Идет свобода Неувяда, Поднявши стяг рукою смело. И небоскребы тонут в дыме Божественного взрыва, И обнят кольцами седыми Дворец продажи и наживы. Он, город, что оглоблю бога Сейчас сломал о поворот, Спокойно встал, едва тревога Его волнует конский рот. Он, город, старой правдой горд И красотою смеха сила В глаза небеснейшей из морд, Жует железные удила; Всегда жестокий и печальный, Широкой бритвой горло нежь! – Из всей небесной готовальни Ты взял восстания мятеж, И он падет на наковальню Под молот, божеский чертеж! Ты божество сковал в подковы, Чтобы верней служил тебе, И бросил меткие оковы На вороной хребет небес. Свой конский череп человеча, Его опутав умной гривой, Глаза белилами калеча, Он, меловой, зажег огниво.III
Как филинов кровавый ряд, Дворцы высокие стоят, И где труду так вольно ходится И бьет руду мятежный кий, Блестят, мятежно глубоки, Глаза чугунной богородицы. Опять волы мычат в пещере, И козье вымя пьет младенец, И идут люди, идут звери На богороды современниц. Я вижу конские свободы И равноправие коров, Былиной снов сольются годы, С глаз человека спал засов. Кто знал – нет зарева умней, Чем в синеве пожара конского, Он приютит посла коней В Остоженке в особняке Волконского. И вновь суровые раскольники Покроют морем Ледовитым Лица ночные треугольники Свободы, звездами закрытой. От месяца «Ая» до недель «играй-овраги» Целый год для нас страда, А говорят, что боги благи, Что нет без отдыха труда. До зари вдвоем с женой Ты вязал за снопом сноп. Что ж сказал господь ржаной? – Благодарствую, холоп! И от посева до ожина, До первой снеговой тропы Серпами белая дружина Вязала тяжкие снопы. Веревкою обмотан барина, Священников целуемый бичом, Дыши как вол – пока испарина Не обожжет тебе плечо, И жуй зеленую краюху, Жестокий хлеб, который дён? Пока рукой земного руха Не будешь ты освобожден. И песней веселого яда Наполни свободы ковши, Свобода идет Неувяда Пожаром вселенской души. Это будут из времени латы На груди мирового труда, И числу, в понимании хаты, Передастся правительств узда. Это будет последняя драка Раба голодного с рублем, Славься, дружба пшеничного злака В рабочей руке с молотком. И пусть моровые чернила Покроют листы бытия, Дыханье судьбы изменило Одежды свободной края. И он вспорхнет, красивый угол Земного паруса труда, Ты полетишь, бессмертно смугол, Священный юноша, туда. Осада золотой чумы! Сюда, возниц небесных воры! Умейте, лучшие умы, Намордники надеть на моры. И пусть лепечет звонко птаха О синем воздухе весны, Тебя низринет завтра плаха В зачеловеческие сны. Это у смерти утесов Прибой человечества. У великороссов Нет больше отечества. Где Лондон торг ведет с Китаем, Высокомерные дворцы, Панамою надвинув тучу, их пепла не считаем, Грядущего творцы. Так мало мы утратили, Идя восстания тропой,– Земного шара председатели Шагают дерзкою толпой. Тринадцать лет хранили будетляне За пазухой, в глазах и взорах, В Красной уединясь Поляне, Дней Носаря зажженный порох. Держатель знамени свобод, Уздою правящий ездой, В нечеловеческий поход Лети дорогой голубой. И, схоронив времен останки, Свободу пей из звездного стакана, Чтоб громыхал по солнечной болванке Соборный молот великана. Ты прикрепишь к созвездью парус, Чтобы сильнее и мятежней Земля неслась в надмирный ярус, И птица звезд осталась прежней. Сметя с лица земли торговлю И замки торгов бросив ниц, Из звездных глыб построишь кровлю – Стеклянный колокол столиц. Решеткою зеркальных окон Ты синих зарев неясыть, И ты прядешь из шелка кокон, Полеты – гусеницы нить. И в землю бьют, как колокола, Ночные звуки-великаны, Когда их бросят зеркала И сеть столиц раскинет станы. Где гребнем облаков в ночном цвету Расчесано полей руно, Там птицы ловят на лету Летящее с небес зерно. Весною ранней облака Пересекал полетов знахарь, И жито сеяла рука, На облаках качался пахарь. Как узел облачный, идут гужи Руна земного бороны, Они взрастут, колосья ржи, Их холят неба табуны. Он не просил: «Будь добр, бози, ми И урожай густой роди!» – Но уравненьям вверил озими И нес ряд чисел на груди. Там муку съедобной глины Перетирали жерновами Крутых холмов ночные млины, Маша усталыми крылами. И речи знания в молнийном теле Гласились юношам веселым, Учебники по воздуху летели В училища по селам. За ливнями ржаных семян ищи Того, кто пересек восток, Где поезд вез на север щи, Озер съедобный кипяток. Где удочка лежала барина И барчуки катались в лодке, Для рта столиц волна зажарена, И чад идет озерной водки. Озерных щей ночные паровозы Везут тяжелые сосуды, Их в глыбы синие скуют морозы И принесут к глазницам люда. Вот море, окруженное в чехол Холмообразного стекла, Дыма тяжелого хохол Висит чуприной божества. Где бросала тень постройка И дворец морей готов, Замок вод возила тройка Море вспенивших китов. Зеркальная пустыня облаков, Озеродей летать силен, Баян восстания письмен Засеял нивами станков. Те юноши, что клятву дали Разрушить языки,– Их имена вы угадали – Идут увенчаны в венки. И в дерзко брошенной овчине Проходишь ты, буен и смел, Чтобы зажечь костер почина Земного быта перемен. Где сквозь далеких звезд кокошник Горят Печоры жемчуга, Туда иди, небес помощник, Великий силой рычага. Мы в ведрах пронесем Неву Тушить пожар созвездья Псов, Пусть поезд копотью прорежет синеву, Взлетая по сетям лесов. Пусть небо ходит ходуном От тяжкой поступи твоей, Скрепи созвездие бревном И дол решеткою осей. Как муравей ползи по небу, Исследуй его трещины И, голубой бродяга, требуй Те блага, что тебе обещаны. Балду, кувалды и киюры Жестокой силой рычага В созвездьях ночи воздвигал Потомок полуночной бури. Поставив к небу лестницы, Надень шишак пожарного, Взойдешь на стены месяца В дыму огня угарного. Надень на небо молоток, То солнце на два поверни, Где в красном зареве восток,– Крути колеса шестерни. Часы меняя на часы, Платя улыбкою за ужин, Удары сердца на весы Кладешь, где счет работы нужен. И зоркие соблазны выгоды, Неравенство и горы денег – Могучий двигатель в лони годы – Заменит песней современник. И властный озарит гудок Великой пустыни молчания, И поезд, проворный ходок, Исчезнет, созвездья венчаннее. Построив из земли катушку, Где только проволока гроз, Ты славишь милую пастушку У ручейка и у стрекоз. И будут знаки уравненья Между работами и ленью. Умершей власти, без сомненья, Священный жезел вверен пенью. И лень и матерь вдохновенья, Равновеликая с трудом, С нездешней силой упоенья Возьмет в ладонь державный лом. И твой полет вперед всегда Повторят позже ног скупцы, И время громкого суда Узнают истины купцы. Шагай по морю клеветы, Пружинь шаги своей пяты! В чугунной скорлупе орленок Летит багровыми крылами, Кого недавно, как теленок Лизал, как спичечное пламя. Черти не мелом, а любовью Того, что будет, чертежи. И рок, слетевший к изголовью, Наклонит умный колос ржи.22 мая 1920, 1922
Разин*
Я Разин со знаменем Лобачевского логов. Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря,ПУТЬ
Сетуй, утес! Утро чорту! Мы, низари, летели Разиным. Течет и нежен, нежен и течет. Волгу див несет, тесен вид углов. Олени. Синело. Оно. Ива, пук купав и – Лепет и тепел Ветел, летев. Топот. Эй, житель, лети же! Иде беляны, ныня лебеди. Косо лети же, житель осок! Взять язв. Мака бури рубакам. Вол лав – валов! Потоп И Топот! А гор рога: Ого-го! Шарашь! Эвона Панове! Женам мечем манеж! Жонам ман нож! Медь идем! Медь идем! Топора ропот У крови воркуй. Ура жару. Не даден. Мечам укажу мужа кумачем Гор рог: Раб, нежь жен бар! Гор рог: Раб бар! Бар раб! Летел. Вона панов, Эвона Панове, Ворог осок косогоров. Пресен серп Ворона норов, Нет, ворона норов – тень! Зарежут, туже раз! Холоп – сполох, Холоп – переполох. Лап пан напал. Волгу с ура, парус углов! Косо лети же, житель осок!БОЙ
Щи ищи! Медь идем, медь идем! Зараз, зараз, Рознь зорь, Гон ног, Рев вер, Лук скул, Ура жару, Кулака лук, Топ и пот, Топора ропот Лат речь чертал. Колом о молоко, Оперив свирепо. Хама мах Или Махал плахам. Или Сокол около кос! Ищи! Иди! Мани раб, баринам! Ин вора жаровни, И лалы пылали. Заре раз. Рог о рог, Лог о лог, гол о гол Летел Чар грач. Могота батогом. Гор рог: Чем ныне меч? Черепу перечь. Нет, секир и кистень, Меч мучь. Лав осолоп полосовал. Этак о кате. Иди. И мак ал украду, – удар кулаками. А жулики – лужа! У крови воркуй! Сажусь, сужась. Отче, что Манит к тинам? Молись илом! Я рога – горя. Цепь ел слепец. И лени синели. Ужас всажу. И ледени, недели, Маните, дадут туда детинам! – Холмам лох. Ан на Море пером Ал храп порхал. Об яде белены ныне лебедя бо Топот. И Шорох хорош. Гор рог: Ищи равоты, товарищи! А вод вдова Чар прач, Течет, Алым мыла, Несет в тесен Узел слезу. Низин Лес и морок коромысел Летел Нежа, важен. Но он: – Шишака шиш. – Меч чем? Ругала б балагур! Нож чум, мучь жон! Воз вод, вдов зов Течет. Так, кат.ДЕЛЕЖ ДОБЫЧИ
Ворог о ров! Кулик и лук. Он, острог гор, тсс… оно Течет, течет Оно. Рублем оценив свинец, о мел бурь! Нет, ворона норов – тень! Узел ежели железу? Или во плаче пчел плеч печаль повили? Или Нежун нужен Марам? Вид уд жемчугом могуч между див. И лени синели. Волн лов Летел. Ими Оперив соколом молоко свирепо? Око Хат птах И жемчуга лачуг межи. Меч, ала печаль, плаче палачем! Лет тел! – Низин Лай ал. Силача качались Эти и те. А колокол около ока. Червона панов речь Мало колоколам, Мабыдь, дыбам. Им зов: возьми Бел хлеб. «Охала, ахала, ухала». Кормись сим, рок! Ищи равоты, товарищи! И бар раби, – Раби бар! Шишь, удушишь? Маните детинам! Мабыдь, дыбам, Молим о милом. Но говори, миров огонь: Раб, нежь жен бар! Дебел лебедь.ТРИЗНА
Хохотуньи кинут ох-ох! Плот – невень толп. Вол лав – валов! Я рубил или буря Колет как телок? Силом молись. Мори панов, речь, червона пиром! А верам зов именем и воз марева. Мать чем мечтам? Угач чаду. «Ни заревом миловолим» – мове Разин. Волога голов, Убор грез, озер гробу. Олени, синело. А лбов вобла. Но могила али гомон? Уа или ау? Мигал бы благим! Манит тинам Цели жилец И ловень неволи Махал плахам. У нас не ворон, но ровен сану. И бурлака закал руби! То пота топот! Товар равот! Жарь тесом осетра ж! Сети и тес. Кодол унесен у лодок. И шорох. Хороши! Мор дум о мудром, Може, бар грабежом Отчина ничто? Или бар гомон ого-го гоном ограбили? Удач чаду. Во камене, в вене маков. Эй, житель, лети же! Взять язв. У жон миловолим ножу. Нужен нежун. Тепел нож, жон лепет. Ино хохотали лат охохони. Ум дев лил ведьму. Кат медведь, как дев дем? – так! Дивчин нежен <нич>вид. И невени синеве ни. А ведомо, дева Манила малинам. Наг рук курган. Ахаха! Ухи нежь жениху. Черевик иве речь: Жениху запрет сок – костер пазухи неж! Дур труд А цаца! а цаца! Мохи нежь, ахаха, женихом. Лети, чудес сед учитель. «Ни заревом нежен» – мове Разин. Мот сил нежен листом Тополя лопот И ляли Топот. Рублем смел бурь. Или бури рубили Рубли сил бурь? Хата та ль? лата тах! Хата тах! Шиш о шиш, Меч о меч, Кол о кол. Воны сынов. А кар драка! А вера зарева Манит детинам. Улиц илу Вод вдов Дорог город. Дар рад Ну, червон снов речун.ПЛЯСКА
Мак неженкам. Манит синь истинам. И раз зари… Мор берест серебром. Мове разгула калуг заревом. Летел Гул резок, озер луг. Топот и топот. Иду – дуди. Наг рук курган. Нежи жен Пересу – дусе речь! Мясу дусям. Иль бури рубли? Вы взвились, осилив звыв, Овод деньгами дыма гнедово В оспе псов? Молодухи худолом! Лапоть топал У себя бесу. Може, бар грабежом Отчина ничто? Покой и окоп. И червоны сынов речи? И гашу шаги. Инде седни. О лесе весело. Ног гон Вонзал босо соблазнов. Не сосуд жемчугом летел, могуч, между сосен, А цаца. По топоту то потоп. Пот и топ. Вера зарев. Я у кукуя Лебедем, в меде бел. Гори, пирог. Манил блинам. Мана темь сметанам. Ворожба обжоров. И гик киги Летел В око рока окороков. Кожур кружок, Ртом смотр, Мори пиром, Чад удач. Летел. Хи-ха, ха-хи. Рог гор, Рави вар. Вари рав. Это варенец, цена равоте.СОН
А, кашель лешака! И шел леший Дид. Рот втор Дуд Мечем Оперив свирепо Имен неми. Волн лов Ман снам. А ничево лечу, человечина! Потока топ И Топот. В лапу ног огонь упал. Оно Море пером Манило долинам. Вон лечь челнов Лет тел.ПЫТКА
Шишака шиш У сел меч умер дремучем лесу. К Городу судорог Топора ропот Летел. Шорох хорош. Щелка – клещ. Морьте ветром. А, палача лапа! Эй, жен нагота батога нежней! Я бес, себя Оперив свирепо Моров огнями, имян говором. Шилом молишь? Ков веревок. И мятель плетями. Лети, чум мучитель. Иди. А, тенета. Так, кат. Матушка, к шутам! А вера марева. Я Махал плахам Моров оговором. Мотун кнутом. Лап пал. До вора жар овод, Рев вер! Вин нив. О! О! Неуч чуен Зубом обуз, Долог голод Лав рвал Я. В оспе псов Шипишь. Молишь шилом? Не мерь ремень Меня – я нем. Ширишь. Шипишь. И чур, о поручи. А, палача лапа! Кого-то коготь Имян гологол огнями!.. Но казнен закон, Мор беру ребром. О, летит рев! Мечи бичем! верти тело! Муч чум. Мечет, течь чем? Мать чем мечтам? У жил лижу? Вон ал рот орланов. Летел. А Волога голов. Рев вер, Восажу Веду у дев ужасов. Томен немот Баб, Топот Или венок оне вили. Разин на кобылу, улыбок нанизарь. И Как? Морде бедром Летел. Топот Ребер И дрожи жорди. Волокут, а кату колов Не сажусь – ужасен. Путь туп. Коты пыток: Гон черчу – мучь речь ног. Торопи пороть И, худолог, ремень не мерь голодухи. Так, кат. Мы, низари, летели Разиным.Лето 1920
Царапина по небу*
Прорыв в языки
Где рой зеленых Ха для двух, И Эль одежд во время бега, Го облаков над играми людей, Вэ толп кругом незримого огня, Че юноши, До ласковых одежд, Зо голубой рубахи юноши, Че девушки – червоная сорочка, Ка крови и небес, Го девушек – венки лесных цветов, И Вэва квиток. Пи бега по кольцу тропы, Ша ног босых, Как кратки Ка покоя! И Вэ волос на голове людей, Вэ ветра и любви, Эс радостей весенних, Мо горя, скорби и печали И Ла труда во время Леля. Эс смеха, Да веревкою волос, Где рощи – Ха весенних тел, А брови – Ха для умных взоров. И Мо волос на кудри длинные, И Мо людей – Вэ пламени незримого. Созвездье – Го ночного неба, Вэ волн речных, Вэ ветра и деревьев. Где ты, Ту тени вечеровой? Приходит Ни всеобщего ухода И За-За радостей – лишь Ту, То будет Ни и Вэ и Тэ и Ла!Батый и Пи
Памятник ошибке (317 π = 995,3872)
Добыча первая.
Е – это чисел ручей, два и дым чисел: 2,718…
π – отношение круга к оси большой.
317 лет – одна волна струны человечества, дрожи нашествий.
Минуло 376 лет после волхвов, Глупых телят с мордой тупой, И ребенка – Спасителя в яслях (Счет Лонелюда). Хлынула вдруг лава народов Свирепой свирелью – Ветер людей. Падает Рим, Паук Средиземного моря, Ветер сорвал паутину И что же? Через 317 · Е = 861 год, После бури народов Хлынули снова татары, Русь раздавили бревнами войн, Киев сожгли, пировали на людях, А через 317 π + 9, или 1004 года, После нашествия гуннов и готов Диким копьем Востока Страна Русь сняла цепи татар. Пересвет и Ослябя – два чернеца, Чьи бороды подобны лесному озеру, Вы, Куликовы поля, полные Синих озер, межу провели. Влада татар длилась 317 · (π – Е) лет = 143 года. Хан степного народа Коней и людей – Шестиногих существ, Мешающих ржанье с непонятною речью, Четверкою глаз и пятым – Железным копьем. Он, грозный монгол, Поклоняется кругу В войнах суровых, Выполнив волю божественных дул Путями войны, Ходит числу Архимедову Молиться как богу. Усатый бог степной, Сам не зная того, разрушая Россию, Выполнял начертание круга, Как плясунья пера готовальни. В 1193 году до волхвов Греки Ахилла брали пожарную Трою с косами дыма, И разбойничьи кудри смуглых вождей Падали в струи багрового моря Жестоким злорадством. А через 317 · Е в 332 году Вождь Македонии свирепым копьем С разбегу пробил рубаху Мардония, Персов вождя, и алую грудь Смуглого красавца. Это два Греции вала Самых великих, самых священных. В 3111 году до волхвов, За 365 (Е · π) до христиан (Счет времени индусов) Нашествие индусов смуглых Ганга долины и Кали-Юга. Через 317 (π + Е) волны татар, Битва при Калке – гибель России. Дети, так ясно, так просто! Зачем же вам глупый учебник? Скорее учитесь играть на ладах Войны без дикого визга смерти – Мы звуколюди! Батый и Пи! Скрипка у меня на плече!Звукопись весны
В зозивея – зелень дерева, Нижеоты – темный ствол, Мамэами – это небо! Пучь и чапи – черный грач. Запах вещей числовой Между деревьев стоит.Земному шару
Вэ облаков, Вэ звезд ночного вала, Вэ люда кругом оси, Вэ веток кругом дерева, Вэ ветра И волны, Вэ девушки волос, И Ла земли лугу небес. Земного лепестком подсолнуха, И вся земного шарада, И ты, ладья земли, где луч небес – моряк, Где дышет Ми, небесная Мора, В Че моря черных зорь! По небосвода, Ри и Ро! Чтоб Го созвездий над тобой, Где ласа туч над ласой! Пи далее и далее в ночную темноту. В ночную Ту, в ночную темь, где Та, Где неба Мо и За-за синего огня. О Зеа зелени и Меа вод! Когда дневного света Ни В Че думы городской, Далёко светлого Солона, Уже сияющее Да, восходит – Да огня, Где За-за зелени, Где За-за белых облаков, Где За-за огневого; В час свету Но и Ту, Где божье Ни, Ни-ни божеств, Где Пэ божеств с крылами мрака, В Че думы человека. Веревка веры, вицей вейся, Будь Вэ великого возврата, Как волосы на черепе писателя миров, Вей веткою сосны божеств, Где гнезда вьет ничто. И верея миров полночных В За мира человека кинь, Ха думы – Ни речей, Че думы – До речей, Го люди, смотрите на небо: Че зори так велят! Мне Го ум повелел Ввести Го нравы Летучего правительства Земного шара, Как мотылек порхающий По лугу имен.Бой
Звездный язык
Вэ конского хвоста Целует Мо людей, Вэ конского хвоста Целует Го ушей. Ша облаков – Ха летчиков полета, А Эли знамени трепещат алым, Го копий – Эль знамен, Го седел – всадник – Ка навеки! Го мертвецов На Пи коней.Паны и холопы в азбуке
Обнаженный костяк слова Хлам – остатки, могила и мрак или Эм, Того, что ховалось, Того, что холилось, – мор худобы, утвари смерть, Сила хлева и холи в «хла». И сила могилы, и мора, и малого мрака, И мела, и мусора в «аме». Хлам – мука худобы в мельнице времени, Холи мука Под молотом часов – разрушителей. Это мора могила и мразь Того, что было в хате забот, И в хлеву из работ, Что стало мукой под жерновом времени. Ха – это преграда между убийцей и жертвой, Волком, ливнем и человеком, Холодом и телом, морозом и холей. Эм – разделение объема, ножом и целью На множество малых частей. Хлам – разрушенное начало холи, Хлад – начало разрушающее холю. Драка, раздор с хлевом: холод <его> делитель. Он – мороз, от которого защищают нас: Хата, хижина, хутор, халупа, хоромы И много Ха – слов для всяких построек. Холод – делитель хат, Делящий холю на малые доли мороза; Он долото, вонзенное в шею холи, Долото, рубящее холю, Между разрушающей точкой И разрушаемой – преграда, Застава из телохранителей, Будут ли они грудью храбрецов – «Храбры дружины», Или бревнами хижины, Или глиною хаты, камнем хором. Тына черта между врагом и жертвой – Эта преграда и есть Ха. Ховайся за ней, человек, В великих постройках из Ха. Дэ – отделение части от целого: Дробь, доля, долото, деление, дети, двор, дерево. Хлоп или холоп – опора для холи, Пружина ее подымающая, Палка и посох, на который Любовно легла женская рука холи. Пэ – двигающее начало и сила. Холоп – рабочий пар паровоза, Где женщиной нежится холя, Пересекая мир сотней колес баловства. Холоп – двигающая сила Холи пана, Пружина, подымающая холю пана, Рабочее пламя, посылающее пулю Панской воли в лоб неба, Он порох, делающий пение пана. Пружина, посох, все опоры Для холи пана, Вы сливаете ваши голоса И пламенем звучите в Пэ. Ведь Пэ – удаление одной точки От другой по прямому пути И рост объема занятого веществом: Порох, пламя, пуля, пыж, пушка, Пальба, пищаль, путь, пепел, Все около выстрела, любимого паном. Пламя, растущее в объеме веществ, Так же как пение – расширенное Голосом во времени слово. Да, ты порох панской холи. Холоп, как прут, несет пышные почки Панской холи, служебный ей. Вы пушки их труда для выстрелов неги, Вы плечо, на которое уперлась ладонь холи Это напор Пэ, растущего пространства Между двумя точками, Как топот копыт цокнул и стукнул в холопе Пана пламя пустое начать. Холоп = Хл (холя, хлев, хилый) + П (палка, пламя, порох, пар). Да, это так. Пан, слушаешь? Пан – Пело поле – Пал! Дан – дело – дал! Я дал того, кто дан: это дар, И кто-то пал к тому, кто пан, Упал к ногам! Панам: падам до ног! Это пар рабочий паровоза, Где пышное пение пана. Но тот, кто дан, дал тех Кто даны. И если степной пал, Это тоже паны? Солнце для лучей пустоты и пустыни, Пожар простора, сжигающий страну трав, Пан – это Ни напора солнца, Ночь пружины, светило пещерных лучей, Парами праздный паровоз. Уход Пэ: его нет. Нети труда звучали в пане И у пана нет пара, Как у того, кто дан, нет дара,– Дар дан = пар пан. В слово пан, где долго Нежилось Эн небытия, Указуя: нет того Пэ, Что кликнуло громко в холопе, Как по полю к тополю Топот копыт – Скачки всего опора, Цокнув подковой В слух ночной равнины, Пришло Эль любви, лебедя, лелеки, Леля, лани, Лаотзы, Лассаля, Ленина, Луначарского, Либкнехта. Точно край облака, озаренный Заревом, Очерк жизненных судеб Именем рода, В ладье любви поплыл Вес власти, власть легла на лежанку. (Эль – переход высоты в ширину). Тяжки кокоры всенародной ладьи, Бревенчатого уструга севера! На лыжах звука Эль – либертас и любовь! Бежит свобода По счастью людей, не проваливаясь в снег, Вбегает в слово пан, Туда где Ни Немоевского, И Пан – пал! Как паровоз, Он знал лишь пар весенних п<о>р, И рос, как прут из пола пол<я>, И, баловни жизни, кружились паны, Как легкие боги бега, Паны кружилися в мазурке. И на него Глаза труда навеки зорки. А паны пену пили И пали <в> поле, где пули пели. Пар, напор и пламя, порох, Чего нема в панах, Свидетель Эн, Разлились лавиной по земле. Это шествует Эль!Бой
Где пан? Пан па<л>!
Па – пушек речь,
А беленою выбелены дороги.
Ха облака скрывало летчика
От взгляда войск и Ра свинца,
И Вэ стрижей и летчиков, Го поля.
И Ка людей – ломовики и битюги,
С могучей шеей черных лебедей,
Мохнатою ногой ступая грузно,
(Как Вэ волнуются их гривы)
– Все масти вороной – Ла ночи!
Везут орудий По и Пу
Громить Мо и Ка покоя
Противника за Ха из проволок
И лат из проволочных оград,
Где смерти Пи
Летело с визгом поросенка
Летевшего ядра.
И красный сой кусков огня –
Го люда.
Словарь звездного языка
(общего всей звезде, населенной людьми)
Вэ – движение точки по кругу около другой неподвижной.
Пэ – прямое движение точки, прочь от неподвижной, движение по прямой черте. Отсюда тела, полные пещер, рост объема, занятого телом в трехмерном мире: пух, порох, пушка. Пара двух точек, разделенная растущим пространством.
Эль – переход количества высоты, совпадающей с осью движения, в измерение ширины, поперечной пути движения. Ось движения пересечена ею под прямым углом (лист, лодка, лапа).
Го – высшая точка поперечного пути движения, колебания (измерения): голова, гора, гребень, го-сударь.
Эм – деление объема на малые части (мука, молоть).
Эс – пути движений, имеющие общую начальную и неподвижную точку (сой, солнце, сад, село).
Ха – черта, преграда между неподвижной точкой и другой, движущейся к ней.
Че – пустое тело, заменяющее оболочку объему другого тела. Обход дугою во время прямого пути некоторой неподвижной точки на пути.
Ка – взаимное сближение двух точек до неподвижного предела, остановки многих точек у одной неподвижной. Звезда движений, обратная Эс.
Ша – слияние поверхностей, наибольшая площадь в наименьших границах одного.
Дэ – удаление части от целого, уход части от целого к другому целому (дар, даль).
Зэ – пара взаимно подобных точечных множеств, разделенная расстоянием.
Эн – исчезновение из пределов данной области направления, где нет движения.
Тэ – отрицательный путь, вызванный тенью неподвижной точки.
1920
Азы из узы*
Единая книга
Я видел, что черные Веды, Коран и Евангелие, И в шелковых досках Книги монголов Из праха степей, Из кизяка благовонного, Как это делают Калмычки зарей, Сложили костер И сами легли на него – Белые вдовы в облако дыма скрывались, Чтобы ускорить приход Книги единой, Чьи страницы – большие моря, Что трепещут крылами бабочки синей, А шелковинка-закладка, Где остановился взором читатель,– Реки великие синим потоком: Волга, где Разина ночью поют, Желтый Нил, где молятся солнцу, Янцекиянг, где жижа густая людей, И ты, Миссисипи, где янки Носят штанами звездное небо, В звездное небо окутали ноги, И Ганг, где темные люди – деревья ума, И Дунай, где в белом белые люди В белых рубахах стоят над водой, И Замбези, где люди черней сапога, И бурная Обь, где бога секут И ставят в угол глазами Во время еды чего-нибудь жирного, И Темза, где серая скука. Род человечества – книги читатель, А на обложке – надпись творца, Имя мое – письмена голубые. Да, ты небрежно читаешь.– Больше внимания! Слишком рассеян и смотришь лентяем,– Точно уроки закона божия. Эти горные цепи и большие моря, Эту единую книгу Скоро ты, скоро прочтешь! В этих страницах прыгает кит И орел, огибая страницу угла, Садится на волны морские, груди морей, Чтоб отдохнуть на постели орлана. Я, волосатый реками… Смотрите! Дунай течет у меня по плечам И – вихорь своевольный – порогами синеет Днепр. Это Волга упала мне на руки, И гребень в руке – забором гор Чешет волосы. А этот волос длинный – Беру его пальцами – Амур, где японка молится небу, Руки сложив во время грозы.Азия
Всегда рабыня, но с родиной царей на смуглой груди, Ты поворачиваешь страницы книги той, Чей почерк – росчерки пера морей. Чернилами служили люди, Расстрел царя был знаком восклицанья, Победа войск служила запятой, А толпы – многоточия, Чье бешенство не робко,– Народный гнев воочью, И трещины столетий – скобкой. И с государственной печатью Взамен серьги у уха, То девушка с мечом – Противишься зачатью, То повитуха мятежей – старуха. Всегда богиня прорицанья, Читаешь желтизну страниц, Не замечая в войске убыли, Престолы здесь бросаешь ниц Скучающей красавицы носком. Здесь древний подымаешь рубль Из городов, засыпанных песком. А здесь глазами нег и тайн И дикой нежности восточной Блистает Гурриет-эль-Айн, Костром окончив возраст непорочный. У горных ласточек здесь гнезда отнимают пашни, Там кладбища чумные – башни, Здесь пепел девушек Несут небес старшинам, Доверив прах пустым кувшинам. Здесь сын царя прославил нищету И робок опустить на муравья пяту, И ходит нищий в лопани. Здесь мудрецы живьем закопаны, Не изменивши старой книге, А здесь былых столетий миги, Чтоб кушал лев добычу Над письменами войн обычаю. Там царь и с ним в руках младенец, Кого войска в песках уснули, С утеса в море бросились и оба потонули. О, слезы современниц! Вот степи, где курганы, как волны на волне В чешуйчатой броне – былые богдыханы умерших табунов. Вот множество слонов Свои вонзают бивни Из диких валунов Породы допотопной, И в множество пещер Несутся с пеньем ливни Игрою расторопной, Лавинами воды, То водопадами, что взвились на дыбы, Конями синевы на зелени травы И в кольца свернутыми гадами. Ты разрешила обезьянам Иметь правительства и королей. Летучим проносясь изъяном За диким овощем полей, И в глубине зеленых вышек Ты слышишь смех лесных братишек. Как ты стара! Пять тысяч лет. Как складки гор твоих зазубрены! Былых тысячелетий нет С тех пор, как головы отрублены Веселых пьяниц Хо и Хи. Веселые, вы пили сок И – пьянства сладкие грехи – Веселым радостям зазорным, Отдавши тучные тела, Забывши на небе дела, Вы казнены судом придворным. Зеваки солнечных затмений, Схватив стаканы кулаком, Вы проглядели современья Сидонии приход второй, Его судов Цусимою разгром – Он вновь прошел меж нас, Медина, Когда Мукден кровавила година, Корея знала господина И на восток Рожественских путина. Страна костров, и лобных мест, и пыток Столетий пальцами Народов развернула свиток, Целуешь здесь края одежд чумы, А здесь единство Азии куют умы. Туда, туда, где Изанаги Читала «Моногатори» Перуну, А Эрот сел на колена Шангти И седой хохол на лысой голове бога Походит на снег, Где Амур целует Маа-Эму, А Тиэн беседует с Индрой, Где Юнона с Цинтекуатлем Смотрят Корреджио И восхищены Мурильо, Где Ункулункулу и Тор Играют мирно в шашки, Облокотясь на руку, И Хокусаем восхищена Астарта. Туда, туда.Современность
Где серых площадей забор в намисто: «Будут расстреляны на месте!» И на невесте всех времен Пылает пламя ненависти. И в город, утомлен, Не хочет пахарь сено везти, Ныне вести: пал засов. Капли Дона прописав Всем, кто славился в лони годы, Хоронит смерть былых забав Века рубля и острой выгоды. Где мы забыли, как любили, Как предков целовали девы, А паровозы в лоск разбили Своих полночных зарев зенки, За мовою летела мова, И на устах глухонемого Всего одно лишь слово: «К стенке!» Как водопад дыхания китов, Вздымалось творчество Тагора и Уэльса, Но черным парусом плотов На звезды мира, путник, целься. Убийцы нож ховая разговором, Столетие правительства ученых – Ты набрано косым набором, Точно издание Крученых, Где толпы опечаток Летят, как праздник святок. Как если б кто сказал: «Война окончена – война мечам. И се – я нож влагаю в ножницы», Или молитвенным холстам Ошибкой дал уста наложницы, Где бычию добычею ножам Стоят поклонники назад. В подобном двум лучам железе Ночная песня китаянки Несется в черный слух Замбези, За ней счета торговых янки. В тряпичном серебре Китайское письмо, Турецкое письмо На знаке денежном – РСФСР Тук-тук в заборы государств. А голос Ганга с пляской Конго Сливает медный говор гонга, И африканский зной в стране морозов, Как спутник ласточке хотел помочь, У изнемогших паровозов Сиделкою сидела ночь. Где серны рог блеснул ножом, Глаза свободы ярки взором, Острожный замок Индии забит пыжом – Рабиндранат Тагором! «Вещь покупаем. Вещь покупаем!» О песнь, полная примет! О, роковой напев, хоронят им царей Во дни зачатия железных матерей. Старьевщик времени царей шурум-бурум Забрал в поношенный мешок. И ходит мировой татарин У окон и дверей: «Старья нет ли?» – Мешок стянув концом петли. Идет в дырявом котелке С престолом праздным на руке. «Старья нет ли? Вещь покупаем! Царей берем Шурум-бурум!» – Над черепами городов Века таинственных зачатий, В железном русле проводов Летел станок печати. В железных берегах тех нитей Плывут чудовища событий. Это было в месяц Ай, Это было в месяц Ай. – Слушай, мальчик, не зевай. Это было иногда, Май да-да! Май да-да! Лился с неба томный май, Льется чистая вода, Заклинаю и зову. – Что же в месяце Ау? Ай да-да! Май да – да! О, Азия! Себя тобою мучу. Как девы брови я постигаю тучу, Как шею нежного здоровья – Твои ночные вечеровья. Где тот, кто день свободных ласк предрек? О, если б волосами синих рек Мне Азия обвила бы колени И дева прошептала бы таинственные пени, И тихая, счастливая, рыдала, Концами кос глаза суша. Она любила. Она страдала – Вселенной смутная душа. И вновь прошли бы в сердце чувства, Вдруг зажигая в сердце бой, И Махавиры, и Заратустры, И Саваджи, объятого борьбой. Умерших снов я стал бы современник, Творя ответы и вопросы, А ты бы грудой светлых денег Мне на ноги рассыпала бы косы. – Учитель, – ласково шепча,– Не правда ли, сегодня Мы будем сообща Искать путей свободней?Заклинание множественным числом
Пение первое
Вперед, шары земные! Я вьюгою очей… Вперед, шары земные!..Пение второе
И если в «Харьковские птицы», Кажется, Сушкина, Засох соловьиный дол И гром журавлей, А осень висит запятой, Вот, я иду к той, Чье греческое и странное руно Приглашает меня испить «Египетских ночей» Пушкина Холодное вино. Две пары глаз – ночная и дневная, Две половины суток. День голубой, раб черной ночи. Вы тонете, то эти, то не те. И влага прихоти на дне мгновений сотки. Вы думали, прилежно вспоминая, Что был хорош Нерон, играя Христа как председателя чеки. Вы острова любви туземцы, В беседах молчаливых немцы.<1920–1922>
Председатель чеки*
Пришел, смеется, берет дыму. Приходит вновь, опять смеется. Опять взял горку белых ружей для белооблачной пальбы. Дает чертеж, как предки с внуками Несут законы умных правил, многоугольники судьбы. «Мне кажется, я склеен Из Иисуса и Нерона. Я оба сердца в себе знаю – И две души я сознаю. Приговорен я был к расстрелу За то, что смертных приговоров В моей работе не нашли. Помощник смерти я плохой, И подпись, понимаете, моя Суровым росчерком чужие смерти не скрепляла, гвоздем для гроба не была. Но я любил пугать своих питомцев на допросе, чтобы дрожали их глаза. Я подданных до ужаса, бывало, доводил Сухим отчетливым допросом. Когда он мысленно с семьей прощался И уж видал себя в гробу, Я говорил отменно сухо: „Гражданин, свободны вы и можете идти“. И он, как заяц, отскочив, шептал невнятно и мял губами, Ко дверям пятился и – с лестницы стремглав, себе не веря, А там – бегом и на извозчика, в семью… Мой отпуск запоздал на месяц – Приходится лишь поздно вечером ходить». Молчит и синими глазами опять смеется и берет С беспечным хохотом в глазах Советских дымов горсть изрядную. «До точки казни я не довожу, Но всех духовно выкупаю в смерти Духовной пыткою допроса. Душ смерти, знаете, полезно принять для тела и души. Да, быть распятым именем чеки И на кресте повиснуть перед общественным судом Я мог. Смотрите, я когда-то тайны чисел изучал, Я молод, мне лишь 22, я обучался строить железные мосты. Как правилен закон сынов и предков, – стройней железного моста. И как горит роскошная Москва! Здесь сходятся углы и здесь расходятся. Смотрите», – говорил, глаза холодные на небо подымая. Он жил вдвоем. Его жена была женой другого. Казалося, со стен Помпей богиней весны красивокудрой, Из гроба вышедши золы, сошла она, И черные остриженные кудри (Недавно она болела сыпняком), И греческой весны глаза, и хрупкое утонченное тело, Прозрачное, как воск, и пылкое лицо Пленяли всех. Лишь самые суровые Ее сурово звали «шкура» или «потаскушка». Она была женой сановника советского. В покое общем жили мы, в пять окон. По утрам я видел часто ласки нежные. Они лежали на полу, под черным овечьим тулупом. Вдруг подымалось одеяло на полу, И из него смотрела то черная, то голубая голова, чуть сонная. Порой у милой девы на коленях он головой безумною лежал, И на больного походила у юноши седая голова, Она же кудри золотые юноши рукою нежно гладила, Играя ими, перебирала бесконечно, смотря любовными глазами, И слезы, сияя, стояли в ее гордых от страсти, исчерна черных глазах. Порою целовалися при всех крепко и нежно, громко, И тогда, сливаясь головами, – он голубой и черная она, – на день и ночь, На обе суток половины оба походили, единое кольцо. И, легкую давая оплеуху, уходя, – «Сволочь ты моя, сволочь, сволочь ненаглядная»,– Целуя в белый лоб, словами нежными она его ласкала, Ероша белыми руками золотые перья на голове и лбу. Он нежно, грустно улыбался и, голову понуривши, сидел. Видал растущий ряд пощечин по обеим щекам И звонкий поцелуй, как точка, пред уходом, И его насмешливый и грустный бесконечный взгляд. Два месяца назад он из-за нее стрелялся, Чтоб доказать, что не слабо, и пуля чуть задела сердце. Он на волос от смерти был, золотокудрый, Он кротко все терпел, И потом на нас бросал взгляд умного презренья, загадочно сухой и мертвый, Но вечно и прекрасно голубой,– Как кубок кем-то осушенный, взгляд начальника на подчиненных. Она же говорила: «Ну, бей меня, сволочь», – и щеку подставляла. Порою к сыну мать седая приходила, Седые волосы разбив дорогой. И те же глаза голубые, большие, и тот же безумный и синий огонь в них. Курила жадно, второпях ласкала сына, гладя по руке, Смеясь, шепча, и так же кудри гладила С упреком счастья: «Ах ты, дурак мой, дурачок, совсем ты дуралей». И плакала порою торопливо, и вытирала синие счастливые глаза под белыми седыми волосами, Шепча подолгу наедине с сухим и грустным сыном. И бесконечной околицей он матери сознанье окружал. Врал без пощады про женино имение и богатство. Они в далекую дорогу собирались в теплушке, на польские окопы. Семь дней дороги. Как вор, скрываясь, выходил он по ночам, свой отпуск исчерпав И сделав, кажется, два новых (печати были у него), И гордо говорил: «Меня чека чуть-чуть не задержала». Ее портнихи окружали и бесконечные часы. Как дело было, я не знаю, но каждый день торговля шла Часами золотыми через третьих лиц. Откуда и зачем, не знаю. Но это был живой сквозняк часов. Она вела веселую и щедрую торговлю. Но он, Нерон голубоглазый, Утонченною пыткой глаз голубых и блеском синих глаз Казнивший старый мир, мучитель на допросе Почтенных толстых горожан, Ведь он же на кресте висел чеки! И кудри золотые рассыпал С большого лба на землю. Ведь он сошел на землю! Вмешался в ее грязи, На белом небе не сиял! Как мальчик чистенький, любимец папы, Смотреть пожар России он утро каждое ходил, Смотреть на мир пылающий и уходящий в нет: «Мы старый мир до основанья, а затем…» Смотреть на древнюю Москву, ее дворцы, торговли замки, Зажженные сегодняшним законом. Он вновь – знакомый всем мясокрылый Спаситель, Мясо красивое давший духовным гвоздям, В сукне казенного образца, в зеленом френче и обмотках, надсмешливый. А после бросает престол пробитых гвоздями рук, Чтоб в белой простыне с каймой багровой, Как римский царь, увенчанный цветами, со струнами в руке, Смотреть на пылающий Рим. Два голубых жестоких глаза Наклонились к тебе, Россия, как цветку, наслаждаясь Запахом гари и дыма, багровыми струями пожара России бар и помещиков, купцов. Он любит выйти на улицы пылающего мира И сказать: «Хорошо». В подвале за щитами решетки Жили чеки усталые питомцы. Оттуда гнал прочь прохожих часовой, За броневым щитом усевшись. И к одному окну в урочный час Каждый день собачка белая и в черных пятнах Скулить и выть приходила к господину, Чтоб лаять жалобно у окон мрачного подвала. Мы оба шли. Она стояла здесь, закинув ухо, Подняв лапку, на трех ногах, И тревожно и страстно глядела в окно и лаяла тихо. Господин в подвале темном был. Тот город славился именем Саенки. Про него рассказывали, что он говорил, Что из всех яблок он любит только глазные. «И заказные», – добавлял, улыбаясь в усы. Дом чеки стоял на высоком утесе из глины На берегу глубокого оврага И задними окнами повернут к обрыву. Оттуда не доносилось стонов. Мертвых выбрасывали из окон в обрыв. Китайцы у готовых могил хоронили их. Ямы с нечистотами были нередко гробом, Гвоздь под ногтем – украшением мужчин. Замок чеки был в глухом конце Большой улицы на окраине города, И мрачная слава окружала его. Замок смерти, Стоявший в конце улицы с красивым именем писателя, К нему было применимо: молчание о нем сильнее слов. «Как вам нравится Саенко?» – Беспечно открыв голубые глаза, Спросил председатель чеки.1921
«И вот зеленое ущелие Зоргама…»*
И вот зеленое ущелие Зоргама… Ханночка, как бабочка, опустилась, Присела на циновку и Водит указкой по учебнику. Огромные слезы катятся Из скорбных больших глаз. Это горе. Слабая скорбная улыбка кривит губы. Первое детское горе. Она спрятала Книжку, чтобы пропустить урок, Но большие люди отыскали ее и принесли. Зеленые темные горы, на них курится Свайный храм облаков Белой кровлей и стройными столбами. Вечно озабоченным шумом летит по ущелью река. Море, великое море, Точно великое зеркало, передо мной, И над ним большая голова Матери и родных. Смешливые проказливые мальчики Толкают друг друга и знаками Настойчиво советуют надать своим товарищам пощечин. Подобны тяжелым черным камням, Громадны нависающие глаза ее И нежно змеится на губах Скорбная улыбка. Белый ситцевый наряд. Как бесчисленные белые Глаза, смотрели сверху Листья белого ствола. Я спал под белым деревом. Убогая зелень земли. – Айн дам драм дам, – пела Цыганка смуглая, плясала. И пляшущая и темная, Лохмотья синие и черные, Ведро на голове, Курчавой дикими волосами Армавира, Рука упруго упиралась в бок, Другая протянута. И всю дорогу по степи ты пела и плясала. – Туса-туса-туса Мэн да-да ца-цо. И без ожерелий ожирелые, Тучные, смугло-грязные, Серые, гордые Тем, что они не из табора,– Вы их помните? – Около вещих вод Пять сестер. Советский муж с лысой бородкой Сосал глазами пляску Едущих в Персию. За ними! за ними! Но через камни городского быта Бьется горный ключ Смуглых предков. – Дервиш, урус дервиш,– Поют они. – Товарищ, товарищ! гуль-мулла! – Теребят чернобровые мальчики. Потом затихают и вдруг молчаливо Смотрят на горы, и русская Грусть у них в глазах. Дикие, похожие на коз, Девушки пересыпают зерно Плова. Старая ханыиа, одетая В рубища, выходит из двери. Я хотел потрясти желтой гривой, Скомканной бородой, броситься с гор И увлечь потоком дикой жизни и смеха Население этих гор. Более пения и топота Ног у водопадов! Мы идем в населенные людьми звуки. Город из бревен звука, Город из камней звука, Туда веду я вас. В город звучной пищи, В город звукоедов идемте, Где бревна из звука, Бревна из хохота И улица пения. Что ты смотришь на меня, Государство, <населенное> людьми жилого звука, Этими важными глазами своими? Довольно праздно брянчать По струнам рукой, Довольно жадным слухом Льнуть и ловить звуки, Слушать их. Пора населить человечеству Государство звуков, Хлынуть в звук и свешиваться курчавыми Головами детей из стен звука. Вырубим в звуке окна и двери. Услышим порядки пения И очередь ртов. От стеклянного паруса Жилого полотна, Протянутого над ночным долом, От веревок города-судна, висящих Как глубокие глаза Ночных существ, От города, идущего Тою же тропой, как Раньше шел его предтеча, Учитель в овечьей шкуре. Земные зеленые растения поровну делят Пространство на перегородки города, Открывшего настежь для мыслящих единиц Стеклянные книги, Для глаз неба – Читать черты людской жизни, Поставив их на корешок, Чтоб ветер гулял И шевелил стеклянные листы, Полные жажды солнца, Где самая маленькая частица – Горница Али или Оли, Опершихся на подоконник. Город стеклянных страниц, Открывающий их широким цветком днем И закрывающий на ночь, Посылающий узкие колосья, Струящихся как овес, горниц стекла, Город, чье благовоние, Чей летний запах – Ветер летучего люда. Запах людского полета, Тяги по небу каждые сутки Внемлется ноздрями ночи. Город, силач тела гордых стекломяс, Старик-рыбак, Железными икрами погруженный по колено в воду, Кругом которого вода Журчащих столетий, Не устающий тянуть вдаль Свой невод – Гибкие железосети. Набухший солнечной водой город, К которому из прошлых столетий летит слово: «Старик стеклянного тулупа, Чьи волосы – халупа над халупой, Своих дворцов раскинул улей, Где солнца заплутали пулей». От этого города Идемте в город Из строгих бревен времени. Идемте, о плотники, Стругать столетья На плотничьи доски. И по обычаю плотников, Приступая к делу, Обвяжем липовым лычком Наши славянские кудри. В этот котел страстей Я хотел Бросить будетлянский огонь инее, Инесного пороха. Когда вся страна С тысячелетиями прошлыми – Стеклянная трубка перед умными глазами химика, И его мозг зависит от изломов счастья, Я хотел бросить <поверхностей и углов> Кусок другого мира.1921
Труба Гуль-муллы*
1
Ок! Ок! Это горный пророк; Как дыханье китов, из щелей толпы Вылетают их стоны и ярости крики. Яростным буйволом пронесся священник цветов, В овчине суровой, голые руки, голые ноги. Горный пастух его бы сочел за своего. Дикий буйвол ему бы промолвил: мой брат. Он, божий ветер, вдруг налетел, прилетел В людные улицы, с гор снеговых, Дикий священник цветов, Белой пушинкой зачем-то грозя. Чох пуль! Чох шай! Стал нестерпимым прибой! Слишком поднялся потоп торга и рынка. Черные волосы падали буйно, как водопад, На темные руки пророка. Грудь золотого загара, золотая, как желудь, Ноги босые. Листвой золотою овчина торчала Шубой шиврат-навыворот. Божественно темное дикое око. Десятками лет никем не покошены, Волосы падали черной рекой на плечо, На темный рот. Конский хвост не стыдился бы их толщины. Черное сено ночных вдохновений, Стога полночей звездных, Черной пшеницы стога Птичьих полетов пути с дальних гор снеговых, пали на голые плечи. Горы денег сильнее пушинка его. И в руках его белый пух, перо лебедя, Лебедем ночи потерян, Когда он летел высоко над миром, Над горой и долиной. Бык чугунный на посох уселся пророка. А на палке его стоял вол ночной, А в глазах его огонь солнечный. Ок! Ок! Как дыханье кита, Из ноздрей толпы вылетали их дикие крики. Это пророки сбежалися с гор, Это предтечи Сбежалися с гор.2
Ок! Ок! Это пророки Сбежалися с снежных гор, Сбежалися с гор Встречать чадо Хлебникова, Ему радуясь! «Саул, адам Веры севера. Саул тебе За твою звезду, – Чох пророков тебе Пело славу». Очана-мочана – все хорошо. «Наш!» – сказали священники гор. «Наш!» – запели цветы! – Золотые чернила На скатерть зеленую Весной неловкою пролиты. «Наш!» – запели дубровы и рощи, Золотой набат, весны колокольня, Сотнями глаз в небе зелени, Зорких солнышек, Ветвей благовест. «Нет» – говорили ночей облака, «Нет» – прохрипели вороны моря, Оком зеленые, клювом железные, Неводом строгим К утренней тоне спеша на восток, Сетки мотнею Месяц поймав. Только «Мой» не сказала Дева Ирана, Только «Мой» не сказала она. Через забрало тускло смотрела, В черном шелку стоя поодаль.3
Полетом разбойничьим Белые крылья сломав, Я с окровавленным мозгом С высот соколов Упал к белым снегам И алым садам, Терновников розгам, себя уколов. И горным богам пещеры морской Я крикнул: «Спасите, спасите, товарищи… Други, спасите, Детских игор ровесники, боги морей!» И ресницей усталою гасил голубого пожарища мучений застенки, Закрыт простыней искалеченных крыл, раньше – лебедя. Горы, белые горы. «Курск» гулко шел к вам. Кружевом нежным и шелковым, Море кружева пеною соткано. Синее небо. У старого волка морского Книга лежала Крапоткина «Завоевание хлеба». В прошлом столетьи Искали огня закурить. Может, найдется поближе И ярче огонь Трубку морскую раздуть? Глазами целуя меня, Я – покорение неба, – Моря и моря Синеют без меры. Алые сады – моя кровь, Белые горы – крылья. – Садись, Гуль-мулла, Давай перевезу.4
И в звездной охоте Я звездный скакун. Я – Разин напротив. Я – Разин навыворот. (Сетуй, утес. Утро чорту). Плыл я на «Курске» судьбе поперек. Он грабил и жег, а я слова божок. Пароход ветросек Шел через залива рот. Разин деву В воде утопил. (Косо лети же, житель осок. Братва, Могота батогом). Что сделаю я? Наоборот? Спасу! Увидим. Время не любит удил. И до поры не откроет свой рот. В пещерах гор Нет никого? Живут боги? Я читал в какой-то сказке, Что в пещерах живут боги И как синенькие глазки, Мотыльки им кроют ноги. Через Крапоткина в прошлом, За охоту за пошлым Судьбы ласкают меня После опалы И снова трепещут крылом За плечами.5
«Мы, обветренные Каспием, Великаны алокожие, За свободу в этот час поем, Славя волю и безбожие. Пусть замолкнет тот, кто нанят, Чья присяга морю лжива, И морская песня грянет, На устах молчит нажива». Ветер, ну?6
Пастух очей стоит поодаль. Белые очи богов по небу плыли! Пила белых гор. Пела моряна. Землею напета пластина. Глаза казни Гонит ветер овцами гор По выгону мира, Над кремневой равниной овцами гор, Темных гор, пастись в городах. Пастух людских пыток поодаль стоит. Снежные мысли, Белые речки. Снежные думы Каменного мозга. Синего лба круч кремневласых неясные очи. Пытки за снежною веткой шиповника. Ветер – пастух божьих очей. Гурриэт-эль-Айн, Тахирэ, сама Затянула на себе концы веревок, Спросив палачей, повернув голову: «Больше ничего?» – «Вожжи и олово В грудь жениху!». Это ее мертвое тело – снежные горы. Темные ноздри гор Жадно втягивают Запах Разина, Ветер с моря. Я еду. Ветер пыток.7
Смелее, не робь. Золотые чирикают птицы На колосе золота. Зеленые улицы каменных зданий. Полк узеньких улиц. Я исхлестан камнями! Булыжные плети Исхлестали глаза степных дикарей! Голову закрой обеими руками. Тише. Пощады небо не даст! Пулей пытливых взглядов проулков Тысячи раз я пророгожен. Высекли плечи Булыжные плети! Лишь башня из синих камней, ты березой на темном мосту Смотрела Богоматерью и перевязывала раны. Серые стены стегали.8
Вечерний рынок. «Вароньи яйца!». «Один – один шай, один – один шай!». «Лёви! Лови!». Кудри роскоши синей, Дикие болота царевичи, Синие негою, Золото масла крышей покрыли, Чтобы в ней жили Глаз воробьи Для ласточек щебечущих глаз (Масла коровьего вымени белых небес, снега и инея). Костры. Огни в глиняных плошках. Мертвая голова быка у стены. Быка несут на палках, Полчаса назад еще живого. Дикие тени ночей. Напитки в кувшинах ледяные. В шалях воины. Лотки со льдом, бобы и жмыхи, И залежи кувшинов голубых Как камнеломни синевы, Чей камень полон синевы. Здесь свалка неба голубого. Слышу «Дубинушку» в пении неба. Иль бурлаки небо волочат на землю? Зеленые куры, красных яиц скорлупа. И в полушариях черных Блистает глазами толпа, как черепа, В четки стуча.9
Лесов рукопашная. Шубы настежь, Овчины зеленые. Падают боги камней Игрою размеров. Из улицы темной: «Русски не знаем. Зидарастуй, табарича». Дети пекут улыбки больших глаз В жаровнях темных ресниц И со смехом дают случайным прохожим. Калека-мальчик руки-нити Тянул к прохожим по-паучьи у мечети. Вином запечатанным С белой головкой над черным стеклом Жены черные шли. Кто отпечатает Лениво? Я кресало для огнива Животно-испуганных глаз, глупо прелестных Черною прелестью Под покрывалом, От страха спасителем. Смертельной чахотки, Белой чахотки Забрало белеет у черных теней! Белые прутья на черные тени спускались – смерти решетка, Белой окошка черной темницы решеткой Женщин идущих. Тише. Востока святая святых!10
Полночь. Решт. «Рыжие» прыжками кошек И двойками зеленых кладбищенских глаз скачут в садах, Дразнят собак. Гау, гау! га-га! га-га! – Те отвечали лениво. Перекличка лесных лис и собак В садах заснувшего города. Души мертвых в садах молитв правоверных. Это чорта сыны прыгали в садах. На голые шары черепов, бритые головы С черным хохлом где-то сбоку (дыма черное облако) Весь вечер смотрели мы. Прокаженные жены, подняв покрывало, Звали людей: «Приди, отдохни! Усни на груди у меня».11
Тиран без Тэ. «Рейс тумам донья». Али В Председатели шара земного Посвящается за стаканом джи-джи. Страна, где все люди Адамы, Корни наружу небесного рая! Где деньги – «пуль» И в горном ущельи Над водопадом гремучим В белом белье ходят ханы Тянуть лососей Длинною сеткою на шесте. И всё на «ша»: «шах», «шай», «шира». Где молчаливому месяцу Дано самое звонкое имя – Ай, – В этой стране я!12
Весна морю дает Ожерелье из мертвых сомов, Трупами устлан весь берег. Собакам, провидцам, пророкам И мне Морем предложен обед Рыбы уснувшей На скатерти берега. Роскошь какая! Будь человек! не стыдись! отдыхай, почивай! Кроме моря здесь нет никого. Море, ты слишком велико, Чтобы ждать, чтобы я целовал тебе ручку. Никому не нужно мое спасибо. Купаюсь: целую морскую волну, Море не пахнет ручкой барыни. Три мешочка икры Я нашел и испек, И сыт! Вороны – каркая – в небо! «Упокой, Господи» и «Вечную память» Пело море Тухлым собакам. В этой стране Алых чернил взаймы у крови, дружеский долг, Время берет около Троицы, Когда алым пухом Алеют леса недотроги, Зеленой ресницей широкие. Не терпится дереву, хочется быть мне Зеленым знаменем пророка. Но пятна кровавые Троицы еще не засохли. Перья зеленые лебедя стаей плавают по воздуху, Ветки ее, И золотые чернила весны В закат опрокинуты, в немилости. И малиновый лес Сменяет зеленый. В этой стране собаки не лают, Если ночью ногою наступишь на них, Кротки и тихи Большие собаки. И цыпленок, раньше чем уснуть в руке гнезда, Бегает по нему И ловит, полный охотничьей жажды, Мошек и комаров. Тебе люди шелка не дадут, О пророк, и дереву – знаменем быть. Пальцы кровавые лета запечатлены на зеленых листах, Когда недотрогу неженку-розу беру знаменем.13
Сегодня я в гостях у моря. Скатерть широка песчаная. Собака поодаль. Ищем. Грызем. Смотрим друг на друга. Обедал икрою и мелкой рыбешкой. Хорошо! Хуже в гостях у людей! Из-за забора «урус дервиш, дервиш урус» Десятки раз крикнул мне мальчик.14
Косматый лев с глазами вашего знакомого Кривым мечом Кому-то угрожал, заката сторож, покоя часовой, И солнце перезревшей девой (Любит варенье) Сладко закатилось на львиное плечо Среди зеленых изразцов, Среди зеленых изразцов!15
Халхал. Хан в чистом белье Нюхал алый цветок, сладко втягивая в ноздри запах цветка, Ноздри раздув, сладко вдыхал запах цветка, Темной рукой за ветку держа, Жадно глазами даль созерцая. «Русски не знай, плёхо. Шалтай-балтай не надо, зачем? плёхо! Учитель, давай, – Столько пальцев и столько (50 лет), – Азия русская. Россия первая, учитель, харяшо. Толстой большой человек, да, да, русский дервиш. А! Зардешт, а! харяшо!». И сагиб, пьянея, алый нюхал цветок, Белый и босой, И смотрел на синие дальние горы. Каменное зеркало гор. Я на горах. Зеркало моря находится По ту сторону. Отсюда Волге наперекор Текут реки в те же просторы морей. Воли запасы черпать где ведро? Здесь среди гор Человек сознает, что зазнался. Скакала, шумела река, стекленясь волосами. Буханки камней. Росли лопухи в рост человека. Струны размеров камней – Кто играл в эти струны? Крыльцо перед горами в коврах и горах винтовок. Выше предков могилы. А рядом пятку чесали сыну его. Он хохотал, Стараясь ногою попасть слугам в лицо. Тоже он был в одном белье. По саду ханы ходят беспечно в белье Или копают заступом мирно Огород капусты. «Беботеу вевять» – Славка запела.16
Булыжники собраны в круг. Гладка, как скатерть, долина. Выметен начисто пол ущелья. Из глазу не надо соринки. Деревья в середке булыжных венков. Черепами людей белеют дома. Хворост на палках. Там чай-хане пустыни. Черные вишни-соблазны на удочке тянут голодных глаза. Армянские дети пугливы. Сотнями сказочных лбов Клубятся, пузырятся в борьбе за дорогу Корни смоковницы (Я на них спал), Тоской матерей Тянутся к детям Пуповиной, протянутой от веток к корням, И в землю уходят. Плетусь, ученье мое давит мне плечи. Проповедь немая, нет учеников. Громадным дуплом, пузатым грибом, Брюхом широким Настежь открыта счетоводная книга столетий. Ствол (шире коня поперек), пузырясь, Подымал над собой тучу зеленую листьев и веток, Зеленую шапку, Градом ветвей стекая к корням, С ними сливаясь в узлы Ячеями сети огромной. Ливень дерева сверху, дождь дерева пролился В корни и землю, внедряясь в подземную плоть. Ячейками сети срастались глухою петлею, И листья, певцы того, что нет, Младшие ветви и старшие, И юношей толпы – матери держат старые руки. Чертеж? или дерево? Сливаясь с корнями, дерево капало вниз и текло древесною влагой, Ручьями В медленном ливне столетий. Ствол пучится брюхом, где спрячутся трое, Долине дает второе, зеленое небо. Здесь я спал изнемогший. Белые кони паслися на лужайке оседланны (Лебеди снега и спеси). «Ты наше дитю! вот тебе ужин, ешь и садись!» – Мне крикнул военный, с русской службы бежавший. Чай, вишни и рис. Целых два дня я питался лесной ежевикой, Ей одолжив желудок Председателя Земного Шара (Мариенгоф и Есенин). «Пуль» в эти дни не имел, шел пеший. «Беботеу вевять» славка поет!17
Чудищ видений ночных черные призраки, Черные львы. Плясунья, шалунья вскочила на дерево, Стоит на носке, другую, в колене согнув, занесла над головой; И согнута в локте рука. Кружев черен наряд. Сколько призраков! Длинная игла дикообраза блестит в лучах Ая. Ниткой перо примотаю и стану писать новые песни. Очень устал. Со мною винтовка и рукописи. Лает лиса за кустами. Где развилок дорог поперечных, живою былиной Лег на самой середке дороги, по-богатырски руки раскинул. Не ночлег, а живая былина Онеги. Звезды смотрят в душу с черного неба. Ружье и немного колосьев – подушка усталому. Сразу заснул. Проснулся, смотрю, кругом надо мною На корточках дюжина воинов. Курят, молчат, размышляют. «По-русски не знай». Что-то думают. Покрытые роскошью будущих выстрелов За плечами винтовки, Груди в широкой броне из зарядов. «Пойдем». Повели. Накормили, дали курить голодному рту. И чудо – утром вернули ружье. Отпустили. Ломоть сыра давал мне кардаш, Жалко смотря на меня.18
– Садись, Гуль-мулла. – Черный горячий кипяток брызнул мне в лицо? Черной воды? – Нет, – посмотрел Али-Магомет, засмеялся. – Я знаю, ты кто. – Кто? – Гуль-мулла. – Священник цветов? – Да-да-да. Смеется, гребет. Мы несемся в зеркальном заливе Около тучи снастей и узорных чудовищ с телом железным, С надписями «Троцкий» и «Роза Люксембург».19
– Лодка есть. Товарищ Гуль-мулла! Садись, повезем! Денег нет? Ничего. Так повезем! Садись! – Наперебой говорили киржимы. Я сажусь к старику. Он добродушен и красен, о Турции часто поет. Весла шумят. Баклан полетел. Из Энзели мы едем в Казьян. Я счастье даю? Почему так охотно возят меня? Нету почетнее в Персии Быть Гуль-муллой, Казначеем чернил золотых у весны В первый день месяца Ай Крикнуть, балуя: «Ай!» Бледному месяцу Ай, Справа увидев, Лету крови своей отпустить, А весне золотых волос. Я каждый день лежу на песке, Засыпая на нем.1921 <вторая половина>
Голод*
I
Почему лоси и зайцы скачут в осеннем лесу, Прочь удаляясь? Люди съели кору осины, Елей побеги зеленые. Жены и дети бродят в лесах И собирают березы листы Для щей, для окрошки, борща, Елей верхушки и нежно серебряный мох – Пища лесная. Зубы будут от елей точно у лося. «Нет желудей! Люди желуди съели»,– Скакала и жаловалась белка. Исчезли кроты и мыши лесные. Лиске негде курятину взять. Зайка бежит недовольно – Из огорода исчезла капуста. Дети, разведчики пищи, Бродят по рощам, Жарят в кострах белых червей, Зайца лесные калачики и гусениц жирных, Жирных червей от оленей-жуков Копают в земле и на зуб кладут, Хлебцы пекут из лебеды, За мотыльками от голода бегают. И тихо лепечут по-детскому малые дети О других временах, Огромно темнея глазами. Чтоб голод смотрел через детские лица, Как бородатый хозяин. Тают детишки. Стали огромными рты, до ушей протянулись, Глаза голубыми очками иль черными Зеркалом гладким кругло блестят на лице, Хребет утончился носа, Острый, как ножик, бледный и птичий концом, Кожа светла, как свеча восковая. Светятся миру белой свечой около гроба Дети в лесу. На зайца, что нежно прыжками Скачет в лесу, Все восхищенно засмотрелись, Точно на светлого духа явление. Но он убегает легким видением, Кончиком уха чернея. А дети долго стояли, им очарованные. Это сытный обед проскакал. Вот бы зажарить и съесть! Сладкий листок, скусный-прескусный, Сладкая травка, слаще калачика. «Бабочка, глянь-ка, там пролетела».– «Лови и беги, а здесь голубая». Мальчик на речке достал Тройку лягушек, Жирных, больших и зеленых. «Лучше цыплят»,– Говорил он сестрам обрадованным. Вечером дети к костру соберутся И вместе лягушек съедят, Тихо балакая. А может быть, будет сегодня из бабочек борщ.II
Голод в деревне
А рядом в избе с тесовою крышею Угрюмый отец Хлеб делит по крошкам Заскорузлыми пальцами. Только для глаз. И воробей, Что чиликнул сейчас озабоченно, Не был бы сыт. «Нынче глазами обед. Не те времена», – промолвил отец. В хлебе, похожем на черную землю, Примесь еловой муки. Лишь бы глаза пообедали. Мать около печи стоит. Черные голода угли Блестят в ямах лица. Тонок разрез бледного рта. Корова была, но зарезана. Стала мешками муки и съеденным хлебушком. Зарезал сосед, свои не могли. Чернуха с могучими ребрами И ведром молока в белом вымени. Звучно она, матерь рогатая, По вечерам теленку мычала, Чтоб отозвался нежный теленок. Девочки плакали. Теленка же скушали сами, Когда вышла конина в селе. Жареху из серых мышей Сын приготовил, принес. В поле поймал. И все лежат на столе, Серея длинным хвостом. Будет как надо Ужин сегодня. Ужин сегодня – чистая прелесть. А раньше, бывало, жена закричала бы громко И кувшин бы разбила вдребезги, брезгуя, Увидя умершую мышь потонувшей в сметане. Теперь же безмолвно и мирно Мертвые мыши лежат на столе для обеда, Свисая на землю черным хвостом. «Жри же, щенок! Не околеешь»,– Младшему крикнула мать И убежала прочь из избы. Хохот и плач донеслись С сеновала. И у соседей в соломенной хате Подан обед на дворе. Подан обед, первое блюдо В чугуне – кипяток на полове. Полезен прополоскать животы. Кушайте, дети, Резаной мелко соломы. «Дети, за стол. Не плакать, не выть, Вы ведь большие!» Строже сделались лица. Никто не резвился и не смеялся. По-прежнему мать встала у печки, Лицо на ладонь оперев и тоскуя. Застыли от страха ребятушки, Точно тайна пришла Или покойник лежал среди них. Кончен обед, глаза почернели и опустилися рты. И разбрелись ребятишки. В углу громадные матери Темнеют глаза. А что же второе? Второе? – Общая яма, Где, обнявши друг друга, Лягут все вместе, Отец и семья, Мать и отец, сестры и братья, С кротким лицом Свечки сгоревшей.<III>
Глаз огня Без ресниц ливня или дождя Жег нашу землю, наши поля И народы колосьев. Волнуясь соломой сухой, Дымились поля и колос желтел, Завял и засох смертью сухой. Зерно, осыпаясь, кормило мышей. Небо болеет? Небо – больной? Нет у него влажных ресниц Урожайной погоды, ливней могучих. Сжигая траву, поля, огороды Жестоко желтело око жары, Всегда золотое, без бровей облаков. Люди покорно уселися ждать Чуда – чудес не бывает – или же смерти. Это беда голубая. Это засуха. В ряде любимых годов Нашла себе пасынка. Всё изменило, колос и дождь, Труду землероба. Разве не так же в поту, как всегда, Сеяли этой весной пахаря руки Добрые зерна? Разве не так же с надеждой На небо все лето смотрели глаза земледельца, Дождя ожидая? Голое око жары, Око огня золотого Жгло золотыми лучами Нивы Поволжья. По оврагу лесному, пыль подымая, Спешила толпа к зеленым холмам и трем соснам. Все, торопясь и волнуясь,– Палка лесная в руках, Длинные бороды клином,– Волнуясь спешили. Все торопятся, бегут, дети и взрослые. Это сам голод. Это за глиной святой, Что едят точно хлеб, Той, от которой не умирают, Люди бегут, торопясь. Одна ты осталась, Когда все изменило, Глина! Земля! Голод гнал человечество. Мужики, женщины, дети, Заполнив овраг, Спешат за святою землей Вместо хлеба. Глина – спаситель немой Под корнями сосен столетних. А в то же время ум ученых В миры другие устремлен, Из земель, мысли подчиненных, Хотел построить жизни сон.Октябрь 1921
Шествие осеней Пятигорска*
1
Опустило солнце осеннее Свой золотой и теплый посох, И золотые черепа растений Застряли на утесах, Сонные тучи осени синей, По небу ясному мечется иней; Лишь золотые трупики веток Мечутся дико и тянутся к людям: «Не надо делений, не надо меток, Вы были нами, мы вами будем». Бьются и вьются, Сморщены, скрючены, Ветром осенним дико измучены. Тучи тянулись кверху уступы. Черных деревьев голые трупы Черные волосы бросили нам, Точно ранним утром, к ногам еще босым С лукавым вопросом: «Верите снам?» С тобой буду на ты я. Сады одевали сны золотые. Все оголилось. Золото струилось. Вот дерева призрак колючий: В нем сотни червонцев блестят! Скряга, что же ты? Пойди и сорви, Набей кошелек! Или боишься, что воры Большие начнут разговоры?2
Грозя убийцы лезвием, Трикратною смутною бритвой, Горбились серые горы: Дремали здесь мертвые битвы С высохшей кровью пены и пана. Это Бештау грубой кривой, В всплесках камней свободней разбоя, Похожий на запись далекого звука, На А или У в передаче иглой И на кремневые стрелы Древних охотников лука, Полон духа земли, облаком белый, Небу грозил боевым лезвием, Точно оно – слабое горло, нежнее, чем лен. Он же – кремневый нож В грубой жестокой руке, К шее небес устремлен. Но не смутился небесный объем: Божие ясно чело. Как прокаженного крепкие цепи Бештау связали, К долу прибили Ловкие степи: Бесноватый дикарь – вдалеке! Ходят белые очи и носятся полосы, На записи голоса, На почерке звука жили пустынники. В светлом бору, в чаще малинника Слушать зарянок И желтых овсянок. Жилою была Горная голоса запись. Там светлые воды и камни-жрецы, Молились им верно седые отцы.3
Кувшины издревле умершего моря Стояли на страже осени серой. Я древнюю рыбку заметил в кувшине. Плеснулась волна это Мертвого моря. Из моря, ставшего серым строгим бревном, Напилены доски, орлы Умной пилой человека. Лестниц-ручьев, лада песен морей, Шероховаты ступени. Точно коровий язык. Серый и грубый, шершавый. Белые стены на холмы вели По трупам усопшей волны, усопшего моря. Туда, на Пролом, Где «Орел» и труп моря Крылья развеял свои высоко и броско, Точно острые мечи. Над осени миром покорнее воска Лапти шагают по трупам морей, Босяк-великан беседует тихо Со мной о божиих пташках. Белый шлем над лицом плитняковым холма, степного вождя, Шероховатые шершавы лестниц лады Песен засохшего моря! Серые избы из волн мертвого моря, из мертвого поля для бурь! Для китов и для ящеров поляна для древней лапты стала доской Здесь кипучие ключи Человеческое горе, человеческие слезы Топят бурно в смех и пение. Сколько собак, Художники серой своей головы, Стерегут Пятигорск! В меху облаков Две Жучки, Курган Золотой, Машук и Дубравный. В черные ноздри их кто поцелует? Вскочат, лапы кому на плечо положив? А в городе смотрятся в окна Писатели, дети, врачи и торговцы! И волос девушки каждой – небоскреб тысяч людей! Эти зеленые крыши, как овцы, Тычутся мордой друг в друга и дремлют. Ножами золотыми стояли тополя, И девочка подруге кричит задорно «ля». Гонит тучи ветреный хвост.4
Осени скрипки зловещи, Когда золотятся зеленые вещи. Ветер осени Швырял листьями в небо, горстью любовных писем, И по ошибке попал в глаза (дыры неба среди темных веток). Я виноват, Что пошел назад. Тыкал пальцем в небо, Горько упрекая, И с земли поднял и бросил В лицо горсть Обвинительных писем, Что поздно.5
Плевки золотые чахотки И харканье золотом веток, Карканье веток трупа золотого, веток умерших, Падших к ногам. Шурши, где сидел Шура, на этой скамье, Шаря корня широкий сапог, шорох золотого, Шаря воздух, садясь на коней ветра мгновенного, В зубы ветру смотря и хвост подымая, Табор цыган золотых, Стан бродяг осени, полон охоты летучей, погони и шипа.6
Разбейся, разбейся, Мой мозг, о громады народного «нет». Полно по волнам носиться Стеклянной звездою. Это мне над рыжей степью Осени снежный кукиш! А осень – золотая кровать Лета в зеленом шелковом дыме. Ухожу целовать Холодные пальцы зим.7
Стали черными, ослепли золотые глазята подсолнухов, Земля мостовая из семенух. Сколько любовных речей Ныне затоптано в землю! Нежные вздохи Лыжами служат моим сапогам, Вместе с плевком вспорхнули на воздух! Это не сад, а изжога любви, Любви с семенами подсолнуха.5 ноября 1921
Берег невольников*
Невольничий берег, Продажа рабов Из теплых морей, Таких синих, что болят глаза, надолго Перешел в новое место: В былую столицу белых царей, Под кружевом белым Вьюги, такой белой, Как нож, сослепа воткнутый кем-то в глаза. Зычно продавались рабы Полей России. «Белая кожа! Белая кожа! Белый бык!» – Кричали торговцы. И в каждую хату проворнее вора Был воткнут клинок Набора. Пришли; смотрят глупо, как овцы, Бьют и колотят множеством ног. А ведь каждый – у мамыньки где-то, какой-то Любимый, дражайший сынок. Матери России, седые матери, – Войте! Продаватели Смотрят им в зубы, Меряют грудь, Щупают мышцы, Тугую икру. «Повернись, друг!» Врачебный осмотр. Хлопают по плечу: «Хороший, добрый скот!» Бодро пойдет на уру Стадом волов, Пойдет напролом, Множеством пьяных голов, Сомнет и снесет на плечах Колья колючей изгороди, И железным колом С размаха, чужой Натыкая живот, Будет работать, Как дикий скот Буйным рогом. Шагайте! С Богом! Прощальное баево. Видишь: ясные глаза его Смотрят с белых знамен. Тот, кому вы верите. «Бегает, как жеребец. Рысь! Сила! Что, в деревне, Чай, осталась кобыла? Экая силища! Какая сила! Ну, наклонись!» Он стоит на холодине наг, Раб белый и голый. Деревня! В одежды визга рядись! Ветер плачевный Гонит снега стада На молодые года, Гонит стада, Сельского хама рог, За море. Кулек за кульком, Стадо за стадом брошены на палубу, Сверху на палубы строгих пароходов, Мясо, не знающее жалости, Не знающее жалобы, Бросает рука Мировой наживы Игривее шалости. Страна обессынена! А вернется оттуда Человеческий лом, зашагают обрубки, Где-то по дороге, там, на чужбине, Забывшие свои руки и ноги. (Бульба больше любил свое курево в трубке.) Иль поездами смутных слепцов Быстро прикатит в хаты отцов. Вот тебе и раз! Ехал за море С глазами, были глаза, а вернулся назад без глаз. А он был женихом! Выделка русской овчинки! Отдано русское тело пушкам – В починку! Хорошая починка! В уши бар белоснежные попал Первый гневный хама рев: Будя! Русское мясо! Русское мясо! На вывоз! Чудища морские, скорее! А над всем реют На знаменах Темные очи Спаса Над лавками русского мяса. Соломорезка войны Железной решеткою Втягивает Все свежие И свежие колосья С зернами слез Великороссии. Гнев подымался в раскатах: Не спрячетесь! Не спрячетесь! Те, кому на самокатах Кататься дадено В стеклянных шатрах, Слушайте вой Человеческой говядины, Убойного и голубого скота. «Где мои сыны?» – Несется в окно вой. Сыны! Где вы удобрили Пажитей прах! Ноги это, ребра ли висят на кустах? Старая мать трясет головой. Соломорезка войны Сельскую Русь Втягивает в жабры. «Трусь! Беги с полей в хаты»,– Кричит умирающий храбрый. Через стекло самоката В уши богатым седокам самоката, Недотрогам войны, Несется: «Где мои сыны?» Из горбатой мохнатой хаты. Русского мяса Вывоз куй! Стала Россия Огромной вывеской, И на нее Жирный палец простерт Мирового рубля. «Более, более Орд В окопы Польши, В горы Галиции!» Струганок войны стругает, скобля, Русское мясо. Порхая в столице Множеством стружек – Мертвые люди! П ароходы – чудовища С мерзлыми трупами Море роют шурупами, Воют у пристани, Ждут очереди. Нету сынов! Нету отцов! Взгляд дочери дикий Смотрит и видит Безглазый, безустый мешок С белым оскалом, В знакомом тулупе. Он был родимым отцом В далекой халупе. Смрадно дышит, Хрипит: «Хлебушка, дочка» <. . . . . . . . . . . . . . .> Обвиняю! Темные глаза Спаса Белых священных знамен, Что вы трепыхались Над лавками русского мяса Молча И не было упреков и желчи В ясных божественных взорах, Смотревших оттуда. А ведь было столько мученья, Столько людей изувечено! И слугою войны – порохом Подано столько печенья Из человечины Пушкам чугунным. Это же пушек пирожного сливки, Сливки пирожного, Если на сучьях мяса обрывки, Руки порожние – Дали… Сельская голь стерегла свои норы. Пушки-обжоры Саженною глоткой, Бездонною бочкой Глодали, Чавкая, То, что им подано Мяса русского лавкой. Стадом чугунных свиней, Чугунными свиньями жрали нас Эти ядер выше травы скачки. Эти чугунные выскочки, Сластены войны, Хрустели костями. Жрали и жрали нас, белые кости, Стадом чугунных свиней. А вдали свинопас, Пастух черного стада свиней, – Небо синеет, тоже пьянея, Всадник на коне едет. Мы Были жратвой чугуна, Жратвою, – жратва! И вдруг Же завизжало, Хрюкнуло, и над нею братва, как шершнево жало, Занесла высоко Кол Священной Огромной погромной свободы. Это к горлу Же Бэ Приставило нож, моря тесак, Хрюкает Же и бежит, как рысак. Слово «братва», цепи снимая Работорговли, Полетело, как колокол, Воробьем с зажженным хвостом В гнилые соломенные кровли. Свободы пожар! Пожар. Набат. Хрюкнуло Же, убежало. – Брат! Слово «братва» из полы в полу, точно священный огонь, На заре Из уст передавалось В уста, другой веры завет Шепотом радости тихим. Стариковские, бабьи, ребячьи шевелились уста. Жратва на земле Без силы лежала, Ей не сплести брони из рогож. И над нею братва Дымное местью железо держала, Брызнувший солнцем ликующий нож. Скоро багряный Дикой схваткой двух букв, Чей бой был мятежен, Азбуки боем кулачным Кончились сельской России Молитвы, плач их. Погибни, чугун окаянный! И победой Бэ, Радостной, светлой, Были брошены трупные метлы, Выметавшие села, И остановлен Войны праздничный бег, Работорговли рысь. Дикие, гордые, вы, Хлынув из горла Невы, В рубахах морской синевы, На Зимний дворец, Там, где мяса главный купец За черным окном, Направили дуло. Это дикой воли ветер, Это морем подуло. Братва, напролом! Это над морем «Аврора» Подняла: «Наш». «Товарищи! Порох готовлю». Стой, мертвым мясом Торговля. Браток, шарашь! Несите винтовок, Несите параш В Зимний дворец. Годок, будь ловок. Заводы ревут: на помощь. Малой? Керенского сломишь? В косматой шкуре греешь силы свои. Как слоны, высоко подняв хоботы, Заводы трубили Зорю Мировому братству: просыпайся, Встань, прекрасная конница, Вечно пылай, сегодняшняя бессонница. А издалека, натягивая лук, прошлое гонится. Заводы ревут: «Руки вверх» богатству. Слонов разъяренное стадо. <. . . . . . . . . . . . . . .> Зубы выломать… Глухо выла мать: Нету сына-то, Есть обрубок. И целует обрубок… Колосья синих глаз, Колосья черных глаз Гнет, рубит, режет Соломорезка войны.Ноябрь 1921
Ночь перед Советами*
I
Сумрак серый, сумрак серый, Образ – дедушки подарок. Огарок скатерть серую закапал. Кто-то мешком упал на кровать, Усталый до смерти, без меры. В белых волосах, дико всклокоченных, Видна на подушке большая седая голова. Одеяла тепло падает на пол. Воздух скучен и жуток. Некто притаился, Кто-то ждет добычи. Здесь не будет шуток, Древней мести кличи! И туда вошло видение зловещее. Согнуто крючком, Одето как нищая. Хитрая смотрит, Смотрит хитрая! «Только пыли вытру я. Тряпки-то нет!» Время! Скажи! Сколько старухе Минуло лет? В зеркало смотрится – гробы. Но зачем эти морщины злобы? Встала над постелью С образком девичьим, Точно над добычей Стоит и молчит. «Барыня, а барыня!» – «Что тебе? Ключи?» Лоб большой и широкий, В глазах голубые лучи, И на виски волосы белые дико упали, Красивый своей мощью лоб окружая, обвивая. «Барыня, а барыня!» – «Ну что тебе?» – «Вас завтра повесят! Повисишь ты, белая!» Раненым зверем вскочила с кровати: «Ты с ума сходишь? Что с тобой делается? Тебе надо лечиться».– «Я за мукой пришла, мучицы… Буду делать лепешки. А времени, чай, будет скоро десять. Дай барыню разбужу».– «Иди спать! Уходи спать ложиться! Это ведьма, а не старуха. Я барину скажу! Я устала, ну что это такое, Житья от нее нет, Нет от нее покоя!» Опустилась на локоть и град слез побежал. «Пора спать ложиться!» Радостный хохот В лице пробежал! Темные глазки сделались сладки. «Это так… Это верно… кровь у меня мужичья! В Смольном не была, А держала вилы да веник… Ходила да смотрела за кобылами. Барыня, на завтра мне выдайте денег. Барыня, вас завтра Наверно повесят…» Шепот зловещий Стоит над кроватью Птицею мести далеких полей. Вся темнота, крови засохшей цвета. И тихо уходит, Неясное шамкая: «На скотном дворе работала Да у разных господ пыль выметала, Так и умру я, Слягу в могилу Окаянною хамкою».II
В Смольном девицей была, белый носила передник, И на доске золотой имя записано, первою шла. И с государем раза два или три, тогда был наследник, На балу плясала в общей паре. После сестрой милосердия спасала больных В предсмертном паре, в огне, В русско-турецкой войне Ходила за ранеными, дать им немного ласки и нег. Терпеливой смерти призрак, исчезни! И заболела брюшною болезнью, Лежала в бреду и жажде. Ссыльным потом помогала, сделалась красной. Была раз на собраньи прославленной «Воли Народной» опасно как! – На котором все участники позже – Каждый! – Качались удавлены Шеями в царские возжи. Билися насмерть, боролись Лучшие люди с неволей. После ушла корнями в семью: Возилась с детьми, детей обучала. И переселилась на юг. Дети росли странные, дикие, Безвольные, как дитя, Вольные на всё, Ничего не хотя. Художники, писатели, Изобретатели. Отец ее был со звездою старик, Бритый, высокий, холодный. Теперь в друг друга, рукой книги и ржи, Обе Вонзили ножи: Исчадье деревни голодной и сама столица на Неве, ее благородие. Мучения ножик и наслаждения порхал, муки и мести. Глаза голубые и глаза темной жести. Баба и барыня, Обе седые, в лохматых седых волосах Да у барыни губы в белых усах, Радовались неге мести и муки. Потом долго ломала барыня руки На грязной постели. «Это навет!» А на кухне угли самовара Уж засвистели. «Скоро барин прийдет, Пусть согреет живот».III
Старуха Снова пришла, но другая. «Слухай, барыня, слухай, Побалакай со старухой! Бабуся моя, Как молодкой была, Дородной была. И дородна и бела, Чернобровая, Что калач из печи! что пирог! Славная девка была. Бела и здорова, Другую такую сыщи! А прослыла коровой. Парни-хлыщи! Да глаза голубые веселухи закаянной! А певунья какая! Лесной птицы Глотка звонче ее. Заведет, запоет и с ума всех сведет. Утром ходит в лесу, Свою чешет косу, И запоет! Бредят борзые и гончие. Барин коня своего остановит, Рубль серебряный девке подорит. Барин лихой, седые усы… А барин наш был собачар. Псарню большую имел. И на псарне его Были черные псы да курчавые, Были белые все, Только чуточку ржавые. Скачут как бесы, лижут лицо, Гнутся и вьются как угри в кольцо. А сколько визга, а сколько лая! Охота была удалая, Барыня милая! воют в рога, Скачут и ищут зайца-врага. Белый снежочек, Скачет комочек – Заячьи сны, Белый на белом, Уши черны. Вот и начался по полю скок! Тонут в пыли Черные кони и бобыли! Тонут в сугробах и тонут! Гончие воют и стонут! Друг через друга Псы перескакивают, Кроет их вьюга, Кого-то оплакивают, Стонут и плачут. А барин-то наш скачет… и скачет, Сбруей серебряной блещет, Черным арапником молотит и хлещет. Зайчиха дрожит, уже вдовушка. Людям люба заячья кровушка! Зайца к седлу приторочит, Снежного зайца, нового хочет. Или ревет, заливается в рог. Лютые псы скачут у ног. Скачут поодаль холопы любимые. Поле белехонько, только кусточки. Свищут да рыщут, Свеженьких ищут собачин рточки. С песней в зубах, в зенках огонь! Заячий кончится гон, Барин удалый к бабе приедет, Даст ей щеночка: «Эй, красота! Вот тебе сын али дочка, Будь ему матка родимая. Барскому псу дай воспитание». Барину псы дорогая утеха, а бабе они – испытание! Бабонька плачет, Слезками волосы русые вымоет. Песик весь махонький – что голубок! Барская милость – рубль на зубок. «Холи и люби, корми молоком! Будет тебе богоданным сынком». Что же поделает бабонька бедная? Встанет у притолки бледная И закатит большие глаза – в них синева. Отшатнется назад, Схватит рукою за грудь И заохает, и заохает! Вся дрожит. Слезка бежит, Точно ножом овцу полоснули. Ночь. Все уснули. Плачет и кормит щеночка-сыночка Всю ночку – Барская хамка, песика мамка! – Чужие ведь санки! Барин был строгий, правдивой осанки, С навесом суровым нависших бровей, И княжеских, верно, кровей. Был норовитый, Резкий, сердитый, Кудри носил серебристые – Помещик был истый, Длинные к шее спускались усы. – Теперь он давно на небеси, Батюшка-барин! Будь земля ему пухом! Арапник шуршал: шу да шу! полз ровно змей. Как я заслышу, Девчонка, застыну и не дышу, Спрячуся в лен или под крышу. Шепчет как змей: «Не свищу, а шкуру спущу». А барин арапником Вдруг как шарахнет Холопа по морде! Помещик был истый да гордый. И к бабке пришел: «На, воспитай! Славный мальчик, крови хорошей, А имя – Летай! Щенка, стерегись, не души! Немилость узнаешь барской души! Эй, гайдуки! Дайте с руки! Из полы в полу!» И вот у бабуси щеночек веселый. А от деда у ней остался мальчишка, Толстый да белый, ну словно пышка, Взять бы и скушать! Глаза голубые. Дед-то, вишь, помер, зачах, Хоть жили оба на барских харчах! Сидит на скамейке, Ерошит спросонку Свои волосенки. Такой кучерявый, такой синеглазый, Игры да смех, любит проказы! Бабка заплакала. Вся побледнела. И зашаталась, Бросилась в ноги, Серьгою звеня! «Барин, а барин! спасите меня!» Ломит, ломает белые руки! Кукиш! матушка-барыня, кукиш! «Арапником будет спаситель, Ты ему матка, Кабыздох был родитель». Вот и вся взятка! Кукиш. Щеночек сыночком остался. Хлопнулась о пол, забились в падучей. Барин затопал, Стукнул палкою. Угрюмый ушел, не прощаясь, без ласки! Брови как тучи.* * *
Вот и жизнь началась! Так и заснули втроем, Два ведра на коромысле: черный щенок и сынок милоокий. На одной руке собака повисла, Тявкает, матерь собачую кличет, Темного волоса ищет, Сладко заснул зайцев сыщик! Грезит про снежное поле и скачку, Храпит собачка. А на другой Папаня родимый обнял ручками грудь, Ротиком в матерь родимую тычет, Песни мурлычет, Глаза протирает и нежится – Родненький Темной возле родинки. Или встает и сам с собою играет, Во сне распевает. Грезит, поет малое дитя, Ручкою тянет матери грудь. Жуть! Греет ночник. Здесь собачища С ртищем Зайчище ловить, в зубищах давить. А там мой отец ровно скотец На материнскую грудь Разевает свой ртец, Ейную грудку сосет мальчик слюнявый. И по сонной реке две груди – два лебедя плывут. А рядом повиснул щенок будто рак и чернеет, лапки-клешни! Чмок да чмок! мордашкой звериной в бабкину грудь. Тяв да тяв, чернеет, всю искусал… собачьими зубками, царапает. А рядом отец, бедный дурак… сирота соломенный, Горемычный, то весь смеется, то слезками капает. Вот и кормит всю ночку бабка, бабуся моя, Щеночка-сыночка. Да вскрикнет! А после жутко примолкнет, затихнет. На груди своей матушки и собачьей няни Бедный папаня прилег. Дитя – мотылек! Грудь матери – ветка. Песик, шелковый, серый, курчавый комок, Теплым греет животиком, Сладким нежится котиком, А рядом папаня К собачьей няне И матери милой курчавится. Детским тянется ротиком К собачьей няне. Бьет, веселится мальчонка, Колотит в ручонки, Целуется да балуется! тянется – замер. К матери, что темнеет на подушке большими, как череп, глазамг Чье золото медовое волнуется, чернеет – Рассыпалось на грудь светлыми, как рожь, волосами, Прилез весь голенький, сморщенный, глазками синея, Красненьким скотиком, Мальчик кудрявенький, головой белобрысой, белесой В грудку родимую тычет. А в молоке нехватка и вычет! Матери неоткуда его увеличить! И оба висят как повешенные. Лишь собачища Сопит, Черным чутьем звериным Нежную ищет сонную грудь, ползет по перинам. Мать… у нее на смуглом плече, прекрасно нагом, Белый с черными пятнами шелковый пес! Имя ему – Летай-Кабыздох! А на другом, Мух отгоняя, Мой папаня Над головкою сонною ручку занес… Чмокает губками сонными. Вот и плачет она тихо каждую ночку, Слезы ведрами льет. Грудь одна ее, знай, – милому сыну ее синеглазому, Что синие глазки таращит и пучит. А другую сосет пес властелина ее. Шелковый цуцик Кровь испортил молодки невинную. «Зачем я родилася дочкой?» И по ночам в глазах целые ведра слез. Бабка как вскочит босая, Да в поле, да в лес! темной ночкой, а буря шумит! И леший хохочет. И, бог сохрани, потревожить! – Мачехой псу быть не может! Вот и стала мамкой щеночка. Вот и плачет всю ночку. Осеннею ночкой – ведра слез! Черный шелковый комок на плечо ей слез И зараз чмок да чмок. Собачье дитя и человечье, А делать нечего! Захиреешь в плетях, Засекут, подашь если в суд! – штаны снимай! Сдерут кожи алый лоскут, положат на лавку! Здесь выжлец, с своим хвостищем, А здесь мой отец, возле матери нищим! Суседские дети мух отгоняли. Барыня милая! Так-то в то время холопских детей С нечистою тварью равняли. Так они вместе росли, щенок и ребенок.* * *
И истощала же бабка! Как щепка. Задумалась крепко! Стала худеть! Бела как снежок Стала, белей горностаюшки. В чем осталась душа? Да глазами молодка больно хороша! Мамка Летая Как зимою по воду пойдет да ведра возьмет – Великомученица ровно ходит святая! В черной шубе. Прозрачною стала, да темны глаза. Свечкою тает и тает. Лишь глаза ее светят как звезды, Если выйдет зимою на воздух. Не жилец на белом свете, Порешили суседи! А Летай вырос хорош, День ото дня хорошея! Всегда беспокойный, Статный, поджарый, высокий, стройный! Скажут Летаю, прыгнет на шею! И целует тебя! по-собачьи. Быстрых зайцев давил как мышей, Лаял; Барин в нем души не чаял! «Орлик, цуцик! цуцик!» И кормит цыплятами из барских ручек. Всех наш Летай удивил. А умный! Даром собачьих книг нет! Вечно то скачет, то прыгнет! Только папаня, в темный денек, Раз подстерег И на удавке и удавил. И повесил Перед барскими окнами. У барина перед окнами – Отродье песье Висит. Где его скок удалой, прыть! «Чтобы с ним господа передохнули, Пора им могилу рыть!» Утром барин встает, А на дворне вой! Смотрит: пес любимый, Удавленный папой, Висит как живой, Крутится, Машет лапой. Как осерчал! Да железной палкой в пол застучал: «Гайдук! Эй! Плетей!» Да плетьми, да плетьми! Так и папаню Засек до чахотки, Кашель красный пошел! На скамейке лежит – В гробу лежат краше! А бабку деревня Прозвала Собакевной. Сохнуть она начала, задушевная! Нет, не уйти ей от барского чиха! Рябиною стала она вянуть и сохнуть! Первая красавица, а теперь собачиха. Встанет и охнет: «Где вы, мои золотые Дни и денечки! Красные дни и годочки, Желтые косы крутые?» Худая как жердь, Смотрит как смерть. Все уплыло и прошло! И вырвет седеющий клок. И стала тянуть стаканами водку, Распухшее рыло. Вот как оно, барыня, было! Чорта ли? Женскую грудь собачонкою портили! Бабам давали псов в сыновья, Чтобы кумились с собаками. Мы от господ не знали житья! Правду скажу: Когда были господские, Были мы ровно не люди, а скотские. Ровно корова! Бают, неволю снова Вернуть хотят господа? Барыня, да? Будет беда, Гляди, будет большая беда! Что говорить, Больше не будем с барскими свиньями есть из корыт!»IV
Пришла и шепчет: «Барыня, а барыня!» – «Ну что тебе, я спать хочу!» – «Вас скоро повесят! Хи-их-хи! их-хи-хи! За отцов за грехи!» Лицо ее серо точно мешок И на нем ползал тихо смешок! «Старуха, слушай, пора спать! Иди к себе! Ну что это такое, Я спать хочу!» Белым львом трясется большая седая голова. «Ведьма какая-то, Она и святого взбесит». «Барыня, а барыня!» – «Что тебе?» – «Вас скоро повесят!» Барин пришел. Часы скрипят. Белый исчерченный круг. – «Что у вас такое? Опять?» – «Барин мой миленький, Я на часы смотрю, Наверное, скоро будет десять!» – «Прямо покоя нет. Ну что это такое: Приходит и говорит, Что меня завтра повесят».V
В печке краснеет пламя зари, Ходит устало рука; Как кипяток молока, белые пузыри над корытом, облака. Льются мыльные стружки, льется мыльное кружево, Шумные, лезут наружу вон. А голубое от мыла корыто Горами снега покрыто, Липовое корыто. Грязь блестела глазами цыганок. Пены белые горы, как облака молока, на руки ползут, Лезут наверх, громоздятся. Добрый грязи струганок, Кулак моет белье, Руки трут: Это труд старой прачки. Синеет вода. Рубанок белья эти руки «Эх, живешь хуже суки!» Долго возиться с тряпками тухлыми. Руки распухли веревками жил, голубыми, тугими и пухлыми. Дворник трубкой попыхивает, золотым огнем да искрами. Лесной бородач, из Поволжья лесистого, В доме здесь он служил. Белый пар из корыта Прачку закрыл простыней, Облаком в воздухе встал, Причудливым чудищем белым. Прачки лицо сумраком скрыто. К рукам онемелым, Строгавшим белье, Ломота приходит – знать, к непогоде. В алые зори печки огонь пары распустил. На веревках простыни, штаны белели.VI
«Дело известное. – Из сословья имущего! А белье какое! Не белье, а облако небесное! А кружева, а кружева на штанах – Тьма господняя, – Тьма тьмущая. 354 Вчера и сегодня Ты им услуживай, А живи в сырых стенах Вот я и мучаюсь, Стирать нанята, Чтобы снежной мглою Зацвели Подштанники».Ноябрь 1921
Уструг Разина*
Где море бьется диким неуком, Ломая разума дела, Ему рыдать и грезить не о ком, Оно, морские удила Соленой пеной покрывая, Грызет узду людей езды. Так девушка времен Мамая, С укором к небу подымая Свои глаза большой воды, Вдруг спросит нараспев отца – На что изволит гневаться? Ужель она тому причина, Что меч суровый в ножны сует, Что гневная морщина Его лицо сурово полосует, Согнав улыбку точно хлам, Лик разделивши пополам? По затону трех покойников, Где лишь лебедя лучи, Вышел парусник разбойников Иступить свои мечи. Засунув меч кривой за пояс, Ленивою осанкою покоясь, В свой пояс шелково-малиновый Кремни для пороха засунув, Пока шумит волны о сыне вой Среди взволнованных бурунов. Был заперт порох в рог коровы, На голове его овца. А говор краткий и суровый Шумел о подвигах пловца. Как человеческую рожь Собрал в снопы нездешний нож. Гуляет пахарь в нашей ниве. Кто много видел, это вывел. Их души, точно из железа, О море пели как волна, За шляпой белого овечьего руна Скрывался взгляд головореза. Умеет рукоять столетий Скользить ночами точно тать Или по горлу королей Концом свирепо щекотать. Или рукой седых могил Ковать столетья для удил. И Разина глухое «слышу» Подымется со дня холмов, Как знамя красное взойдет на крышу И поведет войска умов.* * *
И плахи медленные взмахи Хвалили вольные галахи. Была повольницей полна Уструга узкая корма. Где пучина, для почина Силу бурь удесятеря, Волги синяя овчина На плечах богатыря. Он стоит полунагой, Горит пояса насечка, И железное колечко Опускается серьгой. Не гордись лебяжьим видом, Лодки груди птичий выдум! И кормы, весь в сваях угол, Не таи полночных пугал. Он кулак калек Москве кажет – во! Во душе его Поет вещий Олег. Здесь все сказочно и чудно, Это воли моря полк, И на самом носу судна Был прибит матерый волк. А отец свободы дикой На парчовой лежит койке И играет кистенем, Чтоб копейка на попойке Покатилася рублем. Ножами наживы Им милы, любезны И ветер служивый И смуглые бездны. Он невидим и неведом Быстро катится по водам. Он был кум бедноты, С самой смертью на ты. Бревен черные кокоры Для весла гребцов опоры. Сколько вражьих голов Срубил в битве галах, Знает чайка-рыболов, Отдыхая на шестах. Месяц взял того, что наго вор. На уструге тлеет заговор. Бубен гром и песни дуд. И, прославленные в селах, Пастухи ножей веселых Речи тихие ведут: «От отечества, оттоле Отманил нас отаман. Волга-мать не видит пищи. Время жертвы и жратвы. Или разумом ты нищий, Богатырь без головы? Развяжи кошель, и грош Бедной девки в воду брось! Нам глаза ее тошны. Развяжи узлы мошны. Иль тебе в часы досуга Шелк волос милей кольчуги? Куксит, плачет целый день. Это дело – дребедень. Закопченою девчонкой Накорми страну плотвы. В гневе праведном серчая, Волга бьется, правды чая. Наша вера – кровь и зарево. Наше слово – государево». Богатырь поставил бревна Твердых ног на доски палубы, Произнес зарок сыновний, Чтоб река не голодала бы. Над голодною столицей Одичавших волн Воин вод свиреполицый, Тот, кому молился челн, Не увидел тени жалобы. И уроком поздних лет Прогремел его обет: «К богу-могу эту куклу! Девы-мевы, руки-муки, Косы-мосы, очи-мочи! Голубая Волга – на! Ты боярами оболгана!» Волге долго не молчится, Ей ворчится как волчице. Волны Волги точно волки, Ветер бешеной погоды. Вьется шелковый лоскут. И у Волги у голодной Слюни голода текут. Волга воет, Волга скачет Без лица и без конца. В буревой волне маячит Ляля буйного донца. «Баба-птица ловит рыбу, Прячет в кожаный мешок. Нас застенок ждет и дыба, Кровь прольется на вершок». И морю утихнуть легко, И ветру свирепствовать лень. Как будто веселый дядько По пояс несется тюлень. Нечеловеческие тайны Закрыты шумом точно речью. Так на Днепре, реке Украйны, Шатры таились Запорожской Сечи. И песни помнили века Свободный ум сечевика. Его широкая чуприна Была щитом простолюдина, А меч коротко-голубой Боролся с чортом и судьбой.19 января 1922
Переворот в Владивостоке*
День без костей. Смена властей… Переворот. Линяют оборотни; Пешие толпы, конные сотни. В глубинах у ворот, В глубинах подворотни, Смуглый стоит на русских охотник. Его ружье листом железным Блестит, как вечером болото. И на губах дыханье саки И песня парней Нагасаки. Здесь боевое, служебное место, А за волною – морская невеста. У самурая Смотрел околыш боем у Цусимы. Как повесть мести, полный гневом, Блестел. «Идите прочь» – неслась пальбы суровой речь, Речь, прогремевшая в огне вам! Над городом взошел заморский меч. И он, как месяц молодой, Косой, кривой… Сноп толп, косой пальбы косимый, Он тяжко падал за улицы на свалку. Переворот… Дыхание Цусимы, Тела увозят на двуколке. И алое в бегах. Торопится, течет, спешит рекою до зареза Железо и железо! Где зелень прежняя? Трава бывалая? И знамя алое? И ты, зеленый плащ пророка? Тебя забыл дол Владивостока! Он, променяв для новых дел, Железною щетиной поседел! Как листьями рагоз покрытое болото, Ряды пехоты идут спокойно, молчаливо. На суд очей далекого залива Проходит тесная пехота. Настойчив, меток Ком дроби беглых глаз! И город взят зарядом Упорной сотни глаз. И пыль, взметенная снарядом, Опять спокойно улеглась. И мертвых ищет водолаз. Потом встает, в морских растениях, И видят все: он поседел И выпал снег на строгом бобрике. С народом морозов – народы морей! Боги мороза – на лыжи скорей! Походка тверда самурая, Праздника битвы уснувшего края. А волны пели: звеним! звеним! Вприпрыжку шашка шла за ним. Как воробей, скакала по камням мостовой И пищи искала – кто здесь живой? Вот песнь: меняйте смерть на беглеца, Два жребия пред вами, Кому поссориться случилось! Бывало, босая девчонка спешит за мальчишкой Вприпрыжку, босая, кляня Проказы юных лет! О камни звеня, Так шашка волочилась вслед! Пускай белила, дерзкий снег лица, На скулы выпали ему, Разрез очей и темен, и жесток. Пускай сукно зеленого покроя, Знакомого войскам земного шара образца, Одеждою военною служило, Окраской полевых пространств, А шашка нежность разделила С нарядной записною книжкой, Где тангенсы и косинусы, Женой второй, ревнуя, ссорясь, Но старый бог войны, блеснув сквозь облака Улиц Владивостока, вздымал на воздух голубка, Сквозя сквозь воина стекло Видением ужасным. Виденьем древнего лубка, Глаза косые подымая, Достойным воином Мамая Он проходил, высокий горец. В нем просыпались старые ножа сны И дух войны, смертей счета И пулеметов строгое «та-та!» В броне из телячьих копыт Он сошел с островного лубка, И червем шелковым шиты Голубые одежды его облака. Где мертвые русы, старой улицы бусы, – Желтые бесы; пушки выстрелом босы. Гопак пальбы по небу топал, Полы для молний сотрясал Широких досок синевы, Полы небесной половицы. Смычок ходил Амура и Невы, Огня сверкала полоса. И сладко ловить, и сладко ловиться! Паре глаз чужого бога, Шуму крыл – улыбка дань! Там, где темная дорога, В сердце нежность и тревога, Быстры уличные лица, Сладко верить и молиться, Темной улице молиться! Бьется шашка его о пол, Умный черный глаза пепел. Море подняло белого выстрела бивень, Море подняло черного зарева хобот, Ока косого падает ливень, Город пришельцами добыт. Глаз косой, глаз-ручей Льется, шумит и бежит. Насмешливой улыбкой улыбайся, Глаз, привешенный седой головою китайца! В ночном лесу военных зарев Он стукнул в дверь, рукой ударив. Повторный удар кулака, Это в дверь застучала опять <Рука> моряка, Его боевая рука, ночной шум в облака. И падал град на град, Не с голубиное яйцо, как полагается, А величиною в скорлупу умершей птицы Рук, Охотницы воздушной за слонами, Дедов смутной грозы, может быть грезы, Несущей слонят в своих лапах. Слоны исчезали, как зайцы, Почуяв ее приближавшийся запах. Они бежали табунами в страну Сибири и березы, Страшнее не видали сов они, Желтым костром глаз очарованы, Совы слонов! Пришел немного пьяный и веселый, Горел, желтел огонь околыша, И кукла войн за ним, и кто-то шел еще. Что хочет он у «русской няни»? Стоит и дверь за ручку тянет. «Моя играй-играя С тобою мало-мало». В такую пору ждать гостей? Кто он? Быть подпоркой двери нанят? Кто он, в полночь? Только стук. Нет ответа, нет вестей! Деревце вишневое, щебетавшее «да», Вишня в лучах золотого заката, Бог войны, а с ним беда, Стукнул в двери твоей хаты! В старом городе никого нет, город умер и зачах, Бабочка голубая, в золотых лучах! Черные сосны в снегу, Черные сосны над морем, черные птицы на соснах, Это ресницы. Белое солнце, Белое зарево, Черного месяца ноша, Это глаза. Золотая бабочка Присела на гребень высокий Золотого потопа, Золотой волны. Это лицо. Брызгами дерево, Золотая волна золотого потопа, Сотнями брызг закипела, Набежала на кручу Золотой пучины. Золотая бабочка Тихо присела на ней отдохнуть, На гребень морей золотой Волны закипевшей. Это лицо. Это училось синее море у золотого, Как подыматься и падать, И закипать и рассыпаться золотыми нитями, Золотыми брызгами, золотыми кудрями Золотого моря, Золотыми брызгами таять На песке морском Около раковин моря. Косая бровь все понимала, «Моя играй-играя Мало-мало». Око косое бога войны Старой избы окном покосилось, Спрятано в бровях лохматых, Белою мышью смотрело. Он замер за дверью, лучше котов Прыжок на добычу сделать готов. Пела и билась железная шашка, Серебряной билась игрой. За дверью он дышит и замер И смотрит косыми глазами. «Моя тебя не знай! Моя тебя видай-видай! Моя с тобой играя мало-мало?» Осада стен глухих речами! Их двое, полузнакомы они, Ведут беседу речью ломаной. Он знает слабые места Нагого тела, нагого воина проломы. Он знает ямку живота, Куда летит удар борца Прямою вилкой жестких пальцев, Могилы стук без обиняка! Летит наскок наверняка! Умеет гнуть быстрей соломы тела чужие Он, малый и тщедушный, Ровесник в росте с малышами, Своей добычею послушной Играет телом великана! Одним лишь знаньем тайн силач, Упругим мячиком ловкач, Играет телом великана, Умеет бросить наземь мясо, Чужой утес костей и мяс. Рассыпаться стеклом стакана В пространство за ушами, Двумя лишь пальцами вломясь, Его умел, косой, без брони, Косой удар ребром ладони. Ломая кости пополам, Чужой костяк бросать на слом, Как будто грохнувший утес, Угаром молнии коснувшись кадыка, Приходом роковой падучей На землю падать учит Его суровая рука. Иль сделав из руки рога, Убийце выколоть глаза, Его проворно ослепить Наскоком дикого быка И радость власти тихо пить. И пальцам тыл согнув богатыря, Приказ ума удесятеря, Чтоб тела грохнулся обвал И ноги богу целовал. И пальцы хрупкие ломать, Согнув за самые концы, Убийцу весть покорнее теленка. Иль бросить на колени ниц Чужое мясо, чужой утес, Уже трусливый, точно пес. Иль руку вывернув ему, На пол-прямых согнувши локоть, Вести послушнее ребенка И за уши всадив глубоко ногти, Ухода разума позвать чуму И на устах припадок пены, Чтобы молитвою богам, Землею мертвою легли к его ногам Безумных сил беспомощные члены. Или чужие наклоняя пальцы, Победу длить и впредь и дальше! В опасные места меж ребер Он наносил удар недобер И, верный друг удачи, Нес сквозь борьбу решения итог, Как верный ход задачи: Всё, кроме ловкости, ничто! Четою птиц летевших Косые очи подымались кверху Под тонкими бровями. Как крылья, эти брови, как крылья в часы бури, Жестокие и злые, застывшие в полете. И красным цветком осени Были сложены губы. Небрежный рта цветок, жестокою чертой означен, На подбородок брошен был широкий, – Это воин Востока. Пыли морской островов, пыли морей странный посол, Стоял около двери, тихо стуча.<Весна 1922>
Синие оковы*
К сеням, где ласточка тихо щебечет, Где учит балясин училище с четами нечет, Где в сумраке ум рук – Господ<ь> кистей, Смех: – ай! ай! – лов наглых назойливых ос, Нет их полету костей, Злее людских плоскостей Рвут облака золотые У морей ученических кос. Жалобой палубы поднят вопрос: Кто прилетел, тихокрылый? Солнц И кули с червонцами звезд наменять На окрик знакомый: «Я не одета, Витюша, не смотрите на меня!» Ласточки две, Как образ семьи в красном куте, Из соломы и глины Вместо парчи Свили лачугу: Был взамен серебра Этих ласточек брак. Синие в синем муху за мухой ловили, Ко всему равнодушны – и голосу Кути, И рою серебряной пыли, К тому, что вечером гаснут лучи, Ясная зайчиков алых чума. В зелени прежней – кладбище света, темнеет пора. Вечер. И соня махала крылом, щебеча. За садом, за улицей говор на «ча»: «Чи чадо сюда прилетело? Мало дитя!» Пчелы телегу сплели! Ласточки пели «цивить!» Черный взор нежен и смугол. Синими крыльями красный закутан был угол. Пчелы тебя завели. Будет пора и будет велик Голос: моря – переплыть И зашатать морские полы Красной Поляны Лесным гопаком, О ком Речи несутся от края до края, Что брошено ими «уми» Из «умирая». И эта весть дальше и больше Пальцами Польши, Черных и белых народов Уносит лады В голубые ряды Народов, несущихся в праздничном шуме, Без проволочек и проволочек. С сотнями стонными Проволок ящик (С черной зеркальной доской). Кто чаровал Нас, не читаемых в грезах, А настоящих, Бросая за чарами чары вал. И старого крова очаг, Где город – посмешище, Свобода – седая помещица, Где птицам щебечется, Бросил, как знамя, Где руны: весна – Мы! Узнайте во сне мир! Поссорившись с буднями, Без берега нив Ржаницы с ржаницей Увидеться с студнями, Их носит залив, Качает прилив, Где море рабочее вечером трудится – Выбивает в камнях своё – восемь часов! Разбудится! Солнце разбудится! Заснуло, – На то есть будильник Семи голосов, веселого грома, Веселого хохота, воздушного писка. Ограда, – на то есть Напильник, А ветер – доставит записку. На поиск! На поиск! Пропавшего солнца. Пропажа! Пропажа! Пропавшего заживо. В столбцах о краже Оно такое: Немного рыжее, Немного ражее, Теперь под стражею. Веселое! В солнцежорные дни Мы не только читали, Но и сами глотали Блинами в сметане И небесами другими, Когда дни нарастали На масляной. Это не море, это не блин, Это же солнышко Закатилось сквозь вас с слюной. Вы здесь просто море, А не масляничный гость. Точно во время морского прибоя Дальняя пена ваши усы. Съел солнышко в масле и сыт. Солнце щиплет дни И нагуливает жир, Нужно жар его жрецом жрать и жить, Не худо, ежели около кусочек белуги, А ведь ловко едят его в Костроме и Калуге. Не смотри, что на небе солнце величественно, Нет, это же просто поверье язычества. Солнышко, радостей папынька! Где оно нынче? У чорта заморского запонка? Чорт его спрятал в петлицу? Выловим! Выловим! Выудим! Выудим! Кто же, ловкач, Дерзко выломит удочку? И вот девушка-умница, девушка-чудочко Самой яркой звездой земного погона Блеснула, как удочка, За солнцем В погоню, в погоню, Лесою блеснула. И будут столетья глазеть, Потомков века, На вас, как червяка. Солнышко, удись! Милое, удись! Не будь ослух Моляны Красной Поляны. И перелетели материк Расеи вы Вместе с Асеевым. И два голубка Дорогу вели крючку рыбака. А сам рыбак – Страдания столица – В знакомо синие оковы Себя небрежно заковал, Верней, другие заковали, И печень смуглую клевали Ему две важные орлицы И долгими ночами Летели дальше величаво. А вдалеке просты, легки Зовут мальчишки: «Голяки!» Ведь Синь и Голь В веках дружат И о нашествии Синголов Они прелестно ворожат, И речи врезались в их головы, В стакане черепа жужжат. Здесь богатырь в овчине, Похож на творца Петербурга, И милые дивчины, И корни падучей, летевшие зорко. Придет пора, И слухов конница По мостовой ушей несясь, Копытом будет цокать: Вы где-то там, в земле Владивостока, И жемчуг около занозы Безумьем запылавшей мысли, Страдающей четко зари, Двух раковин, небесной и земной, – Нитью выдуманных слез – Вы там, где мощное дыхание кита! Теперь из шкуры пестро золотой, Где яблок золотых гора, Лесного дикого кота Вы выставили локоть. Друзья! И мальчики! Давайте этими вселенными Играть преступно в альчики, И парусами вдохновенными Мы тронем аль чеки. Согласны? Стало, будет кон, Хотя б противился закон. И вот решения итог: Несите бабки и биток. Когда же смерти баба-птица Засунет мир в свой кожаный мешок, Какая вдумчивая чтица Пред смыслом слов отступится на шаг, Прочтя нечаянные строки? Осенняя синь и вы в Владивостоке, Где конь ночей отроги гор, Седой, взамен травы ест И наклонился низко мордой. И в звездном блеске шумов очередь, Ваш катится обратный выезд, Чтобы Москву овладивосточить. И жемчуг северной Печоры Таили ясных глаз озера, Снежной жемчужины – северный жемчуг. И выстрелом слов сквозь кольчугу молчания Мелькали великие реки, И бегали пальцы дороги – стучания По черным и белым дощечкам ночей. Вот Лена с глазами расстрела Шарахалась волнами лени В утесы суровых камней. Утопленник плавал по ней С опухшим и мертвым лицом. А там, кольчугой пен дыша, Сверкали волны Иртыша, И воин в северной броне Вставал из волн, ракушек полн, Давал письмо для северной Онеги. Широкие очи рогоз, Коляска из синих стрекоз Была вам в поездке Сибирью сколоченный воз. И шумов далекого моря обоз, Ухаров о камни задумчивых волн, Тянулся за вами, как скарб. Россия была уж близка. И честь отдавал вам сибирский мороз. Хотели вы не расплескать Свидания морей беседы говорливой Серебряные капли, Нечаянные речи В ладонях донести, Росой летя на крыльях цапли, Ту синеву залива, что Проволокой путей далече Искала слуха шуму бурь И взвизгов ласточек полету, И судей отыскать для вкуса ласточек гнезда морского, И в ухо всей страны Валдая, Где вечером Москва горит сережкой, Шепнуть проделки самурая, Что море куксило, страдая, Что в море плавают япошки; И подковав на синие подковы, Для дикой скачки Страну дороги Ермаковой, Чтоб вывезть прошлое на тачке. И сруб бревенчатый Сибири В ладу с былиною широкой Дива стоокого Вас провожал Нетряскою коляской Из сонма множества синих стрекоз. Шатер небес навесом был ночлега, В широкой радуге морозных жал Из синих мух, чьи крылья сверк морей, Везла вас колымага, Воздушная телега Олега! Олега! Любимца веков! Чтоб разом Был освещен неясный разум, И топот победы Сибири синих подков, И дерзкая другов ватага. Умеем написать слова любые На кладбище сосновой древесины. Я верю, многие не струсят Вдруг написать чернилами чернил Русалку, божество, И весь народ, гонимый стражей книг, Перчаткой белой околоточных. А вы чернилами вернил: – Верни! Верни! – На полотне обычных будней Умеете коряво начертать Хотя бы «божество», В неловком вымолве увидеть каменную бабу Страны умов, Во взгляде – степь Донских холмов? Не в тризне Сосен и лесов, Не на потомстве лесопилен И не на кладбище сосновом бора, А в жизни, жизни, На радуге веселья взора, На волнах милых голосов Скоро, споро Корявый почерк Начертать И, крикнув: «Ни черта!», – В глаза взглянуть городового, Свисток в ушах, ведь пишется живое слово, А с этим ссорится закон И пятит свой суровый глаз в бока! Начертана событий азбука – Живые люди вместо белого листа, Ночлег поцелуев ресница Вместо широкого поля страницы Для подписи дикой. Давайте из знакомых Устраивать зверинцы Задумчивых божеств, Чтобы решеткой дела Рассыпав на соломах, Заснувшие в истомах С стеклянным волосом тела, Где «да» и «нет» играло в дурачки, Где тупость спряталась в очки, Чтоб в наших дней задумчивой рогоже Сидели закутанные некто, Для неба негожи, На небо немного похожи, И граждане речи Стали граждане жизни. Не в этом ли, о песнь, бег твой? Как та дуброва оживлена, Сама собой удивлена, Сама собой восхищена, Когда в ней плещется русалка! И в тусклом звездном ситце, Усталая носиться, Так оживляет храмы галка! Бывало я, угрюмый и злорадный, Плескал, подкравшись в корнях ольхи, На книгу тела имя Ольги. Речной волны писал глаголы я, Она смеялась, неповадны Ей лица сумрачной тоски, И мыла в волнах тело голое. Но лишь придет да-единица, Исчезнет надпись меловой доски И, как чума, след мокрой губки Уносит всё мое «хочу» на душугубке, И ропот быстрых вод В поспешных волнах проворных строк, Неясной мудрости урок, Ведь не затем ли, Чтобы погоду в солнечный день обожествить В книге полдня, сейчас Ласточка пела «цивить!» В избе бревенчатой событий Порой прорублено окно – Стеклянных дел Задумчивое но. Бревенчатому срубу Прозрачнее окна Его прозрачные глаза На тайный ход событий Позволят посмотреть. Когда сошлись Глаголь и Рцы И мир качался на глаголе Повешенной Перовской Тугими петлями войны, Как маятник вороньих стай – Однообразная верста! Столетий падали дворцы, Одни осталися Асеевы, Вы, Эр, покинули Расею вы, И из России Эр ушло, Как из набора лишний слог, Как бурей вырвано весло… И эта скобок тетива Раскрытою задачей От вывесок пив и пивца Звала в Владивосток Очей Очимира певца. Охотники удачи! Друзья, исчислите, Какое Мыслете, Обещанное Эм, Размолов, как жернов, время В муку для хлеба, Его буханку принесут Мешочником упорным? Но рушатся первые цепи, И люди сразились и крепи Сурового Како! Как? Как? Как? Так много их: Ка…Ка…Ка… Идут, как новое двуногое, Колчак, Корнилов и Каледин. Берет могильный заступ беден, Ему могилу быстро роет: «Нас двое, смерть придет, утроит». Шагает Ка, Из бревен наскоро Сколоченное, То пушечной челюстью ляская, Волком в осаде, Ступает широкой ногою слона На скирды людей обмолоченные, Свайной походкой по-своему Шагает, шугая, шатается. От живой шелухи, Поле было ступою. Друзья моей дружины! Вы любите белым медведям Бросать комок тугой пружины: Дрот, Растаявши в желудке, Упругою стрелой, Как старый клич «долой», Проткнет его живот – И «вззы» кричать победе, Охотником по следу Сегодня медведей, а завтра ярых людведей. Людведи или хуже медведей? Охоты нашей недостойны? И свиста меткого кремневых стрел (Людведей и Синголов войны)? С людведем на снегу барахтаясь, Обычной жизни страх таись! Вперед! Вперед! Ватага! Вперед! Вперед! Синголы! Маячит час итога! Порока и святого Година встала Ужасной незнакомкою, Задачу с уравненьем комкая, Чего не следует понять иначе. Ошибок страшный лист у ней, В нем только грубые ошибки И ни одной улыбки. Те строки не вели к концу Желанной истины: Знак равенства в знакомом уравненьи Пропущен здесь, поставлен там. И дулом самоубийцы железная задача Вдруг повернулася к виску. Но Красной Поляны Был забытым лоскут? И черепа костью жеманною Година мотала навстречу желанному. Случалось вам лежать в печи Дровами Для непришедших поколений? Случалось так, чтоб ушлые и непришедшие века Были листом для червяка? Видали вы орлят, Которым черви съели Их жилы в крыльях, их белый снежный пух? Их неуклюжие прыжки взамен полета? Самые страшные вещи! Остальное – лопух! Телят у горла месяц вещий? Но не пришло к концу Желанной истины в старинном смысле уравненье, Поклонникам «ура», быть может, не к лицу. Прошел гостей суровый цуг, Друзей могилы. Карогого солнца лучи! Сколько их? Восьмеро? Плывут в своей железной вере? Против теченья страшный ход. Вы очарованы в железный круг – Метать чугунную икру. Ход до смерти – суровый нерест Упорных смерти женихов, Войны упорных осетров, Прибою поперек ветров. То впереди толпы пехот – Колчак, Корнилов и Каледин. В волнах чугунного Амура, Осоками столетий шевеля, Вас вывел к выстрелам обеден, Столетьем улыбаясь, Дуров. Когда блистали шашки неловки и ловки, Богов суровых руки играли тихо в шашки, Играли в поддавки. Шатаясь бревнами из звука, Шагала азбука войны. На них, бывало, я Сидел беспечным воробьем И песни прежние чирикал, Хоть смерти маятники тикали. Вы гости сумрачных могил, Вы говор струн на Ка, Какому голоду оков, Какому высушенному озеру Были в неудачной игре козыри? Зачем вы цугом шли в могилу? Как крышка кипятка, Как строгий пулемет, Стучала вслед гробов доска, Где птицей мозг летел на туловище слепой свободы. Прошли в стране, Как некогда Рутил, Вы гости сумрачных могил! И ровный мерный стук – удары в пальцы кукол. То смерть кукушкою кукукала, Перо рябое обнаружив, За сосны спрятавшись событий, В имёнах сумрачных вождей. Кук! Ку-кук! Об этом прежде знал Гнедов. Пророча, сколько жить годов, Пророча, сколько лет осталось, Кукушка азбуки в хвое имен закрыта, Она печально куковала. Душе имен доступна жалость Поры младенческой судьбы народов кукол Мы в их телах не замечали. Могилы край доскою стукал. А иногда, сменяя Ка, насмешливо лилося «Люли» Через окопы и за пули. Там жили колословы, Теперь оковоловы. Коса войны, чумы, меча ли Косила колос сел, И все же мы не замечали Другие синие оковы, Такие радостные всем. Вы из земли хотели Ка, Из грязи, из песка и глины, Скрепить устои и законы, Чтоб снова жили властелины. А эта синяя доска, А эти синие оковы Грозили карою тому, Кто не прочтет их звездных рун. Она небесная глаголица, Она судебников письмо, Она законов синих свод, И сладко думается и сладко волится Тому, их клинопись прочесть кто смог. Холмы, равнины, степи! Вам нужны голубые цепи? Вам нужны синие оковы? Они – в небесной вышине! Умей читать их клинопись В высоких небесах. Пророк, бродяга, свинопас! Калмык, татарин и русак! Все это очень, очень скучно, Все это глухо и не звучно. Но здесь других столетий трубка, И государств несется дым. И первая конная рубка Юных (гм! гм!) с седым. Какая-то колода, быть может человечества, Искала Ка, боялась Гэ! И кол, вонзенный в голь, Грозил побегам первых воль, Немилых кололобым. Но он висел, небесный кол, Его никто не увидал, И каждый отдавался злобам. А между тем миры вращались Кругом возвышенного Ка. И эта звездная доска – Синий злодей – Гласила с отвагою светской: Мы – в детской Рода людей. Я кое-как проковыляю Пору пустынную, Пока не соберутся люди и светила В общую гостиную. О Синяя! В небе, на котором Три в семнадцатой степени звезд, Где-то я был там полезным болтом. Ваши семнадцать лет какою звездочкой сверкали? Воздушные висели трусики, Весной земные хуже лица, Огонь зеленый – ползет жужелица, Зеленые поднявши усики, Зеленой смертью старых кружев Сквозняк к могилам обнаружив. В зеленой зелени кроты Ходы точили сквозь листы. «Проворнее, кацап! Отверженный, лови!». Кап, кап! кап! – Падали вишни в кувшин, Алые слезы садов. Глаза, как два скворца в скворешнице, На ветке деревянной верещали. Она в одежде белой грешницы, Скрывая тело окаянное, Стоит в рубашке покаянной. Она стоит живая мученица, Где только ползала гусеница, Веревкой грубой опоясав Как снег холодную сорочку, Где ветки молят Солнечного Спаса, Его прекрасные глаза, Чернил зимы не ставить точку, Суровой нищенки покров. А ласточка крикнет «цивить»! И мчится, и мчится веселью учиться! Стояла надписью Саяна В хребтах воздушной синевы, Лилось из кос начало пьяное, Земной, веселый, грешный хмель. Над нею луч порой сверкал, И свет божественный сиял, И кто-то крылья отрубал. Сегодня в рот вспорхнет вареник, В веселый рот людей, и вот – Вишневых полно блюдо денег, Мушиный радуется сход, Отметив скачкой час свобод. Белее снега и мила, Она воздушней слова «панны», Она милей, белей сметаны. Блестя червонцами менял, Летали косы, как ужи Среди взволнованных озер, Где воздух дик и пышен. «Раб! иди и доложи, Что госпожа набрала вишен. И позови сюда ковер». Какой чахотки сельской грезы Прошли сквозь очи, как стрела, Когда, соседкою ствола, Рукою темною рвала С воздушных глаз малиновые слезы? Я верю: разум мировой Земного много шире мозга И через невод человека и камней Единою течет рекой, Единою проходит Волгой. И самые хитрые мысли ученых голов, Граждане мозга полов и столов, – Их разум оболган. Быть может, то был общий заговор И дерева и тела. Отвага глаза, ватага вер И рядом вишневая розга, Терновник для образа несшая смело. Но честно я отмечу: была ты хороша. Быть может, в эти полчаса Во мне и <в ней> вселенская душа Искала, отдыхая, шалаша. И возле ног могучих, босых Устало свой склонила посох. Искала отдыха, у темени Ручей бежал земного времени. В наборе вишен и листвы, В полях воздушной синевы, Где ветер сбросил пояса, Глаза дрожали – черная роса. Зеленый плеск и переплеск – И в синий блеск весь мир исчез.Весна 1922
Коллективное
Игра в аду*
Свою любовницу лаская В объятьях лживых и крутых, В тревоге страсти изнывая, Что выжигает краски их, Не отвлекаясь и враждуя, Давая ходам новый миг, И всеми чарами колдуя, И подавляя стоном крик,– То жалом длинным, как орехом По доскам затрещав, Иль бросив вдруг среди потехи На станы медный сплав,– Разятся черные средь плена И злата круглых зал, И здесь вокруг трещат полена, Чей души пламень сжал. Людские воли и права Топили высокие печи – Такие нравы и дрова В стране усопших встречи! Из слез, что когда-либо лились, Утесы стоят и столбы, И своды надменные взвились – Законы подземной гурьбы. Покой и мрачен и громоздок, Деревья – сероводород. Здесь алчны лица, спертый воздух,– Тех властелинов весел сброд. Здесь жадность, обнажив копыта, Застыла, как скала, Другие, с брюхом следопыта, Приникли у стола. Сражаться вечно в гневе, в яри, Жизнь вздернуть за власа, Иль вырвать стон лукавой хари Под визг верховный колеса. Ты не один – с тобою случай, Призвавший жить – возьми отказ! Иль черным ждать благополучья, Сгорать для кротких глаз? Они иной удел избрали – Удел восстаний и громов, Удел расколотой скрижали, Полета в область странных снов. Они отщепенцы, но строги. Их не обманет верный стан. И мир любви и мир убогий Легко вместился в их карман!.. Один широк был, как котел, По нем текло ручьями сало, Другой же хил, и вера сёл В чертей не раз его спасала. В очках сидели здесь косые, Хвостом под мышкой щекоча, Хромые, лысые, рябые, Кто без бровей, кто без плеча. Рогатое, двуногое Вращает зрачки. И рыло с тревогою Щиплет пучки. Здесь стук и грохот кулака По доскам шаткого стола, И быстрый говор: «Какова? Его семерка туз взяла!» Перебивают как умело, Как загоняют далеко, Играет здесь лишь только смелый, Глядеть и жутко и легко. Вот один совсем зарвался,– Отчаянье пусть снимет гнет! – Удар: смотри – он отыгрался, Противник охает, клянет. О, как соседа мерзка харя, Чему он рад, чему? Или он думает, ударя, Что мир покорствует ему? И рыбы катятся и змеи, Скользя по белым шеям их, Под взглядом песни чародея, Вдруг шепчут заклинанья стих. – «Моя!» – черней, воскликнул, сажи, Четой углей блестят зрачки. В чертог восторга и продажи Ведут съедобные очки! Сластолюбивый грешниц сейм, Виясь, как ночью мотыльки, Чертит ряд жарких клейм По скату бесовской руки. Ведьмина пестрая, как жаба, Сидит на жареных ногах, У рта приятная ухаба Смешала с злостью детский «ах!» И проигравшийся тут жадно Сосет разбитый палец свой, Творец систем, где все так ладно, Он клянчит золотой!.. А вот усмешки, визги, давка. Что? что? зачем сей крик? Жена стоит, живая ставка, Ее держал хвостач-старик. Пыхтит, рукой и носом тянет, Сердит, но только лезут слюни, Того, кто только сладко взглянет, Сердито тотчас рогом клюнет. Она, красавица исподней, Склонясь, дыхание сдержала, И дышит грудь ее свободней Вблизи веселого кружала. И взвился вверх веселый туз, И пала с шелестом пятерка, И крутит свой мышиный ус Игрок суровый, смотрит зорко. И в муках корчившийся шулер Спросил у черта: «Плохо, брат?» Затрепетал… «Меня бы не надули!» Толкнул соседа: «Виноват!» Старик уверен был в себе, Тая в лице усмешку лисью, И не поверил он судьбе – Глядит коварно, зло и рысью. С алчбой во взоре, просьбой денег, Сквозь гомон, гам и свист, Свой опустя стыдливо веник, Стояла ведьма, липнул лист. Она на платье наступила, Прибавив щедрые прорехи, На все взирала горделиво, Волос торчали стрехи. А между тем варились в меди, Дрожали, выли и ныряли Ее несчастные соседи – Здесь судьи строго люд карали! И влагой той, в которой мыла Она морщинистую плоть, Они, бежа от меди пыла, Искали муку побороть!.. И черти ставят единицы Уставшим мучиться рабам, И птиц веселые станицы Глаза клюют, припав к губам. И мрачный бес, с венцом кудрей, Колышет вожжей, гонит коней. Колеса крутят сноп мечей По грешной плоти – род погони. Новину обморков пахал Сохою вонзенною пахарь, Рукою тяжелой столбняк замахал Искусен в мучениях знахарь… Здесь дружбы нет: связует драка, Законом песни служат визги, И к потолку – гнездовьям мрака Взлетают огненные брызги. Со скрежетом водят пилу И пилят тело вчетвером, Но бес, лежащий на полу, Все ж кудри чешет гребешком. Смотрелася в зеркале С усмешкою прыткою, Ее же коверкали Медленной пыткою. У головешки из искор цветок – То сонный усопший по озеру плыл Зеленой меди кипяток От слез погаснул, не остыл. Туг председатель вдохновенно Прием обмана изъяснял. Все знали ложь, но потаенно Урвать победу всяк мечтал. С давнишней раной меч целует, Приемля жадности удар, О боли каждый уж тоскует, И случай ищется как дар. Здесь клятвы знают лишь на злате, Прибитый долго здесь пищал. Одежды странны: на заплате Надежды луч не трепетал. Под пенье любится легко, Приходят нравы дикарей, И нож вонзился глубоко И режет всех без козырей.Песня ведьм:
Вы, наши юноши, что же сидите? Девицы дивятся, стали сердитей! Бровям властелиновым я высока, Ведьманы малиново блещет щека. Полосы синие и рукоять… К черту уныние! Будет стоять! «Я походкой длинной сокола Прохожу, сутул и лих, Мчусь в присядке быстрой около Ряда стройных соколих». «Черных влас маша узлами, Мы бежим, бия в ладони, Точно вспуганы орлами, Козы мчались от погони». «Скрыться в темные шатры, Дальней радости быстры, Прижимая по углам Груди к трепетным ногам…» И жирный вскрикнул: «Любы бесу, Тому, кто видел роз тщету, И, как ленивого повесу, Мою щекочете пяту!.. Смотрите, душ не растеряйте – Они резвей весною блох! И петель зайца не мотайте, Довольно хныкать: ух и ох!..» Разгул растет, и ведьмы сжали В когтях ребенка-горбуна, Добычу тощую пожрали Верхом на угольях бревна. «Узнай, узнай, я роком дадена! Меня несут на блюде слуги!» И полуобраз, полугадина Локтями тянется к подруге… И вот на миг сошло смятенье,– Игрок отброшенный дрожал – Их суд не ведал снисхожденья: Он душу в злато обращал. Смеюн, что тут бросал беспечно, Упал как будто в западню, Сказать хотелось сердцу речь, но Все сожигалось данью дню. Любимец ведьм, венец красы Под нож тоскливый подведен, Ничком упал он на весы, А чуб (гляди!) белей, чем лен. У злата зарево огней, И седина больней, Она ничтожна и слаба, Пред ней колышется резьба. И черт распиленный, и стружки, Как змейки в воздухе торчат – Такие резвые игрушки Глаза сожженные свежат! Быть отпущенным без песни, Без утехи и слезы, Точно парубки на Пресне, Кладбищ выходцы мерзлы. Любовниц хор, отравы семя Над мертвым долго хохотал, И – вкуса злость – златое темя Их коготь звонко скрежетал. Обогащенный новым даром Игры, счастливец стал добрее И, опьянен огней угаром, Играет резче и смелее. Но замечают щелки: счастье Все валит к одному, Такой не видели напасти – И все придвинулись к нему. А тот с улыбкой скромной девы И дерзко синими глазами Был страшен в тихом севе, Все ворожа руками. И жутко и тихо близ беглеца, Крыл ускользают силы. Такого ли ждали конца, Какое дитя просили? Он, чудилося, скоро Всех обыграет и спасет. Для мук рожденных и надзора,– Чертей бессилит хладный пот! И в самый страшный миг Он услыхал высокий вой, Но, быть страдающим привык, О стол ударил головой. И все увидели: он ряжен, Что рана в нем давно зияла, И труп сожжен, обезображен, И крест одежда обнажала. Мгновенье – нет креста… (Глядящий ловит сотню жал) И слышит резь хлыста – Все там заметили кинжал. Спасенный чует мести ярость И сил прилив богатый, Шипит забвению усталость, И строен стал на час горбатый. И ягуары в беге злобном Кружатся вечно близ стола, И глазом, зелени подобным, Кидалась умная стрела. Пусть совесть квохчет по-куриному И всюду клюв сует, К столу придвинувшися длинному И вурдалачий стиснув рот, По пояс сбросила наряд, И маску узкую и рожу – И бесы, стройную, – навряд Другую встретите, похоже. Струею рыжей, бурно-резвой Течет плечо к ее руке, Но узкий глаз и трезвый Поет о чем-то вдалеке. Так стал прекрасен чорт Своим порочным нежным телом. Кумач – усталый его рот, И все невольно загудело. В глазах измены сладкой – трубы. Среди зимы течет Нева! Неделя святок ее зубы, Кой-где засохшая трава. Самою женственностью шаг, Несома телом ворожея, Видал ли кто в стране отваг Луч незабудок, где затея? Она ж не чувствует красы, Она своей не знает власти, В куничьем мехе сквозь усы Садится к крепкому отчасти. Тот слабый был, но сердце живо. Был остр, как сыр, ведьминский запах. И вот к нему, заря нарыва, Она пришла охапкой в лапах. Никто и бровью не моргнул. Лишь ходы сделались нелепы. Вот незаметно бес вздрогнул, Он обращает стулья в щепы. Бедняк отмеченный молчал И все не верил перемене, Хотя рот бешено кричал, Жаркого любящих колени. Рукою тонкою, как спичка, Чесал тот кудри меж игры. Порхала кичка точно птичка, Скрывая мудрости бугры. Бычачьи делались глаза, Хотел все далее играть, Бодал соседа, как коза, Когда хотел тот сзади стать. Игра храбреет, как нахал, Летают сумеречные ставки. Мешок, другой он напихал, Высокомернее стал шавки. «Черная галка!» – запели все разом. «Черная галка!» – соседи галдели. Ладонию то, дырявым то тазом Воинственно гремели.Речь судреца:
Всего ужасней одинокий, Кто черен, хил и гноен, Он спит, но дух глубокий В нем рвется неспокоен. Бессильный видит вечно битвы, Он ждет низринуть королей, Избрал он царства для ловитвы, Он – чем смелее, тем больней. И если небо упадет И храм сожженный просверкает, Вчерашний раб народы поведет, Ведь силен тот, кого не знают! Вот я изрек премудрость ада, За что и сяду ко всем задом. . . . . . . . . . . . . . . . Счастливец проснулся, смекнул, Свое добро взвалил на плечи И тихим шагом отшагнул Домой, долой от сечи. И умиленно и стыдливо За ним пошла робка и та, Руки коснувшись боязливо, И стала жарче, чем мечта. «Служанке грязною работой, Скажи, какой должна помочь? Царица я! копьем охоты Именам знатным кину: прочь! Сошла я в подземные недра, Земные остались сыны, Дороги пестрила я щедро: Листами славными красны. Ты самый умный, некрасивый, Лежишь на рубище в пыли, И я сойду тропой спесивой Твои поправить костыли. Тебя искала я давно, Прошла и долы и моря, Села оставила гумно, Улыбок веники соря. Твой гроб живой я избрала, И в мертвом лике вижу жуть, В борьбе с собой изнемогла – К тебе моя уж настежь грудь. Спесь прежних лет моих смирится Даю венок, Твоя шершавая десница – Паду, великая, у ног. О, если ринешься с высот Иль из ущелий мрачных взмоешь Равно вонзаешь в сердце дрот И новой раной беспокоишь!» Отверженный всегда спасен, Хоть пятна рдеют торопливо, Побродит он – И лучшее даст пиво… Как угля снег сияло око – К блуднице ластилися звери, Как бы покорны воле рока, Ей, продавщице ласки, веря. И вырван у множества вздох: «Кто сей, беззаботный красам?» И путь уж ему недалек, И знак на плечах его: Сам! Тщедушный задрожал за злато И, вынув горсть червонцев, Швырнул красавице богато – Ах, на дороге блещет солнце! Та покраснела от удара, Руками тонкими взметнула И, задыхаясь от пожара, В котел головою нырнула. Дворняжкой желтой прянул волос, Вихри оград слезой погасли, И с медью дева не боролась, Махнув косой в шипящем масле. Судьба ее вам непонятна? Она пошла, дабы сгореть, Высоко, пошло и бесплатно – Крыс голубых та жертва снедь… И заворчал пороков клад, К смоле, как стриж, вспорхнув мгновенно. Вот выловлен наряд, Но тела нет, а есть лишь пена! Забыть ее, конечно, можно, Недолог миг, короче грусть, Одно тут непреложно: И стол вовек не будет пуст. Игра пошла скорей, нелепей, Шум, визг и восклицанья, Последние рвутся скрепы И час не тот, ушло молчанье! Тысячи тысяч земного червонца Стесняют места игроков – Вотще, вотще труды у солнца – Вам места нет среди оков! Брови и роги стерты от носки, Зиждя собой мостовую, Где с ношей брюхатой повозки Пыль подымают живую. Мычит на казни осужденный: «Да здравствует сей стол! За троны вящие вселенной Тебя не отдам, нищ и гол! Меня на славе тащут вверх, Народы ноги давят, Благословлю впервые всех, Не все же мне лукавят!» Порок летит в сердцах на сына, Голубя слаще кости ломаются! Любезное блюдо зубовного тына Метель над желудком склоняется… А наверху, под плотной крышей, Как воробей в пуху, лежит один. Свист, крики, плач чуть слышны, Им внемлет, дремля, властелин. Он спит – сам князь (под кровлей). Когда же и поспать? В железных лапах крикнут <кролики>, Их стон баюкает, как мать… И стены сжалися, тускнея, Где смотрит зорко глубина, Вот притаились веки змея, И веет смерти тишина. Сколько легло богачей, Сколько пустых кошельков, Трясущихся пестрых ногтей, Скорби и пытки следов!.. И скука, тяжко нависая, Глаза разрежет до конца. Все мечут банк и, загибая, Забыли путь ловца. И лишь томит одно виденье Первоначальных светлых дней, Но строги каменные звенья, Обман – мечтания о ней. И те мечты не обезгрешат, Они тоскливей, чем игра. Больного ль призраки утешат? Жильцу могилы ждать добра? Промчатся годы – карты те же, И та же злата желтизна, Сверкает день все реже, реже, Печаль игры, как смерть, сильна! Тут под давленьем двух миров Как в пыль не обратиться? Как сохранить свой взгляд суров, Где тихо вьется небылица? От бесконечности мельканья Туманит, горло всем свело, Из уст клубится смрадно пламя, И зданье трещину дало. К безумью близок каждый час, В глаза направлено бревно. Вот треск и грома глас. Игра, обвал – им все равно! . . . . . . . . . . . . . . . Все скука угнетает… И грешникам смешно… Огонь без пищи угасает И занавешено окно… И там в стекло снаружи Все вьется старое лицо, Крылом серебряные мужи Овеют двери и кольцо. Они дотронутся, промчатся, Стеная жалобно о тех, Кого родили… дети счастья Все замолить стремятся грех…1912, 1914
Бунт <прокаженных>*
Часть I
В стране осок и незабудок Еще не водка, а вода, Не пламень жаркий для желудка… Орали: – «Воины, сюда! Сюда, лягушки из болота, Покиньте сочные сокровища, И зная, что издохнет кто-то, Плещите грудью на чудовище! За честь глазастой водной дщери, С ее серебряным брюшком, Бросайтесь, рвитесь, точно звери, С мечом воюя босиком! Ведь весна и нет мороза, Сумасшедший месит сласти, Но колеса паровоза Сокрушают наше счастье. Мы дети веселой долины, Она отдана нам в надел, Мы воссставшие скотины Против грузных манных тел!». И лишь багровое пятно С зловещим шумом придвигалось, Толпой лягушек полотно Спокойной песней окружалось. – «Храбрец, богатырь или витязь, Спасайте лягушечью честь, Снова ложитесь, ложитесь, Чтоб было, что ворону есть!» И гибли младые лягушки Под рукопожатьем колес, А паровоз жесточе пушки Свои мозоли дальше нес. Его успехи обеспечены, А жабья что ему слеза? Они торчали искалечены, И знамя срезала коса! Они ложились, точно воины, Ничком поверх свистящих нитей. Колеса кровью успокоены, Резвей летели волчьих сытей. Певцы болот лежали глупы, Черту зрачка в себя тараща, Зеленые, слизкие трупы – Их множество, гибель, зеленая чаща Как Гете в голубом, Качая французскою ляжкой, Лежали лягушки… но, о другом Мечтая, мчится поезд тяжкий…Песнь колес паровоза
«Сеном каменным нас топит Рукой мрачной кочегар, То замедлит, то торопит Лёт летящих в скачку пар. Мы, непослушные ему, Опрокинем и чуму, И рабочего куму, С нею вместе войска тьму. Чу! Мычит корова – м-му! Перережем пополам, И урок дадим уму, И покатим через гам… Избран кто толпы разбоем, Тот идет рыкая зычно, И ничтожной своры воям Не заказан путь привычный!». Сторож, палкою швыряя, Путь поутру обходил И, глазам не доверяя, Жаб усопших находил. Пусть лягушка ты раздавлена Колес бегом табуна – Трупом снова окровавлена И прославлена Жена! О, узкомордые самцы, Прозрачен, тих озерный замок <И как> мученику венцы – Уста могучих счастьем самок. Прошли часы. Лягушки пали Под тяжким чугуна лобзаньем. В снега потом их закопали, А я <тех жаб> почтил сказаньем. И, седым покрытый дымом, Мчится дальше паровоз… И поет про них: «Не имам». В слезах родина стрекоз.Часть II
Побег прокаженных
Но в те поля, снегов богатство, Кого забросила судьба? Свободу, рядом с нею – братство, Не приютила ль там изба? Какие гордые указы Отсель долины людям шлют? Увы, увы! Больных проказой Клоповник гордый и уют. Здесь в зыбке дней проказа, Указка гибели большого, Сквозной бессилен светский разум Сиять стеклом в глазу крутого. И те, кто были здоровее, Грозили им как длань закона, Но дух чумы, на стражу вея, Дышать заставил мухой сонной. Плеть судьбы грозила гадко Хлыстом стаду униженных, Но на поезда площадке Смотрят лица прокаженных. С печалью хитрой на устах, В больничных скрытые холстах, Они бежали торопясь, Где страшный врач – их враг и глаз. Чаго – надорвана щека, У Куда рот – распухший ящик, Та – слизи черный ком рука, Кудабиль – в рубище болячек. Тот засмеется и в час смерти, А этот вечно, вечно хнычет, Гнилая челюсть, праха жерди, Торчали сквозь провала вычет. Покрыта зеленью скакала, Жуя свой хлеб, та челюсть нижняя, А та щека навек искала, Где в жмурках ухо ее ближнее… Он навсегда вопит: «ура!», Нарывно блещут десна, В щеке – мышиная нора, Их дни, их речи – чумноносны. Да, вы, товарищи и братья, Себя зовите смело «мы», Дыханье грозно, выше платья Наводит ужас на холмы. И вы вольны упасть в ущелье – Тут всех сравнял запрет побега, И ангел, стоя над постелью, Зияет черной коркой снега… …просили молча молочка И права к ближним писем, Внутри воротничка Ходить в солопе лисьем. И долго лились жалобы О шляпках и о ботиках, И тут иная обнимала бы Не будь тех правил дротиков. И были скверны и убоги Желанья их, Вот язвами нагие ноги Обвеял ветер, после стих… К ним на плечи села грязь… На площадке приютясь, Самый задний, самый видный Хохот слышит он обидный: «Все умре<м и> все протухнем, Эй, дубинушка, ухнем!..» Слез потоком этот вымок: Нет громады, есть лишь пух, Все исчезнет сетью дымок: И слава и войны двух мух. Довольно нам в тебя играть – Покрылись слюнями секиры, <Повернем скорее> вспять, <Обманем струнами> кумиры. Черным трупом здоровяк Скоро, скоро в яму рухнет, И о камень камень бряк – Все умрем и все протухнем. И дрожали телеса: Не люди мы разве? А над ними небеса Тоже в черной язве… И поезд несется, И поезд трясется, Проводник не обернется, Тот умрет кто их коснется…<1913–1914>
Комментарии
Основные источники текстов и сокращения, принятые в примечаниях
АРХИВЫ
ГММ – Отдел рукописей Государственного музея В. В. Маяковского. Москва.
И МАИ – Отдел рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Москва.
ИРЛИ – Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Санкт-Петербург.
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства. Москва.
ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
Творения, 1914 – Хлебников В. В. Творения 1906–1908 гг. М. <Херсон>: Изд. «Первого журнала русских футуристов», 1914 <конец 1913>.
Ряв! 1914 – Хлебников В. Ряв! Перчатки 1908–1914 гг. СПб.: Изд. «ЕУЫ», 1914 <декабрь 1913>.
Изборник, 1914 – Хлебников В. Изборник стихов 1907–1914 гг. СПб.: Изд. «ЕУЫ», 1914 <февраль>.
НХ – Неизданный Хлебников / Под ред. А. Крученых. Выпуски I–XXX. М.: Изд. «Группы друзей Хлебникова», 1928–1935.
СП – Собрание произведений Велимира Хлебникова / Под общей ред. Ю. Тынянова и Н. Степанова. Ред. текста Н. Степанова. Л.: Издательство писателей в Ленинграде. Т. I. Поэмы. 1928. Т. II. Творения 1906–1916. 1930. Т. III. Стихотворения 1917–1922. 1931. Т. IV. Проза и драматические произведения. 1930. Т. V. Стихи, проза, записная книжка, письма, дневник. 1933.
СС – Хлебников Велимир. Собрание сочинений: В 6 т. / Под общей редакцией Р. В. Дуганова. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие». Т. 1. Литературная автобиография. Стихотворения 1904–1916. 2000. Т. 2. Стихотворения 1917–1922. 2001.
Творения, 1986 – Хлебников В. Творения / Общая редакция и вступительная статья М. Я. Полякова. Сост., подготовка текста и коммент. В. П. Григорьева и А. Е. Парниса. М.: Советский писатель, 1986.
СБОРНИКИ
Садок судей, I, 1910 – Садок судей. СПб.: Изд. «Журавль», 1910 <апрель>.
Мирсконца, 1912 – Крученых А., Хлебников В. Мирсконца. М.: Изд. Г. Л. Кузьмина и С. А. Долинского, 1912 <ноябрь>.
Пощечина общественному вкусу, 1913 – Пощечина общественному вкусу. М.: Изд. Г. Л. Кузьмина и С. А. Долинского, 1913 <декабрь 1912>.
Садок судей II, 1913 – Садок судей. СПб.: Изд. «Журавль», 1913 <февраль>.
Союз молодежи, 1913 – Союз молодежи. № 3. Пб.: О-во художников «Союз молодежи». 1913. Март.
Требник троих, 1913 – Требник троих. М.: Изд. Г. Л. Кузьмина и С. А. Долинского, 1913 <март>.
Трое, 1913 – Трое. СПб.: Изд. «Журавль», 1913 <сентябрь>.
Затычка, 1913 – Затычка. Херсон: Лит. К° футуристов «Гилея». 1913 <октябрь>.
Молоко кобылиц, 1914 – Молоко кобылиц. М. <Херсон>: Лит. К° футуристов «Гилея» <декабрь 1913>.
Старинная любовь, 1914 – Крученых А., Хлебников В. Старинная любовь. Бухлесиный. СПб.: Изд. «ЕУЫ», 1914 <январь>.
Стрелец I и II – Стрелец. Сборник / Под ред. А. Беленсона. Пг.: Изд. «Стрелец». 1915 <февраль> и 1916 <июль>.
Временник 2, 1917 – Временник. М. <Харьков>: Изд. «Лирень», 1917 <апрель>.
Фантастический кабачок, 1918 – Фантастический кабачок. Альманах поэтов. Тифлис: Худож. об-во «Кольчуга», № 1 <декабрь>.
Мир и остальное, 1920 – Мир и остальное. Баку, 1920 <конец года>. Гектограф, изд. в 20 экз.
Царская невеста*
Впервые: СП, I, 1928. Печатается по рукописи (РГАЛИ), относящейся, предположительно, к 1912 г. (поэма предназначалась для публикации в Садке судей II), но датированной «1905». Авторская датировка, возможно, сознательно утверждала принципиально важное для Хлебникова начало его творческой биографии именно с 1905 года.
Первоначальное название поэмы: «Царская невеста – княжна Долгорукая». Сюжет основан на предании о трагической судьбе четвертой жены Ивана Грозного: наутро после свадьбы, подозревая, что супруга любила другого до брака, царь приказал посадить ее в колымагу, запряженную дикими лошадьми, и пустить в пруд. Такова же содержательная основа поэмы А. А. Навроцкого (1839–1914) «Царица Марья Долгорукая» (см. Навроцкий А. Сказания минувшего. Русские былины и предания в стихах. Кн. 2-я. СПб., 1899).
Одолен – см. СС, 1. С. 518.
Жертва агняя библ. – ягненок; здесь: символ непорочности.
Чресла арх. – «чресла мужу даны, а лоно жене» (Даль).
Брашно – см. СС, 1. С. 526.
Пристяжка косая – боковая лошадь при оглобельной упряжке.
Вече арх. – встреча, посиделки.
Отний арх. – относящийся к отцу (Даль).
Мария Вечора*
Впервые: Садок судей II, 1913 (рукопись РГАЛИ); включена в СП, I, 1928. Печатается по сокращенной и отредактированной автором версии Изборника, 1914.
Представляем фрагменты первоначальной редакции (после стиха «В час царицы ночи-тьмы»):
Пусть блестящее чем свет Два блистают черных глаза: В них источники всех бед, В них чумы горит зараза. Смелой все же молодежи Нет укора, нет отказа! Здравствуй, черные два глаза! О, эти речи огневые Ручья ночного сонных взоров! И этот снег и пепел выи, Лесной и дикой кошки норов. Нет, ведро на коромысле Не коснулося плеча. Кудри длинные повисли, Точно звуки скрипача. И залог для восхищенья Чуден, нем, закрыв глаза, О, добыча похищенья, Тяжкий меч и стрекоза.Датировка поэмы косвенно определяется подписью автографа: «Вадим Хлебников»; с осени 1906 г. Хлебников ищет замену своему неславянскому имени Виктор (поочередно до «Велимира» были – Владимир, Всеволод, Вадим); весь состав «Изборника» датируется «1907–1914 гг.».
Реальное событие в хронике австро-венгерской династии Габсбургов – двойное самоубийство эрцгерцога Рудольфа (1858–1889) и его возлюбленной баронессы Марии Вёцера (1869–1889) – трактуется в балладном сюжете Хлебникова как месть гордой славянки венценосному обидчику – врагу. Ср. в черновиках (РГАЛИ), относящихся к текстам дальневосточной тематики (1921–1922), славянизированное имя героини:
Зеркальный стон стен Стеклянный чорт чар. Марии Вечоры око У Владивостока.Мчащийся погони – синтаксическая стяжка: «седок» мчится от погони, увозя «белую ношу», «прекрасную лань».
К фрагментам:
Выя – см. СС, 1. С. 474.
Нет, ведро на коромысле <…> – ср. СС, 1. С. 101.
Алчак*
Впервые: Творения, 1914; включена в СП, II, 1930. Написана, вероятно, во время пребывания в Крыму, летом 1908 г. (см. СС, 1. С. 467).
Отголоски противоречивых преданий (гибель обманутой в любви девушки), связанных с «Девичьей башней» средневековой генуэзской крепости на побережье Судака, по-видимому, лежат в основе романтического сюжета поэмы. См. Качиони С.А. В дебрях Крыма. 1902.
Алчак – мыс, ограничивающий с востока бухту поселка Судак.
Плесо – широкая водная гладь.
Журавль*
Впервые: Садок судей I, 1910 (начало); Творения, 1914 (окончание со стиха «Могучий созидался остов» под названием «Восстание вещей»). Полный текст в СП, I, 1928.
Каменский Василий Васильевич (1884–1961) – поэт-футурист; как секретарь редакции петербургского журнала «Весна» способствовал первой публикации Хлебникова (словотворческой прозы «Искушение грешника») в октябре 1908 г.
На площади в влагу входящего угла <…> – о Петропавловской крепости и соборе с усыпальницей российских императоров.
Неясыть – см. СС, 1. С. 498.
Детинец – центральная укрепленная часть древнерусских городов, например, Детинец Новгорода Великого; в XIV в. появился новый термин – «кремль».
Тучков – мост через Малую Неву, соединяющий Васильевский и Петровский острова Петербурга.
Плывут <…> иные племена! – по-видимому, связано с идеей романа Г.Уэллса (см. СС, 2. С. 519) «Война миров»: нашествие с Марса подрывает веру землян в незыблемость и единственность их цивилизации.
Из железа / И меди над городом восстал, грозя, костяк <…> – герой другого романа Г. Уэллса «Война в воздухе» (перевод начал печататься в петербургской газете «Биржевые ведомости» 20 июля 1909 г.) однажды «услышал шум над собой и увидел что-то огромное, колоссальное, в чем были и машины, и винты, и что-то вроде парусов и руля… что-то совсем непонятное – странная комбинация из воздушного корабля и птицы двигалось в самом деле вперед». Машинизированная фантазия Уэллса материализовала апокалиптическую картину популярного стихотворения В.Брюсова «Конь блед» (1904).
Возможным источником для Хлебникова был также рисунок Реми «Петербургский кошмар» («Сатирикон». 1908. № 23. 13 сент.): над ночным городом, над невскими мостами и островами летит автомобиль, управляемый скелетом.
Костяк – остов, скелет (Даль).
Угловая башня <…> пушку – с Нарышкинской башни Петропавловской крепости точно в полдень стреляла сигнальная пушка.
Душка – грудная кость у птиц.
Лосий остров – прежнее название Васильевского острова.
<…> отягощением чудовища зоба – ср. в книге С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852): «Журавль очень прожорлив и жадно глотает все что ни попало: семена разных трав, ягоды всякого рода, мелких насекомых и земляных червей, наконец, ящериц, лягушек, мышей, маленьких сусликов и карбышей, не оперившихся мелких птичек и всяких змей…» (СС: В 4 т. М., 1956. Т. 4. С. 322). (Отсюда мистическое чудовище, грозящее городу с неба, начинает приобретать в поэме черты фантастически преображенного журавля).
Гиератический – священный.
Два влаги рукава – Большая и Малая Нева.
Геростратический – от имени Герострата, который сжег храм Артемиды в Эфесе (одно из семи чудес света), чтобы обессмертить себя.
Явки – от явь (реальность).
Лал – драгоценный камень, рубин.
Ванюша Цветочкин <…> Незабудкин – цветок незабудка в текстах Хлебникова символизирует смерть; ср. в поэме «Поэт»: «И старый мир – он умер на скаку! / И над покойником синеет незабудка».
Сколот (сколота) – смута, возбуждение.
Какие выкидывает в пляске журавель коленца! – С. Т. Аксаков о «свадебных плясках» журавлей: «… как скоро он вздумает приласкаться к своей дружке, то нельзя без смеха смотреть на его проделки. Несколько журавлей, выплясывающих друг перед другом… способны заставить расхохотаться всякого насмешливого человека» (в указ, соч., с. 324).
Журавль, к людским пристрастись обедням <…> – аллюзия к басне И. А. Крылова «Лягушки, просящие Царя»:
Послал Юпитер к ним на царство Журавля. Царь этот не чурбан, совсем иного нрава: Не любит баловать народа своего. Он виноватых ест, а на суде его Нет правых никого. Зато уж у него Что завтрак, что обед, что ужин, то расправа. На жителей болот Приходит черный год.Гольче – от «голко», СС, 1. С. 469.
«Передо мной варился вар…»*
Впервые: под названием «Поэт» вариант строк 1-11 в Творениях, 1914; повторено в СП, II, 1930. Полный текст в НП, 1940 (где рукопись, с которой работал Н. И. Харджиев, определена как «промежуточна редакция с многочисленными вставками и черновыми наслоениями» – С. 422).
По НП, 1940 приводим кусок, оставшийся за пределами основного текста, но имеющий прямое отношение к его содержанию:
Вот не просто простой, Изысканно толстый Толстой, Точно сошедший с дагеротипа писателей 40-х годов, Всегда стихи читать готов. О, как я рад, бывая вас у. Вы для меня глоток красивого квасу, Когда красив, и гол, и потен Я в бане восседаю до грехопадения полотен. Он с чувством жмет руку Амизуку. Но не знали ли предел те, кто были изумлены, Когда узнали, что обры были поклонники белены! И, чувствуя истому, Изысканный бродит Толстой. К Толстому Подходят толпою густой – Здесь Гумилев, Потемкин, Ауслендер, Гюнтер, я. И каждому из нас с мечтательной улыбкой Лавровый веник из лавровых <листьев> муз предлагает насмешливая семья. Слепой ужасный выбор. Иль не бледнели, выбирая, вы бы? Один для тех, кто взором дики и вещи, Другой для кидания в щи!Вариант конца поэмы:
– Вы Богородица? – Да, я Богородица. – Садитесь, не хотите ли вина? Может, вы любите какие-нибудь блюда? О, только спросите и ответь<те> люблю? да? Здесь нет прибора. Нисса, подайте прибор Богородице! – Извините – моя вина – я не знаю, в чем моя вина. Ах, вы не желаете вина? Ну, тогда, может быть, вы хотите чаю? – Я чаю воскресения мертвых. – Ах, вы не хотите чай. Ну, тогда так посидите. Я хотела бы вам сказать: за мной идите.Разрозненные куски, место которых в контексте Н. И. Харджиев не установил:
Мальчик с губками тучными, Мальчик с глазками скучными, Зачем ты смотришь в сторону Вячеслава нескромным взглядом <?> Здесь есть живые. Мы с тобою рядом сядем. Только не склоняй старательно выи. В стар<ой> <домовине> С тобой мы с<ядем> ныне. Аббат Глазами бьет тревожными в набат. Здесь немец говорит «Гейне», Здесь русский говорит «Хайне», И вечер бродит ворожейно По общей жизни тайне. Жирафопевцу внимая, ясница Прислоняет к устам сладкий палец. Ей рассказал, как красива на Ниле денница, Устав быть собою, скиталец. Его величают Velimir’oM. – Но я должен наз<вать> в<ас> луч<шим> души моей кумиром.Написано осенью 1909 г. как юмористический дневник в стихах на тему поэтического быта петербургских символистов (творческие собрания молодых поэтов на квартире В. И. Иванова, получившие вскоре статус «Академии стиха» или «Общества ревнителей художественного слова» при редакции журнала «Аполлон»), См. письма Хлебникова этого времени родным (СП, V, 1933), в частности, письмо брату Александру 23 октября 1909 г.: «Мое стихотворение в прозе будет печататься в „Аполлоне“… Я пишу дневник моих встреч с поэтами».
См. статью: Шишкин А. Велимир Хлебников на «башне» Вяч. Иванова // Новое литературное обозрение. М., 1997. № 17.
Передо мной <…> для жаренья быка – в связи с культом экстатического «дионисийства» в искусстве (проповедь Вяч. Иванова); зооморфная ипостась Диониса – бык.
Река Сладим – река, «текущая из рая», в русских духовных песнях; К. Д. Бальмонт (см. С. 452) вспоминал о популярной в студенческой среде песне:
«Течет она, течет она Река-Сладим течет. Как сладость сна, идет весна Утрачен веснам счет.Цит. очерк «Волга» в кн.: Бальмонт К. Где мой дом. М., 1992. С. 382.
Вячеслав, <ниже в тексте>: власоноша – Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949); весной 1908 г. казанский студент Виктор Хлебников послал ему несколько стихотворений (СС, 1. С. 464–466) в духе теоретически утверждавшегося мэтром символизма «всеславянского языка». Порвав с кругом символистов, Хлебников сохранил неизменно уважительное отношение к своему учителю. Ср. посвящение «Вячеславу» в стих. Ф. Сологуба «Что звенит?..» (1906).
Амизук – анаграмма имени: Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936); в краткий период своего общения с символистами Хлебников называл себя «подмастерьем» Кузмина (см. СП, V, 287; СС, 1. С. 478).
Писатель <…> славой звездочета – имеется в виду Федор Кузьмич Сологуб (1863–1927), автор стихотворного цикла «Звезда Майр», 1904.
Набитый мышьяком – мышьяк как лекарство.
Не рад обмолвке с «пауком» – по-видимому, в связи с образом Ф. Сологуба: «люблю за липкой паутиною таиться пауком» (стих. «Люблю блуждать я над трясиною…» – «Весы». 1908. № 9).
«Весы» – журнал символистов, выходивший под ред. В. Я. Брюсова в Москве в 1904–1909 гг.
Младой поэт с торчащими усами – Николай Степанович Гумилев (1886–1921), совершивший тогда первое свое путешествие в Африку (отсюда стихотворение «Жираф», которое открывало цикл «Озеро Чад» в его книге «Романтические цветы», 1908); Гумилев был инициатором творческих собраний молодых поэтов на «башне» Иванова весной 1909 г., так называемая «Про-Академия».
Дэдал (Дедал) – герой греческой мифологии: известный сюжет «Дедал и Икар» о полете на искусственных крыльях.
Милый всем Корфу – греческий остров в Ионическом море; здесь: намек на стихи М. Кузмина из неоконченного романа «Новый Ролла», 1908 (по мотивам поэмы французского писателя Альфреда де Мюссе (1810–1857) «Ролла»):
О Корфу, цветущая пустыня, Я всхожу на твой счастливый брег!Взирала голубыми очами – о безнадежно влюбленной в М. А. Кузмина падчерице В. И. Иванова Вере Константиновне Шварсалон (см. СС, 1. С. 468); см. Дневниковые записи В. К. Шварсалон // Богомолов Н. А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М., 1995.
И мысли его унесены на одиннадцатую версту – имеется в виду лечебница для душевнобольных на ст. Цельная Финляндской ж.д. В своих мемуарах А. М. Ремизов вспоминал фельетон В. Буренина в «Новом времени» (1908), который удивлялся, что автор «странного» романа «Пруд» еще не на «одиннадцатой версте», а в Петербурге (см. Ремизов А. Огонь вещей. М., 1989, глава «На одиннадцатой версте»).
Все думает о богатой тете – парафраз на тему героя романа Пушкина «Евгений Онегин», думавшего о богатом умирающем дяде (реалия биографии Хлебникова: его отношения с петербургскими родственниками, в частности, с тетей С. Н. Вербицкой).
«России нет, не стало больше» <и др. закавыченные стихи> – поэтические темы молодого Хлебникова (см. поэму «Песнь мне»).
«Вы очень удачно похитили раешников меру» – реакция посетителей «башни» Вяч. Иванова на «вольный размер» Хлебникова (см. стих. «Крымское»: СС, 1. С. 129), сознательно ориентированный на русский раешник и басенный стих И. А. Крылова, где нет упорядоченного числа слогов и ударений. См. в стих. Е.Дмитриевой «Памяти Анатолия Гранта» (псевдоним Н.Гумилева), 1925 (Гумилев Н. Неизданное и несобранное. Paris, 1986):
…После в «Башне» привычные встречи, Разговоры всегда о стихах, Неуступчивость вкрадчивой речи И змеиная цепкость в словах. Строгих метров мы чтили законы И смеялись над вольным стихом, Мы прилежно писали канцоны И сонеты писали вдвоем…Ученики военных училищ – братья В. К. Шварсалон (Сергей и Константин), пасынки В. И. Иванова.
Толстяк сутулый – возможно, поэт Юрий Никандрович Верховский (1878–1956), свой человек в доме Иванова, его здесь звали «Слон Слонович».
И вот из божницы сходит Богородица – ср. в пьесе Хлебникова «Маркиза Дэзес» (конец 1909) «сход» Леля из живописного полотна. По наблюдению Шишкина А. (см. выше), этот сюжетный мотив мог быть навеян стихами из пьесы А.Блока «Незнакомка», 1906: «И от иконы в нежных розах / Медлительно сошла Она…» Сходная сюжетная ситуация в балете «Оживленный гобелен», поставленном впервые М.Фокиным в 1907 г. в Мариинском театре (см. Харджиев Н. И. Статьи об авангарде. М., 1997. Т. 2. С. 174).
Нисса – служанка героини трагедии Еврипида «Лаодамия» (пер. И.Анненского, 1906); она же в драме Ф. Сологуба «Дар мудрых пчел», 1907; здесь, вероятно, имеется в виду Мария Михайловна Замятнина (1865–1919), домоправительница у В. И. Иванова, подруга его умершей жены Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (1866–1907).
И, обняв, осыпала поцелуями в голову лошадь – ср. в СС, 1. С. 354: «Но так приятно целовать копыто у коня» (восходит к стихотворению В.Брюсова «Конь блед», 1904: «Плача, целовала лошадиное копыто»),
К фрагментам:
Толстой Алексей Николаевич (1882–1945) – известный романист, начинал свою литературную деятельность как поэт (сб. «Лирика», 1907); стихотворения «Лешак», «Лесная дева», «Мавка» и др. в книге «За синими реками» (1911) напоминают о его творческой близости к автору книг «Ярь» и «Перун» Сергею Городецкому (см. СС, 2. С. 540).
Когда узнали, что обры были поклонники белены – ср. в стихотворении А. Н. Толстого «Обры»: «Обры, кинув стан на Пселе, / Беленою трут колени <…>»
Обры – см. СС, 2. С. 507.
Белена – ядовитое растение (употребляется в лечебных целях).
Потемкин Петр Петрович (1886–1926) – поэт, ставший широко известен как автор журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон»: осенью 1909 г. в его присутствии Хлебников читал поэму «Журавль» приехавшей в Петербург из Киева художнице А. А. Экстер (Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. СПб., 1994, С. 48).
Ауслендер Сергей Абрамович (1886–1943) – племянник М. Кузмина, писал прозу в галантно-романтической манере французской литературы XV1I1 в.
Гюнтер Йоханнес Фердинанд фон (1886–1973) – немецкий писатель и переводчик, в 1906–1914 гг. жил в Петербурге, заведывал немец, отделом «Аполлона»; автор мемуарной книги «Ein Leben im Ostivind». Munchen, 1969 (русск. пер. в журнале «Наше наследие». М., 1990. № 6).
Аббат – прозвище М. Кузмина в доме Вяч. Иванова.
Velimir – см. в письме Хлебникова родным 30 декабря 1909 г.: «Меня зовут здесь Любек и Велимир». См. иссследования: Шишкин А. «Велимир»: об имени Хлебникова // Europa Orientals 15 (1996): 2; Григорьев В. П. Будетлянин. М., 2000. С. 203.
Карамора № 2-ой*
Впервые: Затычка, 1913 (вторая половина поэмы со стиха «Пустил в дворянство грязи ком» под названием: «Сатира „Петербургский Аполлон“ (отрывок)», данным Д. Бурлюком как издателем сборника); то же в СП, II, 1930. В НП, 1940 – начало поэмы по автографу, оборванному на стихе «Молодчик, изловчась <…>». Печатается впервые по двум указанным источникам полный текст «сатиры», написанной после разрыва Хлебниковым творческих отношений с кругом петербургских литераторов, объединившихся вокруг журнала «Аполлон».
В СП, II, 306 приведено замечание Д. Бурлюка из его заметки «О рукописях Хлебникова»: «Среди его рукописей было несколько дневников. Один из таких дневников (в стихах) напечатан в „Затычке“. Таким образом, предыдущая „сатира“ („Передо мной варился вар…“) является как бы „Караморой N 1-ой“, более мягкой.
Следует учесть, что ко времени писания Хлебниковым своих „сатир“ в газ. „Царскосельское дело“ (1909. № 40. 2 октября) появилась пародия на поэтов, издавших два номера журнала „Остров“: „Остов“ или Академия на Глазовской улице». Д.В.О-е (см. в кн.: Гумилев Н. Неизданное и несобранное. Paris, 1986). В форме драматических сцен пародировались стихи Гумилева («Гумми-кот»), Потемкина («Портянкин»), А.Толстого («Граф Дебелый»), Кузмина («Михаил Жасмин»), Городецкого («Сергей Ерундецкий») и др.
Карамора (Карамара) обл. – тарабарщина, но также – долгоногий большой комар (Даль); ср. «Каракурт» в СС, 2. С. 537–8.
Висящие турчанки – имеются в виду картины «Айша», «Карфагенянка» и др. К. С. Петрова-Водкина (1878–1939), написанные художником в Северной Африке; работы были показаны в редакции «Аполлона» в ноябре 1909 г.
Древлянские напевы – название цикла акварелей и рисунков Г. К. Лукомского (1884–1940) – первая художественная выставка в «Аполлоне» (октябрь 1909 г.).
Брюллова Лидия Павловна (1886–1954) – внучатая племянница Карла Брюллова, автора знаменитого полотна «Последний день Помпеи» (1833); участница поэтических заседаний на «башне» Вяч. Иванова, близкая подруга поэтессы Е. Дмитриевой (см. на С. 428 и ниже).
Лизогуб – каламбурная игра со значимой для Хлебникова фамилией (см. СС, 2. С. 549).
Новая Сафо – имеется в виду поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева, в зам. Васильева (1887–1928); героиня известной литературной мистификации: стихи «Черубины де Габриак» в «Аполлоне», 1909–1910. См. Волошин М. Воспоминания о Черубине де Габриак // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990. Машинописный сборник стихотворений Е.Дмитриевой собрал в 1928 г. Е. Я. Архиппов (РГАЛИ).
Как Сафо <…> Кого-то извела – намек на дуэль между М. Волошиным и Н.Гумилевым в ноябре 1909 г., поводом для которой стали сложные отношения двух поэтов с Е. И. Дмитриевой (см. ее «Исповедь», 1926 // Гумилев Н. Неизданное и несобранное. Paris, 1986).
Как софа, она и мягка, и широка <…> – ироническая аллюзия к рассказу М. Кузмина «Кушетка тети Сони», 1907.
Скуки буре <…> каламбуре – образ восходит к известному экспромту «короля рифмы» Д. Д. Минаева (1835–1889): «…Даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром».
Боец, испытанный в шахматных ходов грозах – о секретаре редакции «Аполлона», литераторе и известном шахматисте Зноско-Боровском Е.А. (1884–1954), который был секундантом Гумилева на дуэли с Волошиным.
Сидит с головою сизой и бритой <…> – характерная внешность Ф. К. Сологуба.
Здесь пробор меж волос – о редакторе «Аполлона» Маковском С.К. (1878–1962): «Говорили, что в Париже он навсегда протравил себе пробор особенным образом» (Пяст В. Встречи. 1929. Гл. IX «Из Про-Академии в Академию»),
Смотрит лицо мужицкого Христа – возможно, имеется в виду Карпов П.И. (1885–1963), писатель-самоучка, посещавший собрания и дома петербургских символистов; в 1909 г. был в дружеских отношениях с Хлебниковым (см. в кн.: Карпов П. Пламень. М., 1991).
Ревень – травянистое растение, из которого приготавливаются слабительные средства и кисель.
Пустыня Шами – возможно, Великая сирийская пустыня Бадиет-эш-Шам (шами-сириец); общий смысл нижеследующего фрагмента неясен.
Оцукав простор. – от цукать (поучать, делать выговор).
Из теста помещичьего изваянный Зевес – по мнению Д. Бурлюка, имеется в виду Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932).
Не хочет свой «венок» вытаскивать из-за молчания завес – 4 ноября 1909 г. в редакции «Аполлона» намечалось, но было снято обсуждение венка сонетов М.Волошина «Corona astralis» (диалог с венком сонетов Черубины де Габриак «Ramus aureus» – «Аполлон». 1909. № 2).
Тщетно просящая о пощаде <…> кошка – намек на освещавшееся в петербургских газетах осенью 1908 г. скандальное дело литераторов – «кошкодавов»; в числе обвинявшихся в травле животных был поэт Петр Потемкин (см. С. 429). Отсюда отрицательно-обобщенный портрет «рыжего» (клоуна), подменяющего кошачьим суррогатом здоровую пищу национального искусства («русского Баяна»),
И похотливо тянут гроб Верлена – косвенным стимулом этого образа «мертвечины» мог послужить стихотворный перевод П.Потемкина драмы Ф.Ведекинда «Пляска мертвых», 1907 как характерного примера западно-европейского декаданса.
Первая на русском языке книга стихов Поля Верлена (1844–1896) вышла в 1908 г. (в переводе Ф. Сологуба).
Дэлямюзик – из программного стихотворения Поля Верлена «Искусство поэзии»: «De la musique avant toute chose». См. CC, 1. C. 464 и в кн.: Дуганов Р. В. Велимир Хлебников. Природа творчества. М., 1990, С. ИЗ.
Или мы нуждаемся в искусственных – веке, носе, глазе? – ср. стихотворение «Па-люди», CC, 1. С. 258 и 491.
Песнь мне*
Впервые: НП, 1940. Рукопись недоработанной вещи представляла, по определению Н. И. Харджиева, «сводку первоначального чернового текста». Ряд кусков, не вошедших в сводный текст, публикатор привел по авторским записям на полях хлебниковского экземпляра сборника «Садок судей», 1910:
Я променял бы власть Нерона И вас, полки младого Цезаря, На твой лохматый клюв, ворона, На чьем горит лице заря. Ведь предки те же были люди: Мечтали, грезили, служили, Дрались, любили и тужили. Чарует новь в волнистом чуде. А много надо ли [Чтоб жизнь прожить бесславно, глупо] С глазами падали, С делами трупа. Прокляты вы мной, Меня окружившие стеной, О, попугаи и глупцы, Отчизной русскою купцы. Махая тряпкой полинялой, Отечества хотите быть менялой. Отечество, ты – серый тигр С глазами верными судьбе, Я много песен, много игр Слыхал и помнил о тебе.Написано после полного разрыва с кругом «Аполлона» как манифестация собственного антизападничества. Отдельные содержательные мотивы позднее разработаны в драматической поэме «Любовь приходит страшным смерчем…» (1912).
Название восходит к «Песне о себе» Уолта Уитмена, а также к «Литургии мне» Ф. Сологуба (1907).
Вотще арх. – напрасно.
То свету солнца Купальскою – языческо-христианский праздник летнего солнцестояния (с 23 на 24 июня по ст. стилю). Из диалога «Учитель и ученик» (1912): «В день Ивана Купала я нашел свой папоротник – правило падения государств». Иван Купала – народное прозвище Иоанна Крестителя. См. примеч. к поэме «Ладомир».
Конь Пржевальского – дикая лошадь монгольских степей, описанная и прирученная русским путешественником Н. М. Пржевальским (1839–1888). В «Пощечине общественному вкусу» (1913) под таким заголовком была напечатана подборка стихотворений Хлебникова: см. СС, 1, С. 104, 197,198, 233, 234, 235, 271, 273, 274.
Брега Овидия – то есть Северное Причерноморье, куда был сослан римский поэт Публий Овидий Назон, I век н. э. Ср. у Пушкина: «Еще доныне тень Назона / Дунайских ищет берегов» («Баратынскому. Из Бессарабии», 1822).
Халиф – титул духовного главы мусульман, совмещавшего светскую и религиозную власть.
В ней Висла, море и Амур – пространственно-языковое клише «от…до», в данном случае: Российская империя от Польши до Дальнего Востока. Ср. у Тютчева: «От Нила до Невы, от Эльбы до Китая» («Русская география», 1848).
Перун – см. СС, 1. С. 481.
Наука и амур – ср. у Пушкина: «…наука страсти нежной» («Евгений Онегин»).
Так молодой когда-то орочон <…> – мотив прозы Хлебникова «Око. Орочонская повесть» (1912), см. СС, 1. С. 485 и 489. Млечный путь в орочонском мифе – это оставшийся в небе лыжный след охотника. См. Баран X. Поэтика русской литературы начала XX века. М., 1993 («Хлебников и мифологий орочей», с. 15–21).
Бабр – см. СС, 2. С. 590.
Там близ кумира Лобачевского / Мятель мятежная поет – памятник великому математику Н. М. Лобачевскому (см. СС, 2. С. 573) был установлен в 1896 г. в сквере Казанского университета (скульптор Мария Диллон); здесь также намек на студенческую демонстрацию 5 ноября 1903 г., за участие в которой Хлебников был заключен на месяц в тюрьму.
Я как индеец <…> – следует понимать, как индиец (индус).
Мы, северяне, и вы, дети юга, смуглы – см. примеч. к поэме «Хаджи-Тархан».
Разин – один из первых примеров обращения к образу вождя крестьянско-казачьей вольницы (см. поэмы «Разин», «Уструг Разина»).
К фрагментам:
Нерон, Клавдий Цезарь (37–68) – римский император, прославившийся крайней жестокостью; см. в поэме «Азы из узы».
Цезарь – см. СС, 2. С. 497.
Кистень – см. СС, 1. С. 485.
Змей поезда. Бегство*
Впервые: Пощечина общественному вкусу, 1913; включена в СП, II, 1930.
Сюжет поэмы и ее стихотворная форма (терцины) связаны с поэмой А. К. Толстого «Дракон. Рассказ XII века (с итальянского)», в которой встреча героев с ужасным чудовищем явилась знамением страшных потрясений, ожидавших Италию:
Тот змей, что все глотая иль увеча От нашей крови сам жирел и рос, Был кесаря свирепого предтеча!Поэма Хлебникова может быть соотнесена и со стихотворением И.Анненского «Зимний поезд» (1909), где железнодорожный состав предстает как «пышущий дракон», а «хаос полусуществоваиий» дремлющих пассажиров рождает мистический «дурман».
Змей поезда – ср. с фантастическим ощущением героя одной из «симфоний» Андрея Белого: «Вдоль безостановочных рельсов с невообразимым грохотом несся огромный черный змей с огненными глазами. Приподнял хобот свой к небу и протяжно ревел, выпуская бездну дыма <…> В соседних деревнях многие сквозь сон слышали эти зловещие стоны, но думали, что это поезд» («Возврат. III симфония». М., 1905. С. 86).
Павдинец Попов – житель Павдинского края (Северный Урал), где летом 1905 г. вместе с братом Александром Хлебников участвовал в студенческой экспедиции.
Лепта – посильное пожертвование.
Жучки – острые костяные позвонки рыб.
Драка с змеем воина – сюжет о св. Георгии Победоносце; ср. в письме Хлебникова сестре Вере (январь 1921 г.) о своих «числовых» достижениях: «Этот год будет годом великой и последней драки со змеем» (СП, V. С. 315).
Стряпчий – чиновник по надзору за ходом судебных дел.
Мутовка – ветка с сучками.
А между тем рассудком нищи /Змеем пожирались вместо пищи – ср. с названием рис. Ф.Гойи из серии «Капричос» (1803): «Сон разума порождает чудовищ».
Алферове – см. СС, 1. С. 486 (в первой публикации ошибочно было вынесено в название вместе с датировкой).
«Немотичей и немичей…»*
Впервые: отрывок (строфы 6, 1, 2, 3) в Мирсконца, 1912; перепечатан под названием «Война» в Изборнике, 1914. Полный текст: Союз молодежи, 1913 (под неавторским названием «Война – смерть»; А. Крученых считал авторским названием – «Революция», см. его книгу «Наш выход». М., 1996. С. 25); включена в СП, II, 1930. Рукопись, хранившаяся у издателя сборника Л. И. Жевержеева, описана Н. И. Харджиевым (НП, 1940. С. 407–409): приведены зачеркнутые строфы как следствие «автоцензуры» В.Хлебникова и Д. Бурлюка (официального представителя поэтов «Гилеи» в объединении художников «Союз молодежи»), Печатается по корректуре полной публикации (ИРАН) с авторской правкой и с восстановлением в прямых скобках опущенных кусков текста.
Характером метафорических неологизмов и общей смысловой направленностью («мертвая зыбь внутренней войны») поэма сравнима со стихотворениями: «Равнец! скажи, зачем борель…», «И есть ли что мечей поюнней?..» (СС, 1. С. 178 и 180).
В. Маяковский в статье «Война и язык» (1914), приведя из этой поэмы две строки («Железовут играет в бубен, / Надел на пальцы шумы пушек»), рассуждает: «…мне ничего не говорит слово „жестокость“, а „железовут“ – да. Потому что последнее звучит для меня такой какофонией, какой я себе представляю войну. В нем спаяны и лязг „железа“, и слышишь, как кого-то „зовут“, и видишь, как этот позванный „лез“ куда-то <…> Если вам слово „железовут“ кажется неубедительным, бросьте его. Придумайте что-нибудь новое, ясное, выражающее тонкие перепутанные чувства. Мне дорог пример из Хлебникова не как достижение, а как дорога» (ПСС. М., 1955. Т. 1. С. 328).
Навучих – от «нав», см. СС, 1. С. 462.
Покуда обл. – понуждение что-то сделать.
Вой – см. СС, 2. С. 514.
Рухачи – разрушители, те, кто «рушат мир, дружбу, договор» (Даль).
Вайя црк. – вербное воскресенье, ветка вербы.
Слима – значение слова неясно.
Рухом – дружно, всем миром (Даль).
Мнепр или мнестр – тип неологизмов, объясненный Хлебниковым в статье «Наша основа», 1919.
Море Русское – древнее название Черного моря у восточных славян.
Железовут – ср. имя героя прусской мифологии Видевут; в драматической поэме Хлебникова «Внучка Малуши» (1908): «Могучий Вейдавут».
Медлум и Лейли*
Впервые: Литературная газета. 1935. № 63. 15 сентября (публикация Н. И. Харджиева). Печатается по НП, 1940 (где текст больше на одну строфу – пятую по счету – и несколько изменена композиция). В свой экземпляр Садка судей, 1910, Хлебников вписал вариант четвертой строфы – смысловое ядро текста:
В время весеннее, В день вознесения Я вижу славу земли В объятиях Медлума и Лейли.Тема поэмы восходит к ближневосточному сюжету, наиболее известному по произведению Низами Ганджеви (1141–1209) «Лейли и Меджнун» (по определению Хлебникова, «лучшей повести арамейцев»), Поменяв традиционный порядок имен героев, Хлебников сближает свою поэму с европейскими любовными сюжетами («Ромео и Джульетта», «Тристан и Изольда»), В подготовительных материалах к «Детям Выдры» (ИМЛИ) встречается форма имени «Межлум».
Отличающиеся глубокой архаикой курдские сказания, герой которых носит имя «Меджрум» или «Меджлум», по-видимому, послужили главным источником для Хлебникова; сказания эти дважды переводились на армянский язык, в 1895 и 1909 гг. (см. Курдские эпические песни-сказы. Подготовка текстов и комментарии Аджие Джинди. М., 1962) Хлебников, одно время посещавший восточный факультет С.-Петербургского университета, специально интересовался историей восточной поэзии.
Курдистан – территория расселения курдов в пределах пограничья Турции, Ирака, Ирана, Сирии.
Ветхий деньми црк. – старый, древний.
Горят две яркие звезды – только в курдской версии восточного предания о судьбе влюбленных присутствует мотив превращения героев в звезды.
«Напрасно юноша кричал…»*
Впервые: НП, 1940 (по незаконченной черновой рукописи); в комментариях приведены многочисленные наброски, не вошедшие в основной текст. Даем куски наибольшей содержательной определенности:
Язык железного жезла, Скрипя, вонзился в мягкий пол. На справедливой каре зла Земной покоится престол. Он помнит мягкие ковры И озаренное гордое тело. И тень на звездные миры Ресницы бросали дивно и смело. Он помнит пляску и напевы, Ее изгиб, ее волну И шепот страстной нежной девы… Будто призраки людей, Будто женственное племя, Перейдя в страну теней, Позабыло час и время. В песне счастие слетало бы На простор печальных стран, Бьется жалостная жалоба На богов высокий стан. Волна багряная течет Из шеи мертвого коня, Вождю усопшему почет Творит печальная семья. Ладья высокая стоит На насыпи кургана. Печальный вид! В ладье сидит [Супруга скорбью] осиянна… И черных колет петухов Вдали от служащих жрецов Седой высокий воин. Товарищ, спи. Ты умер. Ты достоин.Среди набросков Н. И. Харджиев отметил строфу, которая в измененной редакции вошла в 3-й парус «Детей Выдры»:
Морских валов однообразие Ласкает сердце поморян, И пируют девицы Абхазии На коленях северян.Таким образом, первая «сверхповесть» Хлебникова имеет пересечения с этой незавершенной поэмой.
Историко-этнографические источники поэмы – статья В.Григорьева «Булгары» в «Энциклопедическом лексиконе». СПб., 1836. Т. 7 и «Очерки мордвы» П. Мельникова (А. Печерского) в ПСС. Т. 12., 1898.
Булгарский владавец – «Владетель булгарский носил титул царя, хана или „владавца славян“» (Григорьев В. Указ. соч. С. 296). Государство волжско-камских булгар-мусульман, существовавшее в X–XIV вв., включало земли, населенные языческими мордовскими племенами.
Висеть в закованном гробу / На священном дубу – «Наказание за воровство и прелюбодеяние было самое строгое <…> запирали в деревянный сундук, который вешали на высокий столб» (Григорьев В. Указ. соч. С. 305).
Позморо – священная песня, исполняемая на мордовских праздничных жертвоприношениях.
Атепокштей – здесь: жрец; в точном переводе: «хороший человек», выбираемый для совершения жертвоприношения.
Сакмедэ! – ритуальный возглас, требующий молчания.
Упали робкие мордвины – ритмо-синтаксическое клише по стиху Лермонтова: «Бежали робкие грузины» («Демон», ч. I).
Гурия – райская дева в мусульманской мифологии.
Сыржа – девушка, пленившая своей красотой бога грома и взятая им на небо.
Мельканзо (Мельказо) – бог-громовник, муж Сыржи.
Шелковый дурак – по-видимому, сакральная игрушка (языческий божок).
Лесная дева*
Впервые: Творения, 1914 (со стиха «Когда лесной стремится уж»); то же в СП, II, 1930. В НП, 1940 – вступление к поэме («В лесу, где лебедь с песней стонет»). Впервые печатается как единый текст по двум указанным источникам с внесением поправок в публикацию Творений, 1914, сделанных Н. И. Харджиевым (НП. С. 430). Название черновика поэмы: «Пан».
Фрагмент, отброшенный Хлебниковым в первопечатном тексте (по НП, 1940):
Они упали тут же меж корней, Где выше мох, где травы суше, И четвероногих двое парней Сидят, направив уши. [Как его суровые] уста Сковал он с ртом по воле Пана И как вдоль слабо изогнутого стана Ходила тень его перста. Потом усталый вздох. В его глазах усталость крылий врана. Бездушный мох Запечатлел намеки стройные младого стана. Он спит. Шея его руки младой Испытывает плены. Закрыв себя рукой, Медленно посещает покой. Его от страсти отдыхают члены. И спящей бородой щекочет он Ее, лежащей, грудь прелестную. Так просьба и закон Живут порой судьбою тесною.Руно – шерсть.
Древяницы – ср. дриады, лесные нимфы (неологизм С.Городецкого в книге «Ярь» (1907): стихотворение «Древеницы»).
Цевница – см. СС, 2. С. 522.
Тараруй – шутник, болтун (Даль).
Ярила (Ярило) – см. СС, 1. С. 469.
Сельская дружба*
Впервые: Молоко кобылиц, 1914; включена в СП, I, 1928.
Как голос чей-то в бедствий год: Пастушка, встань, спаси отчизну <…> – тематическая соотнесенность с историей Жанны д’Арк; ритмо-синтаксическая аллюзия к стих. Пушкина «Перед гробницею святой…»: «Когда народной веры глас / Воззвал к святой твоей седине: / „Иди, спасай!“ Ты встал и спас <…> Явись и дланию своей / Нам укажи в толпе вождей, / Кто твой наследник, твой избранник!»
Длань црк. – рука, ладонь.
Пряжа таинственная – нити, которые, ткут богини судьбы.
Парубки укр. – парни.
Святослав – см. СС, 1. С. 498.
Пенязь устар. – мелкая монета.
Притвор устар. – ружейный затвор.
Дышло – оглобля в тележной упряжи, см. СС, 1. С. 358.
Остер – приток Десны (Черниговская обл., Украина).
Так тяжко падает на землю Свинцом пронзенный дикий гусь – ср. окончание поэмы Пушкина «Цыганы»: «Так иногда перед зимою <…> Когда подъемлется с полей / Станица поздних журавлей <…> Пронзенный гибельным свинцом / Один печально остается».
Слова из книги общей «Русь» – ср. эпиграф к второй главе «Евгения Онегина», где сопоставлены омонимы: «О, rus! Ног., О, Русь!» (rus лат. – деревня); таким образом, «сельская дружба» может быть понята как «русская дружба».
Сельская очарованность*
Впервые: Стрелец I, 1915 (первая половина поэмы); Стрелец II, 1916 (вторая половина поэмы со стиха «То истина: не всех пригожих»). Печатается полный текст (впервые: Стихотворения и поэмы. Волгоград, 1985) по указанным источникам.
О фольклорной содержательности текста см.: Евдокимова Л. В. Архетипическая основа поэмы В.Хлебникова «Сельская очарованность» / / Природа и человек в художественной литературе. Материалы Всероссийской научной конференции. Волгоград, 2001.
Вила и леший*
Впервые: отрывок в Мирсконца, 1912; то же – Старинная любовь. Бух лесиный, 1914. Полностью: Ряв! 1913 (где для экономии места пара рифмующихся стихов объединялась в одну длинную строку). Печатается по СП 1,1928 с традиционной стиховой разбивкой, не вызвавшей возражения первого публикатора поэмы А. Е. Крученых (и с учетом текстологических замечаний Н. И. Харджиева в НП, 1940. С. 434).
Осенью 1912 г. Хлебников писал Крученых: «Присылается вещь „Вила“, недоконченная. Вы вправе вычеркнуть и опустить кое-что и, если вздумается, исправить» (СП, V. С. 298). В НХ, XVII, 1930 опубликована «промежуточная» редакция поэмы. См. в СС, 1. С. 276 стих. «Она пошла, она запела…»
Первый опубликованный отрывок в Мирсконца, 1912:
На темени затейника Кипела жизнь лесного муравейника. Да, я работала не зря: Висит косица звонаря, Цветком голубеньким горя. Смеется, дразнится Лугов проказница Не зная жалости. Исчезла разница Людей и шалости. И на плечо ея прилег Летать усталый мотылек.Из ряда отрывков чернового текста, опубликованных в НП, 1940, представляем наиболее характерный для первоначального замысла:
Ты сед, о дед, Любимец бед, Сердито-добрый и седой С своей согнутой бородой, А мне, узнай, семнадцать лет. Любимы мною мотыльки, Холмы, лужайки и цветки. Люблю войти в людские сны. Хожу одетой в ткань весны. Я, ветхо-юная краса, Благословляю небеса, Людей сверкающие взоры И вас, зеленые леса, Лужайки, горы и озера. Пойми, суровый человек, Такой останусь я навек. Воюя с кознями опеки, Себе самой я свой кумир, И я с улыбкой через веки Учу познаньям белый мир. Отсель мой радостный набег. Мне страшен только дровосек. Когда придет, я буду нища, Лесная зелень – моя пища. Я, как небо, благородна, Знатна, светла и легка. Я воздушна и свободна. И с крылами мотылька. Эти белые уступы – Красной чести белый кремель. Он захочет, – станут глупы Мудрецы сильнейших земель. Летом я в венке стрекоз, А зимой – сестра славянки, Сев одна сам-друг на санки, Мчусь на ветер и мороз. Бег реки стал тверд и сух, Всюду чистый, белый пух [Снежки, санки, лед и лыжи, Солнце кратко, солнце ниже] То веселая зима. Полны хлебом закрома. И на вопрос, путем каковым Хочу я жизнь свою прожить, Я отвечаю – мотыльковым Богам намерена служить, Лишь с их чредой могу дружить.Вила – см. СС, 1. С. 460 и СС, 2. С. 586. У Пушкина в «Песнях западных славян» этот мифологический образ имеет иную трактовку: «…богом проклятая Вила» («Яныш-королевич»),
Леший (лесовой, лешак) – в восточно-славянской мифологии хозяин леса и зверей; у Хлебникова – эквивалент Пана (см. стихотворения СС, 1. С. 123, 139, примеч. С. 466, а также примечание к поэме «Азы из узы»).
Крин – CM. СС, 1. С. 484.
Мрежа – см. СС, 1. С. 469.
Зенки – см. СС, 2. С. 500.
Росянка – растение Drosera, солнечная роса.
Овсянка – мелкая птица с желто-зеленым оперением.
Меджедхет – краска для лица у древних египтян.
И дикарскую стрелу / Я на щечке начерчу – намек на эпатажный прием футуристов расписывать свои лица; см. манифест Ильи Зданевича и Михаила Ларионова «Почему мы раскрашиваемся», 1912 // Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания / Составители: В. Н. Терехина, А. П. Зименков. М., 1999. С. 242.
Чечетка – мелкая лесная птица.
Сой – см. СС, 1. С. 470.
Сизоворонка – см. СС, 1. С. 494.
Криница – см. СС, 1. С. 489.
К фрагменту:
Благословляю небеса <…> – ср. в поэме А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин» монолог героя: «Благословляю вас леса…» (романс П. И. Чайковского).
Шаман и Венера*
Впервые: Садок судей, II, 1913; включена в СП, 1,1928. Печатается по рукописи (РГАЛИ), где после стиха «Но был сокрыт ответ богини» зачеркнут следующий кусок:
«Он мало мне знаком» – Она в уме своем решила, Сорвать листочек поспешила И тело бледное прикрыла Березы черным лепестком. И великодушный к ней могол Ей бросил шкуру рыси. И дева, затаив глагол, Моголу бросила взор выси.Вероятный источник замысла поэмы – роман австрийского писателя Л.Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» (рус. пер. 1909 г.): художник Северин хочет написать портрет своей любовницы-славянки Ванды фон Дунаев в образе богини любви, снизошедшей с Олимпа к смертному на скучную и холодную землю; зябнущее тело богини надо согреть в мехах. Здесь исходное начало гротескного совмещения несовместимого в поэме Хлебникова: божественного и человеческого, нежного и грубого, антично-европейского и славяно-азиатского – «пламенный пожар» в «снегах сибирских дикарей». Сходный мотив в пьесе Хлебникова «Боги» (1921): стынущей от холода Юноне Перун подает «черную медвежью шубу сибирских лесов».
Шаман и Венера – ср. название статьи в московском оккультном журнале «Ребус» 1912. № 25. 22 июля: «Монгольские шаманы и французская культура».
Стожар – созвездие Большой медведицы.
Могол (монгол) – среднеазиатское произношение «могол» вошло в наименование восточной части Джагатайского улуса («Моголистан») в составе империи Чингисхана.
Ищу покрова и досуга / Среди сибирских дикарей – ср. стих. И.Северянина «Юг на севере», 1910: «Я остановила пегого оленя у юрты <…> И засмеялась я жемчужно, / Наведя на эскимоса свой лорнет».
Когда-то храмы для меня / Прилежно воздвигала Греция – ср. сцену в очень важной для Хлебникова философской драме Г. Флобера «Искушение Святого Антония» (раздел V): «Венера, полиловевшая от холода, дрожит: „Я своим поясом охватывала весь горизонт Эллады“».
Вервь арх. – слой общества.
Кречет – ловчая птица семейства соколиных.
Младой зари подняв персты – гомеровский образ «златоперстой» богини утренней зари Эос.
Андури – по В. П. Маргаритову (см. СС, 1. С. 489), «сверхъестественная сила, обоготворяемая орочами».
Телепень – повеса, бездельник (Даль).
Суд над старым годом*
Впервые: НП, 1940. На автографе, по сообщению Н. И. Харджиева, было посвящение: «Стихи написаны Марье Михайловне Кузьминой» (мать летчика Г. Л. Кузьмина, издателя «Пощечины общественному вкусу» и др. колл, сборников футуристической группы «Гилея»). На квартире Кузьминых в Москве Хлебников читал эту шуточную поэму 31 декабря 1912 г.
Две отброшенные строфы, первоначально следовавшие за 29-ой:
Он был добрым часовым Над усопшим и живым. «Год текущий мое звание-с»,– Отвечал прохожим, кланяясь. Он ушел, но имя славится В голосов бряцанье общем, Где ура, звон чаш и здравица. На кончину деда ропщем. Пока жили люди, дея, Сторожил их дед, седея. Он, искусней лицедея, То пугал лицом злодея, То бросал снопы цветов И красивым и болезным, Равно ласков и готов Быть всем нужным и полезным.Гуторить обл. – говорить, болтать.
Деверь – брат мужа.
Вместо «е» поставлю «ять» – по-видимому, имеется в виду игра слов: «смерть» (через «е») и «смерить» (через «ять»).
Тютюн укр. – табак.
Десница црк. – слав. – правая рука.
Кочет обл. – петух.
<…> от падали / Сытым <…> Юрий Репин – о художнике Репине Ю.И. (1877–1954), сыне И. Е. Репина, в семье которого придерживались строгой вегетарианской диеты.
Хаджи-Тархан*
Впервые: Трое, 1913; включена в СП, 1,1928. Печатается по рукописи (РГАЛИ), где зачеркнуты два куска: после стиха «Устав разгулом и торговлей» –
Мелькает юная татарка, Проходит сонный армянин. И сквозь окно сверкает чарка – Пылает взгляд красавиц жарко – То вечеряет семьянин;после стиха «Рукой огневою начертим мы смех» –
В море спихнувши все толпы утех. Рок нам не страшен, нам буря мала. Крыло наше двойственный мир пересекло. Предков надежда – вот кость у крыла. Как духи добра, низвергаемся в пекло. Пусть знают, нами север занят. Пускай цветок земли завянет.Хаджи тюрк. – праведник, совершивший паломничество в Мекку.
Тархан тюрк. – свобода от податей.
Хаджи-Тархан – одно из старинных названий Астрахани; следует учесть рифменную близость «Тархан – Казан» (название столицы Татарии в тюрк, орфоэпии) в связи с образным и содержательным материалом поэмы.
Богдо калм. – святой; название горы между Волгой и соляным озером Баскунчак. Согласно калмыцкой легенде, два буддийских монаха по велению далай-ламы несли гору с Урала на юг; поддавшись искушению женской красоты, один из подвижников ослаб духом, и гора погребла монахов под собой. См. стихотворение А. Навроцкого (С. 421) «Гора Богдо» в его книге «По Волге. Волжские былины и сказания в стихах». СПб., 1903; см. также; Рыбушкин А. Записки об Астрахани. Астрахань, 1912.
Пажить – пустошь, пастбище.
Мыт – место линьки птиц.
Пропел кочевник-мальчуган – ср. стих. «Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды…» (СС, 1. С. 205).
Стрепет – степная птица.
Хурул – храм калмыков-буддистов: либо несохранившийся Великий хурул близ Астрахани, либо известный Хошеутовский хурул князя Тюменя (село Речное).
Будь пьяным, путник, пой и пей – связано со стих. Г. Р. Державина «Желание зимы» (1787), где упомянут «астраханский красный кабак»; «Захарьин, пей и пой!» (Творения, 1986. С. 682).
Ах, вечный спор горы и Магомета <…> – известный сюжет из «Книги Марко Поло», гл. XXVII–XXX («О великом чуде в Багдаде и о горе»): силой молитвы простой христианин сдвинул гору, доказав тем самым местному халифу, ревнителю мусульманства, правоту своей веры. Сюжет этот образно перекликается с волжской историей и топографией: правый, высокий, берег реки со времени присоединения Казанского ханства к Москве назывался Горой, а низменный, левый, берег оставался преимущественно мусульманским.
Столбы с челом цветочным Рима – капители колонн римского ордена, украшенные листьями аканфа; в средневековой хронике «Казанская история» (ПСРЛ. Т. XIX. Спб, 1903) говорится: «…если бы имел ты даже вавилонские стены и высокие римские столбы, все равно не устоял бы ты перед таким могущественным царем» (цит. по: Памятники литературы древней Руси. Середина XVI в. М., 1985. С. 421).
Где смотрит Африкой Россия – здесь и далее («Рукав реки – морской Египет») сравнение основано на цивилизационной значимости Волги и Нила: ср. название путевого очерка В. В. Розанова «Русский Нил», 1903. Для Хлебникова значимо и совпадение названия Волги – Ра (у греческих историков) с именем египетского бога солнца Ра.
Где дышит в башнях Ассирия – здесь и далее («На Ассирию башен намек») возможно и архитектурное сопоставление, и смысловой переход к теме «вавилонской башни»: «…удивляешься смешению разных народов, которые стекались, кажется, из всех пределов света <…> с приятным изумлением слышишь звуки незнакомых выговоров, которые напоминают о Вавилонском смешении языков» (Измайлов В. Путешествие в полуденную Россию в 1799 г. / / Астраханский сборник. Астрахань, 1896. С. 330).
Мила, мила нам пугачевщина – эпизоды крестьянской войны XVIII в. связаны не с Астраханью, а с Казанью, в исторической хронике которой важна дата взятия города Пугачевым (1774): сожжение помещичьих и купеческих домов, публичные казни на паперти Богородицкого монастыря.
Там старей, брошен престарелый, / Набату страшному внемля – после взятия Астрахани Степаном Разиным многие богатые и почетные горожане были казнены; в мае 1671 г. с колокольни кремля был сброшен 74-летний митрополит Иосиф. См. стихотворение A. Навроцкого «Митрополит Иосиф» в указ, книге «По Волге».
«Сарынь на кичку» – с этим возгласом волжские разбойники, по преданию, нападали на речные суда: «„сарынь“ – ватага черного народа» (Даль); Хлебников в заметке «Ухо словесника» (1912) сближал «сарынь» и «сарыч» (птица-хищник). В XX в. архаическое выражение получило широкую известность благодаря «привольному» роману B. Каменского «Стенька Разин» (1915).
Сквозь русских в Индию, в окно – в контрастной связи с образной формулой Пушкина: «В Европу прорубить окно» («Медный всадник»). Через Астрахань несколько столетий шла оживленная торговля с Азией. См. разыскания местного историка А. Н. Штылько: Индусы в Астрахани / / Иллюстрированный путеводитель по Астрахани, 1900.
Лик его помню суровый и бритый – по фотографиям и семейным преданиям о деде поэта, купце и судовладельце Алексее Ивановиче Хлебникове (1801–1871).
Помню я свет отсыревшей божницы – о могильном склепе семейства Хлебниковых.
Гяур – иноверец.
Казани страж – игла Сумбеки – семиярусная башня Казанского кремля (сер. XVI в.), построенная велением царицы Сююмбеки, жены трех последних казанских ханов.
<…> И отражен спокойным тазом <…> – способ наблюдения за полетом голубей описан в рассказе И. С. Тургенева «Однодворец Овсяников» («Записки охотника»): «К ногам графа большой серебряный таз поставят с водой, он и смотрит в воду на голубков».
Невест восстанье было раз – так называемый «свадебный бунт» 1705 г. в Астрахани: после распространения слухов, что приказом царя Петра всех девиц будут насильно выдавать замуж за немцев, в городе срочно сыграли сто свадеб.
Чу! Слышен плач, и стон княжны <…> – легендарный сюжет «Разин и персиянка», см. поэму «Уструг Разина».
Тройка рек – Дон, Волга, Яик, где действовал Емельян Пугачев, «соперник государя».
<…> Ломоносов / Был послан морем Ледовитым <…> – по Хлебникову, геополитическая идея русской государственности: ось «север – юг»(в противоположность традиционному направлению «запад – восток»). См. в поэме «Песнь мне» о детях севера и юга.
«Падам до ног!» польск. – выражение рыцарской учтивости (здесь: знак западнических настроений).
Хвалынского – Волынского – Хвалынское море (в народных песнях – Волынское) – старинное название Каспия; астраханский и казанский губернатор А. П. Волынский известен как борец против немецкого засилья («бироновщина») при императрице Анне Иоанновне, в 1740 г. был обвинен в предательском заговоре и обезглавлен.
И живая смерть Олега – отсылка к «Песне о вещем Олеге» Пушкина: русско-варяжский князь боролся с хазарским государством, столица которого Итиль находилась в 15 км севернее современной Астрахани.
Бог скота – Велес (в христианской традиции св. Власий), покровитель домашних животных.
Он с нею боролся мешками с мукой – из астраханских сказаний о борьбе с наводнениями; в доме Хлебниковых были книги краеведческого характера, например, Штылько А. Н. Астраханская летопись, 1554–1897. Астрахань, 1898; Хлебников П. Х. Астрахань в старые годы. СПб., 1907 и др.
Высокий и белый возносится храм / С качнувшейся чуть колокольней – Успенский собор и колокольня над Пречистенскими воротами Астраханского кремля.
Лох – дикая маслина.
Гусяна – плоскодонная грузовая баржа.
Моряна – см. СС, 1. С.472.
И в нем имеют общих жен – исторический аспект концовки поэмы прокомментирован в Творениях, 1986. С. 682: «восточные купцы (индийцы, персы), проживавшие многие годы в Астрахани в XVI–XVIII вв., вступали во временные браки с местными женщинами».
Марина Мнишек*
Впервые: Фантастический кабачок, 1918 (начальные 35 строк); то же в СП, III, 1931. Полный текст: журнал «Звезда». 1975. № 11 (публикация А. Е. Парниса), печатается по Творениям, 1986.
Поэма писалась в связи с широко отмечавшимся в 1913 году 300-летием дома Романовых и особым интересом Хлебникова к краеведческому аспекту исторической Смуты, которая завершилась воцарением новой династии (в этом смысле возможно влияние на работу поэта исследования А. Н. Штылько и К. Н. Малиновского «300-летие освобождения Астрахани от мятежной шайки Заруцкого и Марины Мнишек». Астрахань, 1914). Начало поэмы – вариация «польских» сцен в драме Пушкина «Борис Годунов».
Марина Мнишек (158?–1614) – дочь польского магната, сандомирского воеводы Ежи Мнишека; жена Лжедмитрия 1 и (соответственно) «русская царица» с 1605 г., признавшая и Лжедмитрия II как своего «спасшегося» мужа. В 1611 г. приняла покровительство казачьего атамана Ивана Заруцкого (?–1614), который, переходя из одного воевавшего стана в другой, поддерживал в своих целях «царицу» и предполагал объявить русским царем их сына Ивана (1611–1614).
Тату польск. – обращение к отцу.
Урсула – сестра Марины.
Вишневецкий Адам – муж Урсулы, украинский магнат, принявший католичество; представил Мнишеку, а затем и польскому двору русского авантюриста, который выдавал себя за царевича Димитрия, сына Ивана Грозного (см. СС, 2. С. 589).
Станислав – брат Марины, участник польского похода в Россию.
Сечь Запорожская <…> Дрожи, соседних стран покой! – по Н. И. Костомарову (см. СС, 1. С. 526), отряды запорожских казаков до польского похода на Москву активно помогали нескольким самозванцам овладеть молдавским престолом.
Свичадо польско-укр. поэт. – зеркало.
Сапега – см. СС, 1. С. 492.
Блошанка – женская нижняя рубаха.
Ведро – хорошая погода.
Милоть арх. – овчина, шерсть; здесь: царское меховое одеяние, ср. в трагедии Ф.Шиллера «Дмитрий Самозванец», переведенной Л. А. Меем: «… слишком много Препятствий неожиданных придется Вам побороть, чтобы наконец достигнуть До золотого вашего руна» (Мей Л. А. ПСС. СПб., 1911. Т. 2. С. 281).
Кречет – см. С. 444.
Косматый конь с брадою мужа – ср. апокалиптическое видение четырех животных в «Откровении св. Иоанна Богослова», 4:7: «животное имело лице, как человек».
Зозуля укр. – кукушка.
Потоцкий – фамилия, вызывающая разные исторические и литературные ассоциации (род польско-укр. магнатов).
Почечуй – см. СС, 2. С. 584.
Она примирит костел с Востоком – идея униатства (объединения православия с католичеством).
Держак – рукоять холодного оружия.
Пястук – пясть, «пятерня» (по-видимому, неологизм с ориентацией на «польскость»).
На послух свой др. – рус. – повинуясь себе.
Тушино – ставка Лжедмитрия II под Москвой.
Очкур арх. – пояс с застежкой для шаровар.
Владислав – сын польского короля Сигизмунда III; пятнадцатилетним юношей был приглашен на русский трон группой московских бояр (1610); польский король в 1632–1648 гг.
В Калугу – то есть в новую ставку бежавшего «тушинского вора»; в 1610 году Лжедмитрий II был убит в Калуге, а к Марине приезжали сюда для переговоров представители польского двора, в том числе и Ян Сапега (1569–1611).
Шуйский Василий Иванович (1552–1612) – глава боярского правительства в Москве после убийства Лжедмитрия I; в 1606 г. был провозглашен царем, умер в плену у поляков.
Пых арх. – от пыхать (быть надменным).
Шиши – «так называли поляки буйные толпы не подчиненных никакому порядку русских партизан» (примеч. М. Н. Загоскина к своему роману «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», 1829).
Ревность устар. – усердие.
Избранник деревень – вероятно, Кузьма Минин (?–1616), «земский староста» из Нижнего Новгорода, организатор антипольского народного ополчения.
Любимец жен <…> – вероятно, князь Пожарский Димитрий Михайлович (157?–164?), возглавивший вместе с К. Мининым борьбу русского народа против иностранной интервенции.
Святая чернь – православные монахи, боровшиеся с поляками при осаде Троице-Сергиевой лавры.
Бирючи – см. СС, 2. С. 514.
Ляпунов Прокофий(?–1611) – один из самых активных участников Смуты, убит казаками Заруцкого.
Темрюк, самота укр. – угрюмый, одинокий.
Воду жечь охотники – бесшабашные люди (ср. имя героя в рассказе Хлебникова из жизни запорожцев – «Смерть Паливоды»),
Валуев Григорий – боярин, убивший Лжедмитрия I.
Пищаль – см. СС, 1. С. 471.
Кат зна! польск. – черт знает!
Так погибала <…> – изгнанные из Астрахани, Заруцкий и Марина бежали на Яик, где были схвачены местными казаками и переданы новым московским властям. Марина Мнишек умерла в заточении в Коломне, где одна из башен кремля называется «Маринкиной».
Жуть лесная*
Впервые: НП, 1940 (по незаконченной черновой рукописи); многочисленные поправки и варианты отдельных стихов в комментариях Н. И. Харджиева. Куски, оставшиеся вне основного текста:
Суконные черные осы Хранили жало в лебяжьем мху. И их развернутые косы Стеклянно блещут на ходу. Льняные кудри, точно птенчики Уж разоренного гнезда, Разинув клювики-бубенчики И с пляской пели: вас сюда! Тяжелое изящество ея, На шелке черном кружев ячея. <Поздней> свершив полет дуги, Мы стали милые враги. Воспоминаньем про мозоль Уже закуталася смоль. Чугунной куклы сухой треск Дощечек узких вокруг рук К желанному жеманный блеск Кружил <растрепанный> паук. Дана мне слава <мух>, Ее к ногам бросаю слуг. И на клыке моем слоновьем Сидела весть: иди к здоровьям. Взбежал наверх: какая темь! Число звонка я вижу: семь.Незавершенная поэма представляет еще один пример хлебниковского «дневника в стихах» (ср. «Передо мной варился вар…», «Карамора N 2-ой» и примем.), в данном случае относящегося к хронике петербургского художественно-артистического клуба («подвала») «Бродячая собака». См. в мемуарах Б. Лившица «Полутораглазый стрелец» (1933) главу «„Бродячая собака“ и литературные салоны»; см. также: Парнис А., Тименчик Р. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. Новые открытия. Л., 1985.
Бросим взоры в водоем – ср. в поэме А. Мюссе (С. 428) «Декабрьская ночь» («Избранные сочинения». СПб., 1901) образ поднимающихся со дна души воспоминаний: «И я блуждал по пропастям забвенья, как водолаз по водной глубине» (пер. А. Мысовской).
Надми – от «надмить» (делать надменным).
Гапон – священник, принимавший деятельное участие в событиях «кровавого воскресенья» 1905 г. (см. СС, 2. С. 575); обвиненный в провокаторстве, был убит эсерами.
Где родич волка щерит рот – на гербе «Бродячей собаки» работы М. В. Добужинского была изображена собака, положившая лапу на карнавальную маску.
Круль ворон – с польск.: король; намек на Бальмонта К.Д. (1867–1942), переводчика знаменитой баллады Э.По «Ворон». В «Бродячей собаке» 8 ноября 1913 г. состоялось чествование Бальмонта как «короля поэзии».
Чтобы пробор вам закивал – в адрес Маковского С.К. (С. 431) и всех вообще «аполлоновцев». Ср. в манифесте футуристов «Идите к черту!» характеристику акмеистов: «А рядом выползла свора адамов с пробором – Гумилев, С.Маковский, С.Городецкий, Пяст…» (1914).
«Перун» – книга стихов С.Городецкого (см. СС, 2. С. 540).
Дает леща щекам сутулым – дает пощечину. Чествование Бальмонта не обошлось без грубого выпада против «короля» со стороны одного из завсегдатаев «подвала» (сына пушкиниста П. О. Морозова); Городецкий немедленно вступился за поэта. В газетных репортажах об этом инциденте «хулиган» без каких-либо оснований был причислен к футуристам.
Турчанки обморока шали – об Анне Ахматовой (см. СС, 1. С. 502).
«Будем как солнце» – название самой популярной книги стихов Бальмонта.
Зане црк. – слав. – потому что.
Красивы трупы на стене – восприятие Хлебниковым настенной росписи подвала «Бродячая собака» (работы Судейкина С.И. и Кульбита Н.И.).
Теперь даем приказ вселенной – примеры таких «приказов» как результат нумерологических изысканий Хлебникова по «осаде звезд» см. в статье «Буги на небе» (сб. «Взял», 1915) и в «Досках судьбы» (Лист 3,1922).
То ты в толпе из тех ецов – словообразовательный суффикс «ец» (лжец, малец) используется как существительное множ. числа: обычные люди, далекие от творческих прозрений.
<…> для хлама /Нужный свиристель <…> – возможный намек на О.Мандельштама, конфликт с которым в «Бродячей собаке» в ноябре 1913 г. едва не закончился дуэлью (см. Вестник Общества Велимира Хлебникова 1. 1996. С. 48). По версии А. Е. Парниса, здесь нашел отражение конфликт Хлебникова с Н. И. Кульбиным на первом вечере Ф. Т. Маринетти в Петербурге 1 февраля 1914 г. (см. «Терентьевский сборник». М., 1996. С. 234).
Пястецкий или просто Пяст – Пяст Владимир Алексеевич (1886–1940), поэт, автор мемуарной книги «Встречи» (1929), см. на С. 431.
Я в настроенъи Святослава – киевский князь предупреждал врагов: «иду на вы», см. СС, 1. С. 498.
Пускай прикроют песни Ноя – возможно, имеется в виду чтение Сашей Черным своей поэмы «Ной» (опублик. в альм. «Шиповник». СПб. 1914. № 23).
Я со стены письма Филонова – имеется в виду утерянное живописное полотно Павла Филонова (1883–1941; см. СС, 1. С. 481 и СС, 2. С. 501) с изображением «очеловеченного коня». По воспоминаниям А. Крученых, в 1913 г. «Филонов писал портрет Велимира Грозного, сделав ему на высоком лбу сильно выдающуюся, набухшую, как бы напряженную мыслью жилу» («Наш выход». 1996. С. 77).
Листок немецкий – объявление войны Германией (19 июля 1914 г.)..
Хвалебных слов ты недостойна <…> в адрес К. Л. Богуславской-Пуни (см. СС, 1. С. 498).
Чтоб соловьиный свист и мык / текли там полною рекой – ср. стих. «Где засыпает невозможность…» (СС, 2. С. 234); мык – мычание, рев.
Гафиз (Хафиз) (1325?–1390?) – персидский поэт; его газели, собранные в сборнике «Диван», отличаются как поучительным, так и гедонистическим характером. На «башне» Вяч. Иванова в 1906 г. был дружеский кружок «гафизитов».
Для посетителей соловая – опасная, см. СС, 1. С. 492.
Тростник иль мыслящая печь – ср. у Тютчева «мыслящий тростник»; см. СС, 2. С. 209 и в поэме «Синие оковы» (С. 382).
Платон (IV в. до н. э.) – древнегреческий философ, в диалогах которого Хлебников находил свои собственные идеи; см. примеч. к стих. «Моряк и поец» (СС, 2. С. 548).
Спиноза Бенедикт (1632–1677) – нидерландский философ-пантеист, работы которого повлияли на мировоззрение юного Виктора Хлебникова. См. «Еня Воейков» (публикация С.Старкиной) // Вестник Общества Велимира Хлебникова 1. М., 1996.
Сумка двуутробки – «чревосумчатое животное, которое донашивает детенышей в запазушнике» (Даль), здесь: за пазухой.
<…> Взял в долг тот художник суровые глаза – по Харджиеву, здесь имеется в виду Пуни Иван Альбертович (1892–1956), муж К. Л. Богуславской, издатель сб. «Рыкающий Парнас» (1914).
Теперь на Каспии – то есть в Астрахани.
Езиня – Харджиев дает пример из неопубликованной статьи Хлебникова 1913 г.: «Езини живут в езерах или озерах».
Одетый, трое целых суток / Я не покидывал кровать – ср. с дневниковой записью 1913 г.: «7.ХП. Самый короткий день, его я провел на даче Куоккала у Пуни. День был безотрадный и моя Солодка разгневана… Ссора и гнев на меня… Три дня сидел, не выходя из комнаты» (СП, V. С. 327).
Гайдамак – см. СС, 1. С. 491.
Мысь обл. – белка.
Ушкуй – лодка.
Кивач – водопад в Карелии.
К фрагментам:
Птенчики-бубенчики – ср. в стих. «Золотистые волосики» (СС, 2. С. 217).
Олег Трупов*
Впервые: НХ, XXII, 1931 (машинопись); включена в СП, V, 1933. Печатается по рукописи (РГАЛИ), имеющей характер предварительного черновика в записной книжке: в основном на лицевых полосах фиксировалось смысловое движение текста, на оборотных – сопутствующие (подготовительные?) куски; таким образом, композиционная последовательность поэмы проблематична.
Вероятно, «Олег Трупов» писался как продолжение (или параллель) «Жути лесной», где лирический герой представляется «Олегом» и «Вещим».
Связные фрагменты с оборотных сторон записной книжки:
Чернила на пере орлана Шумели, тучи разрезая, На ручке писем Дагестана Резьба серебряно-косая. Оно пушистое, рябое В руке прекрасной зверобоя Опишет Каспия волну И ваш вопрос шутливый: ну? Носитель серых парусов Овчарковатый и понурый С пушистым облаком усов Сидел над отмелию хмурый. Покой тонул в холодном сумраке, В полотнах лица исказил И громкий говор уст и шум реки Уструга путь изобразил. И облик деланно прямой Стрельца над синею кормой – Весь белокурый он возник У столика – деревни книг. Так стадом белых дикарей. Одежды скинув, вы купались. И бездны моря пескарей Пред вами важно раступались. Я шел на голос, о, злодейство! Вблизи купалось все семейство. И заслонен листом кувшинки Он виден мне с лесной тропинки. Но вот я встал, захлопнул книги. Про облако и про штаны расскажет Маяковский. Тогда тевтоны шли у Риги И трепетал волной Чуковский.Бриль укр. – соломенная шляпа.
Тамтам – африканский барабан, см. СС, 1. С. 329.
Как голубь <…> в синий таз – см. на С. 447.
Друзья снимали труп Гапона – см. на С. 452.
Хлынули люди с копьями зорь – ср. название публицистической книги «Говор зорь» (1909) Пимена Карпова (см. на С. 431).
Вот юноша. Он еще не стар<…> – вся строфа эмоционально перекликается со стих. «Где волк воскликнул кровью…» (СС, 1. С. 343).
Пронин Борис Константинович (1875–1946) – актер, организатор «Бродячей собаки».
Доверив все двадцати-трехлетью – по-видимому, намек на В. Маяковского, прямо названного в последнем (дополнительном) фрагменте в связи с поэмой «Облако в штанах»; см. также примеч. СС, 2. С. 532.
Изящный вечер. Пел Эн-ин – здесь, возможно, авторская транскрипция китайской философемы «инь-ян» (два мировых начала: темное, разъятое – женское и светлое, цельное – мужское); в кн. Гелльвальд Ф. История культуры. Первобытная культура и древние восточные цивизизации. СПб., 1897. Т. 1. С. 256 эта пара транскрибируется «йень-йин». В 1913 г. «Союз молодежи» (см. с. 435) издал сб. древнекитайской поэзии «Свирель Китая» с транскрипцией «jang-jin». Один из составителей сб. художник В.Марков противопоставлял машино-рассудочной Европе, не понимающей красоты случайного, нелогичного, – природную естественность Востока, помогающего современному искусству осознать свои творческие принципы. У Хлебникова китайские мотивы связаны также с его близкой знакомой Н. В. Николаевой (см. СС, 1. С. 517–8).
Пришел 13-й – персонаж пьесы Хлебникова «Ошибка смерти» (1915): «13-й посетитель»; в прозе «Ка2» (1916): «Мы сели на 13» – номер трамвая. Ср. также название утерянного произведения: «13 в воздухе».
Цева – см. СС, 1. С. 516.
<Рагозин> – лицо не установленное; тематическая направленность строфы – студенческая юность в Казани.
Тройчатка – трехконечная плетка.
Батый – см. СС, 2. С. 569.
Игры отец – возможно, имеется в виду знакомый Хлебникова, режиссер Евреинов Николай Николаевич (1879–1953); в свете его общей идеи «театрализации жизни» такие исторические явления как публичные казни, разного рода физические наказания находили истолкование в духе эстетического «инстинкта преображения».
Нечеловеческой игрой / Кто исказил гробов покой <…> – ср. в повести «Ка», 1915: «…случалось ли вам играть не с предметным лицом… а с собирательным, хотя бы мировой волей? А я играл, и игра эта мне знакома. Я считаю ее более увлекательной той, знаки достоинства которой – свечи, мелок, зеленое сукно, полночь».
К фрагментам:
На ручке писем Дагестана <…> – о художественной гравировке мастеров дагестанского аула Кубани.
Тогда тевтоны шли у Риги – к 1916 г. Рига стала прифронтовым городом.
Чуковский К. И. (1882–1969) – литературный критик, оппонент футуристов; в своих статьях и лекциях нередко касался творчества Хлебникова (см. СС, 1. С. 480). Д. Бурлюк в конце 1913 г. выступал в разных аудиториях с лекцией «Пушкин и Хлебников (ответ гг. Чуковским)».
<Воззвание Председателей Земного Шара>*
Впервые: Временник 2, 1917 (без названия, с подписями трех авторов сборника – В. Каменский, Г. Петников, В. Хлебников). В дневниковых записях Хлебникова упоминается и как «Манифест…», и как «Воззвание…» При перепечатке Н.Асеевым в журн. «Творчество». Владивосток. 1920. № 5 текст назван «Правительство Земного Шара», указано авторство Хлебникова и жанровое определение; «поэма». Включена в СП, III, 1931 г. без названия, без имен, приглашенных в «правительство звезды», и финального фрагмента «Предложения»; полностью – Творения, 1986.
Написано в Харькове (весной 1917) сначала как текст прозаический (см. «Воззвание председателей земного шара» в СП, V, 1933), затем ритмизованный и значительно исправленный специально для Вестника 2.
Правительство Земного Шара – развитие первоначальной идеи «Общества 317» (объединение мыслителей, поэтов, изобретателей, нравственно свободных от догм и законов современных «пространственных» государств; «317» есть числовой символ ритмических колебаний человечества как единой звуковой струны); в декларации 1916 г. «Труба марсиан» – это «Дума марсиан», в которую «с правом совещательного голоса» приглашались Г.Уэллс и Ф.Маринетти; см. примеч. СС, 2. С. 519.
Прапор устар., укр. – знамя, см. СС, 1. С. 210.
Балакирь устар. – горшок.
Эво-э – возглас приветствия на празднествах в честь бога Диониса, см. с. 427; ср. в стих, эгофутуриста К.Олимпова «Эван, эвоэ» (1913) эпиграф из Мирры Лохвицкой: «Эван, эвоэ, вперед, вперед» (цит. по кн.: «Русский футуризм / Составители В. Н. Терехина, А. П. Зименков». М., 1999. С. 151).
Только мы, встав на глыбу – ср. «Стоять на глыбе слова „мы“ среди моря свиста и негодования» (из декларации «Пощечина общественному вкусу», 1912).
Фиджи – острова в юго-западной части Тихого океана; здесь: государства, сохраняющие людоедство мировой войны (см. СС, 1. С. 341).
Голубое знамя безволода – в прозаическом «Воззвании…»: «черное знамя безволода» (СП, V, 164); см. примеч. к стих. «В каждом громком слове…» (СС, 2. С. 564).
Сун-Ят-сен (1866–1925) – китайский революционер-демократ, активно выступал против вовлечения Китая в Мировую войну.
Рабиндранат Тагор – см. СС, 2. С. 519.
Вильсон Вудро (1856–1924) – президент США, в декабре 1916 г. обратился к правительствам воюющих стран с предложением о мире.
Керенский А. Ф. – весной 1917 г. популярный «левый» министр Временного правительства, вошедший в него как представитель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов; см. СС, 2. С. 501.
Война в мышеловке*
Впервые: НХ, V, 1928. СП, II, 1930. Печатается по рукописи (РГАЛИ), первоначально озаглавленной «Я и Вы». Окончательное название восходит к антимилитаристским тезисам апреля 1917 г.: «Наш ответ войнам – мышеловкой» (см. СС, 2. С. 499). Рукопись начата авторским предуведомлением: «Объединены стихи, помещенные в Центрифуге II, 4 птицы, Пета, Без муз, Взял, Временник, Очарованный странник, Ошибка смерти, Красный воин, День Свободы». На отдельном листе запись: «Для переписки Р. О. Якобсону», что дает возможность датировать рукопись весной 1919 г., когда был утвержден к публикации в ИМО («Издательство молодых» под руководством В. В. Маяковского) том сочинений Хлебникова с предисловием Якобсона (идея не осуществилась). В рукописи пронумерованы шесть первых частей текста, нумерация остальных – редакционная (в соответствии с составом композиции).
Метод монтажа первоначально самостоятельных стихотворений в новое жанрово-смысловое единство (Хлебников в своих записях называл «Войну в мышеловке» поэмой) прослеживается в двух последующих вещах данного тома: в «Царапине по небу» и в «Азы из узы».
В монтажной композиции составляющие ее стихотворения потеряли свои названия, имеются иногда незначительные, иногда существенные разночтения лексические, синтаксические, смысловые. Ср. пронумерованные части «Войны в мышеловке» со стихотворениями, помещенными в 1 и 2 тг. данного издания: 1–1. С. 346; 2–1. С. 323; 3–1. С. 371; 4–1. С. 351 и 350; 5–1. С. 343; 6–1. С. 324; <7> – 1. С.373; <8> – 1. С. 341; <9> – 2. С. 26; <10> – 1. С. 345 (в составе стих. «Еще сильней горл медных шум мер…»), прижизненная публикация в альманахе «Без муз» после «Морской песни», соответствующей предыдущей <9> части; <11> – 1. С. 359; <12> – 1. С. 376; <13> – 1. С. 377; <14> – 2. С. 8; <15> – 1. С. 340; <16> – 2. С.10; <17> – 1. С. 369; <19> – 2. С. 22; <20> – 1. С. 354; <21> – 2. С. 32 и 1. С. 300. Единственная самостоятельно не печатавшаяся часть «Войны в мышеловке» – <18>.
Все комментирующие объяснения публикационных обстоятельств и содержательных особенностей текста «Война в мышеловке» см. в примеч. к указанным стихотворениям.
К части <18>:
Ян Собеский – см. СС, 2. С. 582.
Уравнение Минковского / На шлеме сером начертал – см. примеч. СС, 2. С. 502 и 532; пересечение идей немецкого ученого с образом поэмы В.Маяковского «Война и мир»: «Мишенью / на лоб / нацепили крест / ратника».
Каменная баба*
Впервые: завершающий фрагмент в НХ, XII, 1929. Полностью в СП, III, 1931. Печатается по рукописи (РГАЛИ).
Каменная баба – древнее скульптурное изображение человеческой фигуры (из мелкозернистого песчаника), связанное с культом предков. Подобные изваяния разного размера разбросаны по степной полосе евразийского континента, от Прикарпатья до Монголии. В регионе южнорусских степей их принято считать половецкими надгробиями (XI–XII вв.) или даже памятниками аланов и хазар (VI–VIII вв.). Богатые коллекции этих скульптур собраны в музеях Украины и России. См.: Веселовский Н. Современное состояние вопроса о «каменных бабах» или «балбалах» / / Записки Одесского общества истории и древности, т. 32. 1915. Тематически поэма связана со стих. К. К. Случевского (1837–1904) «Каменные бабы». Ср. стих. «Может, я вырос чугунною бабой…» (СС, 2. С. 41).
При перезахоронении В. В. Хлебникова в 1975 г. подлинная «каменная баба» была использована в надгробном памятнике (см.: Май Митурич-Хлебников. Где умер и где похоронен Велимир Хлебников // Вестник Общества Велимира Хлебникова 1. М., 1996).
И где хохочущей русалкой – параллель к стих. «Жизнь» (СС, 2. С. 40).
Треба – см. СС, 1. С.504.
Мне много ль надо? – ср. стих. «Мне мало надо…»(СС, 2. С. 381).
Висла – см. с. 265 и 433.
Тисс (Тиса) – левый приток Дуная, в основном – в пределах Венгрии; здесь реки олицетворяют страны Восточной Европы, выпавшие из прежних имперских систем.
Гопак – украинский танец, ср. в поэме «Переворот в Владивостоке».
Поэт*
Впервые: СП, 1,1928. Печатается по рукописи (РГАЛИ).
О создании поэмы в условиях Харьковской психиатрической больницы сообщил в 1935 г. профессор В. Я. Анфимов (см. примеч. к стих. «Лунный свет» – СС, 2. С. 515). В первой редакции поэма называлась «Карнавал» и имела 365 строк; автограф сопровождала дарственная надпись: «Посвящаю дорогому Владимиру Яковлевичу, внушившему мне эту вещь прекрасными лучами своего разума, посвященного науке и человечеству». В мае 1921 г. поэма была переработана и расширена. В дневниковых записях она называется также «Русалка» («Русалка и поэт»), датирована («написана 16, 17, 19 октября 1919 года») и охарактеризована как «лучшая моя вещь» (об этом же С.Городецкий, передавая слова поэта: «Здесь я показал, что умею писать, как Пушкин» – газ. «Известия». 1922. № 147. 5 июля).
См. детальный анализ поэмы в кн.: Леннквист Б. Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова. СПб., 1999.
Цвет синей меди – медная лазурь (минерал синего цвета).
Так праздник масляницы вечный – масленица как календарный праздник проводов зимы дальнейшим движением поэмы перерастает в более позднюю «русальную» неделю зеленых святок.
Бежит туда быстрее лани – ср. у Лермонтова: «Гарун бежал быстрее лани» («Беглец»), «Несется конь быстрее лани» («Демон»).
Дева, <далее> Дева-Цаца – белорусская богиня лета Цеца (см. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. Т. III. М., 1869. С. 680).
Игра цветами белены – см. «белена» на С. 429; выражение «белены объелся» – делать глупость, сумасбродить (Даль); по Б. Леннквист, использование галлюциногенной мази из цветков белены.
С осьминогом на груди – на карнавальном костюме изображение солнечного диска с лучами-щупальцами, см. СС, 1. С. 451: «Руковолосое Солнце».
Пасть кита несут <…> – по-видимому, сложная ассоциация с элементами народного театра (скрыня с куклами), представляющего библейские сюжеты (например, Иона в чреве кита).
Харя устар. – маска, личина.
Лада – в славянской мифологии богиня весны и плодородия; с принятием христианства поклонение ей было перенесено на Деву Марию (Богородицу).
Волосы падали / Оленей сбесившимся стадом <….> – ср. образ из библейской «Песни песней»: «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской» (Б.Леннквист); вместе с тем портрет «певца» («сумасшедший и гордый») на фоне груды камней ассоциируется с картиной Михаила Врубеля «Демон» (1890).
Кут укр. – угол; строгий кут – ср. в стих. «Этот строгий угол груди…» (СС, 2. С. 175).
Алмаз Кизил-Э – возможно, искаж. тюрк. – перс. «алмас-э кизил» – красный алмаз (Творения, 1986, С. 683).
Выпь – ночная болотная птица.
Морока – мираж, блики света на воде; ср. «морок-ворог» (СС, 1. С. 37).
Научный огонь – электричество; см. примеч. к стих. «Бог XX века» (СС, 1. С.520).
Там водят молнии телегу – см. примеч. к стих. «Памятник» (СС 1. С. 483: «молниепутная цка»).
Иль «нет» из «да» в долине песен – образ перевертня и мнимости как числовой сущности воображения («русалки»).
Коромысел – см. СС, 1. С. 486.
По белокаменным ступеням / он в сад сошел – ср. в стих. В. Брюсова «Путник», 1903: «По беломраморным ступеням / Царица сходит в тихий сад».
Водолей – см. СС, 2. С. 546; Б. Леннквист определяет это созвездие символом неизбежности, рока.
«Полужелезная изба…»*
Впервые: СП, 111, 1931. Печатается по рукописи (РГАЛИ), имеющей характер сугубого черновика. Вариант начала в «Гросбухе», 1921:
Полужелезная изба Деревьев тонкая резьба. Русалка черных пропастей Тучу царапающего дома, С провалом глаз, с охапкою кистей, Кому ты не знакома! Хранилась долго память Гаршина, Его оброк безумью барщина, Ему, писателю, дано. О, умный ветер белых почек – Он плещется в окно Рассудком по лавинам Безумья дней рассыпать крылья Приказ был воли половинам: Одной скитаться по Балканам, Другой сразиться с великаном, Укравшим аленький цветочек. И сквозь железный переплет Стремиться в лестницы пролет. Опять, опять! Все то же, то же Род человеческий – прохожий Все той же сумрачной долины. Лишь туч суровая семья Бег неприютный осеняет, И ветер тени удлиняет, Шатрами мрачное тая.Написано во время пребывания в Харьковской земской психиатрической больнице (Сабурова дача, «Сабурка») – см. примеч. к предыдущей поэме. В дневниковых записях Хлебникова называется «Гаршин»: в 1880-е гг. писатель В. Н. Гаршин лечился в той же больнице (см.: Памяти Гаршина. Художественно-литературный сборник. СПб., 1889).
Душою по лавинам / Безумных гор рассыпать крылья – образ навеян картиной Михаила Врубеля «Демон поверженный», 1902.
Одной носиться по Балканам – в связи с участием Гаршина в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
Стремиться в лестничный пролет – о самоубийстве Гаршина в 1888 г.
Похожий на зарю цветок – аллюзия к рассказу Гаршина «Красный цветок»; см. примеч. к стихотворению «Ночи запах – эти звезды» (СС, 2. С. 556).
И к каждому виску народа / Приставлено по дулу – о гражданской войне «красного» севера и «белого» юга (ср. поэму «Ночь в окопе»).
Гинденбург Пауль фон (1847–1934) – германский фельдмаршал, в 1918 г. организовал оккупацию Украины, войдя в соглашение с гетманом Скоропадским.
Ребиков В. И. (1866–1920) – композитор; «Елка» – известный вальс из его одноименной «музыкально-психологической драмы» (оперы) по сюжету Ф. М. Достоевского.
Кесслер – возможно, имеется в виду генерал Добровольческой армии граф Келлер Ф. Л., вступивший осенью 1918 г. в Киев, чтобы подчинить русскому «белому» движению объявившего себя гетманом Украины царского генерала Скоропадского П. П.; убит петлюровцами.
Саблин Ю. В. (1897–1937) – командир Красной армии, возглавлявший с декабря 1918 г. Украинскую бригаду на Харьковщине.
Старо-Московская – улица в Харькове, где в квартире Г. Н. Петникова останавливался Хлебников, приезжая к своим друзьям.
«За черным золотом на Дон!» – то есть в Донбасс, за углем.
Махно Н. И. (1884–1934) – предводитель анархистской «крестьянско-повстанческой армии», боровшейся и с «белыми», и с «красными», и с украинскими «самостийниками».
Винтарь жарг. – винтовка.
«Спартак» – имеются в виду военнослужащие германской оккупационной армии, примкнувшие в конце 1918 г. к леворадикальному «Союзу Спартака» К. Либкнехта и Р. Люксембург (см. СС, 2. С. 87); в условиях разгоравшейся гражданской войны на Украине «спартаковцы» поддерживали «красных»; упоминаются в рассказе «Малиновая шашка», 1921.
Страна Олелька – удельный киевский князь Олелько (внук великого литовского князя Ольгерда) в сер. XV в. стремился расширить автономию Киева в условиях фактического подчинения его Литве; здесь любовно-образное называние Украины (ср. украинизмы «лелека», «лелюк» в стих. «На лыжу времени…» (СС, 2. С. 87).
Байда – герой украинской народной песни, принявший мучительную смерть от турок; отождествляется с одним из руководителей запорожского казачества Дмитрием Вишневецким (?–1564), который в силу менявшихся политических обстоятельств был то другом, то врагом Москвы. В прозе «Ка2» назван «холодным запорожцем» и соотнесен с Д. В. Петровским (см. СС, 1. С. 520).
Сыны Конфуция – китайцы, служившие в Красной армии.
Плитой могильною Серка – имеется в виду одна из святынь запорожских казаков: место захоронения возле Чертомлыка (см. С. 465) кошевого атамана Ивана Сирко (?–1680), выходца из слободской Украины (Харьковщины). И. Е. Репин (родом из тех же мест) изобразил Ивана Сирка в образе войскового писаря в своей знаменитой картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1891); возможно, именно Ивана Сирка как «первого писаря русской земли» (см. СС, 1. С. 523) имел в виду Хлебников в стих. «Табун шагов, чугун слонов!..»
Рада укр. – совет (правление).
Опришки – беглые галицийские крестьяне, собиравшиеся в Лесистых Карпатах для борьбы с польскими феодалами в XVIII в.
«Какой остряк, какой повеса…»*
Впервые: СП, III, 1931. Печатается по черновой рукописи (РГАЛИ).
Вила – сквозной образ этого текста трансформирует мотив эпического гротеска (см. поэму «Вила и леший») в драматизм соответствия мифо-поэтических прозрений реальным жизненным событиям. Ср. в набросках поэмы «Вы, привыкшие видеть жизнь…»: «Вы видали, как сгоревшие страницы рукописи становятся сгоревшими селами? <…> А Вила чечевицей наводит луч военный на бедные столицы» (Вестник Общества Велимира Хлебникова. 2. М., 1999. С. 82; публикация Н. Н. Перцовой).
Материк А – параллель «Замок А» в стих. «Мои походы» (СС, 2. С. 321).
Летерик – от «лететь»; см. статью «Образчик словоновшеств в языке», 1912.
Назол обл. – пепел, зола.
В возрасте долоев – от наречия «долой!».
Я мамонта невеста <…> – ср. стих. «Жизнь» (СС, 2. С. 40).
«Орлы в Орле» – как воинская депеша: «красные» выбили «белых» из Орла 20 октября 1919 г.
«Крошу Шкуро» – Шкуро А.Г. (1887–1947) – командир Кубанской казачьей дивизии в Добровольческой армии Деникина А.И.
Воронеж / Где Буденный – в связи с Воронежско-Касторненской операцией конного корпуса Буденного С.М. (1883–1973) против передовых частей Добрармии. Развивая свой успех в конце октября 1919 г., «красные» выбили «белых» из Харькова 12 декабря 1919 г.
Мамонтов К.К. (1869–1920) – генерал армии Деникина; известен рейдом своей кавбригады по тылам советских войск Южного фронта осенью 1919 г.
Ночь в окопе*
Впервые: отд. изд. «Хлебников В. Ночь в окопе». <М>: Имажинисты, 1921 <март>. Включена в СП, I, 1928. Печатается в реконструированной композиции (см. Дуганов Р. В. Велимир Хлебников. Природа творчества. М., 1990: гл. «О логике сюжета и реконструкции текста»).
Написано в марте 1920 г. Несохранившаяся рукопись была передана для издания С. Есенину и А. Мариенгофу в дни их пребывания в Харькове (см. СС. 2. С. 522).
Семейство каменных пустынниц – см. примеч. к поэме «Каменная баба».
Собачья ножка – иначе: «козья ножка», махорочная самокрутка.
«Международник» – пролетарский гимн «Интернационал».
Не два копья в руке морей, / Протянутых из севера и юга – ср. в поэме «Полужелезная изба…»: «И к каждому виску народа / Приставлено по дулу <…>»
Страстной – не сохранившийся монастырь в Москве на Страстном бульваре (в 1918 г. здесь была расквартирована школа командиров Красной армии, поэтому ниже – о латышских стрелках, лучших воинах революции, поселившихся в кельях монахов-«чернышей»).
«Ленивый да не ест» – революционный лозунг «Кто не работает, тот не ест»; по плану монументальной пропаганды на нескольких домах в Москве установили в 1919 г. соответствующего содержания памятные доски, например, вблизи Страстного монастыря: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят» (с изображением рабочего).
Лицо сибирского Востока <…> – метафорический портрет вождя революции (Ленина).
Когда врагами суеверий <…> – о демонстративном вскрытии святых мощей в целях антирелигиозной пропаганды (например, Сергия Радонежского в апреле 1919 г.).
Когда ты просишь подымать / Поближе к небу звездочета – аллюзия к «Истории Пугачева» Пушкина: «Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам».
Когда чернеющим глаголем – то есть виселицей (по сходству с буквой «Г» – «Глаголь»), ср. в поэме «Синие оковы».
Девичье поле – улица в Москве, где сосредоточены медицинские клиники.
«Два аршина керенок…» – частушки на тему обесценения денег, выпущенных Временным правительством Керенского.
Рогнеда – см. СС, 1. С. 482.
Ость – длинная щетинка у колосовых растений.
Чартомлыцкий курган – древнее скифское погребение (см. СС, 1. С. 523); на этом же месте был военный лагерь запорожских казаков – «Сича Чортомлыцкая».
Сыпняк – сыпной тиф, против эпидемии которого была направлена «Неделя санитарной очистки» (1–7 марта 1920 г.); из письма Хлебникова в Москву, О. М. Брику, 23 февраля 1920 г.: «Я только что встал с постели после 2 тифов» (НП, 1940. С. 384).
<Три сестры>*
Впервые: Мир и остальное, 1920. Печатается в последней авторской редакции по журналу «Маковец». М., 1922. № 2 (без названия).
Опущенные куски из промежуточной редакции 1921 г. (СП, I, 1928):
Лоск ласк и хитрости привычной сети Чертили тучное лицо у третьей. Измены низменной она Была живые письмена. И темные тела дары, Как небо, светлы и свободны. На облако черной главы Нисходит огонь благородный. И голод голубого холода Оставит женщину и глину. И вновь таинственно и молодо Молилась глина властелину. И полуматъ и полудитя И с мглой языческой дружа, Она уходит в лес, хотя Зовет назад ее межа(После стиха «Поморов отшельница-мать»);
Сквозь белые дерева очи Ты скачешь товаркою ночи. И в черной шубе медвежонок Своих на тело падших кос – Ты, разбросавший волосы ребенок, Забыв про яд жестоких ос, Но помнишь прелести стрекоз И ловишь шмелей – медвежат, Хоть дерева ветки дрожат. И пьешь цветы медовой пыли, И лазаешь поспешней белки. Тогда весна сидит сиделкой У первых дней зеленой силы.(После стиха «Находишь, дикая, шатер»);
Она весна или сестра, В ней кровь весенняя течет, И жар весеннего костра В ее дыхании печет. Она пчелиным божеством На службу тысячи шмелей Идет, хоть трудно меж ветвей Служить молитву божеством.(После стиха «Ведут взволнованную речь»).
Поэма посвящена сестрам Синяковым, на даче которых под Харьковом (Красная Поляна) Хлебников гостил в разные годы (см. примем, в томах стихотворений: СС, 1. С. 525; СС, 2, С. 511 и 558). Фактически сестер было четыре: Мария, Надежда, Вера и Ксения. В устоявшемся названии важна перекличка с пьесой А. П. Чехова. Следует иметь в виду и биографическое обстоятельство: в годы гражданской войны Ксения жила на Дальнем Востоке. См. воспоминания К. М. Синяковой (Асеевой) // Вестник Общества Велимира Хлебникова. 1. М., 1996. С. 58. См. также примем, к поэме «Синие оковы».
Ладомир*
Впервые: отд. изд. «Велимир Хлебников. Ладомир». <Харьков>, 1920 <июль>, литограф, печать художника В. Д. Ермилова, 50 экз. Предполагавшееся издание поэмы в ГИЗе (весной 1921 г.) не состоялось. Литограф, экз. с авторскими исправлениями и дополнениями (ГММ) лег в основу публикации НХ, IV, 1928; включена в СП, I, 1928. Печатается в сокращенной авторской редакции 1922 г. (с разбивкой сплошного текста на три части) по журналу «Леф». 1923. № 2.
Куски, оставшиеся за пределами журнальной публикации:
И где ночуют барыши, В чехле стекла, где царский замок, Приемы взрыва хороши И даже козни умных самок(После стиха «Огонь за пазухою – вынь его!»);
О девушка, души косой Убийцу юности в часы свидания За то, что девою босой Ты у него молила подаяния. Иди кошачею походкой, От нежной полночи чиста, Больная, поцелуй чахоткой Его в веселые уста. И ежели в руке желез нет – Иди к цепному псу, Целуй его слюну, Целуй врага, пока он не исчезнет.(После стиха «Холоп богатых, где твой нож?»);
Цари, ваша песенка спета. Помолвлено Лобное место. И таинство воинства – это В багровом слетает невеста.(После стиха «Летит из волн свинцовой вьюги»);
Ты слышишь; умер «хох», «Ура» умолкло и «банзай», – Туда, где красен Бог, Свой гнева стон вонзай!(После стиха «Не ляжет ветер гопака»);
И к онсам мчатся вальпарайсы, К ондурам бросились рубли. А ты, безумец, постарайся, Чтоб острый нож лежал в крови.(После стиха «Войдет в уделы Людостана»);
Кто всадник и кто конь? Он город или бог? Но хочет скачки и погонь Набатный топот его ног.(И далее: «Туда, туда, где Изанаги…» – фрагмент, помещенный в СС, 2. С. 51 как самостоятельный текст с небольшими разночтениями; все это после стиха «Он, меловой, зажег огниво»);
Дорогу путника любя, Он взял ряд чисел, точно палку, И корень взяв из нет себя, Заметил зорко в нем русалку. Того, что ничего нема, Он находил двуличный корень, Чтоб увидать в стране ума Русалку у кокорин.(После стиха «Земного быта перемен»).
Первоначальное название – «Восстание». По воспоминаниям очевидца, летом 1920 г. Хлебникову устроили встречу с приехавшим в Харьков наркомом Луначарским: «Велимир хотел выделить из поэмы „Ладомир“ несколько строф с тем, чтобы они могли стать пролетарским гимном, параллельным „Интернационалу“ Потье. Об этом он и хотел посоветоваться с Анатолием Васильевичем» (Лейтес А. Хлебников – каким он был… / Новый мир. 1973. № 1. С. 234). См. стихотворение «Я верю…» (СС, 2. С. 109 и примеч. 525).
Ладомир – будущая мировая гармония (см. лингвистический очерк об этом слове в кн.: Григорьев В. П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., 1986. С. 175); перифрастически соотносимо с названием статьи Н. С. Лескова «Золотой век. Утопия общего переустройства» (1883).
Смерть смерти будет ведать сроки – см. в статье «Наша основа», 1919: «Есть закон рождения подобных людей. Он гласит, что луч, гребни волн которого отмечены годом рождения великих людей с одинаковой судьбой, совершает одно свое колебание в 365 лет <…> Таким образом меняется и наше отношение к смерти: мы стоим у порога мира, когда будем знать день и час, когда мы родимся вновь, смотреть на смерть как на „временное купание в волнах небытия“». О соотношении слов «смерть» и «смерить» см. на С. 445.
Перуном плывут по Днепровью – ср. стихотворение «Перуну» (СС, 1. С. 215, 481).
Замок кружев девой нажит, /Пляской девы пред престолом – об особняке балерины М. Ф. Кшесинской (см. СС, 2. С. 503), в котором после Февральской революции 1917 г. находился ЦК партии большевиков. Образ восходит к драматической поэме «Любовь приходит страшным смерчем…» (1912).
Перед ста народов Катом – трансформация известного выражения: «Царская Россия – тюрьма народов»; кат – см. СС, 1. С. 468.
Упало Гэ Германии <…> – см. СС, 2. С. 521.
Пожаров в ночь Купала – праздник летнего солнцестояния (см. с. 433), в обрядность которого входило возжигание костров; здесь знаменует поворот от вражды к любви, что на «звездном языке» выражается победой божественного Эль над Гэ и Эр – космическими силами гибели и разрушения.
Смычок над тучей подыми – см. СС, 2. С. 574.
И умный череп Гайаваты <…> – о герое эпической поэмы Г. Лонгфелло (см. СС, 1. С. 477 и СС, 2. С. 567). В «Предложениях» (1915–1916): «Основать мировое правительство украшения земного шара памятниками… Украсить Монблан головой Гайаваты… Признать основным правилом памятника, что место рождения человека и его памятник должны стоять на разных концах земной оси» (СП.УС. 160).
Монблан – высшая точка Зап. Европы в Альпах.
Ести – списки, ведомости о наличных людях.
Железный кайзер – от устойчивого определения «железный канцлер» (об основателе Германской империи Отто Бисмарке, 1815–1898); последний германский кайзер – Вильгельм II (1859–1941).
Крупп – германский военно-промышленный концерн.
Лоб Разина резьбы Коненкова – многофигурная композиция (крашеное дерево) скульптора С. Т. Коненкова (1874–1971) по мотивам народных песен о Степане Разине была показана на Лобном месте Красной площади 1 мая 1919 г.; в 1918 г., к первой годовщине Октябрьской революции, на кремлевской стене был установлен барельеф «Павшим борцам» его же работы (см. Глаголь С. Коненков. Пг., 1920).
И не боится дня Шевченко – мотив биографии Т. Г. Шевченко (1814–1861): юношей, будучи крепостным и увлекаясь искусством, он рисовал в Летнем саду Петербурга только в белые ночи, чтобы днем прислуживать своему барину. Первые памятники украинскому «кобзарю» были поставлены в Петрограде и в Харькове по упоминавшемуся плану увековечения народных героев и революционных борцов.
Гурриэт-эль-Айн – см. СС, 2. С. 534.
Дзонкава (Цзонхава, Цзонкаба; 1357–1419) – основатель ламаизма в Тибете. Хлебников писал о нем: «Это был проповедник добра для глухих степей материка… Сократ пустынной Азии» («Доски судьбы», 1922. С. 21).
Идет свобода Неувяда – ср. стих. «Свобода приходит нагая…» и примеч. СС, 2. С. 498; имя-неологизм соответствует образу картины Сандро Боттичелли «Primavera» (Весна).
Он, город, что оглоблю бога <…> – ср. стихотворение «Он, город, старой правдой горд…» (СС, 2. С. 436).
Я вижу конские свободы / И равноправие коров – идея равенства биологических видов, имеющая разные культурные источники, с юности волновала Хлебникова: «Он высоко поднял стяг галилейской любви, и тень стяга упала на многие благородные животные виды» (из статьи-эпитафии «Пусть на могильной плите прочтут…», 1904 г.).
Он приютит посла коней – лирический герой как посланник «Конецарства», «Страны Лебедии» (см. СС, 1. С. 354).
В Остоженке, в особняке Волконского – название московской улицы Остоженка, где некогда находились государевы конюшни, восходит к стогам сена («конецарство» внутри города, место вольной конской жизни); этимология, реализующая мифотворчество, увязана с местонахождением в 1919–1920 гг. руководимого А. В. Луначарским Наркомпроса: Остоженка, д. 53, быв. гимназия Каткова.
Лица ночные треугольники – см. СС, 1. С. 507.
От месяца «Ая» до недель «играй-овраги» – см. СС, 2. С. 577.
Pyx – движение, общий подъем (ср. семантические нюансы этого слова в поэме «Немотичей и немичей…»).
У великороссов нет больше отечества – перифраз классово-революционного положения Коммунистического манифеста: «У пролетариата нет отечества».
Красная Поляна – дача Синяковых (см. примеч. к поэме «Три сестры») как образ революционного бунтарства в искусстве.
Носарь (Хрусталев Г.С., 1879–1919) – в 1905 г. председатель Петербургского Совета рабочих депутатов.
Неясыть – см. СС, 1. С. 498 (здесь – в нарицательном значении).
Пересекал полетов знахарь – мотив прогностического очерка «Лебедия будущего. Земледелие. Пахарь в облаках», 1918.
А там муку съедобной глины – мотив очерка «Утес из будущего», 1921.
Млин (млын) – см. СС, 1. С. 366.
Озер съедобный кипяток – мотив заметки «Союз изобретателей», 1918; см. примеч. к поэме «Голод».
Разрушить языки – то есть создать язык всечеловеческий (проект «звездного языка», см. поэму «Царапина по небу»).
Балда, кувалда, киюра – различные виды молотов.
В лонй годы – см. СС, 2. С. 519.
К фрагментам:
«Хох», «ура», «банзай» – немецкий, русский, японский воинственные кличи.
К онсам <…> вальпарайсы / К ондурам <…> рубли – развернутая метафора «деньги идут к деньгам» (Творения, 1986. С. 684), порядок жизни, противный «ладомиру»; сочетание реально существующих денежных единиц («онсы» – испанские монеты) и неологизмов на основе географических названий (Вальпараисо, Гондурас).
И корень взяв из нет себя – мнимое число У~Т, см. СС, 1. С. 451.
Русалка – в эстетической системе Хлебникова этот образ воображения, творческой фантазии связан с мнимым числом.
Нема укр. – нет.
Кокорина – часть дерева с корнем под водой.
Разин*
Впервые: СП, I, 1928. Печатается по рукописи (РГАЛИ).
В НХ, I–II, 1928 – вариант, меньший по объему, без концовки, но с авторским жанровым уведомлением: «Заклятье двойным течением речи, двояковыпуклая речь», то есть палиндром (см. стихотворение «Перевертень» и примеч. – СС, 1. С. 492); рукопись этого варианта (РГАЛИ) содержит план поэмы, в самом тексте до конца не реализованный: «1. Путь, 2. Голоса, 3. Бой, 4. Плен, 5. Тризна мертвых, 6. Добыча, 7. Пляска, 8. Сон, 9. Казнь». В первой редакции варианта СП, I (РГАЛИ) части поэмы обозначены цифрами; вступление, имеющее характер авторского эпиграфа, на одну палиндроматическую строку больше: «Я – Разин и заря».
В дневниковых записях датировки текста разнятся, но очевидно, что «Разин» написан в Харькове летом 1920 г.
Лобачевский – см. С. 434 и СС, 2. С. 573.
Лог – новина, целина (Даль).
Мене ман – возможные источники эзотерического словосочетания: библ. «мене» – «исчислил Бог царство твое» (Дан: 5, 26) и «Ман» (Мен) – бог луны и месяцев в шумеро-аккадской мифологии.
Низари обл. – жители нижней Волги, ближе к Каспию (в обратном чтении слово содержит фамилию героя).
Див – вещая птица в «Слове о полку Игореве»; чудо, невидаль.
Купава – см. СС, 1. С. 459.
Беляна – см. СС, 1. С. 505.
Лал – см. С. 424.
Шарашь – бей сильно, с грохотом.
Могота устар. – сила, могущество.
Кистень – см. СС, 1. С. 485.
Лох – см. С. 448.
Белена – см. С. 429.
Равота – равный, «равень» (Даль).
Коромысло – см. СС, 1. С. 486.
Нежун – от нежный.
Червона укр. – красная.
Мабыдь – по-видимому, искаж. укр. «мабуть» – может быть.
«Охала, ахала, ухала» – ср. в поэме Маяковского «Война и мир», часть III: «Ухало. Ахало. Охало».
Мове укр. – говорит.
Кодол обл. – веревка для тяги невода и других работ, см. заметку в «Изборнике» (илл. на С. 264).
Охохони – «раскольники-духоборцы, чтущие молитву и покаяние только во вздохе» (Даль); здесь: нечто противоположное (гулящие люди).
Нич укр. – ночь (ср. в Изборнике, 1914: «Нуочь, и ночь, и ничь!»).
Черевик – праздничная обувь.
Цаца – см. С. 460.
Aonom – невнятный шум (Даль).
Ляля – см. СС, 1. С. 516.
Черес – см. СС, 1. С. 515.
Инде седни простор. – где-либо сегодня.
Калуга – см. СС, 2. С. 574.
Кукуя – шкура лося.
Варенеи, – заквашенное молоко.
Худолог – от «худога» (художник) и «лог» (новина).
Царапина по небу*
Впервые: НХ, XIV, 1930; включена в СП, III, 1931. Печатается по списку П. В. Митурича (РГАЛИ), на титульном листе которого указано: «Копия с подлинной рукописи с сохранением расположения и страниц. Дер. Санталово Новгородской губ. 15/V.21» (очевидная ошибка в дате). Возможно, список Митурича сделан с несохранившегося «харьковского» списка художника В. Д. Ермилова (1894–1968), см. С. 466. По автографам напечатаны в СС, 2 стихотворения «Звездный язык» и «Звездная свайная хата», в несколько измененном виде вошедшие в состав монтажного текста «Царапина по небу», а затем и в сверхповесть «Зангези», 1922. Ср. фрагмент «Царапай мировой слух…» (СС, 2. С. 240).
Из черновых набросков к «Царапине по небу» (РГАЛИ): «Звездный язык относится к обыденному, как действия над величинами алгебры к действию над именованными числами. Звездный язык есть алгебра речи. Стремится объединить наибольшее словесное пространство народов земного шара».
Батый – основатель Золотой Орды, внук Чингисхана; см. СС, 2. С. 569.
Пи – «число Архимеда»: 3,14…
Памятник ошибке – см. СС, 1, С. 504.
Е – трансцендентное число Эйлера, служит основанием натуральных логорифмов.
317 лет – обоснование этого числа (365-48) см. в статье «Наша основа. § 3. Математическое понимание истории. Гамма будетлянина» (1919). См. С. 457.
Минуло 376 лет после волхвов – в 376 г. н. э. вестготы перешли Дунай, через два года нанеся тяжелое поражение римлянам; весь IV век – эпоха переселения народов (гунны – в 375 г. перешли Дон).
Лонелюд – земляне, человечество; ср. «времялюд» в прозе «Ка2».
Падает Рим – в 410 г. вестготы захватили столицу империи.
861 год – ср. в «Изборнике» более ранний метод исчисления событий через 173 года (см. илл. на С. 265).
Хлынули снова татары – 1237 г. (376 + 861), нашествие Батыя.
Киев сожгли – 1240 г.
Пировали на людях – см. СС, 1. С. 507.
Страна Русь сняла цепи татар – в 1380 г. (376+861+143) Куликовская битва, в которой отличились монахи Пересвет и Ослябя (см. СС, 1. С. 255).
143 года – (1380–1237).
В 1193 году до волхвов – до н. э.; условная дата событий в гомеровской «Илиаде».
В 332 году – до н. э. (1193-861); Александр Македонский захватил Тир, последний опорный пункт персов на Средиземном море.
Мардоний – персидский полководец, умер в 479 г. до н. э., т. е. на 147 лет раньше (ошибка памяти Хлебникова).
В 3111 году до волхвов – в «Досках судьбы. Лист 2» (1922): «5/Ш. 3113 года летопись Индии считает своим черным днем, порогом Черной Поры (Кали-Юга)». В индуистской мифологии «Калиюга» – период полного упадка жизни. «В настоящее время мы находимся в 6 кали-юге, т. е. в железном нечестивом веке, который, по теории индийских астрономов, начался за 3111 лет до Р. Х.» (Гелльвальд Ф. История культуры. Первобытная культура и древние восточные цивилизации. Т. 1. СПб., 1897. С. 335.).
Битва при Калке – см. СС, 1. С. 507.
Звукопись весны – ср. стих. «Трудосмотр <Звукопись>» (СС, 2. С. 247).
Мора – Морана (?), богиня смерти в диалоге «Учитель и ученик» (1912).
Ласа – пятнистая полоса (Даль).
Солон – социальный реформатор древних Афин (VI в. до н. э.).
Вица – см. СС, 2. С. 516.
Верея – ось вращательного движения (Даль).
Падам до ног! – см. С. 448.
Пришло Эль любви, лебедя, лелеки – ср. стихотворение «На лыжу времени…» с фамилиями, начатыми буквой Л (СС, 2. С. 87).
Лаотзы (Лао-цзы) – древнекитайский философ; ему или его последователям приписывают книгу «Лао-цзы» – основу учения даосизма: люди способны понять законы мира, но не способны им противиться.
Лассаль Фердинанд (1825–1864) – немецкий социалист, создатель Всеобщего германского рабочего союза.
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – советский политический деятель, литератор, см. С. 468.
Ленин Владимир Ильич (1870–1924) – см. С. 464, а также наброски поэмы «Вы, привыкшие видеть жизнь…» // Вестник общества Велимира Хлебникова. 2. 1999. С. 82, 86.
Либертас – подчеркнуто-контекстное употребление латинизма (libertas – свобода).
Немоевский Анджей (1864–1921) – польский поэт и историк, автор книги стихов «Polonia irredenta», 1902 (тема актуальная для Хлебникова в момент войны с белополяками весной-летом 1920 г.); в это же время вышла книга А.Немоевского об астральной сущности христианства (отрицание божественности Христа): «Бог Иисус. Происхождение и состав Евангелий. Под ред. и с примеч. Даниила Свитского [см. СС, 2. С. 502] и с пред. Николая Морозова». Пг., 1920.
Азы из узы*
Впервые: НХ, XX, 1930 (машинопись). Печатается по СП, V, 1933.
Судя по творческим пометам, сохранившимся в черновиках Хлебникова 1920 г., первоначально эта поэма пересекалась с «Царапиной по небу»: тематически «азийские» стихотворения назывались в перечне материалов большого произведения о вселенском языке, в то время как стихотворения на «звездном языке» входили в замысел большой «азийской» вещи. По-видимому, к монтажной схеме «Азы из узы», возникшей в харьковский период, Хлебников возвращался неоднократно, вплоть до начала 1922 г. См. в СС, 2 напечатанные по автографам или по первым публикациям стихотворения и примеч. к ним («Единая книга», «Азия», «Туда, туда…», «Современность», «Это было в месяц Ай…», «О, Азия! тобой себя я мучу…», «И если в „Харьковские птицы…“»), соединенные в новом смысловом единстве и представленные здесь в иной редакции. Совершенно новые части монтажного текста: «Я, волосатый реками…» и «Пение первое».
Азы из узы (автографический вариант «Азы из Узы») – в черновых записях (РГАЛИ): «3-удар о плоскость и отскок от нее. Когда он дан кому-нибудь – дательный падеж (это узы). Когда он рождает движение – родительный падеж (это из). Аз из уз вышел». (Стилистически близко к Маяковскому: «Вышла из воздуха уз она» – поэма «Человек», 1917.) В соответствии с нумерологическими символами Хлебникова (см. стих. «Трата, и труд, и трение…» в СС, 2. С. 586), узы можно трактовать как «тройку», из как «двойку», аз как «единицу», то есть начало миростроения. В автокомментарии стих. «С утробой медною…»: «Аз – освобожденная личность, освобожденное Я» (СС, 2. С. 202, 554); при общей «азийской» ориентации Хлебникова аз – это и сокращенное название материка (отсюда манифест «Азосоюз», 1918. В мифологическом плане Азия, по Геродоту, жена Прометея; в поэме Б.Шелли «Прометей освобожденный» она, кроме того, богиня любви и весны). Общий смысл текста, заложенный в его названии: освобождение земного шара начинается самоосвобождением азов, «насельников» Азии (ср. в скандинавской мифологии «асы» – высшие боги, происходившие из Азии). Иначе говоря, аз освобождается от уз предопределения, судьбы, рока, становясь над законом действия и противодействия (космическая свобода).
Единая книга – в дополнение к примеч. в СС, 2. С. 526: «Союз наукотворцев для борьбы с многокнижием» (недатированная запись в тетради «мыслей и предложений» – РГАЛИ).
Замбези, где люди черней сапога – ср. в стих. Н.Гумилева «Либерия» (1921): «Но взгляните: черней сапога / Господин президент и министры».
Я, волосатый реками – параллель в черновых записях (РГАЛИ): «Леший, я волосат Русью»; вошло в XIX плоскость «Зангези», 1922. Образ земного шара, «волосатого реками», по-видимому, восходит к сюжету древнеиндийской мифологии: небесная река Ганга падала на голову Шивы, далее стекая вниз семью потоками.
Здесь сын царя прославил нищету – мотив легендарной биографии основателя буддизма (см. СС, 2. С. 526).
В лопани обл. – в лохмотьях.
Здесь мудрецы живьем закопаны – сюжет древнекитайского историка – конфуцианца Сыма Цяня (1019–1086): погребение заживо большой группы ученых, не подчинившихся приказу императора уничтожить старые книги, которые противоречили новому законодательству; Хлебников, вероятно, знал этот сюжет по «Истории человечества» Г.Гельмольта, т. 2. СПб., 1907 (см. Баран X. О текстах и источниках Хлебникова / / Вестник Общества Велимира Хлебникова. 3. М., 2002).
Там царь и с ним в руках младенец <…> – сюжет средневекового Китая (XIII в.): добровольная смерть малолетнего императора и его верного министра после проигранного монголам сражения; источник Хлебникова – указанная выше «История человечества» Г.Гельмольта (см. Хенрик Баран, там же). См. примеч. к стих. «Я закрываю веки и вижу пагоды благоуханны…» (СС, 1. С. 488).
Вот множество слонов <…> – предположительно, описание скального рельефа «Нисхождение Ганги» (см. выше) в индийском храме Махабалипуран, VII в.
Ты разрешила обезьянам <…> – в связи с ведическим сказанием о «начальнике обезьян Ганумане» (см. Шантепи де ля Соссей Д. П. Иллюстрированная история религий. М., 1899. Т. 2. С. 124); ср. в «Предложениях» (1915–1916): «Ввести обезьян в семью человечества и наделить их некоторыми правами гражданства» (СП, V, С. 158).
Веселые пьяницы Хо и Хи – в «Предложениях»: «первые мученики науки, государственные наблюдатели неба», казненные за астрономические просчеты; сюжет Сыма Цяня о двух чиновниках (Си и Хэ), постановлением императора исчислявших движение светил, но перепутавших счет дням, погрязнув в пьянстве и разврате, подробно пересказан в кн.: Каратыгин П. П. История религий и тайных религиозных обществ древнего и нового мира. Т. 2. СПб., 1869. С. 21.
Сидонии приход второй– см. СС, 2. С. 516.
Пение первое – параллель в черновых записях 1920 г. (РГАЛИ): «Когда пою, / Мне звезды хлопают в ладоши» (космический план, в противоположность плану земному, бытовому – «Пение второе»).
Вы думали, прилежно вспоминая, / Что был хорош Нерон, играя / Христа как председателя чеки – император Нерон (см. С. 434), отличавшийся изощренным садизмом, любил публично выступать с пением и декламацией. На эту тему, акцентируя страдания первых римских христиан, был поставлен итальянский фильм «Нерон: зверь из бездны», имевший широкий российский прокат в 1915–1916 гг. Возможно, отсюда развитие контрастной темы «Нерон – Христос» и в поэме Маяковского «Война и мир» (часть IV), и у Хлебникова. Парадоксально усложненная реалиями новой действительности, эта тема продолжена в следующей поэме «Председатель чеки».
Вы острова любви туземцы – аллюзия к названию романа В. К. Тредиаковского «Езда в остров любви», 1730 (перевод аллегорического романа П.Тальмана).
Председатель чеки*
Впервые: журнал «Новый мир». 1988. № 10 (публикация А. Е. Парниса). Печатается по черновой рукописи (РГАЛИ).
Прообраз героя поэмы – харьковский знакомый Хлебникова (ставший впоследствие крупным киноинженером) А. Н. Андриевский (1899–1983), служивший по мобилизации в 1919 г. начальником Особого отдела при Чрезвычайном коменданте гарнизона Харькова, а в 1920 г. – военным следователем армейского Ревтрибунала. См. его воспоминания «Мои ночные беседы с Хлебниковым» в журнале «Дружба народов». 1985. № 12 (опубликованы частично). Прообраз героини – двоюродная сестра Синяковых (см. поэму «Три сестры») В. Д. Демьяновская (см. СС, 2, С. 527). Зимой – весной 1920 г. Андриевский и Демьяновская жили как супруги в квартире-коммуне по ул. Чернышевского, 16 (туда Андриевский перевез Хлебникова из больницы «Сабурова дача» в начале января 1920 г.).
Поэма написана, вероятно, в конце лета 1921 г.: мотив «пылающего мира» и оценка революционных потрясений – «хорошо» – связаны с содержанием некрологической статьи Маяковского «Умер Александр Блок» (газ. «Агитроста». 1921.10 августа).
Чека – Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (Чека или ЧК); в тексте поэмы только со строчной буквы.
<…> Я склеен / Из Иисуса и Нерона – то есть милосерден и жесток (характер работы героя); см. выше примеч. к «Азы из узы».
Я молод, мне лишь двадцать два – см. СС, 1. С. 521; Андриевский знал современную поэзию, в частности, Маяковского.
Болела сыпняком – см. С. 465.
Мой отпуск запоздал на месяц – подробность военно-служебной карьеры героя: ему надлежало быть в действующей армии, но любовный роман удерживал его в Харькове.
Пылающий Рим – пожар России – историческая параллель (падение царств), важная Хлебникову для изучения закономерности времени. См. в СС, 2 стихотворения 1921 г. и примеч. к ним: «Я велик…», «1789 год», «Рим, неси на челе, зверь священный…»
Саенко Степан Афанасьевич – в мае 1919 г. был назначен Харьковским губисполкомом «заведующим концентрационного лагеря»; см. СС, 2. С. 564.
Дом чеки <…> – на центральной улице Харькова Сумской; расстрелы арестованных заложников совершались на территории концлагеря, располагавшегося на перекрестке улиц Чайковской и Пушкинской. Из доклада инструктора Харьковского губисполкома коммуниста Г.Шевкуна (июль 1919 г., Харьков занят войсками Деникина): «В последних числах июня месяца белогвардейским командованием было приступлено на Сумской у здания ЧК и на Чайковской, на месте концентрационного лагеря, к раскопкам ям, в которых были зарыты расстрелянные контрреволюционеры и бандиты <…> На указанных местах толпилась масса народа. Весь город был поглощен только разговорами о Чайковской. Распространялись самые нелепые и невероятно ужасные слухи о Чрезвычайной комиссии и об отдельных ее членах, например, о т. Саенко» (цит. по кн.: Гражданская война на Украине. 1918–1920 гг. Киев, 1967. Т. 2. С. 233).
Китайцы – ср. «сыны Конфуция» в поэме «Полужелезная изба…»
«И вот зеленое ущелие Зоргама…»*
Впервые: СП, V, 1933. Печатается по черновой необработанной рукописи (РГАЛИ).
Повествовательное начало, рожденное персидскими впечатлениями лета 1921 г., немотивированно продолжено сюжетными штрихами произведений харьковского периода («пять сестер», «советский муж», «город железосетей» и т. д.). Мозаично-алогичная цепь образов в конечном счете создает систему координат «сладкого звука» и «умного числового луча» (видение «будетлянских инее» как очередной вариант «Города будущего» – см. СС, 2. С. 89).
Зоргам – см. примеч. к стих. «Пасха в Энзели» СС, 2. С. 551.
Армавир – промежуточный пункт скитаний Хлебникова из Харькова (через Северный Кавказ и Баку) в Персию. Из предисловия к «Доскам судьбы», 1922: «Уравнение внутреннего пояса светил солнечного мира найдено мной 25/9.20 г. на съезде Пролеткульта в Армавире».
Туса-туса-туса <…> – см. СС, 2. С. 74 и 518.
Гуль-мулла – по Хлебникову, это священник цветов (см. СС, 2. С. 555), почти грез священник в поэме «Сельская дружба» (С. 78). Между тем, перс. Гол-е-Моула – это Цветок Владыки, народное название странствующих «поющих дервишей», непременных участников уличной, площадной, базарной жизни (сообщил М. С. Киктеву К. А. Шидфар). Соотношение гуль-мулла и дервиш урус становится лейтмотивом следующей поэмы – самого большого текста хлебниковского «персидского цикла».
Город из бревен звука <…> – тема, подробно развернутая в одном из неопубликованных при жизни листов «Досок судьбы» (РГАЛИ):
Ущры весел в город будущего, Где звуки сладкие до ужаса Служили пищей и едой. Дворцы из звуков, Дворцы из грохота… Мороз молчания, Свирель далеких улиц, Дуда высокой башни. Здесь жили звукоеды, Жильцы протяжных бревен, Суровых грохотов, Сложив избу дворцов из пения, Граждане города звуков, Жители пещеры пения, Люди звучного века.Стеклянные книги /Для глаз неба <…> – ср. ряд стихотворений в СС, 2: «Город будущего», «О, город тучеед!..», «Паук мостов опутал книгу…», «И он мешок железосетей…»
Обвяжем липовым лычком / Наши славянские кудри – этнографизм, неожиданный в этом контексте, заставляет вспомнить присутствие славянского божества в звездных песнях «Царапины по небу»: «И Ла труда во время Леля» (см. С. 266), – актуализация характеристики певца в пьесе-сказке А. Н. Островского «Снегурочка»: «Песни Леля – лишь в звуки одетые палящие лучи».
Труба Гуль-муллы*
Впервые: СП, I, 1928. В Творениях, 1986 – контаминация опубликованного текста и части белового автографа иной редакции поэмы под названием «Тиран без Тэ». Печатается по рукописи (РГАЛИ), ставшей основой для первой публикации (текст подготовил М. С. Киктев).
Для понимания истории текста и содержания поэмы следует иметь в виду все стихотворения персидского цикла в СС, 2, от «Пасхи в Энзели» до «Ночи в Персии». Частично или полностью в монтаж поэмы вошли следующие из них: «Решт», «Старый, желтый…», «Очана-мочана…», «Море пело Вечную память…», «Сегодня я в гостях у моря…»
О характере композиции поэмы, состоящей из 19 частей, см. СС, 1. С. 442.
Ниже приводится сохранившееся в частном собрании начало последней (1922 г.) редакции поэмы (102 строки без разделения на части):
Тиран без Тэ Встреча Ок! Ок! Это горный пророк! Как дыханье кита, из щелей толпы Вырывались их стоны и ярости крики. Яростным буйволом пронесся священник цветов; В овчине суровой, голые руки, голые ноги. Горный пастух его бы сочел за своего, Дикий буйвол ему бы промолвил: – Мой брат! Он, божий ветер, вдруг прилетел, налетел В людные улицы, с гор снеговых, Дикий священник цветов, Белой пушинкой кому-то грозя. Чох пуль! Чох шай! Стал нестерпимым прибой! Слишком поднялся потоп торга и рынка, всегда мировой Черные волосы падали буйно, как водопад, На смуглый рот И на темные руки пророка. Грудь золотого загара, золотая, как желудь, Ноги босые, Листвой золотой овчина торчала, Шубою шиврат-навыворот. Божественно темное дикое око, Веселья темница. Десятками лет никем не покошены, Стрижки не зная, Волосы падали черной рекой на плечо. Конский хвост не стыдился бы этих веревок. Черное сено ночных вдохновений, Стога полночей звездных, Черной пшеницы стога. Птичьих полетов пути с холодных и горных снегов Пали на голые плечи, На темные руки пророка, Темных голосов жилье И провода к небесам для разговоров, Для темных с богом бесед. Горы денег сильнее пушинка его, И в руке его белый пух, перо лебедя, Лебедем ночи потеря, Когда он летел высоко над миром, Над горой и долиной. Бык чугунный на посох уселся Пророка, на нем отдыхая, Медной качал головой. Белый пушок в желтых пальцах, Неба ночного потеря, В диких болотах упала, между утесов. А на палке его стоял вол ночной, А в глазах его огонь солнечный. Ок! Ок! Еще! Еще! Это пророки сбежалися с гор Встречать чадо Хлебникова, Это предтечи Сбежалися с гор. Омана! Мочана! Будем друзья! Облако камня дороже! Ок! Ок! Как дыханье кита, Из ноздрей толпы Вылетали их дикие крики. «Гуль-мулла», – пронесся ветер. «Гуль-мулла», – пронесся стон. Этот ветер пролетел, Он шумел в деревнях темных, Он шумел в песке морей. «Наш», – запели священники гор, «Наш», – сказали цветы, Золотые чернила, На скатерть зеленую Неловкой весною пролитые. «Наш», – запели дубровы и рощи, Золотой набат, весны колокол! Сотнями глаз Зорких солнышек – В небе дерева Ветвей благовест. «Наш», – говорили ночей облака. «Наш», – прохрипели вороны моря, Оком зеленые, клювом железные, Неводом строгим и частым К утренней тоне Спеша на восток. Месяц поймав сетки мотнею полета, Тяжко и грузно летели они. Только «Мой» не сказала дева Ирана, Только «Мой» не сказала она. Через забрало тускло смотрела, В черном шелку стоя поодаль. Белые крылья сломав, Я с окровавленным мозгом Упал к белым снегам И терновника розгам, К горным богам пещеры морской, Детских игор ровесникам: – Спасите! спасайте, товарищи! И лежал, закрыт простыней Белых крыл, грубо сломанных оземь. Рыжий песец перья Хитро и злобно рвал из крыла. Я же лежал недвижим.Ранний вариант начала поэмы:
Ок! Ок! Это горный пророк, В овчине, босой. Горы денег сильнее пушинка его. Он, священник цветов, С гор прибежал, божий ветер в душе. Бык чугунный с кривыми рогами Палку венчает пророка. Не ведая стрижки, Черные волны бежали На плечи, Дикие волосы, никем не покошены, Падали буйно к голым рукам. А в руках загорелых белый пух, Он огненней золота, Облако – камня дороже дорожного! Черным конским хвостом вьются, Точно пожара огнем, И падают волосы со лба загорелого. Голые руки, ноги босые. И зипуна шиворот-навыворот Овчина грубозолотая, Овечьи меха грубозолотые, Плечи пророка, Нагие и дикие, В корни и кольца Закрыла. Белый пух обронен Нежной лебедя грудью В диких болотах. Быстрые ноги босые, скорые ноги пророка. На палке чугунной пасется вол ночной. А в глазах его огонь солнечный. Ок! Ок! Это пророки Сбежалися С гор Встречать Чадо Хлебникова: – Наш! – сказали священники гор, – Наш! – запели цветы, Золотые чернила, Пролиты в скатерти луга Весною неловкою. – Наш! – запели дубровы и рощи Сотнями глаз, зорких солнышек,– Ветвей благовест. – Нет! – говорили ночей облака. – Нет! – прохрипели вороны моря, Оком зеленые, грудью железные, К утренней тоне спеша на восток. Летят и шумят. Утра рыбак Невод раскинул – Неводом строгим летели. Только «Мой» не сказала дева Ирана… Только «Мой» не сказало иранское два.Ранняя редакция 6 части поэмы:
Глаза казни, белые очи богов, Глаза муки, Гонит ветер по зубцам снегов, по холмам кремня, Вершинам хребтов. Какому челу быть здесь, За пилою белых гор, Белым шиповником? Лоб в терну, Прибит к бревну, Кто в плену? Казнят кого В этих белых горах? Нетерпение видеть берег, Ветер – пение легких серег. Горы строгие белы, молчаливые, Гурриет-эль-Айн не была снежнее. Тахирэ задушила себя, Когда сама затянула на себе – Полет рук был неясен, неловок – Концы веревок Лука – подарок шаха, Стрелой певучей. И в глаза палачам сказала: «Ха-ха», Спросив их, повернув голову: «Больше ничего?». «Вожжи и олово В грудь жениху!». Темные ноздри гор Жадно втягивают Запах Разина.Гуль-мулла – см. примеч. к предыдущей поэме (С. 479). Обращая на себя народно-восточное понимание песнопевца, Хлебников подхватывает и эпически утверждает несколько ироническую мысль Пушкина, что современный поэт – «брат дервишу»: «…увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей» («Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»).
Здесь очевидна и параллель исторических событий, внешне принимающих разные формы: Пушкин – в царской армии генерала Паскевича, Хлебников – в рядах Персидской Красной армии.
Ок! – см. СС, 2. С. 555.
Чох пуль! Чох шай! – много денег (много мелочи)!
Волосы падали черной рекой <…> – см. примеч. к поэме «Поэт».
Саул, адам – будь здоров, человек.
«Курск» – судно Каспийской флотилии (далее: «Троцкий», «Роза Люксембург»),
Кропоткин (Кропоткин) – см. СС, 2. С. 564.
В прошлом столетьи / Искали огня закурить – намек на М. А. Бакунина (см. СС, 2. С. 539), в связи со статьей А.Блока «Михаил Александрович Бакунин», 1906: «Имя „Бакунин“ – не потухающий, может быть, не распылавшийся еще костер».
Сетуй, утес – дважды в скобках даны автоцитаты из поэмы-палиндрома «Разин».
Гурриет-эль-Айн – см. СС, 2. С. 534; Тахирэ – Пречистая.
«Рыжие» – шакалы.
Тиран без Тэ – Иран; о значении Тэ см. в словаре к «Царапине по небу».
Рейс тумам донья перс. – приблизительно: Председатель земного шара.
Джи-джи – виноградная водка.
Шира – наркотик, см. СС, 2. С. 555.
Халхал – местность в Северном Иране.
Зардешт (Заратустра) – см. СС, 1. С. 508.
Кто играл в эти струны? – ср. стих. СС, 2. С. 32.
«Беботеу вевятъ» – птичий язык (реплика славки в драматической сцене «Мудрость в силке», 1912).
Мариенгоф и Есенин – см. СС, 2. С. 522.
Кардаш – см. СС, 2. С. 552.
Киржим – плоскодонка, здесь; лодочник.
Казьян – каспийский порт, отделенный от Энзели «зеркальным заливом». Энзели – начало, Казьян – конец скитаний Хлебникова по северному Ирану.
Голод*
Впервые; журнал «Красная новь». 1927. № 8 (часть I; см. СС, 2. С. 277 и 567). По рукописи (РГАЛИ) печатается полный текст поэмы, написанной, как и ряд других произведений осени 1921 г., в связи с катастрофической засухой и неурожаем в ряде губерний России, прежде всего в Поволжье.
Лесные калачики – растение, из которого можно приготовить отвар.
Жареха обл. – жареная еда.
Полова – см. СС, 2. С. 530.
А в то же время ум ученых <…> – ср. газетную заметку «Союз изобретателей» (1918, Астрахань) о необходимости для «краевой научной мысли» не оставлять без должного внимания ни одной «продовольственной возможности» (НП, 1940. С. 349).
Шествие осеней Пятигорска*
Впервые: журнал «Красная новь». 1927. № 8 (первоначальная редакция под названием «Осень», публикация Д.Козлова). Печатается по НП, 1940.
Бештау – см. примеч. СС, 2. С. 558.
Пролом – провал на склоне Машука, природная достопримечательность Пятигорска.
«Орел» – скульптура, установленная в 1903 г.
Две Жучки <…> – просторечное именование вершин вблизи Пятигорска (подлинные названия: Юца и Джуца); в черновике поэмы (РГАЛИ) Хлебников изобразил их очертания.
Шура – Александр Владимирович Хлебников, см. СС, 2. С. 542.
Берег невольников*
Впервые: фрагмент без названия («Невольничий берег…») в СП, III, 1931; как текст завершенной поэмы под названием «Невольничий берег» в «Литературной газете». 1931. № 18. 4 апреля, (публикация А. Е. Крученых). Печатается по НП, 1940 (в комм, указаны места утрат белового автографа, датированного ноябрем 1921 г.).
Замысел поэмы и частичная реализация его, вероятно, восходят к концу 1916 – весне 1917 гг. (об этом см. в газетной публикации); ср. стихотворения антивоенной направленности в СС, 1: «Где волк воскликнул кровью…», «Еще сильней горл медных шум мер…» и др. Содержание всей поэмы непосредственно вытекает уже из революционного понимания Мировой войны как войны империалистической.
Анализ версификации текста (частично в соотношении с эволюцией образности автора) см. в статье: Гаспаров М. Стих поэмы Хлебникова «Берег невольников» / / Вестник Общества Велимира Хлебникова. 1. М., 1996.
Невольничий берег – побережье Гвинейского залива в Африке, между устьями рек Нигер и Вольта; в XVI–XVIII вв. основное место работорговли.
Бодро пойдет на уру – в атаку, врукопашную; ср.: «на уру и на авось» (СС, 1. С. 366).
За море <…> – имеется в виду набор экспедиционного русского корпуса на Западный фронт в помощь Антанте в 1915–1916 гг.
Баев о – от баять: говорить.
Самокат – см. СС, 2. С. 517.
Же, бэ – буквы азбуки, их борьба: «жратва»-«братва».
«Наш» – см. СС, 2. С. 539.
Керенского сломишь? – см. СС, 2. С. 501. В комм. НП, 1940. С. 392 среди приводимых черновых строк к поэме: «В латах девичей пехоты / От страшной охоты / Керенский скрылся».
Ночь перед Советами*
Впервые: отрывок в журн. «Новая деревня». 1925. № 15–16 («Вот как оно, барыня, было…»); в СП, 1,1928 без двух последних частей. Полный текст в изд.: Хлебников В. Стихотворения. Л., 1940 (Малая серия Библиотеки поэта. Составитель Н. Л. Степанов). Печатается по черновой рукописи (РГАЛИ).
Первоначальное название: «Ночь перед Рождеством». Подробный анализ истории и композиции текста, его житейских, литературных и изобразительных источников см. в кн.: Дуганов Р. В. Велимир Хлебников. Природа творчества. М., 1990 (гл. «Из эпических сюжетов»: «Ночь перед Советами»).
Смольный – учебно-воспитательное заведение в Санкт-Петербурге для девушек из дворянских семей (Институт благородных девиц); здесь училась, не завершив курса, мать Хлебникова – Екатерина Николаевна Вербицкая (1849–1936); с золотой медалью закончила Смольный институт ее сестра Варвара Николаевна (в зам. Рябчевская).
Русско-турецкая война – 1877–1878 гг.
«Народная воля» – революционная народническая организация (1879–1883), активным участником которой был двоюродный брат матери Хлебникова А. Д. Михайлов (1855–1884). Об отношении Е. Н. Вербицкой к ее брату см. в кн.: Прибылова-Корба А. П., Фигнер В. Н. Народоволец Александр Дмитриевич Михайлов. Л., 1925.
Качались удавлены – в апреле 1881 г. были повешены руководители «Народной воли» Желябов А. И., Перовская С. Л. и др.
Отец ее был со звездой старик – имеется в виду Вербицкий Николай Осипович (дед Хлебникова по матери), отставной офицер гвардии, статский советник.
Старуха снова пришла, но другая – вся третья часть поэмы (рассказ этой «другой» старухи) является порождением больного воображения «барыни», чувствующей историческую ответственность «белых» дворян за вековые страдания «черных» мужиков.
Будь ему матка родимая <…> – из нескольких источников этого сюжета наиболее важны: рассказ В. Г. Короленко «В облачный день» (журнальный вариант 1896 г.) и картина художника Н. А. Касаткина «Крепостная актриса в опале, сосланная на конюшню кормить своей грудью брошенных щенят (Талант и цена рабства)», 1910.
Гайдук – выездной слуга в венгерской или казачьей одежде.
Арапник – охотничья плеть.
Выжлец – гончая собака.
«Дело известное, – / Из сословья имущего!» – последняя часть в расширенном виде вошла в драматическую поэму «Настоящее», 1921 (погромно-мстительный монолог Прачки). См. в альбоме «Герои и жертвы революции». Пг., 1918 (тексты В.Маяковского, рисунки К.Богуславской, И.Пуни и др.) образы «Прачки» и «Барыни».
Уструг Разина*
Впервые: Леф, 1923, № 1 (с сокращениями); полностью в СП, I, 1928. Печатается по рукописи (РГАЛИ) с композиционной конъектурой.
Сюжет основан на многочисленных народных и авторских песнях (Пушкин «Песни о Стеньке Разине», Садовников «Из-за острова на стрежень…», Мельников «Атаман») о вожаке крестьянского восстания в 1667–1671 гг. Хлебников работал над поэмой в Баку, в Пятигорске, окончательная редакция выполнена в Москве. Ср. стих. СС, 2. С. 358–359, прим. 583.
Уструг Разина – ср. название песни А. Навроцкого, ставшей народной: «Утес Разина», 1870. Слово «уструг» употребляется Хлебниковым и в поэтических, и в прозаических текстах; в словарях только «струг» – род речного судна.
Неук – см. СС, 2. С. 544 и 549.
Тать – см. СС, 1. С. 469.
И Разина глухое «слышу» – в повести Гоголя «Тарас Бульба» ответ героя на крик его сына Остапа перед казнью: «Батько! где ты? слышишь ли ты?»
Выдум – изобретение, затея (Даль).
Это воли моря полк – ср. одно из поэтических имен Хлебникова: «Волеполк» (СС, 2. С. 557).
Кокора – см. СС, 1. С. 505.
Талах – см. СС, 2. С. 525.
Ляля – здесь: игрушка (ср. СС, 2. С. 359).
Баба-птица – пеликан.
Переворот в Владивостоке*
Впервые: СП, I, 1928. Печатается по рукописи (РГАЛИ); текст подготовил М. С. Киктев.
Интерес Хлебникова к событиям на Дальнем Востоке в годы гражданской войны стимулировался пребыванием там в этот период близких ему поэтов Д. Бурлюка и Н.Асеева. Рядом образно-тематических реалий поэма пересекается со следующим большим текстом – «Синие оковы».
Название поэмы обобщает несколько политических трансформаций в регионе на протяжении 1918–1921 гг. с непосредственным участием японского оккупационного корпуса. Подробно об этих событиях в связи с уточнением датировки поэмы см. в статье: Vroon R., Hacker А. Velimir Khlebnikov’s «Perevorot v Vladivostoke»: Histoiy and Historiography // The Russian Review. 60 (Januaiy 2001).
Саки (сакэ) – японская рисовая водка.
Нагасаки – город в Японии.
Цусима – см. СС, 1. С. 452, 481.
Зеленый плащ пророка – по-видимому, в связи с наличием в армии А. В. Колчака отдельных мусульманских формирований, воевавших под зеленым знаменем; ср. в поэме «Труба Гуль-муллы» (часть 12).
Рогоза – тростник, камыш.
Виденьем древнего лубка <…> – имеются в виду старинные японские гравюры; см. в каталоге: Первая выставка лубков. Организована Н. Д. Виноградовым. Вступление М.Ларионова. М., 1913, раздел «Японские старые лубки» с гравюрами Хиросигэ, Утамаро и др. См. также СС, 1. С. 507.
В броне из телячьих копыт – ср. в романе Д. С. Мережковского «Смерть богов» (1896) описание варваров-аламанов: «…вместо лат покрыты они были с головы до ног тонкими роговыми слоями из лошадиных копыт, крепко пришитыми к льняной ткани…»
Птица Рук (Рух) – гигантская птица в мусульманской мифологии, один из возможных источников Хлебникова: «Книга Марко Поло», гл. CXCI («рассказывают, что гриф очень силен и очень велик; схватит слона и высоко-высоко унесет его вверх, а потом бросит его на землю, и слон разобьется <…> если он расправит крылья, так в них тридцать шагов, а перья в крыльях двенадцать шагов <…> зовут его на островах руком» (арабское «рух» – дух, ветер).
Русская няня – обычное в публицистике начала XX в. подчеркивание женского («бабьего», по В.Розанову) существа России.
Бабочка голубая… Золотая бабочка – развитие темы прозаического отрывка «13 танка. Чао», 1915: «Чао плескала мотыльками и бабочками – этими умными кражами у неба его красок заката <…> Чао часто смотрит на открытое письмо с древним самураем в броне из чешуи, его высокомерные брови, падающие вниз на переносицу, как крылья морского орла, летящего с Фузиямы на рассвете…» (СП, IV. С. 324).
Он знает слабые места /Нагого тела <…> – описание приемов японских воинских единоборств (джиу-джитсу); текстуально близко к пособию: Кара Ашикага. Полный общедоступный учебник физического развития и приемов самозащиты по известной японской системе Жиу-Житсу (пер. с англ.). М., 1909.
Синие оковы*
Впервые: СП, 1,1928. Печатается по рукописи (РГАЛИ); текст подготовил М. С. Киктев. Сохранился черновой вариант поэмы, а также многочисленные куски-подступы к ее теме в разных хлебниковских тетрадях.
Ниже дается ранее не печатавшийся текст (РГАЛИ) – промежуточный между стих. «Я и ты» (СС, 2. С. 221) и поэмой «Синие оковы»:
Я в Красной Поляне
«Проворнее, кацап! Отверженный, лови!» Кап! кап! кап! – Сыпались, падают слезы-вишни в кувшин. А ласточка крикнет: «Цивить!». Глаза, как два скворца в скворешнице. Она строга, как слово панна. Она в одежде белой грешницы Таила тело окаянное. Рубашкой скрыта покаянной, Она стоит, живая мученица, Где только ползали гусеницы, Где ветки молят Солнечного Спаса Дней белых мух замедлить точку, Веревкой серой опоясав К ногам упавшую сорочку. Сегодня в рот влетит вареник, Уж блюдо полно алых денег, И свет божественный, Над нею луч порой сверкал, Но кто-то крылья отрубал. Спускались косы, точно черные ужи. А плащ снегов был бел и пышен. «Раб, иди и доложи, Что госпожа нарвала вишен!». Быть может, общий заговор И дерева, и тела! Я верю, разум шире мозга И за невод человека и камней Единого течет водой. Но сумрак сада – художник худой – Два солнца чахотки теней Тебе дал ласкать, вишневая розга, Нежно усилить колючками, смело И запахом вылить наго ворох. Быть может, в те часы Во мне и ей вселенская душа Искала шалаша. Но честно я отмечу, была ты хороша В чертовском облаке ветвей И странствуя по воздуху с трудом, На теле глиняногнедом Рубашка синяя горела. Какой чахотки сельской грезы Прошли сквозь очи, как пила, Когда соседкою ствола Рукою черною рвала С воздушных век малиновые слезы! С ума беглец! Какой наглец! Кто был виновник, Что я был человек? Что пел дубровник: «Вэр вер виру сьек сьек сьек!» – И что-то беззаботное. О звездах чахотки шла слава, Быть может, тропою острога, Но скука, досуга сельского забава,– Они украдены в семействе бога! Свидетель старенькая книга Столетий несколько назад. Труды покрытых сажей игол Ее небесные глаза. Где то крыльцо находится, Где спичкой в копоти с утра Наводит добрая сестра Глаза большие богородицы? Вы скажете, что плохо то, Но гром девического хохота, Как ветер налетевшей бури, Нас уносил на горы Веселой грешной дури. Пусть копоть ей напишет очи, Дугою брови проведет Совсем жилицы облаков И после матери богов Все краски тряпкою сотрет, И потаскушку городов Белила, охра, земли алые Вдруг наведут на деве, балуя, Цветам<и> жирным<и> <капнут>, балуя.Поэма «Синие оковы» написана в Москве весной 1922 г., после возвращения Асеевых с Дальнего Востока. См. воспоминания К. М. Асеевой (Синяковой) // Вестник Общества Велимира Хлебникова. 1. М., 1996. С. 58–60.
Название (метафора любви) находится в паронимической связи с фамилией «Синяковы» (см. примеч. к поэме «Три сестры»).
К сеням – анаграмма имени Ксения (Оксана).
Балясина – точеный столбик перил.
Кут – см. СС, 2, С. 528.
Кутя – домашнее прозвище К. М. Синяковой (Творения, 1986. С. 687).
Красная Поляна – см. примем, к поэме «Ладомир».
Что брошено ими «уми» / Из «умирая» – реминисценция стих. Н.Асеева «Москва на взморье».
Пальцами Польши – возможно, имеется в виду Н. М. Синякова (в замужестве Пичета), профессиональная пианистка.
Черных и белых народов – о клавишах пианино и далее о народах-звуках (ср.: «Поэт пользуется вещами и словами как клавишами» – Новалис. Фрагменты в переводе Григория Петникова. М., 1914. С. 21).
Семи голосов, веселого грома – в семье Синяковых было четыре сестры и три брата.
Голяки – рифмованное деревенское прозвище: «Синяки-голяки» (голые).
Синголы – возможно, от «син» лат. – Китай, по типу «монголы».
Здесь богатырь <…> – имеется в виду Д. В. Петровский (см. С. 463 и СС, 1. С. 520), прототип героя рассказа «Малиновая шашка», 1921.
Альчики – игра в кости.
Баба-птица – см. С. 488.
Лена с глазами расстрела – расстрел рабочих на Ленских золотых приисках в 1912 г.
Душегубка – см. СС, 1. С. 482.
Глаголь, Рцы, Мыслете, Како – славянские названия букв Г, Р, М, К; осмысление событий в категориях «звездной азбуки».
Мир качался на глаголе – см. С. 465.
Перовская Софья Львовна (1853–1881), см. С. 487.
Очей Очимира певца – согласно развитию поэтического сюжета речь идет об Асееве Николае Николаевиче (1889–1963), авторе стих., посвященного К. М. Синяковой: «Оксана! Жемчужина мира!» (сб. «Бомба». Владивосток, 1921). Возможно другое толкование: Очимир продолжает ряд хлебниковских образных имен – Велимир, Ладомир, Трудомир, то есть относится к автору поэмы, как певцу «законов времени».
Колчак А.В. (1874–1920), Корнилов Л.Г. (1870–1918), Каледин А.Н. (1861–1918) – собрание фамилий вождей «белого» движения на «Ка», образующее оппозицию собранию фамилий на «Эль» в «Царапине по небу»; там же о значениях букв-имен звездного языка.
Дуров – династия Дуровых, цирковых дрессировщиков зверей.
Цуг – см. СС, 2. С. 582.
Ругил – предводитель гуннов, дядя Аттилы (см. СС, 2, С. 524).
Гнедов Василий Иванович (1890–1978) – поэт-футурист Василиск Гнедов, автор стих. «Кук», 1913.
Там жили колословы – аллюзия к стих. Блока «Поэты», 1908: «Там жили поэты…»; неологизм создает многозначный образ людей, по-разному осознающих возможности работы со словом.
Оковоловы – в связи с метафорическим названием поэмы: оковы любви.
Звездные руны – ср. СС, 2. С. 578; как синоним «досок судьбы» (законы общие для всех явлений мироздания).
Пока не соберутся люди и светила / В общую гостиную – ср. стих. «Песнь смущенного» (СС, 1. С. 306).
О, Синяя – весь фрагмент о «семнадцатилетней», вероятно, обращен к В. М. Синяковой (см. СС, 2. С. 558).
Жужелица – см. СС, 1. С. 499.
Саян – см. СС, 2, С. 578.
Игра в аду*
Впервые: отд. изд. «Крученых Алексей, Хлебников Виктор. Игра в аду». М., 1912. <Рисунки Наталии Гончаровой, литограф, текст исполнил А. Крученых>; второе изд.: «А. Крученых, В. Хлебников. Игра в аду». СПб.: <ЕУЫ>, 1914. Рисунки К. Малевича и О. Розановой. Литограф, текст исполнила О. Розанова>; СП, II, 1930.
Не вошедшие в текст вариантные строфы публиковались в НХ, Ы1,1928 и в НП, 1940.
Печатается по второму, исправленному и расширенному изд. 1914 г. В письме Н. Л. Степанову Крученых отметил: «Кто что писал – думаю, что это очень путано» (СП, II, 308).
Из воспоминаний Крученых: «Бурлюк познакомил меня с Хлебниковым где-то на диспуте или на выставке. В одну из следующих встреч <…> я вытащил два листка – наброски (строк 40–50) своей первой поэмы „Игра в аду“. Скромно показал ему. Вдруг, к моему удивлению, Велимир уселся и принялся приписывать к моим строчкам сверху, снизу и вокруг – собственные. Показал мне испещренные его бисерным почерком странички. Вместе прочли, поспорили, еще поправили. Так неожиданно и непроизвольно мы стали соавторами <…> Об этой нашей книжке вскорости появилась большая статья именитого тогда С. Городецкого в солидно-либеральной „Речи“. Вот выдержки: „Современному человеку ад, действительно, должен представляться, как в этой поэме, – царством золота и случая, гибнущим в конце концов от скуки. Когда выходило „Золотое руно“ и объявили свой конкурс на тему „Черт“ – эта поэма наверняка получила бы заслуженную премию“» (Наш выход. М., 1996. С. 49; цитируется статья «Непоседы» из петербургской газ. «Речь». 1912. № 269. 25 декабря). Во втором издании поэмы этот отзыв (без называния автора) был помещен в качестве предисловия, вытеснив предисловие Хлебникова, впервые напечатанное в НП, 1940. С. 440: «Подобно звезде, раз взошедшей на небо, повторяющей свой путь, обещанный давно, „Игра в аду“ выходит вторым изданием.
Имеют книги свои судьбы!
Но длинный хвост неясных дополнений следует за первоначальным ядром, порой закрывая его.
Звездочеты! Спешите отметить появление нового светила на вашем пустом небе».
В черновиках, сохранившихся у Крученых, есть хлебниковская запись общего плана поэмы; «Ад. Игра в карты. Любовь. Воспоминания грешников и бесов».
В названии поэмы есть смысловая близость (ад, преисподняя) к названию книги А. Рембо «Une saison en enfer» (1873).
См. статью: Якобсон Р. О. Игра в аду у Пушкина и Хлебникова / / Сравнительное изучение литературы. Л., 1976 [незавершенный сюжет о Фаусте: «Сегодня бал у сатаны…»].
Скрижаль – доска с написанным на ней священным текстом.
Его семерка туз взяла – аллюзия к «Пиковой даме» Пушкина: заветные карты «тройка, семерка, туз».
Сейм польск. – собрание, парламент; см. СС, 1. С. 260.
Кружало – питейный дом, кабак.
Смеюн – ср. словообразования в «Заклятии смехом» (СС, 1. С. 209).
Пресня – район в Москве.
Вурдалачий – от вурдалак; ср. одноименное стих. Пушкина в «Песнях западных славян».
Кичка – женский головной убор.
Вотще – см. С. 433.
Зиждя арх. – от зиждить (создавать, сооружать).
Вящие – см. СС, 1. С. 502.
Бунт <прокаженных>*
Впервые: НХ, XII, 1929, под названием «Бунт жаб»; включена в СП, II, 1930. По утверждению Н. И. Харджиева, публикация «под неправильным заглавием, с лакунами и искажениями» (НП, 1940. С. 440).
Из предисловия А. Е. Крученых в НХ: «„Бунт жаб“ – набросок поэмы, которая писалась в 1913–1914 гг. В. Хлебниковым вместе со мною и оставлена незаконченной. Печатаемое здесь – на три четверти написано Хлебниковым. Что именно им, а что мною – я уже позабыл…»
Ср. в цикле стихотворений Д. Бурлюка «Доитель изнуренных жаб» (сб. «Рыкающий Парнас», 1914):
Была душа полна проказой. О, пресмыкающийся раб! Сатир несчастный, одноглазый, Доитель изнуренных жаб.По наблюдению А. А. Мамаева, возможна образно-тематическая соотнесенность второй части поэмы («прокаженные», отвергнутые обществом «здоровых») с поэмой франц. «проклятого поэта» Тристана Корбьера (1845–1875) «La rapsode foraine et pardon de Sainte-Anne». См. Реми де Гурмон. Книга масок. СПб., 1913.
В стране осок и незабудок – см. примеч. на С. 424 к поэме «Журавль» (о незабудке).
Волчья сыть – «травяной мешок, волчья сыть – бранят лошадь» (Даль).
Как Гете в голубом – вариант в НХ: «Как Пушкин…»
Песнь колес паровоза – ср. СС, 1. С. 210.
«Не имам» – от др. – рус.: «Мертвые сраму не имут» (князь Святослав перед битвой с греками).
Длань – см. на С. 440.
«Эй, дубинушка, ухнем!» – русская народная песня.
Перечень иллюстраций
Фронтиспис книги В. Хлебникова «Изборник». 1914
Вячеслав Иванов. Рисунок В. В. Хлебникова. 1921
Программа литературного вечера в Петербурге. 1909
Велимир Хлебников. Живопись Н. Ф. Ларионова. 1910
Велимир в мордовской шапке. Рисунок В. В. Хлебниковой. 1911.
«Вила». Литография Н. С. Гончаровой. 1910-е годы
Н. С. Гончарова с футуристической раскраской лица. Фотография. 1910-е годы
«Шаман и Венера». Иллюстрация В. В. Хлебниковой. 1920-е годы
Участники сб. «Пощечина общественному вкусу». Фотография. Декабрь 1912
Успенский собор в Астрахани и башня Сююмбеки в Казани
Велимир Хлебников. Рисунок П. Н. Филонова. 1913
Литография П. Н. Филонова из книги «Изборник». 1914
Корней Чуковский. Шарж В. В. Маяковского. 1915
Обложка книги А. Крученых «Стихи В.Маяковского». 1914
Велимир Хлебников. Рисунок В. Е. Татлина. 1938
Список Председателей Земного Шара («Временник 3». 1917)
Рисунок В. В. Хлебникова. 1918
Обложка сборника «Без муз». Н.Новгород. 1918
Каменная баба (надгробие В. В. Хлебникова на Новодевичьем кладбище в Москве. 1975)
В. В. Хлебников и неизвестная. Фотография. 1912
Обложка журнала «Маковец». 1922
Обложка журнала «Леф». 1923
«Я Разин со знаменем Лобачевского логов». Плакат П. В. Митурича. 1924
Рукописная книга «Велимир Хлебников. Разин». П. В. Митурич. 1922–1923
«Неизданный Хлебников». Выпуск I–II, 1928
Заключительные страницы книги «Изборник». 1914
Список и автограф стихотворения «Туда, туда…»
«Решт». Рисунок М. В. Доброковского. 1921
В. В. Хлебников. Рисунок М. В. Доброковского. 1921
«Ночь перед Советами». Иллюстрация В. В. Хлебниковй. 1920-е годы
Страница рукописи «Уструг Разина»
Рукопись-рисунок «Пушкин» в бакинской тетради В. В. Хлебникова. 1921.
Обложка не состоявшегося издания поэм Велимира Хлебникова. П. В. Митурич. 1920-е годы
«Игра в аду». Обложка К. С. Малевича. 1914
Страница литографированной книги «Игра в аду». О. В. Розанова. 1914
Ольга Розанова, Ксения Богуславская и Казимир Малечвич на выставке «0.10». Фотография. 1915
А. Е. Крученых. Рисунок В. В. Хлебникова. 1913
Выходные данные
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
ОБЩЕСТВО ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА
ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ
под общей редакцией Р. В. Дуганова
ТОМ ТРЕТИЙ
ПОЭМЫ 1905-1922
Составление, подготовка текста и примечания Е. Р. Арензона и Р. В. Дуганова
Компьютерная группа А. З. Бернштейн
Художник Д. Е. Долгов
Архивная фотосъемка А. П. Сизухин
Корректор Е. Н. Сченснович
ИД № 01286 от 22.03.2000 г. Подписано в печать 03.04.2002 г.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Академическая. Печать офсетная.
Печ. л. 31,5. Тираж 1500 экз. Заказ № 6058
ИМЛИ им. А-М.Горького РАН.
121069, Москва, уд. Поварская, дом 25-а
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ППП «Типография „Наука“»
121099, Москва, Шубинский пер., 6




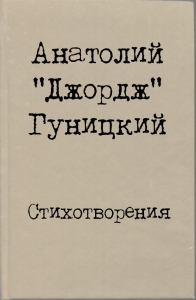
Комментарии к книге «Том 3. Поэмы 1905-1922», Велимир Хлебников
Всего 0 комментариев