Константин СИМОНОВ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ ПЕРВЫЙ Стихотворения Поэмы Вольные переводы
Л. Лазарев. «НА ШТЫКАХ ПРИНЕСЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ»
(о творчестве Константина Симонова)
Собрание сочинений — это «материализованный» творческий путь писателя. И выпускаемые десять томов, в которых заключены все наиболее значительные произведения, созданные Константином Симоновым за долгие годы литературной работы, свидетельствуют о том, что вот уже почти четыре десятилетия он неизменно находится на авансцене литературного процесса. С той первой военной зимы, когда в «Правде» появилось стихотворение «Жди меня», в считанные дни сделавшее имя двадцатишестилетнего поэта, фронтового корреспондента «Красной звезды», известным всей читающей России на фронте и в тылу, — с той поры и до нынешнего времени не иссякает острый интерес читателей и зрителей к произведениям Симонова. Его имя постоянно присутствует в обзорах критиков, на театральных афишах, в репертуаре кинотеатров — так было в военные годы, и двадцать лет назад, и сегодня. Творчество Симонова волнует не только тех читателей, для которых его стихи и очерки, прочитанные когда-то в землянке или госпитале, стали частью их военной судьбы, но и тех, кто по молодости лет миновал то суровое время, но их представления о войне сложились в немалой степени под воздействием произведений Симонова.
Почти все, что написано Симоновым, — будь то стихи или пьесы, очерки или дневники, повести или романы — посвящено войне. Даже то, — пусть не покажется это парадоксом, — что создано было в мирные еще, предвоенные годы. С тех пор, как в 1937 году в поэме «Победитель» он написал полные «предгрозья холодного ощущенья» строки: «Слышишь, как порохом пахнуть стали передовые статьи и стихи?», в его произведениях — и в исторических поэмах, и в лирических стихах — все чаще и чаще, все явственнее обнаруживает себя предчувствие будущего:
Когда-нибудь, сойдясь с друзьями, Мы вспомним через много лет, Что в землю врезан был краями Жестокий гусеничный след, Что мял снега сапог солдата, Что нам навстречу шла война, Что к Западу от нас когда-то Была фашистская страна.Сюжеты для своих исторических поэм Симонов находит в военной истории России: ледовое побоище, последний поход Суворова, освобождение красногвардейскими отрядами в 1918 году Пскова, захваченного германской армией. В этих героических событиях прошлого поэт видит пример для современников, стоявших на пороге грозных ратных испытаний, пафос его поэм в утверждении действенной силы военно-патриотических традиций.
И исторические поэмы Симонова, и лирические — «Пять страниц» и «Первая любовь» — не утратили поэтического обаяния и нынче. И вот на что еще следует обратить внимание. Перечитывая довоенные произведения Симонова, мы обнаруживаем мотивы, ставшие затем доминирующими, сквозными в его творчестве. Можно, скажем, проследить, как образ родины, возникающий в «Суворове»: «…и та холодная страна, где прожил он две трети века, и синие леса вдали, и речки утренняя сырость, и три аршина той земли, скупой и бедной, где он вырос…» — отзовется потом в стихотворениях «Родина», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», в пьесе «Русские люди» и, наконец, в «Живых и мертвых», в том эпизоде, где Синцов, увидев близ дороги старое сельское кладбище, пережил «острое и болезненное чувство родной земли». В этих довоенных поэмах Симонова, если, рассматривая их, держать в поле зрения его творческий путь, откроются и некоторые существенные черты дарования писателя, проявившиеся затем не только в поэзии, но и в прозе. И природа сюжета в поэмах Симонова, и предметно-пластичное изображение — все это в будущем предвещало прозу. Во многом благодаря «Ледовому побоищу» и «Суворову» историзм стал затем у Симонова неотъемлемым свойством художественного анализа и современности — без этого опыта ему было бы труднее в трилогии «Живые и мертвые» воссоздать такую широкую картину движения времени.
И от лирических поэм тоже тянутся нити к военным и послевоенным вещам, они видны не только в произведениях поэзии, но и в пьесах, и в «Записках Лопатина». Взаимоотношения героя и героини в симоновских поэмах драматичны и сами по себе (что в лирике той поры встречалось не так часто), но в их любовной драме незримо присутствует и «третий» — время, так много требовавшее тогда от человека, так властно распоряжавшееся его судьбой. По сути оно играло в этом своеобразном любовном «треугольнике» роль «соперника». Не случайно в финале поэмы «Первая любовь» возникает образ времени, определяющего жизненный маршрут героя:
Сквозь время тоже ходят поезда, Садимся без билетов и квитанций. Кондуктор спросит: — Вам куда? — Туда. — И едем до своих конечных станций…История трудной любви, которая стала содержанием цикла лирических стихов «С тобой и без тебя», потому нашла такой горячий отклик у читателей, что «третьим», стоявшим между героями, был не «он» и не «она», а война. В житейской ситуации, когда он «бросил» или она «разлюбила», «ушел к другой» или «поменяла на другого», кто-то неизбежно обречен на сердечные муки и боль. И все-таки это не то, что война-«разлучница», которая приносила в дом непоправимую беду и безутешное горе: жена становилась вдовой, а дети — сиротами. Вовсе не каждого подстерегает в жизни сердечная драма, а война-«разлучница» не обошла никого. Тема камерная, интимная приобретала у Симонова гражданское звучание. Это подтверждается удивительной судьбой стихотворения «Жди меня», — сугубо личное послание, даже не предназначавшееся автором для печати, стало произведением для газетной полосы, для листовки, а позже обрело всемирную известность как символ женской верности в годы войны.
Симонов увидел, что такое война, еще до Великой Отечественной. Та первая — еще «малая» — война, на которой ему довелось побывать в 1939 году на Халхин-Голе и о которой он так много писал тогда и после большой войны, была для него и осталась не просто локальным конфликтом где-то «далеко на востоке». Он вспоминал о том, как осенью 1939 года в Монголии, где только что закончились бои, слушал немецкую радиопередачу из захваченного фашистами Кракова и «с полной очевидностью почувствовал, что вот-вот мы будем воевать с немцами, что это непременно будет, и будет скоро, и что все это, что там происходит, — лишь самое начало чего-то огромного и необъятно страшного».
Рожденную этим чувством, написанную еще до нападения гитлеровской Германии на нашу страну пьесу «Парень из нашего города» поставило множество театров, — в первый год войны это был самый популярный современный спектакль, а ведь 22 июня стало тем рубежом современности, который не удалось перейти почти ни одному из произведений о будущей войне. Но именно потому, что война и тогда уже представлялась Симонову неотвратимо надвигающимся тяжким испытанием, а не демонстрацией того, что все нам нипочем, она не перечеркнула его довоенных произведений. Само название пьесы — «Парень из нашего города» — стало надолго чуть ли не крылатой фразой, потому что за ним стоял образ ее главного героя Сергея Луконина, человека, готового сражаться за правое дело и доказавшего это, человека обыкновенного и вместе с тем необыкновенного, профессионального военного и романтика. Это был новый для литературы тип, становившийся в военное время центральной фигурой. Пьеса учила стойкости и мужеству, самоотверженности и беспощадности к фашистам, она вселяла веру в победу, как бы ни были трудны пути к ней. Финал ее был «открытым», обращенным в будущее: зритель расставался с героями не в минуты торжества, а перед тем, как им предстояло идти в бой. И Луконин отлично понимает, что для него и для его товарищей этот бой но будет последним.
В поэтизации мужества видела критика 30-х годов пафос творчества молодого поэта, после же Халхин-Гола Симонов становится, в сущности, военным писателем, воспевая солдатское мужество, трудный солдатский долг, а именно этого больше всего требовало время. Не случайно Симонов оказался среди тех писателей, которые перед войной окончили девятимесячные курсы при Военно-политической академии. «Люди шли на эти курсы, — вспоминал он, — и, оторвавшись от всех других дел, занимались на них потому, что в их психологии близость войны с Гитлером становилась все более реальным фактом».
Нет нужды подробно рассказывать здесь о жизненном пути писателя: этот том открывается его автобиографией, из которой читатели смогут почерпнуть все необходимые сведения. Но нельзя миновать его работы фронтовым корреспондентом в годы Великой Отечественной войны, его многочисленных поездок в действующую армию — ведь накопленные в этих командировках впечатления (а лучше, точнее сказать — пережитое писателем тогда) легли в основу почти всего его творчества, определили направление в развитии его таланта.
Не зря, публикуя в наши дни свой дневник военного времени, Симонов счел необходимым «предупредить тех из читателей, которые знают роман «Живые и мертвые» и примыкающие к этому роману повести «Из записок Лопатина», что они столкнутся здесь, в дневнике, с уже знакомыми им отчасти лицами и со многими сходными ситуациями и подробностями». Все эти книги начали складываться тогда, в годы войны, — в ту пору, когда автор, наверное, о них еще и думать не думал…
Нужно отметить одну особенность фронтовых наблюдений Симонова, так или иначе отразившуюся во всем его творчестве. Вот что о ней говорит сам писатель: «Я свидетель многих активных действий и крупных событий. Я — за редчайшими исключениями — не ездил туда, где было тихо, меня посылали туда, где что-то готовилось или происходило. Я имел возможность сравнивать, я видел активные действия нашей армии во все годы и все периоды войны». Именно это делает военный опыт Симонова поистине уникальным.
Должность специального корреспондента центральной военной газеты, которого редакция обычно посылала в самые горячие места, который должен был поспевать всюду (Симонову случалось всего за несколько недель знакомиться с положением дел в самой южной и самой северной точках огромного, растянувшегося от Черного до Баренцева моря фронта, а между этими двумя дальними командировками — еще поездки в войска, сражающиеся под Москвой), необычайная уже в те годы популярность писателя, раскрывавшая перед ним многие двери и вызывавшая к нему интерес многих людей, — все это так расширяло круг его наблюдений, что почти никто из его коллег не мог с ним тягаться.
Симонов встречался и беседовал в те годы с множеством людей самых разных военных профессий, разных званий и должностей: от рядового солдата-пехотинца, которому даже КП батальона казался тылом и задача которого — выбить немцев из ближайшей траншеи, до командующего фронтом, отвечающего за исход крупной операции.
Он мог, например, увидеть наступающую армию в «вертикальном разрезе» — отправившись из штаба армии, добраться до батальона, до солдат переднего края, последовательно пройдя все ступени: штаб корпуса, дивизии, полка. Ему довелось побывать в Сталинграде и на Курской дуге, в осажденной Одессе и при прорыве линии Маннергейма, ходить на подводной лодке к берегам Румынии и летать к югославским партизанам, присутствовать на первом суде над военными преступниками в Харькове и первой встрече советских и американских войск на Эльбе, наблюдать отступление немцев под Москвой и их упорное сопротивление в Тернополе, кровавые бои под Могилевом и сокрушительный штурм Берлина. Кому еще довелось увидеть все это? А ведь я называю здесь далеко не все… Что говорить, он знает войну и вширь и вглубь. Знает, о чем думал, что было на сердце у фронтовика и в тяжкое лето 41-го года, и в победную весну 45-го…
Симонов сам постоянно стремился увидеть и узнать побольше, он видел в этом профессиональный долг, который сформулировал для себя так: «Реже рискуешь — меньше видишь, хуже пишешь». Его подталкивали и нравственные соображения — и, может быть, они в первую очередь: «Работа военных корреспондентов была не самой опасной работой на войне. Не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком. А те, кто это понимал, сами, без требования со стороны начальства, стремились сделать все, что могли, не пользуясь ни выгодами своей относительно свободной на фронте профессии, ни отсутствием постоянного глаза начальства», — именно так он относился к своим обязанностям.
Острое чувство времени, которое проявилось уже в довоенном творчестве писателя, теперь трансформировалось в журналистскую оперативность; не только в газетных жанрах, но и в стихах, рассказах, пьесах он чутко улавливал то, что было обязано своим рождением этим дням, то, что носилось в воздухе, «на штыках принесенное временем», ища выражения и объяснения в искусстве. Многое Симонов почувствовал и понял раньше других. И о многом написал тогда первым. О любви к родине как любви к отчему дому, символом которой надолго стали симоновские «три березы», о силе русского характера, так полно проявившейся во время тяжких военных испытаний (пьеса «Русские люди»), о подвиге защитников Сталинграда, об их стойкости (повесть «Дни и ночи»), о любви, не сломленной разлукой и отчаянием неизвестности (цикл лирических стихотворений «С тобой и без тебя», пьеса «Жди меня»), об освободительной миссии нашей армии, сокрушившей гитлеровскую власть в Европе (пьеса «Под каштанами Праги»). Все, что создавалось советскими писателями в дни войны, было подчинено одной задаче: укрепить силу духа тех, кто сражался на фронте против захватчиков и самозабвенно работал для фронта в тылу, приблизить победу. Определивший весь строй жизни народа лозунг «Все для фронта, все для победы!» распространялся и на искусство. Резко возрастало в ту пору значение его воспитательного потенциала, сплошь и рядом оно брало на себя пропагандистские функции. Но решалась эта общая для всех художников задача разными способами и средствами, и пропагандистский эффект достигался вовсе не обязательно с помощью публицистики, прямой дидактики.
Симонов стремился глубже проникнуть в мир чувств воюющего современника, там отыскать то, что было гарантией нашей конечной победы.
Вот почему в его военной поэзии господствует лирическая стихия — отодвинута в сторону поэма с повествовательным сюжетом, которая до этого была излюбленным жанром: единственная написанная в годы войны поэма — «Сын артиллериста». И самые большие удачи поэта — в лирике: и поминавшееся уже «Жди меня», и не менее популярные «Если дорог тебе твой дом…», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», и «Майор привез мальчишку на лафете…», и «Не той, что из сказок…». Если составлять антологию самых лучших стихотворений военных лет, все они непременно должны быть в нее включены.
Словно смотришь в бинокль перевернутый — Все, что сзади осталось, уменьшено. На вокзале, метелью подернутом, Где-то плачет далекая женщина. Снежный ком, обращенный в горошину, — Ее горе отсюда невидимо; Как и всем нам, войною непрошено Мне жестокое зрение выдано.В этом написанном в самом начале войны стихотворении поэтом сразу же был определен тот новый нравственный счет, который стал глубинной основой его поэтического мироощущения. «Перед лицом большой беды» все видится теперь иначе: и жизнь («В ту ночь, готовясь умирать, навек забыли мы, как лгать, как изменять, как быть скупым, как над добром дрожать своим»), и смерть («Да, мы живем, не забывая, что просто не пришел черед, что смерть, как чаша круговая, наш стол обходит круглый год»), и дружба («Все тяжелее груз наследства, все уже круг твоих друзей. Взвали тот груз себе на плечи…»), и любовь («Но в эти дни не изменить тебе ни телом, ни душою»). Для читателя, который в те нелегкие дни невольно искал в поэзии прежде всего хоть какого-то подтверждения своего сурового душевного опыта, стихи Симонова были страстно ожидавшимся откровением. Читатель был покорен тем, что строй его чувств и чувств поэта совпадал, что пережитое им оказалось достойным поэтизации. И поэт постоянно ощущает это чувство общности с читателем, оно так сильно, что становится формообразующим фактором, определившим структуру многих его стихотворений: как часто они строятся на прямом обращении к читателю, который словно бы находился рядом с поэтом, был вместе с ним под огнем, видел то же, что и он: «Опять мы отходим, товарищ…»; «Не плачь! Покуда мимо нас они идут из Сталинграда…»; «О чем наш разговор солдатский?»; «Когда ты входишь в город свой…» и т. д. Отсюда и интонация особой задушевности и прямоты, преобладающая в стихах Симонова и так привлекающая читателя…
Я не буду под этим углом зрения рассматривать и драматургию Симонова военных лет — в этом нет нужды: в Собрание сочинений включены «Письма в театр», представляющие собой обстоятельный авторский комментарий к пьесам «Русские люди» и «Под каштанами Праги» — к нему я и отсылаю читателей. Хочу лишь заметить, что драматург озабочен — и это лейтмотив «Писем…», — чтобы при постановке не была разрушена та достоверность реальных обстоятельств войны и поведения героев, которую он считает едва ли не главным достоинством своих пьес и которой очень дорожит…
Если же обратиться к прозе Симонова той поры, к этим его еще первым опытам, бросится в глаза, что многое в ней рождено близостью изображаемого к натуре, как говорят литературоведы, высокой степенью прототипичности. Написанные по горячим следам событий рассказы, в которых не только детали и подробности, но и ситуации, и герои прямо перенесены из жизни, почти не отличаются от очерков, «разница между теми и другими, — свидетельствует автор, — по большей части только в именах — подлинных или вымышленных; за большинством рассказов стоят живые люди». Это свойство отличает и самое крупное прозаическое произведение Симонова военных лет — повесть «Дни и ночи». «В какой-то мере эта повесть и есть мой сталинградский дневник», — признавался впоследствии писатель.
Подобного рода почти «документальная» основа играет у Симонова столь важную роль, что это дало ему возможность рассказ «Пехотинцы» при экранизации превратить не в «игровой», художественный фильм, а в хроникально-документальную ленту «Шел солдат…», сохранившую, однако, идею и пафос рассказа. Та необычная художественная форма, в которую вылилась экранизация «Пехотинцев», — результат последовательного развития эстетических принципов, заложенных в рассказе. Здесь нет произвола: скрупулезно точное изображение действительности закономерно открывало путь к документалистике.
«Пехотинцы», «Перед атакой», «Третье лето», «Дни и ночи» — уже сами эти названия четко обозначают угол зрения автора. «Шел седьмой или восьмой день наступления» — так подчеркнуто буднично начинаются «Пехотинцы» (я останавливаюсь на этом одном из лучших рассказов Симонова, потому что он выразительно представляет существенные особенности его прозы той поры), и точно так же, в том же ключе, будет вести автор и дальше повествование, показывая, из чего складывается этот самый обыкновенный день на переднем крае и чего стоит солдату.
День, который изображен Симоновым в рассказе, был для его героя благополучным и даже удачным днем. Но сколько он натерпелся страху в этот мало чем отличавшийся от других день: и когда по ним вдруг ударили немецкие пулеметы, и когда вражеская артиллерия накрыла их в только что отбитых у противника траншеях, и когда их атаковали танки с крестами и один двинулся прямо на него. Сколько он прошагал, таща на себе пуд с малым или без малого, прополз, пробежал, сколько раз бросался на мокрую, раскисшую от дождя землю, поспешно окапывался, который уж день толком не ест — вот и нынче опять пришлось жевать одни сухари, которую ночь толком не спит — и в эту тоже наверняка не придется: в 24.00 приказано форсировать реку и выбить немцев, закрепившихся на том берегу.
Описанный в рассказе один день очень похож на всю войну, в нем, как в капле воды, видно все, что приходилось делать солдату четыре бесконечно длинных года. И хотя в центре произведения один герой, автор назвал рассказ не «Пехотинец», а «Пехотинцы», указывая таким образом на содержащийся в нарисованной картине подспудный символический смысл, прямо выраженный им в одном из военных очерков: «Если поставить памятник самой большой силе на свете — силе народной души, — то должен быть на том памятнике изваян идущий по снегу в нахлобученной шапке, немного согнувшийся, с вещевым мешком и винтовкой за спиной русский пехотинец».
И это свойство — точное во всех подробностях изображение фронтовой действительности, чуждое какой-либо условно-романтической приподнятости, нарочитого укрупнения, но таящее в себе и некое «надбытовое», символическое содержание, — присуще всей симоновской прозе. Даже повесть «Дни и ночи» (я говорю «даже», потому что в повести авторская мысль разветвленнее, многозначнее, ее труднее перевести в символический план) построена по этому принципу. События, которые очень скоро стали восприниматься как исторические, предстают в ней совершенной обыденностью, чередой однообразных дней и ночей, до отказа набитых трудными и опасными, но привычными солдатскими обязанностями и неотступными даже здесь житейскими заботами — надо ведь и поесть, и где-то поспать, и обогреться.
Образный строй повести, внутренняя динамика изображаемых в ней событий и характеров подчинены задаче раскрыть духовный облик тех, кто стоял насмерть в Сталинграде. Рассказывая в повести о тяжелейших днях боев за Сталинград, когда немцы прорываются к Волге, отрезав от штаба армии дивизию, в которую входил батальон Сабурова, Симонов чутко уловил и показал перелом, наступивший в психологии защитников города. Они не признали себя побежденными, в душах людей открылись такие силы, о существовании которых они прежде и сами не подозревали. Никакое превосходство сил у врага уже не могло вызвать страха или замешательства. Если первые бои, как они изображены в повести, отличались предельным нервным напряжением, яростной исступленностью, то теперь самым характерным писателю представляется спокойствие героев, их уверенность, что они выстоят. Это спокойствие стало высшей формой мужества, высшей мерой стойкости. Если прежде упорство обороняющихся было рождено чувством, что дальше отступать некуда, то теперь рядом с этим чувством возникло и сознание решающей роли сражения, в котором они участвуют, для судеб страны, и понимание своей личной ответственности за его исход. «Он очень устал, — говорится о главном герое повести, — не столько от постоянного чувства опасности, сколько от той ответственности, которая легла на его плечи. Он не знал, что происходило южнее и севернее, хотя, судя по канонаде, повсюду шел бой, но одно он твердо знал и еще тверже чувствовал: эти три дома, разломанные окна, разбитые квартиры, он, его солдаты, убитые и живые, женщина с тремя детьми в подвале — все это, вместе взятое, была Россия, и он, Сабуров, защищал ее».
В кульминационных точках повести — и в этом одна из особенностей ее структуры — неизменно возникает второй символически обобщенный план: дом, который защищает батальон Сабурова, — это и обороняющаяся от захватчиков страна; решимость Сабурова и его солдат стоять до конца выражает и силу духа нашей армии; начало сталинградского наступления знаменует собой и общий перелом в ходе войны. Символика эта не привнесена автором в повествование, она естественно, сама собой вырастает из него, нигде не разрушая бытового и психологического правдоподобия.
Постепенно читателю открывается эта «надбытовая» суть, открывается, почему слово «сталинградский» стало восприниматься как превосходная степень понятий «стойкость» и «мужество». «То, что они делали сейчас, и то, что им предстояло делать дальше, было уже не только героизмом. У людей, защищавших Сталинград, образовалась некая постоянная сила сопротивления, сложившаяся как следствие самых разных причин — и того, что чем дальше, тем невозможнее было куда бы то ни было отступать, и того, что отступить — значило тут же бессмысленно погибнуть при этом отступлении, и того, что близость врага и почти равная для всех опасность создали если не привычку к ней, то чувство неизбежности ее, и того, что все они, стесненные на маленьком клочке земли, знали друг друга со всеми достоинствами и недостатками гораздо ближе, чем где бы то ни было в другом месте. Все эти, вместе взятые, обстоятельства постепенно создали ту упрямую силу, имя которой было «сталинградцы», причем весь героический смысл этого слова другие поняли раньше, чем они сами».
Необычайные ситуации, из ряда вон выходящие трагические (а иногда и счастливые) случаи, которые нередки на войне и которые, казалось бы, прежде всего привлекают художника, Симонова не очень-то занимают. Следуя толстовской традиции (Симонов не раз говорил, что более высокого образца в литературе, чем Толстой, не знает), писатель стремится представить «войну в настоящем ее выражении — в крови, в страдании, в смерти». В эту толстовскую формулу следует еще обязательно включить тяжкий повседневный солдатский труд, к которому Симонов относится с глубоким уважением, придает ему особое значение. Во всенародной войне, исход которой зависел от силы патриотического чувства множества людей, рядовых участников событий исторического масштаба, роль обыкновенного человека, труженика войны не понижалась, а повышалась. И сила духа симоновских героев, и чувство ответственности, присущее им, и их мужество и самоотверженность, лишенные бравады и самоупоения, — за всем этим встает народ, защищающий свою свободу и достоинство, свой образ жизни.
Работал Симонов в годы войны с яростным упорством и написал поразительно много. Но когда в первые послевоенные годы он занялся новыми, рожденными нынешним днем темами, это объяснялось, конечно, не тем, что он исчерпал материал, — наоборот, у него и тогда было ощущение, что многого о войне он недоговорил, о многом еще не рассказал. Одна из причин была в том, — и это относится ко всей нашей литературе той поры, — что отодвигающаяся в прошлое война требовала уже иного подхода, иного угла зрения. Выработать этот новый подход оказалось непросто, сразу он не давался — тяготела инерция изображения войны для войны, а нужно было почувствовать, понять, что же таит она в себе жизненно важного для современности, у которой иные, и немалые, заботы…
Что касается Симонова — тут была еще одна причина: свойственная его дарованию чуткость к движению времени. Он привык писать о том, что увидел вчера. Было это самым важным, ибо в каждом бою обнаруживалось в людях то, от чего зависела судьба родины. Для осмысления мирной жизни — не только сложной, но и очень трудной: военные потери долго давали себя чувствовать, — для постижения ее глубинных тенденций, направления развития нужна была хотя бы минимальная временная протяженность, чтобы тенденции эти отчетливее проявились, существенное отслоилось от мимолетного. Но ожидать вообще не в характере Симонова, да и приобретенный им в войну журналистский и писательский опыт толкал его вперед, к новым темам, не давая мешкать. Однако стремление во что бы то ни стало идти по горячим следам событий в новой обстановке но приносило ему тех удач, что в военные годы.
И еще одно. В войну Симонов постоянно находился в гуще жизни, если это понятие применимо к фронтовой действительности, он и сам был непосредственным участником событий — нередко даже на солдатском уровне, — на себе испытывая то, что выпадало на долю воина переднего края, рискуя своей головой. После войны обстоятельства складывались так — продолжительные зарубежные командировки, многочисленные общественные обязанности, — что добираться до «переднего края», до «солдатского уровня» мирной жизни ему было куда сложнее и удавалось куда реже…
Даже произведениям, по праву занявшим место в настоящем издании, — я имею в виду пьесу «Русский вопрос» и цикл стихов «Друзья и враги», — недостает того лирического волнения и напряжения, в которых заключена немалая доля симоновского обаяния. Это становится очевидным, если сравнить, например, «Русский вопрос» с «Четвертым» (произведения со сходным материалом и близкой проблематикой) или, скажем, циклы стихов «Война» и «Друзья и враги» (здесь тоже можно найти некоторые общие мотивы). Только в повести «Дым отечества» есть это сильное лирическое напряжение, есть боль и гордость, рожденные душевным потрясением, которое испытал автор: вслед за своим героем он из сытой, не знавшей военного разорения, упивающейся собственным благополучием Америки попадает на многострадальную Смоленщину, которой война оставила в наследство неисчислимые трагедии и беды. И хотя повесть не лишена слабостей, — пожалуй, «Русский вопрос» сделан крепче, мастеровитее, — именно она из всех написанных в ту пору вещей самая симоновская…
Вспоминая последние месяцы войны, Симонов рассказывал, что тогда у него вдруг возникло чувство «неустроенности» собственных творческих, писательских дел, какого-то прежде неведомого беспокойства: «Внутри меня, соседствуя и все чаще противореча друг другу, боролись два видения войны — условно говоря, корреспондентское и писательское. И последнее к концу войны брало верх, порой в ущерб моим корреспондентским обязанностям. Все чаще хотелось иметь время подумать над тем, что я видел». В послевоенные годы этот внутренний разлад стал еще острее и серьезнее. И дело не просто в том, что Симонову по-прежнему довольно часто приходилось выступать в роли журналиста, и не в том, что на его плечи легли весьма обременительные обязанности редактора большой газеты, — все это лишь внешние обстоятельства, — а в том дело, что «корреспондентское видение» стало вторгаться в художественные произведения писателя.
Возникшее в конце войны желание остановиться, «подумать над тем, что видел», становилось все настойчивее и неотступнее. Велико было давление огромного накопленного в войну материала. Из стремления его осмыслить, воссоздать целостную картину тех огненных лет и родился замысел произведения, в котором должна была предстать вся — как говорили солдаты, от звонка и до звонка — Великая Отечественная война и даже события более широкого временного диапазона — от боев на Халхин-Голе в 1939 году до капитуляции Японии осенью 1945 года. Потом замысел изменялся, уточнялся, углублялся, иными стали хронологические рамки повествования, но начало всей многолетней работе положил роман «Товарищи по оружию». Правда, при всех — и немалых — достоинствах этого романа его автор еще находился лишь на подступах к новой, более высокой, чем в войну, точке зрения на события грозового времени. Вот почему «Товарищи по оружию» впоследствии весьма основательно переделывались, вот почему в конце концов роман все же отделился от трилогии, не стал ее первой книгой.
Новый угол зрения, новое видение войны, пафос не одного лишь воссоздания, но и исследования недавнего прошлого — все это в полной мере проявилось в романе «Живые и мертвые», превратившись затем в отличительное свойство одноименной трилогии Симонова, да и всего, что он параллельно с ней или после ее окончания писал о войне. Война снова стала для него главным объектом творчества.
Трилогия «Живые и мертвые» обнаруживала не только новую, более проницательную и объемную точку зрения на события военных лет, но и более глубокое понимание современности, ее проблем и забот. Оказалось, что это вообще вещи взаимосвязанные: подлинный историзм в изображении войны невозможен без постижения закономерностей сегодняшней действительности. Рисуя события, все дальше и дальше уходящие в прошлое, разрабатывая один и тот же жизненный материал, открывая в нем новые и новые грани, Симонов в то же время оставался подлинно современным, даже злободневным художником — с сегодняшним взглядом на происходившее. И в трилогии, и в повестях цикла «Из записок Лопатина», и во фронтовых дневниках «Разные дни войны» это определяет общую структуру повествования. Но каждый раз писатель пользуется особым, органичным для данного произведения художественным способом реализации найденного принципа, подхода. Так, в «Живых и мертвых» возникают характерные авторские отступления, в которых дан сегодняшний исторический итог деятельности людей, тогда им неведомый. «Подобно ему, — говорится о Серпилине, — и его подчиненным, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей, в тысячах других мест сражавшихся насмерть с незапланированным немцами упорством. Они не знали и не могли знать, что генералы германской армии, еще победоносно наступавшей на Москву, Ленинград и Киев, через пятнадцать лет назовут этот июль сорок первого года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой. Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага, но почти каждый из них тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы все именно так и случилось». В «Записках Лопатина», где герой заимствовал у писателя его профессию, и маршруты его фронтовых командировок, и многие из его встреч во время этих поездок, Симонов с той же целью делает его человеком иного, старшего поколения, умудренного жизненным опытом, которого у самого писателя тогда еще не было, размышляющего над проблемами, которые автора цикла лирических стихов «С тобой и без тебя» не волновали. В сущности, Лопатин — сегодняшняя память, сегодняшнее отношение к жизни фронтового корреспондента «Красной звезды» Симонова.
Публикуя свои фронтовые дневники в неприкосновенном виде, ничего в них не меняя, писатель сопровождает давние записи обстоятельным нынешним комментарием. Такое сочетание и сопоставление двух взглядов на войну, между которыми три десятка лет, дает поразительный эффект, потому что у каждого из них есть свои серьезные преимущества: один — в упор, точно фиксирующий происходящее во всех деталях и подробностях, которые — отступи чуть дальше — расплываются; другой — издалека, проникающий в причины и следствия, обнаруживающий связь явлений, которую с близкого расстояния заметить невозможно. Таким образом, сохраняются в подлинности тогдашние обстоятельства, поступки, мысли, восприятие, но все это проверяется и дополняется накопленными за прошедшие десятилетия знаниями войны, предстает в новом свете.
Конечно, в формировании нового взгляда на войну, который, начиная с «Живых и мертвых», обнаруживает себя во всех произведениях Симонова, большую роль играло время (вспомним, что в ту пору проходил XX съезд КПСС) — оно изменяло и углубляло наши представления, открывало прежде нам неизвестное, объясняло когда-то непонятное. Новый угол зрения возникал и благодаря занятиям в архивах, беседам с участниками войны, находившимися на разных ступенях длинной армейской лестницы, — от рядовых солдат до таких известных военачальников, как Жуков, Василевский, Конев.
Эти беседы — о них стоит сказать чуть подробнее, потому что значение их велико, — отличаются от тех, которые писателю приходилось вести в дни войны. Ну хотя бы потому, что тогда и у писателя и у фронтовиков, встречавшихся с ним, времени было в обрез и разговор обычно бывал локальным — об одном бое. В нынешних беседах солдат вспоминает всю войну. Калейдоскоп эпизодов превратился нынче и в сознании собеседников писателя, и в его собственном сознании в цельную картину широкого течения жизни.
В трилогии «Живые и мертвые» война предстает в движении, показан путь к победе, вскрыты закономерности и причины, определявшие ход событий. Автор ищет объяснений и тому, почему фашистской армии удалось дойти до Москвы и Сталинграда, и тому, почему война, так страшно для нас начавшаяся, закончилась через четыре года в Берлине полным разгромом гитлеровской Германии. Когда Симонов говорит: «Я считаю свою книгу историческим романом. А если б персонажи ее не были вымышленными, я назвал бы ее документальной повестью», — для такого определения жанра есть все основания.
Если говорить о том новом, что появилось в главной книге Симонова о войне и чего не было в его более ранних произведениях, следует прежде всего отметить умение запечатлеть движение времени, ход решающих событий, представить их как сложный процесс, являющийся равнодействующей, результатом столкновения разнонаправленных тенденций, усилий больших масс людей. И поведение героев так или иначе, прямо или косвенно отражает одну из этих тенденций, что, кстати, «скрывает» временные перерывы в повествовании, существующие между книгами трилогии.
Очень осязаемо черты исторической хроники проступают во внесюжетных эпизодах, тех, которые почти никакой роли в судьбах героев не играют и от которых, если исходить из соображений «сюжетной целесообразности» и динамики, можно было бы, пожалуй, и отказаться. Синцова, в сущности, никак не касается вдруг всплывшая во время боев за освобождение Белоруссии история генерала, который, как было сказано о нем в одном высоком приказе 41-го года, «бросил свои войска, перешел к немцам», а в действительности сложил свою голову в неравном бою и был тайно похоронен, — история эта и не имела начала в романе, и не получила завершения. И эпизод как будто сюжетно необязательный оказывается для исторической хроники не только не лишним, но очень нужным: здесь вырисовывается еще одна грань времени, проступает еще одна не лежащая на поверхности причина, объясняющая, почему люди — ну, хотя бы тот же Серпилин — вели себя так, а не иначе. Можно назвать и другие эпизоды подобного рода — с немцами из комитета «Свободная Германия», с женой Пикина. Если бы перед нами был роман иной жанровой разновидности, встреча Серпилина со Сталиным могла бы показаться нарочитой. В исторической хронике она вполне уместна, даже необходима — без нее оказались бы в тени очень важные внутренние пружины сложного и драматического времени.
Три разных этапа Великой Отечественной войны стали в трилогии объектом художественного исследования и изображения.
Мы видим героев романа «Живые и мертвые» в кровавой сумятице первых недель войны, почерневших от горя, тяжело переживающих поражения, но не отчаявшихся, отступавших на восток в глубь страны под ударами врага, но заставляющих его дорогой ценой платить за захваченную землю. Они продолжали драться, не складывали оружие и тогда, когда по всем правилам военной науки сопротивление уже считалось бесполезным, — они дрались в окружении, без приказа и команды, лишенные связи с вышестоящими начальниками. Они дрались и в одиночку, потому что фашизм был для каждого из них личным врагом, посягнувшим на то, без чего сама жизнь становилась бессмысленной. Оказалось, что не прекращавшееся ни при каких обстоятельствах сопротивление, подтачивавшее и ломавшее планы врага, готовность сражаться до последней гранаты, до последнего патрона, до последней капли крови (меньше всего это в данном случае метафоры) сыграли поистине историческую роль.
Обо всем этом и рассказывает автор в первой книге романа. Черты современника — человека высоких нравственных качеств, воина-патриота, преградившего гитлеровской армии путь к Москве, не сконцентрированы в романе в одном образе, в одном характере. Перед нами проходит множество персонажей: о судьбе одних автор рассказывает подробно, с другими мы едва успеваем познакомиться, фамилии третьих нам не суждено узнать, мы видели лишь то, что они совершили. Со всеми этими людьми, которые и составили непреодолимое для фашистов поле сопротивления, сталкивается на фронтовых дорогах, в окружении, на переднем крае армейский журналист, а затем солдат ополчения Синцов, главный герой первого романа трилогии. Но в идейном центре повествования оказался Серпилин. Он словно бы аккумулирует весь тот суровый духовный опыт, который накапливают остальные персонажи. Не случайно в двух следующих книгах автор резко выдвинул Серпилина на первый план, уделяя ему не меньше, а часто — и больше внимания, чем Синцову, и проявляя к нему больший интерес.
Мы видим затем героев в романе «Солдатами не рождаются» во время битвы, которая разыгралась на берегу Волги и была драматической кульминацией Великой Отечественной войны, битвы, которая стала не только символом несгибаемого мужества, но и знаменовала собой долгожданный перелом в ходе второй мировой войны, перелом, отразившийся и в психологии фронтовиков. Здесь, в Сталинграде, — и это один из самых важных выводов, к которому приводит автор читателя, — «прежнее, смешанное с ненавистью уважение» к умению немцев воевать, к их военной силе «надломилось… И не в ноябре, когда мы перешли в наступление, а еще раньше, в самом аду, в октябре…» И когда один из первых попавших там в плен немецких генералов, вынужденный признать наше превосходство, сказал на допросе Серпилину: «К сожалению, мы, кажется, научим вас воевать!» — в ответ он услышал от Серпилина: «А мы вас отучим!» И не просто желанием сбить спесь с еще не протрезвевшего окончательно гитлеровского генерала продиктована реплика Серпилина, а убежденностью в исходе войны.
И в этом романе главная, так сказать, «стратегическая» цель автора — уроки истории. История не умиляет и не сердит писателя. История учит, — считает он, — и победы тоже требуют трезвого анализа. «Солдатами не рождаются» — произведение еще более сложной композиционной структуры, чем первая книга трилогии. Здесь и картина войны шире, и «уровни» изображения боевых действий и жизни воюющей страны разнообразнее. Автор все время меняет «наблюдательный пункт», перенося его то в батальон, то в штаб полка, дивизии, корпуса, то в Ставку, даже в глубокий тыл, в Ташкент. В отличие от первого романа, где все происходящее дано как хождение по мукам Синцова, в «Солдатами не рождаются» в центре повествования три героя — Серпилин, Синцов, Таня, снова сведенные судьбой в Сталинграде.
А в завершающем трилогию романе «Последнее лето» мы встречаемся с ними уже в 1944 году, во время подготовки и проведения операции «Багратион», в результате которой была освобождена Белоруссия и наши войска вышли к государственной границе. Герои Симонова вернулись в те места, где три года назад им впервые пришлось встретиться с врагом: наступил час расплаты за тот черный год, пришел этот час, которого все так долго ждали. Им повезло, они дожили, дождались. Очень часто они вспоминают то, что было с ними здесь тогда, и сравнивают с тем, что происходит сейчас. Еще недавно было не до таких воспоминаний. Если и вспоминали, то с горечью, как укор. А нынче чаще всего с внутренним торжеством: не нам, а немцам приходится отступать, не их, а наши танки взламывают оборону, не нам, а им постоянно грозит окружение. Но и теперь враг оружия складывать пока что не собирается, защищается с ожесточением, и каждый километр отвоеванной земли оплачен многими жизнями. И то, что в этих боях гибнет Серпилин, самый дорогой автору из всех героев книги, говорит о цене, которой заплачено за победу.
В романе «Последнее лето» писатель поставил перед собой трудную задачу: показать военные действия как они видятся командованию армии — хочу при этом напомнить, что армия той поры, находящаяся на направлении главного удара, насчитывала в своих рядах приблизительно сто тысяч человек — население целого города. Серпилин и люди, вместе с ним управляющие огромной военной машиной, — центр, к которому стягиваются все сюжетные линии романа. Сама попытка изображения фронтовой жизни в таком масштабе — случай нечастый в литературе, а удачи тут и вовсе редки. В «Последнем лете» все это написано с доскональным знанием предмета изображения, военно-профессиональных обязанностей персонажей, будь то командующий фронтом или начальник штаба полка, и по-настоящему ярко. А главное — с глубоким пониманием того, что исход дела определяется не только уставами и воинской дисциплиной, но и взаимоотношениями начальников с подчиненными, характерами этих людей, их взглядами, самолюбиями, темпераментом, их человеческими достоинствами и слабостями. Симонов, для которого дотошное знание армейской жизни во всех ее специфических подробностях является непременным условием ее художественного воссоздания, говорил не без полемического вызова и преувеличения:
«Я один из писателей, чьи книги связаны с войной. Обычно никому в голову не приходит назвать военный роман «производственным». Но если на минуту отвлечься от всех тех неповторимых условий, с которыми связано трагическое дело войны, то любой из моих военных романов можно при желании назвать «производственным». И сделай это кто-нибудь, мне нет причин сетовать на такое по форме странное, но по существу недалекое от истины определение. Да, все эти книги, в сущности, написаны о людях, которые работают на войне. И то, как они воюют, как занимаются этим свалившимся на их плечи тяжким делом, определяет мое отношение к ним. Я меряю их нравственный облик мерою усилий, вложенных ими в выполнение планов, мерою их решимости взять на себя ответственность, мерою их правдивости в докладах об удачах и неудачах».
Это сказано после того, как было написано «Последнее лето», и, хотя Симонов поминает здесь все свои романы, мысль его следует отнести прежде всего к последней книге трилогии, где в повествовании большое место отведено внутренним пружинам армейской машины. Но даже из этой полемически заостренной реплики хорошо видно, что для Симонова «производственная» сторона деятельности героев неотделима от их нравственных и гражданских качеств. Писателя занимали проблемы доверия, подлинной бдительности и разлагающей подозрительности, ответственности за свое дело — перед принципами, а не перед параграфом инструкции, — бережного отношения к людям. Эти и некоторые другие проблемы, находившиеся в центре общественного внимания в пору написания трилогии, нашли в пей свое отражение. Поэтому она и воспринималась как произведение по-настоящему современное. Причем все названные проблемы не пересажены автором из нашего времени в военное, — по-своему, порой очень драматично, они стояли и тогда, — наше время помогло их раскрыть, проявить.
Я говорил о том, какой этап войны и какими сторонами отражен в разных частях симоновской трилогии: для исторической хроники историко-событийная основа чрезвычайно важна. Конечно, роман — не военно-историческое исследование, история для автора — это люди, сформированные эпохой и формировавшие ее облик. Движение истории запечатлено в судьбах и психологии героев. Они зависят от времени, но и время зависит от них — эту сложную диалектику удалось передать Симонову в трилогии. Разные грани времени открываются в повествовании: по-своему его видят Серпилин и Баранов, Иван Алексеевич и Львов, Синцов и Люсин, по-разному оно проявилось в их судьбе, в разных с ними находится взаимоотношениях.
В «Товарищах по оружию» преобладал эпически летописный тон — «это происходило так», роман возводился на готовом историческом фундаменте. Вопросы, которые у нас возникали, касались главным образом судеб героев: что будет с ними дальше? В трилогии — иной тон, и иные вопросы волнуют нас и в первую очередь, конечно, автора: как это произошло, почему это стало возможным, что было неотвратимо, а чего можно было избежать? И возникают эти вопросы вовсе не тогда, когда у Синцова происходит прямой и горький разговор с инвалидом, и не тогда, когда Серпилин допытывается у своего друга Ивана Алексеевича, знали ли в генеральном штабе, что Гитлер готовит нападение на Советский Союз, — они неотступно стоят перед нами, начиная с первых же эпизодов книги, где все происходящее еще кажется героям чудовищным и непонятным недоразумением, до последних ее страниц, когда уже не за горами долгожданная победа, а смерть все косит и косит. И касаются эти вопросы не только военных причин наших поражений и побед: роман — хочу это повторить — не военно-историческое исследование; прежде всего автора интересует сфера нравственных убеждений, соединявшая и сталкивавшая людей. Поэтому кровавая война, принесшая столько горя и бед, стоившая стольких жизней, обнаруживает в трилогии еще один свой лик. Об этом незадолго до гибели говорит Серпилин, говорит просто, но самое важное: «Надо и после войны жить по чести. На войне при всех своих недостатках все же честно живем. Надо и после нее не хуже жить».
И вот что еще примечательно (это тоже весьма веское свидетельство того, что война видится в трилогии Симоновым по-новому): некоторые из первоплановых персонажей — и соответственно граней того времени — впервые оказались в поле зрения писателя. Если люди того типа, к которому принадлежит Синцов, уже встречались в произведениях Симонова военных лет, то подобных Серпилину, такой судьбы и характера, там не было. Если можно еще представить в тех старых вещах, скажем, Барабанова, то никак уж не Львова.
Однако неверно думать, что для изображаемой эпохи «прежние» герои Симонова были недостаточно характерны — это не так, и поэтому они тоже присутствуют в трилогии. Но ими время не исчерпывалось, некоторые его грани оставались в тени, добраться до них, обнажить их можно было, лишь расширив круг исследуемых характеров.
При этом писатель все-таки сохраняет верность одному и тому же человеческому типу. Мы произносим «симоновский герой» без риска быть непонятыми — в памяти каждого, кто читал книги Симонова, с этими словами связано представление о людях определенного склада. Симпатии автора отданы тем, кто не дает себе никаких поблажек, умеет в любых обстоятельствах и все делать с толком, готов всегда и во всем брать на себя всю полноту ответственности, на кого можно положиться. Писателя привлекают твердость и решительность, верность долгу, щедрость в дружбе. Душевная сила и красота симоновских героев, не бросающиеся в глаза в обычных условиях, по-настоящему раскрываются в минуты смертельной опасности, в тяжких испытаниях, где самоотверженность и непоказное мужество становятся главным мерилом человеческой личности. Это люди тушинской закваски (в классической русской литературе толстовский Тушин — самый близкий их родственник), о себе они думают меньше всего и в последнюю очередь, они поглощены делом, за которое отвечают, и присущее им чувство достоинства покоится на сознании честно исполненного долга.
Конечно, в разных произведениях Симонова действуют разные люди, с разными биографиями, но, как правило, это люди одной породы. К ней принадлежат Сабуров и Синцов, Проценко и Серпилин, Ванин и Левашов. Выражающийся в положительном герое нравственный кодекс писателя в основе своей остается неизменным.
Очень широк круг героев в «Живых и мертвых», очень многое вмещает панорама действительности военных лет, запечатленная в трех романах. Но параллельно с трилогией Симонов пишет цикл повестей «Из записок Лопатина», гораздо более локальных по характеру изображения. Почему он взялся за них? Не повторяет ли то, что уже было в «Живых и мертвых»? Он сам отвечает на эти вопросы: «Потому что есть ряд вещей, которые я еще не сказал о войне. Они лежат в разных сферах, и связать их между собой в романе можно, как мне представляется, только искусственно. А связать жизнью корреспондента — естественно. И еще потому, что у меня есть еще немало неиспользованного материала и он относится к жизни корреспондента на войне, к моей жизни». К этому, однако, надо добавить, что «Записки Лопатина» не просто дополняют трилогию, повести примыкают, «приросли» к ней, они стали ее «спутниками». Вместе — и трилогия, и эти повести — образуют некое наджанровое единство, у которого есть и скрытые «скрепы» и зримые — общие герои.
Если принять определение, которое Симонов дал своим военным романам, назвав их «производственными», то о большинстве повестей можно тогда сказать, что они посвящены так называемой личной жизни. Конечно, условны оба эти определения — уже хотя бы потому, что и в романах немало страниц о личной жизни, о любви, и в повестях автор отнюдь не обходит того, как проявляют себя в своем деле герои. Условны, но не беспочвенны: в первом случае преобладает одно, во втором — другое. Говоря о том, что в повести вошел материал, не вмещавшийся в «Живые и мертвые», Симонов имел в виду лишь определенного типа роман, к которому принадлежит трилогия, — ведь из «Записок Лопатина» тоже образовался роман, только другой разновидности — любовный, семейный.
И в личной теме автору открывается теперь немало нового, многое предстает в ином свете, чем в произведениях военных лет. Стоит вспомнить, например, героиню цикла лирических стихов «С тобой и без тебя» — «с переменчивою северной душой», «злую, ветреную, колючую», «неверную», «ту, что нас на земле помучила», любовь к которой как «бедствие», как «старое горе». Многие черты этого прежде безоглядно и искренне поэтизировавшегося характера в «Записках Лопатина» — тут другой, более строгий нравственный счет, другими, трезвыми глазами все видится — выглядит по-иному.
Впрочем, в «Записках Лопатина» немало нового и за пределами личной темы, по-иному здесь ставятся некоторые социально-нравственные проблемы: то возникает вопрос об отношении к людям, не успевшим эвакуироваться, оказавшимся на оккупированной территории и вынужденным работать, чтобы зарабатывать себе на хлеб; то автор размышляет над проблемой выполнения своего долга теми, кто по разным причинам не может драться с оружием в руках, — тут, как в случае с Вячеславом Викторовичем, обнаруживаются очень непростые коллизии, вникать в сложность которых война не всегда позволяла; то подробно рассказывается о заботах искусства, которому материал войны давался трудно. Показательно, что во фронтовых дневниках эти вопросы занимают Симонова куда меньше, чем в «Записках Лопатина», потому что тогда они казались делом сугубо «внутренним», общего внимания не заслуживающим.
Как и в трилогии, писатель рисует здесь поток жизни, взбаламученный войной, в котором было разное: душевная щедрость — и циничное хищничество, беззаветная самоотверженность — и мелкий эгоизм, несгибаемое мужество — и трусливая безответственность. Принцип остается тем же. Только, по сравнению с трилогией, больше места отводится изображению жизни в тылу — в Москве, Ташкенте, Тбилиси. Работа требует от Лопатина постоянных поездок с фронта в тыл и из тыла в действующую армию. Он невольно сравнивает, как живут люди и там, и тут. Из-за этого острее восприятие и того, и другого. И в армии, и в тылу Лопатин, подолгу не сидящий на одном месте, встречается с разными людьми — одних он хорошо знал еще до войны, с другими судьба сводила его уже на фронтовых дорогах, третьих он видит впервые. И чем больше этих встреч, разговоров — коротких и длинных, признаний и недомолвок, тем яснее становится Лопатину — и читателям тоже, — что в массе своей люди в тылу живут по тем же нравственным законам, что и на фронте, все, что могут, отдают победе, работают до полного изнеможения, не щадя себя, постоянно недосыпая, недоедая, изводясь от страха за тех, кто в армии, или оплакивая погибших. Как говорит в трилогии Серпилин: «Думаешь, только те военные, у которых погоны на плечах? Нет. Военные — это все те, у кого война на плечах».
Эту тяжесть несут и та женщина, у которой на руках остался парализованный после ранения муж, и дочь Лопатина — десятиклассница, работающая в Сибири в госпитале и собирающаяся после окончания курсов медсестер на фронт, и увиденные Лопатиным на заводе в Ташкенте маленькие худенькие подростки, у которых отцы на фронте и которые выполняют норму взрослых, и его старый друг, известный грузинский поэт, у которого на фронте единственный сын — почти мальчик, восемнадцатилетний младший лейтенант. Снова и снова они с Лопатиным возвращаются в разговоре к «мальчикам», к восемнадцатилетним, уже сложившим голову на войне или ушедшим на фронт навстречу своей судьбе. Они пьют за победу, потому что «мысль о жизни — и о чужой, и о своей собственной — все равно связывалась с мыслью о победе», потому что, как говорит грузинский друг Лопатина, «ничего, кроме нее, не вернет нам с войны наших детей».
Журналисты, писатели, люди театра и кино — вот та среда, в которой оказывается в тылу Лопатин. Что бы там ни говорили, это, разумеется, специфическая среда — здесь у многих выше обычного «болевой порог», но и суетность встречается чаще, сильнее проявляет себя незащищенность от бытовых невзгод, житейская неприспособленность у одних, а у других иссушающая душу жажда успеха. Все это бросается в глаза. Но ведь и на фронте, в армии не все одним миром мазаны — какая пропасть между мужественным, умным и щепетильно честным генералом Ефимовым и шкурником, опасным для окружающих демагогом Бастрюковым! В тылу тоже есть и те, что ничего не жалеют для победы, и те, что укрылись за броней от войны. Однако и на фронте, и в тылу преобладают люди достойные и самоотверженные. И в мире искусства тоже. Когда-то, перед концом войны, вспоминая ее самые мрачные дни, Симонов писал: «…В те тяжелые времена большая сила духа была не только у героев, сражавшихся на фронте, о которых писали и картины о которых ставили люди искусства, — сила духа была и у самих людей искусства: они тоже не сгибались, тоже дрались, тоже были крепки духом… В самые трудные дни люди нашего искусства вместе с нашей армией, вместе с партией и всем народом единодушно и непоколебимо верили в победу». И с этой стороны автор снова подводит нас к мысли о всенародном — в самом точном смысле этого слова — характере войны.
Только повидав, как живут и работают люди в тылу, как и там воюют за победу (так именно и подумал Лопатин — воюют), герой Симонова, склонный судить себя и свою работу без какой-либо снисходительности, обнаружит, что в его очерках и корреспонденциях, материал для которых с постоянным риском для жизни он добывал на войне, под огнем, все-таки «чего-то не хватало». Видимо, не хватало ощущения, что война ведется не только на линии фронта, не одними лишь военными, что от мала до велика воюет вся страна. Ощущения, которое возникло у него, когда на ташкентском заводе он увидел худые, закопченные, бесконечно усталые лица женщин и детей, составлявших там основную часть рабочих. Тогда у него и появилось это чувство, что война пронизала все поры жизни, никого не миновала…
Как это на первый взгляд ни странно, работа над трилогией и «Записками Лопатина» — произведениями художественными — подтолкнула Симонова к документалистике. Вообще острая тяга к первоначальным впечатлениям, подлинности, документу возникает как «противоядие» от стереотипов, общих мест, приблизительности, угрожающих художнику, когда между ним и жизненным материалом образуется солидная временная дистанция. К тому же в последние годы «цена» документа так выросла — на это были свои причины, — что многое из того, чему прежде отводилась чиста вспомогательная роль, приобрело вполне самостоятельное значение, и иногда немалое. Пришел этот час и для военных дневников Симонова, из которых прежде писатель черпал «сырье», жизненную «руду» для создания художественных произведений. Приведенные в порядок, сверенные с нашим сегодняшним знанием войны и с этой точки зрения основательно прокомментированные, что потребовало серьезного труда, — они стали одной из популярнейших книг о Великой Отечественной войне. Я буду говорить здесь только об этой книге — «Разные дни войны», хотя ею не исчерпывается работа Симонова в документалистике. Но все остальное принадлежит не литературе, а кино и телевидению: Симонов принимал участие в создании фильмов «Если дорог тебе твой дом…» и «Гренада, Гренада, Гренада моя…», а затем появляются его так называемые авторские ленты — «Чужого горя не бывает», «Шел солдат…», «Солдатские мемуары».
В дневниках Симонова есть тот фактический материал, который «хлеб» для историка, глубоки и проницательны его размышления о военных проблемах того времени — управления войсками, взаимодействия, работы штабов и так далее, но главное все же не это — перед нами писательские дневники, привлекают они другим. У автора их особая острота и особая «настройка зрения». Дневники вел человек и очень наблюдательный, и отличавшийся жадным интересом к новым впечатлениям, стремившийся увидеть побольше. И это интерес сосредоточенный — больше всего Симонова интересуют люди, их поведение на войне, их душевные качества, какими они были в мирное время и как трансформировались в войну, их чувство ответственности — профессиональной и гражданской (он постоянно подчеркивает их неразделимость), нравственные проблемы, которые встают перед ними, житейские заботы, от которых никто не избавлен.
И именно под таким углом зрения раскрывается, что война — это не только храбрость солдат и офицеров, не только атаки и свистящие пули, поле боя, изрытое воронками от мин, не только танки и орудия, то сеющие смерть, то превращенные в фантастических размеров свалки металлолома.
Осознаешь, что война — это и адский труд, пот ручьями, крайнее напряжение физических сил. И миллионы вдов и сирот, у которых не осталось ни кола ни двора, и бесконечная, до изнеможения усталость, когда даже тяжелораненые, которых везут по кочкам, по ухабам, спят, не просыпаются и от боли. И сорок «активных штыков», оставшихся в полку, и офицеры, которым не исполнилось еще и двадцати, а уже не раз раненные, с орденами. И «пробки» на дорогах — такие, что кажется, застреваешь навсегда, никогда уже не выберешься. И пыль — днем приходится зажигать фары. И мужество, которое требуется не только для того, чтобы подняться под пулями, но и для того, чтобы написать в донесении начальству неутешительную правду. И беженцы, которых очень скоро стали называть «эвакуированными», — вероятно, не случайно; они не просто убегали от врага, а отправлялись туда, где могли работать для фронта, для победы. И разлука, в одиночество, ломающие семьи, коверкающие жизнь. И любовь, возникавшая на фронте, — порой она была сильнее смерти, но как часто у нее не было никаких надежд на будущее… И установленный к концу войны порядок похорон: офицеров только в населенных пунктах, старших офицеров только в городах… И режиссер, в нетопленном театре репетирующий пьесу, которую автор, уехавший на фронт, не успел дописать, — это тоже война. И обострившаяся любовь к стихам… И убитые во время боев за Берлин в Тиргартене животные. И то бьющее через край радушие, с которым встречали нашу армию в Болгарин. «Народ, открывший нам навстречу свои объятия», — скажет Симонов. Все это тоже война. И даже как «пили из большой глиняной баклаги красное сухое деревенское вино и ели жареных голубей… Война такая длинная и разная, что иногда на ней запоминаются и такие вот маленькие житейские радости».
Таким запечатлелся лик войны в дневниках Симонова…
Пожалуй, ни в одном литературном жанре «образ рассказчика» не занимает такого важного места, как в мемуарах, дневниках, письмах. Здесь прямо отражается то, что было с автором, что он видел, с кем встречался, как себя вел. Его самоощущение, его отношение к себе и к окружающим, поведение в минуты опасности, реакция на добро и зло — все это накладывает неизгладимо глубокий отпечаток на общую картину жизни, формирует по своему образу и подобию впечатления действительности. Автор «Разных дней войны» не сооружает себе словесного пьедестала, не выпячивает себя, не носится с собой, он не боится признаться, что ему бывает и тяжко, и страшно, но при этом никак не преувеличивает выпадающих на его долю опасностей и тягот. Попав в сложную ситуацию, оказавшись в трудном, опасном положении, он склонен относиться к себе скорее с юмором, чем с жалостью.
Но он неизменно серьезен, когда дело идет о выполнении долга: здесь он не дает себе никаких поблажек. У него нравственный счет к себе такой же, как к другим. Он не терпит бездельников и любителей пускать пыль в глаза, ему претит показное воодушевление и казенный оптимизм, он презирает раболепие и хамство, паразитирующее на воинской дисциплине. Война не делала из людей ангелов, не превращала в обязательном порядке дурных в хороших. И преуспевали в армии не только те, кто того заслужил, — Симонов видел и такое. Но куда чаще он встречал на войне других людей, достойных самого высокого уважения. Именно они и создавали общий нравственный климат, делали невозможное возможным и даже обыденным.«…Любой из нас, — писал в те годы Симонов, — предложи ему перенести все эти испытания в одиночку, ответил бы, что это невозможно, и не только ответил бы, но и действительно не смог бы ни физически, ни психологически всего этого вынести. Однако это выносят у нас сейчас миллионы людей, и выносят именно потому, что их миллионы. Чувство огромности и всеобщности испытаний вселяет в души самых разных людей небывалую до этого и неистребимую коллективную силу…»
Дневники Симонова дают нам почувствовать, что эта сила — именно коллективная. И в его дневниках — наиболее субъективном литературном жанре — Великая Отечественная война предстает как война всенародная…
* * *
Четыре года обычной мирной жизни — срок не очень большой. Но разве сравнишь их с теми четырьмя годами?! Они были словно бесконечными, для того, кто их пережил, они как бы составили большую часть жизни, сколько бы после этого нам ни было отпущено судьбой лет. В истории нашей страны эти четыре года — целая эпоха, героическая и трагическая.
Есть много причин, объясняющих, почему и сейчас, когда от войны нас отделяют уже не годы, а десятилетия, когда написаны о ней многие сотни книг, тема эта не уходит в прошлое, почему для Симонова она стала темой на всю жизнь. Речь идет об испытании, когда беспощадной проверке подверглись самые основы нашего общественного бытия и нравственности, о раскрывавшейся в этом испытании необычайной силе народного духа, о продемонстрировавшей свою неодолимость человечности, об исторических уроках такого значения, которые не проходят, не могут пройти бесследно и для дальних наших потомков.
Но и этим сказано не все, ведь кроме памяти рассудка есть еще память сердца, повелевающая нами. Как и для всех, кто прошел через это, война была и осталась навсегда для Симонова самым сильным, ни с чем не сравнимым душевным потрясением.
Тот самый длинный день в году С его безоблачной погодой Нам выдал общую беду На всех, на все четыре года. Она такой вдавила след И стольких наземь положила, Что двадцать лет, и тридцать лет Живым не верится, что живы, —через четверть века после войны писал он об этой неотступной памяти сердца.
В предисловии к Собранию сочинений в 1966 году Симонов заметил: «…Я до сих пор был и продолжаю оставаться военным писателем, и мой долг заранее предупредить читателя, что, открывая любой из этих шести томов, он будет снова и снова встречаться с войной».
В новом Собрании сочинений томов уже не шесть, а десять, но и сегодня, почти через пятнадцать лет, Константин Симонов мог бы повторить эти слова…
Л. ЛазаревАВТОБИОГРАФИЯ
1
Я родился в 1915 году в Петрограде, а детство провел в Рязани и Саратове. Моя мать работала то машинисткой, то делопроизводителем, а отчим, в прошлом участник японской и германской войн, был преподавателем тактики в военном училище.
Наша семья жила в командирских общежитиях. Военный быт окружал меня, соседями были тоже военные, да и сама жизнь училища проходила на моих глазах. За окнами, на плацу, производились утренние и вечерние поверки. Мать участвовала вместе с другими командирскими женами в разных комиссиях содействия; приходившие к родителям гости чаще всего вели разговоры о службе, об армии. Два раза в месяц я, вместе с другими ребятами, ходил на продсклад получать командирское довольствие.
Вечерами отчим сидел и готовил схемы к предстоящим занятиям. Иногда я помогал ему. Дисциплина в семье была строгая, чисто военная. Существовал твердый распорядок дня, все делалось по часам, в ноль-ноль, опаздывать было нельзя, возражать не полагалось, данное кому бы то ни было слово требовалось держать, всякая, даже самая маленькая ложь презиралась.
Так как и отец и мать были люди служащие, в доме существовало разделение труда. Лет с шести-семи на меня были возложены посильные, постепенно возраставшие обязанности. Я вытирал пыль, мел пол, помогал мыть посуду, чистил картошку, следил за керосинкой, если мать не успевала — ходил за хлебом и молоком. Времени, когда за меня стелили постель или помогали мне одеваться, — не помню.
Атмосфера нашего дома и атмосфера военной части, где служил отец, породили во мне привязанность к армии и вообще ко всему военному, привязанность, соединенную с уважением. Это детское, не вполне осознанное чувство, как потом оказалось на поверку, вошло в плоть и кровь.
Весной 1930 года, окончив в Саратове семилетку, я вместо восьмого класса пошел в фабзавуч учиться на токаря. Решение принял единолично, родители его поначалу не особенно одобряли, но отчим, как всегда сурово, сказал: «Пусть делает, как решил, его дело!»
Вспоминая теперь это время, я думаю, что были две серьезные причины, побудившие меня поступить именно так, а не иначе. Первая и главная — пятилетка, только что построенный недалеко от нас, в Сталинграде, тракторный завод и общая атмосфера романтики строительства, захватившая меня уже в шестом классе школы. Вторая причина — желание самостоятельно зарабатывать. Мы жили туго, в обрез, и тридцать семь рублей в получку, которые я стал приносить на второй год фабзавуча, были существенным вкладом в наш семейный бюджет.
В ФЗУ мы четыре часа в день занимались теорией, а четыре часа работали, сначала в учебных мастерских, потом на заводах. Мне пришлось работать в механическом цеху завода «Универсаль», выпускавшего американские патроны для токарных станков.
Поздней осенью 1931 года я вместе с родителями переехал в Москву и весной 1932 года, окончив фабзавуч точной механики и получив специальность токаря 4-го разряда, пошел работать на авиационный завод, а потом в механический цех кинофабрики «Межрабпомфильм».
Руки у меня были отнюдь не золотые, и мастерство давалось с великим трудом; однако постепенно дело пошло на лад, через несколько лет я уже работал по седьмому разряду.
В эти же годы я стал понемногу писать стихи. Мне случайно попалась книжка сонетов французского поэта Эредиа «Трофеи» в переводах Глушкова-Олерона. Затрудняюсь объяснить теперь, почему эти холодновато-красивые стихи произвели на меня тогда настолько сильное впечатление, что я написал в подражание им целую тетрадку собственных сонетов. Но, видимо, именно они побудили меня к первым пробам пера. Вскоре, после того как я одним духом одолел всего Маяковского, родилось мое новое детище — поэма в виде длиннейшего разговора с памятником Пушкину. Вслед за ней я довольно быстро сочинил другую поэму из времен гражданской войны и постепенно пристрастился к сочинению стихов, — иногда они получались звучные, но в большинстве были подражательные. Стихи нравились моим родным и товарищам по работе, но я сам не придавал им серьезного значения.
Осенью 1933 года под влиянием статей о Беломорстрое, которыми тогда были полны все газеты, я написал длинную поэму под названием «Беломорканал». В громком чтении она производила впечатление на слушателей. Кто-то посоветовал мне сходить с ней в литературную консультацию — а вдруг возьмут и напечатают? Не особенно в это веря, я, однако, не удержался от соблазна и пошел на Большой Черкасский переулок, где на четвертом этаже, в тесной, заставленной столами комнате помещалась литературная консультация Гослитиздата. Заведовал ею Владимир Иосифович Зеленский, писавший когда-то в «Правде» под псевдонимом Леонтий Котомка, а консультантами работали Анатолий Константинович Котов, Сергей Васильевич Бортник и Стефан Юрьевич Коляджин. Это были тогда еще молодые люди, энтузиасты, увлеченные своим делом — кропотливой и далеко не всегда благодарной работой с начинающими. Я пришел вовремя — литконсулътация Гослитиздата выпускала очередной, второй сборник молодых авторов под названием «Смотр сил».
Прочитав мое творение, Коляджин сказал, что я не лишен способностей, но предстоит еще много работы. И я стал работать: в течение полугода чуть ли не каждые две недели заново переписывал поэму и приносил ее Коляджину, а он вновь заставлял переделывать. Наконец весной, решив, что мы оба совершили с поэмой все, что могли, Коляджин понес ее Василию Васильевичу Казину, который редактировал в Гослитиздате поэзию. Казин тоже признал мои способности, но поэму как таковую отверг, сказав, что из нее можно выбрать лишь отдельные удачные места, или, как он выразился, фрагменты. И вот эти-то фрагменты, после того как я над ними еще поработаю, наверно, можно будет включить в сборник «Смотр сил».
Всю весну и начало лета каждый день, приходя с работы, я допоздна сидел и корпел над фрагментами. И когда я вконец изнемог под грузом поправок, Казин, казавшийся мне очень строгим человеком, вдруг сказал: «Ладно, теперь можно — в набор!» Сборник «Смотр сил» ушел в типографию. Оставалось ждать его выхода. Летом, получив отпуск, я решил поехать на Беломорканал, чтобы увидеть своими глазами то, о чем я писал стихи, пользуясь чужими газетными статьями. Когда я робко заговорил об этом в консультации Гослитиздата, меня неожиданно поддержали не только морально, но и материально. В секторе культмассовой работы нашлись деньги для этой поездки, и через несколько дней, получив триста рублей и добавив их к своим отпускным, я поехал в Медвежью Гору, где помещалось управление так называемого Белбалтлага, занимавшегося достройкой ряда сооружений канала. В кармане у меня лежала справка, в которой значилось, что Симонов К. М. — молодой поэт с производства — направляется для сбора материала о Беломорканале и что культмассовый сектор Гослитиздата просит оказать означенному поэту всяческое содействие.
На Беломорканале я пробыл месяц. Большую часть времени жил на одном из лагерных пунктов неподалеку от Медвежьей Горы. Мне было девятнадцать лет, и в том бараке, где я пристроился в каморке лагерного воспитателя (тоже, как и все остальные, заключенного), никто, конечно не принимал меня всерьез за писателя. Персона моя никого не интересовала и не стесняла, и поэтому люди оставались сами собой. Когда я рассказывал о себе и о том, что хочу написать поэму про Беломорканал (а я действительно хотел написать вместо прежней новую), к этому относились с юмором и сочувствием, хлопали по плечу, одобряли — «Давай пробивайся!».
Вернувшись в Москву, я написал эту новую поэму. Называлась она «Горизонт», стихи были по-прежнему неудобоваримыми, но за ними стояло уже реальное содержание — то, что я видел и знал. В консультации мне посоветовали пойти учиться в открывшийся недавно по инициативе А. М. Горького Вечерний рабочий литературный университет и даже написали рекомендацию.
В начале сентября 1934 года, сдав приемные испытания, я нашел свою фамилию в длинном списке принятых, вывешенном в коридорах знаменитого «Дома Герцена». В этом списке было много фамилий людей, так никогда и не ставших писателями, но и немало ныне известных в поэзии. Среди них имена Сергея Смирнова, Сергея Васильева, Михаила Матусовского, Виктора Бокова, Ольги Высотской, Яна Сашина.
Учиться первые полтора года было трудно; я продолжал работать токарем, сначала в «Межрабпомфильме», а потом на кинофабрике «Техфильм». Жил я далеко, за Семеновской заставой, работал на Ленинградском шоссе, вечерами бежал на лекции, а по ночам продолжал писать и переписывать свою поэму о Беломорканале, которая чем дальше, тем делалась все длиннее. Времени на сон практически не оставалось, а тут еще выяснилось, что я гораздо меньше начитан, чем мне это казалось раньше. Пришлось, в срочном порядке, громадными порциями глотать литературу.
На втором курсе стало ясно, что делать сразу три дела — работать, учиться и писать — я больше не могу. Мне скрепя сердце пришлось оставить работу и перебиваться случайными заработками, потому что стипендий нам не давали, а стихов моих еще не печатали.
Вспоминая свои молодые годы, не могу не упомянуть о моих руководителях в поэтическом семинаре Литературного института Илье Дукоре и Леониде Ивановиче Тимофееве и моих поэтических наставниках тех лет — Владимире Луговском и Павле Антокольском, сыгравших немалую роль в моей писательской судьбе. К этим людям я до сих пор испытываю огромную благодарность.
В 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны мои первые стихи, а в 1938 году под названием «Павел Черный» наконец вышла из печати, отдельной книжкой, та самая поэма о Беломорканале, с первым вариантом которой я пять лет назад обратился в лит консультацию. Своим выходом в свет она не принесла мне радости, но — пока я ее писал и переписывал — научила меня работать.
Однако не публикация стихов и не выход моей первой книжки стали для меня той ступенью, шагнув на которую я почувствовал, что становлюсь поэтом.
Это чувство точно и определенно связано у меня с одним днем и одним стихотворением.
Вскоре после того как газеты напечатали известие о гибели под Уэской в Испании командира Интернациональной бригады генерала Лукача, я вдруг узнал, что легендарный Лукач — это писатель Мате Залка, человек, которого я не раз видел и которого еще год назад запросто встречал то в трамвае, то на улице. В тот же вечер я сел и написал стихотворение «Генерал».
В нем говорилось о судьбе Мате Залки — генерала Лукача, но внутренне с юношеской прямотой и горячностью я отвечал сам себе на вопрос — какой должна быть судьба моего поколения в наше революционное время? С кого лепить жизнь?
Да, именно так, как Мате Залка, мне хочется прожить и свою собственную жизнь. Да, именно за это мне будет не жаль отдать ее!
В стихах «Генерал» хромали рифмы и попадались неуклюжие строчки, но сила чувства, которое было в моей душе, сделала их, как мне кажется, моими первыми настоящими стихами. На этом, собственно, и пора поставить точку, рассказывая о том, как ты начинал.
2
Свою дальнейшую биографию — профессионального литератора, принятого в 1938 году в члены Союза писателей, — я изложу лишь в самых общих чертах. Если о времени, когда ты не печатался или только начинал печататься, можешь рассказать только ты сам, то обо всем последующем в жизни писателя говорят главным образом его книги.
Поэтому все дальнейшее в этой автобиографии будет лишь кратким комментарием к наиболее существенному — к книгам.
Осенью 1938 года, закончив Литературный институт имени А. М. Горького, я поступил учиться в аспирантуру ИФЛИ. Летом 1939 года сдал первые три экзамена кандидатского минимума. В августе того же года, по предписанию Политуправления Красной Армии, уехал на Халхин-Гол, в Монголию, в качестве военного корреспондента газеты «Героическая красноармейская». Более к занятиям в ИФЛИ я уже не возвращался.
После Халхин-Гола, во время финской войны, закончил двухмесячные курсы военных корреспондентов при Академии имени Фрунзе. Но на фронт не попал — война уже кончилась.
В 1940 году я написал первую свою пьесу — «История одной любви», в конце этого же года поставленную на сцене Театра имени Ленинского комсомола. А вслед за этим написал и вторую — «Парень из нашего города», поставленную в том же театре уже в канун войны.
С осени 1940 года по июнь 1941-го учился на курсах военных корреспондентов при Военно-политической академии. Окончил их в середине июня 1941 года, получив воинское звание интенданта второго ранга.
В июне 1941 года я стал кандидатом партии. 24 июня 1941 года был призван из запаса и с предписанием Политуправления Красной Армии выехал для работы в газете «Боевое знамя» Третьей армии в район Гродно. В связи со сложившейся на фронте обстановкой до места назначения не добрался и был назначен в редакцию газеты Западного фронта «Красноармейская правда». Работал там до 20 июля 1941 года. Одновременно как нештатный корреспондент посылал военные корреспонденции в «Известия». С 20 июля 1941 года был переведен военным корреспондентом в «Красную звезду», где служил до осени 1946 года.
В июне 1942 года я был принят в члены партии.
В 1942 году мне было присвоено звание старшего батальонного комиссара. В 1943 году — звание подполковника, а после войны — полковника.
В 1942 году я был награжден орденом Боевого Красного Знамени, а в 1945 году — двумя орденами Великой Отечественной войны первой степени, чехословацким Военным крестом и орденом Белого Льва. После войны, за участие в боях на Халхин-Голе, — монгольским орденом Сухэ-Батора.
За заслуги в области литературы награжден в 1939 году орденом «Знак Почета», в 1965 году — орденом Ленина, в 1971 году — вторично орденом Ленина.
Большая часть моих корреспонденции, печатавшихся в годы войны в «Красной звезде», «Известиях» и «Правде», составила четыре книги «От Черного до Баренцева моря», книги «Югославская тетрадь» и «Письма из Чехословакии», многое осталось только в газетах. В годы войны я написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи» (1943–1944) и две книги стихов — «С тобой и без тебя» и «Война», а сразу после войны пьесу — «Под каштанами Праги».
Почти весь материал — для книг, написанных во время войны, и для большинства послевоенных — мне дала работа корреспондентом на фронте.
В связи с этим, пожалуй, стоит дать представление о том, как складывалась в годы войны география этой работы. По долгу службы я в разное время находился на следующих фронтах:
1941 год: июнь — июль — Западный фронт; август — сентябрь — Южный фронт, Приморская армия — Одесса, Особая Крымская армия — Крым, Черноморский флот; октябрь и ноябрь — Мурманское направление Карельского фронта, Северный флот; декабрь — Западный фронт.
1942 год: январь — Закавказский фронт (Новороссийск, Феодосия); январь — февраль — Западный фронт; февраль — март — Керченский полуостров; апрель — май — Мурманское направление Карельского фронта; июль — август — Брянский фронт, Западный фронт; август — сентябрь — Сталинградский фронт; ноябрь — Мурманское направление Карельского фронта; декабрь — Западный фронт.
1943 год: январь — февраль — март — Северокавказский и Южный фронты; апрель — Южный фронт; май — июнь — отпуск, полученный от редакции для написания «Дней и ночей». Жил эти месяцы в Алма-Ате и вчерне написал почти всю книгу. Июль — Курская дуга; август — октябрь — несколько поездок в армии Центрального фронта. Декабрь — корреспондент «Красной звезды» на Харьковском процессе над фашистами — организаторами массовых убийств населения.
1944 год: март — апрель — Первый и Второй Украинские фронты; май — Второй Украинский фронт; июнь — Ленинградский фронт, от начала прорыва линии Маннергейма до взятия Выборга; июль — август — Первый Белорусский фронт, Люблин, Майданек; август — сентябрь — в частях Второго и Третьего Украинских фронтов в период наступления от Ясс до Бухареста, затем в Болгарии, Румынии и Югославии; октябрь — в Южной Сербии у югославских партизан. После освобождения Белграда — полет в Италию на нашу авиационную базу в Бари.
1945 год: январь — апрель — Четвертый Украинский фронт, Закарпатская Украина, Южная Польша, Словакия, в наших частях и частях Чехословацкого корпуса; конец апреля — Первый Украинский фронт, встреча с американцами в Торгау. Последние дни боев за Берлин — в частях Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов. Присутствовал при подписании капитуляции германской армии в Карлсхорсте. 10 мая был в Праге.
После войны мне пришлось, в общей сложности около трех лет, пробыть в многочисленных зарубежных командировках. Наиболее длительными и значительными для меня были поездки, непосредственно связанные с корреспондентской и писательской работой: поездка в Японию (декабрь 1945 — апрель 1946 года); США (апрель 1946 — июнь 1946), Китай (октябрь 1949 — декабрь 1949) — большую часть этой последней поездки я совершил в качестве военного корреспондента «Правды» при 4-й Полевой Китайской армии в Южном Китае.
С 1958 по 1960 год я жил в Ташкенте, работал разъездным корреспондентом «Правды» по республикам Средней Азии. На эти годы приходятся многие поездки на Тянь-Шань, на Памир, в Голодную степь, в Каршинскую степь, в Кызылкумы, в Каракумы, по трассам строящихся газопроводов.
1963–1967 годы — я, тоже в качестве специального корреспондента «Правды», ездил в Монголию, на Таймыр, в Якутию, Красноярский край, Иркутскую область, на Кольский полуостров, в Казахстан, в Хабаровский край, в Приморье, на Камчатку, в Магадан, на Чукотку. В 1970 году был во Вьетнаме.
Моя общественная деятельность в послевоенные годы складывалась так: с 1946 по 1950 год и с 1954 по 1958 — главный редактор журнала «Новый мир». С 1950 по 1953 — главный редактор «Литературной газеты». С 1946 по 1959 и с 1967 года по настоящее время — секретарь Правления Союза писателей СССР. С 1946 по 1954 год — депутат Верховного Совета СССР. С 1955 по 1959 — депутат Верховного Совета РСФСР. С 1952 по 1956 год — кандидат в члены ЦК КПСС. С 1956 по 1951 — член Центральной ревизионной комиссии КПСС.
Избирался делегатом XXIII, XXIV и XXV съездов КПСС. На XXV съезде КПСС был избран членом Центральной ревизионной комиссии КПСС.
На протяжении многих лет участвую в движении борцов за мир. В последние годы являюсь одним из заместителей председателя Советского Комитета защиты мира.
За период моей литературной деятельности мне было присуждено шесть Государственных премий СССР за пьесы «Парень из нашего города», «Русские люди», «Русский вопрос», «Чужая тень», за книгу стихов «Друзья и враги» и повесть «Дни и ночи», а также Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых по кинематографии за фильм «Живые и мертвые».
В 1974 году мне было присвоено звание Героя Социалистического Труба, а за трилогию «Живые и мертвые» присуждена Ленинская премия.
В 1966 году я был избран членом-корреспондентом Академии искусств Германской Демократической Республики.
В послевоенное время я продолжал работать в поэзии и драматургии, написал несколько пьес, среди которых «Русский вопрос» и «Четвертый» считаю более удачными, чем другие. Выпустил три книги стихов — «Друзья и враги», «Стихи 1954 года» и «Вьетнам, зима семидесятого…», довольно много занимался поэтическими переводами.
Однако больше всего писал прозу. В 50-е годы вышел в свет роман «Товарищи по оружию», повесть «Дым отечества», книга повестей «Из записок Лопатина».
С 1955 по 1970 год я работал над книгами «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето», которые теперь, после завершения работы, составили единый роман с общим заглавием — «Живые и мертвые».
Последние по времени написанные мною повести «Двадцать дней без войны» и «Мы не увидимся с тобой» завершают работу над прозаическим циклом «Из записок Лопатина».
В 1977 году вышел из печати мой двухтомный дневник «Разные дни войны». Начало работы над этой книгой следует отнести к 1941 году, когда были сделаны первые из вошедших в нее записей.
Вскоре после выхода этого двухтомника военных дневников вышла моя другая дневниковая книга — «Япония 46», почти примыкающая к нему по времени действия.
Несколько последних лет помимо чисто литературной работы я занимался еще и кино- и теледокументалистикой. При моем участии были сделаны кинофильмы «Если дорог тебе твой дом…», «Гренада, Гренада, Гренада моя…», «Чужого горя не бывает», «Шел солдат…», «Маяковский делает выставку» и телевизионные фильмы «Солдатские мемуары», «Александр Твардовский», «Какая интересная личность».
1978
СТИХОТВОРЕНИЯ 1936–1939{1}
РАССКАЗ О СПРЯТАННОМ ОРУЖИИ
Им пятый день давали есть Соленую треску. Тюремный повар вырезал Им лучшие куски — На ужин, завтрак и обед По жирному куску Отборной, розовой, насквозь Просоленной трески. Начальник клялся, что стократ Сытнее всех его солдат Два красных арестанта В его тюрьме едят. А если им нужна вода, То это блажь и ерунда: Пускай в окно на дождик, Разиня рот, глядят. Они валялись на полу, Холодном и пустом. Две одиночки дали им, Двоим на всю тюрьму, Чтоб в одиночестве они Припомнили о том, Известном только им двоим И больше никому… А чтоб помочь им вспоминать, Пришлось топтать их и пинать, По спинам их гуляли Дубинки и ремни, К ним возвращалась память, но Они не вспомнили одно: Где спрятано оружье — Не вспомнили они. Однажды старшего из них Под вечер взял конвой. Он шел сквозь двор и жадным ртом Пытался дождь глотать. Но мелкий дождик пролетал, Крутясь над головой, И пересохший рот не мог Ни капельки поймать. Его втолкнули в кабинет. — Ну как, припомнил или нет? — Спросил его начальник. Л посреди стола, Зовя его ответить «да», Стояла свежая вода За ледяною стенкой Вспотевшего стекла. Сухие губы облизав, Он выговорил: — Да, Я вспомнил. Где-то под землей Его зарыли мы, Одно не помню только: где? — А чертова вода Над ним смеялась со стола Начальника тюрьмы. Начальник, прекратив допрос, Ему стакан воды поднес К сухим губам вплотную И… выплеснул в окно! — Забыл? Но через пять минут Сюда другого приведут. Не ты, так твой товарищ Припомнит все равно! Начальник вышел. Арестант Услышал скрип дверной, И в дверь ввалился тот, другой, Оковами звеня. Со стоном прислонясь к стене Распухшею спиной, Он прошептал: — Я не могу… Они ведь бьют меня… Я скоро сдамся, и тогда Язык мой сам подскажет «да»… Я знаю: в сером доме, В подвале, в глубине… — Молчи! — Еще молчу… пока… — А двери скрипнули слегка, И в них вошел начальник: — Ну, кто ж расскажет мне? И старший арестант шепнул С усмешкою кривой: — Черт с ним, с оружьем! Все равно Дела к концу идут. Я все скажу вам, но пускай Сначала ваш конвой Того, другого, уведет: Он будет лишним тут. — Солдаты, отодрав с земли Того, другого, унесли, Локтями молча тыча В его кричащий рот. Тот ничего не понял, но Кричал и рвался; все равно Он знал, что снова будут Бить в ребра и в живот. — Кричит! — заметил арестант И, побледнев едва, За все, что выдаст, попросил Себе награды три: Стакан воды сейчас же — раз, Свободу завтра — два, И сделать так, чтоб тот, другой, Молчал об этом — три. Начальник рассмеялся: — Мы Его не пустим из тюрьмы. И, слово кабальеро, Что завтра к двум часам… — Нет, я хочу не в два, не в час — Пускай он замолчит сейчас! Я на слово не верю, Я должен видеть сам. Начальник твердою рукой Придвинул телефон: — Алло! Сейчас же номер семь Отправить в карцер, но Весьма возможно, что бежать Пытаться будет он… Тогда стреляйте так, чтоб я Видал через окно… — Он с маху бросил трубку: — Ну? И арестант побрел к окну И толстую решетку Тряхнул одной рукой. Тюремный двор и гол и пуст, Торчит какой-то жалкий куст, А через двор понуро Плетется тот, другой. Конвой отстал на пять шагов. Настала тишина. Уже винтовки поднялись, А тот бредет сквозь двор… Раздался залп. И арестант Отпрянул от окна: — Вам про оружье рассказать, Не правда ли, сеньор? Мы спрятали его давно. Мы двое знали, где оно. Товарищ мог бы выдать Под пыткой палачу. Ему, который мог сказать, Мне удалось язык связать. Он умер и не скажет. Я жив, и я молчу! 1936НОВОГОДНИЙ ТОСТ
Своей судьбе смотреть в глаза надо И слушать точки и тире раций. Как раз сейчас, за тыщу верст, рядом, За «Дранг нах Остен» — пиво пьют наци. Друзья, тревожиться сейчас стоит, Республика опять в кольце волчьем. Итак, поднимем этот тост стоя И выпьем нынче в первый раз молча, За тех, кому за пулемет браться, За тех, кому с винтовкой быть дружным, За всех, кто знает, что глагол «драться» — Глагол печальный, но порой нужный. За тех, кто вдруг, из тишины комнат, Пойдет в огонь, где он еще не был. За тех, кто тост мой через год вспомнит В чужой земле и под чужим небом! 1937ГЕНЕРАЛ
Памяти Мате Залки
В горах этой ночью прохладно. В разведке намаявшись днем, Он греет холодные руки Над желтым походным огнем. В кофейнике кофе клокочет, Солдаты усталые спят. Над ним арагонские лавры Тяжелой листвой шелестят. И кажется вдруг генералу, Что это зеленой листвой Родные венгерские липы Шумят над его головой. Давно уж он в Венгрии не был — С тех пор, как попал на войну, С тех пор, как он стал коммунистом В далеком сибирском плену. Он знал уже грохот тачанок И дважды был ранен, когда На запад, к горящей отчизне, Мадьяр повезли поезда. Зачем в Будапешт он вернулся? Чтоб драться за каждую пядь, Чтоб плакать, чтоб, стиснувши зубы, Бежать за границу опять? Он этот приезд не считает, Он помнит все эти года, Что должен задолго до смерти Вернуться домой навсегда. С тех пор он повсюду воюет: Он в Гамбурге был под огнем, В Чапее о нем говорили, В Хараме слыхали о нем. Давно уж он в Венгрии не был, Но где бы он ни был — над ним Венгерское синее небо, Венгерская почва под ним. Венгерское красное знамя Его освящает в бою. И где б он ни бился — он всюду За Венгрию бьется свою. Недавно в Москве говорили, Я слышал от многих, что он Осколком немецкой гранаты В бою под Уэской сражен. Но я никому не поверю: Он должен еще воевать, Он должен в своем Будапеште До смерти еще побывать. Пока еще в небе испанском Германские птицы видны, Не верьте: ни письма, ни слухи О смерти его неверны. Он жив. Он сейчас под Уэской. Солдаты усталые спят. Над ним арагонские лавры Тяжелой листвой шелестят. И кажется вдруг генералу, Что это зеленой листвой Родные венгерские липы Шумят над его головой. 1937ОДНОПОЛЧАНЕ
Как будто мы уже в походе, Военным шагом, как и я, По многим улицам проходят Мои ближайшие друзья; Не те, с которыми зубрили За партой первые азы, Не те, с которыми мы брили Едва заметные усы. Мы с ними не пивали чая, Хлеб не делили пополам, Они, меня не замечая, Идут по собственным делам. Но будет день — и по разверстке В окоп мы рядом попадем, Поделим хлеб и на завертку Углы от писем оторвем. Пустой консервною жестянкой Воды для друга зачерпнем И запасной его портянкой Больную ногу подвернем. Под Кенигсбергом на рассвете Мы будем ранены вдвоем, Отбудем месяц в лазарете, И выживем, и в бой пойдем. Святая ярость наступленья, Боев жестокая страда Завяжут наше поколенье В железный узел, навсегда. 1938ДОРОЖНЫЕ СТИХИ
1. Отъезд
Когда садишься в дальний поезд И едешь на год или три, О будущем не беспокоясь, Вещей ненужных не бери. Возьми рубашек на две смены, Расческу, мыло, порошок, И если чемодан не полон, То это даже хорошо. Чтоб он, набитый кладью вздорной, Не отдувался, не гудел. Чтоб он, как ты, дышал просторно И с полки весело глядел. Нам всем, как хлеб, нужна привычка Других без плача провожать, И весело самим прощаться, И с легким сердцем уезжать.2. Чемодан
Как много чемодан потертый может Сказать нам о хозяине своем, Где он бывал и как им век свой прожит, Тяжел он или легок на подъем! Мы в юности отправились в дорогу, Наш чемодан едва набит на треть, Но стоит нам немного постареть, Он начинает пухнуть понемногу. Его мы все нежнее бережем, Мы обрастаем и вторым и третьим, В окно давно уж некогда смотреть нам, Нам только б уследить за багажом. Свистят столбы, летят года и даты. Чужие лица, с бляхой на груди, Кряхтя, за нами тащат позади Наш скарб, так мало весивший когда-то.3. Телеграмма
Всегда назад столбы летят в окне. Ты можешь уезжать и возвращаться, Они опять по той же стороне К нам в прошлое обратно будут мчаться. Я в детстве мог часами напролет Смотреть, как телеграммы пролетают: Телеграфист их в трубочку скатает, На провод их наденет и пошлет. В холодный тамбур выйдя нараспашку. Я и теперь, смотря на провода, Слежу, как пролетает иногда Закрученная в трубочку бумажка.4. Номера в «Медвежьей Горе»
— Какой вам номер дать? — Не все ль равно, Мне нужно в этом зимнем городке — Чтоб спать — тюфяк, чтобы дышать — окно, И ключ, чтоб забывать его в замке. Я в комнате, где вот уж сколько лет Все оставляют мелкие следы: Кто прошлогодний проездной билет, Кто горстку пепла, кто стакан воды. Я сам приехал, я сюда не зван. Здесь полотенце, скрученное в жгут, И зыбкий стол, и вытертый диван Наверняка меня переживут. Но все-таки, пока я здесь жилец, Я сдвину шкаф, поставлю стол углом И даже дыма несколько колец Для красоты развешу над столом. А если без особого труда Удастся просьбу выполнить мою, — Пусть за окном натянут провода, На каждый посадив по воробью.5. Тоска
— Что ты затосковал? — Она ушла. — Кто? — Женщина. И не вернется, Не сядет рядом у стола, Не разольет нам чай, не улыбнется; Пока не отыщу ее следа — Ни есть, ни пить спокойно не смогу я… — Брось тосковать! Что за беда? Поищем — И найдем другую. …………………………………….. — Что ты затосковал? — Она ушла! — Кто? — Муза. Все сидела рядом. И вдруг ушла и даже не могла Предупредить хоть словом или взглядом. Что ни пишу с тех пор — все бестолочь, вода, Чернильные расплывшиеся пятна… — Брось тосковать! Что за беда? Догоним, приведем обратно. ……………………………………………… — Что ты затосковал? — Да так… Вот фотография прибита косо. Дождь на дворе, Забыл купить табак, Обшарил стол — нигде ни папиросы. Ни день, ни ночь — Какой-то средний час. И скучно, и не знаешь, что такое… — Ну что ж, тоскуй. На этот раз Ты пойман настоящею тоскою…6. Вагон
Есть у каждого вагона Свой тоннаж и габарит, И таблица непреклонно Нам об этом говорит. Но в какие габариты Влезет этот груз людской, Если, заспаны, небриты, Люди едут день-деньской? Без усушки, баз утруски Проезжают города, Море чаю пьют по-русски, Стопку водки иногда. Много ездив по отчизне, Мы вагоном дорожим, Он в пути, подобно жизни, Бесконечно растяжим. Вот ты влез на третью полку И забился в уголок, Там, где ехал втихомолку Слезший ночью старичок; Коренное населенье Проявляет к тем, кто влез, — К молодому пополненью — Свой законный интерес, А попутно с этим, если Были люди хороши, Тех, кто ехали и слезли, Вспоминают от души. Ты знакомишься случайно, Поделившись табаком, У соседа просишь чайник И бежишь за кипятком. Ты чужих детей качаешь, Книжки почитать даешь, Ты и сам не замечаешь, Как в дороге устаешь. Люди сходят понемногу, Сходят каждый перегон, Но, меняясь всю дорогу, Не пустеет твой вагон. Ты давно уже не знаешь, Сколько лет в пути прожил, И соседей вспоминаешь, Как заправский старожил. День темнеет. Дело к ночи. Скоро — тот кусок пути, Где без лишних проволочек Предстоит тебе сойти. Что ж, возьми пожитки в руки, По возможности без слез, Слушай, высадившись, стуки Убегающих колес. И надейся, что в вагоне Целых пять минут подряд На дорожном лексиконе О тебе поговорят. Что, проездивший полвека, Непоседа и транжир, Все ж хорошим человеком Был сошедший пассажир.7. «Казбек»
Я наконец приехал на Кавказ, И моему неопытному взору В далекой дымке в первый раз Видны сто раз описанные горы. Но где я раньше видел эти две Под самым небом сросшихся вершины, Седины льдов на старой голове, И тень лесов, и ледников плешины? Я твердо помню — та же крутизна, И те же льды, и так же снег не тает. И разве только черного пятна Посередине где-то не хватает. Все те места, где я бывал, где рос, Я в памяти перебираю робко… И вдруг, соскучившись без папирос, Берусь за папиросную коробку, Так вот оно, пятно! На фоне синих гор, Пришпорив так, что не угнаться, На черном скакуне во весь опор Летит джигит за три пятнадцать. Как жаль, что часто память в нас живет Не о дорогах, тропах, полустанках, А о наклейках минеральных вод, О марках вин и о консервных банках…8. В командировке
Он, мельком оглядев свою каморку, Создаст командировочный уют. На стол положит старую «Вечерку», На ней и чай, а то и водку пьют. Открыв свой чемоданчик из клеенки, Пришпилит кнопкой посреди стены Большую фотографию ребенка И маленькую карточку жены. Не замечая местную природу, Скупой на внеслужебные слова, Не хныча, проживет он здесь полгода, А если надо, так и год и два. Пожалуй, только письма бы почаще, Да он ведь терпеливый адресат. Должно быть, далеко почтовый ящик, И сына утром надо в детский сад… Все хорошо, и разве что с отвычки Затосковав под самый Новый год, В сенях исчиркав все, что были, спички, Он москвича другого приведет. По чайным чашкам разольет зубровку, Покажет гостю карточку — жена, Сам понимаешь, я в командировках… А все-таки хорошая она. И, хлопая друг друга по коленям, Припомнят Разгуляй, Коровий брод, Две комнаты — одну в Кривоколенном, Другую у Кропоткинских ворот. Зачем-то вдруг начнут считать трамваи, Все станции метро переберут, Друг друга второпях перебивая, Заведомо с три короба наврут. Тайком от захмелевшего соседа Смахнут слезу без видимых причин. Смешная полунощная беседа Двух очень стосковавшихся мужчин. ……………………………………………………….. Когда-нибудь, отмеченный в приказе, В последний раз по россыпи снежка Проедет он на кашляющем ГАЗе По будущим проспектам городка. Другой москвич зайдет в его каморку, Займет ее на месяц или год, На стол положит старую «Вечерку» И над кроватью карточки прибьет.9. Северная песня
Мужчине — на кой ему черт порошки, Пилюли, микстуры, облатки. От горя нас спальные лечат мешки, Походные наши палатки. С порога дорога идет на восток, На север уходит другая, Собачья упряжка, последний свисток — Но где ж ты, моя дорогая? Тут нету ее, нас не любит она. Что ж делать, не плакать же, братцы! Махни мне платочком хоть ты, старина, — Так легче в дорогу собраться. Как будто меня провожает жена, Махни мне платочком из двери, Но только усы свои сбрей, старина, Не то я тебе не поверю. С порога дорога идет на восток, На север уходит другая, Собачья упряжка, последний свисток. Прощай же, моя дорогая! 1938–1939ИЗГНАННИК
Испанским республиканцам
Нет больше родины. Нет неба, нет земли. Нет хлеба, нет воды. Все взято. Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли Припасть к ней пересохшим ртом солдата. Чужое море билось за кормой, В чужое небо пену волн швыряя. Чужие люди ехали «домой», Над ухом это слово повторяя. Он знал язык. Они его жалели вслух За костыли и за потертый ранец, А он, к несчастью, не был глух, Бездомная собака, иностранец. Он высадился в Лондоне. Семь дней Искал он комнату. Еще бы! Ведь он искал чердак, чтоб был бедней Последней лондонской трущобы. И наконец нашел. В нем потолки текли, На плитах пола промокали туфли, Он на ночь у стены поставил костыли — Они к утру от сырости разбухли. Два раза в день спускался он в подвал И медленно, скрывая нетерпенье, Ел черствый здешний хлеб и запивал Вонючим пивом за два пенни. Он по ночам смотрел на потолок И удивлялся, ничего не слыша: Где «юнкерсы», где неба черный клок И звезды сквозь разодранную крышу? На третий месяц здесь, на чердаке, Его нашел старик, прибывший с юга; Старик был в штатском платье, в котелке, Они едва смогли узнать друг друга. Старик спешил. Он выложил на стол Приказ и деньги — это означало, Что первый час отчаянья прошел, Пора домой, чтоб все начать сначала. Но он не может. — Слышишь, не могу! — Он показал на раненую ногу. Старик молчал. — Ей-богу, я не лгу, Я должен отдохнуть еще немного. Старик молчал. — Еще хоть месяц так, А там — пускай опять штыки, застенки, мавры. Старик с улыбкой расстегнул пиджак И вынул из кармана ветку лавра. Три лавровых листка. Кто он такой, Чтоб забывать на родину дорогу? Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой, Губами осторожно трогал. Как он посмел забыть? Три лавровых листка. Что может быть прочней и проще? Не все еще потеряно, пока Там не завяли лавровые рощи. Он в полночь выехал. Как родина близка, Как долго пароход идет в тумане… ……………………………………………………………….. Когда он был убит, три лавровых листка Среди бумаг нашли в его кармане. 1939СТАРИК
Памяти Амундсена
Весь дом пенькой проконопачен прочно, Как корабельное сухое дно, И в кабинете — круглое нарочно — На океан прорублено окно. Тут все кругом привычное, морское, Такое, чтобы, вставши на причал, Свой переход к свирепому покою Хозяин дома реже замечал. Он стар. Под старость странствия опасны, Король ему назначил пенсион, И с королем на этот раз согласны Его шофер, кухарка, почтальон. Следят, чтоб ночью угли не потухли, И сплетничают разным докторам, И по утрам подогревают туфли, И пива не дают по вечерам. Все подвиги его давно известны, К бессмертной славе он приговорен, И ни одной душе не интересно, Что этой славой недоволен он. Она не стоит одного ночлега Под спальным шерстью пахнущим мешком, Одной щепотки тающего снега, Одной затяжки крепким табаком. Ночь напролет камин ревет в столовой, И, кочергой помешивая в нем, Хозяин, как орел белоголовый, Нахохлившись, сидит перед огнем. По радио всю ночь бюро погоды Предупреждает, что кругом шторма, — Пускай в портах швартуют пароходы И запирают накрепко дома. В разрядах молний слышимость все глуше, И вдруг из тыщеверстной темноты Предсмертный крик: «Спасите наши души!» И градусы примерной широты. В шкафу висят забытые одежды — Комбинезоны, спальные метки… Он никогда бы не подумал прежде, Что могут так заржаветь все крючки… Как трудно их застегивать с отвычки! Дождь бьет по стеклам мокрою листвой. В резиновый карман — табак и спички, Револьвер — в задний, компас — в боковой. Уже с огнем забегали по дому, Но, заревев и прыгнув из ворот, Машина по пути к аэродрому Давно ушла за первый поворот. В лесу дубы под молнией, как свечи, Над головой сгибаются, треща, И дождь, ломаясь на лету о плечи, Стекает в черный капюшон плаща. …………………………………………………. Под осень, накануне ледостава, Рыбачий бот, уйдя на промысла, Найдет кусок его бессмертной славы — Обломок обгоревшего крыла. 1939МАЛЬЧИК
Когда твоя тяжелая машина Пошла к земле, ломаясь и гремя, И черный столб взбешенного бензина Поднялся над кабиною стоймя, Сжимая руль в огне последней вспышки, Разбитый и притиснутый к земле, Конечно, ты не думал о мальчишке, Который жил в Клину или Орле; Как ты, не знавший головокруженья, Как ты, он был упрям, драчлив и смел, И самое прямое отношенье К тебе, в тот день погибшему, имел. Пятнадцать лет он медленно и твердо Лез в небеса, упрямо сжав штурвал, И все тобой не взятые рекорды Он дерзкою рукой завоевал. Когда его тяжелая машина Перед посадкой встала на дыбы И, как жестянка, сплющилась кабина, Задев за телеграфные столбы, Сжимая руль в огне последней вспышки, Придавленный к обугленной траве, Он тоже не подумал о мальчишке, Который рос в Чите или в Москве… Когда ужо известно, что в газетах Назавтра будет черная кайма, Мне хочется, поднявшись до рассвета, Врываться в незнакомые дома, Искать ту неизвестную квартиру, Где спит, уже витая в облатках, Мальчишка — рыжий маленький задира, Весь в ссадинах, веснушках, синяках. 1939ПОРУЧИК
Уж сотый день врезаются гранаты В Малахов окровавленный курган, И рыжие британские солдаты Идут на штурм под хриплый барабан. А крепость Петропавловск-на-Камчатке Погружена в привычный мирный сон. Хромой поручик, натянув перчатки, С утра обходит местный гарнизон. Седой солдат, откозыряв неловко, Трет рукавом ленивые глаза, И возле пушек бродит на веревке Худая гарнизонная коза. Ни писем, ни вестей Как ни проси их, Они забыли там, за семь морей, Что здесь, на самом кончике России, Живет поручик с ротой егерей… Поручик, долго щурясь против света, Смотрел на юг, на море, где вдали — Неужто нынче будет эстафета? — Маячили в тумане корабли. Он взял трубу. По зыби, то зеленой, То белой от волнения, сюда, Построившись кильватерной колонной, Шли к берегу британские суда. Зачем пришли они из Альбиона? Что нужно им? Донесся дальний гром, И волны у подножья бастиона Вскипели, обожженные ядром. Полдня они палили наудачу, Грозя весь город обратить в костер. Держа в кармане требованье сдачи, На бастион взошел парламентер. Поручик, в хромоте своей увидя Опасность для достоинства страны, Надменно принимал британца, сидя На лавочке у крепостной стены. Что защищать? Заржавленные пушки, Две улицы то в лужах, то в пыли, Косые гарнизонные избушки, Клочок не нужной никому земли? Но все-таки ведь что-то есть такое, Что жаль отдать британцу с корабля? Он горсточку земли растер рукою: Забытая, а все-таки земля. Дырявые, обветренные флаги Над крышами шумят среди ветвей… — Нет, я не подпишу твоей бумаги, Так и скажи Виктории своей! …………………………………………………….. Уже давно британцев оттеснили, На крышах залатали все листы, Уже давно всех мертвых схоронили, Поставили сосновые кресты, Когда санкт-петербургские курьеры Вдруг привезли, на год застряв в пути, Приказ принять решительные меры И гарнизон к присяге привести. Для боевого действия к отряду Был прислан в крепость новый капитан, А старому поручику в награду Был полный отпуск с пенсиею дан! Он все ходил по крепости, бедняга, Все медлил лезть на сходни корабля… Холодная казенная бумага, Нелепая любимая земля… 1939АНГЛИЙСКОЕ ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ В СЕВАСТОПОЛЕ
Здесь нет ни остролистника, ни тиса. Чужие камни и солончаки, Проржавленные солнцем кипарисы Как воткнутые в землю тесаки. И спрятаны под их худые кроны В земле, под серым слоем плитняка, Побатальонно и поэскадронно Построены британские войска. Шумят тяжелые кусты сирени, Раскачивая неба синеву, И сторож, опустившись на колени, На английский манер стрижет траву. К солдатам на последние квартиры Корабль привез из Англии цветы, Груз красных черепиц из Девоншира, Колючие терновые кусты. Солдатам на чужбине лучше спится, Когда холмы у них над головой Обложены английской черепицей, Обсажены английскою травой. На медных досках, на камнях надгробных, На пыльных пирамидах из гранат Английский гравер вырезал подробно Число солдат и номера бригад. Но прежде чем на судно погрузить их, Боясь превратностей чужой земли, Все надписи о горестных событьях На русский второпях перевели. Бродяга-переводчик неуклюже Переиначил русские слова, В которых о почтенье к праху мужа Просила безутешная вдова: «Сержант покойный спит здесь. Ради бога, С почтением склонись пред этот крест!» Как много миль от Англии, как много Морских узлов от жен и от невест. В чужом краю его обидеть могут, И землю распахать, и гроб сломать, Вы слышите! Не смейте, ради бога! Об этом просят вас жена и мать! Напрасный страх. Уже дряхлеют даты На памятниках дедам и отцам. Спокойно спят британские солдаты. Мы никогда не мстили мертвецам. 1939ЧАСЫ ДРУЖБЫ
Недавно тост я слышал на пиру, И вот он здесь записан на бумагу. — Приснилось мне, — сказал нам тамада, — Что умер я, и все-таки не умер, Что я не жив, и все-таки лежит Передо мной последняя дорога. Я шел по ней без хлеба, без огня, Кругом качалась белая равнина, Присевшие на корточки холмы На согнутых хребтах держали небо. Я шел по ней, весь день я не видал Ни дыма, ни жилья, ни перекрестка, Торчали вместо верстовых столбов Могильные обломанные плиты — Я надписи истертые читал, Здесь были похоронены младенцы, Умершие, едва успев родиться. К полуночи я встретил старика, Седой, как лунь, сидел он у дороги И пил из рога черное вино, Пахучим козьим сыром заедая. «Скажи, отец, — спросил я у пего, — Ты сыр жуешь, ты пьешь вино из рога, Как дожил ты до старости такой Здесь, где никто не доживал до года?» Старик, погладив мокрые усы, Сказал: «Ты ошибаешься, прохожий, Здесь до глубокой старости живут, Здесь сверстники мои лежат в могилах, Ты надписи неправильно прочел — У нас другое летоисчисленье: Мы измеряем, долго ли ты жил, Не днями жизни, а часами дружбы». — И тамада поднялся над столом: — Так выпьем же, друзья, за годы дружбы! Но мы молчали. Если так считать — Боюсь, не каждый доживет до года! 1939СОСЕДЯМ ПО ЮРТЕ{2}
ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС
У этого поезда плакать не принято. Штраф. Я им говорил, чтоб они догадались повесить. Нет, не десять рублей. Я иначе хотел, я был прав, — Чтобы плачущих жен удаляли с платформы за десять… Понимаете вы, десять самых последних минут, Те, в которые что ни скажи — недослышат, Те, в которые жены перчатки отчаянно мнут, Бестолковые буквы по стеклам навыворот пишут. Эти десять минут взять у них, пригрозить, что возьмут, — Они насухо вытрут глаза еще дома, в передней. Может, наше тиранство не все они сразу поймут, Но на десять минут подчинятся нам все до последней. Да, пускай улыбнется! Она через силу должна, Чтоб надолго запомнить лицо ее очень спокойным. Как охранная грамота, эта улыбка нужна Всем, кто хочет привыкнуть к далеким дорогам и войнам. Вот конверты, в пути пожелтевшие, как сувенир, — Над почтовым вагоном семь раз изменялась погода, — Шахматисты по почте играют заочный турнир, По два месяца ждут от партнера ответного хода. Надо просто запомнить глаза ее, голос, пальто — Все, что любишь давно, пусть хоть даже ни за что ни про что, Надо просто запомнить и больше уже ни на что Не ворчать, когда снова застрянет в распутицу почта. И домой возвращаясь, считая все вздохи колес, Чтоб с ума не сойти, сдав соседям себя на поруки, Помнить это лицо без кровинки, зато и без слез, Эту самую трудную маску спокойной разлуки. На обратном пути будем приступом брать телеграф. Сыпать молнии на Ярославский вокзал, в управленье. У этого поезда плакать не принято. Штраф. — Мы вернулись! Пусть плачут. Снимите свое объявленье. 1939МЕХАНИК
Я знаю, что книгами и речами Пилота прославят и без меня. Я лучше скажу о том, кто ночами С ним рядом просиживал у огня, Кто вместе с пилотом пил спирт и воду, Кто с ним пополам по Москве скучал, Кто в самую дьявольскую погоду Сто раз провожал его и встречал. Я помню, как мы друзей провожали Куда-нибудь в летние отпуска; Как были щедры мы, как долго держали Их руки в своих до второго звонка. Но как прощаться, когда по тревоге Машина уходит в небо винтом? И, руки раскинув, расставив ноги, В степи остаешься стоять крестом. Полнеба окинув усталым взглядом, Ты молча ложишься лицом в траву; Тут все наизусть, тут давно не надо Смотреть в надоевшую синеву. Ты знаешь по опыту и по слуху: Сейчас за грядой песчаных горбов С ударами, еле слышными уху, Обрушилось десять черных столбов. Чья мать потеряет сегодня сына? Чей друг заночует в палатке один? С одинаковым дымом горит резина, Одинаково вспыхивает бензин. Никогда еще в небе так поздно он не был. Сквозь палатку зажегся первый огонь. Ты, как доктор, угрюмо слушаешь небо, Трубкой к нему приложив ладонь. Нет, когда мы справлялись об опозданье, Выходили встречать к «Полярной стреле», Нет, мы с вами не знали цепы ожиданья — Ремесла остающихся на земле. 1939ОРЛЫ
Там, где им приказали командиры, С пустыми карабинами в руках Они лежали мертвые, в мундирах, В заморских неуклюжих башмаках. Еще отбой приказом отдан не был, Земля с усталым грохотом тряслась, Ждя похорон, они смотрели в небо; Им птицы не выклевывали глаз. Тень от крыла орлиного ни разу Еще по лицам мертвых не прошла. Над всею степью, сколько видно глазу, Я не встречал ни одного орла. Еще вчера в батальные картины Художники по памяти отцов Вписали полунощные равнины И стаи птиц над грудой мертвецов. Но этот день я не сравню с вчерашним, Мы, люди, привыкаем ко всему, Но поле боя было слишком страшным: Орлы боялись подлетать к нему. У пыльных юрт второго эшелона, Легко привыкнув к тыловым огням, На вешках полевого телефона Они теперь сидят по целым дням. Восточный ветер, вешками колыша, У них ерошит перья на спине, И кажется: орлы дрожат, заслыша Одно напоминанье о войне. 1939ДЕРЕВЬЯ
У нас была юрта с дырявой крышей, с поющим в щели сверчком. Мы сидели в ней в полдень и пили дымную воду с консервированным молоком. Пятую ночь дует ветер с Хингана, наступают осенние дни… — Я так давно не видел деревьев! Расскажи мне, какие они? — Они очень, очень высокие, они выше этой травы, ни один двугорбый верблюд не дотянется до их шумящей листвы. — Листва! Но я сам забыл ее шелест, скитаясь по этим степям; большие и маленькие кусочки зеленого, прицепленные к ветвям… Деревья — их не с чем здесь сравнить, они огромные, как облака, они зеленые, как монгольский закат, и шумные, как река. А если их много, целая роща, зеленое море огня, зеленое утром, черное ночью, синее на исходе дня… — Но, прервав наши речи на полуслове, грохот донесся из-за реки, как будто по очень глубоким ухабам проехали грузовики. И сразу на желтом пустом горизонте, в белой степной пыли, круглая темно-синяя роща выросла из-под земли. Она выросла сразу. Она выросла молча. Она выросла как стена — красивая темно-синяя роща, синяя дочерна. Ну что же, смотри на нее, любуйся, ты забыл здесь шелест листвы… Но тот, кто давно не видел деревьев, не повернул головы, он только поглубже надвинул каску: — Весь день облака и ветра, опять эти рощи на горизонте. Опять бомбежка с утра… 1939СВЕРЧОК
Мы довольно близко видели смерть и, пожалуй, сами могли умереть, мы ходили везде, где можно ходить, и смотрели на все, на что можно смотреть. Мы влезали в окопы, пропахшие креозотом и пролитым в песок сакэ, где только что наши кололи тех и кровь не засохла еще на штыке. Мы напрасно искали домашнюю жалость, забытую нами у очага, мы здесь привыкали, что быть убитым — входит в обязанности врага. Мы сначала взяли это на веру, но вера вошла нам в кровь и плоть; мы так и писали: «Если он не сдается — надо его заколоть!» И, честное слово, нам ничего не снилось, когда, свернувшись в углу, мы дремали в летящей без фар машине или на твердом полу. У нас была чистая совесть людей, посмотревших в глаза войне. И мы слишком много видели днем, чтобы видеть еще во сне. Мы спали, как дети, с открытыми ртами, кое-как прикорнув на тычке… Но я хотел рассказать не об этом. Я хотел рассказать о сверчке. Сверчок жил у нас под самою крышей между войлоком и холстом. Он был рыжий и толстый, с большими усами и кривым, как сабля, хвостом. Он знал, когда петь и когда молчать, он не спутал бы никогда; он молча ползал в жаркие дни и грустно свистел в холода. Мы хотели поближе его разглядеть и утром вынесли за порог, и он, как шофер, растерялся, увидев сразу столько дорог. Он удивленно двигал усами, как и мы, он не знал, почему большой человек из соседней юрты подошел вплотную к нему. Я повторяю: сверчок был толстый, с кривым, как сабля, хвостом, но всего его, маленького, можно было накрыть дубовым листом. А сапог был большой — сорок третий номер, с гвоздями на каблуке, и мы не успели еще подумать. как он стоял на сверчке. Мы решили, что было б смешно сердиться, и завели разговор о другом, но человек из соседней юрты был молча объявлен нашим врагом. Я, как в жизни, спутал в своем рассказе и важное, и пустяки, но товарищи скажут, что все это правда от первой и до последней строки. 1939«Слишком трудно писать из такой оглушительной дали…»
Слишком трудно писать из такой оглушительной дали. Мать придет и увидит конвертов клочки: — Все ли есть у него, все ли зимнее дали? — И, на счастье твое, позабудет очки. Да, скажи ей — все есть. Есть белье из оранжевой байки. Как в Москве — если болен — по вызову ездят врачи, Под шинель в холода есть у нас забайкальские майки — Меховые жилеты из монгольской каракульчи. Есть столовка в степи, иногда вдруг запляшет посуда, Когда близко бомбежка… Но подробности ей не нужны. Есть простудные ветры. Но московское слово «простуда» Ей всегда почему-то казалось страшнее войны. Впрочем, все хорошо, пусть посылки не собирает. Но тебе я скажу: в этой маминой мирной стране, Где приезжие вдруг от внезапных простуд умирают, Есть не все, что им надо, не все, что им снится во сне. Не хватает им малости: комнаты с темною шторой, Где сидеть бы сейчас, расстояния все истребя. Словом, им не хватает той самой, которой… Им — не знаю кого. Мне — тебя. Наше время еще занесут на скрижали. В толстых книгах напишут о людях тридцатых годов. Удивятся тому, как легко мы от жен уезжали, Как легко отвыкали от дыма родных городов. Все опишут, как было… Вот только едва ли Они вспомнят, что мы, так легко обходясь без жены, День за днем, как мальчишки, нелепо ее ревновали, Ночь за ночью видали все те же тревожные сны. 1939ФОТОГРАФИЯ
Е. Л.
Я твоих фотографий в дорогу не брал: Все равно и без них — если вспомним — приедем. На четвертые сутки, давно переехав Урал, Я в тоске не показывал их любопытным соседям. Никогда не забуду после боя палатку в тылу, Между сумками, саблями и термосами, В груде ржавых трофеев, на пыльном полу, Фотографии женщин с чужими косыми глазами. Они молча стояли у картонных домов для любви, У цветных абажуров с черным чертиком, с шелковой рыбкой: И на всех фотографиях, даже на тех, что в крови, Снизу вверх улыбались запоздалой бумажной улыбкой. Взяв из груды одну, равнодушно сказать: «Недурна», Уронить, чтоб опять из-под ног, улыбаясь, глядела. Нет, не черствое сердце, а просто война: До чужих сувениров нам не было дела. Я не брал фотографий. В дороге на что они мне? И опять не возьму их. А ты, не ревнуя, На минуту попробуй увидеть, хотя бы во сне, Пыльный пол под ногами, чужую палатку штабную. 1939КУКЛА
Мы сняли куклу со штабной машины. Спасая жизнь, ссылаясь на войну, Три офицера — храбрые мужчины — Ее в машине бросили одну. Привязанная ниточкой за шею, Она, бежать отчаявшись давно, Смотрела на разбитые траншеи, Дрожа в своем холодном кимоно. Земли и бревен взорванные глыбы; Кто не был мертв, тот был у нас в плену. В тот день они и женщину могли бы, Как эту куклу, бросить здесь одну… Когда я вспоминаю пораженье, Всю горечь их отчаянья и страх, Я вижу не воронки в три сажени, Не трупы на дымящихся кострах, — Я вижу глаз ее косые щелки, Пучок волос, затянутый узлом, Я вижу куклу, на крученом шелке Висящую за выбитым стеклом. 1939ТАНК
Вот здесь он шел. Окопов три ряда. Цепь волчьих ям с дубовою щетиной. Вот след, где он попятился, когда Ему взорвали гусеницы миной. Но под рукою не было врача, И он привстал, от хромоты страдая, Разбитое железо волоча, На раненую ногу припадая. Вот здесь он, все ломая, как таран, Кругами полз по собственному следу И рухнул, обессилевший от ран, Купив пехоте трудную победу. ……………………………………………… Уже к рассвету, в копоти, в пыли, Пришли еще дымящиеся танки И сообща решили в глубь земли Зарыть его железные останки. Он словно не закапывать просил, Еще сквозь сон он видел бой вчерашний, Он упирался, он что было сил Еще грозил своей разбитой башней. Чтоб видно было далеко окрест, Мы холм над ним насыпали могильный, Прибив звезду фанерную на шест — Над полем боя памятник посильный. Когда бы монумент велели мне Воздвигнуть всем погибшим здесь, в пустыне, Я б на гранитной тесаной стене Поставил танк с глазницами пустыми; Я выкопал его бы, как он есть, В пробоинах, в листах железа рваных, — Невянущая воинская честь Есть в этих шрамах, в обгорелых ранах. На постамент взобравшись высоко, Пусть как свидетель подтвердит по праву: Да, нам далась победа нелегко. Да, враг был храбр. Тем больше наша слава. 1939САМЫЙ ХРАБРЫЙ
Самый храбрый — не тот, кто, безводьем измученный, Мимо нас за водою карабкался днем, И не тот, кто, в боях к равнодушью приученный, Семь ночей продержался под нашим огнем. Самый храбрый солдат — я узнал его осенью, Когда мы возвращали их пленных домой И за цепью барханов, за дальнею просинью Виден был городок с гарнизонной тюрьмой. Офицерскими долгими взглядами встреченный, Самый, храбрый солдат — здесь нашелся такой, Что печально махнул нам в бою. искалеченной, Нашим лекарем вылеченною рукой. 1939ТЫЛОВОЙ ГОСПИТАЛЬ
Все лето кровь не сохла на руках. С утра рубили, резали, сшивали. Не сняв сапог, на куцых тюфяках Дремали два часа, и то едва ли. И вдруг пустая тишина палат, Который день на фронте нет ни стычки. Все не решались снять с себя халат И руки спиртом мыли по привычке. Потом решились, прицепили вдруг Все лето нам мешавшие наганы. Ходили в степи слушать, как вокруг Свистели в желтых травах тарбаганы. Весь в пене, мотоцикл приткнув к дверям, Штабной связист привез распоряженье Отбыть на фронт, в поездку, лекарям — Пускай посмотрят на поля сраженья. Вот и они, те дальние холмы, Где день и ночь дырявили и рвали Все, что потом с таким терпеньем мы Обратно, как портные, зашивали. Как смел он, этот ржавый миномет, С хромою сошкою, чтоб опираться, Нам стоить стольких рваных ран в живот, И стольких жертв, и стольких операций? Как гальку на прибрежной полосе, К ногам осколки стали прибивает. Как много их! Как страшно, если б все… Но этого, по счастью, не бывает. Вот здесь в окоп тяжелый залетел, Осколки с треском разошлись кругами, Мы только вынимали их из тел, Мы первый раз их видим под ногами. Шофер нас вез обратно с ветерком, И все-таки, вся в ранах и увечьях, Степь пахла миром, диким чесноком, Ночным теплом далеких стад овечьих. 1939«Куда ни глянешь — без призора…»
Куда ни глянешь — без призора, Чуть от дороги шаг ступи, Солончаковые озера Как полотно лежат в степи, В степной жаре, как будто рядом, Их набеленные холсты. Но ты, семь раз отмерив взглядом, Отрежешь лишних две версты. Пока до них дойдешь усталый И там, где ждал глотка воды, Найдешь соленые кристаллы, Волн затвердевшие ряды. Но рядом будет так похоже, Что там глубокая вода… Тебе придется лезть из кожи, Чтоб как-нибудь попасть туда. Ты час пройдешь и два и разве Под вечер, вымокший и злой, В конце концов найдешь над грязью Воды в два пальца светлый слой. Кто раз пошел — себя жестоко Лишил покоя на земле, Где все так близко и далеко, Почти как в нашем ремесле. 1939ОСЕНЬ
Когда в монгольские закаты, Плывущие вдоль берегов, Взлетают красные халаты Зажженных солнцем облаков, Когда в минуту безнадежно Дождь заряжает на два дня, Единственное, что возможно, — Закрыться и добыть огня. И быть как дома, быть как дома, Обманно сделать вид такой, Как будто все давно знакомо И выключатель под рукой. И благо пятый день затишье — Раз в сутки громыхнет едва, — Поверить, что за круглой крышей, За толстым войлоком — Москва, Что где-то есть на свете прочный, Без юрт, без полок, без кают, С ключами в скважине замочной, По нас тоскующий уют. Уже сорвало войлок с крыши, Водой хлестнув из-под полы, И надо лезть как можно выше, Вязать размокшие узлы. Но шут с ним, с новым всплеском грома, С дождем, упавшим на кровать. Мы целый вечер были дома, — Теперь — хоть зиму зимовать! 1939«Семь километров северо-западнее Баин-Бурта…»
Д. Ортенбергу
Семь километров северо-западнее Баин-Бурта И семь тысяч километров юго-восточней Москвы, Где вчера еще били полотняными крыльями юрты, — Только снег заметает обгорелые стебли травы. Степи настежь открыты буранам и пургам. Где он, войлочный город, поселок бессонных ночей, В честь редактора названный кем-то из нас Ортенбургом, Не внесенный на карты недолгий приют москвичей? Только круглые ямы от старых бомбежек, Только сломанный термос, забытый подарок жены; Волки нюхают термос, находят у снежных дорожек Пепел писем, которые здесь сожжены. Полотняный и войлочный, как же он сдался без бою, Он, так гордо, как парусник, плывший сквозь эти пески? Может, мы, уезжая, и город забрали с собою, Положили его в вещевые мешки? Нам труднее понять это в людных, огромных, — Как возьмешь их с собою — дома, магазины, огни. Да, и все-таки мы, уезжая, с собою берем их И, вернувшись, их ставим не так, как стояли они. Тут, в степи, это легче, тут все исчезает и тает, След палатки с песчаным, травой зарастающим швом, Может, в этом и мужество, — знать, что следы заметает, Что весь мир умещается в нашем мешке вещевом? 1939«Всю жизнь любил он рисовать войну…»
Всю жизнь любил он рисовать войну. Беззвездной ночью наскочив на мину, Он вместе с кораблем пошел ко дну, Не дописав последнюю картину. Всю жизнь лечиться люди шли к нему, Всю жизнь он смерть преследовал жестоко И умер, сам привив себе чуму, Последний опыт кончив раньше срока. Всю жизнь привык он пробовать сердца. Начав еще мальчишкою с «ньюпора», Он в сорок лет разбился, до конца Не испытав последнего мотора. Никак не можем помириться с тем, Что люди умирают не в постели, Что гибнут вдруг, не дописав поэм, Не долечив, не долетев до цели. Как будто есть последние дела, Как будто можно, кончив все заботы, В кругу семьи усесться у стола И отдыхать под старость от работы… 1939СТИХОТВОРЕНИЯ 1941–1945
ИЗ ДНЕВНИКА{3}
ИЗ ДНЕВНИКА
Июнь. Интендантство. Шинель с непривычки длинна. Мать застыла в дверях. Что это значит? Нет, она не заплачет. Что же делать — война! — А во сколько твой поезд? — И все же заплачет. Синий свет на платформах. Белорусский вокзал. Кто-то долго целует. — Как ты сказал? Милый, потише… — И мельканье подножек. И ответа уже не услышать. Из объятий, из слез, Из недоговоренных слов Сразу в пекло, на землю. В заиканье пулеметных стволов. Только пыль на зубах. И с убитого каска: бери! И его же винтовка: бери! И бомбежка — весь день, И всю ночь, до рассвета. Неподвижные, круглые, Желтые, как фонари, Над твоей головою — ракеты… Да, война не такая, какой мы писали ее, — Это горькая штука… 1941«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»
А. Суркову
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, Как шли бесконечные, злые дожди, Как кринки несли нам усталые женщины, Прижав, как детей, от дождя их к груди, Как слезы они вытирали украдкою, Как вслед нам шептали: — Господь вас спаси! — И снова себя называли солдатками, Как встарь повелось на великой Руси. Слезами измеренный чаще, чем верстами, Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: Деревни, деревни, деревни с погостами, Как будто на них вся Россия сошлась, Как будто за каждою русской околицей, Крестом своих рук ограждая живых, Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся За в бога не верящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина — Не дом городской, где я празднично жил, А эти проселки, что дедами пройдены, С простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскою Дорожной тоской от села до села, Со вдовьей слезою и с песнею женскою Впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом, По мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в салопчике плисовом, Весь в белом, как на смерть одетый, старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но, горе поняв своим бабьим чутьем, Ты помнишь, старуха сказала: — Родимые, Покуда идите, мы вас подождем. «Мы вас подождем!» — говорили нам пажити. «Мы вас подождем!» — говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, Что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям, только пожарища На русской земле раскидав позади, На наших глазах умирают товарищи, По-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют. Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, Я все-таки горд был за самую милую, За горькую землю, где я родился, За то, что на ней умереть мне завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что, в бой провожая нас, русская женщина По-русски три раза меня обняла. 1941РОДИНА
Касаясь трех великих океанов, Она лежит, раскинув города, Покрыта сеткою меридианов, Непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната Уже занесена в твоей руке И в краткий миг припомнить разом надо Все, что у нас осталось вдалеке, Ты вспоминаешь не страну большую, Какую ты изъездил и узнал, Ты вспоминаешь родину — такую, Какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, Далекую дорогу за леском, Речонку со скрипучим перевозом, Песчаный берег с низким ивняком. Вот где нам посчастливилось родиться, Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли Ту горсть земли, которая годится, Чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, Да, можно голодать и холодать, Идти на смерть… Но эти три березы При жизни никому нельзя отдать. 1941«Словно смотришь в бинокль перевернутый…»
Словно смотришь в бинокль перевернутый — Все, что сзади осталось, уменьшено. На вокзале, метелью подернутом, Где-то плачет далекая женщина. Снежный ком, обращенный в горошину, — Ее горе отсюда невидимо; Как и всем нам, войною непрошено, Мне жестокое зрение выдано. Что-то очень большое и страшное, На штыках принесенное временем, Не дает нам увидеть вчерашнего Нашим гневным сегодняшним зрением. Мы, пройдя через кровь и страдания, Снова к прошлому взглядом приблизимся. Но на этом далеком свидании До былой слепоты не унизимся. Слишком много друзей не докличется Повидавшее смерть поколение. И обратно не все увеличится В нашем горем испытанном зрении. 1941«Мы не увидимся с тобой…»
Мы не увидимся с тобой, А женщина еще не знала; Бродя по городу со мной, Тебя живого вспоминала. Но чем ей горе облегчить, Когда солдатскою судьбою Я сам назавтра, может быть, Сравняюсь где-нибудь с тобою? И будет женщине другой — Все повторяется сначала — Вернувшийся товарищ мой, Как я, весь вечер лгать устало. Печальна участь нас, друзей, Мы все поймем и не осудим И все-таки о мертвом ей Напоминать некстати будем. Ее спасем не мы, а тот, Кто руки на плечи положит, Не зная мертвого, придет И позабыть его поможет. 1941ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
Меня просил попутчик мой и друг, А другу дважды не дают просить, Не видя ваших милых глаз и рук, О вас стихи я должен сочинить. В зеленом азиатском городке, По слухам, вы сейчас влачите дни, Там, милый след оставив на песке, Проходят ваши легкие ступни. За друга легче женщину просить, Чем самому припасть к ее руке, Вы моего попутчика забыть Не смейте там, в зеленом городке. Он говорил мне, что давно, когда Еще он вами робко был любим, Взошедшая Полярная звезда Вам назначала час свиданья с ним. Чтоб с ним свести вас, нет сейчас чудес, На край земли нас бросила война, Но все горит звезда среди небес, Вам с двух сторон земли она видна. Она сейчас горит еще ясней, Попутчик мой для вас ее зажег, Пусть ваши взгляды сходятся, на ней, На перекрестках двух земных дорог. Я верю вам, вы смотрите сейчас, Пока звезда горит, — он будет жить, Пока с нее не сводите вы глаз, Ее никто не смеет погасить. Где юность наша? Где забытый дом? Где вы, чужая, нежная? Когда, Чтоб мертвых вспомнить, за одним столом Живых сведет Полярная звезда? 1941, РыбачийТОВАРИЩ
Вслед за врагом пять дней за пядью пядь Мы по пятам на Запад шли опять. На пятый день под яростным огнем Упал товарищ, к Западу лицом. Как шел вперед, как умер на бегу, Так и упал и замер на снегу. Так широко он руки разбросал, Как будто разом всю страну обнял. Мать будет плакать много горьких дней, Победа сына не воротит ей. Но сыну было — пусть узнает мать — Лицом на Запад легче умирать. 1941«Я знаю, ты бежал в бою…»
Я знаю, ты бежал в бою И этим шкуру спас свою. Тебя назвать я не берусь Одним коротким словом: трус. Пускай ты этого не знал, Но ты в тот день убийцей стал. В окоп, что бросить ты посмел, В ту ночь немецкий снайпер сел. За твой окоп другой боец Подставил грудь под злой свинец. Назад окоп твой взяв в бою, Он голову сложил свою. Не смей о павшем песен петь, Не смей вдову его жалеть. 1942АТАКА
Когда ты по свисту, по знаку, Встав на растоптанном снегу, Готовясь броситься в атаку, Винтовку вскинул на бегу, Какой уютной показалась Тебе холодная земля, Как все на ней запоминалось: Примерзший стебель ковыля, Едва заметные пригорки, Разрывов дымные следы, Щепоть рассыпанной махорки И льдинки пролитой воды. Казалось, чтобы оторваться, Рук мало — надо два крыла. Казалось, если лечь, остаться — Земля бы крепостью была. Пусть снег метет, пусть ветер гонит, Пускай лежать здесь много дней. Земля. На ней никто не тронет. Лишь крепче прижимайся к ней. Ты этим мыслям жадно верил Секунду с четвертью, пока Ты сам длину им не отмерил Длиною ротного свистка. Когда осекся звук короткий, Ты в тот неуловимый миг Уже тяжелою походкой Бежал по снегу напрямик. Осталась только сила ветра, И грузный шаг по целине, И те последних тридцать метров, Где жизнь со смертью наравне! 1942ПЕХОТИНЕЦ
Уже темнеет. Наступленье, Гремя, прошло свой путь дневной, И в нами занятом селенье Снег смешан с кровью и золой. У журавля, где как гостинец Нам всем студеная вода, Ты сел, усталый пехотинец, И все глядишь назад, туда, Где в полверсте от крайней хаты Мы, оторвавшись от земли, Под орудийные раскаты, Уже не прячась, в рост пошли. И ты уверен в эту пору, Что раз такие полверсты Ты смог пройти, то, значит, скоро Пройти всю землю сможешь ты. 1942СЛАВА
За пять минут уж снегом талым Шинель запорошилась вся. Он на земле лежит, усталым Движеньем руку занеся. Он мертв. Его никто не знает. Но мы еще на полпути, И слава мертвых окрыляет Тех, кто вперед решил идти. В нас есть суровая свобода: На слезы обрекая мать, Бессмертье своего народа Своею смертью покупать. 1942ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Пожар стихал. Закат был сух. Всю ночь, как будто так и надо, Уже не поражая слух, К нам долетала канонада. И между сабель и сапог, До стремени не доставая, Внизу, как тихий василек, Бродила девочка чужая. Где дом ее, что сталось с ней В ту ночь пожара — мы не знали. Перегибаясь к ней с коней, К себе на седла поднимали. Я говорил ей: — Что с тобой? — И вместе с ней в седле качался. Пожара отсвет голубой Навек в глазах ее остался. Она, как маленький зверек, К косматой бурке прижималась, И глаза синий уголек Все догореть не мог, казалось. Когда-нибудь в тиши ночной С черемухой и майской дремой, У женщины совсем чужой И всем нам вовсе незнакомой, Заметив грусть и забытье Без всякой видимой причины, Что с нею, спросит у нее Чужой, не знавший нас, мужчина. А у нее сверкнет слеза, И, вздрогнув, словно от удара, Она поднимет вдруг глаза С далеким отблеском пожара, — Не знаю, милый. — А в глазах Вновь полетят в дорожной пыли Кавалеристы на конях, Какими мы когда-то были. Деревни будут догорать, И кто-то под ночные трубы Девчонку будет поднимать В седло, накрывши буркой грубой. 1942СМЕРТЬ ДРУГА
Памяти Евгения Петрова
Неправда, друг не умирает, Лишь рядом быть перестает. Он кров с тобой не разделяет, Из фляги из твоей не пьет. В землянке, занесен метелью, Застольной не поет с тобой И рядом, под одной шинелью, Не спит у печки жестяной. Но все, что между вами было, Все, что за вами следом шло, С его останками в могилу Улечься вместе не смогло. Упрямство, гнев его, терпенье — Ты все себе в наследство взял, Двойного слуха ты и зренья Пожизненным владельцем стал. Любовь мы завещаем женам, Воспоминанья — сыновьям, Но по земле, войной сожженной, Идти завещано друзьям. Никто еще не знает средства От неожиданных смертей. Все тяжелее груз наследства, Все уже круг твоих друзей. Взвали тот груз себе на плечи, Не оставляя ничего, Огню, штыку, врагу навстречу, Неси его, неси его! Когда же ты нести не сможешь, То знай, что, голову сложив, Его всего лишь переложишь На плечи тех, кто будет жив. И кто-то, кто тебя не видел, Из третьих рук твой груз возьмет, За мертвых мстя и ненавидя, Его к победе донесет. 1942«Если дорог тебе твой дом…»
Если дорог тебе твой дом, Где ты русским выкормлен был, Под бревенчатым потолком Где ты, в люльке качаясь, плыл; Если дороги в доме том Тебе стены, печь и углы, Дедом, прадедом и отцом В нем исхоженные полы; Если мил тебе бедный сад С майским цветом, с жужжаньем пчел И под липой сто лет назад В землю вкопанный дедом стол; Если ты не хочешь, чтоб пол В твоем доме фашист топтал, Чтоб он сел за дедовский стол И деревья в саду сломал… Если мать тебе дорога — Тебя выкормившая грудь, Где давно уже нет молока, Только можно щекой прильнуть; Если вынести нету сил, Чтоб фашист, к ней постоем став, По щекам морщинистым бил, Косы на руку намотав; Чтобы те же руки ее, Что несли тебя в колыбель, Мыли гаду его белье И стелили ему постель… Если ты отца не забыл, Что качал тебя на руках, Что хорошим солдатом был И пропал в карпатских снегах, Что погиб за Волгу, за Дон, За отчизны твоей судьбу; Если ты не хочешь, чтоб он Перевертывался в гробу, Чтоб солдатский портрет в крестах Взял фашист и на пол сорвал И у матери на глазах На лицо ему наступал… Если ты не хочешь отдать Ту, с которой вдвоем ходил, Ту, что долго поцеловать Ты не смел, — так ее любил, — Чтоб фашисты ее живьем Взяли силой, зажав в углу, И распяли ее втроем, Обнаженную, на полу; Чтоб досталось трем этим псам В стонах, в ненависти, в крови Все, что свято берег ты сам Всею силой мужской любви… Если ты фашисту с ружьем Не желаешь навек отдать Дом, где жил ты, жену и мать, Все, что родиной мы зовем, — Знай: никто ее не спасет, Если ты ее не спасешь; Знай: никто его не убьет, Если ты его не убьешь. И пока его не убил, Помолчи о своей любви, Край, где рос ты, и дом, где жил, Своей родиной не зови. Пусть фашиста убил твой брат, Пусть фашиста убил сосед. — Это брат и сосед твой мстят, А тебе оправданья нет. За чужой спиной не сидят, Из чужой винтовки не мстят, Раз фашиста убил твой брат, — Это он, а не ты, солдат. Так убей фашиста, чтоб он, А не ты на земле лежал, Не в твоем дому чтобы стон, А в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, — Пусть горит его дом, а не твой, И пускай не твоя жена, А его пусть будет вдовой. Пусть исплачется не твоя, А его родившая мать, Не твоя, а его семья Понапрасну пусть будет ждать. Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, Столько раз его и убей! 1942БЕЗЫМЕННОЕ ПОЛЕ
Опять мы отходим, товарищ, Опять проиграли мы бой, Кровавое солнце позора Заходит у нас за спиной. Мы мертвым глаза не закрыли, Придется нам вдовам сказать, Что мы не успели, забыли Последнюю почесть отдать. Не в честных солдатских могилах — Лежат они прямо в пыли. Но, мертвых отдав поруганью, Зато мы — живыми пришли! Не правда ль, мы так и расскажем Их вдовам и их матерям: Мы бросили их на дороге, Зарыть было некогда нам. Ты, кажется, слушать не можешь? Ты руку занес надо мной… За слов моих страшную горечь Прости мне, товарищ родной, Прости мне мои оскорбленья, Я с горя тебе их сказал, Я знаю, ты рядом со мною Сто раз свою грудь подставлял. Я знаю, ты пуль не боялся, И жизнь, что дала тебе мать, Берег ты с мужскою надеждой Ее подороже продать. Ты, верно, в сорочке родился, Что все еще жив до сих пор, И смерть тебе меньшею мукой Казалась, чем этот позор. Ты можешь ответить, что мертвых Завидуешь сам ты судьбе, Что мертвые сраму не имут, — Нет, имут, скажу я тебе. Нет, имут. Глухими ночами, Когда мы отходим назад, Восставши из праха, за нами Покойники наши следят. Солдаты далеких походов, Умершие грудью вперед, Со срамом и яростью слышат Полночные скрипы подвод. И, вынести срама не в силах, Мне чудится в страшной ночи — Встают мертвецы всей России, Поют мертвецам трубачи. Беззвучно играют их трубы, Незримы от ног их следы, Словами беззвучной команды Их ротные строят в ряды. Они не хотят оставаться В забытых могилах своих, Чтоб вражеских пушек колеса К востоку ползли через них. В бело-зеленых мундирах, Павшие при Петре, Мертвые преображенцы Строятся молча в каре. Плачут седые капралы, Протяжно играет рожок, Впервые с Полтавского боя Уходят они на восток. Из-под твердынь Измаила, Не знавший досель ретирад, Понуро уходит последний Суворовский мертвый солдат. Гремят барабаны в Карпатах, И трубы над Бугом поют, Сибирские мертвые роты У стен Перемышля встают. И на истлевших постромках Вспять через Неман и Прут Артиллерийские кони Разбитые пушки везут. Ты слышишь, товарищ, ты слышишь, Как мертвые следом идут, Ты слышишь: не только потомки, Нас предки за это клянут. Клянемся ж с тобою, товарищ, Что больше ни шагу назад! Чтоб больше не шли вслед за нами Безмолвные тени солдат. Чтоб там, где мы стали сегодня, — Пригорки да мелкий лесок, Куриный ручей в пол-аршина, Прибрежный отлогий песок, — Чтоб этот досель неизвестный Кусок нас родившей земли Стал местом последним, докуда Последние немцы дошли. Пусть то безыменное поле, Где нынче пришлось нам стоять, Вдруг станет той самой твердыней, Которую немцам не взять. Ведь только в Можайском уезде Слыхали названье села, Которое позже Россия Бородином назвала. 1942, июльВ ЗАВОЛЖЬЕ
Не плачь! — Все тот же поздний зной Висит над желтыми степями. Все так же беженцы толпой Бредут; и дети за плечами… Не плачь! Покуда мимо нас Они идут из Сталинграда, Идут, не подымая глаз, — От этих глаз не жди пощады. Иди, сочувствием своим У них не вымогая взгляда. Иди туда, навстречу им — Вот все, что от тебя им надо. 1942ПЕСНЯ О ВЕСЕЛОМ РЕПОРТЕРЕ[1]
Оружием обвешан, Подкравшись по тропе, Неукротим и бешен, Он штурмом взял КП. Был комиссарский ужин Им съеден до конца. Полковник был разбужен И побледнел с лица. Но вышли без задержки Наутро, как всегда, «Известия», и «Правда», И «Красная звезда». О взятии плацдарма, Что только в полдень пал, Он раньше командарма На полчаса узнал. Во избежанье спора Напоен был пилот, У генерал-майора Был угнан самолет. Но вышли без задержки Наутро, как всегда, «Известия», и «Правда», И «Красная звезда». В блокноте есть три факта, Что потрясут весь свет, Но у Бодо контакта Всю ночь с Москвою нет; Он, чтобы в путь неблизкий Отправить этот факт, Всю ночь с телеграфисткой Налаживал контакт. Но вышли без задержки Наутро, как всегда, «Известия», и «Правда», И «Красная звезда». Под Купянском, в июле, В полынь, в степной простор Упал, сраженный пулей, Веселый репортер. Блокнот и «лейку» друга В Москву, давясь от слез, Его товарищ с юга Редактору привез. Но вышли без задержки Наутро, как всегда, «Известия», и «Правда», И «Красная звезда». 1942ФЛЯГА
Когда в последний путь Ты отправляешь друга, Есть в дружбе, не забудь, Посмертная услуга: Оружье рядом с ним Пусть в землю не ложится, Оно еще с другим Успеет подружиться. Но флягу, что с ним дни И ночи коротала, Над ухом ты встряхни, Чтоб влага не пропала, И, коль ударит в дно Зеленый хмель солдатский, — На два глотка вино Ты раздели по-братски. Один глоток отпей, В земле чтоб мертвым спалось И дольше чтоб по ней Живым ходить осталось. Оставь глоток второй И, прах предав покою, С ним флягу ты зарой, Была чтоб под рукою. Чтоб в день победы смог Как равный вместе с нами Он выпить свой глоток Холодными губами. 1943КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ
От Москвы до Бреста Нет такого места, Где бы не скитались мы в пыли, С «лейкой» и с блокнотом, А то и с пулеметом Сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, Песню не заваришь, Так давай по маленькой хлебнем! Выпьем за писавших, Выпьем за снимавших, Выпьем за шагавших под огнем. Есть, чтоб выпить, повод — За военный провод, За У-2, за «эмку», за успех… Как пешком шагали, Как плечом толкали, Как мы поспевали раньше всех. От ветров и водки Хрипли наши глотки, Но мы скажем тем, кто упрекнет: — С наше покочуйте, наше поночуйте, С наше повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, Нам танков не давали, Репортер погибнет — не беда. Но на «эмке» драной И с одним наганом Мы первыми въезжали в города. Помянуть нам впору Мертвых репортеров. Стал могилой Киев им и Крым. Хоть они порою Были и герои, Не поставят памятника им. Так выпьем за победу, За свою газету, А не доживем, мой дорогой, Кто-нибудь услышит, Снимет и напишет, Кто-нибудь помянет нас с тобой. Припев: Жив ты или помер — Главное, чтоб в номер Материал успел ты передать. И чтоб, между прочим, Был фитиль всем прочим, А на остальное — наплевать! 1943СКАЗКА О ГОРОДЕ ПРОПОЙСКЕ
Когда от войны мы устанем, От грома, от пушек, от войск, С друзьями мы денег достанем И выедем в город Пропойск. Должно быть, название это Недаром Пропойску дано, Должно быть, и зиму, и лето Там пьют беспробудно вино. Должно быть, в Пропойске по-русски Грешит до конца человек, И пьет, как в раю, — без закуски, Под дождик, под ветер, под снег. Мы будем — ни слуху ни духу — Там жить, пока нас не найдут. Когда же по винному духу Нас жены отыщут и тут, — Под нежным влиянием женским Мы все до конца там допьем, И город Пропойск — Протрезвенском, На радость всех жен, назовем. Домой увозимые ими, Над городом милым взлетим И новое трезвое имя, Качаясь, начертим над ним. Но буквы небесные тленны, А змий-искуситель — силен! Надеюсь, опять постепенно Пропойском окрестится он. Такое уж русское горе: Как водка на память придет, Так даже Каспийское море Нет-нет и селедкой пахнет. 1943СТАРАЯ СОЛДАТСКАЯ
Как служил солдат Службу ратную, Службу ратную, Службу трудную. Двадцать лет служил, Да еще пять лет, — Генерал-аншеф Ему отпуск дал. Как пришел солдат Во родимый дом, Вся-то грудь в крестах, Сам седой как лунь, На крыльце стоит Молода жена — Двадцати годов Словно не было. Ни морщинки нет На щеках ее, Ни сединки нет В косах девичьих, Посмотрел солдат На жену свою, И сказал солдат Слово горькое: — Видно, ты, жена, Хорошо жила, Хорошо жила, Не состарилась! — Как в ответ с крыльца Говорит она, Говорит она, Сама плачет вся: — Не жена твоя Я законная, А я дочь твоя, Дочь сиротская. А жена твоя Пятый год лежит Во сырой земле Под березонькой. Как вошел в избу, Сел за стол солдат, Зелена вина Приказал подать. Пьет всю ночь солдат. По седым усам То ль вино течет, То ли слезоньки. 1943ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД
Когда ты входишь в город свой И женщины тебя встречают, Над побелевшей головой Детей высоко поднимают; Пусть даже ты героем был, Но не гордись — ты в день вступленья Не благодарность заслужил От них, а только лишь прощенье. Ты только отдал страшный долг, Который сделал в ту годину, Когда твой отступивший полк Их на год отдал на чужбину. 1943СЛЕПЕЦ
На видевшей виды гармони, Перебирая хриплый строй, Слепец играл в чужом вагоне «Вдоль по дороге столбовой». Ослепнувший под Молодечно Еще на той, на той войне, Из лазарета он, увечный, Пошел, зажмурясь, по стране. Сама Россия положила Гармонь с ним рядом в забытьи И во владенье подарила Дороги длинные свои. Он шел, к увечью привыкая, Струились слезы по лицу. Вилась дорога столбовая, Навеки данная слепцу. Все люди русские хранили Его, чтоб был он невредим, Его крестьяне подвозили, И бабы плакали над ним. Проводники вагонов жестких Через Сибирь его везли. От слез засохшие полоски Вдоль черных щек его легли. Он слеп, кому какое дело До горестей его чужих? Но вот гармонь его запела, И кто-то первый вдруг затих… И сразу на сердца людские Печаль, сводящая с ума, Легла, как будто вдруг Россия Взяла их за руки сама. И повела под эти звуки Туда, где пепел и зола, Где женщины ломают руки И кто-то бьет в колокола. По деревням и пепелищам, Среди нагнувшихся теней. — Чего вы ищете? — Мы ищем Своих детей, своих детей… По бедным, вымершим равнинам, По желтым волчьим огонькам, По дымным заревам, по длинным Степным бесснежным пустырям, Где со штыком в груди открытой Во чистом поле, у ракит, Рукой родною не обмытый, Сын русской матери лежит. Где, если будет месть на свете, Нам по пути то там, то тут Непохороненные дети Гвоздикой красной прорастут, Где ничего не напророчишь Черней того, что было там… — Стой, гармонист! Чего ты хочешь? Зачем ты ходишь по пятам? Свое израненное тело Уже я нес в огонь атак. Тебе Россия петь велела? Я ей не изменю и так. Скажи ей про меня: не станет Солдат напрасно отдыхать, Как только раны чуть затянет, Пойдет солдат на бой опять. Скажи ей: не ища покоя, Пройдет солдат свой крестный путь. Ну, и сыграй еще такое, Чтоб мог я сердцем отдохнуть… Слепец лады перебирает, Он снова только стар и слеп. И раненый слезу стирает И режет пополам свой хлеб. 1943ТРИ БРАТА
Россия, Родина, тоска… Ты вся в дыму, как поле боя. Разломим хлеб на три куска, Поделимся между собою. Нас трое братьев. Говорят, Как в сказке, мы неодолимы. Старшой, меньшой и средний брат — Втроем идем мы в дом родимый. Идем, не прячась непогод. Идем, не ждя, чтоб даль светала. Мы путники. Уж третий год Нам посохом винтовка стала. Наш дом еще далек, далек… Он там, за боем, там, за дымом, Он там, где тлеет уголек На пепелище нелюдимом. Он там, где, нас уставши ждать, Босая на жнивье колючем Все плачет, плачет, плачет мать, Все машет нам платком горючим. Как снег, был бел ее платок, Но путь наш долог, враг упорен, И стал от пыли тех дорог, Как скорбь, он черен, черен, черен… Нас трое братьев. Кто дойдет? Кто счет сведет долгам и ранам? Один из нас в бою падет, Как сноп, сражен железом бранным. Второй, израненный врагом, Окровавлен, в пути отстанет И битв былых слепым певцом, Быть может, вдохновенно станет. Но невредимым третий брат Придет домой, и дверь откроет, И материнский черный плат В крови врага стократ омоет. 1943У ОГНЯ
Кружится испанская пластинка. Изогнувшись в тонкую дугу, Женщина под черною косынкой Пляшет на вертящемся кругу. Одержима яростною верой В то, что он когда-нибудь придет, Вечные слова «Vo te quiero»[2] Пляшущая женщина поет. В дымной, промерзающей землянке, Под накатом бревен и земли, Человек в тулупе и ушанке Говорит, чтоб снова завели. У огня, где жарятся консервы, Греет свои раны он сейчас, Под Мадридом продырявлен в первый И под Сталинградом — в пятый раз. Он глаза устало закрывает, Он да песня — больше никого… Он тоскует? Может быть. Кто знает? Кто спросить посмеет у него? Проволоку молча прогрызая, По снегу ползут его полки. Южная пластинка, замерзая, Делает последние круги. Светит догорающая лампа, Выстрелы да снега синева… На одной из улочек Дель-Кампо Если ты сейчас еще жива, Если бы неведомою силой Вдруг тебя в землянку залучить, Где он, тот голубоглазый, милый, Тот, кого любила ты, спросить? Ты, подняв опущенные веки, Не узнала б прежнего, того, В грузном поседевшем человеке, В новом, грозном имени его. Что ж, пора. Поправив автоматы, Встанут все. Но, подойдя к дверям, Вдруг он вспомнит и мигнет солдату: — Ну-ка, заведи вдогонку нам. Тонкий луч за ним блеснет из двери, И метель их сразу обовьет. Но, как прежде, радуясь и веря, Женщина вослед им запоет. Потеряв в снегах его из виду, Пусть она поет еще и ждет: Генерал упрям, он до Мадрида Все равно когда-нибудь дойдет. 1943ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Женщине из г. Вичуга
Я вас обязан известить, Что не дошло до адресата Письмо, что в ящик опустить Не постыдились вы когда-то. Ваш муж не получил письма, Он не был ранен словом пошлым, Не вздрогнул, не сошел с ума, Не проклял все, что было в прошлом. Когда он поднимал бойцов В атаку у руин вокзала, Тупая грубость ваших слов Его, по счастью, не терзала. Когда шагал он тяжело, Стянув кровавой тряпкой рану, Письмо от вас еще все шло, Еще, по счастью, было рано. Когда на камни он упал И смерть оборвала дыханье, Он все еще не получал, По счастью, вашего посланья. Могу вам сообщить о том, Что, завернувши в плащ-палатки, Мы ночью в сквере городском Его зарыли после схватки. Стоит звезда из жести там И рядом тополь — для приметы… А впрочем, я забыл, что вам, Наверно, безразлично это. Письмо нам утром принесли… Его, за смертью адресата, Между собой мы вслух прочли — Уж вы простите нам, солдатам. Быть может, память коротка У вас. По общему желанью, От имени всего полка Я вам напомню содержанье. Вы написали, что уж год, Как вы знакомы с новым мужем, А старый, если и придет, Вам будет все равно не нужен. Что вы не знаете беды, Живете хорошо. И кстати, Теперь вам никакой нужды Нет в лейтенантском аттестате. Чтоб писем он от вас не ждал И вас не утруждал бы снова… Вот именно: «не утруждал»… Вы побольней искали слова. И все. И больше ничего. Мы перечли их терпеливо, Все те слова, что для него В разлуки час в душе нашли вы. «Не утруждай». «Муж». «Аттестат»… Да где ж вы душу потеряли? Ведь он же был солдат, солдат! Ведь мы за вас с ним умирали. Я не хочу судьею быть, Не все разлуку побеждают, Не все способны век любить, — К несчастью, в жизни все бывает. Но как могли вы, не пойму, Стать, не страшась, причиной смерти, Так равнодушно вдруг чуму На фронт отправить нам в конверте? Ну хорошо, пусть не любим, Пускай он больше вам не нужен, Пусть жить вы будете с другим, Бог с ним там, с мужем ли, не с мужем. Но ведь солдат не виноват В том, что он отпуска не знает, Что третий год себя подряд, Вас защищая, утруждает. Что ж, написать вы не смогли Пусть горьких слов, но благородных. В своей душе их не нашли — Так заняли бы где угодно. В отчизне нашей, к счастью, есть Немало женских душ высоких, Они б вам оказали честь — Вам написали б эти строки; Они б за вас слова нашли, Чтоб облегчить тоску чужую. От нас поклон им до земли, Поклон за душу их большую. Не вам, а женщинам другим, От нас отторженным войною, О вас мы написать хотим, Пусть знают — вы тому виною, Что их мужья на фронте, тут, Подчас в душе борясь с собою, С невольною тревогой ждут Из дома писем перед боем. Мы ваше не к добру прочли, Теперь нас втайне горечь мучит: А вдруг не вы одна смогли, Вдруг кто-нибудь еще получит? На суд далеких жен своих Мы вас пошлем. Вы клеветали На них. Вы усомниться в них Нам на минуту повод дали. Пускай поставят вам в вину, Что душу птичью вы скрывали, Что вы за женщину, жену, Себя так долго выдавали. А бывший муж ваш — он убит. Все хорошо. Живите с новым. Уж мертвый вас не оскорбит В письме давно ненужным словом. Живите, не боясь вины, Он не напишет, не ответит И, в город возвратясь с войны, С другим вас под руку не встретит. Лишь за одно еще простить Придется вам его — за то, что, Наверно, с месяц приносить Еще вам будет письма почта. Уж ничего не сделать тут — Письмо медлительнее пули. К вам письма в сентябре придут, А он убит еще в июле. О вас там каждая строка, Вам это, верно, неприятно — Так я от имени полка Беру его слова обратно. Примите же в конце от нас Презренье наше на прощанье. Не уважающие вас Покойного однополчане. По поручению офицеров полка К. Симонов 1943ЖЕНЫ
Последний кончился огарок, И по невидимой черте Три красных точки трех цигарок Безмолвно бродят в темноте. О чем наш разговор солдатский? О том, что нынче Новый год, А света нет, и холод адский, И снег, как каторжный, метет. Один сказал: — Моя сегодня Полы помоет, как при мне. Потом детей, чтоб быть свободней, Уложит. Сядет в тишине. Ей сорок лет — мы с ней погодки. Всплакнет ли, просто ли вздохнет. Но уж, наверно, рюмкой водки Меня по-русски помянет… Второй сказал: — Уж год с лихвою С моей война нас развела. Я, с молодой простясь женою, Взял клятву, чтоб верна была. Я клятве верю, — коль не верить, Как проживешь в таком аду? Наверно, все глядит на двери, Все ждет сегодня — вдруг приду… А третий лишь вздохнул устало: Он думал о своей — о той, Что с лета прошлого молчала За черной фронтовой чертой… И двое с ним заговорили, Чтоб не грустил он, про войну, Куда их жены отпустили, Чтобы спасти его жену. 1943ДОМ В ВЯЗЬМЕ
Я помню в Вязьме старый дом. Одну лишь ночь мы жили в нем. Мы ели то, что бог послал, И пили, что шофер достал. Мы уезжали в бой чуть свет. Кто был в ту ночь, иных уж нет. Но знаю я, что в смертный час За тем столом он вспомнил нас. В ту ночь, готовясь умирать, Навек забыли мы, как лгать, Как изменять, как быть скупым, Как над добром дрожать своим. Хлеб пополам, кров пополам — Так жизнь в ту ночь открылась нам. Я помню в Вязьме старый дом. В день мира прах его с трудом Найдем средь выжженных печей И обгорелых кирпичей, Но мы складчину соберем И вновь построим этот дом, С такой же печкой и столом И накрест клеенным стеклом. Чтоб было в доме все точь-в-точь, Как в ту нам памятную ночь. И если кто-нибудь из нас Рубашку другу не отдаст, Хлеб не поделит пополам, Солжет, или изменит нам, Иль, находясь в чинах больших, Друзей забудет фронтовых, — Мы суд солдатский соберем И в этот дом его сошлем. Пусть посидит один в дому, Как будто утром в бой ему, Как будто, если лжет сейчас, Он, может, лжет в последний раз, Как будто хлеба не дает Тому, кто к вечеру умрет, И палец подает тому, Кто завтра жизнь спасет ему. Пусть вместо нас лишь горький стыд Ночь за столом с ним просидит. Мы, встретясь, по его глазам Прочтем: он был иль не был там. Коль не был, — значит, неспроста, Коль не был — совесть нечиста. Но если был, мы ничего Не спросим больше у него. Он вновь по гроб нам будет мил, Пусть честно скажет: — Я там был. 1943НОЧНОЙ ПОЛЕТ
Мы летели над Словенией, Через фронт, наперекрест, Над ночным передвижением Немцев, шедших на Триест. Словно в доме перевернутом, Так, что окна под тобой, В люке, инеем подернутом, Горы шли внизу гурьбой. Я лежал на дне под буркою, Словно в животе кита, Слыша, как за переборкою Леденеет высота. Ночь была почти стеклянная, Только выхлопов огонь, Только трубка деревянная Согревала мне ладонь. Ровно сорок на термометре. Ртути вытянулась нить. Где-то на шестом километре Ни курить, ни говорить. Тянет спать, как под сугробами, И сквозь сон нельзя дышать. Словно воздух весь испробован И другого негде взять. Хорошо, наверно, летчикам; Там, в кабине, кислород — Ясно слышу, как клокочет он, Как по трубкам он течет. Чувствую по губ движению, Как хочу их умолять, Чтоб и мне, хоть на мгновение, Дали трубку — подышать. Чуть не при смерти влетаю я, Сбив растаявшую слезу, Прямо в море, в огни Италии, Нарастающие внизу. ………………………………………… А утром просто пили чай С домашнею черешнею, И кто-то бросил невзначай Два слова про вчерашнее. Чтобы не думать до зари, Вчера решили с вечера: Приборов в самолете три, А нас в полете четверо; Стакнулся с штурманом пилот До вылета, заранее, И кислород не брали в рот Со мною за компанию. Смеялся летный весь состав Над этим приключением, Ему по-русски не придав Особого значения. Сидели дачною семьей, Московскими знакомыми, Пилот, радист и штурман мой Под ветками с лимонами. Пусть нам сопутствует в боях И в странствиях рискованных Богатство лишь в одном — в друзьях, Вперед не приготовленных, Таких, чтоб верность под огнем И выручка соседская, Таких, чтоб там, где вы втроем, Четвертой — Власть Советская. Таких, чтоб нежность — между дел, И дружба не болтливая, Таких, с какими там сидел На берегу залива я. Далеко мир. Далеко дом, И Черное, и Балтика… Лениво плещет за окном Чужая Адриатика. 1944ВСТРЕЧА НА ЧУЖБИНЕ
Фронтовой бригаде Театра имени Ленинскою комсомола
Пускай в Москве иной ворчлив и сух, Другого осуждают справедливо За то, что он бранил кого-то вслух, Кого-то выслушал нетерпеливо; А третий так делами осажден, Что прячется годами от знакомых, И старый лгун охрипший телефон, Как попугай, твердит все: «Нету дома». Да ты и сам, на чей-то строгий взгляд, Уж слишком тороплив и озабочен, А главное, как люди говорят, Когда-то лучше был, — как все мы, впрочем! Но вдруг в чужой земле, куда войной Забросило тебя, как в преисподню, Вдруг скажет кто-то, встретившись с тобой, О москвичах, приехавших сегодня. Ты с ними был в Москве едва знаком — Кивок, два-три случайных разговора, — Но здесь, не будь машины, хоть пешком… — Где, где они? — И, разбудив шофера, Ты оглашаешь ночь сплошным гудком, Ты гонишь в дождь свой прыгающий «виллис» В немецкий город, в незнакомый дом, Где, кажется, они остановились. Ты долго светишь фарой на дома, Чужую тарабарщину читаешь. Прохожих нет, и, хоть сойди с ума, Где этот дом, ты сам не понимаешь. Костел, особняки, еще костел, Пустых домов визжащие ворота. Но вот ты наконец нашел, нашел, Тебя по-русски окликает кто-то. И открывают дверь и узнают, Как, может быть, в Москве бы не узнали. — Ну как вы тут? — А вы, давно вы тут? А мы как раз сегодня вспоминали… Тот сумасшедший русский разговор С радушьем, шумом, добрыми словами. Как странно, что в Москве мы до сих пор, Я и они, мы не были друзьями. А женщины уж в кухне жгут костер. — Нет, с нами ужинать, а то еще уедем! — И пожилой, с одышкою, актер Бегом бежит за водкою к соседям. Кого-то будят, чтоб и он пришел. Да чтоб с гитарой. — Будем петь. Хотите? — Как не хотеть! — Ну, а пока за стол, За стол, за стол скорее проходите! И мы сидим у сдвинутых столов, И тесно нам, и водка в чашках чайных, И я ищу каких-то новых слов, Каких-то слов совсем необычайных, Чтоб им сказать, что я не тот, не тот, Каким они меня в Москве видали, Что я — другой. И кто из нас поймет, Как раньше мы друг друга не узнали! Еще кого-то будят и зовут. — Пусть все придут, мы можем потесниться. Мы всех усадим, потому что тут — Россия, а за дверью — заграница. Приходит женщина, совсем со сна, На босу ногу туфли — и с гитарой. И вот уже поет, поет она, Начав с какой-то песни, самой старой. Про дом, про степь, про снег, про ямщика. Она щемит и сердце рвет на части. Но это ж наша, русская, тоска, А на чужбине и она — как счастье. Лишь домом бы пахнуло, лишь бы речь Дохнула русской акающей лаской. Скажи, ты будешь эту ночь беречь, Как матерью рассказанную сказку? Скажи, скажи, ты не забудешь их, С кем ночь тебя свела своею волей, Совсем родных тебе, совсем чужих И наших, наших аж до слез, до боли? Ты ведь не будешь там, в Москве, опять Забывчивым, ты сердца не остудишь? Нет, обещай! Ты должен обещать! Скажи, не будешь? Ну, скажи, не будешь? Как знать? В Москве, быть может, через год Друг друга встретим мы кивком, как прежде? Скорей всего, что так, что он кивнет И ты кивнешь. И вот конец надежде. А все-таки сквозь старость и метель Мелькнут в душе неясные картины: Гитара, ночь и русская артель Средь ледяного холода чужбины. 1945, Германия«Не той, что из сказок, не той, что с пеленок…»
Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, Не той, что была по учебникам пройдена, А той, что пылала в глазах воспаленных, А той, что рыдала, — запомнил я Родину. И вижу ее, накануне победы, Не каменной, бронзовой, славой увенчанной, А очи проплакавшей, идя сквозь беды, Все снесшей, все вынесшей русскою, женщиной. 1945СЫНОВЬЯМ
В разлуке были. Смерть видали. Привыкли к скрипу костылей. Свой дом своей рукой сжигали. В последний путь несли друзей. Того, кем путь наш честно прожит, Согнуть труднее, чем сломать. Чем, в самом деле, жизнь нас может, Нас, все видавших, испугать? И если нет других путей, Мы сами вновь пойдем в сраженья, Но наших судеб повторенья Не будет в судьбах сыновей! 1945С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ (1941–1954){4}
«Плюшевые волки…»
Плюшевые волки, Зайцы, погремушки. Детям дарят с елки Детские игрушки. И, состарясь, дети До смерти без толку Все на белом свете Ищут эту елку. Где жар-птица в клетке, Золотые слитки, Где висит на ветке Счастье их на нитке. Только Дед-Мороза Нету на макушке, Чтоб в ответ на слезы Сверху снял игрушки. Желтые иголки На пол опадают… Все я жду, что с елки Мне тебя подарят. 1941, май«Я много жил в гостиницах…»
Я много жил в гостиницах, Слезал на дальних станциях, Что впереди раскинется — Все позади останется. Я не скучал в провинции, Довольный переменами, Все мелкие провинности Не называл изменами. Искал хотя б прохожую, Далекую, неверную, Хоть на тебя похожую… Такой и нет, наверное, Такой, что вдруг приснится мне; То серые, то синие Глаза твои с ресницами В ноябрьском первом инее. Лицо твое усталое, Несхожее с портретами, С мороза губы талые, От снега мной согретые, И твой лениво брошенный Взгляд, означавший искони: Не я тобою прошенный, Не я тобою исканный, Я только так, обласканный, За то, что в ночь с порошею, За то, что в холод сказкою Согрел тебя хорошею. И веришь ли, что странною Мечтой себя тревожу я: И ты не та, желанная, А только так, похожая. 1941, май«Когда со мной страданьем…»
Когда со мной страданьем Поделятся друзья, Их лишним состраданьем Не обижаю я. Я их лечу разлукой И переменой мест, Лечу дорожной скукой И сватовством невест. Учу, как чай в жестянке Запаривать в пути, Как вдруг на полустанке Красавицу найти, Чтоб не скучать по году О той, что всех милей, Как разложить колоду Из дам и королей, И назло той, упрямой, Наоборот, не в масть, Найдя в колоде даму, У короля украсть. Но всю свою науку Я б продал за совет, Как самому мне руку Не дать тебе в ответ, Без губ твоих, без взгляда Как выжить мне полдня, Пока хоть раз пощады Запросишь у меня. 1941, май«Тринадцать лет. Кино в Рязани…»
Тринадцать лет. Кино в Рязани, Тапер с жестокою душой, И на заштопанном экране Страданья женщины чужой; Погоня в Западной пустыне, Калифорнийская гроза, И погибавшей героини Невероятные глаза. Но в детстве можно все на свете, И за двугривенный в кино Я мог, как могут только дети, Из зала прыгнуть в полотно. Убить врага из пистолета, Догнать, спасти, прижать к груди. И счастье было рядом где-то, Там, за экраном, впереди. Когда теперь я в темном зале Увижу вдруг твои глаза, В которых тайные печали Не выдаст женская слеза, Как я хочу придумать средство, Чтоб счастье было впереди, Чтоб хоть на час вернуться в детство, Догнать, спасти, прижать к груди… 1941, май«Если родилась красивой…»
Пускай она поплачет. Ей ничего не значит. Лермонтов Если родилась красивой, Значит, будешь век счастливой. Бедная моя, судьбою горькой, Горем, смертью — никакою силой Не поспоришь с глупой поговоркой, Сколько б ни молила, ни просила! Все, что сердцем взято будет, Красоте твоей присудят. Будешь нежной, верной, терпеливой, В сердце все равно тебе откажут — Скажут: нету сердца у счастливой, У красивой нету сердца, — скажут. Что любима ты, услышат — Красоте опять припишут. Выйдешь замуж — по расчету, значит: Полюбить красивая не может. Все добро на зло переиначат И тебе на плечи переложат. Если будешь гордой мужем — Скажут: потому что нужен. Как других, с ним разлучит могила — Всем простят, тебя возьмут в немилость. Позабудешь — скажут: не любила, Не забудешь — скажут: притворилась. Скажут: пусть она поплачет, Ей ведь ничего не значит. Если напоказ им не рыдала, Даже не заметят, как страдала, Как тебя недетские печали На холодной площади встречали. Как бы горе ни ломало, Ей, красивой, горя мало. Нет, я не сержусь, когда, не веря Даже мне, ты вдруг глядишь пытливо. Верить только горю да потерям Выпало красивой и счастливой. Если б наперед все знала, В детстве бы дурнушкой стала. Может, снова к счастью добредешь ты, Может, снова будет смерть и горе, Может, и меня переживешь ты, Поговорки злой не переспоря: Если родилась красивой, Значит, будешь век счастливой… 1941, май«Я очень тоскую…»
Я очень тоскую, Я б выискать рад Другую такую, Чем ехать назад. Но где же мне руки Такие же взять, Чтоб так же в разлуке Без них тосковать? Где с тою же злостью Найти мне глаза, Чтоб редкою гостьей Была в них слеза? Чтоб так же смеялся И пел ее рот, Чтоб век я боялся, Что вновь не придет. Где взять мне такую, Чтоб все ей простить, Чтоб жить с ней, рискуя Недолго прожить? Чтоб с каждым рассветом, Вставая без сна, Таким же отпетым Бывать, как она. Чтоб, встретясь с ней взглядом В бессонной тиши, Любить в ней две рядом Живущих души. Не знать, что стрясется С утра дотемна, Какой обернется Душою она. Я, с нею измучась, Не зная, как жить, Хотел свою участь С другой облегчить. Но чтобы другою Ее заменить, Вновь точно такою Должна она быть; А злой и бесценной, Проклятой, — такой Нет в целой вселенной Второй под рукой. 1941«Я, верно, был упрямей всех…»
Я, верно, был упрямей всех, Не слушал клеветы И не считал по пальцам тех, Кто звал тебя на «ты». Я, верно, был честней других, Моложе, может быть, Я не хотел грехов твоих Прощать или судить. Я девочкой тебя не звал, Не рвал с тобой цветы, В твоих глазах я не искал Девичьей чистоты. Я не жалел, что ты во сне Годами не ждала, Что ты не девочкой ко мне, А женщиной пришла. Я знал, честней бесстыдных слов, Лукавых слов честней Нас приютивший на ночь кров, Прямой язык страстей. И если будет суждено Тебя мне удержать, Не потому, что не дано Тебе других узнать. Не потому, что я — пока, А лучше — не нашлось, Не потому, что ты робка, И так уж повелось… Нет, если будет суждено Тебя мне удержать, Тебя не буду все равно Я девочкою звать. И встречусь я в твоих глазах Не с голубой, пустой, А с женской, в горе и страстях Рожденной чистотой. Не с чистотой закрытых глаз, Неведеньем детей, А с чистотою женских ласк, Бессонницей ночей… Будь хоть бедой в моей судьбе, Но кто б нас ни судил, Я сам пожизненно к тебе Себя приговорил. 1941, июнь«Ты говорила мне «люблю»…»
Ты говорила мне «люблю», Но это по ночам, сквозь зубы. А утром горькое «терплю» Едва удерживали губы. Я верил по ночам губам, Рукам лукавым и горячим, Но я не верил по ночам Твоим ночным словам незрячим. Я знал тебя, ты не лгала, Ты полюбить меня хотела, Ты только ночью лгать могла, Когда душою правит тело. По утром, в трезвый час, когда Душа опять сильна, как прежде, Ты хоть бы раз сказала «да» Мне, ожидавшему в надежде. И вдруг война, отъезд, перрон, Где и обняться-то нет места, И дачный клязьминский вагон, В котором ехать мне до Бреста. Вдруг вечер без надежд на ночь, На счастье, на тепло постели. Как крик: ничем нельзя помочь! — Вкус поцелуя на шинели. Чтоб с теми, в темноте, в хмелю, Не спутал с прежними словами, Ты вдруг сказала мне «люблю» Почти спокойными губами. Такой я раньше не видал Тебя, до этих слов разлуки: Люблю, люблю… ночной вокзал, Холодные от горя руки. 1941«Жди меня, и я вернусь…»
В. С.
Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино На помин души… Жди. И с ними заодно Выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: — Повезло. — Не понять не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой, — Просто ты умела ждать, Как никто другой. 1941«Майор привез мальчишку на лафете…»
Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать. Сын не простился с ней. За десять лет на том и этом свете Ему зачтутся эти десять дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был исцарапан пулями лафет. Отцу казалось, что надежней места Отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен, и разбита пушка. Привязанный к щиту, чтоб не упал, Прижав к груди заснувшую игрушку, Седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой… Ты говоришь, что есть еще другие, Что я там был и мне пора домой… Ты это горе знаешь понаслышке, А нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, Домой прийти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, Которыми я плакал там, в пыли, Как тот мальчишка возвратится с нами И поцелует горсть своей земли. За все, чем мы с тобою дорожили, Призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, А там, где отнят у мальчишки он. 1941«Я не помню, сутки или десять…»
Я не помню, сутки или десять Мы не спим, теряя счет ночам. Вы в похожей на Мадрид Одессе Пожелайте счастья москвичам. Днем, по капле нацедив во фляжки, Сотый раз переходя в штыки, Разодрав кровавые тельняшки, Молча умирают моряки. Ночью бьют орудья корпусные… Снова мимо. Значит, в добрый час. Значит, вы и в эту ночь в России — Что вам стоит — вспомнили о нас. Может, врут приметы, кто их знает! Но в Одессе, люди говорят: Тех, кого в России вспоминают, Пуля трижды бережет подряд. Третий раз нам всем еще не вышел, Мы под крышей примостились спать. Не тревожьтесь — ниже или выше, Здесь ведь все равно не угадать. Мы сегодня выпили, как дома, Коньяку московский мой запас; Здесь ребята с вами незнакомы, Но с охотой выпили за вас. Выпили за свадьбы золотые, Может, еще будут чудеса… Выпили за ваши голубые, Дай мне бог увидеть их, глаза. Помню, что они у вас другие, Но ведь у солдат во все века, Что глаза у женщин — голубые, Принято считать издалека. Мы вас просим, я и остальные, — Лучше, чем напрасная слеза, — Выпейте вы тоже за стальные Наши, смерть видавшие, глаза. Может быть, они у нас другие, Но ведь у невест во все века, Что глаза у всех солдат — стальные, Принято считать издалека. Мы не все вернемся, так и знайте, Но ребята просят — в черный час Заодно со мной их вспоминайте, Даром, что ли, пьют они за вас! 1941«Над черным носом нашей субмарины…»
Над черным носом нашей субмарины Взошла Венера — странная звезда, От женских ласк отвыкшие мужчины, Как женщину, мы ждем ее сюда. Она, как ты, восходит все позднее, И, нарушая бег небесных тел, Другие звезды всходят рядом с нею, Гораздо ближе, чем бы я хотел. Они горят трусливо и бесстыже. Я никогда не буду в их числе, Пускай они к тебе на небе ближе, Чем я, тобой забытый на земле. Я не прощусь с опасностью земною, Чтоб в мирном небе зябнуть, как они, Стань лучше ты падучею звездою, Ко мне на землю руки протяни. На небе любят женщину от скуки И отпускают с миром, не скорбя… Ты упадешь ко мне в земные руки. Я не звезда. Я удержу тебя. 1941«Если бог нас своим могуществом…»
Если бог нас своим могуществом После смерти отправит в рай, Что мне делать с земным имуществом, Если скажет он: выбирай? Мне не надо в раю тоскующей, Чтоб покорно за мною шла, Я бы взял с собой в рай такую же, Что на грешной земле жила, — Злую, ветреную, колючую, Хоть ненадолго, да мою! Ту, что нас на земле помучила И не даст нам скучать в раю. В рай, наверно, таких отчаянных Мало кто приведет с собой, Будут праведники нечаянно Там подглядывать за тобой. Взял бы в рай с собой расстояния, Чтобы мучиться от разлук, Чтобы помнить при расставании Боль сведенных на шее рук. Взял бы в рай с собой все опасности, Чтоб вернее меня ждала. Чтобы глаз своих синей ясности Дома трусу не отдала. Взял бы в рай с собой друга верного, Чтобы было с ком пировать, И врага, чтоб в минуту скверную По-земному с ним враждовать. Ни любви, ни тоски, ни жалости, Даже курского соловья, Никакой, самой малой малости На земле бы не бросил я. Даже смерть, если б было мыслимо, Я б на землю не отпустил, Все, что к нам на земле причислено, В рай с собою бы захватил. И за эти земные корысти, Удивленно меня кляня, Я уверен, что бог бы вскорости Вновь на землю столкнул меня. 1941«Не сердитесь — к лучшему…»
Не сердитесь — к лучшему, Что, себя не мучая, Вам пишу от случая До другого случая. Письма пишут разные: Слезные, болезные, Иногда прекрасные, Чаще — бесполезные. В письмах все не скажется И не все услышится, В письмах все нам кажется, Что не так напишется. Коль вернусь — так суженых Некогда отчитывать, А убьют — так хуже нет Письма перечитывать. Чтобы вам не бедствовать, Не возить их тачкою, Будут путешествовать С вами тонкой пачкою. А замужней станете, Обо мне заплачете — Их легко достанете И легко припрячете. От него, ревнивого, Затворившись в комнате, Вы меня, ленивого, Добрым словом вспомните. Скажете, что к лучшему, Память вам не мучая, Он писал от случая До другого случая. 1941«В домотканом, деревянном городке…»
В домотканом, деревянном городке, Где гармоникой по улицам мостки, Где мы с летчиком, сойдясь накоротке, Пили спирт от непогоды и тоски; Где, как черный хвост кошачий, не к добру, Прямо в небо дым из печи над грубой, Где всю ночь скрипучий флюгер на ветру С петушиным криком крутит домовой; Где с утра ветра, а к вечеру дожди, Где и солнца-то не видно из-за туч, Где, куда ты ни поедешь, так и жди — На распутье встретишь камень бел-горюч, — В этом городе пять дней я тосковал. Как с тобой, хотел — не мог расстаться с ним, В этом городе тебя я вспоминал Очень редко добрым словом, чаще — злым, Этот город весь как твой большой портрет, С суеверьем, с несчастливой ворожбой, С переменчивой погодою чуть свет, По ночам, как ты, с короной золотой. Как тебя, его не видеть бы совсем, А увидев, прочь уехать бы скорей, Он, как ты, вчера не дорог был ничем, Как тебя, сегодня нет его милей. Этот город мне помог тебя понять, С переменчивою северной душой, С редкой прихотью неласково сиять Зимним солнцем над моею головой. Заметает деревянные дома, Спят солдаты, снег валит через порог… Где ты плачешь, где поешь, моя зима? Кто опять тебе забыть меня помог? 1941«Я помню двух девочек, город ночной…»
Я помню двух девочек, город ночной… В ту зиму вы поздно спектакли кончали. Две девочки ждали в подъезде со мной, Чтоб вы, проходя, им два слова сказали. Да, я провожал вас. И все-таки к ним, Пожалуй, щедрей, чем ко мне, вы бывали. Двух слов они ждали. А я б и одним Был счастлив, когда б мне его вы сказали, Я помню двух девочек: странно сейчас Вдруг вспомнить две снежных фигурки у входа. Подъезд театральный надолго погас. Вам там не играть в зиму этого года. Я очень далеко. Но, может, они Вас в дальнем пути без меня провожают И с кем-то другим в эти зимние дни. Совсем как со мной, у подъезда скучают. Я помню двух девочек. Может, живым Я снова пройду вдоль заснеженных улиц И, девочек встретив, поверю по ним, Что в старый наш город вы тоже вернулись: Боюсь, что мне незачем станет вас ждать, Но будет все снежная, та же погода, И девочки будут стоять и стоять, Как вечные спутницы ваши, у входа… 1941«На час запомнив имена…»
На час запомнив имена, — Здесь память долгой не бывает, — Мужчины говорят: «Война…» — И наспех женщин обнимают. Спасибо той, что так легко, Не требуя, чтоб звали милой, Другую, ту, что далеко, Им торопливо заменила. Она возлюбленных чужих Здесь пожалела, как умела, В недобрый час согрела их Теплом неласкового тела. А им, которым в бой пора И до любви дожить едва ли, Все легче помнить, что вчера Хоть чьи-то руки обнимали. Я не сужу их, так и знай. На час, позволенный войною, Необходим нехитрый рай Для тех, кто послабей душою. Пусть будет все не так, не то, Но вспомнить в час последней муки Пускай чужие, но зато Вчерашние глаза и руки. В другое время, может быть, И я бы прожил час с чужою, Но в эти дни не изменить Тебе ни телом, ни душою. Как раз от горя, оттого Что вряд ли вновь тебя увижу, В разлуке сердца своего Я слабодушьем не унижу. Случайной лаской не согрет, До смерти не простясь с тобою, Я милых губ печальный след Навек оставлю за собою. 1941«Мне хочется назвать тебя женой…»
Мне хочется назвать тебя женой За то, что так другие не назвали, Что в старый дом мой, сломанный войной, Ты снова гостьей явишься едва ли. За то, что я желал тебе и зла, За то, что редко ты меня жалела, За то, что, просьб не ждя моих, пришла Ко мне в ту ночь, когда сама хотела. Мне хочется назвать тебя женой Не для того, чтоб всем сказать об этом, Не потому, что ты давно со мной, По всем досужим сплетням и приметам. Твоей я не тщеславлюсь красотой, Ни громким именем, что ты носила, С меня довольно нежной, тайной, той, Что в дом ко мне неслышно приходила. Сравнятся в славе смертью имена, И красота, как станция, минует, И, постарев, владелица одна Себя к своим портретам приревнует. Мне хочется назвать тебя женой За то, что бесконечны дни разлуки, Что слишком многим, кто сейчас со мной, Должны глаза закрыть чужие руки. За то, что ты правдивою была, Любить мне не давала обещанья И в первый раз, что любишь, — солгала В последний час солдатского прощанья. Кем стала ты? Моей или чужой? Отсюда сердцем мне не дотянуться Прости, что я зову тебя женой По праву тех, кто может не вернуться. 1941«Я пил за тебя под Одессой в землянке…»
Я пил за тебя под Одессой в землянке, В Констанце под черной румынской водой, Под Вязьмой на синем ночном полустанке, В Мурманске под белой Полярной звездой. Едва ль ты узнаешь, моя недотрога, Живые и мертвые их имена, Всех добрых ребят, с кем меня на дорогах Короткою дружбой сводила война. Подводник, с которым я плавал на лодке, Разведчик, с которым я к финнам ходил, Со мной вспоминали за рюмкою водки О той, что товарищ их нежно любил. Загадывать на год война нам мешала, И даже за ту, что, как жизнь, мне мила, Сегодня я пил, чтоб сегодня скучала, А завтра мы выпьем, чтоб завтра ждала. И кто-нибудь, вспомнив чужую, другую, Вздохнув, мою рюмку посмотрит на свет И снова нальет мне: — Тоскуешь? — Тоскую. — Красивая, верно? — Жаль, карточки нет. Должно быть, сто раз я их видел, не меньше, Мужская привычка — в тоскливые дни Показывать смятые карточки женщин, Как будто и правда нас помнят они. Чтоб всех их любить, они стоят едва ли, Но что с ними делать, раз трудно забыть! Хорошие люди о них вспоминали, И, значит, дай бог им до встречи дожить. Стараясь разлуку прожить без оглядки, Как часто, не веря далекой своей, Другим говорил я: «Все будет в порядке, Она тебя ждет, не печалься о ней». Нам легче поверить всегда за другого, Как часто, успев его сердце узнать, Я верил: такого, как этот, такого Не смеет она ни забыть, ни продать. Как знать, может, с этим же чувством знакомы Все те, с кем мы рядом со смертью прошли, Решив, что и ты не изменишь такому, Без спроса на верность тебя обрекли. 1941«Я, перебрав весь год, не вижу…»
Я, перебрав весь год, не вижу Того счастливого числа, Когда всего верней и ближе Со мной ты связана была. Я помню зал для репетиций И свет, зажженный как на грех, И шепот твой, что не годится Так делать на виду у всех. Твой звездный плащ из старой драмы И хлыст наездницы в руках, И твой побег со сцепы прямо Ко мне на легких каблуках. Нот, не тогда. Так, может, летом, Когда, на сутки отпуск взяв, Я был у ног твоих с рассветом, Машину за ночь докопав. Какой была ты сонной-сонной, Вскочив с кровати босиком, К моей шинели пропыленной Как прижималась ты лицом! Как бились жилки голубые На шее под моей рукой! В то утро, может быть, впервые Ты показалась мне женой. И все же не тогда, я знаю, Ты самой близкой мне была. Теперь я вспомнил: ночь глухая, Обледенелая скала… Майор, проверив по карманам, В тыл приказал бумаг не брать; Когда придется, безымянным Разведчик должен умирать. Мы к полночи дошли и ждали, По грудь зарытые в снегу. Огни далекие бежали На том, на русском, берегу… Теперь я сознаюсь в обмане: Готовясь умереть в бою, Я все-таки с собой в кармане Нес фотографию твою. Она под северным сияньем В ту ночь казалась голубой, Казалось, вот сейчас мы встанем И об руку пойдем с тобой. Казалось, в том же платье белом, Как в летний день снята была, Ты по камням оледенелым Со мной невидимо прошла. За смелость не прося прощенья, Клянусь, что, если доживу, Ту ночь я ночью обрученья С тобою вместе назову. 1941ХОЗЯЙКА ДОМА
Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой, К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча, Как в дни войны, придут слуга покорный твой И все его друзья, кто будет жив к той ночи. Хочу, чтоб ты и в эту ночь была Опять той женщиной, вокруг которой Мы изредка сходились у стола Перед окном с бумажной синей шторой. Басы зениток за окном слышны, А радиола старый вальс играет, И все в тебя немножко влюблены, И половина завтра уезжает. Уже шинель в руках, уж третий час, И вдруг опять стихи тебе читают, И одного из бывших в прошлый раз С мужской ворчливой скорбью вспоминают. Нет, я не ревновал в те вечера, Лишь ты могла разгладить их морщины. Так краток вечер, и пора! Пора! — Трубят внизу военные машины. С тобой наш молчаливый уговор — Я выходил, как равный, в непогоду, Пересекал со всеми зимний двор И возвращался после их ухода. И даже пусть догадливы друзья — Так было лучше, это б нам мешало. Ты в эти вечера была ничья. Как ты права — что прав меня лишала! Не мне судить, плоха ли, хороша, Но в эти дни лишений и разлуки В тебе жила та женская душа, Тот нежный голос, те девичьи руки, Которых так недоставало им, Когда они под утро уезжали Под Ржев, под Харьков, под Калугу, в Крым. Им девушки платками не махали, И трубы им не пели, и жена Далеко где-то ничего не знала. А утром неотступная война Их вновь в свои объятья принимала. В последний час перед отъездом ты Для них вдруг становилась всем на свете, Ты и не знала страшной высоты, Куда взлетала ты в минуты эти. Быть может, не любимая совсем, Лишь для меня красавица и чудо, Перед отъездом ты была им тем, За что мужчины примут смерть повсюду, — Сияньем женским, девочкой, женой, Невестой — всем, что уступить не в силах, Мы умираем, заслонив собой Вас, женщин, вас, беспомощных и милых. Знакомый с детства простенький мотив, Улыбка женщины — как много и как мало… Как ты была права, что, проводив, При всех мне только руку пожимала. Но вот наступит мир, и вдруг к тебе домой, К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча, Как в дни войны, придут слуга покорный твой И все его друзья, кто будет жив к той ночи. Они придут еще в шинелях и ремнях И долго будут их снимать в передней — Еще вчера война, еще всего на днях Был ими похоронен тот, последний, О ком ты спросишь — что ж он не пришел? И сразу оборвутся разговоры, И все заметят, как широк им стол, И станут про себя считать приборы. А ты, с тоской перехватив их взгляд, За лишние приборы в оправданье, Шепнешь: «Я думала, что кто-то из ребят Издалека приедет с опозданьем…» Но мы не станем спорить, мы смолчим, Что все, кто жив, пришли, а те, что опоздали, Так далеко уехали, что им На эту землю уж поспеть едва ли. Ну что же, сядем. Сколько нас всего? Два, три, четыре… Стулья ближе сдвинем, За тех, кто опоздал на торжество, С хозяйкой дома первый тост поднимем. Но если опоздать случится мне И ты, меня коря за опозданье, Услышишь вдруг, как кто-то в тишине Шепнет, что бесполезно ожиданье, — Не отменяй с друзьями торжество. Что из того, что я тебе всех ближе, Что из того, что я любил, что из того, Что глаз твоих я больше не увижу? Мы собирались здесь, как равные, потом Вдвоем — ты только мне была дана судьбою, Но здесь, за этим дружеским столом, Мы были все равны перед тобою. Потом ты можешь помнить обо мне, Потом ты можешь плакать, если надо, И, встав к окну в холодной простыне, Просить у одиночества пощады. Но здесь не смей слезами и тоской По мне по одному лишать последней чести Всех тех, кто вместе уезжал со мной И кто со мною не вернулся вместе. Поставь же нам стаканы заодно Со всеми! Мы еще придем нежданно. Пусть кто-нибудь живой нальет вино Нам в наши молчаливые стаканы. Еще вы трезвы. Не пришла пора Нам приходить, но мы уже в дороге, Уж била полночь… Пейте ж до утра! Мы будем ждать рассвета на пороге. Кто лгал, что я на праздник не пришел? Мы здесь уже. Когда все будут пьяны, Бесшумно к вам подсядем мы за стол И сдвинем за живых бесшумные стаканы. 1942«Когда на выжженном плато…»
Когда на выжженном плато Лежал я под стеной огня, Я думал: слава богу, что Ты так далеко от меня, Что ты не слышишь этот гром, Что ты не видишь этот ад, Что где-то в городе другом Есть тихий дом и тихий сад, Что вместо камня — там вода, А вместо грома — кленов тень И что со мною никогда Ты не разделишь этот день. Но стоит встретиться с тобой, — И я хочу, чтоб каждый день, Чтоб каждый час и каждый бой За мной ходила ты, как тень. Чтоб ты со мной делила хлеб, Делила горести до слез. Чтоб слепла ты, когда я слеп, Чтоб мерзла ты, когда я мерз, Чтоб страхом был твоим — мой страх, Чтоб гневом был твоим — мой гнев, Мой голос — на твоих губах Чтоб был, едва с моих слетев, Чтоб не сказали мне друзья, Все разделявшие в судьбе: — Она вдали, а рядом — я, Чт эта женщина тебе? Ведь не она с тобой была В тот день в атаке и пальбе. Ведь не она тебя спасла, — Что эта женщина тебе? Зачем теперь все с ней да с ней, Как будто, в горе и беде Всех заменив тебе друзей, Она с тобой была везде? Чтоб я друзьям ответить мог: — Да, ты не видел, как она Лежала, съежившись в комок, Там, где огонь был как стена. Да, ты забыл, она была Со мной три самых черных дня, Она тебе там помогла, Когда ты вытащил меня. И за спасение мое, Когда я пил с тобой вдвоем, Она — ты не видал ее — Сидела третьей за столом. 1942«Твой голос поймал я в Смоленске…»
Твой голос поймал я в Смоленске, Но мне, как всегда, не везло — Из тысячи слов твоих женских Услышал я только: алло! Рвалась телефонная нитка На слове три раза подряд, Оглохшая телефонистка Устало сказала: «Бомбят». А дальше летели недели, И так получилось само — Когда мы под Оршей сидели, Тебе сочинил я письмо. В нем много написано было, Теперь и не вспомнишь всего. Ты б, верно, меня полюбила, Когда б получила его. В ночи под глухим Могилевом — Уж так получилось само, Иначе не мог я — ну, словом, Пришлось разорвать мне письмо. Всего, что пережито было В ту ночь, ты и знать не могла. А верно б, меня полюбила, Когда бы там рядом была. Но рядом тебя не случилось, И порвано было письмо, И все, что могло быть, — забылось, Уж так получилось само. Нарочно писать ведь не будешь, Раз горький затеялся спор; Меня до сих пор ты не любишь, А я не пишу до сих нор. 1942«Пусть прокляну впоследствии…»
Пусть прокляну впоследствии Твои черты лица, Любовь к тебе — как бедствие, И нет ему конца. Нет друга, нет товарища, Чтоб среди бела дня Из этого пожарища Мог вытащить меня. Отчаявшись в спасении И бредя наяву, Как при землетрясении, Я при тебе живу. Когда ж от наваждения Себя освобожу, В ответ на осуждения Я про тебя скажу: Зачем считать грехи ее? Ведь, не добра, не зла, Не женщиной — стихиею Вблизи она прошла. И, грозный шаг заслыша, я Пошел грозу встречать, Не став, как вы, под крышею Ее пережидать. 1942«Был у меня хороший друг…»
Был у меня хороший друг — Куда уж лучше быть, — Да все, бывало, недосуг Нам с ним поговорить. То уезжает он, то я. Что сделаешь — война… Где настоящие друзья — Там дружба не видна. Такой не станет слезы лить, Что не видал давно, При всех не будет громко пить Он за меня вино. И на пирушке за столом Не расцелует вдруг… Откуда ж знать тебе о нем, Что он мой лучший друг? Что с ним видали мы беду И расквитались с ней, Что с ним бывали мы в аду. А рай — не для друзей. Но встретится в Москве со мной Весь разговор наш с ним: — Еще живой? — Пока живой. — Когда же посидим? Опять не можешь, сукин сын, Совсем забыл друзей! Шучу, шучу, ведь я один, А ты, наверно, — к ней. К ней? Может, завтра среди дня Зайду к вам. Или нет, Вам хорошо и без меня, Передавай привет. А впрочем, и привет не шли, С тобою на войне Мы спелись от нее вдали, Где ж знать ей обо мне? Да, ты не знаешь про него Почти что ничего, Ни слов его, ни дел его, Ни верности его. Но он, он знает о тебе Всех больше и верней, Чем стать могла в моей судьбе И чем не стала в ней. Всех мук и ревностей моих Лишь он свидетель был, И, правду говоря, за них Тебя он не любил. ………………………………………….. Был у меня хороший друг — Куда уж лучше быть, — Да все, бывало, недосуг Нам с ним поговорить. Давай же помянем о нем Теперь с тобой вдвоем И горькие слова запьем, Как он любил, вином. Тем самым, что он мне принес, Когда недавно был. Ну и не надо слез. Он слез При жизни не любил. 1942КАРЕТНЫЙ ПЕРЕУЛОК
За окном пепелища, дома черноребрые, Снова холод, война и зима… Написать тебе что-нибудь доброе-доброе? Чтобы ты удивилась сама. До сих пор я тебя добротою не баловал, Не умел ни жалеть, ни прощать, Слишком горькие шутки в разлуке откалывал. Злом на зло привыкал отвечать. Но сегодня тебя вдруг не злой, не упрямою, Словно при смерти вижу, родной, Словно это письмо вдруг последнее самое, Словно кончил все счеты с тобой. Начинаются русские песни запевочкой. Ни с того ни с сего о другом: Я сегодня хочу увидать тебя девочкой В переулке с московским двором. Увидать не любимой еще, не целованной, Не знакомою, не женой, Не казнимой еще и еще не балованной Переменчивой женской судьбой. Мы соседями были. Но знака секретного Ты мальчишке подать не могла: Позже на пять минут выходил я с Каретного, Чем с Садовой навстречу ты шла. Каждый день пять минут; то дурными, то добрыми Были мимо летевшие дни. Пять минут не могла подождать меня вовремя. В десять лет обернулись они. Нам по-взрослому любится и ненавидится, Но, быть может, все эти года Я бы отдал за то, чтоб с тобою увидеться В переулке Каретном тогда. Я б тебя оберег от тоски одиночества, От измены и ласки чужой… Впрочем, все это глупости. Просто мне хочется С непривычки быть добрым с тобой. Даже в горькие дни на судьбу я не сотую. Как заведено, будем мы жить… Но семнадцатилетним я все же советую Раньше на пять минут выходить. 1942ДОЖДИ
Опять сегодня утром будет Почтовый самолет в Москву. Какие-то другие люди Летят. А я все здесь живу. Могу тебе сказать, что тут Все так же холодно и скользко, Весь день дожди идут, идут, Как растянувшееся войско. Все по колено стало в воду, Весь мир покрыт водой сплошной. Такой, как будто бог природу Прислал сюда на водопой. Мы только полчаса назад Вернулись с рекогносцировки, И наши сапоги висят У печки, сохнут на веревке. И сам сижу у печки, сохну. Занятье глупое: с утра Опять поеду и промокну — В степи ни одного костра. Лишь дождь, как будто он привязан Навеки к конскому хвосту, Да свист снаряда, сердце разом Роняющего в пустоту. А здесь, в халупе нашей, все же Мы можем сапоги хоть снять, Погреться, на соломе лежа. Как видишь — письма написать. Мое письмо тебе свезут И позвонят с аэродрома, И ты в Москве сегодня ж дома Его прочтешь за пять минут. Увидеть бы лицо твое, Когда в разлуке вечерами Вдруг в кресло старое мое Влезаешь, как при мне, с ногами. И, на коленях разложив Бессильные листочки писем, Гадаешь: жив или не жив, Как будто мы от них зависим. Во-первых, чтоб ты знала: мы Уж третий день как наступаем, Железом взрытые холмы То вновь берем, то оставляем. Нам в первый день не повезло: Дождь рухнул с неба, как назло, Лишь только, кончивши работу, Замолкли пушки, и пехота Пошла вперед. А через час Среди неимоверной, страшной Воды, увязнувший по башню, Последний танк отстал от нас. Есть в неудачном наступленье Несчастный час, когда оно Уже остановилось, но Войска приведены в движенье. Еще не отменен приказ, И он с жестоким постоянством В непроходимое пространство, Как маятник, толкает нас. Но разве можно знать отсюда — Вдруг эти наши три версты, Две взятых кровью высоты Нужны за двести верст, где чудо Прорыва будет завтра в пять, Где уж в ракетницах ракеты. Москва запрошена. Ответа Нет. Надо ждать и наступать. Все свыклись с этой трудной мыслью: И штаб, и мрачный генерал, Который молча крупной рысью Поля сраженья объезжал. Мы выехали с ним верхами По направленью к Джантаре, Уже синело за холмами, И дело близилось к заре. Над Акмонайскою равниной Шел зимний дождь, и все сильней, Все было мокро, даже спины Понуро несших нас коней. Однообразная картина Трех верст, что мы прошли вчера, В грязи ревущие машины, Рыдающие трактора. Воронок черные болячки. Грязь и вода, смерть и вода. Оборванные провода И кони в мертвых позах скачки. На минном поле вперемежку Тела то вверх, то вниз лицом, Как будто смерть в орла и решку Играла с каждым мертвецом. А те, что при дороге самой, Вдруг так похожи на детей, Что, не поверив в смерть, упрямо Все хочется спросить: «Ты чей?» Как будто их тут не убили, А ехали из дома в дом И уронили и забыли С дороги подобрать потом. А дальше мертвые румыны, Где в бегстве их застиг снаряд, Как будто их толкнули в спину, В грязи на корточках сидят. Среди развалин Джантары, Вдоль южной глиняной ограды, Как в кегельбане для игры, Стоят забытые снаряды. Но словно все кругом обман, Когда глаза зажмуришь с горя, Вдруг солью, рыбой сквозь туман Нет-нет да и потянет с моря. И снова грязь из-под копыт, И слух, уж сотый за неделю, О ком-то, кто вчера убит, И чей-то возглас: «Неужели?» Однако мне пора кончать. Ну что ж, последние приветы, Пока фельдъегеря печать Не запечатала пакеты. Еще одно. Два дня назад, Как в детстве, подогнувши ноги, Лежал в кювете у дороги И ждал, когда нас отбомбят. Я, кажется, тебе писал, Что под бомбежкой, свыкшись с нею, Теперь лежу там, где упал, И вверх лицом, чтобы виднее. Так я лежал и в этот раз. Грязь, прошлогодняя осока, И бомбы прямо и высоко, И, значит, лягут сзади нас. Я думал о тебе сначала, Потом привычно о войне, Что впереди зениток мало, Застряли где-то в глубине. Что танки у села Корпеча Стоят в грязи, а дождь все льет. Потом я вспомнил нашу встречу И ссору в прошлый Новый год. Был глупый день и злые споры, Но до смешного, как урок, Я, в чем была причина ссоры, Пытался вспомнить и не мог. Как мелочно все было это Перед лицом большой беды, Вот этой каторжной воды, Нас здесь сживающей со света. Перед лицом того солдата, Что здесь со мной атаки ждет И молча мокрый хлеб жует, Прикрыв полой ствол автомата. Нет, в эти долгие минуты Я, глядя в небо, не желал Ни обойтись с тобою круто, Ни попрекнуть тем, что я знал. Ни укорить и ни обидеть, А, ржавый стебель теребя, Я просто видеть, видеть, видеть Хотел тебя, тебя, тебя, Без ссор, без глупой канители, Что вспомнить стыдно и смешно. А бомбы не спеша летели, Как на замедленном кино… Все. Даль над серыми полями С утра затянута дождем, Бренча тихонько стременами, Скучают кони под окном. Сейчас поедем. Коноводы, Собравшись в кучу у крыльца, Устало матерят погоду И курят, курят без конца. 1942, Крым«Не раз видав, как умирали…»
Не раз видав, как умирали В боях товарищи мои, Я утверждаю: не витали Над ними образы ничьи. На небе, средь дымов сраженья, Над полем смерти до сих пор Ни разу женского виденья Нежданно мой не встретил взор. И в миг кровавого тумана, Когда товарищ умирал, Воздушною рукою раны Ему никто не врачевал. Когда он с жизнью расставался, Кругом него был воздух пуст И образ нежный не касался Губами холодевших уст. И если даже с тайной силой Вдали, в предчувствии, в тоске Она в тот миг шептала: «Милый», — На скорбном женском языке, Он не увидел это слово На милых дрогнувших губах, Все было дымно и багрово В последний миг в его глазах. ……………………………………………. Со мной прощаясь на рассвете Перед отъездом, раз и два Ты повтори мне все на свете Неповторимые слова. Я навсегда возьму с собою Звук слов твоих, вкус губ твоих. Пускай не лгут. На поле боя Ничто мне не напомнит их. 1943ДАЛЕКОМУ ДРУГУ
И этот год ты встретишь без меня. Когда б понять ты до конца сумела, Когда бы знала ты, как я люблю тебя, Ко мне бы ты на крыльях долетела. Отныне были б мы вдвоем везде, Метель твоим бы голосом мне пела, И отраженьем в ледяной воде Твое лицо бы на меня смотрело. Когда бы знала ты, как я тебя люблю, Ты б надо мной всю ночь, до пробуждены! Стояла тут, в землянке, где я сплю, Одну себя пуская в сновиденья. Когда б одною силою любви Мог наши души поселить я рядом, Твоей душе сказать: приди, живи, Бесплотна будь, будь недоступна взглядам, Но ни на шаг не покидай меня, Лишь мне понятным будь напоминаньем: В костре — неясным трепетом огня, В метели — снега голубым порханьем. Незримая, смотри, как я пишу Листки своих ночных нелепых писем, Как я слова беспомощно ищу, Как нестерпимо я от них зависим. Я здесь ни с кем тоской делиться не хочу, Свое ты редко здесь услышишь имя. Но если я молчу — я о тебе молчу, И воздух населен весь лицами твоими. Они кругом меня, куда ни кинусь я, Все ты в мои глаза глядишь неутомимо. Да, ты бы поняла, как я люблю тебя, Когда б хоть день со мной тут прожила незримо. ……………………………………………………………………….. Но ты и этот год встречаешь без меня… 1943«Первый снег в окно твоей квартиры…»
Первый снег в окно твоей квартиры Заглянул несмело, как ребенок, А у нас лимоны по две лиры, Красный перец на стенах беленых. Мы живем на вилле ди Веллина, Трое русских, три недавних друга. По ночам стучатся апельсины В наши окна, если ветер с юга. На березы вовсе не похожи — Кактусы под окнами маячат, И, как всё кругом, чужая тоже, Женщина по-итальянски плачет. Пароходы грустно, по-собачьи Лают, сидя на цепи у порта. Продают на улицах рыбачки Осьминога и морского черта. Юбки матерей не отпуская, Бродят черные, как галки, дети… Никогда не думал, что такая Может быть тоска на белом свете. 1944, Бари«Вновь тоскую последних три дня…»
Вновь тоскую последних три дня Без тебя, мое старое горе. Уж не бог ли, спасая меня, Затянул пеленой это море? Может, в нашей замешан судьбе, Чтобы снова связать нас на годы, Этот бог для полета к тебе Не дает мне попутной погоды. Каждым утром рассвет, как слеза, Мне назавтра тебя обещает, Каждой полночью божья гроза С полдороги меня возвращает. Хорошо, хоть не знает пилот, Что я сам виноват в непогоде, Что вчера был к тебе мой полет Просто богу еще неугоден. 1944, БариЛЕТАРГИЯ
В детстве быль мне бабка рассказала Об ожившей девушке в гробу, Как она металась и рыдала, Проклиная страшную судьбу, Как, услышав неземные звуки, Сняв с усопшей тяжкий гнет земли, Выраженье небывалой муки Люди на лице ее прочли. И в жару, подняв глаза сухие, Мать свою я трепетно просил, Чтоб меня, спася от летаргии, Двадцать дней никто не хоронил. Мы любовь свою сгубили сами, При смерти она, из ночи в ночь Просит пересохшими губами Ей помочь. А чем нам ей помочь? Завтра отлетит от губ дыханье, А потом, осенним мокрым днем, Горсть земли ей бросив на прощанье, Крест на ней поставим и уйдем. Ну, а вдруг она, не как другие, Нас навеки бросить не смогла, Вдруг ее не смерть, а летаргия В мертвый мир обманом увела? Мы уже готовим оправданья, Суетные круглые слова, А она еще в жару страданья Что-то шепчет нам, полужива. Слушай же ее, пока не поздно, Слышишь ты, как хочет она жить, Как нас молит — трепетно и грозно Двадцать дней ее не хоронить! 1944МУЗЫКА
1
Я жил над школой музыкальной, По коридорам, подо мной, То скрипки плавно и печально, Как рыбы, плыли под водой, То, словно утром непогожим Дождь, ударявший в желоба, Вопила все одно и то же, Одно и то же все — труба. Потом играли на рояле: До-си! Си-до! Туда-сюда! Как будто чью-то выбивали Из тела душу навсегда.2
Когда изобразить я в пьесе захочу Тоску, которая, к несчастью, не подвластна Ни нашему армейскому врачу, Ни женщине, что нас лечить согласна, Ни даже той, что вдалеке от нас, Казалось бы, понять и прилететь могла бы, Ту самую тоску, что третий день сейчас Так властно на меня накладывает лапы, — Моя ремарка будет коротка: Семь нот эпиграфом поставивши вначале, Я просто напишу: «Тоска, Внизу играют на рояле».3
Три дня живу в пустом немецком доме, Пишу статью, как будто воз везу, И нету никого со мною, кроме Моей тоски да музыки внизу. Идут дожди. Затишье. Где-то там Раз в день лениво вспыхнет канонада. Шофер за мною ходит по пятам: — Машина не нужна? — Пока не надо. Шофер скучает тоже. Там, внизу, Он на рояль накладывает руки И выжимает каждый день слезу Одной и той же песенкой — разлуки. Он предлагал, по дружбе, — перестать: — Раз грусть берет, так в пол бы постучали… Но эта песня мне сейчас под стать Своей жестокой простотой печали. Уж, видно, так родились мы на свет, Берет за сердце самое простое. Для человека — университет В минуты эти ничего не стоит. Он слушает расстроенный рояль И пение попутчика-солдата. Ему себя до слез, ужасно жаль. И кажется, что счастлив был когда-то. И кажется ему, что он умрет, Что все, как в песне, непременно будет, И пуля прямо в сердце попадет, И верная жена его забудет. Нет, я не попрошу здесь: «Замолчи!» Здесь власть твоя. Услышь из страшной дали И там сама тихонько постучи, Чтоб здесь играть мне песню перестали. 1943«Над сном монастыря девичьего…»
Над сном монастыря девичьего Все тихо на сто верст окрест. На высоте полета птичьего Над крышей порыжелый крест. Монашки ходят, в домотканое Одетые, как век назад, А мне опять, как окаянному, Спешить куда глаза глядят. С заиндевевшими шоферами Мне к ночи где-то надо быть, Кого-то мучить разговорами, В землянке с кем-то водку пить. Как я бы рад, сказать по совести, Вдруг ни к кому и никогда, Вдруг, как в старинной скучной повести, Жить как стоячая вода. Описывать чужие горести, Мечтать, глядеть тебе в глаза. Нельзя, как в дождь на третьей скорости Нельзя нажать на тормоза. 1945«Да, мы живем, не забывая…»
Да, мы живем, не забывая, Что просто не пришел черед, Что смерть, как чаша круговая, Наш стол обходит круглый год. Не потому тебя прощаю, Что не умею помнить зла, А потому, что круговая Ко мне все ближе вдоль стола. 1945«Мы оба с тобою из племени…»
Мы оба с тобою из племени, Где если дружить — так дружить, Где смело прошедшего времени Не терпят в глаголе «любить». Так лучше представь меня мертвого, Такого, чтоб вспомнить добром, Не осенью сорок четвертого, А где-нибудь в сорок втором. Где мужество я обнаруживал, Где строго, как юноша, жил, Где, верно, любви я заслуживал И все-таки не заслужил. Представь себе Север, метельную Полярную ночь на снегу, Представь себе рану смертельную И то, что я встать не могу; Представь себе это известие В то трудное время мое, Когда еще дальше предместия Не занял я сердце твое, Когда за горами, за долами Жила ты, другого любя, Когда из огня да и в полымя Меж нами бросало тебя. Давай с тобой так и условимся: Тогдашний — я умер. Бог с ним. А с нынешним мной — остановимся И заново поговорим. 1945«В чужой земле и в городе чужом…»
В чужой земле и в городе чужом Мы наконец живем почти вдвоем, Без званых и непрошеных гостей, Без телефона, писем и друзей, Нам с глазу на глаз можно день прожить, И, слава богу, некому звонить. Сороконожкой наша жизнь была, На сорока ногах она ползла. Как грустно — так куда-нибудь звонок, Как скучно — мигом гости на порог, Как ссора — невеселый звон вина, И легче помириться вполпьяна. В чужой земле и в городе чужом Мы наконец живем почти вдвоем. Как на заре своей, сегодня вновь Беспомощно идет у нас любовь. Совсем одна от стула до окна, Как годовалая, идет она. И смотрим мы, ее отец и мать, Готовясь за руки ее поймать. 1945«До утра перед разлукой…»
До утра перед разлукой Свадьба снилась мне твоя. Паперть… Сон, должно быть, в руку: Ты — невеста. Нищий — я. Пусть случится все, как снилось, Только в жизни обещай — Выходя, мне, сделай милость, Милостыни не давай. 1945«Стекло тысячеверстной толщины…»
Стекло тысячеверстной толщины Разлука вставила в окно твоей квартиры, И я смотрю, как из другого мира, Мне голоса в ней больше не слышны. Вот ты прошла, присела на окне, Кому-то улыбнулась, встала снова, Сказала что-то… Может, обо мне? А что? Не слышу ничего, ни слова… Какое невозможное страданье Опять, уехав, быть глухонемым! Но что, как вдруг дана лишь в оправданье На этот раз разлука нам двоим? Ты помнишь честный вечер объясненья, Когда, казалось, смеем все сказать… И вдруг — стекло. И только губ движенье, И даже стука сердца не слыхать. 1946«Я в эмигрантский дом попал…»
Я в эмигрантский дом попал В сочельник, в рождество. Меня почти никто не знал, Я мало знал кого. Хозяин дома пригласил Всех, кого мог созвать, — Советский паспорт должен был Он завтра получать. Сам консул был. И, как ковчег, Трещал японский дом: Хозяин — русский человек, — Последний рубль ребром. Среди рождественских гостей, Мужчин и старых дам, Наверно, люди всех мастей Со мной сидели там: Тут был игрок, и спекулянт, И продавец собак, И просто рваный эмигрант, Бедняга из бедняг. Когда вино раз пять сквозь зал Прошлось вдоль всех столов, Хозяин очень тихо встал И так стоял без слов. В его руке бокал вина Дрожал. И он дрожал: — Россия, господа… Она… До дна!.. — И зарыдал. И я поверил вдруг ему, Хотя, в конце концов, Не знал, кто он и почему Покинул край отцов. Где он скитался тридцать лет, Чем занимался он, И справедливо или нет Он был сейчас прощен? Нет, я поверил не слезам, — Кто ж не прольет слезы! — А старым выцветшим глазам, Где нет уже грозы, Но, как обрывки облаков, Грозы последний след, Иных полей, иных снегов Вдруг отразился свет; Прохлада волжского песка, И долгий крик с баржи, Неумолимая тоска По василькам во ржи. По песне, петой где-то там, Уже бог весть когда, А все бредущей по пятам В Харбин, в Шанхай, сюда. Так плакать бы, закрыв лицо, Да не избыть тоски, Как обручальное кольцо, Что уж не снять с руки. …………………………………………………. Все было дальше, как всегда, Стук вилок и ножей, И даже слово «господа» Не странно для ушей. И сам хозяин, как ножом Проткнувший грудь мою, Стал снова просто стариком, Всплакнувшим во хмелю. Еще кругом был пир горой, Но я сидел в углу, И шла моя душа босой По битому стеклу К той женщине, что я видал Всегда одну, одну, К той женщине, что покидал Я, как беглец страну, Что недобра была со мной, Любила ли — бог весть… Но нету родины второй, Одна лишь эта есть. А может, просто судеб суд Есть меж небес и вод, И там свои законы чтут И свой законов свод. И на судейском том столе Есть век любить закон Ту женщину, на чьей земле Ты для любви рожден. И все на той земле не так, То холод, то пурга… За что ж ты любишь, а, земляк, Березы да снега? ……………………………………………. А в доме открывался бал; Влетев во все углы, За вальсом вальс уже скакал, Цепляясь за столы. Давно зарывший свой талант, Наемник за сто иен, Тапер был старый музыкант — Комок из вспухших вен. Ночь напролет сидел я с ним, Лишь он мне мог помочь, Твоим видением томим Я был всю эту ночь. Был дом чужой, и зал чужой, Чужой и глупый бал, А он всю ночь сидел со мной И о тебе играл. И, как изгнанник, слушал я, Упав лицом на стол, И видел дальние края И пограничный столб. И там, за ним, твое лицо Опять, опять, опять… Как обручальное кольцо, Что уж с руки не снять. Я знаю, ты меня сама Пыталась удержать, Но покаянного письма Мне не с кем передать. И, все равно, до стран чужих Твой не дойдет ответ, Я знаю, консулов твоих Тут не было и нет. Но если б ты смогла понять Отчаянье мое, Не откажись меня принять Вновь в подданство твое. 1946«Трубка после обеда…»
Трубка после обеда, Конец трудового дня. Тихая победа Домашнего огня. Крыши над головою Рук веселых твоих — Над усталой толпою Всех скитаний моих. Дров ворчанье, Треск сучков, Не обращай вниманья, Я здоров. Просто я по привычке — Это сильней меня — Смотрю на живые стычки Дерева и огня. Огонь то летит, как бедствие, То тянется, как лишение, Похожий на путешествие, А может быть, на сражение. Похожий на чьи-то странствия, На трепет свечи в изгнании, Похожий на партизанские Костры на скалах Испании. Дров ворчанье, Треск сучков, Не обращай вниманья, Я здоров. Я просто смотрю, как пылают дрова. А впрочем, да, ты права. Сейчас я не здесь, я где-то У другого огня, У костра. Ну, а если как раз за это Ты и любишь меня. А? 1947«Как говорят, тебя я разлюбил…»
Как говорят, тебя я разлюбил, И с этим спорить скучно и не надо. Я у тебя пощады не просил, Не буду и у них просить пощады. Пускай доводят дело до конца По всем статьям, не пожалев усердья, Пусть судят наши грешные сердца, Имея сами только так — предсердья. 1947«Я схоронил любовь и сам себя обрек…»
Я схоронил любовь и сам себя обрек Быть памятником ей. Над свежею могилой Сам на себе я вывел восемь строк, Посмертно написав их через силу. Как в марафонском беге, не дыша, До самого конца любовь их долетела. Но отлетела от любви душа, А тело жить одно не захотело. Как камень, я стою среди камней, Прося лишь об одном: — Не трогайте руками И посторонних надписей на мне Не делайте… Я все-таки не камень. 1948«Я не могу писать тебе стихов…»
Я не могу писать тебе стихов Ни той, что ты была, ни той, что стала. И, очевидно, этих горьких слов Обоим нам давно уж не хватало. За все добро — спасибо! Не считал По мелочам, покуда были вместе, Ни сколько взял его, ни сколько дал, Хоть вряд ли задолжал тебе по чести. А все то зло, что на меня, как груз, Навалено твоей рукою было, Оно мое! Я сам с ним разберусь, Мне жизнь недаром шкуру им дубила. Упреки поздно на ветер бросать, Не бойся разговоров до рассвета. Я просто разлюбил тебя. И это Мне не дает стихов тебе писать. 1954СТИХОТВОРЕНИЯ 1946–1976{5}
ДРУЗЬЯ И ВРАГИ (1948–1954){6}
В КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ КЛУБЕ
Опять в газетах пишут о войне, Опять ругают русских и Россию, И переводчик переводит мне С чужим акцентом их слова чужие. Шанхайский журналист, прохвост из «Чайна Ныос», Идет ко мне с бутылкою, наверно, В душе мечтает, что я вдруг напьюсь И что-нибудь скажу о «кознях Коминтерна». Потом он сам напьется и уйдет. Все как вчера. Терпенье, брат, терпенье! Дождь выступает на стекле, как пот, И стонет паровое отопленье. Что ж мне сказать тебе, пока сюда Он до меня с бутылкой не добрался? Что я люблю тебя? — Да. Что тоскую? — Да. Что тщетно я не тосковать старался? Да. Если женщину уже не ранней страстью Ты держишь спутницей своей души, Не легкостью чудес, а трудной старой властью, Где, чтоб вдвоем навек — все средства хороши, Когда она — не просто ожиданье Чего-то, что еще, быть может, вздор, А всех разлук и встреч чередованье, За жизнь мою любви с войною спор, Тогда разлука с ней совсем трудна, Платочком ей ты не помашешь с борта, Осколком памяти в груди сидит она, Всегда готовая задеть аорту. Не выслушать… В рентген не разглядеть… А на чужбине в сердце перебои. Не вынуть — смерть всегда таскать с собою, А вынуть — сразу умереть. Так сила всей по родине тоски, Соединившись по тебе с тоскою, Вдруг грубо сердце сдавит мне рукою. Но что бы делал я без той руки? — Хелло! Не помешал вам? Как дела? Что пьем сегодня — виски, ром? — Любое. — Сейчас под стол свалю его со зла, И мы еще договорим с тобою! 1948ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА В МАЙДЗУРЕ
Бухта Майдзура. Снег и чайки С неба наискось вылетают, И барашков белые стайки Стайки птиц на себе качают. Бухта длинная и кривая, Каждый звук в ней долог и гулок; Словно в каменный переулок, Я на лодке в нее вплываю. Эхо десять раз прогрохочет, Но еще умирать не хочет, Словно долгая жизнь людская Все еще шумит затихая. А потом тишина такая, Будто слышно с далекой кручи, Как, друг друга под бок толкая, Под водой проплывают тучи. Небо цвета пепла, а горы Цвета чуть разведенной туши. Надоели чужие споры, Надоели чужие уши. Надоел лейтенант О'Квисли Из разведывательной службы, Под предлогом солдатской дружбы Выясняющий наши мысли. Он нас бьет по плечам руками, Хвалит русские папиросы И, считая нас дураками, День-деньской задает вопросы. Утомительное условье — Каждый день, вот уже полгода, Пить с разведчиком за здоровье «Представляемого им народа». До безумия осточертело Делать это с наивным видом, Но О'Квисли душой и телом Всем нам предан. Вернее, придан. Он нас будет травить вниманьем До отплытия парохода И в последний раз с содроганьем Улыбнется нам через воду. Бухта Майдзура. Птичьи крики, Снег над грифельными горами, Мачты, выставленные, как пики, Над японскими крейсерами. И немецкая субмарина, Обогнувшая шар когда-то, Чтоб в последние дни Берлина Привезти сюда дипломата. Волны, как усталые руки, Тихо шлепают в ее люки. Где теперь вы, наш провожатый, Джеймс О'Квисли, наш добрый гений, Славный малый и аккуратный Собиратель всех наших мнений? Как бы, верно, вас удивила Моя клятва спустя два года, Что мне в Майдзуре нужно было Просто небо и просто воду, Просто пасмурную погоду, Просто северную природу, Просто снега хлопья косые, Мне напомнившие Россию. Угадав этот частный случай, Чем скитаться со мною в паре, Вы могли бы гораздо лучше Провести свое время в баре. Ну, а в общем-то — дело скверно, Успокаивать вас не буду: Коммунизм победит повсюду! Тут предчувствие ваше — верно! 1948МИТИНГ В КАНАДЕ
Я вышел на трибуну, в зал, Мне зал напоминал войну, А тишина — ту тишину, Что обрывает первый залп. Мы были предупреждены О том, что первых три ряда Нас освистать пришли сюда В знак объявленья нам войны. Я вышел и увидел их, Их в трех рядах, их в двух шагах, Их — злобных, сытых, молодых, В плащах, со жвачками в зубах, В карман — рука, зубов оскал, Подошвы — на ногу нога… Так вот оно, лицо врага! А сзади только черный зал, И я не вижу лиц друзей, Хотя они, наверно, есть, Хотя они, наверно, здесь. Но их ряды — там, где темней, Наверно там, наверно так, Но пусть хоть их глаза горят, Чтоб я их видел, как маяк! За третьим рядом полный мрак, В лицо мне курит первый ряд. Почувствовав почти ожог, Шагнув, я начинаю речь. Ее начало — как прыжок В атаку, чтоб уже не лечь: — Россия, Сталин, Сталинград! — Три первые ряда молчат. Но где-то сзади легкий шум, И, прежде чем пришло на ум, Через молчащие ряды, Вдруг, как обвал, как вал воды, Как сдвинувшаяся гора, Навстречу рушится «ура»! Уж за полночь, и далеко, А митинг все еще идет, И зал встает, и зал поет, И в зале дышится легко. А первых три ряда молчат, Молчат, чтоб не было беды, Молчат, набравши в рот воды, Молчат — четвертый час подряд! …………………………………………………. Но я конца не рассказал, А он простой: теперь, когда Войной грозят нам, я всегда Припоминаю этот зал. Зал! А не первых три ряда. 1948КРАСНОЕ И БЕЛОЕ
Мне в этот день была обещана Поездка в черные кварталы, Прыжок сквозь город, через трещину, Что никогда не зарастала, Прикрыта, но не зарубцована Ни повестями сердобольными, Ни честной кровью Джона Броуна, Ни Бичер-Стоу, ни Линкольнами. Мы жили в той большой гостинице (И это важно для рассказа), Куда не каждый сразу кинется И каждого не примут сразу, Где ежедневно на рекламе, От типографской краски влажной. Отмечен номерами каждый, Кто осчастливлен номерами; Конечно — только знаменитый, А знаменитых тут — засилие: Два короля из недобитых, Три президента из Бразилии, Пять из подшефных стран помельче И уж, конечно, мистер Черчилль. И в этот самый дом-святилище, Что нас в себя, скривясь, пустил еще, Чтобы в Гарлем везти меня, За мною среди бела дня Должна заехать негритянка. Я предложил: не будет лучше ли Спуститься — ей и нам короче. Но мой бывалый переводчик Отрезал — что ни в коем случае, Что это может вызвать вздорную, А впрочем — здесь вполне обычную, Мысль, что считаю неприличным я, Чтоб в номер мой входила черная. — Но я ж советский! — Что ж, тем более, Она поднимется намеренно, Чтоб в вас, советском, всею болью Души и сердца быть уверенной. — И я послушно час сидел еще, Когда явилась провожатая, Немолодая, чуть седеющая, Спокойная, с губами сжатыми. Там у себя — учитель в школе, Здесь — и швейцар в дверях не сдвинется, Здесь — черная, лишь силой воли Прошедшая сквозь строй гостиницы. Лифт занят был одними нами. Чтоб с нами сократить общение, Лифтер летел, от возмущения Минуя цифры с этажами. Обычно шумен, но не весел, Был вестибюль окутан дымом И ждал кого-то в сотнях кресел, Не замечая шедших мимо. Обычно. Но на этот раз Весь вестибюль глазел на нас. Глазел на нас, вывертывая головы, Глазел, сигар до рта не дотащив, Глазел, как вдруг на улице на голого, Как на возникший перед носом взрыв. Мы двое были белы цветом кожи, А женщина была черна, И все же с нами цветом схожа Среди всех них была одна она. Мы шли втроем навстречу глаз свинцу, Шли взявшись под руки, через расстрел их, Шли трое красных через сотни белых, Шли как пощечина по их лицу. Я шкурой знал, когда сквозь строй прошел там, Знал кожей сжатых кулаков своих: Мир неделим на черных, смуглых, желтых, А лишь на красных — нас, и белых — их. На белых — тех, что, если приглядеться, Их вид на всех материках знаком, На белых — тех, как мы их помним с детства, В том самом смысле. Больше ни в каком. На белых — тех, что в Африке ль, в Европе Мы, красные, в пороховом дыму В последний раз прорвем на Перекопе И сбросим в море с берега в Крыму! 1948ТИГР
Я вдруг сегодня вспомнил Сан-Франциско, Банкет на двадцать первом этаже И сунутую в руки мне записку, Чтоб я с соседом был настороже. Сосед — владелец здешних трех газет — Был тигр, залезший телом в полосатый Костюм из грубой шерсти рыжеватой, Но то и дело из него на свет Вдруг вылезавший вычищенной пастой Тигриною улыбкою зубастой И толстой лапой в золотой шерсти, Подпиленной на всех когтях пяти. Наш разговор с ним, очень длинный, трезвый, Со стороны, наверно, был похож На запечатанную пачку лезвий, Где до поры завернут каждый нож. В том, как весь вечер выдержал он стойко Со мной на этих вежливых ножах, Была не столько трезвость, сколько стойка Перед прыжком в газетных камышах; Недаром он приполз на мягких лапах На красный цвет и незнакомый запах! И сколькими б кошачьими кругами Беседа всех углов ни обошла, Мы молча встали с ним из-за стола Тем, кем и сели за него, — врагами. …………………………………………………….. И все-таки я вспомнил через год Ничем не любопытный этот вечер, — Не потому ли, что до нашей встречи Я видел лишь последний поворот Тигриных судеб на людских судах, Где, полиняв и проиграв все игры, Шли за решетку пойманные тигры, Раздавливая ампулы в зубах! А он был новый, наглый, молодой. Наверно, и они такими были, Когда рейхстаг зажгли своей рукой И в Лейпциге Димитрова судили. Горит, горит в Америке рейхстаг, И мой сосед в нем факельщик с другими, И чем пожар сильней, тем на устах Все чаще, чаще слышно его имя. Когда, не пощадив ни одного, Народов суд их позовет к ответу, Я там, узнав его при встрече этой, Скажу: я помню молодость его! 1948УЛИЦА САККО И ВАНЦЕТТИ
Ты помнишь, как наш город бушевал, Как мы собрались в школе на рассвете, Когда их суд в Бостоне убивал — Антифашистов Сакко и Ванцетти; Как всем фашистам отомстить за них Мы мертвым слово пионеров дали И в городе своем и в ста других Их именами улицы назвали. Давным-давно в приволжском городке Табличку стерло, буквы откололо, Стоит все так же там, на уголке, На Сакко и Ванцетти наша школа. Но бывшие ее ученики В Берлине, на разбитом в пыль вокзале, Не долго адрес школы вспоминали, Углом сложили дымные листки И «Сакко и Ванцетти» надписали. Имперской канцелярии огнем Недаром мы тот адрес освещали; Два итальянских слова… Русский дом… Нет, судьи из Америки едва ли Дождутся, чтоб мы в городке своем Ту улицу переименовали! …………………………………………….. Я вспомнил об этом в Италии, Когда, высоко над горами, Мы ночью над ней пролетали, Над первых восстаний кострами. Будь живы они, по примете, Повсюду, где зарева занялись, Мы знали б, что Сакко с Ванцетти Там в скалах уже партизанили! И снова я вспомнил про это, Узнав в полумертвом Берлине, Что ночью в Италии где-то Народом казнен Муссолини. Когда б они жили на свете, Всегда впереди, где опасней, Наверно бы Сакко с Ванцетти Его изловили для казни! Я вспомнил об этом сегодня, Когда в итальянской палате Христьянский убийца и сводник Стрелял в коммуниста Тольятти. Нет, черному делу б не сбыться, Будь там он в мгновения эти — Наверно под локоть убийцу Толкнул бы товарищ Ванцетти! Предвидя живое их мужество, Я в мертвых ошибся едва ли, — Ведь их, перед будущим в ужасе, Назад двадцать лет убивали! Ведь их для того и покруче В Бостоне судили заранее, Чтоб сами когда-нибудь дуче Они не судили в Милане. И на электрическом стуле Затем их как раз и казнили, Чтоб, будь они живы, от пули Тольятти не заслонили. У нас, коммунистов, хорошая память На все, что творится на свете; Напрасно убийца надеяться станет За давностью быть не в ответе… И сами еще мы здоровия стойкого, И в школу идут по утрам наши дети По улице Кирова, Улице Войкова, По улице Сакко — Ванцетти. 1948ТРИ ТОЧКИ
Письмо в Нью-Йорк, товарищу…
Мой безымянный друг, ну как вы там? Как дышится под статуей Свободы? Кто там за вами ходит по пятам, Вас сторожит у выходов и входов? В какой еще вы список внесены По вздорным обвинениям в изменах, Сержант пехоты, ветеран войны С крестом за храбрость в битве при Арденнах? Где вы живете? В том же уголке Нью-Йорка, на своем 105-м стрите? Или, ища работы, налегке Из Балтиморы в Питсбург колесите? Кто в стекла там влепляет бледный нос, Когда звоните вы из автоматов? Кто вслед за вами звездный шлет донос Под звезды всех Соединенных Штатов? А может, вас уж спрятала тюрьма, Но, и одна оставшись, мать не плачет, — Ни жалобы, ни просьбы, ни письма; Мать коммуниста — что-нибудь да значит. Как я желал бы знать, что в этом так И что не так! Что с вами вот сегодня? Пришлите мне хоть, что вы живы, знак, Что вы свободны, если вы свободны. Ну, голубя нельзя за океан, Так выдумайте что-нибудь, пришлите Какой-нибудь журнал или роман И слово «free»[3] в нем ногтем подчеркните! Простого факта, что у вас есть друг В Москве, достаточно врагам в Нью-Йорке, Чтоб вас травить, ругая на все корки, Всю залежь клеветы сбывая с рук. Мы — коммунисты. В этом тайны нет. Они — фашисты. В этом тайны нет. Без всяких тайн, что мы воюем с ними, Они же объявили на весь свет. Пусть тайной будет только ваше имя. Как им его хотелось бы узнать! В моем письме увидеть бы воочью… Но я пока стихи пошлю в печать, Им назло имя скрыв под многоточьем. Я знаю, как вы любите Нью-Йорк С его Гудзоном, авеню, мостами, Таким, как есть, но главный ваш восторг Ему — тому, каким еще он станет. Каким он хочет, может, должен быть — Дверь в будущее, а не сейфов двери. К нему б вам только руки приложить! А вы еще приложите! Я верю. Тогда я вам на новый адрес ваш Пошлю письмо и в нем, взяв карандаш, На ваше имя громкое исправлю Три точки, что пока я молча ставлю. 1948БАЛЛАДА О ТРЕХ СОЛДАТАХ
Около монастыря Кассино Подошли ко мне три блудных сына, В курточках английского покроя, Опаленных римскою жарою. Прямо англичане — да и только, Все различье — над плечами только, Буквы «Poland» вышиты побольше. По-английски «Poland» значит — Польша. Это — чтоб не спутать, чтобы знать, Кого в бой перед собой толкать. Посмотрели на мои погоны, На звезду над козырьком зеленым, Огляделись и меня спросили: — Пан полковник, верно, из России? — Нет, — сказал я, — я приехал с Вислы, Где дымы от выстрелов повисли, Где мы днем и ночью переправы Под огнем наводим у Варшавы И где бранным полем в бой идут поляки Без нашивок «Poland» на английском хаки. И один спросил: — Ну, как там, дома? — И второй спросил: — Ну, как там, дома? Третий только молча улыбнулся, Словно к дому сердцем дотянулся. — Будь вы там, — сказал я, — вы могли бы Видеть, как желтеют в рощах липы, Как над Вислой чайки пролетают, Как поляков матери встречают. Только это вам не интересно — В Лондоне ваш дом, как мне известно, Не над синей Вислой, а над рыжей Темзой, На английских скалах, вычищенных пемзой. Так сказал я им нарочно грубо. От обиды дрогнули их губы. И один сказал, что нету дольше Силы в сердце жить вдали от Польши. И второй сказал, что до рассвета Каждой ночью думает про это. Третий только молча улыбнулся И сквозь хаки к сердцу прикоснулся. Видно, это сердце к тем английским скалам Не прибить гвоздями будет генералам. Офицер прошел щеголеватый, Молча козырнули три солдата И ушли под желтым его взглядом, Обеспечены тройным нарядом. В это время в своем штабе в Риме Андерс с генералами своими Составлял реляцию для Лондона: Сколько польских душ им черту продано, Сколько их готово на скитания За великобританское питание. День считал и ночь считал подряд, Присчитал и этих трех солдат. Так, бывало, хитрый старшина Получал на мертвых душ вина. …………………………………………….. Около монастыря Кассино Подошли ко мне три блудных сына, Три давно уж в глубине души Мертвые для Лондона души. Где-нибудь в Варшаве или Познани С ними еще встретиться не поздно мне. 1944–1948НЕМЕЦ
В Берлине, на холодной сцене, Пел немец, раненный в Испании, По обвинению в измене Казненный за глаза заранее, Пять раз друзьями похороненный, Пять раз гестапо провороненный, То гримированный, то в тюрьмах ломанный, То вновь иголкой в стог оброненный. Воскресший, бледный, как видение, Стоял он, шрамом изуродованный, Как документ Сопротивления, Вдруг в этом зале обнародованный. Он пел в разрушенном Берлине Все, что когда-то пел в Испании, Все, что внутри, как в карантине, Сидело в нем семь лет молчания. Менялись оболочки тела, Походки, паспорта и платья. Но, молча душу сжав в объятья, В нем песня еле слышно пела, Она охрипла и болела, Она в жару на досках билась, Она в застенках огрубела И в одиночках простудилась. Она явилась в этом зале, Где так давно ее не пели. Одни, узнав ее, рыдали, Другие глаз поднять не смели. Над тем, кто предал ее на муки, Она в молчанье постояла И тихо положила руки На плечи тех, кого узнала. Все видели, она одета Из-под Мадрида, прямо с фронта: В плащ и кожанку с пистолетом И тельманку с значком Рот Фронта. А тот, кто пел ее, казалось, Не пел ее, а шел в сраженье, И пересохших губ движенье, Как ветер боя, лиц касалось. ……………………………………………… Мы шли с концерта с ним, усталым, Обнявшись, как солдат с солдатом, По тем разрушенным кварталам, Где я шел в мае сорок пятом. Я с этим немцем шел, как с братом, Шел длинным каменным кладбищем, Недавно — взятым и проклятым, Сегодня — просто пепелищем. И я скорбел с ним, с немцем этим, Что, в тюрьмы загнан и поборот, Давно когда-то, в тридцать третьем, Он не сумел спасти свой город. 1948НЕТ!
Отбыв пять лет, последним утром он В тюремную контору приведен. Там ждет его из Токио пакет, Где в каждом пункте только «да» и «нет». Признал ли он божественность микадо? Клянется ль впредь не преступать закон? И, наконец, свои былые взгляды Согласен ли проклясть публично он? Окно открыто. Лепестки от вишен Летит в него, шепча, что спор излишен. Тюремщик подал кисточку и тушь И молча ждет — ловец усталых душ. Но, от дыханья воли только вздрогнув, Не глядя на летящий белый цвет, Упрямый каторжник рисует: «Нет!» — Спокойный, как железо, иероглиф Рисует. И уходит на пять лет. И та же вновь тюремная контора, И тот тюремщик — только постарел, И те же вишни, лепесток с которых На твой халат пять лет назад присел. И тот же самый иероглиф: «Нет!», Который ты рисуешь раз в пять лет. И до конца войны за две недели, О чем, конечно, ты не можешь знать, Ты и тюремщик — оба поседели — В конторе той встречаетесь опять. Твои виски белы, как вишен цвет, Но той же черной тушью: «Нет» и «Нет»! ……………………………………….. Я увидал товарища Токуда На митинге в токийских мастерских, В пяти минутах от тюрьмы, откуда Он вышел сквозь пятнадцать лет своих. Он был неговорливый и спокойный; Усталый лоб, упрямый рот, Пиджак, в который, разбросав конвойных, Его одели прямо у ворот, И шарф на шее, старый, шерстяной, Повязанный рабочею рукой. Наверно, он в минуту покушенья, Все в тот же самый свой пиджак одет, Врагам бросал все то же слово: — Нет! Нет! Нет! И нет! — Как все пятнадцать лет От заключенья до освобожденья. И смерть пошла у ног его кружить Не просто прихотью безумца злого, А чтоб убить с ним вместе это слово, Как будто можно Коммунизм убить. 1948НОЧЬ ПЕРЕД БЕССМЕРТИЕМ
Умер парень где-то на земле Яванской В душный и дождливый зимний день январский, Умер, не покаявшись, не сказав ни звука, У стены тюремной из старого бамбука. Умер с ясным взглядом, умер с сердцем чистым, Умер, как положено это коммунистам. А в тюремной камере в ночь перед расстрелом Он увидел землю в оперенье белом; Белые, как хлопок, елей вереницы; Серые, как порох, от страданья лица. Он увидел Горки — русское селенье, Где в январский снежный день скончался Ленин. Парень видел это сердцем, а не глазом, Потому что снега не встречал ни разу, Никогда не видел, как качались ели, Но он знал, что люди там над гробом пели. Он не знал по-русски, по-явански знал он: Род людской воспрянет с Интернационалом. Ленин был всю ночь с ним; он не знал по-нашему, По-явански Ленина он всю ночь расспрашивал. И когда товарищ Ленин, все ответив, Из тюремной камеры вышел на рассвете, В кандалах поднявшись с пола на колени, На стене он кровью нацарапал: «Ленин». Это было зимним утром, на рассвете, В камере на Яве в ночь перед бессмертьем. Потому бессмертьем, что бессмертье это Есть не только в буквах, видных всему свету, У стены Кремлевской перед нами прямо Врезанных навеки там в гранит и мрамор, Но и в этих буквах, после утра пыток На стене бамбуковой завтра же замытых. 1949В ГОСТЯХ У ШОУ
Мы хозяина, кажется, утомили… Пора уезжать — бьют часы на камине. Надо встать и проститься, и долгие мили вновь считать на английской зеленой равнине. Нас сначала сюда и пускать не хотели, мы уже тут встречались с подобными штуками: «Мистер Шоу не сможет», «Мистер Шоу в постели» так гласил их отказ, на машинке отстуканный. Но потом вдруг по почте — письмо от руки с приглашеньем, со схемой, как ехать получше нам, с тем особым педантством, с каким в этих случаях пишут великие старики, зная цену себе, но, от многих в отличие, не меняя привычек с приходом величия. И вот мы доехали — за три часа — от дымного Лондона до этого домика, где на полках, как мертвых друзей голоса, собрались порыжелые, старые томики, где усопший давно девятнадцатый век еще бродит по тихим коврам в кабинете и стоит у камина седой человек, самый старый писатель на целой планете. Он и сам — на столетье чем-то похожий. И конца ему нет — такой он высокий. Голубые глаза и веселые щеки, сто лукавых морщинок на старческой коже. Шевеля над улыбкой усами добрыми, отбросив привычной иронии стрелы, он смотрит на нас глазами, которыми на родину нашу когда-то смотрел он; они все мягче, добрее, шире, как будто теплом ее дальним лучатся. Наверное, здесь, в им осмеянном мире, такими глаза его видят не часто! Он вспоминает, как ехал в Союз, репортеров ответом огрев, как плетью: чтоб там, только там отметить свою дату семидесятипятилетья! И как, если он доживет до ста лет (он смягчает улыбкою эту дату), он снова в страну нашу купит билет, как в юности, в семьдесят пять, когда-то. И снова уедет, хлопнувши дверью, в наш не напичканный шутками горькими, в наш новый мир, в который он верит чем дальше, тем с меньшими оговорками. Он говорит о Стране Советов с такой на него непохожей нежностью… Он совсем не насмешлив сегодня, этот старик, знаменитый своей насмешливостью. В этот дом, где гости давно не бывали, мы пришли не писателями, не поэтами, наших книг не читал он, и знал нас едва ли, и позвал нас к себе совсем не поэтому: он нас звал, чтоб глаза перед смертью увидели в этом мире злодейств, чистогана и прибылей Двух другой половины земли представителей, двух советских людей, кто б они ни были. И поэтому пусть нам будет простительно, что старик провожать нас идет к воротам, словно целый народ был его посетителем — и он прощается с этим народом. Как ни просим, ни молим его мы, двое, напрасны наши все уговоры. Под дождем, с непокрытою головою, упрямой походкой идет через двор он, бурча, что это — ирландский обычай, что погода здесь бывает и хуже, и сердито носами ботинок тыча во все попадающиеся лужи. У самых ворот, пресекая споры, нагибается, нас отстранив руками, вынимает из гнезд два толстых запора и ногою сдвигает приваленный камень. Нам вовсе не до того, чтоб гордиться. Мы знаем одно лишь чувство простое: мы спешим уехать, чтоб простудиться он не успел, под дождем тут стоя. Но он, как будто его не трогает ни этот дождь, ни мартовский ветер, выходит за нами вслед на дорогу, словно остался один на свете, словно о чем-то еще жалея, словно что-то договорить осталось… Никогда не забуду этой аллеи, длинной, как жизнь, одинокой, как старость. Не забуду, как, выехав к повороту, мы увидели с нежностью и печалью, как все еще стоит у ворот он, высоко руку подняв на прощанье. 1954ПИСЬМО ИЗ АРГЕНТИНЫ
Пришло письмо из Аргентины несчастной матери от сына. Рассказывать ли все сначала, как в муках мать его рожала, как колыбель его качала, как утром в школу провожала… Иль прямо начинать с той ночи, что всех ночей была короче: когда с улыбкою печальной он заглянул в родные очи и в бой пошел, как мы с тобою, в тот, первый, что мы проиграли, и ранен был на поле боя, и мы его не подобрали. (Теперь отыщутся, пожалуй, такие, что поправить рады: мол, на войне так не бывало… Нет, так бывало, — лгать не надо!) Он в плен попал не на коленях, он сдался не по доброй воле, а потому, что отступленье таких, как он, бросало в поле. В бою не отступив ни шагу, он, раненный, пропал под Оршей. И я до самого рейхстага, что сталось с ним, не слышал больше, не знал — и до сих пор не знаю, — в каких он лагерях скитался, как он лежал, от ран стеная, как умирал, как жив остался; какие он хлебал помои, какие получал побои, пока почти четыре года мы до Берлина шли с тобою. За Эльбой, в мае было дело: нас служба привела и случай в тот самый лагерь, где сидел он за проволокою колючей. Я по дороге проезжал там с американским провожатым и вдруг увидел странный лагерь: как кровь — на проволоке — флаги; на вышках, по углам квадрата, там, где эсэсовцы когда-то, наверно, день и ночь сидели, американские солдаты разгуливали и свистели. Я настоял на том, что надо заехать нам туда сейчас же. И вот — уже мы за оградой, среди стоящих, и сидящих, и прямо на полу лежащих, дошедших до изнеможенья людей советских, в плен попавших в том — сорок первом — в окруженьях. Погоны наши им вначале узнать своих в нас помешали, Но вот вскочили, вот догнали, спросили, вскрикнули, узнали! И я, чтоб было всем виднее, руками вскинутый на бочку, кричу, от счастья сам бледнея, что бедам и разлукам — точка! Я говорил, что без изъятья всем, кто в плену был долгу верен, откроет родина объятья, жена и мать откроют двери! Как после долгого мороза, людей оттаивали лица. Из глаз их брызнувшие слезы и в смертный час мне будут сниться! Счастливей нет и нету горше тех лиц, еще с печатью ада, и взгляда — вдруг, среди всех взглядов, — его, пропавшего под Оршей, его, стоявшего тут рядом! — Когда, — глазами ждал ответа, — домой? — Душа его летела. Я дам присягу, видев это, что он был наш душой и телом, что, взятый в плен на поле боя, пройдя фашистские застенки, — хоть вешайте, хоть ставьте к стенке! — остался он самим собою. — Когда домой? — меня устало он спрашивал со всеми вместе. А было их там — тыща двести, и столько ж матерей их ждало. И три советских офицера — мы говорили, веря в это: — Американцы примут меры, чтоб всех вернуть в Страну Советов, что так записано в условьях, никто не вправе задержать их! — И все кивал, при каждом слове, американский провожатый… Пускай теперь меня осудят, но в этот день, в том сорок пятом, я был уверен — так и будет! — не зная, что я лгу ребятам! Хотя лишь сотня километров в тот день ему до нас осталась и, как листок с попутным ветром, к нам долететь он мог, казалось, но мать ждала его напрасно. Ни в этот майский вечер ясный, ни через день, ни через годы он грудью не вдохнул свободы! Пришло письмо из Аргентины несчастной матери от сына. Что было с ним за эти восемь лет, за часы и дни без счета, еще с кого-нибудь мы спросим еще когда-нибудь отчета. Я все те мытарства едва ли за все те годы перечислю: как проверяли его мысли, как его письма в клочья рвали, как в карцеры таскали — было, и как ласкали — тоже было, и как бесстыдно уверяли, что родина о нем забыла. Как от запросов материнских его по лагерям скрывали, как после всех похлебок свинских вдруг для соблазна жрать давали; как все профессора измены и все доценты шпионажа над ним работали в три смены, чтоб вытравить закваску нашу! Когда же он не стал шпионом — как ни ласкали, как ни гнули, — они на родину его нам и тут, конечно, не вернули! Он знал и видел слишком много. Они его, полубольного, еще, еще в одну дорогу отправить поспешили снова. Он по Атлантике угрюмой, полубезумный и голодный, плыл три недели в недрах трюма, вконец от всех надежд свободный. Подписан с ним контракт кабальный с условьем на пять лет остаться в чащобах сахарных плантаций в стране чужой, в стране печальной. Пришло письмо из Аргентины несчастной матери от сына… 1954ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ЯНЦЗЫ
Мы плывем на лодке через Янцзы — Голубую реку, я, переводчик и еще три человека. Мы плывем на тот берег — в Учан из Ханькоу. А река! Какая река! Я еще не видел такого! Дождь моросит над Янцзы, по воде — маленькие кружки. До правого берега — плыть и плыть, а левый еле виден из-под руки. Под мокрыми, черными парусами вниз, к Нанкину, уходят джонки — жаровня шипит, кто-то поет, женщина кормит ребенка; бочонки с вяленой рыбой, дрова, в желтых циновках рис, капуста, наваленная до бортов, — все проплывает вниз. А навстречу идет пароход с баржами, зелеными от солдат, на корме, в чехле, — полковое знамя, и часовые стоят. Наверно, в верховья плывут, к Чунцину, где еще Чан Кай-ши; спешат, чтоб землю отдать крестьянам. Счастья желаем им от души! Большая река, большая страна, большой народ — можно о многом передумать, пока лодка реку переплывет. Я этого вот человека люблю, сидящего рядом в лодке, — зеленый ватник, красная звездочка, как на наших пилотках. Он окунает руку в Янцзы и там забывает ее надолго… Наверно, и я бы вот так задумался, плыви мы через Волгу. Он вполголоса тянет какую-то песню, широкую, как плес, — может быть, их «Дубинушку» или «Есть на Волге утес»? Потом с усталым вниманьем поворачивается ко мне, но глаза его далеко отсюда — где-то там, на войне. Он вспомнил о ней, глядя вслед плывущим к Чунцину солдатам. А ему вот надо ездить со мной, быть моим провожатым: говорить, объяснять, отвечать на вопросы: — Как то у вас? Как это у вас? — И немножко досадно, и интересно, и — приказ есть приказ. Я этого человека люблю и, мне кажется, понимаю, хотя не бывал у него дома и его языка не знаю. Но мы с ним оба — политработники, привыкли к схожим вещам. Знаем, что такое — субботник, митинг, разговор по душам, знаем, что такое — когда солдат не пообедал, Знаем, что такое беда и что такое — победа; приходилось обоим и отступать, и наступать, и писать листовки, и хоть это не главное в нашей работе, — самим брать в руки винтовки. Переводчик нам переводит слова, но это техника дела, а вообще-то мы понимаем друг друга, мой товарищ из политотдела. Понимаем, где черное, где белое, кто враги, кто друзья. Плывем по Янцзы, и я понимаю: это Волга твоя. Эти рыбаки в синих робах, наваливающиеся на руль, этот парус на старой джонке, дырявый от пуль, бурлаки в соломенных шляпах, бредущие с бечевой, вода за кормой, чайки в небе, солнце над головой, дымок над жаровней, далекая песня, ребенка кормящая женщина — все это твоя милая родина, твоя Полтавщина или Смоленщина. Вот и я зачерпнул воды из Янцзы, она синяя-синяя. Я все время расспрашиваю, хочешь — ты расспроси меня. Большое дело — вера друг в друга! На том и стоим: я — с тобой, мы — с вами; мой народ — с твоим. Вот и берег холмистый правый, как мы быстро доплыли! Недаром целую переправу молча проговорили. Чалку ловит старый крестьянин из любезности, просто прохожий. Не правда ль, все добрые старики друг на друга чем-то похожи? Я ваш разговор читаю по жестам: он глядит на меня, сюда, и спрашивает тебя: «Советский?» — И ты отвечаешь: «Да». Он приветливо, медленно собирает все морщинки лица… Хорошая у него улыбка! Как у моего отца. 1954В ГУЙЛИНЕ
Мне сегодня всю ночь не лежится, не спится здесь, в трехстах километрах от вьетнамской границы. Позабыл, что здесь — тропики, сам виноват! В первый день шел по тропке как бывалый солдат, ехал — шапки не надевал, без перчаток поводья держал и испекся до трещин, как глиняный старый дувал. Ночью градусник сунул — под сорок! А отстать — не догнать! Каждый час им тут дорог — надо их понимать! Рассказал бы, что болен, — проявили б заботу, лег бы в госпиталь гость. А тем временем эта пехота горы все прошагала б насквозь: по-китайски, с пробежками — только кружки гремят! На привалах не мешкая, в сутки — по пятьдесят! Отлежал бы неделю, поплелся за ней по пятам, узнавал бы в политотделе: «Что было здесь? И что там? Где сбивали заслон? Где в обход? А где вброд?» Разевал бы при этом, как положено, рот… Благодарен покорно — у газетчиков тоже есть гордость! Хоть спина так набита качаньем коня, словно в камнедробилку, на сито швыряли меня, — рад, что выдержал марку, что в седле усидел, как на электросварку, на проклятое солнце глядел, но добрался сюда, до Гуйлина, то верхом, то пешком за семь жарких и длинных суток — вместе с полком. Буду после смеяться над своими несчастьями! А пока — ни размяться, ни двинуть запястьями, вьюка не развязать, как подушки, распухшими пальцами. Если честно сказать — даже стыдно перед китайцами! Хорошо, что мои провожатые час назад ушли на партгруппу! Кое-как в коленях зажатую табаком набив себе трубку, слышу их голоса — обсуждают, должно быть, итоги: что там против, что за и какие ЧП по дороге; переводчик Сюй-дян, опуская лицо, говорит, что имелись ошибки — «Ю-цо»! А какие ошибки? Не вспомнишь о них без улыбки: где-то что-то загнул раз в три дня в переводе да однажды заснул и свалился с коня без поводьев. А случись, если надо, — из-под огня бы унес! Мировые ребята — люблю их до слез! Я гляжу за окно — все оно крепко взято в решетки, все в железе кругом и на первом и на втором этаже; генерал Бай Зун-си, верно, строил свой дом, когда нервы сдавали уже, и, не веря ни в сон, ни в чох, ни в охранный свой полк, даже здесь ждал удара под вздох гоминдановский волк. «Старый тигр гуансийский» — как его называли льстецы, — словно Врангель российский, отдавший за море концы! Говорят, что с утра улетел, пока цел, пока бывшим солдатом не взят на прицел, — бывшим, к нам перешедшим, политграмоту между боями прошедшим, со своим батальоном, в пыльной шапке зеленой, за семь суток похода до логова тигра дошедшим! От такого при стычке не получишь пощады и, по старой привычке, не подкупишь наградой при встрече — потому что купить его нечем! Слишком жадный он стал — тот солдат, слишком смелый. Говорит, что не надо ему ничего, кроме провинции целой — Гуанси своего! Взял две трети, возьмет и последнюю треть! А на доллары эти и не захочет смотреть! Генерал удирал: ясно вижу картину вот этого, в хлопьях жженой бумаги, двора, в час, когда под Гуйлином с рассветом мы дивизией всей рванули — «вансей!» — в переводе на русский — «ура!». Как спешил генерал, как они тут метались, собаки набивали в багажники барахло из корзин, проверяли в машинах все баки — не подсыпан ли сахар в бензин! И без памяти гнали, сигналя, петляя, об сундуки синяки наставляя, в чемоданы вжимая то носы, то затылки, торопясь к той условленной, тайной развилке, где их на поле ждал третьи сутки подряд самолет, от жары раскаленный, как ад. И хотя Бай Зун-си уж к Тайваню теперь подлетает и раз уж удрал он — то пожить еще, верно, имеет в виду, — все же надо ему посочувствовать — плохо в Китае стало жить гоминдановским генералам в этом сорок девятом году! Во дворе — хоть шаром покати: стен бетон, по углам — капониры, в подземелье — пустая тюрьма… Скольких стон умер здесь, не донесшись до мира! Скольким было сюда суждено лишь войти, чтоб не выйти уже никогда! Сколько здесь посходило в деревянных колодках с ума, не дожив до последних событий, которые мы называем свободой, называем победой народа, по которых бы не было тоже, не будь этой черной каймы вокруг списка всех павших, с Кантона еще начиная. Мороз подирает по коже — ни конца нет, ни края, так тот список длинен — километры имен; одному человеку, даже если не спать и не есть, за всю длинную жизнь, за три четверти века, половины их вслух не прочесть… Рано утром заходят командир с комиссаром полка, говорят, улыбаясь, по-русски: «Пока!» Ну, а все остальное пока еще нам переводят. Переводят, что полк уже час как в походе, переводят, что сводка хорошая, переводят, что победа близка, две дивизии вышли к вьетнамской границе и войска Бай Зун-си с ночи заперты на два замка. Переводят — но это я сразу увидел по лицам, — что зашли на минуту, а то не догонят полка. И опять, но уже без улыбки, по-русски: «Пока», к козырьку на прощанье рука! А глаза так полны, так полны чем-то очень знакомым, усталым, орлиным, как у нас на исходе войны под Берлином… 1949–1954ЛЮБОВЬ
Случается, в стране чужой Среди людей сидишь, как свой, Не важно — ты или другой, Сидишь до слез им дорогой За то, что ты — не просто ты, — Есть люди лучше и умней, — За то, что есть в тебе черты Далекой родины твоей! С тобою люди говорят Так, и в глаза твои глядят Так, и ответный ловят взгляд Так — будто не с тобой сидят Так — будто не один до дна Ты всей душою им открыт, А будто вся твоя страна В гостях в их комнате сидит. И если в домике простом Последний грош идет ребром, Чтоб только угостить тебя, — И будь что будет там потом; И если среди ночи двух Своих детей разбудит мать, Чтобы твое пожатье рук Потом не раз им вспоминать; И если с митинга сквозь строй Фашистской молодой шпаны Ведут тебя, прикрыв собой, Три парня, словно три стены, — Себе не вздумай, не присвой Всей силы этих чувств людских: Знай твердо, что виновник их Не ты — народ великий твой. В любви к тебе был виноват И бородатый тот солдат, Что с пулеметом Зимний брал, Когда в пеленках ты орал, И тот селькор, что за колхоз Пошел бесстрашно под обрез, И тот, кто строил Днепрогэс, Когда еще ты в школе рос, И тот боец в донских степях, Что пал лицом на дымный снег, И пленный тот, что в лагерях Семь наций поднял на побег. И если выпадает честь Тебе в чужой стране, вдали, Принять всю разом, всю, что есть, Любовь, что люди берегли, — Быть почтальоном для нее И то неслыханный почет. Пусть в сердце малое твое, Как в сумку, вся она втечет — Ни капли не присвоив сам, — Ты человек, а не страна, — Доставь ее по адресам, Куда отправлена она! 1954НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В ТОКИО
Новогодняя ночь, новогодняя ночь! Новогодняя — первая после войны. Как бы дома хотел я ее провести, чтобы — я, чтобы — ты, чтоб — друзья… Но нельзя! И ничем не помочь, и ничьей тут вины: просто за семь тыщ верст и еще три версты этой ночью мне вышло на пост заступать, есть и пить, и исправно бокал поднимать, и вставать, и садиться, и снова вставать на далекой, как Марс, неуютной земле. «Мистер Симонов» — карточка там на столе, чтоб средь мистеров прочих нашел свой прибор, чтобы с кем посадили — с тем и вол разговор. И сидит он, твой снова уехавший муж, и встает он, твой писем не пишущий друг, за столом, среди чуждых ему тел и душ, оглядев эти пьющие души вокруг, и со скрипом на трудном, чужом языке краткий спич произносит с бокалом в руке. Пьют соседи, тот спич разобрав приблизительно. А за окнами дождик японский, пронзительный, а за окнами Токио в щебне и камне… Как твоя бы сейчас пригодилась рука мне — просто тихо пожать, просто знать, что вдвоем. Мол, не то пережили, — и это переживем… А вообще говоря — ничего не случилось; просто думали — вместе, и не получилось! Я сижу за столом, не за тем, где мне были бы рады, а за этим, где мне никого ровным счетом не надо: ни вот этого рыжего, как огонь, истукана, что напротив, как конь, пьет стакан за стаканом, ни соседа — майора, жующего с хрустом креветки, ни того вон, непьющего парня из ихней разведки, ни второго соседа, он, кажется, тоже — оттуда и следит всю беседу, чтобы моя не пустела посуда; даже этого, ласкового, с нашивкой «Морская пехота», что все время вытаскивает разные детские фото, — и его мне не надо, хоть, кажется, он без затей — и, по первому взгляду, действительно любит детей. До того мне тут пусто, до того — никого, что в Москве тебе чувства не понять моего! А в остальном с моею персоной тут никаких не стрясется страстей. Новый год. В клубе местного гарнизона пьют здоровье русских гостей; у нас в порядке и «пассы» и визы, и Берлин еще слишком недавно и полковник, прикрыв улыбкою вызов, как солдат, пьет за нас — за бывших солдат! Это завтра они нам палки в колеса будут совать изо всех обочин! Это завтра они устроят допросы говорившим со мной японским рабочим, это завтра они, чтоб не ехал на шахту, не продадут мне билета на поезд. Это завтра шпиков трехсменную вахту к нам приставят, «за нашу жизнь беспокоясь»! Насуют провожатых, как в горло кости, чтоб ни с кем не встречались, — дадут нам бой! Все это — завтра! А пока — мы гости: — Хелс ту ю! — Рашен солджерс! — Рашен фрэндс! — Рашен бойс![4] ……………………………. Новогодняя ночь, новогодняя ночь! Не была ль ты поверкою после войны, как мы в силах по дому тоску превозмочь и как правилам боя остались верны на пороге «холодной войны»? Нам мечталась та ночь вся в огнях, в чудесах, вся одетая в русской зимы красоту, а досталось ту ночь простоять на часах, под чужими дождями, на дальнем посту! Ни чудес, ни огней, ничего — разводящим видней, где поставить кого. 1954ХИБАЧИ
В тонком доме над рекою У хибачи греем руки. Спросишь, что это такое, Ты об этой штуке. Это — лакированный горшок С медью красною внутри, Сверху — пепла на вершок, А под ним — углей на три. На циновках мы сидим Босиком вокруг горшка, Руки греем и молчим По незнанью языка. Впрочем, это даже лучше — Никому не отвечать И иметь удобный случай Помолчать. В доме холодно, спасенья Нет. Потому что отопленья Нет. Дорогого, Дарового, Дровяного, Парового — Никакого Нет. Говорят, что потепленье В феврале. А пока все отопленье Тут, в золе. Под золой три угля тлеют, Легкий чад. Трое русских руки греют, Молчат. Впрочем, говорят, не для обиды Бедных Нас Сделан этот деревом обитый Медный Таз. Не из прихоти он скован, Не с отчаянья, А нарочно, для мужского Молчания. Чтоб всю ночь над ним Сидеть, Молчать, Не говорить, Только уголь брать, Чтоб прикурить, Да смотреть, как под золой Огонь Пролетит, как голубой Конь. 1946, ЯпонияФУТОН
Чтоб ты знала жестокие Наши мучения, Хоть мысленно съезди в Токио Для их изучения. Живем в японской скворешне, Среди пожарища, Четверо: я, грешный, И три товарища. На слово нам поверя, Войди в положение: Надпись над нашей дверью — Уже унижение. Иероглифами три имени, Четвертое — мое, Но так и не знаем именно, Где — чье? Где вы: Аз, Буки, Веди? Забыли мы обо всем. Живем, как зимой медведи, Лапы сосем. У каждого есть берлога, Холодная, как вокзал. Вот, не верили в бога — Он нас и наказал. Но чтобы тепла лишение Не вызвало общий стон, Как половинчатое решение Принят у нас футон. Футоном называется Японское одеяло, Которое отличается От нашего очень мало. Просто немножко короче, Примерно наполовину; Закроешь ноги и прочее — Откроешь спину… А в общем, если по совести Этот вопрос исследовать, — Футон, он вроде повести, Где «продолжение следует». Конечно, в сравнении с вечностью, Тут не о чем говорить, Но просто, по-человечеству, Хочется поскулить. Особенно если конечности Мерзнут до бесконечности. Мы вспомнить на расстоянии Просим жен О нашем существовании, Положенном под футон, Где тело еще отчасти Согреется как-нибудь, Но у души, к несчастью, Ноги не подогнуть. 1946, ЯпонияЗОЛОТЫЕ РЫБКИ
Рядом с кухней отеля «Миако», Где нас кормят морской капустой, Есть пруд и рыбы. Однако Их никто не ест, — будь им пусто! Потому что это не просто, А золотые, священные рыбы, Стой над ними, считай хоть до ста, И за то спасибо. Они плавают с сытыми мордами, Раздувая хвосты, Очевидно, дьявольски гордые Независимостью от плиты. Они очень надменны, ибо Презирают до содрогания Прочую просто рыбу, Предназначенную для питания. Они держатся даже в воде Друг с другом несколько сухо, Оттого что они — в пруде Аристократия духа. Так изысканно и рассеянно Живут они всю неделю, Но каждое воскресение Приходит повар отеля. И, принеся извинения Всем предкам на случай уж Чертовского совпадения С переселением душ, В кимоно с двумя поясами Он стоит над водой и в ней Долго ищет глазами, Которая пожирней. Лотом с ужасной улыбкой, Взмахнув сачком, как ужаленный, Берет золотую рыбку И делает ее жареной. Другие рыбы потопчутся, Поспорят, посокрушаются И расплывутся. В обществе Рыб это наблюдается. А может, пруда население Тоже не без идей И верит в переселение Своих душ в людей. И в этом есть вероятие. Разве мы не могли бы Сказать об одном приятеле, Что в нем душа рыбы? 1946, Япония«Бывает иногда мужчина…»
Бывает иногда мужчина — Всех женщин безответный друг, Друг бескорыстный, беспричинный, На всякий случай, словно круг, Висящий на стене каюты. Весь век он старится и ждет, Потом в последнюю минуту Его швырнут — и он спасет. …………………………………… Неосторожными руками Меня повесив где-нибудь, Не спутай. Я не круг. Я камень. Со мною можно потонуть. 1946«Чтобы никогда не думала…»
Чтобы никогда не думала, Что ты связан с ней порукою, Чтоб нет-нет да вдруг и дунуло Неожиданной разлукою. Чтобы так и не увидела Расставанья невозможности, Чтобы никогда не выдала Аттестат благонадежности. Чтоб ты был тропою около, А не мостовою хоженой, Чтоб могла держать, как сокола, Лишь на рукавице кожаной. Чтоб с тобой, сдержав дыхание, Шла как со свечой рискованной, Чтобы было это здание От огня не застраховано. 1947«Барашек родился хмурым осенним днем…»
Барашек родился хмурым осенним днем И свежим апрельским утром стал шашлыком, Мы обвили его веселым желтым огнем И запили его черным кизлярским вином. Мы обложили его тархуном — грузинской травой И выжали на него целый лимон. Он был так красив, что даже живой Таким красивым не мог быть он. Мы пили вино, глядя на горы и дыша Запахом уксуса, перца и тархуна, И, кажется, после шестого стакана вина В нас вселилась его белая прыгающая душа, Нам хотелось скакать по зеленым горам, Еще выше, по синим ручьям, по снегам, Еще выше, над облаками, Проходившими под парусами. Вот как гибельно пить бывает вино, Вот до чего нас доводит оно, А особенно если баклажка Упраздняется под барашка. Но женщина, бывшая там со мной, Улыбалась одними глазами, Твердо зная, что только она виной Всему, что творилось с нами. Это так, и в этом ни слова лжи, У нее были волосы цвета ржи И глаза совершенно зеленые, Совершенно зеленые И немножко влюбленные. 1947ДОМ ДРУЗЕЙ
Дом друзей, куда можно зайти безо всякого, Где и с горя и с радости ты ночевал, Где всегда приютят и всегда одинаково, Под шумок, чем найдут, угостят наповал. Где тебе самому руку стиснут до хруста, А подарок твой в угол засунут, как хлам; Где бывает и густо, бывает и пусто, Чего нет — того нет, а что есть — пополам. Дом друзей, где удач твоих вовсе не ценят И где счет неудачам твоим не ведут; Где, пока не изменишься сам, — не изменят, Что бы ни было — бровью не поведут! Где, пока не расскажешь, допросов не будет, Но попросишь суда — прям, как штык, будет суд; Где за дерзость — простят, а за трусость — засудят, И того, чтобы нос задирал, не снесут! Дом друзей — в нем свои есть заботы, потери — Он в войну и с вдовством и с сиротством знаком, Но в нем горю чужому открыты все двери, А свое, молчаливое, — век под замком. Сколько раз в твоей жизни при непогоде Он тебя пригревал — этот дом, сколько раз Он бывал на житейском большом переходе Как энзэ — как неприкосновенный запас! Дом друзей! Чем ему отплатить за щедроты? Всей любовью своей или памятью всей? Или проще — чтоб не был в долгу у него ты, Сделать собственный дом тоже домом друзей? Я хотел посвятить это стихотворенье Той семье, что сейчас у меня на устах, Но боюсь, — там рассердятся за посвященье, А узнать себя — верно, узнают и так! 1951СЫН
Был он немолодой, но бравый; Шел под пули без долгих сборов, Наводил мосты, переправы, Ни на шаг от своих саперов; И погиб под самым Берлином, На последнем на поле минном, Не простясь со своей подругой, Не узнав, что родит ему сына. И осталась жена в Тамбове. И осталась в полку саперном Та, что стала его любовью В сорок первом, от горя черном; Та, что думала без загада: Как там, в будущем, с ней решится? Но войну всю прошла с ним рядом, Не пугаясь жизни лишиться… Ничего от него не хотела, Ни о чем для себя не просила, Но, от пуль закрыв своим телом, Из огня его выносила И выхаживала ночами, Не беря с него обещаний Ни жениться, ни разводиться, Ни писать для нее завещаний. И не так уж была красива, Не приметна женскою статью. Ну, да, видно, не в этом сила, Он ее и не видел в платьях, Больше все в сапогах кирзовых, С санитарной сумкой, в пилотке, На дорогах войны грозовых, Где орудья бьют во всю глотку. В чем ее красоту увидел? В том ли, как вела себя смело? Или в том, как людей жалела? Или в том, как любить умела? А что очень его любила, Жизнь ему отдав без возврата, — Это так. Что было, то было… Хотя он не скрыл, что женатый. Получает жена полковника Свою пенсию за покойника; Старший сын работает сам уже, Даже дочь уже год как замужем… Но живет еще где-то женщина, Что звалась фронтовой женой. Не обещано, не завещано Ничего только ей одной. Только ей одной да мальчишке, Что читает первые книжки, Что с трудом одет без заплаток На ее, медсестры, зарплату. Иногда об отце он слышит, Что был добрый, храбрый, упрямый. Но фамилии его не пишет На тетрадках, купленных мамой. Он имеет сестру и брата, Ну, а что ему в том добра-то? Пусть подарков ему не носят, Только маму пусть не поносят. Даже пусть она виновата Перед кем-то, в чем-то, когда-то, Но какой ханжа озабочен — Надавать ребенку пощечин! Сплетней душу ему не троньте! Мальчик вправе, он должен знать, Что отец его пал на фронте И два раза ранена мать. Есть над койкой его на коврике Снимок одерской переправы, Где с покойным отцом, полковником, Мама рядом стоит по праву. Незабывшая, незамужняя, Никому другому не нужная, Она молча несет свою муку. Поцелуй, как встретишь, ей руку! 1954ЧУЖАЯ ДУША
Дурную женщину любил, А сам хорошим парнем был, С врагами — не застенчивым, К друзьям — не переменчивым; Умел приехать к другу, Подать в несчастье руку, Поднять в атаку роту, Стать грудью в непогоду! Был и умен, и добр, и смел, И верен был отчизне, И одного лишь не умел В своей короткой жизни: Взять отодвинуть взглядом И рассмотреть как следует Ту, что живет с ним рядом, Что спит с ним и обедает; Ту, что с их первой встречи Была с ним всех короче, И жизнь его калеча, И честь его пороча… А эта, с кем он жил, она — Могу ручаться смело, — Что значит слово-то «жена», Понятья не имела. Свои лишь ручки, ноженьки Любила да жалела, А больше ничегошеньки На свете не умела: Ни сеять, ни пахать, ни жать, Ни думать, ни детей рожать, Ни просидеть сиделкою, Когда он болен, ночь, Ни самою безделкою В беде ему помочь. Как вспомнишь — так в глазах темно, За жизнь у ней лишь на одно Умения хватило — Свести его в могилу! А где же были мы — друзья? Тут виноват и ты и я! Молчали, замечали Да головой качали: Мол, вроде неприлично Касаться жизни личной. Да так и не коснулись, Как умер лишь — проснулись! 1954БОРИСУ ГОРБАТОВУ
1
Умер друг у меня — вот какая беда… Как мне быть — не могу и ума приложить. Я не думал, не верил, не ждал никогда, Что без этого друга придется мне жить. Был в отъезде, когда схоронили его, В день прощанья у гроба не смог постоять, А теперь вот приеду — и нет ничего; Нет его. Нет совсем. Нет. Нигде не видать. На квартиру пойду к нему — там его нет. Есть та улица, дом, есть подъезд тот и дверь, Есть дощечка, где имя его — и теперь. Есть на вешалке палка его и пальто, Есть налево за дверью его кабинет… Все тут есть. Только все это вовсе не то, Потому что он был, а теперь его нет! Раньше как говорили друг другу мы с ним? Говорили: «Споем», «Посидим», «Позвоним», Говорили: «Скажи», говорили: «Прочти», Говорили: «Зайди ко мне завтра к пяти». А теперь привыкать надо к слову: «Он был». Привыкать говорить про него: «Говорил», Говорил, приходил, помогал, выручал, Чтобы я не грустил — долго жить обещал, Еще в памяти все твои живы черты, А уже не могу я сказать тебе «ты». Говорят, раз ты умер — таков уж закон, — Вместо «ты» про тебя говорить надо: «он», Вместо слов, что люблю тебя, надо: «любил», Вместо слов, что есть друг у меня, надо: «был». Так ли это? Не знаю. По-моему — нет! Свет погасшей звезды еще тысячу лет К нам доходит. А что ей, звезде, до людей? Ты добрей был ее, и теплей, и светлей, Да и срок невелик — тыщу лет мне не жить, На мой век тебя хватит — мне по дружбе светить.2
Умер молча, сразу, как от пули, Побледнев, лежит — уже ничей. И стоят в почетном карауле Четверо немолодых людей. Четверо, не верящие в бога, Провожают раз и навсегда Пятого в последнюю дорогу, Зная, что не встретят никогда. А в глазах — такое выраженье, Словно верят, что еще спасут, Словно под Москвой из окруженья, На шинель подняв, его несут.3
Дружба настоящая не старится, За небо ветвями не цепляется, — Если уж приходит срок, так валится С грохотом, как дубу полагается. От ветров при жизни не качается, Смертью одного из двух кончается. 1954«Дружба — дружбой, а служба — службой…»
«Дружба — дружбой, а служба — службой» — Поговорка-то золотая, Да бывает так, что без нужды Изо рта она вылетает. Чуть ругнут тебя на все корки, Гром — за дело ль, без дела ль — грянет, Под удобную поговорку, Как под крышу, спрячутся дряни. Как под зонтиком в непогоду, Будут ждать под ней хоть полгода, С бывшим другом играя в прятки, Пока вновь не будешь «в порядке». Упрекнешь их — ответят тут же: «Дружба — дружбой, а служба — службой». Срам прикроют листиком шутки И пойдут, встряхнувшись, как утки. Снова — ты им за дорогого, Снова — помнят дорогу к дому, Долго ль, коротко ль? — До другого Им послышавшегося грома. Не в одной лишь дружбе накладны Эти маленькие иуды; Что дружить не умеют — ладно. Да ведь служат-то тоже худо! 1954ЖИЛ ДА БЫЛ ЧЕЛОВЕК ОСТОРОЖНЫЙ…
Жил да был человек осторожный, Осторожный до невозможности, С четырех сторон огороженный Своей собственной осторожностью. В частокол им для безопасности, Словно гвозди, фразы насованы: «В этом деле пока нет ясности…», «Это дело — не согласовано…». А вокруг каждой этой фразы — Битых стекол мелкие жала: «Поглядим…», «Возможно…», «Пожалуй…», «Не вполне…», «Не время…», «Не сразу…» — До того хороша ограда, Будто так для людей и надо! Будто то, что всего дороже нам, Этой изгородью огорожено. Полно, так ли? А мне сдается, Мы за изгородь глянуть можем: Кто же это за ней пасется? Сам собою, как конь, стреножен, Чтоб случайно не разбежаться, Чтоб от «да» и «нет» воздержаться! Вдруг все страсти его мордасти — Не для пользы Советской власти? Не затем, ничего подобного! А затем, чтоб ему удобнее! Подозренья имею веские, Слыша, как он там сыто ржет, Что он вовсе не власть Советскую — Сам себя от нас бережет. 1954УЛЫБКА
Бывает — живет человек и не улыбается И думает, что так ему, человеку, и полагается, Что раз у него, у человека, положение, То положено ему к положению — и лица выражение. Не простое — золотое, ответственное: Тому — кто я и что я — соответственное. Иногда уж вот-вот улыбнется, спасует… И ему ведь трудно порой удержаться! Но улыбку сам с собой согласует, Проголосует И решит большинством голосов — воздержаться. И, откуда-то взявши, что так вот и надо Чуть ли не для пользы революции, Живет в кабинете с каменным взглядом, С выражением лица — как резолюция! Даже людей великих портреты Заказал — посуровей для кабинета, Чтобы было все без ошибок! Чтобы были все без улыбок! Сидит под ними шесть дней недели, — Глаза бы их на него не глядели! И лишь в воскресенье, на лоно природы, На отдых выехав, на рыбалку, На рыбок с улыбкою смотрит в воду. Для них улыбки ему не жалко. Никто не заметит улыбку эту, Не поведет удивленно бровью, Хоть весь день, без подрыва авторитета, Сиди, улыбайся себе на здоровье! И сидит человек и улыбается, Как ему, человеку, и полагается. Его за воскресное это безделье, За улыбки рыбкам судить не будем… Эх, кабы в остальные шесть дней недели Эту б улыбку не рыбкам — людям! 1954ДРУГ-ПРИЯТЕЛЬ
Едва ошибся человек, Как сразу — им в привычку — Уж тянут, тянут руки вверх Его друзья — в кавычках. Один — чтоб первым осудить На первом же собрании, Другой — чтоб всех предупредить, Что он все знал заранее… Что говорить об этих двух? Из сердца сделай вычерк! Но вот сидит твой третий друг — Как будто без кавычек. Он и сегодня, как вчера, Рубашкою поделится, Проутешает до утра: Что все это безделица И скоро перемелется… С тобой душой не покривит: Что можно, да и нужно Тебе за грех твой дать на вид, А больше не положено! А больше не заслужено! Но, не потупивши глаза И медный голос выковав, Его подаст он все же — за Тот самый строгий выговор, Что хоть и не положен И все тому подобное… Но раз уже предложен, То против — неудобно! Потом с собрания к нему Зайдешь — затащит силой, Чтоб объясниться, что к чему. Что не тебе, брат, одному, А и ему, а и ему — Да-да! — не просто было! Что он тебя всегда любил, И все об этом знают; Случалось, вместе водку пил, И это тоже знают; Вдобавок вы с ним земляки, И нету человека, Чтобы не знал, как вы близки С ним чуть не четверть века. В твою защиту выступить — Как напоказ все выставить! Вдруг раздались бы реплики: Мол, время зря не тратили, Мол, уж не слишком крепко ли Спаялись вы, приятели? Кому же это нужно-то! Ведь было б только хуже — да? А так — ну что ж, ну строго, Ну перегнули малость, За выговор, ей-богу, Рука не подымалась! — А все же поднял? — Поднял. Так это ведь — сегодня, Но есть еще райком, горком, Поговорят, протрут с песком, Дадут на вид, пожалуй, А выговор — обжалуй! И я, как вызовут, скажу, Что в этом отношении Я слишком строгим нахожу Первичное решение. Дерись, обжалуй! А пока, Коль доведется туго, Вот, брат, тебе моя рука, А если надо — угол, Бывает, брат, и хуже, Давай садись за ужин, Беда — бедой, еда — едой! И смотришь на него, как он Все ходит, суетится, И добрый он, И славный он, И чуть собой гордится, Накормит и напоит, Спать у себя положит… А большего не стоит И спрашивать, быть может? Но вдруг совсем простой вопрос: «Постой, постой, что он тут нес? И почему же, собственно, Не мог он на собрании Сказать о мненье собственном Перед голосованием? Что вы не просто с ним дружки, Что вы врагов с ним били, Что в жизни не одни вершки — И труд и бой делили; Что не слепою верою — В делах дурной попутчицей, — Что всею жизни мерою Он за тебя поручится!» Его ты вправе упрекнуть, Хоть люди есть и хуже… Все дело в том, как тут взглянуть: Пошире? Иль поуже? Поуже — что ж, все ничего, Он парень неплохой, Не требуй лишнего с него — Спасибо, что такой. Пошире взгляд жесток, увы, — С ним не были друзьями вы! Тех двух, с кого я начал речь, Их просто от себя отсечь. Но с этим третьим — сложно, Заколебаться можно… Чтоб эти вытравить черты, Пора в лицо смотреть им — Случается, что я и ты Бываем этим — третьим… 1954АНКЕТА ДРУЖБЫ
По-разному анкеты На дружбу заполняют И на себя за это Потом пусть не пеняют. Иной, всего превыше Боясь толчка под ребра, Такого друга ищет, Чтоб был, как вата, добрый. Другой друзей находит, Чтоб зажигали спички, Чтобы за ним в походе Несли его вещички. Чем в друге ошибиться, Поверивши в улыбки, Уж лучше ушибиться Об друга по ошибке. Друг — не клавиатура, Чтоб пробежать руками, Углы его натуры Обследуют боками. Пусть как обрывы Ужбы Характер тот отвесен, Пускай до вашей дружбы Был путь не так уж весел, Пусть надо с ледорубом Идти до той вершины, Где называют другом Друг друга два мужчины. Где не спьяна казалось: Ты, я, да мы с тобою! А где вас смерть касалась Одним крылом обоих! Дороги к дружбе нету Другой, чем восхожденье. Я в дружбе — за анкету С таким происхожденьем! 1956ТОСТ, УСЛЫШАННЫЙ В ДАГЕСТАНЕ
Мы не боимся сутки Подряд пропить до новых. Здоровые рассудки Живут в телах здоровых. Кто пьет — пусть не тощает, Уж лучше пусть толстеет, А тот, кто угощает, Пусть честно богатеет. А кто, наперекор нам, Вдруг встанет на дороге, Пусть, как завистник черный, Скорей уносит ноги! Пусть те, кого мы любим, Живут, как мы желаем! И те, кого не любим, Живут, как мы желаем! 1956«Зима сорок первого года…»
Зима сорок первого года — Тебе ли нам цену не знать! И зря у нас вышло из моды Об этой цене вспоминать. А все же, когда непогода Забыть не дает о войне, Зима сорок первого года, Как совесть, заходит ко мне. Хоть шоры на память наденьте! А все же поделишь порой Друзей — на залегших в Ташкенте И в снежных полях под Москвой. Что самое главное — выжить На этой смертельной войне, — Той шутки бесстыжей не выжечь, Как видно, из памяти мне. Кто жил с ней и выжил, не буду За давностью лет называть… Но шутки самой не забуду, Не стоит ее забывать. Не чтобы ославить кого-то, А чтобы изведать до дна, Зима сорок первого года Нам верною меркой дана. Пожалуй, и нынче полезно, Не выпустив память из рук, Той меркой, прямой и железной, Проверить кого-нибудь вдруг! 1956НАШ ПОЛИТРУК
Я хочу рассказать сегодня О политруке нашей роты. Он войну начинал на границе И погиб, в первый раз, под Смоленском. В черном небе, когда умирал он, Не было и проблеска победы. — В бой за Родину! — крикнул он хрипло. В бой за Ста… — так смерть обрубила. Сколько б самой горькой и страшной С этим именем связанной правды Мы потом ни брали на плечи, Это тоже было правдой в то время. С ней он умер, пошел под пули. Он второй раз погиб в Сталинграде В первый день, в первый час прорыва, Не увидев, как мы фашистам Начинаем платить по счету. Умирая, другие люди Шепчут: «Мама» — и стонут: «Больно». Он зубами скрипнул: — Обидно! — Видно, больше всего на свете Знать хотел он: как будет дальше? В третий раз он умер под Курском, Когда мы им хребет ломали. День был жарким-жарким. А небо — Синим-синим. На плащ-палатке Мы в тени сожженного «тигра» Умирающего положили. Привалившись к земле щекою, Он лежал и упрямо слушал Уходивший на запад голос Своего последнего боя. А в четвертый раз умирал он За днепровскою переправой, На плацдарме, на пятачке. Умирал от потери крови. Он не клял судьбу, не ругался. Мы его не могли доставить Через Днепр обратно на левый. Он был рад, что, по крайней мере, Умирает на этом, правом, Хотя Днепр увидел впервые В это утро, в день своей смерти, Хотя родом на этот раз он Был не киевский, не полтавский, А из дальней Караганды. У него было длинное имя, У политрука нашей роты, За четыре кровавых года Так война его удлинила, Что в одну строку не упишешь: Иванов его было имя, И Гриценко, и Кондратович, Акопян, Мурацов, Долидзе, И опять Иванов, и Лацис, Тугельбаев, Слуцкий, и снова Иванов, и опять Гриценко… На политрука нашей роты Наградных написали гору. Раза три-четыре успели Наградить его перед строем, Ну, а чаще не успевали Или в госпиталях вручали. Две награды отдали семьям, А одна, — говорят, большая, — Его так до сих пор и ищет… Когда умер в четвертый раз он, Уже видно было победу, Но война войной оставалась, И на длинной ее дороге Еще много раз погибал он. Восемь раз копали могилы, Восемь тел его мы зарыли: Трижды в русскую, в русскую, в русскую, В украинскую, в украинскую, И еще один — в белорусскую, На седьмой раз — в братскую польскую, На восьмой — в немецкую землю. На девятый раз он не умер. Он дошел до Берлина с нами, С перевязанной головою На ступеньках рейхстага снялся С нами вместе, со всею ротой. И невидимо для незнавших Восемь политруков стояло Рядом с ним, с девятым, дошедшим. Это было так, потому что Всю дорогу, четыре года, Они были душою роты, А душа, говорят, бессмертна! Не попы, а мы, коммунисты, Говорим, что она бессмертна, Если наше смертное тело, Не страшась, мы сожгли в огне На Отечественной войне. Где же наш политрук девятый? Говорят — секретарь райкома, Говорят — бригадир в колхозе, Говорят — дипломат на Кубе, Говорят — в жилотдел послали, Чтоб на совесть все, без обмана… Говорят — в Партийном контроле, Восстанавливая справедливость, День и ночь сидел над делами, Что касались живых и мертвых, Что остались от тех недобрых, Столько бед принесших времен… Очевидно, разные люди Его в разных местах встречают — Вот и разное говорят. Видно, был он в войну не только В нашей с вами стрелковой роте… 1961ЗНАМЯ
От знамен не прикуривают. И не шутят под ними И около них. И не штопают — если пробито. Из пробитого знамени кровь не уходит, Не надо его бинтовать! Кровь уходит, Когда Знамя бросают на землю. А когда, вынося, Обвернут Вокруг голого потного тела, Знамя не будет В обиде. Пятен крови оно На себе не боится. Кровь — не грязь. И убитого, Если правда герой, — Можно накрыть Ненадолго. Надолго Он не позволит. Потому что знамя Нужно живым… 1963ВЬЕТНАМ, ЗИМА СЕМИДЕСЯТОГО{7}
ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ…
1
Не спрашиваю, не выпытываю. Сначала, как на полигоне, Сам на себе Вьетнам испытываю, Сам проверяю: все ли понял! Не на экране, не на фото, Не кто-то, за кого — мне больно, Я сам ложусь вместо кого-то, На чье-то место, добровольно. Под бомбами, на поле рисовом, Лежу, опять двадцатилетний, Как в сорок первом, под Борисовом, На той, считавшейся последней…2
Под крышей пальмовой рябою При керосиновом огне Сначала мне, С самим собою Сидящему наедине, Напоминает бой — о бое И тишина — о тишине. Потом вдруг все перевернется, Как рано утром на войне, И слышу, как вот-вот начнется Вот в этой самой тишине…3
Вот здесь мою жену убили. Свалились с неба — и убили. Воронка — около дороги, А я шофер на старом ЗИСе, Взад и вперед я еду мимо, Четвертый год неутомимо, Неутомимо, неутомимо. И эта старая воронка, В которой прорастают травы, Четвертый год, как похоронка, То слева от меня, то справа…4
Моя сестра благополучно родила В землянке, в результате операции. Пилот, пустивший «шрайк» из-под крыла, Цель поразив, сказал своим по рации: «Я цел, о'кей!» — про эту операцию. Осколок «шрайка» зацепил брюшину Сравнительно удачна, так что плод Был чуть задет. До свадьбы заживет! Ребенок еще вырастет мужчиной. Пока в землянке резали и шили, Там, наверху, еще бомбежка шла, У операционного стола Два старика велосипед крутили, Велосипедной фарою светили, Чтоб у хирурга видимость была. Все хорошо. И летчик цел — о'кей. И женщина почти цела — о'кей. Ребенок почти цел — о'кей. Моя сестра благополучно родила В землянке, в ходе этой операции… В которой честь американской нации, Как говорят, защищена была…5
Под бомбами, прочь Уводя от смертей, Сотую ночь Мы будим детей. Будим детей. Их с юга вдоль моря На север ведем И, плача от горя, Им спать не даем, Спать не даем. Пока отбомбят, Весь день они ждут, А ночью не спят, Ночью идут, Ночью идут. Лишь смеркнется чуть, Детдом встает И, чтоб не заснуть, Хором поет, Хором поет. Старшему — девять, Младшему — пять, Три месяца детям Хочется спать, Хочется спать. У всех у них пали Отец или мать, Но, кроме того, еще Хочется спать, Хочется спать… Ничья уже совесть, Проснувшись сейчас, Тех детских бессонниц Не вынет из глаз, Не вынет из глаз. И нету ни средства, Ни сил у врачей Обратно то детство Отнять у ночей, Отнять у ночей…6
С чего начинается память — с берез? С речного песочка? С дождя на дороге? А если — с убийства! А если — со слез! А если — с воздушной тревоги! А если с визжащей пилы в облаках, Со взрослых, в пыли распростертых! А если с недетского знания — как Живое становится мертвым! И в пять, и в пятнадцать, и в двадцать пять лет Войной начинается память. Здесь, в этой стране, где непомнящих — нет, Попробуем это представить…7
Здесь отделенье самообороны Из пулемета сбило самолет. Вот здесь бомбил он. Вот следы воронок. Вот здесь упал он. Здесь зарыт пилот. Крестьяне, руки в небо подымая, Показывают направленье трасс. Да, я не мальчик, да, я понимаю — Мне говорят все это в сотый раз. И легендарность этого успеха Уже вошла в их деревенский быт, И не волнение, а только эхо Волнения в их голосах звучит. Все так. Но самолет был ими сбит Над их домами, И четыре года В нелетную и в летную погоду Тот самолет над ними не летит…8
…Я не видал жены семнадцать лет. Летают люди даже через полюс, Но нам с женой не продадут билет На пароход, на самолет, на поезд. Мы, как ножом, разрезаны рекой И, с двух сторон дойдя до переправы, Соединиться не имеем права. Семнадцать лет — как есть закон такой! Дочь родилась там, без меня. Жена состарилась там, без меня. Сын стал солдатом без меня. Все без меня там. Все без меня… Где я живу? Я в Костроме живу, Моя жена — под Курском. Дети — с нею. Нет, я не лгу! Как я вам лгать посмею! Я даже эту реку назову! Река — Ока! Уже семнадцать лет, Как вдоль нее проложена граница, И чтобы мне с семьей соединиться, Через нее — билетов нет и нет. Проезд закрыт по карте вниз и вверх. И я, не в силах совладать с тоскою, Живу в России, русский человек, Как надвое разрубленный Окою. Я многое забыть себе велел, Но та река никак не забывается. Семнадцатая параллель — Стихотворенье называется…9
Напоминает море — море. Напоминают горы — горы. Напоминает горе — горе; Одно — другое. Чужого горя не бывает, Кто это подтвердить боится, — Наверно, или убивает, Или готовится в убийцы…НАД ЛАОСОМ
Война не вписана в билеты На этот рейс Аэрофлота, Но существует рядом, где-то В пятнадцати минутах лёта. И если б выключить турбины, То мы, летящие по кромке, Услышали бы, как там мины Укладываются в воронки. Да, странные теперь бывают Международные маршруты: Здесь нас везут, там — убивают, А расстояние — минуты! Но что всего странней — как будто Назло войне, напутав что-то, Взяв три билета от Калькутты На этот рейс Аэрофлота, Одетые чудаковато, Как дьяконы, длинноволосы, Американские ребята Летят над джунглями Лаоса. Ремни защелкнув привязные, Летят всю ночь впритык с войною, Чтоб сжечь на митинге в Ханое Свои повестки призывные. Летят, незримо руки стиснув, От всех отчуждены пока, Похожи на парашютистов За полминуты до прыжка…БОМБЕЖКА ПО ПЛОЩАДЯМ
Сквозь облака сырые, То на землю, то в воду, «Бэ — пятьдесят вторые» Опять бомбят природу. В нелетную погоду По площадям бомбят, Сквозь облака, как ломом, Долбят ее, долбят. Долбят со всею силой Тупого превосходства, Долбят сквозь прах могилы, Долбят сквозь доски моста. Долбят пещерным ломом Сквозь храм седьмого века, Сквозь черепицу крыши, Сквозь череп человека. Но если б очень точно Подряд все эти годы В одну и ту же точку Вгонять их лом в природу, Проржавленный войною, Прошел бы он, как гвоздь, Сквозь все нутро земное, И, наконец, — насквозь! И со смертельным стоном, — Все может быть, все может, — Прорвал земную кожу Как раз под Арлингтоном. Где, сводок не читая, Свое испив до дна, Их мертвые считают, Что кончилась война. Спят там, где их зарыли, Без права спорить — спят. Их «пятьдесят вторые» — По площадям бомбят…ДЕЖУРКА
Летчики — как летчики, Свои ребята. В дежурке — на точке Крыша в три наката. Сбиты нары новые, — Знакомый быт, — Только не сосновые — Из пальмы сбиты. Те же перегрузки, Те же МИГи. Только не по-русски Читают книги. Только вместо хлеба Рис рубают. Другое небо, Война — другая. А если — та же? И — все за то же? Льет трехэтажный Вьетнамский дождик. Сидят ребята, Ждут ракеты, Как мы когда-то В России где-то.РУКОПИСЬ
Южанин рассказывает, как на Юге Семь лет провел на войне. Автоматом заняты руки, А рукопись — на спине. Вчерне закончена — третий год, Но не с кем послать в Ханой. Политрук со своею ротой идет И с рукописью за спиной. Он под огнем, и она под огнем, И его и ее осколком задело, На спине прихваченную ремнем, Словно второе тело. В джунглях спрятать? Съест тля дотла. В землю зарыть? За месяц сгниет, Как будто и не писал ничего. Кому-то оставить? А вдруг убьет Не тебя, а его! Говорит, как страх подталкивал в спину, Как последние дни считал по часам, Когда нес ее тропой Хо Ши Мина, Свою книгу, с войны, сам. Как, с трудом разбирая черновики, — Еще на полгода муки! — Ее вновь переписывал от руки, — Раньше не доходили руки. (Как у нашего Быкова в сорок пятом Всё были заняты автоматом.) Начинает подробности объяснять, Словно речь о неведомом, непохожем, Хотя мы-то как раз — можем понять. Мы-то как раз можем…МАТЕРИ БОРИСА ГОРБАТОВА
Даже не поверилось сначала: Моряки, одесские ребята, Стоя у Хайфонского причала, Красят теплоход «Борис Горбатов». Я давно не виделся с Борисом. Говорят: здоров, всей грудью дышит, Ходит быстро. Жалко только — писем Нам, своим товарищам, не пишет. У него хорошая работа, Он всегда любил ее такую, Только перебрался из пехоты На другую службу, на морскую. Мама, сын Ваш ходит где-то в море Что Вы живы, может быть, не зная, Мама, сядьте, напишите Боре, Пусть в ответ хотя бы просигналит. Ну, а если сам Вас не услышит, Где-нибудь с короткого привала Капитан Вам за него напишет, Так оно и на войне бывало…ТОВАРИЩУ ТО ХЫУ, КОТОРЫЙ ПЕРЕВЕЛ «ЖДИ МЕНЯ»
Я знаю, здесь мои стихи живут В прекрасном Вашем переводе. И будут жить, покуда жены ждут Тех, кто в походе. Уж четверть века пушки бьют и бьют! И вдовы на могилы ходят, И, ждя живых, мои стихи живут В прекрасном Вашем переводе. Скорей бы наступил тот год На длительном пути к свободе, Когда стихи, как люди, свой поход Закончат в Вашем переводе. Пусть в этот день, когда уже не ждут С войны людей и — тишина в природе, Мои стихи, легко вздохнув, умрут В прекрасном Вашем переводе.«…Не пишется проза, не пишется…»
…Не пишется проза, не пишется, И, словно забытые сны, Все рифмы какие-то слышатся, Оттуда, из нашей войны. Прожектор, по памяти шарящий, Как будто мне хочет помочь — Рифмует «товарищ» с «пожарищем» Всю эту бессонную ночь… 1970–1971 Вьетнам — Москва«Умирают друзья, умирают…»
Умирают друзья, умирают… Из разжатых ладоней твоих Как последний кусок забирают, Что вчера еще был — на двоих. Все пустей впереди, все свободней, Все слышнее, как мины там рвут, То, что люди то волей господней, То запущенным раком зовут… 1970* «Ненужные воспоминания…»
Ненужные воспоминания Придут, когда их не зовут, Как лишние переиздания Книг, без которых — проживут! Всем весом, всею грудой пыльною Налягут так, что, чуть дыша, Вдруг заскрипит и — даже сильная — Прогнется, как доска, душа. 1970* «Бывает, слово «ненавижу»…»
Бывает, слово «ненавижу» Звучит слабей, чем «не увижу». Не взрыв, не выстрел, не гроза А белые, как смерть, глаза И белый голос: не увижу. Как в камень вмерзшая слеза. 1970РАЗВЕДКА
Светлой памяти Георгия Добровольского, Владислава Волкова, Виктора Пацаева
Начинена огнем земля; Не оступись, не хрустни веткой — Вперед, за минные поля Уходит пешая разведка. Все пригнано, чтоб не греметь, И приготовлено для боя, И орденов своих с собою Им не положено иметь. И как последнее прости — На жданный и нежданный случай Им сказано: пора идти. Чем проще сказано — тем лучше. А после — ждут и в тишину Глядят за черный край передний, Уже не в первый за войну, Но может статься — что в последний… ………………………………………. ……………………………………….. Все по-другому, все не так, Но есть в их гибели такое, Что вновь та жизнь перед тобою — Ее закон, ее устав, Ее бессмертная пехота, Ее бессонная забота, — Над прахом головы склонив, Вновь думать, кто же вместо них? Наверно, в космосе есть тоже Непрекращаемость атак. Все остальное — непохоже, А это — так. Наверно, так… 1971«Сколько б ни придумывал фамилий…»
Сколько б ни придумывал фамилий Мертвым из моих военных книг, Все равно их в жизни хоронили. Кто-то ищет каждого из них. Женщина из Тулы ищет брата, Без вести пропавшего в Крыму. Видел ли я сам того солдата В час, когда явилась смерть к нему? И в письме из Старого Оскола, То же имя вычитав из книг, Детскою рукою пишет школа — Не ее ли это ученик? Инвалид войны из той же роты По приметам друга узнает, — Если сохранилось его фото, Просит переснять. И деньги шлет. А в четвертом, кратком, из Тагила, Просят только верный адрес дать: Сын к отцу желает на могилу, Не успев при жизни повидать… Взял я русское простое имя, Первое из вспомнившихся мне, Но оно закопано с другими Слишком много раз на той войне. На одну фамилию — четыре Голоса людских отозвалось… Видно, чтобы люди жили в мире, Нам дороже всех платить пришлось! Получаю письма… получаю… Снова, виноватый без вины, На запросы близких отвечаю Двадцать лет, — как политрук с войны… 1971«Тот самый длинный день в году…»
Тот самый длинный день в году С его безоблачной погодой Нам выдал общую беду На всех, на все четыре года. Она такой вдавила след И стольких наземь положила, Что двадцать лет и тридцать лет Живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, Все едет кто-нибудь из близких, И время добавляет в списки Еще кого-то, кого нет… И ставит, ставит обелиски. 1971«Навеки врублен в память поколений…»
Навеки врублен в память поколений Тот год в крови, Тот снег И та страна, Которой даже мысль была странна — Что можно перед кем-то — на колени. Страна, где жил И где не умер Ленин. Хоть помним и другие имена, И в чем — заслуга их, И в чем — вина. 1971«Преуменьшающий беду…»
Преуменьшающий беду, Чью тяжесть сам он понимает, По чуть схватившемуся льду — Бегущего напоминает. Скользит, подыскивая слово, Чтоб не сказать — ни «нет», ни «да», А там, внизу, течет сурово Истории тяжелая вода… 1971«Вновь, с камнем памяти на шее…»
Вновь, с камнем памяти на шее, Топлю в себе — тебя, война, Но, как в затопленной траншее, Опять всплываешь ты со дна. На лицах этих старых женщин, В курортном этом городке, Где с каждою — мертвец повенчан, Когда-то, где-то, вдалеке. И — сквозь старушечьи загары, Косметик поздние цветы, В ее чертах — его черты, Той смерти миг, тех бомб удары. …………………………………………… Война… Как эти вдовы, с нею, Наверное, повенчан я. И ни короче, ни длиннее — Срок давности — вся жизнь моя. 1971* Не лги — анатом!
Не лги — ана́том! Скажи — патолог: Раз путь наш долог — Смерть вышлют на дом? Исчадье ада Иль божий агнец — Всем вышлют на дом — Таков диагноз? А если — в поле? А если — пуля? — То божья воля, Его пилюля! 1973* «Осень, ветер, листья — буры…»
Осень, ветер, листья — буры. Прочной хочется еды. И кладут живот свой куры На алтарь сковороды. И к подливам алычовым И к осеннему вину Что добавить бы еще вам? Лошадь? Женщину? Войну? Позднее киплингианство Нам под старость не к лицу. Время есть. И есть пространство. Только жизнь идет к концу. И последние стаканы, К юности своей жесток, Пью за скулы океана — Не за Запад и Восток. 1973* «То недосуг самих себя чинить…»
То недосуг самих себя чинить, То в спешке чью-то гибель провороним. Не оттого ль так часто и хороним, Что некогда друг друга хоронить. 1974* НЕ ТУТ, ТАК ТАМ…
Все было: страшно и нестрашно, Казалось, что не там, так тут… Неужто под конец так важно: Где три аршина вам дадут? На том ли, знаменитом, тесном, Где клином тот и этот свет, Где требуются, как известно, Звонки и письма в Моссовет? Всем, кто любил вас, так некстати Тот бой, за смертью по пятам! На слезы — время им оставьте, Скажите им: не тут — так там… 1974* «Самих себя, да и печать…»
Самих себя, да и печать, Нам научить бы отличать: Первымговорящего От Впередсмотрящего. 1975* «Кто в будущее двинулся, держись…»
Капитану В. В. Михайличенко
Кто в будущее двинулся, держись, Взад и вперед, Взад и вперед до пота. Порой подумаешь: Вся наша жизнь Сплошная ледокольная работа. 1975* «Вот тебе и семьдесят, Самед!»
Памяти Самеда Вургуна
Вот тебе и семьдесят, Самед! Молодому, дерзкому и нежному. Все не верю, вот уж двадцать лет, Что нельзя обнять тебя по-прежнему. Есть ушедшие давным-давно, На кого и до сих пор надеемся, С кем, с живым ли, с мертвым — все равно, — Хлебом правды по привычке делимся… 1976* ОПЫТ ВЕРЛИБРА
…Верлибр (фр.) — термин, определяющий широкий и недостаточно ясно очерченный круг явлений в стихосложении XX в.
К. Л. Э., т. VI, стр. 709 Сегодня, перед обедом, пятого сентября, Я, находясь в Турции, Вернее, в ее территориальных водах, Решил, что годы идут И, чтобы успеть сочинить Побольше стихов на разные темы, Мне пора прощаться с рифмами. Боже мой, сколько времени Я угробил на их поиски, Считал, что ищу свои, А находил чужие. Чаще всего Так оно и бывает, Только не все признаются. То ли дело верлибр С его изумительным принципом: «В огороде бузина, А в Киеве дядька», Который теперь называется «Потоком сознания»! Взяв его за основу, Остается только разбить Все, что придет в голову, На строчки разной длины, Вот вам и верлибр! Мы стоим в бухте Книдас, Боясь ветра И не боясь радио, Обрывки которого он доносит, Обрывки лжи И обрывки правды… А у хижины, сложенной из остатков Греческого театра, Мальчик борется с ветром, Таща на веревке козла. Козел старый, скорее всего родившийся Еще при императоре Адриане, А мальчик маленький. И ветер каждый раз захлопывает Дверь хижины Перед самым носом, А точнее — перед самой бородой козла. Нас пятеро — двое турок И трое русских, Один из них — я, с татарской кровью в жилах, Что, впрочем, не имеет ни малейшего отношения Ни к последующему, Ни к предыдущему. Нам всем одинаково Надоел ветер И надоела вода, Но, к счастью, не надоело И никогда не надоест есть, Тем более что капитан нашей моторки Готовит прекрасные турецкие блюда На таком оливковом масле, Что хочется облизать пальцы Свои И даже чужие. И вдобавок оказывается, Что турецкая ракия — Прекрасная вещь для моей печени, Особенно если ее в меру, до белизны Разбавлять холодной водой. Ракию, разумеется, А не печень. Капитан удивляется ветру, Слишком раннему Для этого времени года, И вспоминает, как в этой же бухте Сидел из-за ветра английский посол. Но это было попозже, В конце октября. Бедняга, — думаю я о после, — Наверно, сидел тут без телефона И волновался, как там его правительство Без его информации. А мы ничего, не волнуемся, Сидим себе и сидим И думаем только — хватит ли харча Еще на неделю стоянки. Так мы живем, Таковы мои наблюдения И мысли, Если их можно назвать мыслями. Однако в конце для приличия Надо что-то сказать и о вечности. Вечность — и слева, и справа, Остатки домов такого-то века, И остатки храмов такого-то, И в этих остатках вечности Кто-то опять копается, На этот раз, кажется, действительно археологи. Позавчера мы тоже ходили по вечности Вместе со стражником в форме И со словом «музей» на околыше старой фуражки. Музей когда-нибудь будет, Хотя иностранцы уже украли Две головы, мужскую и женскую, Обе — мраморные, И один подсвечник, Если не врут — золотой. Вечность слева и справа, А прямо по носу моторки Тоже вечность, домишко С небрежно написанным рыжею краской Вечным, как мир, словом: «Restorant». Если ветер продолжится И у нас не хватит еды, Мы сядем в ялик И посетим эту вечность. Самую реальную из всех. Такие, как эти, стихи можно писать бесконечно, Но бумага кончается — и это, увы, реальность, Жестокая, если угодно. Если бы я писал это в рифму — ушло бы дней пять, А так — меньше часа, Даже жаль, что так быстро, А еще далеко до обеда…* * *
И если какой-нибудь наш Отсталый редактор Не согласится считать Это стихами — Отдам их другому, Более прогрессивному, Как сделанный мною подстрочник Для будущего перевода С русского на турецкий, Или наоборот. Или еще с какого-то На еще какой-то. В общем — чтоб не пропало! Не знаю, как с этим в Турции, Но у нас один из поэтов Уверял меня, что другой Именно так и делает, В связи с недостатком времени, А также из гуманизма: Во избежание простоев У своих переводчиков… 1976ПОЭМЫ
ПОБЕДИТЕЛЬ{8}
Памяти Николая Островского
1
Над крышею липы шумят бесконечно, Цветут и желтеют. За тонкой стеной На узкой кровати, железной и вечной, Лежит человек слепой и больной. Он пристально смотрит на белое что-то, Где ничего, кроме стенки, нет, Туда, где по прежним зрячим расчетам Должен висеть его старый портрет. Портрет перевешен. В комнате душно, Сквозь ставни просачивается жара, В портрете отражены подушки, Кровать, два никелевых шара И, поднимаясь над их сияньем, Петлицы, ремни и высокий шлем… Какое грозное расстоянье Между хозяином дома и тем, Тем безусым, тем круглоглазым, Тем, чья юношеская рука Лежит на огромной и безотказной, Донельзя сверкающей грани клинка. Вечером, где-то на полустанке, Между сраженьем и мертвым сном, Бродячий фотограф за полбуханки Заснял его с шашкой, на вороном. И той же ночью, когда на привале, Сложив трехлинейки в ближнем углу, Скудный ужин бойцы жевали, Разувшись, придвинув ноги к теплу, В местечко ворвался израненный конник, Лежа ничком на спине коня. Следом влетели польские кони И, рассыпаясь, пошли по камням. Вцепившись в шершавые ручки «максима», Он бил наугад от стены до стены. Словно их ветром с коней сносило, Шарахались к изгородям паны, Кони бесились, взмывали круто, С ходу повертывали назад. Тогда комиссар, улучив минуту, Поднял и бросил вперед отряд… А он, чертыхаясь, бежал с пулеметом, Отстав от своих на сотню шагов, Когда на рысях из-за поворота Лошади вынесли трех врагов. Он покачнулся, остановился, В глаза их шляхетские поглядел, Железную тыкву системы Мильса Бросил под ноги лошадей. Кони стали в пыли и в мыле, Шар завертелся, подпрыгнул, и Трое панов в поднебесье взмыли, Отдали богу души свои. А он, завалясь в придорожную глину, От небывалой боли дрожа, Всем телом услышал, как в мокрую спину Врезаются два стеклянных ножа.2
Год с небольшим пролежал в лазарете. Врач на прощанье сказал: «Держись! Помни, чтоб дольше прожить на свете, Придется тебе отдыхать всю жизнь». Состав по разбитым рельсам и шпалам Его дотащил до родимых мест, Целые сутки, тревожась, не спал оп, Из окон рассматривая окрест Кусок опустелого ржавого фронта; Теплушки разбитые лезли в глаза — Страна молчаливо ждала ремонта, И отказать ей было нельзя. В тысячный раз за окно поглядел он, Не хуже, чем в школьные времена, Из смятых рецептов голубя сделал И, свистнув, пустил его из окна. С грехом пополам добрался до дома, Кобель, не узнав, принялся брехать, Все дома знакомо и незнакомо, Дверь отперла постаревшая мать. Часок повалялся на узкой кушетке, По двору побродил босиком… И под вечер тронулся на разведку — Вставать на партийный учет в губком.3
А после был медленный мартовский вечер. В злосчастном двадцать восьмом году, Когда болезнь навалилась на плечи И властно сказала ему: «Не уйду». Утром его укачало в дороге. Едва он вернулся к себе в райком, Как все завертелось, и на пороге, Попятившись, рухнул при всех ничком. Очнулся при электрическом свете, Поднялся. Кругом зашептали: «Ложись». Озлобленно вспомнил: «Чтоб жить на свете, Придется лекарства жевать всю жизнь!» В девятом часу привезли на квартиру. Стянул сапоги; тяжело дыша, Послал проклятье целому миру Вещей, решивших ему мешать: Лестницам с недоступной вершиной, Порогам, которых не переступить, Дорогам, болтавшим его машину С явной целью его убить. Проклял и вдруг задумался — что же, Это проклятье значит, что он На лестницы больше вползать не может, Переступать порогов не может, На «форде» своем объезжать не может Им же вынянченный район. Калека! — которого держат на службе, Щадя, пока еще можно щадить, Которому скажут назавтра по дружбе: «Пора и на пенсию выходить. Подлечишься годик, — быть может, поможет, Быть может, вернешься опять, а пока…» И верно! Он знает, работа не может Держаться в дрожащих его руках. А что же останется? Он огляделся: Столик, пол-этажерки книг — За недосугом и войнами с детства Он слишком редко заглядывал в них, — Навзничь лежащая гимнастерка, Старые хромовые сапоги, Диван, на котором локтями протерты Примелькавшиеся круги… Осталась надежда подольше держаться, Подольше прожить в безнадежно больных: Но отнимите надежду сражаться — Нам даром не надо надежд остальных. Ему надоело перемогаться Пять с половиною лет подряд! Наутро с поездом десять двадцать Он выехал в Ленинград.4
У двери холодного черного дома Дважды нажал старомодный звонок. «Дома ли доктор?» — «Профессор дома». Он святотатственно пренебрег Ковриком для вытирания ног… Потом возвращался неторопливо, Минуя проспекты, каналы, мосты. На Марсовом поле от долгих поливок Взошли удивительные цветы. Он сел на скамейку и осторожно Вдыхал левкои и табаки. Дети сновали по узким дорожкам, Лепили песочные пирожки. А завтра больница… Отрывисто, близко Ломится в серый гранит волна. Ему ли, солдату, бояться риска, Леченье — это почти война. Как в дверь вошел в два года мучений — Операционных столов, врачей, Приступов, маленьких облегчений, Свирепых больничных дней и ночей. Он верил: кончится эта мука. Как ни копались в его спине, Ни разу еще не издал ни звука — Только глаза отводил к стене. А спину так часто сшивают и рубят, Что в промежутках всегда живут: Привычка облизывать черствые губы, Привычка подушку свертывать в жгут. Тот, кто выздоровления жаждет, Все позволяет рукам врача. Врачи не решились его однажды Хлороформировать. Не крича, Лежа в не смоченной хлороформом Сухой повязке, лицом к полотну, Он слышал, как кожа расторглась покорно, Когда ланцет ее полоснул. Оп видел пустыми от боли глазами, Как мир становился тесней и темней, Если бы сердце ему вырезали, Наверное, не было бы страшней. Но к третьему году он больше не верил. Довольно. Зачем было ехать сюда, Когда он не может дойти до двери, Когда ему палка нужна, когда После десятков стаканов крови, Отданных жадным больничным тазам, Стали седыми виски и брови, Высохли щеки, ввалились глаза… Довольно мучиться! Даже птицы На родину трогаются весной… Он повернулся ко всем больницам Своею израненною спиной. Он в поезде. Ливень о крышу бьется, Стекла дрожат и гремят, как жесть. А место с соседом менять придется: На верхнюю полку теперь не залезть…5
Медленно, словно влезая в гору, Добрался до города своего. Милый город. Любимый город… Собрать пожитки и вон из него! Город, свидетель его здоровья, Теперь, когда он от бессилья стонал, Вечно стоял бы у изголовья, О прежней работе напоминал. Уехать! И вот в городке на Волге Нашелся ему постоянный приют. Летом за окнами парни подолгу Протяжные волжские песни поют. Зимою за окнами бури подолгу Ветром и снегом о землю бьют. Стоит на обрыве над самой Волгой Одноэтажный дощатый приют: Он жил в этом доме, еще не веря, Что правы болезни и доктора. Как птица, спалившая крылья и перья, Он пал в этот город. Была пора Ветров и волнений. Река взрывалась И выла, когда он попал сюда, И красное пламя листьев врывалось И плыло по опустелым садам. Как ждал он! Нетерпеливо, ужасно, Необъяснимо, упорно ждал. В постели, на улице, ежечасно, Ежеминутно, везде, всегда. Он ждал потому, что ему невозможным Казалось безделье. Он ждал потому, Что слишком невыносимо тревожной Была тишина в этом тихом дому. Он знал — не будет выздоровленья… Но ждал его. Каждое утро ему Казалось: не так трясутся колени, Не так он болен. Ждал потому, Что не поверил в свою тюрьму. Но в душную полночь под Первое мая Паралич к стенке его припер. Лежал неподвижно, не понимая — На что надеялся до сих пор? Он вспомнил: цветы на Марсовом поле.. Зеленая утренняя вода… Ему казалось тогда, что он болен, Но разве он мог представить тогда: Пол, потолок и четыре стенки, Подушки за высохшею спиной, Чужие, негнущиеся коленки, Смирно лежащие под простыней. Светало… За окнами праздничный лагерь; Единственный «форд» повсюду сновал, Натиск плакатов, цветов и флагов В узкую улицу заплывал. Вот полковые трубы узнал он — Врывается в окна их медный закон… Властные звуки «Интернационала» В постели навытяжку слушает он. И братская медь поднимает и будит, Сурово толкает его вперед, И кажется, долго он жить еще будет И не скоро еще умрет.6
Под вечер заехал товарищ хороший, Большой, неуклюжий, еще молодой, С усами, торчащими над заросшей Тронутой проседью бородой. Они обнялись. На одно мгновенье Гость испугался, что закричит От страшного птичьего прикосновенья Колких плечей и острых ключиц. Ему неожиданно захотелось Сжаться, сузиться самому, Спрятать свое огромное тело — Здоровье свое показалось ему Почти оскорбительным в этом доме, Где умирали. И стало вдруг Стыдно своих железных ладоней, Каменных бицепсов, сильных рук. Как неуютно и одиноко… Товарищ долго стоял у стены, Где жили давно отслужившие сроки Армейские френчи, шинели, штаны. Там из проношенного кармана, Словно за старым владельцем следя, Торчала тяжелая ручка нагана, На искушение наводя. Больной, приподнявшись на изголовье, Увидел, как робко, исподтишка, Шершавую ручку нагана ловит Неловкая дружеская рука И, выловив, прячет его небрежно В свой широченный синий карман. Первое чувство — большая нежность За этот неловкий и милый обман. И сразу же чувство пренебреженья К тому, кто посмел испугаться, что он В минуту горечи и раздраженья Использует в личных целях патрон. Сердито сказал: «Положи на место, Меня рановато еще стеречь…» И так взволновался, что с этого места У них не клеилась дальше речь. Больного отчаянно раздражала И эта забота, и эта жалость, И та безнадежность, с какой, очевидно, Старый товарищ отнесся к нему; Безнадежность была обидна, Жалость была ему ни к чему. Хотел в лицо закричать, что, быть может, Еще неизвестно, кто больше из них Назавтра партийному делу поможет По мере сегодняшних сил своих. И, подтянуться стремясь наружно, Кашель пытался прикрыть платком. Они расстались раньше, чем нужно, С обидным, отчетливым холодком.7
Пока еще много дневного света, Пока еще только ночами темно, Пока еще ливни листьев и веток Врываются в узкое это окно. Пока еще зренье не ослабело, И веки еще не в слепых слезах, И мир не сделался вечно белым И вечно черным в твоих глазах — Надо начать учиться, учиться, Школьником надо себя считать. Пока слепота еще только стучится, Долго и яростно надо читать… Книги, прошедшие сквозь его руки, Как будто лесник прошел с топором, Носили на теле своем зарубки Ногтем, карандашом и пером. Болезнь не дремала все это время. Едва приподнявшись, его рука Падает, как непосильное бремя, В яму пружинного тюфяка. Глаза его слепнут. Все реже и реже Они отдыхают. При свете огня Зрачки нестерпимо мучительно режет, Зато он читает по целым дням. И что ж о глазах толковать впустую — Врачами сосчитаны зрячие дни. Пускай хоть они у него не пустуют, Пусть подлинно зрячими будут они. Но по ночам, несмотря на старанье Жадно и несговорчиво жить, Сознание скорого умиранья Руки спешит на него наложить. И сразу нелепо, непостижимо — К чему он читает книги, к чему? Он, ослабевший и недвижимый, Хочет все новых знаний — кому Вручит он свои запоздалые знанья? Если, всего безногий пока, Не нынче, так завтра в полном сознанье Лишится зрения и языка И, обладая единственно слухом, Станет бездонным колодцем, куда Последние мысли скатятся глухо, Но из которого — никогда!8
В августе слег с воспалением легких, Если к нему применимо — слег. Совсем исхудавши, сделался легким, Неощутимым, как мотылек. Таким, что, когда освежали воздух, Сосед, легко приподняв с тюфяка, Его выносил осторожно, как воду, Держа на вытянутых руках. Так слепота его и застала В жару и беспамятстве. Сквозь забытье Он слышал, как книгу сиделка листала, Смотрел и не видел пальцев ее. Очнувшись, взглянул в потолок. Показалось, Что потолок, как всегда, над ним Темный и низкий. Но оказалось, Что потолком, неизменным, одним, Покрыты все окна, двери и вещи… С правой и левой его руки, Снизу и сверху в глазах зловеще Стоят почерневшие потолки. Пришла слепота. Задыхаясь и плача, Он неотступно думал о ней. И, ничего для него не знача, Шли перемены ночей и дней. Бессилье росло в его теле усталом, Но, сжатый усталостью этой в тиски, Единственно, кажется, что не устал он, — Надеяться, всем и всему вопреки. Давно уж без горечи видеть не мог он, В газетные вглядываться листы, Там строили шлюзы, там грызли горы, Там все его спрашивали: «А ты?» Давно уж без горечи видеть не мог он, А все же глядел, затаясь, не дыша, На роты, ходившие мимо окон, Штыками полязгивая и спеша. В медленных гусеничных разговорах, В шуме моторов он слышал укор Себе, командиру запаса, который Не сможет явиться на лагерный сбор, Себе, которого старые раны Лишили почетного званья бойца… С какой бы охотой рубцы ветерана Сменил он на крепкие руки юнца, С какой бы охотой по первой тревоге В мешок положил консервы и хлеб — И снова на Запад по старой дороге… Но это химеры! Он болен. Он слеп. Он должен подумать о том, что осталось. Он думал. Он трезво учел слепоту. Ему не спалось. Не жилось. Не читалось. Ему надоело смотреть в темноту. Душными летними вечерами Он оставался один на один С грохочущим радио. И в мембране Слышался треск раздираемых льдин. Шли ледоколы. Ворчал экскаватор. Катились цистерны. Потом тишина. Откуда-то из-за Альп глуховато К нему догромыхивала война. Потом на седьмом пограничном знаке Отрывисто тявкал чужой пулемет — Желтые люди в мундирах хаки Кричали «банзай», бежали вперед И падали, сбитые пограничной Тяжелою пулей. Амур скрежетал. Пахло войной. В мембране привычной Тревожно и зло сотрясался металл. Война!.. Ловя содроганье металла, Больной себя чувствовал на часах: Война!.. А у юношей не хватало Мужской суровости в голосах, Предгрозья холодного ощущенья, Спокойствия пополам со смешком, Даваемых только ближайшим общеньем С винтовкою и вещевым мешком. А он это знал! В нем скопилось за годы Все то, что, как хлеб, им нужно сейчас, Из опыта битв, переходов, походов Готов уделить он львиную часть. Проклятая немощь! Как долго и сложно! Как сможет он людям теперь одолжить Все, что пришлось коммунисту в тревожной, В трудной жизни своей нажить. Как передать привычку сражаться, Острое фронтовое чутье, Умение жадно за жизнь держаться И отдавать, когда нужно, ее. Старую дружбу свою с поездами, Хорошую странность бродить пешком, Привычку к легкому чемодану Со сменой белья и зубным порошком… Про все рассказать, чтобы поняли, чтобы Их за душу взяли его слова, Чтоб перед смертью, упрям до гроба, Он снова вошел бы в свои права Бойца. Но для этого надо, однако, Писать. Сочинять. Составлять дневники. А он не писатель — он старый вояка. Строчить сочиненья ему не с руки. Но все, чему был он в жизни свидетель, Ему говорило, как дважды два: Не счастье, не кислая добродетель, Не ловко расставленные слова — Сегодня на свете чего-то стоят Люди, прошедшие гром и дым. Мужество века, как штык, простое Сегодня дорого молодым. Он заработал суровое право — По жизни людей провести за собой: Вот здесь я направо пошел — направо, Вот здесь я сражался — идите в бой! Так, значит, писать! Может, очень просто, Гораздо проще, чем их пережить, Своих поступков жестокую поступь В такие же строчки переложить?9
Каждое утро жена терпеливо, В молчанье, боясь его мысли прервать, Ждала, пока он не начнет торопливо, Захлебываясь, диктовать. А он отдиктует и вновь собирает, Залпом бросает пятнадцать фраз, И снова трагически не поспевает Их карандаш записать зараз. Снова длительное молчанье. Женщина, думая — он уснул, Скрывается, мягко пожав плечами, Боясь, помешать короткому сну. А он, наконец совладав с изложеньем, Страницу отдиктовав не спеша, Вдруг слышит, что в комнате нет скольженья, Короткого скрипа карандаша… Фразы перемежались с молчаньем, Слова вылетали из головы. Между началом и окончаньем Ложились шершавые грубые швы. Тогда он подыскивал фразы короче, Слова подгонял одно к одному, Так, чтобы строй их был прост и прочен И сразу запоминался ему. Он много писал о друзьях, о погодках, Но, даже займись он собою одним, Все поколенье военной походкой Пришло бы и встало в затылок за ним.10
Полдень. За окнами душное лето. Скорей бы уже разразилась гроза! Он от невидимого портрета Отводит невидящие глаза. Он чувствует: близкий конец наступает. На маленьком столике в головах Лежит, еще мокрая и слепая, Последняя начатая глава. Он чувствует: близкий конец наступает. Он даже не может поднять руки, Боль, неотвязная и тупая, Ему продавливает виски. Домашние, с вечными их слезами, Подчеркнуто бодрые доктора… Он видит своими слепыми глазами — Лафет приготовлен. Ему пора. Но он не желает. Еще неделю! Он должен докончить работу. И вот, Как бы врачи на него ни глядели, Он против всех правил еще живет. Они предлагали с ненужной заботой Оставить писанье — наивный народ. Для них непонятно, что, бросив работу, Он в ту же минуту, наверно, умрет. Все удивляются! Щупают тело — Где жизнь в нем засела? Им невдомек, Что человек, не докончив дела, В могилу сойти не хотел и не мог. А дом еще спит… Поскорее! Снова… Не чинены с вечера карандаши. «Не обижайся, прости больного, Мне очень некогда! Сядь, пиши!»11
Вчера, опровергнув никчемные сроки, Он умер. С улыбкой на желтом лице Лежит он, докончив последние строки, Последнюю точку поставив в конце. Его через город везут на лафете, Как павших на службе народу бойцов. Он улыбается. Даже дети Без страха смотрят ему в лицо. Мне кажется, он подымается снова, Мне кажется, жесткий сомкнутый рот Разжался, чтоб крикнуть последнее слово, Последнее гневное слово — вперед! Пусть каждый, как найденную подкову, Себе это слово на счастье берет. Суровое слово, веселое слово, Единственно верное слово — вперед! Слышишь, как порохом пахнуть стали Передовые статьи и стихи? Перья штампуют из той же стали, Которая завтра пойдет на штыки. 1937ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ{9}
Глава первая
1918 год
Всю ночь гремела канонада. Был Псков обложен с трех сторон. Красногвардейские отряды С трудом пробились на перрон. И следом во мгновенье ока Со свистом ворвались сюда Германцами до самых окон Напичканные поезда. Без всякой видимой причины Один состав взлетел к чертям. Сто три немецких нижних чина, Три офицера были там. На рельсах стыли лужи крови, Остатки мяса и костей. Так неприветливо во Пскове Незваных встретили гостей! В домах скрывались, свет гасили, Был город темен и колюч. У нас врагу не подносили На золоченом блюде ключ. Для устрашенья населенья Был собран на Сенной парад. Держа свирепое равненье, Солдаты шли за рядом ряд. Безмолвны и длинны, как рыбы, Поставленные на хвосты; Сам Леопольд Баварский прибыл Раздать Железные кресты. Германцы были в прочных касках, Пронумерованных внутри И сверху выкрашенных краской Концерна «Фарбен Индустри». А население молчало, Смотрел в молчанье каждый дом. Так на врагов глядят сначала, Чтоб взять за глотку их потом. Нашлась на целый город только Пятерка сукиных детей, С подобострастьем, с чувством, с толком Встречавших «дорогих» гостей. Пять городских землевладельцев, Решив урвать себе кусок, Сочли за выгодное дельце Состряпать немцам адресок. Они покорнейше просили: Чтоб им именья возвратить, Должны германцы пол-России В ближайший месяц отхватить. Один из них в особом мненье Просил Сибири не забыть, Он в тех краях имел именье И не хотел внакладе быть. На старой, выцветшей открытке Запечатлелся тот момент: Дворянчик, сухонький и жидкий, Читает немцам документ. Его козлиная бородка (Но он теперь бородку сбрил!), Его повадка и походка (Но он походку изменил!), Его шикарная визитка (Но он давно визитку снял!) — Его б теперь по той открытке И сам фотограф не узнал. Но если он не сдох и бродит Вблизи границы по лесам, Таких, как он, везде находят По волчьим выцветшим глазам. Он их не скроет кепкой мятой, Он их не спрячет под очки, Как на открытке, воровато Глядят знакомые зрачки. А немец, с ним заснятый рядом, В гестапо где-нибудь сидит И двадцать лет все тем же взглядом На землю русскую глядит.Глава вторая
…перевѣть держаче съ Нѣмци Пльсковичи и подъвели ихъ Твердило Иванковичь съ инѣми, и самъ поча владѣти Пльсковымъ съ Нѣмци, воюя села Новгородьская.
Новгородская Первая Летопись1240–1242 годы
Два дня, как Псков потерян нами, И видно на сто верст окрест — Над башней орденское знамя: На белом поле черный крест. В больших посадничьих палатах, С кривой усмешкой на устах, Сидит ливонец в черных латах С крестами в десяти местах. Сидит надменно, как на пире, Поставив черный шлем в ногах И по-хозяйски растопыря Ступни в железных башмаках. Ему легко далась победа, Был мор, и глад, и недород. На Новгород напали шведы, Татары были у ворот. Князек нашелся захудалый, Из Пскова к немцам прибежав, Он город на словах отдал им, За это стол и кров стяжав. Когда Изборск был взят измором И самый Псков сожжен на треть, Нашлись изменники, которым Не дало вече руки греть. Былого лишены почета, Они, чтоб власть себе вернуть, Не то что немцам — даже черту Могли ворота распахнуть… Ливонец смотрит вниз, на вече, На черный плавающий дым. Твердило — вор и переветчик — Уселся в креслах рядом с ним. Он был и в Риге, и в Вендене, Ему везде кредит открыт, Он, ластясь к немцу, об измене С ним по-немецки говорит. Он и друзья его просили И просят вновь: собравши рать, Должны ливонцы пол-России В ближайший месяц отобрать. Но рыжий немец смотрит мимо, Туда, где, свесившись с зубцов, Скрипят веревками под ними Пять посиневших мертвецов. Вчера, под мокрый вой метели, В глухом проулке псковичи На трех ливонцев налетели, Не дав им выхватить мечи. Но через час уже подмога Вдоль узких уличек псковских Прошла кровавою дорогой, Топча убитых и живых. Один кузнец, Онцыфор-Туча, Пробился к городской стене И вниз рванулся прямо с кручи На рыцарском чужом коне. За ним гнались, но не догнали, С огнем по городу прошли, Кого копьем не доконали, Того веревкой извели. Они висят. Под ними берег, Над ними низкая луна, Немецкий комтур Герман Деринг Следит за ними из окна. Он очень рад, что милосердный Любезный рыцарский господь Помог повесить дерзких смердов, Поднявших руку на господ. Они повешены надежно, Он опечален только тем, Что целый город невозможно Развесить вдоль дубовых стен. Но он приложит все усилья, Недаром древний есть закон: Где рыцаря на пядь впустили, Там всю версту отхватит он. Недаром, гордо выгнув выи, Кривые закрутив усы, Псковские топчут мостовые Его христианнейшие псы.Глава третья
…а инiи Пльсковичи вбѣжаша въ Новъ городъ съ женами и съ дѣтьми…
Новгородская Первая Летопись Уйдя от немцев сажен на сто, Онцыфор, спешась, прыгнул в лес, По грязи, по остаткам наста С конем в овраг глубокий влез. Он мимо пропустил погоню, И конь не выдал — не заржал. Недаром в жесткие ладони Онцыфор храп его зажал. Скорее в Новгород приехать! Без отдыха, любой ценой! Пусть длинное лесное эхо Семь суток скачет за спиной! Еще до первого ночлега Заметил чей-то синий труп И под завязшею телегой Уже распухший конский круп. Потом телеги шли все чаще, И люди гнали напролом Сквозь колкие лесные чащи, Сквозь голый волчий бурелом. Бросали дом и скарб и рвались Из Пскова в Новгород. Всегда Врагам России доставались Одни пустые города. На третий день над перевозом Он увидал костры, мешки И сотни сбившихся повозок У серой вздувшейся реки. Все ждали здесь, в грязи и стуже, Чтоб лед с верховий пронесло. Онцыфор снял с себя оружие, С коня тяжелое седло. На мокрый камень опустившись, Стянул сапог, потом другой И, широко перекрестившись, Шагнул в волну босой ногой. От стужи челюсти стучали, С конем доплыл до скользких скал. С другого берега кричали, Чтоб в Новгород скорей скакал. От холода себя не помня, Он толком слов не расслыхал, Но в знак того, что все исполнит, Промокшей шапкой помахал. Сквозь дождь и град, не обсыхая, Онцыфор весь остаток дня Гнал в Новгород, не отдыхая, От пены белого коня. Под вечер на глухом проселке Среди затоптанной земли На конский след напали волки И с воем по следу пошли. Но конь не выдал, слава богу, Скакал сквозь лес всю ночь, пока Не рухнул утром на дорогу, Об землю грохнув седока. Хозяин высвободил ногу, Дорогу чертову кляня, Зачем-то пальцами потрогал Стеклянный, мокрый глаз коня. Была немецкая коняга, А послужила хорошо… И запинающимся шагом Онцыфор в Новгород пошел. Да будь хоть перебиты ноги, В дожде, грязи и темноте Он две, он три б таких дороги Прополз молчком на животе. Был час обеденный. Суббота. Конец торговле наступал, Когда сквозь Спасские ворота Онцыфор в Новгород попал. Крича налево и направо, Что псам ливонским отдан Псков, Он брел, шатаясь, между лавок, Навесов, кузниц и лотков. И, наспех руки вытирая, В подполья пряча сундуки, В лари товары запирая, На лавки вешая замки, Вдоль всех рядов, толпой широкой, На вече двинулись купцы, Меньшие люди, хлебопеки, Суконщики и кузнецы. Вслед за посадником степенным, Под мышки подхватив с земли, На возвышенье по ступеням Онцыфора приволокли. И, приподнявшись через силу, Окинув взглядом все кругом, Он закричал, стуча в перила Костлявым черным кулаком: «Был Псков — и нету больше Пскова, Пора кольчуги надевать, Не то и вам придется скоро Сапог немецкий целовать!»Глава четвертая
На волость на Новгородскую въ то врѣмя найдоше Литва, Нѣмци, Чюдь и поймаша по Луге кони вси и скотъ, не на чемъ и орати по селамъ…
Летопись Первая Софийская…послаши Новгородцы Спиридона Владыку по Князя Александра Ярославлича.
Летопись Авраамки Ливонцы в глубь Руси прорвались, Дошли до Луги, Тесов пал. Под самый Новгород, бахвалясь, Ливонский мейстер подступал. Пергамент подмахнув готовый, Подвесив круглую печать, Сам папа их поход крестовый Благословил скорей начать. Вели войну в ливонском духе: Забрали все, что можно брать; Детишки мрут от голодухи, По селам не на чем орать. Враг у ворот, а князь в отъезде, Который месяц шел к концу, Как он со всей дружиной вместе В Переяславль ушел к отцу. На то нашлась своя причина: Князь Александр был мил, пока Громила шведа и немчина Его тяжелая рука. Но, в Новгород придя с победой, Он хвост боярам прищемил И сразу стал не лучше шведа Для них — не прошен и не мил. Бояре верх на вече взяли, Заткнув меньшому люду рот, Дорогу князю показали И проводили до ворот. Теперь, когда с ливонской сворой Пришлось жестоко враждовать, Пошли на вече ссоры, споры: Обратно звать или не звать. Бояр с владыкою послали, Но, кроме этих матерых, Меньшими выбрали послами Похудородней пятерых. Чтоб князь верней пришел обратно, Чтоб он покладистее был, Послали тех людишек ратных, С которыми он шведа бил. Он помнил их — они на вече Боярам всем наперекор За князя поднимали речи И с топорами лезли в спор. Послали их, а к ним в придачу, Чтоб вышли просьбы горячей, Послали, выбрав наудачу, Двоих спасенных псковичей. Онцыфор ехал вместе с ними; К Переяславлю десять дней Пришлось дорогами лесными Хлестать заморенных коней. Уж третий день, как все посольство Ответа ждет, баклуши бьет И, проклиная хлебосольство, В гостях у князя ест и пьет. И, громыхая сапогами, Уж третий день посольский дом Большими меряет шагами Архиепископ Спиридон. Возок сломался — не помеха, За пояс рясу подоткнув, Он треть пути верхом проехал, Ни разу не передохнув. Он был попом военной складки, Семь лет в ушкуйниках ходил И новгородские порядки До самой Вятки наводил. Ему, вскормленному войною, И нынче было б нипочем И заменить стихарь бронею И посох пастырский — мечом. Три дня терпел он униженья, Поклоны бил, дары носил, Три дня, как снова на княженье Он князя в Новгород просил; Князь не торопится с ответом — То водит за нос, то молчит… Епископ ходит до рассвета И об пол посохом стучит. ………………………………………………… С рассветом встав, Онцыфор рядом С другим приезжим псковичом Прошел разок Торговым рядом, Расспрашивая, что почем. Товар пощупал по прилавкам, Послушал колокольный гуд, Сказал купцам переяславским, Что против Пскова город худ. Пошли назад. У поворота В одной из башен крепостных, Скрипя, раздвинулись ворота, И князь проехал через них. На скрип запора повернувшись, Увидев княжеский шелом, Два псковича, перемигнувшись, Ему ударили челом. Он задержался, поневоле Их грудью конскою тесня. «Бояре вас прислали, что ли? Хотят разжалобить меня?» Был жилист князь и тверд как камень, Но не широк и ростом мал, Не верилось, что он руками Подковы конские ломал. Лицом в отцовскую породу, Он от всего отдельно нес Большой суровый подбородок И крючковатый жесткий нос. Сидел, нахохлившись, высоко В огромном боевом седле, Как маленький и сильный сокол, Сложивший крылья, на скале. Не отзываясь, глядя прямо В насечку княжеской брони, Онцыфор повторял упрямо: «От немцев нас оборони!» Князь усмехнулся и внезапно, Коня хлестнувши ремешком, Поворотил его на запад И погрозился кулаком. Потом спросил сердито, быстро: Как немцы вооружены, Кого назначили в магистры И крепко ль с Данией дружны. И по глазам его колючим, И по тому, как злился он, Онцыфор понял — немцам лучше, Не ждя его, убраться вон. Онцыфор поднял к небу руку В ожогах, в шрамах, в желваках И закричал на всю округу, Чтоб слышал бог на облаках: «Пусть черт возьмет меня в геенну, Пусть разразит на месте гром, Когда я на псковскую стену Не влезу первый с топором. Коль не помру до той минуты, Авось увидишь, князь, меня!» Князь повернул на месте круто И молча прочь погнал коня. Был князь злопамятен. Изгнанья Он новгородцам не простил, Весь город плачем и стенаньем Его б назад не возвратил. Обиды не были забыты, Он мог бы прочь прогнать посла, Но, покрывая все обиды, К пришельцам ненависть росла. Острей, чем все, давно он слышал, Как в гости к нам они ползут, Неутомимее, чем мыши, Границу русскую грызут. Они влезают к нам под кровлю, За каждым прячутся кустом, Где не с мечами — там с торговлей, Где не с торговлей — там с крестом. Они ползут. И глуп тот будет, Кто слишком поздно вынет меч, Кто из-за ссор своих забудет Чуму ливонскую пресечь. Князь клялся раз и вновь клянется: Руси ливонцам не видать. Он даже в Новгород вернется, Чтоб им под зад коленкой дать.Глава пятая
Онъ же вскорѣ градъ Псковъ изгна и Нѣмець изсеѣче, а инехъ повяза и градъ освободи отъ безбожныхъ Нѣмець…
Псковская Вторая Летопись Князь первым делом взял Копорье, Немецкий городок сломал, Немецких кнехтов в Приозерье Кого убил, кого поймал. Созвав войска, собрав обозы, Дождавшись суздальских полков, Зимой, в трескучие морозы Он обложил внезапно Псков. Зажат Великой и Псковою, Дубовой обведен стеной, Псков поднимался головою Над всей окрестной стороной. А над высокими стенами, Отрезав в город вход и въезд, Торчало орденское знамя — На белом поле черный крест. Построясь клином журавлиным, Из-за окрестного леска К полудню в псковскую долину Ворвались русские войска. Сам князь, накинув кожух новый Поверх железной чешуи, Скакал прямым путем ко Пскову, Опередив полки свои. Шли псковичи и ладожане, Шли ижоряне, емь и весь, Шли хлопы, смерды, горожане — Здесь Новгород собрался весь. На время отложив аршины, Шли житьи люди и купцы, Из них собрали по дружине Все новгородские Концы. Неслись, показывая удаль, Дружины на конях своих; Переяславль, Владимир, Суздаль Прислали на подмогу их. Повеселевший перед боем, Седобородый старый волк, Архиепископ за собою Вел конный свой владычный полк. В подушках прыгая седельных, Вцепясь с отвычки в повода, Бояре ехали отдельно, За каждым челядь в два ряда. Всех, даже самых старых, жирных, Давно ушедших на покой, Сам князь из вотчин их обширных Железной выудил рукой. Из них любой когда-то бился, Ходил за Новгород в поход, Да конь издох, поход забылся, И меч ржавел который год. Но князь их всех лишил покоя — Чем на печи околевать, Не лучше ль под стеной псковскою Во чистом поле воевать? Уже давно бояре стали Нелюбы князю. Их мечам, Доспехам их из грузной стали, Их несговорчивым речам Предпочитал людишек ратных В простой кольчуге с топором — Он испытал их многократно И поминал всегда добром! Во всю дорогу он, со злости Со всеми наравне гоня, Не дал погреть боярам кости, Ни снять броню, ни слезть с коня. …………………………………………….. Всходило солнце. Стало видно — Щиты немецкие горят. Ливонцы на стенах обидно По-басурмански говорят. Князь в боевом седле пригнулся, Коня застывшего рванул, К дружине с лету повернулся И плеткой в воздухе махнул. На башнях зная каждый выступ, Зацепки, щелки и сучки, В молчанье первыми на приступ Псковские ринулись полки. Князь увидал, как бородатый Залезть на башню норовил Пскович, с которым он когда-то В Переяславле говорил. Онцыфор полз все выше, выше, Рукою доставал карниз, С трудом вскарабкался на крышу И вражье знамя сдернул вниз. В клочки полотнище порвавши, Он отшвырнул их далеко И, на ладони поплевавши, Из крыши выдернул древко. Был Псков отбит. У стен повсюду Валялись мертвые тела. И кровь со стуком, как в посуду, По бревнам на землю текла, А на стене, взывая к мести, Все так же свесившись с зубцов, Качались в ряд на старом месте Пять полусгнивших мертвецов. Они в бою с незваным гостем Здесь положили свой живот, И снег и дождь сечет их кости, И гложет червь, и ворон рвет. Схороним их в земных потемках И клятву вечную дадим — Ливонским псам и их потомкам Ни пяди мы не отдадим! Был Псков опустошен пожаром, В дома завален снегом вход — Христовы рыцари недаром Тут похозяйничали год. Князь Александр расположился В той горнице, где комтур жил. Как видно, комтур тут обжился — Валялась плеть из бычьих жил, В печи поленья дотлевали, Забытый пес дремал в тепле И недопитые стояли Два фряжских кубка на столе. Сам комтур словно канул в воду Метель закрыла все путы. В такую чертову погоду Ему далеко не уйти. Под топорами боевыми Все остальные полегли. Всего троих сгребли живыми И к Александру привели. Они вели себя надменно, Вполне уверены, что князь Их всех отпустит непременно, На выкуп орденский польстясь. Один из них, отставив ногу, Губами гордо пожевал, Спросил по-русски князя: много ль Тот взять за них бы пожелал? Князь непритворно удивился: Ливонцев сызмальства любя, Он сам скорей бы удавился, Чем отпустил их от себя. А чтоб им жить, на Псков любуясь, Чтоб сверху город был видней, Пусть башню выберут любую, И он повесит их на ней. Наутро, чуть еще светало, Князь приказал трубить в рога: Дружинам русским не пристало, На печке сидя, ждать врага. Скорей! Не дав ему очнуться, Не давши раны зализать, Через границу дотянуться, В берлоге зверя наказать. Был воздух полон храпом конским, Железным звяканьем удил. На запад, к рубежам ливонским, Князь ополчение водил. И, проходя под псковской башней, Войска видали в вышине, Как три властителя вчерашних Висели молча на стене. Они глядели вниз на ели, На сотни верст чужой земли, На все, чем овладеть хотели, Но, к их досаде, не смогли. …………………………………………………. Коням в бока вгоняя шпоры, Скакали прочь под гром подков Ливонец и князек, который Им на словах запродал Псков. Два друга в Ригу за подмогой Спешили по глухим лесам И мрачно грызлись всю дорогу, Как подобает грызться псам. Сжимая в ярости поводья, Князька ливонец укорял: «Где Псков? Где псковские угодья, Что на словах ты покорял? Зачем ты клялся нам напрасно, Что плохи русские войска?..» И кулаком, от стужи красным, Он тряс под носом у князька.Глава шестая
…и бысть сѣча ту велика Нѣмцевъ и Чюди…
Новгородская Первая Летопись На голубом и мокроватом Чудском потрескивавшем льду В шесть тыщ семьсот пятидесятом От сотворения году, В субботу, пятого апреля, Сырой рассветною порой Передовые рассмотрели Идущих немцев темный строй. На шапках — перья птиц веселых, На шлемах — конские хвосты. Над ними на древках тяжелых Качались черные кресты. Оруженосцы сзади гордо Везли фамильные щиты, На них гербов медвежьи морды, Оружье, башни и цветы. Все было дьявольски красиво, Как будто эти господа, Уже сломивши нашу силу, Гулять отправились сюда. Ну что ж, сведем полки с полками, Довольно с нас посольств, измен, Ошую нас Вороний Камень И одесную нас Узмень. Под нами лед, над нами небо, За нами наши города, Ни леса, ни земли, ни хлеба Не взять вам больше никогда. Всю ночь, треща смолой, горели За нами красные костры. Мы перед боем руки грели, Чтоб не скользили топоры. Углом вперед, от всех особо, Одеты в шубы, в армяки, Стояли темные от злобы Псковские пешие полки. Их немцы доняли железом, Угнали их детей и жен, Их двор пограблен, скот порезан, Посев потоптан, дом сожжен. Их князь поставил в середину, Чтоб первый приняли напор, — Надежен в черную годину Мужицкий кованый топор! Князь перед русскими полками Коня с разлета повернул, Закованными в сталь руками Под облака сердито ткнул. «Пусть с немцами нас бог рассудит Без проволочек тут, на льду, При нас мечи, и, будь что будет, Поможем божьему суду!» Князь поскакал к прибрежным скалам, На них вскарабкавшись с трудом, Высокий выступ отыскал он, Откуда видно все кругом. И оглянулся. Где-то сзади, Среди деревьев и камней, Его полки стоят в засаде, Держа на привязи коней. А впереди, по звонким льдинам Гремя тяжелой чешуей, Ливонцы едут грозным клином — Свиной железной головой. Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом Двумя рядами конных башен Они врубились напролом. Как в бурю гневные барашки, Среди немецких шишаков Мелькали белые рубашки, Бараньи шапки мужиков. В рубахах стираных нательных, Тулупы на землю швырнув, Они бросались в бой смертельный, Широко ворот распахнув. Так легче бить врага с размаху, А коли надо умирать, Так лучше чистую рубаху Своею кровью замарать. Они с открытыми глазами На немцев голой грудью шли, До кости пальцы разрезая, Склоняли копья до земли. И там, где копья пригибались, Они в отчаянной резне Сквозь строй немецкий прорубались Плечом к плечу, спиной к спине. Онцыфор в глубь рядов пробился, С помятой шеей и ребром, Вертясь и прыгая, рубился Большим тяжелым топором. Семь раз топор его поднялся, Семь раз коробилась броня, Семь раз ливонец наклонялся И с лязгом рушился с коня. С восьмым, последним по зароку, Онцыфор стал лицом к лицу, Когда его девятый сбоку Мечом ударил по крестцу. Онцыфор молча обернулся, С трудом собрал остаток сил, На немца рыжего рванулся И топором его скосил. Они свалились наземь рядом И долго дрались в толкотне. Онцыфор помутневшим взглядом Заметил щель в его броне. С ладони кожу обдирая, Пролез он всею пятерней Туда, где шлем немецкий краем Неплотно сцеплен был с броней. И, при последнем издыханье. Он в пальцах, жестких и худых, Смертельно стиснул на прощанье Мясистый рыцарский кадык. Уже смешались люди, кони, Мечи, секиры, топоры, А князь по-прежнему спокойно Следил за битвою с горы. Лицо замерзло, как нарочно, Он шлем к уздечке пристегнул И шапку с волчьей оторочкой На лоб и уши натянул. Его дружинники скучали, Топтались кони, тлел костер. Бояре старые ворчали: «Иль меч у князя не остер? Не так дрались отцы и деды За свой удел, за город свой. Бросались в бой, ища победы, Рискуя княжьей головой!» Князь молча слушал разговоры, Насупясь на коне сидел; Сегодня он спасал не город, Не вотчину, не свой удел. Сегодня силой всенародной Он путь ливонцам закрывал, И тот, кто рисковал сегодня, — Тот всею Русью рисковал. Пускай бояре брешут дружно — Он видел все, он твердо знал, Когда полкам засадным нужно Подать условленный сигнал. И, только выждав, чтоб ливонцы, Смешав ряды, втянулись в бой, Он, полыхнув мечом на солнце. Повел дружину за собой. Подняв мечи из русской стали, Нагнув копейные древки, Из леса с криком вылетали Новогородские полки. По льду летели с лязгом, с громом, К мохнатым гривам наклонясь; И первым на коне огромном В немецкий строй врубился князь. И, отступая перед князем, Бросая копья и щиты, С коней валились немцы наземь, Воздев железные персты. Гнедые кони горячились, Из-под копыт вздымали прах, Тела по снегу волочились, Завязнув в узких стременах. Стоял суровый беспорядок Железа, крови и воды. На месте рыцарских отрядов Легли кровавые следы. Одни лежали, захлебнувшись В кровавой ледяной воде, Другие мчались прочь, пригнувшись, Трусливо шпоря лошадей. Под ними лошади тонули, Под ними дыбом лед вставал, Их стремена на дно тянули, Им панцирь выплыть не давал. Брело под взглядами косыми Немало пойманных господ, Впервые пятками босыми Прилежно шлепая об лед. И князь, едва остыв от свалки, Из-под руки уже следил, Как беглецов остаток жалкий К ливонским землям уходил.Глава седьмая
1918 год
Не затихала канонада. Был город полуокружен, Красноармейские отряды В него ломились с трех сторон. Германцы, бросив оборону, Покрытые промозглой тьмой, Поспешно метили вагоны: «Нах Дейтчлянд» — стало быть, домой! Скорей! Не солоно хлебнувши, В грязи, в пыли, к вокзалу шли Из той земли, где год минувший Они бесплодно провели. А впрочем, уж не столь бесплодно Все, что успели и смогли, Они из Пскова благородно В свой фатерлянд перевезли. Тянули скопом, без разбора, Листы железа с крыш псковских, Комплект физических приборов Из двух гимназий городских. Со склада — лесоматерьялы, Из элеватора — зерно, Из госпиталя — одеяла, С завода — хлебное вино. Окончив все труды дневные, Под вечер выходил отряд И ручки медные дверные Снимал со всех дверей подряд. Сейчас — уже при отступленье — Герр лейтенант с большим трудом Смог удержаться от стремленья Еще обшарить каждый дом. Он с горечью, как кот на сало, Смотрел на дверь, где, как назло, Щеколда медная сияла, Начищенная, как стекло. Они уж больше не грозились Взять Петроград. Наоборот, С большой поспешностью грузились И отбывали от ворот. Гудки последних эшелонов, Ряды погашенных окон, И на последнем из вагонов Последний путевой огонь. Что ж, добрый путь! Пускай расскажут, Как прелести чужой земли Столь приглянулись им, что даже Иные спать в нее легли! На кладбище псковском осталась Большая серая скала, Она широко распласталась Под сенью прусского орла. И по ранжиру, с чувством меры, Вокруг нее погребены Отдельно унтер-офицеры, Отдельно нижние чины. Мне жаль солдат. Они служили, Дрались, не зная за кого, Бесславно головы сложили Вдали от Рейна своего. Мне жаль солдат. Но раз ты прибыл Чужой порядок насаждать — Ты стал врагом. И кто бы ни был — Пощады ты не вправе ждать.Заключение
1937 год
Сейчас, когда за школьной партой «Майн Кампф» зубрят ученики И наци пальцами по картам Россию делят на куски, Мы им напомним по порядку — Сначала грозный день, когда Семь верст ливонцы без оглядки Бежали прочь с Чудского льда. Потом напомним день паденья Последних орденских знамен, Когда отдавший все владенья Был Русью Орден упразднен. Напомним памятную дату, Когда Берлин дрожмя дрожал, Когда от русского солдата Великий Фридрих вспять бежал. Напомним им по старым картам Места, где смерть свою нашли Прусски, вместе с Бонапартом Искавшие чужой земли. Напомним, чтоб не забывали, Как на ноябрьском холоду Мы прочь штыками выбивали Их в восемнадцатом году. За годом год перелистаем. Не раз, не два за семь веков, Оружьем новеньким блистая, К нам шли ряды чужих полков. Но, прошлый опыт повторяя, Они бежали с русских нив, Оружье на пути теряя И мертвецов не схоронив. В своих музеях мы скопили За много битв, за семь веков Ряды покрытых старой пылью Чужих штандартов и значков. Как мы уже тогда их били, Пусть вспомнят эти господа, А мы сейчас сильней, чем были. И будет грозен час, когда, Не забывая, не прощая, Одним движением вперед, Свою отчизну защищая, Пойдет разгневанный народ. Когда-нибудь, сойдясь с друзьями, Мы вспомним через много лет, Что в землю врезан был краями Жестокий гусеничный след, Что мял хлеба сапог солдата, Что нам навстречу шла война, Что к западу от нас когда-то Была фашистская страна. Настанет день, когда свободу Завоевавшему в бою, Фашизм стряхнувшему народу Мы руку подадим свою. В тот день под радостные клики Мы будем славить всей страной Освобожденный и великий Народ Германии родной. Мы верим в это, так и будет, Не нынче-завтра грохнет бой, Не нынче-завтра нас разбудит Горнист военною трубой. «И если гром великий грянет Над сворой псов и палачей, Для нас все так же солнце станет Сиять огнем своих лучей». 1937СУВОРОВ{10}
П. Антокольскому
1. Опала 1798 год
1
Зима. Проспекты все впотьмах, То снег, то ростепель напала. Бьют барабаны. На домах Расклеены указы Павла. Их много этою зимой, — Один еще не пожелтеет, Глядишь, другой уж сверху клеят: «Размер для шляп — вершок с осьмой, Впредь не носить каких попало, Впредь вальс в домах не танцевать, Впредь Машками под страхом палок Не сметь ни коз, ни кошек звать…» Перед дворцом помост сосновый, На невском ледяном ветру Здесь второпях возводят новый Холодный памятник Петру. Должно быть, в пику Фальконету В нем будет все наоборот: В проекте памятника нету Руки, протянутой вперед, Ни змея, ни скалы отвесной — Он грузно станет на плите, Казенный и тяжеловесный. Да, времена теперь не те, Чтоб царь, раздетый, необутый, Скакал в опор бог весть куда… Из всех петровских атрибутов Вы палку взяли, господа; Ей освященные уставы Нейдут у вас из головы. Давно развеян дым Полтавы, Еще далек пожар Москвы, Ржавеют в арсеналах пушки, Зато сияют кивера… Пять лейб-гвардейцев на пирушке Решили, что царя пора… Пора, а что — нам неизвестно. Но у Гостиного двора Кинжал какой-то житель местный Купил, промолвивши: «Пора…» Пора, а что — мы не дознались, Но есть донос, что до утра В трактире в нумере шептались, Все повторяли: мол, пора… И в снег, и в хлябь, и в непогоду Возводят замок у Невы; Еще в сырых подтеках своды, А уж кругом копают рвы. До света, обогнав зарю, Везут кирпич дорогой зимней — Такая спешка, словно Зимний Стал подозрителен царю. В вороньем гаме, в птичьем грае И в неразборчивом «ура-а!», То каркая, то замирая, К нему доносится: «Пор-р-а…» Он с детства помнит это слово. Он в страхе ищет до сих пор, Где тот гвардеец, тот актер На роль Григория Орлова? Как наперед его узнать? И ночью в поисках измены Он сам выстукивает стены, И шпагой тычет под кровать, И, съежившись, поджав колена, Не в силах до утра уснуть, Решается попеременно То всех сослать, то всех вернуть. Санкт-петербургской ночью серой, Пугая сторожей ночных, Осатанелые курьеры Несутся на перекладных; Их возвращают с полдороги, Переправляют имена: «Снять ордена, упечь в остроги», «Вернуть. Простить. Дать ордена». И в эту ночь к Ямской заставе Курьер скакал во весь опор. Он, у ворот коней оставив, Вбежал на постоялый двор. Потребовал стакан спиртного И на закуску что-нибудь И, нахлобучив шляпу, снова Готов был ехать в дальний путь. Но два проезжих офицера, Пока не улетел в карьер, Схватили за полу курьера: «К кому вы, господин курьер?» «Да что вы, господа, как можно?! Язык казенный под замком. Но так и быть…» Он осторожно, Чуть слышно крикнул петухом…2
Господский дом в селе Кончанском С обеда погружен во тьму. Везде лампадки, как в мещанском Добропорядочном дому. Хозяин экономит свечи, Он скуповат по мелочам. Когда не спится, возле печи Он греться любит по ночам; Бывает, примостив лучину, В одном шлафроке, босиком, Сев по-турецки на овчину, Играет в шашки с денщиком: «Опять ты, Прошка, пересилишь. Опять мне в дамках не бывать…» «Тут нужен ум, Лексан Василич, Ведь это вам не воевать. Ну, проигрались, что за горе? Вам нынче в шашки не с руки, По нонешним годам в фаворе Те, кто умеет в поддавки…» Суворов знает — Прошка снова Все то же скажет, что вчера. И все ж готов он до утра Сидеть и слушать слово в слово, Что Прошка скажет, как польстит. Нет, Прошка лестью не унижен; Его хозяин стар, обижен, На батюшку царя сердит. При матушке Екатерине Он на другой манер серчал: Прижмут ли, обойдут ли в чине, — Бывало, бегал да кричал. А нынче счет забыл обидам, Сидит, молчит, не дует в ус, Но Прошку не обманешь видом, Он знает твой и нрав и вкус. Пусть для других умен да тонок, Пусть для других ты генерал, А с Прошкой в бабки ты играл, Для Прошки ты всю жизнь ребенок. Он знает, чем утешить кстати: То вдруг с три короба наврет, То петь начнет, то Павла татем, Курносым немцем назовет. И, в Прохоре души не чая, Ты только для порядку, зря, Прикрикнешь, будто бы серчая, Чтоб он не смел так про царя; А сам уж шлешь его к буфету, Пусть там пошарит по углам Да принесет графинчик к свету Запить обиду пополам. Вот и сейчас — слыхать отсюда — Он отмыкает поставец, И тихо тренькает посуда, Как еле слышный бубенец. Но что за наважденье! Прошка Уже давно пришел с вином, А звон стеклянный за окном Еще летит по зимним стежкам. Еще летит, и вдруг — к дверям, Так громко, словно бьют бокалы, И если б волю дать коням, Так тройка б в двери проскакала… Дверных запоров треск мгновенный, Шум раздвигаемых портьер, И в дверь полуторасаженный Влезает весь в снегу курьер. Лампадки словно ветер сдул, Во всем дому дрожат стаканы, И сам Суворов, встав на стул, Целует в щеку великана. «Скакал? Коням намылил холки? Небось война, коли за мной? Эй, Прошка! Дай мундир мне с полки, Готовь карету четверней!» Он наискось рванул пакет — Там был рескрипт о возвращенье, Не прошенное им прощенье, А про войну — и слова нет. «Эх вы, гоняете без толку, Напрасно будите людей!.. Не надо, Прошка, лошадей, Мундир обратно спрячь на полку! А ты, курьер, моя душа, Не сетуй, что скакал задаром, Березовым кончанским паром Попарься в баньке не спеша; Поспишь, управишься с обедом, Пропустишь стопку — и лети… Глядишь, по твоему пути — И я в субботу тронусь следом. А что сердито говорю, Ты не горюй. Не ты в ответе, Что б ни привез курьер в пакете, За быстроту — благодарю». ………………………………………. В субботу, взяв с собой рескрипт, Суворов выехал в столицу, И вот полозьев мерзлый скрип — И по бокам пошли стелиться Поля… поля. Через поля Весь день трусить своей дорогой И к ночи, печку запаля, Заснуть в избе. А утром: трогай! Да не спеша. Чай, позван он Не для войны, не для похода… А коли так, то есть резон Сослаться на болезнь, на годы, На бездорожье. Подождут. На что ты им? У них в наградах Не тот, кто штурмом брал редут, А тот, кто мерз на вахтпарадах. Уж не затем ли нам спешить, Чтоб в первый день, боясь доноса, Мундирчик с фалдочками сшить И прицепить к сединам косу? Слуга покорный! Он глядит В заиндевевшее окошко. В кибитке рядом с ним сидит Его денщик и нянька — Прошка. «Эй, Прошка! Прошка!» — Прошка спит. Он пахнет водкой и капустой. Опять напился!.. Стук копыт, То столб, то крест, то снова пусто, Копыта месят снег и грязь, Возок то вниз, то вверх взлетает, Фельдмаршал, к стенке привалясь, Плутарха медленно листает.3
Он под военною трубой Был вскормлен, вспоен и воспитан. И добрый барабанный бой Не раз в бою им был испытан. На неприступный Измаил Ведя полки под вражьи клики, Он барабанный бой ценил Превыше всяческой музыки. Но то, что нынче над Невой, На барабан не походило: И день и ночь по мостовой, Как будто градом, колотило, Сквозь снег, сквозь волн балтийских плеск Однообразно, как машина, Воловьих шкур унылый треск И прусских дудок писк мышиный. Фельдмаршал ждал в приемном зале И слушал барабанный стук. «И так всю жизнь?» Ему сказали, Что так всю жизнь. Что от потуг На барабанах рвутся шкуры. В них снова лупят, починя. На потолках дрожат амуры — Один упал третьего дня. Сильнее прежнего курнос, Царь в зал вбежал, заткнув за лацкан Еще не читанный донос. Фельдмаршал был весьма обласкан, Еще с порога спрошен: «Где же Наш русский Цезарь?» Обольщен. И надо ж быть таким невежей И грубым чудаком, как он, Чтобы, зевнув на комплименты, Перевести тотчас же речь На контрэскарпы, ложементы, Засеки, флеши и картечь; Ворчать, что зря взамен атак На смотры егерей гоняют, И долго шмыгать носом так, Как будто во дворце воняет. Здесь все по-прусски, не по нем. Царь вышел вместе с ним на площадь, Там рядом с Павловым конем Ему была готова лошадь. И, вылетев во весь карьер, Поехали вдоль фронта рядом — Курносый прусский офицер С холодным оловянным взглядом И с ним бок о бок старичок, Седой, нахохленный, сердитый, Одетый в легкий сюртучок И в старый плащ, в боях пробитый. Нет, он не может отрицать — Войска отличный вид имели, Могли оружием бряцать И ноги поднимать умели. Не просто поднимать, а так, Что сбоку видишь ты — ей-богу! — Один шнурок, один башмак, Одну протянутую ногу. А косы, косы, а мундир, Крючки, шнурки, подтяжки, пряжки, А брюки, пригнанные к ляжкам Так, что нельзя попасть в сортир! Но это ничего. Солдат Обязан претерпеть лишенья. Мундирчик тоже тесноват — Неловко в нем ходить в сраженья. Зато красив! Вселяет страх! Тотчас запросят турки миру, Завидев полк в таких мундирах, В таких штанах и галунах. Но дальше было не до шуток. Полк за полком и снова полк — И все, как дерево, и жуток Вид плоских шляп, кургузых пол, Нелепых кос. Да где ж Россия? Где настоящие полки, Подчас раздетые, босые, Полмира бравшие в штыки? Фанагорийцы, гренадеры, Суворовцы? Да вот они — Им дали прусские манеры И непотребные штаны; Им гатчинцы даны в капралы, Их отучили воевать, Им старого их генерала Приказано не узнавать. Но сквозь их косы, букли, пудру Он сам их узнает. И — врешь! — Еще придет такое утро, Когда он станет вновь хорош. И, наплевав на все доносы, В походе в первый день войны Рассыплет пудру, срежет косы И перешить велит штаны. Он рысью тронул вдоль квадрата Молчавших войск. Но за спиной Уже кричал ему штабной: «Велит вернуться император!» «Скажи царю, что я не волен Исполнить то, что он велит. Скажи царю: Суворов болен, Мол, брюхо у него болит…»4
На целый город разговору: Кого фельдмаршал посетил, Что нынче говорил Суворов, Над чем он давеча шутил. О шпагах вышло повеленье — Носить их, как у пруссаков, Ремень по самые колени, Эфес почти у башмаков; Она по пяткам била вечно И с громом путалась у ног. Такого случая, конечно, Фельдмаршал упустить не мог. Намедни, отворив карету, Он вдруг застрял на полпути, Представясь, будто шпага эта В карету не дает взойти. Уж он со шпагой так и эдак; Карету обходил кругом, И в дверцу лез, и напоследок, Махнув рукой, пошел пешком. Да где ж он сам? В дому Хвостова Живет, молвою окружен; Держась обычая простого: С утра больную ногу он Оденет в туфель крымский красный, А на здоровую — сапог, Камзол натянет канифасный, Чтоб не простыл пробитый бок. Напьется вместе с Прошкой чаю, Газету спросит. У окна, Своим бездействием скучая, Сидит почти что дотемна. Весь день, сведенные в квадраты, По улице идут солдаты. У них то нос, то рот, то лоб От частого битья опухли. Их лакированные туфли По жидкой грязи — шлеп да шлеп. Да что греха таить! Как прежде, Он жаждет славы, звезд, крестов, И геральдических листов, И громких титлов. Он в надежде Еще служить. И в час, когда В дому клевретов не бывает, Достав мундир, он иногда Его по форме надевает. Пока Суворов жив, пока Не гнет он старые колена, Еще надежда есть в полках, Что армия уйдет из плена Голштинских палок и затей, Что гатчинцев еще удавят. И в гарнизонах ждут вестей, Что вновь Суворов службу правит. Просить пардону? Не дождутся. Зато он нынче попросил Пустить домой. Мол, обойдутся И без него… Дождь моросил, С залива ветер креп под вечер, Кругом ни плошек, ни огней. Давно пора зажечь бы свечи, Да при свечах еще тошней.5
Взяв дозволенье на дорогу, Он утром выехал. Кругом Бой барабанов. Трогай, трогай! Вот дом с последним кабаком; Мелькают фалды, шляпы, шубы… Вот и шлагбаум промелькнул. Присвистнув, кучер вскинул чубом И в поле круто завернул. Копыта месят снег и грязь; Возок то вниз, то вверх взлетает. Фельдмаршал, к стенке привалясь, Плутарха медленно листает.2. Последний поход 1799 год
1
В швейцарском городке Таверна Суворов дал привал войскам. Ночь выдалась дождливой, скверной, Туман сползал по ледникам, Ветра с предгорий, как в мешок, В тавернскую долину дули; Как будто в Пскове или в Туле Холодный сыпался снежок. И новобранцам было странно, Что здесь, за тридевять земель, В заморских иностранных стропах Бывает тульская метель, Что здесь у речки мужики, Как под Калугой, сено косят, Что бабы в праздники здесь носят Почти рязанские платки. Уже не первый день в походе, Далеко занесло солдат. Они привыкли и к погоде, И к виду итальянских хат. Они привыкли каждый раз В обед, по-здешнему в сиесту, Пить виноградный кислый квас, Есть длинное, как нитки, тесто. Но как привыкнуть им к тому, Что, сединами убеленный, Прямой сенатор по уму, Сам ихний писарь батальонный И тот не мог ответить им, Чего они здесь не видали, Зачем они в такие дали Зашли с фельдмаршалом своим. Эх! Если б им сказать, что дома Их встретит завтра теплый кров, Жена и дети, жар соломы, Березовое пенье дров!.. Но где там! Вместо бани парной, Родного дома и жены Со старой девою — казармой Они навек обручены; Вновь будет тот же плац в предместье, Где палки дискантом поют, Где то тебя другие бьют, То ты других, то всех вас вместе. Нет хуже лямки гарнизонной! Нам легче десять ран в бою, Ночлег бездомный, марш бессонный И даже смерть в чужом краю. Здесь штык ценней, чем галуны, Здесь даже ротный бросил драться. Как мир, так — «сукины сыны», А как война, так сразу — «братцы». Здесь, если фуражир крадет И квартирмейстер нас не кормит, — Суворов сук для них найдет И по солдатской просьбе вздернет. Фельдмаршал впереди полка Летает на коньке крылатом; «Вперед, орлы! Вперед, ребята, Не подведите старика!» Что ж, мы его не подведем, Все сделаем, как он прикажет, Да только жаль: домой придем — Спасибо нам никто не скажет. По дому так грызет тоска, Что офицеров не спросили, От них секретом два лужка Швейцаркам здешним накосили; Поднялись рано, до зари; Свистели травы луговые Так, словно вновь мы косари, А не солдаты фрунтовые.2
«Георгий» прицепив к рубашке, Зевнув, перекрестивши рот, Суворов вышел нараспашку И сел на лавке у ворот. Штабной принес ему газету. Суворов, посмотрев мельком, Свернул газету колпаком И голову прикрыл от света. Как под Москвой с горы Поклонной, Был сразу виден целый край; Путь вниз — в оливковый, лимонный, Заросший виноградом рай, Путь вверх — по грифельным отрогам, По снежным голубым венцам, По зажигавшимся, багровым, И снова гаснувшим зубцам. А здесь, еще как до войны, Все так же засевают нивы, В фаянсовые кувшины Поджарых коз доят лениво. Суворов нехотя смотрел На коз, на девочку-швейцарку… Он за год сильно постарел. Ему то холодно, то жарко. Все чаще тянет на сенник, Все реже посреди беседы В нем оживает озорник, Седой буян и непоседа. А кажется, еще недавно, Когда он Вену посетил, Там над приезжим лордом славно Он по старинке подшутил: Четыре дня подряд являлся К обеду в спущенном чулке, И англичанин удивлялся Такой причуде в старике. Ну что же, пусть предаст огласке, Чтоб знал британский кабинет, Что у фельдмаршала подвязки, Бишь ордена Подвязки, нет… Теперь не то: он сам теперь Стал подозрительней и суше — Нет-нет и вдруг отворит дверь, Грозясь обрезать чьи-то уши. Австрийский генерал-бездельник Опять недодал лошадей, А из России ни вестей, Ни пушек, ни полков, ни денег. Ну что же, ладно! Только жаль, Никак солдатам не втолкуешь, Зачем зашел в такую даль, За что с французами воюешь. Бывало, скажешь им: за степи, За Черноморье, за Азов! Вослед полкам тянулись цепи Переселенческих возов… А тут — как об стену горохом, Тут говоришь не говоришь — Рязанцы понимают плохо, На кой им шут сдался Париж. «Эй, Прошка!» — «Что?» — «Послушай, Прошка, Ведь все-таки фельдмаршал я. А ты мне, старый черт, белья Не хочешь постирать ни крошки. Вот царь велит мне взять Париж, Одержим мы с тобой победу, А ты напьешься, задуришь, — Так без рубашки я и въеду?» «Я б рад стирать, да нелегко, Погода все стоит сырая. А до Парижа далеко — Весь гардероб перестираю. Да вы бы лучше, чем сердиться, Сапожки б взяли да палаш Да сверху б натянули плащ — Недолго ведь и простудиться». Снег перестал. Дул ветер с моря, Дрожали первые лучи, Надувши щеки, трубачи По всем полкам играли зорю. И конский храп и трубный плач Летел по сонным переулкам И, отскочив от стен, как мяч, Об землю ударялся гулко. На горном голубом ветру, Как пробки, хлопали знамена, За пять минут, как на смотру, Выстраивались батальоны. Суворов вышел на задворки, Там запоздавшие: одни Белили второпях ремни, Другие штопали опорки. Какой-то рослый новобранец, Вспотевши, расстегнув мундир, Никак не мог засунуть в ранец Дареный жителями сыр. «Не можешь, немогуузнайка! Ну ладно, счастье, брат, твое, Что мне попался. Сыр подай-ка Да крепче в пол упри ружье». Суворов, как татарин, важно Приготовляющий шашлык, Взял сыр, слезящийся и влажный, И насадил его на штык. «А коли будут разговоры, Начнет тебя бранить сержант, Скажи ему, что сам Суворов Отвел штыки под провиант». …………………………………….. Последний егерский отряд Поспешно втягивался в горы. Почти над каждым из солдат, Как раз на штык прийдяся впору, Слезами молча обливаясь, Изнемогая от жары, Шагали в ногу, не сбиваясь, Русско-швейцарские сыры.3
Уже в горах ему сказали, Что путь на Сен-Готард закрыт. Он огляделся — грозный вид! По скалам в пропасти сползали И пропадали облака. Внизу орел парил устало, И узкая, как нож, река, С камней срываясь, клокотала. Тогда, оборотясь к солдатам, Он крикнул: «Русские снега От нас далеко. Что ж, ребята, Возьмем хоть эти у врага!» Старик шутил, но всякий знал: Коль шутит он, так жди, что скоро Махнет рукой, подаст сигнал — Напропалую через горы. Фельдмаршал наш — орел старик, Один грешок за ним — горячка: Хоть на локтях, хоть на карачках Ползти заставит напрямик, Он на биваке дров достанет, Из-под земли харчи найдет, Зато беда — кто в бой отстанет, В атаку мешкотно пойдет. Под ядрами, не дуя в ус, На роту роту, полк уложит И полк на полк, пока доложат, Что тыл нам показал француз. При Нови жаркий приступ был. Мы трижды их атаковали. Они нас трижды выбивали. Завидев полк, идущий в тыл, Старик примчал в одной рубахе; Слетев с казацкого седла, Перед полком, молчавшим в страхе, Катался по земле со зла. …Что ж, мы пошли в четвертый раз И взяли Нови!.. Шли солдаты, Сержант припоминал Кавказ, Где он с полком бывал когда-то. Кусая ус, седой капрал Глядел на выси Сен-Готарда И новобранцам бойко врал, Что заготовлена петарда, — Вот как забьют да запалят… Скользя, взбираясь вверх по тропке, Суворов объезжал отряд; На вьючной лошади, в коробке, Везли и жезл и ордена — Они нужней ему в столице. С одним «Георгием» в петлице, В мундире грубого сукна, Он проскакал вперед по мосту. Дощечки тонкие тряслись. Свистали пули. Аванпосты Уже с французами сошлись И первый натиск задержали. Так начинался Сен-Готард. Костров, иль господин Державин, Или иной российский бард Уже пальбу отселе слышит И, вдохновением горя, Уже, наверно, оду пишет, С железной лирой говоря: «Се мой (гласит он) воевода! Воспитанный в огнях, во льдах, Вождь бурь, полночного народа, Девятый вал в морских волнах». Средь воинских трудов суровых Фельдмаршал муз не забывал. Пиите бедному, Кострову, По сто червонцев выдавал, И все эпистолы и оды, Всё, в чем пиита льстил ему, В секретном ящике комода Хранилось в кобринском дому. По черным скалам стлался дым, Уж третий час, как батальоны Вслед за фельдмаршалом своим Карабкались по горным склонам. Скользили ноги лошадей, Вьюки и люди вниз летели. Француз на выбор бил. Потери — Давно за тысячу людей. Темнело… А Багратион Еще не обошел французов, Он, бросив лошадей и грузы, Взял гренадерский батальон И сам повел его по кручам Глубоко в тыл. Весь день с утра Они ползли все ближе к тучам; Со скал сдували их ветра, С откосов обрывался камень, Обвал дорогу преграждал… Вгрызаясь в трещины штыками, Они ползли. Суворов ждал. А время шло, тумана клочья Спускались на горы. Беда! Фельдмаршал приказал хоть ночью Быть в Сен-Готарде. Но когда Последний заходящий луч Уже сверкнул за облаками, Все увидали: выше туч, Край солнца зацепив штыками, Там, где ни тропок, ни следов, От ветра, как орлы, крылаты, Стоят на гребне синих льдов Багратионовы солдаты.4
Француз бежал. И, на вершину Пешком взобравшись по горе, У сен-готардских капуцинов Заночевав в монастыре, Суворов первый раз за сутки На полчаса сомкнул глаза. Сквозь сон ловил он слухом чутким, Как ветер воет, как гроза Гремит внизу у Госпитля. Нет, не спалось… Затмив луну, По небу клочья туч летали. Он встал к открытому окну В одном белье и необутый. Холсты палаток ветер рвал, Дождь барабанил так, как будто На вахтпараде побывал. Нет, не спалось… Впервые он Такую чувствовал усталость. Что это? Хворь иль скверный сон? И догадался: просто старость. Да, старость! Как ни говори, А семь десятков за плечами! Все чаще долгими ночами Нетерпеливо ждет зари; И чтоб о старости не помнить, Где б штаб-квартира ни была, Завешивать иль вон из комнат Велит нести он зеркала. «Послушай, Прошка!» Все напрасно, Как ни зови — ответа нет. Лишь Прошкин нос, от пьянства красный, Посвистывает, как кларнет. И всем бы ты хорош был, Прохор, И не было б тебе цены, Одно под старость стало плохо: Уж больно часто видишь сны. И то ведь правда: стар он стал — То спит, то мучится одышкой, И ты давно уж не капрал, И Прошка больше не мальчишка. И старость каждого из вас Теперь на свой манер тревожит: Один — сомкнуть не может глаз, Другой — продрать никак не может. Из темноты, с доски каминной, Вдруг начали играть часы. Сперва скрипучие басы Проскрежетали марш старинный, Потом чуть слышная свирель В углу запела тонко-тонко. Суворов вспомнил: эту трель Он слыхивал еще ребенком. Часы стояли у отца На полке, возле русской печки; Три белых глиняных овечки Паслись у синего дворца. На башне начинался звон — Вверху распахивалась рама, И на фарфоровый балкон Легко выскакивала дама… Нащупав в темноте шандал, Он подошел к часам со свечкой. Все было так, как он и ждал: И луг, и замок, и овечки, Но замок сильно полинял, И три овечки постарели, И на условленный сигнал Охрипшей старенькой свирели Никто не вышел на балкон. Внутри часов заклокотало, Потом раздался хриплый звон, Пружина щелкнула устало… Часы состарились, как он. Они давно звонили глухо, И выходила на балкон Уже не дама, а старуха. Потом старуха умерла. Часы стояли опустело, И лишь пружина все гнала Вперед их старческое тело. «Глагол времен — металла звон». Он знал, прислушавшись к их ходу, Что в Сен-Готарде начал он Последний из своих походов.5
Прорвавшись в Муттен, он узнал От муттентальского шпиона, Что Римский-Корсаков бежал, Оставив пушки и знамена, Что все союзники ушли, — Кругом австрийская измена, И в сердце вражеской земли Ему едва ль уйти от плена. Что значит плен? Полвека он Учил полки и батальоны, Что есть слова: «давать пардон», Но нету слов: «просить пардону». Не переучиваться ж им! Так, может, покориться року И приказать полкам своим Идти в обратную дорогу? Но он учил за годом год, Что есть слова: «идти вперед», Но нету слова: «отступленье». Пора в поход вьюки торочить! Он верит: для его солдат И долгий путь вперед короче Короткого пути назад. Наутро созван был совет. Все генералы крепко спали, Когда фельдмаршал, встав чуть свет, Пошел бродить по Муттенталю. В отряде больше нет, хоть плачь, Ни фуража, ни дров, ни хлеба. Четыреста голодных кляч Трубят, задравши морды к небу. В разбитой наскоро палатке Вповалку егеря лежат, У них от холода дрожат Кровавые босые пятки. Пять суток без сапог, без пищи, По острым, как ножи, камням: Кто мог, обрывки голенища Бечевкой прикрутил к ступням. Где повалились, там и спали. Иные, встав уже с утра, Сырые корешки копали, Сбирали ветки для костра И шкуру павшего вола Штыками на куски делили И, навернув на шомпола, На угольях ее палили. Пусты сухарные мешки, Ремнем затянуты покорно, Гудят голодные кишки, Как гренадерская валторна. Поправив драную одежду, Встают солдаты с мест своих И на него глядят с надеждой, Как будто он накормит их. Но сам он тоже корки гложет, Он не Христос, а генерал — Из корок, черт бы их побрал, Он сто хлебов испечь не может! Он видел раны, смерть, больницы, Но может прошибить слеза, Когда глядишь на эти лица, На эти впалые глаза. На ворохе гнилой соломы Стоял у полковой казны Солдат, фельдмаршалу знакомый Чуть не с турецкой ли войны. Еще с Козлуджи, с Туртукая… Стоит солдат, ружье в руках. Откуда выправка такая, Такая сила в стариках?! Виски зачесаны седые, Ремень затянут вперехват, И пуговицы золотые, Мелком начищены, горят. Как каменный, на удивленье, Стоит солдат, усы торчком; В парадной форме по колени, А ниже формы — босиком. Подгреб себе клочок соломы, Ногой о ногу не стучит. А день-то свеж, а кости ломит, А брюхо старое бурчит, А на мундире десять дыр, Из всех заплаток лезет вата. Суворов подошел к солдату, Взглянул на кивер, на мундир, Взглянул и на ноги босые… И, рукавом содрав слезу, — От ветра, что ль, она в глазу? — Спросил солдата: «Где Россия?» Когда тебя спросил Суворов, Не отвечать — помилуй бог! И гренадер без разговоров Махнул рукою на восток. Суворов смерил долгим взором Отроги, пики, ледники. По направлению руки На сотни верст тянулись горы; Чтоб через них пробиться грудью, Придется многим лечь. Жесток Путь через Альпы на восток, Вздымая на горбу орудья, Влезать под снегом, под дождем На стосаженные обрывы… «И все-таки ты прав, служивый, Как показал, так и пойдем!» ……………………………………….. С рассветом возвратившись в дом, Где ждал совет его, впервые Он все отличья боевые Велел достать себе. С трудом Надел фельдмаршальский парадный Мундир из тонкого сукна, Поверх мундира все награды, Все звезды, ленты, ордена: За Ланцкорону, Прагу, Краков, За Рымник, Измаил и Брест, Перо с алмазом за Очаков И за Кинбурн — алмазный крест. Подул на орденские ленты, Пылинки с обшлагов стряхнул, Потом, оправив эполеты, С усмешкой на ноги взглянул: Не лучше своего солдата, Стоял он чуть не босиком, Обрывком прелого шпагата Подметка сшита с передком. Еще спасибо — верный Прошка, Как только станешь на привал, Глядишь, то плащ зашил немножко, То сапоги поврачевал. За дверью ждали господа — Полковники и генералы; Его счастливая звезда Их под знамена собирала. Дерфельден, и Багратион, И Трубников… Но даже эти Молчали, присмирев, как дети, И ждали, что им скажет он. Казалось, недалеко сдача. Кругом обрывы, облака. Ни пуль, ни ядер. Старика В горах покинула удача. Войска едва бредут, устав, Фельдмаршал стар, а горы круты… Но это все до той минуты, Как он явился. Увидав Его упрямо сжатый рот, Его херсонский плащ в заплатах, Его летящую вперед Походку старого солдата, И волосы его седые, И яростные, как гроза, По-стариковски молодые Двадцатилетние глаза, Все поняли: скорей без крова Старик в чужой земле умрет, Чем сменит на другое слово Свое любимое — вперед!6
Последний горный перевал… На Рингенкопфе пела вьюга, Холодный ветер завывал. Гуськом, хватаясь друг за друга, Ползли солдаты. Ни кирки, Ни альпенштока. Ветер в спину. Перевернувши карабины, Шли, опираясь на штыки. Подряд, как волны в океане, У ног катились облака. Протянешь руку — и рука Сейчас же пропадет в тумане. По сторонам тропы лежали Обледенелые тела. Эй, чур, не плакать! Как ни жаль их, Но где добудешь им тепла, Где шуба, чтобы их согреть, Где заступ — вырыть им могилу, Где хоть фонарь, чтоб через силу В глаза умершим посмотреть?! Сегодня, заклепавши туго, Швырнули пушки под откос. Вся орудийная прислуга Глядела вниз, давясь от слез. А пушки падали, стуча, Подпрыгивая на откосах, Теряя в воздухе колеса И медным голосом крича. Суворов едет рядом с нами, Он еле жив, два казака, Вплотную съехавшись конями, Под мышки держат старика. Пускай тиранит лихорадка, Горит в груди, во рту горчит — Суворов по своей повадке Все ерничает да ворчит. Артиллеристам помогая Забыть про гибель батарей, Австрийцев матерно ругает Под громкий хохот егерей. И, вдруг заметив, что отряд Опять в дороге унывает, Он для босых своих солдат Тверскую песню запевает: «Ах, что же с девушкой случилось, Ах, что же с красной за беда? Она все лапотки стоптала, Не может выйти никуда». Ни разу ни одни войска Еще не шли по этим тропам. На них взирает вся Европа, Во всех углах материка Гадают, спорят и судачат: Пройдут они иль не пройдут, Что ждет их — гибель или сдача? Пусть их гадают! Только тут, Среди лишений и страданий, Среди камней и снежных груд, Солдаты знали без гаданий, Что русские везде пройдут!7
Последний ледяной ночлег, Вповалку с ружьями, с конями, Друг друга прикрутив ремнями, Плашмя ложились прямо в снег. Где не улечься — там хоть щели Искали в каменной стене И, штык всадивши, на ремне Всю ночь над пропастью висели. Два неизменных казака Как ехали весь день, так оба Легли с Суворовым бок о бок, Не выпуская старика. У казаков глаза слипались, А он никак заснуть не мог. Ночь непроглядная, слепая Закрыла от него восток. Он неподвижными глазами Смотрел вперед на гребень льда, За край последних туч, туда, Где за горами, за долами, За пограничными столбами, В слезах, в распутице, в морозах, В сквозных владимирских березах, В зеленых волнах ковыля Лежала битая, штрафная, Стократ проклятая, родная, До слез знакомая земля…3. Одиночество 1800 год
1
По крайним улицам без света, Стараясь проскочить скорей, В столицу въехала карета Без гайдуков и фонарей. Солдат, стоявший у заставы, Ей путь загородил штыком, Намереваясь по уставу Дознаться, кто в ней седоком. Но кучер с козел наклонился И что-то на ухо шепнул — Солдат с пути посторонился И молча взял на караул. Минуя караульный пост, Карета быстро поскакала Сперва через Торговый мост, Потом вдоль Крюкова канала И с громом стала у крыльца. Два денщика, согнувши спины, Из дверец вынесли перину И, взяв ее за два конца, Пройдя вдоль темных коридоров, Внесли в покой. Под простыней, В жару, простуженный, больной, Закрыв глаза, лежал Суворов. Он, застонав от боли, Прошку Костлявым пальцем поманил, Чтоб тот белье переменил И в кресла посадил к окошку.2
Суворов при смерти. С утра, К нему слетевшись, как вороны, Шныряют в доме доктора, Прогуливаются шпионы. А ближние зайти не смеют, Боясь немилости двора. Один лишь Прошка вечера С ним коротает, как умеет. Прозябнув, съежившись в комок, Больной укутан в две шинели… Уже которую неделю Никак согреться он не мог. То одеялом и платком Прикроет Прошка, то к затылку Из-под шампанского бутылку Прижмет, наливши кипятком, То руки, синие, как лед, Себе за пазуху положит И держит ночи напролет, Как будто отогреть их может. Но, как ни грей их, все равно — Что пользы в том, когда наружу Весь день отворено окно И в комнате такая стужа… «Скорей закрой окно!» — «Да что вы! Вам померещилось! Окно! Чай, с осени на все засовы Законопачено оно». И Прошка пальцем сколупнет Кусок замазки с зимней рамы И в доказательство упрямо Ее показывать начнет. «Да, показалось… Но откуда Так дует ветер, словно с гор? Еще альпийская простуда Не отпускает до сих пор. Метель кружится по отрогам, Того гляди, сметет на дно… Пока не поздно, ради бога, Закройте кто-нибудь окно!..» И чтобы не сердить больного, Придется Прошке встать к окну И, створку отодрав одну, Тотчас ее захлопнуть снова. «Ну вот, как будто и теплей, Теперь совсем другое дело… Да кипятку в бутыль подлей, Чтоб кровь в висках не холодела». Сейчас тряхнуть бы стариною, Воды черпнувши из Невы, Вдруг нестерпимой, ледяною Обдаться с ног до головы. Клин клином вышибить! Но где там, Когда не шевельнуть рукой, Когда небось уж гроб с глазетом Давно заказан в мастерской! Все можно взять у человека: Чины, награды, ордена, Но та холодная страна, Где прожил он две трети века, И синие леса вдали, И речки утренняя сырость, И три аршина той земли, Скупой и бедной, где он вырос, Земли, в которую его Вдвоем со шпагою положат, — Ее ни месть, ни плутовство, Ничто уже отнять не сможет! Среди хлопот, обычных дел Он редко замечал природу, Но вдруг сегодня захотел К песчаному речному броду Подъехать на рысях в жару И жадно воду пить из горсти; Или, к своим оброчным в гости С ружьем забравшись поутру, Из камышей пальнуть по уткам; А коли на дворе зима — По новгородским первопуткам Скакать в лесу, чтоб бахрома С ветвей за шиворот, чтоб тело Кололо снегом, чтоб лиса, Как огненная полоса, Вдруг за стволами пролетела… Разжечь костер, чтоб вдруг в дыму Вспорхнула вспугнутая галка… Все это вовсе ни к чему — Да умирать уж больно жалко! И, Прошку с толку сбив, теперь, Когда все щелочки заткнули, Он просит, чтоб открыли дверь И окна настежь распахнули. «А помнишь, Прошка, в Измаиле Как ты горячкою хворал?» «Еще б не помнить! Был в могиле, Да бог раздумал, не прибрал». «Ты вспомни, Прошка, ты похоже, Почти как я, болел в те дни: Я рук не подниму — ты тоже Не мог поднять их с простыни, И кости у тебя болели, И лоб, как у меня, потел… И уж не думал встать с постели, А помирать все не хотел. Сперва садился на кровать, Потом ходил, держась за стену… Вот так и я: глядишь, опять И встану и мундир надену… Что плачешь? Думаешь, не встать? Сам знаю — время в путь-дорожку. Начнет за окнами светать, Один как перст ты будешь, Прошка. Да разве ты один такой? Пересчитай полки и роты — Как только выйду на покой, Все будут без меня сироты…» Но Прошка, привалясь к стене, Не выдержав ночей бессонных, Уже дремал и монотонно Поддакивал ему во сне… И ни души кругом… Ну, что же, Пока ты важный господин, Так все готовы лезть из кожи, А умирать — так ты один… Он поспешил глаза смежить, Чтоб не прочли в последнем взоре Безумную надежду жить, Людское, будничное горе.3
Вдоль долгих улиц гроб несли. На бархате ряды регалий, Оркестры медным шагом шли, Полки армейские шагали. Чтоб этим оскорбить хоть прах, В эскорт почетный, против правил, В тот день заняв их на смотрах, Полков гвардейских не дал Павел. Ну, что ж! Суворов, будь он жив, Не счел бы это за обиду; Он, полстолетья прослужив, Привык к походному их виду, Он с ними не один редут Взял на веку. И, слава богу, За ним в последнюю дорогу Армейские полки идут. 1938–1939МУРМАНСКИЕ ДНЕВНИКИ{11}
У окружкома на виду Висела карта. Там на льду С утра в кочующий кружок Втыкали маленький флажок. Гостиница полным-полна. Портье метались дотемна, Распределяя номера. Швейцары с заднего двора Наверх тянули тюфяки. За ними на второй этаж, Стащив замерзшие очки, Влезал воздушный экипаж. Пилоты сутки шли впотьмах, Они давно отвыкли спать, Им было странно, что в домах Есть лампа, печка и кровать. Да, прямо скажем, этот край Нельзя назвать дорогой в рай. Здесь жестко спать, здесь трудно жить, Здесь можно голову сложить. Здесь, приступив к любым делам, Мы мир делили пополам: Врагов встречаешь — уничтожь, Друзей встречаешь — поделись. Мы здесь любили и дрались, Мы здесь страдали. Ну и что ж? Не на кисельных берегах Рождалось мужество. Как мы, Оно в дырявых сапогах Шло с Печенги до Муксольмы. У окружкома на виду Большая карта. Там на льду С утра в кочующий кружок Втыкают маленький флажок, Там, где, мозоля нам глаза, Легла на глобус бирюза, На деле там черным-черно, Там солнца не было давно. За тыщу верст среди глубин На льду темнеет бивуак. Но там, где четверо мужчин И на древке советский флаг, Там можно стать к руке рука, Касаясь спинами древка, И, как испытанный сигнал, Запеть «Интернационал». Пусть будет голос хрипл и груб, Пускай с растрескавшихся губ Слетает песня чуть слышна — Ее и так поймет страна. Гостиница полным-полна. Над низкой бухтою туман, Девятибалльная волна Ревет у входа в океан. К Ял-Майнену, оставив порт, В свирепый шторм ушли суда. Семисаженная вода Перелетает через борт. Бушует норд. Вчера Москва Послала дирижабль. Ни зги! По радио сквозь вой пурги Едва доносятся слова. Бушует норд. Радист в углу, Охрипнув, кроет целый мир: Он разгребает, как золу, Остывший и пустой эфир. Где дирижабль? Стряслась беда… Бушует норд. В двухстах верстах Был слышен взрыв. Сейчас туда Отправлен экстренный состав. За эту ночь еще пришло Два самолета. Не до сна. Весь окружком не спит. Светло, Гостиница полным-полна. Сегодня в восемь пять утра Нашли разбившихся. В дугу Согнулся остов. На снегу Живые грелись у костра. Был выполнен солдатский долг, В гробы положены тела. Их до ближайшего села Сопровождает местный полк. Другим летели помогать — Погибли сами. Чтоб не лгать — Удар тяжел. Но на земле Есть племя храбрых. Говорят, Что в ту же ночь другой отряд Ушел на новом корабле. У окружкома на виду Большая карта. Там на льду С утра в кочующий прыжок Втыкают маленький флажок. Всю ночь с винтовкой, как всегда, Вдоль рейда ходит часовой. Тут ждут ледовые суда В готовности двухчасовой. До кромки льда пять дней пути. Крепчает норд. Еще в порту, Товарищ, крепче прикрути Все, что нетвердо на борту, Поближе к топкам и котлам Всю ночь механики стоят, Всю ночь штормит, — быть может, нам Большие жертвы предстоят. В больницу привезен пилот. Он весь — один сплошной ожог. Лишь от бровей — глаза и рот — Незабинтованный кружок, Он говорит с трудом: — Когда Стряслась с гондолою беда, Когда в кабине свет погас, Я стал на ощупь шарить газ, Меня швырнуло по борту. Где ручка газа? Кровь во рту. Об радиатор, об углы, Об потолки и об полы. Где ручка? На десятый раз Я выключил проклятый газ. Напрасный труд! Сквозь верхний люк Врывалось пламя. Через щель Внизу я видел снег и ель. Тогда, сдирая кожу с рук, Я вылез вниз. Кругом меня Свистало зарево огня. Я в снег зарылся с головой, Не чувствуя ни рук, ни ног, Я полз по снегу, чуть живой, Трясясь от боли, как щенок. Меня перенесли к костру. Нас всех живых осталось шесть. Всем было плохо. Лишь к утру Мы захотели спать и есть. Обломки тлели. Тишина. Лишь изредка в полночный мрак Взлетал нагретый докрасна Еще один запасный бак. Всю ночь нас пробирала дрожь. Нам было всем как острый нож Смотреть туда, где на снегу Тлел остов, выгнутый в дугу. Забыв на миг свою беду, Мы представляли, что на льду, Вот так же сидя, как и мы, К огню придвинувши пимы, Четыре наших парня ждут, Когда им помощь подадут. Нам холодно. Им холодней: Они сидят там много дней. Уже кончается зима. А где же мы? Вода кругом… Чтоб не сойти совсем с ума, Нам надо думать о другом. Что ж, о другом — так о другом! Давай о самом дорогом. Но что ж и мне и всем другим Казалось самым дорогим? Вот так же сидя, как и мы, К огню придвинувши пимы, Четыре парня молча ждут, Когда им помощь подадут… — Ночь. На кровати летчик спит. Сестра всю ночь над ним сидит. Он беспокойный, он такой — Он может встать. Да что покой? Как может предписать покой Тот врач, который в свой черед С утра дрожащею рукой Газету в ящике берет? На старой, милой нам земле Есть много мужества. Оно Не в холе, воле и тепле, Не в колыбели рождено. Лишь мещанин придумать мог Мир без страстей и без тревог; Не только к звукам арф и лир Мы будем приучать детей. Мир коммунизма — дерзкий мир Больших желаний и страстей. Где пограничные столбы, Там встанут клены и дубы, Но яростней, чем до сих пор, Затеют внуки день за днем Жестокий спор, упрямый спор С водой, землею и огнем. Чтоб все стихии нам взнуздать, Чтоб все оковы расковать, Придется холодать, страдать, Быть может, жизнью рисковать. На талом льду за тыщу верст, Где снег колюч и ветер черств, Четыре наших парня ждут, Когда им помощь подадут. Есть в звуке твердых их имен, В чертах тревожной их судьбы Начало завтрашних времен, Прообраз будущей борьбы. Я вижу: где-то вдалеке, На льду, на утлом островке, На стратоплане, на Луне, В опасности, спиной к спине, Одежду, хлеб и кров деля, Горсть земляков подмоги ждет. И вся союзная земля К своим на выручку идет. И на флагштоках всех судов Плывет вперед сквозь снег и мрак, Сквозь стаи туч, сквозь горы льдов Земного шара гордый флаг. 1938ПЯТЬ СТРАНИЦ{12}
В ленинградской гостинице, в той, где сегодня пишу я, Между шкафом стенным и гостиничным тусклым трюмо Я случайно заметил лежавшую там небольшую Пачку смятых листов — позабытое кем-то письмо. Без конверта и адреса. Видно, письмо это было Из числа неотправленных, тех, что кончать ни к чему. Я читать его стал. Било десять. Одиннадцать било. Я не просто прочел — я, как путник, прошел то письмо. Начиналось, как водится, с года, числа, обращенья; Видно, тот, кто писал, машинально начало тянул, За какую-то книжку просил у кого-то прощенья… Пропустив эти строчки, я дальше в письмо заглянул:Первая страница
……………………… ………………………. Через час с небольшим уезжаю с полярным экспрессом. Так мы прочно расстались, что даже не страшно писать. Буду я отправлять, будешь ты получать с интересом, И знакомым читать, и в корзинку спокойно бросать. Что ж такое случилось, что больше не можем мы вместе? Где не так мы сказали, ступили не так и пошли, И в котором часу, на каком трижды проклятом месте Мы ошиблись с тобой и поправить уже не смогли? Если б знать это место, так можно б вернуться, пожалуй, Но его не найдешь. Да и не было вовсе его! В нашей жалобной книге не будет записано жалоб: Как ее ни листай, все равно не прочтешь ничего. Взять хоть письма мои — я всегда их боялся до смерти. Разве можно не жечь, разве можно держать их в руках? Как их вновь ни читай, как их вновь ни сличай и ни мерь ты, Только новое горе разыщешь на старых листках. Ты недавно упрямо читала их все по порядку. В первых письмах писалось. что я без тебя не могу, В первых письмах моих, толщиною в большую тетрадку, Мне казалось — по шпалам, не выдержав, я побегу. Все, что думал и знал, заносил на бумагу сейчас же, Но на третьей отлучке (себя я на этом ловлю) В письмах день ото дня по-привычному громче и чаще Повторяется раньше чуть слышное слово «люблю». А немного спустя начинаются письма вторые — Ежедневная почта для любящей нашей жены, Без особенных клякс и от слез никогда не сырые, В меру кратки и будничны, в меру длинны и нежны. В них не все еще гладко, и, если на свет посмотреть их, Там гостила резинка; но скоро и ей не бывать… И тогда выступают на сцену последние, третьи, Третьи, умные письма, — их можешь не жечь и не рвать. Если трезво взглянуть, — что же, кажется, страшного в этом? В письмах все хорошо — я пишу по два раза на дню, Я к тебе обращаюсь за помощью и за советом, Я тобой дорожу, я тебя безгранично ценю. Потому что я верю и знаю тебя все короче, Потому что ты друг, потому что чутка и умна… Одного только нет, одного не прочтешь между строчек: Что без всех «потому» ты мне просто, как воздух, нужна. Ты по письмам моим нашу жизнь прочитать захотела. Ты дочла до конца, и тебе не терпелось кричать: Разве нужно ему отдавать было душу и тело, Чтобы письма такие на пятом году получать? Ты смолчала тогда. Просто-напросто плача от горя, По-ребячьи уткнувшись, на старый диван прилегла, И рыдала молчком, и, заслышав шаги в коридоре, Наспех спрятала письма в незапертый ящик стола. Эти письма читать? За плохое бы дело взялись мы, — Ну зачем нам следить, как менялось «нежны» на «дружны». Там начало конца, где читаются старые письма, Где реликвии нам — чтоб о близости вспомнить — нужны.Вторая страница
Я любил тебя всю, твои губы и руки — отдельно. Удивляясь не важным, но милым для нас мелочам. Мы умели дружить и о чем-то совсем не постельном, Лежа рядом, часами с тобой говорить по ночам. Это дружба не та, за которой размолвку скрывают. Это самая первая, самая верная связь. Это дружба — когда о руках и губах забывают, Чтоб о самом заветном всю ночь говорить, торопясь. Год назад для работы пришлось нам поехать на Север, По старинным церквам, по старинным седым городам. Шелестел на лугах одуряюще пахнущий клевер, И дорожная пыль завивались по нашим следам. Нам обоим поездка казалась ужасно счастливой; Мой московский заморыш впервые увидел поля, И луга, и покосы, и северных речек разливы И впервые услышал, как черная пахнет земля. Только здесь ты заметила в звездах все небо ночное, Красноватые сосны стоят вдоль дорог, как стена… Почему ты на Север не ездила раньше со мною, Почему ты на землю привыкла смотреть из окна? Как-то вышло, что здесь ты, всегда мне дававшая руку, Ты, с улыбкой умевшая выручить в худший из дней, Ты, которой я слушался, мой поводырь и порука, В нашем добром содружестве бывшая вечно сильней, Здесь, далеко от дома, в поездке, ты вдруг растерялась, Ты на все удивлялась — на листья, кусты и цветы. Ты смеялась и пела; все время мне так и казалось, Что, в ладоши захлопав, как в детстве, запрыгаешь ты. Вспоминаю закат, переезд через бурную реку. В мокрой лодке пришлось на колени тебя посадить, Переправившись в церковь со строгими фресками Грека, Мы, еще не обсохнув, о них попытались судить. Со смешным торжеством мы по краскам века узнавали, Различали святых по суровым носам и усам И до самого купола дерзкой рукой доставали И спускались обратно по скользким и шатким лесам. Ты попутчицей доброю сделаться мне пожелала, Чтоб не портить компании, горькое пиво пила, Деревянное мясо с веселой улыбкой жевала, На туристских привалах спала, как в Москве не спала. Помню это шоссе с торопливой грозой, с облаками. Я хотел отдохнуть, ты сердито пожала плечом И особенно громко стучала в асфальт каблуками, Чтобы мне доказать, что усталость тебе нипочем. Что ж, мой верный попутчик, ведь эдак, пожалуй, и нужно — И жевать что придется, и с жесткой постелью дружить. Жаль одно — что в поездке мы жили подчеркнуто дружно, Неурядицы наши решив до Москвы отложить. Это нам удалось. Только это как раз ведь и страшно, То, что распри свои отложить мы впервые смогли. Там начало конца, где, не выдернув боли вчерашней, Мы, желая покоя, по-дружески день провели.Третья страница
Помню время, когда мы на людях бывать не умели, Нам обоим мешали их уши, глаза, голоса. На веселой пирушке, где много шумели и ели, Было трудно нам высидеть больше, чем четверть часа. Чтобы лекции слушать, нарочно садились не рядом. Впрочем, кто бы, и как бы, и что бы ни стал нам читать, Разве мог помешать он нам взглядом выпрашивать взгляда И, случайно не встретив, смертельной обидой считать? Помню, ты на собрании. Жду тебя долго. И трижды То к дверям подхожу, то обрывки ловлю сквозь окно — Только б слышать твой голос! Не важно, о чем говоришь ты, — Пусть о сдаче зачетов, не все ли мне это равно? Что такое привычки, мы даже не знали сначала; Если знали из книг, то старались о них забывать. И друг друга любить в это время для нас означало — Каждый день, как впервые, друг другу себя открывать. Было что открывать. Было порознь накоплено каждым. Чтоб вдвоем докопаться до самых забытых углов, Чтобы всякую мелочь припомнить хотя бы однажды, Нам на первых порах ни часов не хватало, ни слов. Но потом нам хватило и слов, и часов, и рассудка, Чтоб свои треволненья ввести понемногу в русло. Было дела по горло. Не виделись часто по суткам, С головой уходя я в свое, ты в свое ремесло. Мы учились делить только то, что сегодня и завтра, Разговаривать нынче о том, что случилось вчера. Это стало спокойным, привычным, как утренний завтрак. Даже время на это отведено было с утра. Мы друг другу за все благодарными были когда-то. Все казалось находкою, все не терпелось дарить. Но исчезли находки, дары приурочены к датам, Все и нужно и должно, и не за что благодарить. Куча мелких привычек нам будние дни отравляла. Как я ел, как я пил — все заранее знать ты могла; Как я в двери входил, как пиджак на себе оправлял я, Как садился за стол, как вставал я из-за стола. Все вдвоем да вдвоем. Уж привычными смотрим глазами И случайных гостей принимаем все с меньшим трудом. Через год, через два мы уже приглашаем их сами, И друзья, зачастив, не стесняясь заходят в наш дом. В шумных спорах о вечности весело время теряем. Стол газетой накрыв, жидкий чай по-студенчески пьем. Но, оставшись одни, в эти дни мы еще повторяем: «С ними было отлично. А все-таки лучше вдвоем». Если лучше вдвоем — это значит, еще не насмарку, Это значит, что ладим, что все еще вместе скрипим… Помню день, когда поняли: словно почтовая марка, Наша общая жизнь была проштемпелевана им. Как на грех, выходной. Целый день толковали о разном. И, надувшись, засели в углах. Я в одном. Ты в другом. Мы столкнулись в тот день с чем-то скучным, большим, безобразным, Нам впервые тогда показалось, что пусто кругом. Говорить не хотелось, довольно уже объяснялись. Спать и рано, и лень застилать на диване кровать. И тогда, как по сговору, сразу мы оба поднялись И пошли к телефону: кого-нибудь в гости зазвать. Вот и гости пришли. Мы особенно шумно галдели, Нашу утлую мебель в два счета поставив вверх дном, Мы старались шуметь, чтоб не думать о собственном деле, Мы старались не думать — и думали все об одном: Что впервые в гостях мы себе облегченья искали, Что своими руками мы счастье свое отдаем. Чем тоскливее было, тем дольше гостей не пускали. Наконец отпустили и снова остались вдвоем… Много раз нам потом хорошо еще вместе бывало. Мы работали рядом и были довольны судьбой, Но я помнил всегда, да едва ли и ты забывала, Что однажды вдвоем показалось нам плохо с тобой. Мы, почувствовав это, глядели глазами сухими, Понимали, что вряд ли от памяти мы убежим. Там начало конца, где, желая остаться глухими, В первый раз свое горе заткнули мы криком чужим.Четвертая страница
Помнишь узкую комнату с насмерть продрогшей стеною, С раскладною кроватью, со скрипом расшатанных рам? Ты все реже и реже в нее приезжала со мною, Иногда перед сном и почти никогда по утрам. Ты ее не любила за грязные чашки и склянки И за то, что она не тепла, не светла, не бела. За косое окно, за холодную печку-времянку И за то, что времянкой вся комната эта была. Я тогда обижался. На время забросив работу, Я повесил ковер. Я разбитое вставил стекло. Я вколачивал гвозди. С мужской неуклюжей заботой Я пытался наладить в ней женский уют и тепло. Было все ни к чему. Стало холода меньше и ветра, Но остался все тот же бивачный невыжитый дух. Может, просто нам тесно? Но семь с половиною метров, Если все хорошо, — разве этого мало для двух? Мы щенятами были. Немало пришлось нам побиться, Чтоб понять, что причиной не комната и не кровать, Чтоб понять наконец: как недолго и просто влюбиться И как сложно с тобой с глазу на глаз нам век вековать. Сколько в этой каморке с тобой мы зубрили зачетов. Керосинку внеся, согревались непрочным теплом. Сколько ты исправляла моих чертежей и расчетов, Терпеливо азы повторяла со мной за столом. Я недавно там был, там при скором отъезде забыто Много разных вещей, там халат твой домашний висит, Два кривых костыля в капитальную стену забиты, И на них запыленная длинная рама косит. Так жива эта память, что нам вспоминать даже рано: Было туго с деньгами, неважное было житье, На рожденье мое, отыскав эту старую раму, Вставив снимки свои, ты на память дала мне ее. Двадцать снимков твоих. По годам я тебя разбираю: Вот двухлетний голыш, вот девчонка с косичкой смешной, Вот серьезный подросток, и около правого краю Ты такая, какой в первый раз увидалась со мной. Как я мог позабыть твои карточки в комнате этой? Все висят здесь по-прежнему, так, словно ты не ушла. Там начало конца, где, на прежние глядя портреты, В них находят тепло, а в себе не находят тепла.Пятая страница
Ну, расстались с тобой и сидели бы, кажется, молча. Понимали бы трезво, что жизнь еще вся впереди. Отчего же пишу я с такой нескрываемой желчью, Словно я не забыл, словно крикнуть хочу: погоди! Погоди уходить! Что я, проклятый, что ль, в одиночку Наши беды считать! В сотый раз повторять: «Почему?» Приезжай, посидим, погрустим еще целую ночку. Раз уж надо грустить, мне обидно грустить одному. Если любишь, готовься удар принимать за ударом, После долгого счастья остаться на месте пустом; Все романы обычно на свадьбах кончают недаром, Потому что не знают, что делать с героем потом. Отчего мне так грустно? Да разве мне жизнь надоела? Разве птицы не щелкают, не зеленеет трава? Разве, взявшись сейчас за свое непочатое дело, Я всего не забуду, опять засучив рукава? Да и ты ведь такая, ты тоже ведь плакать не будешь, Только старый будильник приучишься ставить на семь. Станешь вдвое работать… Решивши забыть — позабудешь, Позабывши — не вспомнишь, не вспомнив — забудешь совсем. Все последнее время мне вдоволь тоски приносило, Но за многие годы не помню ни часа, ни дня, Чтобы слышал в руках я такую тяжелую силу, Чтобы жадность такая гнала по дорогам меня. Отчего ж мне так грустно? Зачем я пишу без помарок Все подряд о своих то веселых, то грустных часах. Так письмо тяжело, что еще не придумано марок, Чтоб его оплатить, если вешать начнут на весах. Я письмо перечту, я на пальцах еще погадаю: Отправлять или нет? И скорее всего не пошлю. Я на этих листках подозрительно сильно страдаю Для такого спокойного слова, как «я не люблю». Разве я не люблю? Если я не люблю, то откуда Эта страсть вспоминать и бессонная ночь без огня, Будто я и забыл, и не скоро еще позабуду, И уехать хочу, и прошу, чтоб держали меня? Телефон под рукой. Стоит трубку поднять с аппарата, Дозвониться до станции, к проводу вызвать Москву… По рублю за минуту — какая ничтожная плата За слова, без которых я, кажется, не проживу. Только б слышать твой голос! А там догадаемся оба, Что еще не конец, что мы сами повинны кругом. Что мы просто обязаны сделать последнюю пробу, Сразу выехать оба и встретиться хоть в Бологом. Только ехать — так ехать. До завтра терпенья не хватит. Это кончится тем, что я правда тебе позвоню… Я лежу в своем номере на деревянной кровати, Жду экспресса на север и мысли пустые гоню. Ты мне смотришь в глаза: может, знаю я средство такое, Чтобы вечно любить, чтобы право такое добыть, — Взять за ворот любовь и держать ее сильной рукою. Ишь чего захотела! Да если бы знал я, как быть! Разве я бы уехал? Да я бы держал тебя цепко. Разве б мы разошлись? Нам тут жить бы с тобою да жить. Если б знать мне! Но жаль — я не знаю такого рецепта, По которому можно, как вещи, любовь сторожить. Нет, мой добрый товарищ, звонить не хочу и не буду. Все решали вдвоем, и решали, казалось, легко, Чур, не плакать теперь. Скоро поезд уходит отсюда. Даже лучше, что ты в этот день от меня далеко. Да, мне трудно уехать. Душою кривить не годится. Но работа опять выручает меня, как всегда. Человек выживает, когда он умеет трудиться. Так умелых пловцов на поверхности держит вода. Почему ж мне так грустно… ……………………………………. ……………………………………. Письмо обрывалось на этом. Я представил себе, как он смотрит в пустые углы. Как он прячет в карман свой потертый бумажник с билетом Место в жестком вагоне мурманской «Полярной стрелы». Отложивши письмо, я не мешкая вышел в контору; Я седого портье за рукав осторожно поймал: — Вы не скажете мне, вы не знаете город, в который Выбыл тот, кто мой номер последние дни занимал? — Не могу вам сказать, очень странные люди бывают. С чемоданом в руках он под вечер спустился сюда. И когда я спросил, далеко ль гражданин выбывает, Он, запнувшись, сказал, что еще не решился куда. 1938ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ{13}
Первая глава
В пятнадцать лет — какие огорченья? Мальчишеские беды нам не в счет; Сбежал из дому — попроси прощенья, Расстался с ней — до свадьбы заживет. Так повелось: сначала вспомним сами, И сразу на смех — разве не смешно, Что где-то за горами, за лесами Мы ключ от детства бросили давно? Мы не спеша умнеем год за годом, Мы привыкаем к своему углу, Игрушкой с перекрученным заводом Спит наше детство где-то на полу. Дай бог нам всем когда-нибудь, когда Мы заболеем старостью и грустью, На пять минут забыв свои года, Увидеть юность в волжском захолустье. В пятнадцать лет у каждого свое, Но взрослым всем нам поровну приснится Прощанье с детством, хитрый взгляд ее Сквозь нехотя вспорхнувшие ресницы. Подумать только, сколько лет назад, И все-таки он с ясностью печальной Мог вспомнить тот, казалось им, прощальный, А в самом деле только первый взгляд. Стоят на разных улицах фасады, Но в две ограды сдвинулись дворы, И, если хочешь, можно из засады Смотреть, как, чертыхаясь от жары, Ее отец пропалывает грядки, Как ходит мать, как целые часы Она сама, уткнувши нос в тетрадки, Мух отгоняет хвостиком косы. И вдруг слетит с насиженного места И колесом пройдется через двор. — Стыдись, Мария. Ты уже невеста, Пойди сюда, — и скучный разговор, Который, верно, кончится не скоро, И надо ждать и, косу теребя, Смотреть, как тоже в дырочку забора Чужой мальчишка смотрит на тебя. Зимой, когда подсыпало снежка, В своей засаде сидя, то и дело Он видел, как она исподтишка Через забор в их сторону глядела. Такого не бывало до сих пор, А впрочем, просто снег сгребали с крыши. В сугробах весь, чуть ниже стал забор, А может быть, и девочка чуть выше. Весной с отцом и матерью она Уехала к своей родне за Волгу, И надо ж так совпасть, что вся весна Была в тот год дождливою и долгой. Лениво голубей гонял шестом — Бог с нею, с этой голубиной славой, — И по привычке на дворе пустом Все ждал услышать голосок картавый. И вдруг вернулась. Он и не узнал. Поближе разглядеть бы попроситься. Где детство — исцарапанный пенал, Босые ноги, платьице из ситца? Как будто в дом вернулась не она, Не девочка, а старшая сестрица. Соседскому мальчишке грош цена Для барышни, успевшей опериться. По воскресеньям — женский гребешок, Чулочки вместо темной детской кожи И каблучки — без малого вершок, Еще не как у матери, но все же… Еще коса, но шпилек полон рот; У зеркала, от старших втихомолку, Сердито спрячет девочкину челку, В тяжелый узел косу соберет. Еще спасибо, в городском саду Никто из взрослых не гуляет с нею. Что может быть бессильней и больнее, Чем ревность на шестнадцатом году? Пусть даже ты немножко вырос тоже, Пускай ты на год старше и умней, Мы рядом с нею все равно моложе, Нам очень впору позабыть о ней. И вот вчера, как будто зная это, Ее отец решил менять жилье. Возы скрипели, и, как хвост кометы, Летело сзади по ветру белье. Коробилась посуда жестяная, Шкафы вставали дыбом, как стена, И, в старом детском ситчике, сквозная, С вещами рядом молча шла она. Он не пошел за нею. Очень надо! Весь день сидел волчонком, ждал отца, Чтоб, вдруг вспылив от слова или взгляда, Стать всем назло несчастным до конца. И к вечеру дождался — глупый спор, Сердитое лицо отца за чаем И тот непоправимый разговор, Который мы не сразу замечаем. Мать выбежала следом без платка, И он чутьем почувствовал сквозь слезы — Морщинистая легкая рука Была сильней, чем ссоры и угрозы. Бог с ним, с отцом, но с матерью беда, Она не скажет: «Скатертью дорога». Послушаться ее — так никогда Не убежишь, не перейдешь порога. Он даже обещал ей, на беду: — Да, возвращусь, да, попрошу прощенья, — Он руки целовал ей на ходу, Все в тесте от домашнего печенья. Уже к потемкам, в поисках ночевки, Добрел до черных волжских пристаней; Железный хлам, смоленые бечевки, Далекое движение огней. Полуночные волжские пески. Весь в зарослях, весь в уголках укромных, Построенный посереди реки Ночной приют влюбленных и бездомных. В пятнадцать лет тут будет не до сна: Обрывки чьих-то жадных разговоров, Притворный вздох, и снова тишина, И платья задыхающийся шорох. Как маленькие звери, на песке Лежат полузарытые ботинки, И наспех снятых блузок паутинки Качаются на легком ивняке. Был нами аист в девять лет забыт, Мы в десять взрослых слушать начинали, В тринадцать лет, пусть мать меня простит, Мы знали все, хоть ничего не знали. В пятнадцать лет томленье по утрам — До хруста кости выгнуть непременно. Заезжий цирк. Пристрастье к лошадям, К соленым потным запахам арены. Не девочка в тумане голубом, Не старенькое платьице из ситца, Тут можно было в стенку биться лбом, Не знать, чего ты хочешь, и беситься. Он лег ничком на выжженном песке. Высокая, спокойная, большая, Рукой небрежно ветви раздвигая, Нагая женщина прошла к реке. Закрыв глаза, он видел, как кругами От сильных взмахов прыгает волна, — Потом затихло. Легкими шагами С ним рядом вышла на берег она. Пучок волос из-под косынки вылез. Он видел все — припухлости у рта И ниточку загара там, где вырез Кончался, как запретная черта. Она сжимала волосы руками, В тяжелый жгут согнув их пополам. Вода в песок сбегала ручейками По длинным, зябшим на ветру ногам. Она, рассыпав волосы, лениво Закрыла ими грудь от ветерка, Всем телом наклонясь, неторопливо Комочек платья подняла с песка. Но платье надеваться не хотело, На нем темнели мокрые следы Там, где еще не высохшее тело Все было в мелких капельках воды. Из-за кустов позвали: — Надя! Надя! — Откинув наспех волосы с лица, Пошла на голос, под ноги не глядя, Не натянувши платья до конца. Он вдруг устал от душной темноты. На глубине за дальними песками На якорях стоявшие плоты Всю ночь ему моргали огоньками. Стянув покрепче платье в узелок, Легко гребя свободною рукою, Поплыл к плотам и лег на край досок Над черной, тихо шлепавшей рекою. Так низко проплывают облака, Что можно лежа зацепить руками, На мачтах два зеленых огонька, Как лампочки, висят под облаками. Сюда приедет через много лет Тот, кто в твоих мальчишеских тревогах Найдет обратный позабытый след Всего, что растерял он на дорогах. Он с виду равнодушно, как прохожий, Весь город молча обойдет пешком, Ни на кого из здешних не похожий, Он будет пахнуть крепким табаком. Все будет в нем бывалое, мужское — И слишком громкий одинокий смех, И даже то, как ловко он, рукою Прикрыв огонь, закурит без помех. Он все поймет, он будет долго-долго Сидеть с тобой на берегу реки, Смотреть на расходившуюся Волгу, На пляшущие красные буйки. Он вспомнит без раскаянья и желчи Все, даже то, что ты не знаешь сам, Шершавою мужской ладонью молча Он проведет по детским волосам. Но, боже мой, как долго ждать свиданья, Как трудно молчаливому тому, Кто через двадцать лет свои страданья Расскажет вслух себе же самому! На головном плоту трещал огонь, Шипя, тонули, искры под водою, Ловя их с лету в красную ладонь, Волгарь с широкой белой бородою Неторопливо говорил своим Плашмя лежавшим на плоту соседям: — Такая жизнь — поедем, постоим, Поедем, постоим, опять поедем…Вторая глава
1
Мужские неуютные углы, Должно быть, все похожи друг на друга. Неделю не метенные полы, На письменном столе два черных круга — От чайника и от сковороды, Пучок цветов, засохших без воды, Велосипед, висящий вверх ногами, Две пары лыж, приставленных к окну, Весь этот мир, в длину и в ширину Давно измеренный тремя шагами. Как хорошо мы помним до сих пор Нехитрые мальчишеские трюки: Мгновенно в угол заметенный сор, Под тюфяком разглаженные брюки, И галстук, перед праздником за сутки Заботливо заложенный в словарь, И календарь стенной, на самокрутки Оборванный вперед на весь январь, Пиджак, зашитый грубыми стежками, Тетрадка с юношескими стишками… Несложные предметы обихода, Треногий стол и голая стена — Все ждало здесь, когда придет она, Желая и страшась ее прихода. И сам хозяин скучными ночами Мечтал ее в свой угол привести, Рубиться с кем-то длинными мечами, Бог знает от кого ее спасти. Он клялся быть ей верным до могилы, Он звал ее, он ждал ее сюда. Ждал год и два. Потом почти всегда Она в конце концов к нам приходила И говорила: «Бедный, дорогой», — Какое-то незначащее слово, Которое, услышав раз-другой, Мы каждый день хотели слышать снова. Все стены в доме были той системы, Когда, имея даже скверный слух, Живя в одной из комнат, вместе с тем мы Почти живем еще в соседних двух. И если у соседа есть жена, То, обхвативши голову руками, Ты все же слышишь, как, ложась, она Роняет туфли, стукнув каблуками. А впрочем, женщин в доме было мало, Мужское беспокойное жилье; Мы сами, помню, по утрам, бывало, Стирали в умывальниках белье. Когда я снова роюсь в этих датах, Я и доныне верю не шутя, Что в тридцать первом не было женатых, Что все женились года два спустя. Он уезжал отсюда. Есть пора, Когда мы погрубевшими руками Должны потрогать острие пера, Почувствовать себя учениками, Должны сменить, уехав налегке, Строительный привычный беспорядок На кляксы ученических тетрадок, На узкую кровать в студгородке. Он вдруг себя почувствовал подростком С потертой школьной сумкой на спине. Он был готов ночей не спать на жестком, На самом неуютном топчане. Учителям, как в детстве, глядя в рот, Сидеть на ученической скамейке, Жевать на завтрак тощий бутерброд, Считать стипендий скудные копейки.2
Мать, по своей старушечьей привычке, Явилась на вокзал за целый час. В ее бауле сыну про запас Лежал цыпленок, булочки, яички. С тех пор, как, убедив ее с трудом, Чтоб каждый день по десять верст не делать, Уехал сын в заводский дальний дом, Ей все казалось, что недоглядела, Что надо б не пускать его в отъезд. Зазвав к себе, ему котлетки грела, Как он их уплетал, с тоской смотрела. Бедняжка, верно, там-то плохо ест… Есть матери — блажен, кто их имеет, — Нам кажется порою, может быть, Они всего на свете и умеют, Что только нас жалеть, кормить, любить… Но если сын обижен ни за что, — Заняв на бесплацкартный у знакомых, В своем потертом, стареньком пальто Они дойдут до самого наркома. Но вместо сына к первому звонку Явилась вдруг она, его девчонка, В мужской ушанке, с сумкой на боку, В короткой курточке из жеребенка. Мать ей навстречу важно чуть привстала, Морщинистую руку подала. Пока девчонка что-то щебетала, Мать на нее смотрела из угла. Ну да, конечно, с синими глазами И даже с ямочками на щеках. И щеки не изъедены слезами, И ни одной морщинки на руках. Ну что ж, она не осуждала сына. Так повелось: растишь, хранишь, потом Чужая девушка махнет хвостом, И он уйдет за нею на чужбину… Сын, правда, говорил ей, что девчонка Ему близка как друг или сестра, Но он мальчишка, а она стара, Где дружит сын — там, значит, жди внучонка. Ей захотелось девушке сказать, Чтоб все-таки она не забывала, Что жениха ей вырастила мать, Что мать его в морозы укрывала, И если мальчик стал большим мужчиной, Который ей сейчас милее всех, Пусть помнит — тут и мать была причиной. Старухе поклониться бы не грех… Но вот и он. И, ежась от мороза, Из дымной залы вышли на перрон. Мать отошла. А девушка и он Пошли пройтись вперед, до паровоза. Мать провожала их ревнивым взглядом. Вот сын пришел, а ты опять одна. Он до свистка проходит с тою рядом И той последней крикнет из окна… Как два влюбленных, словно все в порядке, Он и она шли вдоль платформ ночных. Она забыла взять с собой перчатки, Он грел ей руки, спрятав их в своих. Но, боже мой, чего бы он ни дал, Чтоб знать — она нарочно их забыла… Чтоб знать, приятно ли сейчас ей было, Что он ей руки греет. Как он ждал, Чтоб из обычных ледяных границ Она бы вырвалась хотя бы на мгновенье! Пустячное дрожание ресниц, Короткий вздох, одно прикосновенье. Но что он может знать, когда она Все так же, не меняясь год от года, Светла и безнадежно холодна, Как ясная январская погода! Оставь ее — и ты легко прощен, Вернись опять — она и не заметит, Ее холодным солнцем освещен, Забудешь ты, как людям солнце светит. Ему хотелось вместо всех «прости», Не долго думав, взять ее в охапку, Взять всю как есть, с планшеткой, с шубой, с шапкой, Как перышко, в вагон ее внести… Но, не дождавшись третьего звонка, Он, даже не простившись хорошенько, Сказал ей равнодушное «пока», Легко вскочил на верхнюю ступеньку. Состав пошел. Стянув перчатки с рук, Мать вдоль платформ за сыном зачастила И, виновато поглядев вокруг, Из-под полы его перекрестила. Последнее лицо в оконной раме, Последний шепот: «Кутайся тепло», И кто-то сквозь замерзшее стекло Кричит, беззвучно шевеля губами. Мать с торжеством на девушку взглянула — Не ей, а старой матери своей Уже с подножки руки протянул он И помахал фуражкой из дверей. Но девушка ее не замечала. Она, давясь от подступивших слез, Смотрела вдаль, туда, где все кончалось, Где вился дым и таял стук колес. Мать видела — на воротник упала Тотчас стыдливо стертая слеза. Куда и ревность разом вся пропала. Заплаканные синие глаза Ей показались мягче и грустнее. Что ж, мать порой ревнует невпопад. Но если мы о сыне плачем с нею, Нам эти слезы полвины скостят. — Голубчик мой, я так одна скучаю, Я так давно к себе вас не звала. Голубчик мой, пойдемте выпьем чаю… — И девушка безропотно пошла. До самой двери долгий путь ночной Мать ей тихонько на ухо шептала, Какой он в раннем детстве был больной, Каких лекарств она ни испытала, Как восемь лет кругом была война, Как трудно приходилось с докторами, Как, если будет у него жена, Должна жена быть благодарна маме.3
Всегда назад столбы летят в окне. Мы двадцать раз проехать можем мимо, Они опять по той же стороне К нам в прошлое летят неутомимо. Он знал ее давно, давным-давно, Когда-то в детстве жил он рядом с нею, Еще мальчишкой, прячась и бледнея, Подглядывал за ней через окно. Он помнит платье в ситцевых цветах, И по двору мельканье пестрой юбки, И хитрый взгляд, когда она, устав, Садилась на виду, поджавши губки, И блеск уже тогда лукавых глаз, И худенькие девочкины руки. Он слишком много для мальчишки раз Об этом думал за семь лет разлуки. И вдруг ее увидеть наяву! Она его сначала не узнала. — Где вы теперь живете? — Я живу… — И улицу знакомую назвала. — А я ведь вас ходил искать не раз. — Искать меня? — Вы жили рядом с нами. Тогда вас звали Машею. — А вас? — И снова обменялись именами. Он говорил с ней нарочито грубым, Еще не устоявшимся баском. Когда она подкрашивала губы, Он вытирал их носовым платком. Под зонтиком, сквозным как решето, В весенний дождь она терпела кротко, Пока с ворчливой нежностью пальто Застегивал он ей до подбородка. Они гордились дружбою своей, Тем, что они так по-простому дружны, Что друг от друга ни ему ни ей, Казалось, больше ничего не нужно. Она, по крайней мере, много дней Его к невинной дружбе приучала, Но он, с тоской поверив в этом ей, Себе не верил с самого начала. Раз так стряслось, что женщина не любит, Ты с дружбой лишь натерпишься стыда, И счастлив тот, кто разом все обрубит, Уйдет, чтоб не вернуться никогда. Он так не смог, он слишком был влюблен, Он не посмел рискнуть расстаться с нею. Чем больше дней молчал и медлил он, Тем было все труднее и стыднее. И воровским казался каждый взор, И каждое пожатие — нечестным. Но девушке, пожалуй, до сих пор Все это оставалось неизвестным. Он много раз один в часы ночные Мечтал, что стоит в дом ее ввести, Ее вихры мальчишечьи смешные В послушные косички заплести, На кухне вымыть чайную посуду, Нагреть свою печурку докрасна, — Ей станет так уютно, что она Останется и не уйдет отсюда… Минутами казалось, что и ей Хотелось быть большой, неосторожной. Сердитые морщинки у бровей, И голос вдруг по-женскому тревожный, И взгляд такой, как будто вдруг она Заметила посередине фразы Глаза мужчины, койку у окна И ключ в двери, повернутый два раза. Нет, не повернутый. Но все равно, Пусть три шага ты мне позволишь взглядом. Шаг к двери — заперто. Шаг к лампочке — темно. И шаг к тебе, чтоб быть с тобою рядом… Но где там! Синеглазая юла, Что ей до нас, до наших темных комнат! Подпрыгнет, сядет посреди стола, Обдернуть платье даже и не вспомнит. Прижмется, если на дворе мороз, Разуется, чтоб водкой вытер ноги, И поцелует по-смешному — в нос, И на плече вздремнет, устав с дороги. Недавно целый день была метель. Она за полночь на часы взглянула, Без спросу застелив его постель, Калачиком свернувшись, прикорнула. Он лег у ног ее, как верный пес, Он видел из-под сдвинувшейся шубы Беспомощные завитки волос, По-детски оттопыренные губы. Так близко, так ужасно далеко Она еще ни разу не бывала. Чем так заснуть беспечно и легко, Уж лучше бы совсем не ночевала. Хотелось крикнуть. Выгнать на мороз Безжалостно, под носом хлопнуть дверью За это равнодушное, до слез В такую ночь обидное доверье. Зато теперь он едет. В самый раз. Он должен поскорей от рук отбиться. От рук ее, от губ ее, от глаз, В кого придется, наскоро, влюбиться. Зубрить, зубрить, и в пять утра вставать, И засыпать над книгой как попало, Не вспоминая, падать на кровать И сразу спать. Иначе все пропало. Вот только жаль, что рельсы и столбы Легли соблазном между городами, А предки ждать решения судьбы Привыкли месяцами и годами. Легко им было забывать навек, Когда, кряхтя, тащились колымаги, Когда казенный сонный человек По тракту вез почтовые бумаги! А мы? Вокзал и почта за углом. Нам трудно день прожить без покаянья. Забвенье стало трудным ремеслом, Когда у нас украли расстоянья.4
На Спасской башне било семь. Москва Еще была в рассветной синей дымке. Шипели в снеготаялках дрова. Свистели постовые-невидимки. Под буквами неоновых реклам Сидели сторожа с дробовиками, Похлопывая красными руками По рыжим громыхающим бокам. Прозрачной, тонкой струйкой купороса Дымки из труб летели от застав, — Казалось, целый город, только встав, Затягивался первой папиросой… Москва в его глазах была большой, Трамвайной, людной и немножко страшной. В ней были Кремль и Сухарева башня И два театра — Малый и Большой. Но стоило войти в нее с утра, Увидеть сторожей у магазинов, Заметить дым последнего костра, Услышать запах первого бензина, — Чтоб вдруг понять, что с этою Москвой Им можно положиться друг на друга, Что этот город, теплый и живой, В конце концов ему уделит угол. Понравься ей. Работай по ночам И утром пояс стягивай потуже, Ни в чем не уступая москвичам, Учись у них, ты их ничем не хуже. И если разболится голова И будешь плакать, сидя в чахлом сквере, Никто не вытрет слез твоих. Москва Таким слезам по-прежнему не верит. Какое б море мелких неудач, Какая бы беда ни удручала, Руками стисни горло и не плачь, Засядь за стол и все начни сначала. А вот и дом, куда он так летел, — Старинное святилище науки. Московских зодчих золотые руки Тут положили прочности предел. Тут все ему внушало уваженье: Тяжелые чугунные замки, Львы у ворот, лепные потолки, Высокие до головокруженья. По коридорам шли профессора Один другого старше, старомодней. Он их и не заметил бы вчера, Но с трепетом смотрел на них сегодня — На их стоячие воротнички, На узенькие, дудочками, брюки, Подвязанные ниточкой очки И в синих жилках старческие руки. К полуночи он возвратился в дом, Где им с утра ночевку указали, Где топчаны, добытые с трудом, Как хвойный лес, стояли в темном зале. Курили, говорили о Москве. Одним, казалось, далеко за тридцать, Другие только начинали бриться, Но мальчики здесь были в меньшинстве. Сюда сошлись, на бивуак ночной, Все больше люди с крепкими руками, С хорошей выучкою за спиной. Они себе казались стариками, Так много за недолгие года Пришлось трудов жестоких пережить им, На голом месте строить города, Кочуя по холодным общежитьям. Он лег, не раздеваясь, у окна. На свет и тень нарезав зал ломтями, Вся в хлопьях снега, белая луна На подоконник оперлась локтями. В такую ночь и спать не впору нам. Нам нужно, чтобы плиты были гулки, Чтоб нам, привыкшим к четырем стенам, Вдруг помогали думать переулки. Он, ежась, вышел в темный коридор. Свет не горел. В бутылках мерзли свечи. У самой двери старенький вахтер В неслышных туфлях поднялся навстречу: — Вам телеграмма. — Все еще не веря, Опять читал: «Вернись — я не могу». На бланке буквы как следы до двери На этой ночью выпавшем снегу. Не может? Лжет. Не может — это значит: Все ходит, ходит ночи напролет, И пробует заплакать, и не плачет, В подушку ртом — как головой об лед. И вдруг бежит вдогонку за трамваем, Завидя там похожий воротник, Сто раз на дню упрямо забывая, Что встретиться зависит не от них. Не может быть, он не сошел с ума, Чтоб верить ей, девчонке-недотроге. Она уже испугана сама. Но телеграмму не вернешь с дороги. И все-таки на том себя ловлю, Что пробую лицо ее представить, Когда она мне говорит «люблю», Решив себя на память мне оставить, И не могу. Я вижу только рот, Способный мне сказать два милых слова. Упрямый — сделать все наоборот И детский — тут же помириться снова. А вдруг она, упрямица, смогла На каблуках перевернуться круто… Синица тоже море подожгла, И кто-то ж ей поверил на минуту. Спешить к ней, задыхаясь на бегу, Как будто море правда загорится, Не оставаясь у нее в долгу, За сумасбродство отплатить сторицей. Пусть, спутав все, любя и не любя, Придет к тебе, и рада и не рада. А ты поверь и обмани себя, Решив, что так, наверное, и надо. Без шапки, наспех натянув пальто, Он выбежал в ночной, пустынный город И не узнал его. В нем все не то. Сгребают с крыш, и снег летит за ворот, И доски, как нарочно, поперек, И грохот льда, летящего по трубам, Чтоб не ходил, чтоб сам себя берег, Ему всю ночь напоминают грубо. Как трудно, сжившись с городом с утра, Вдруг встретить ночью — темным, непохожим И, зная, что бросать его пора, Опять себя почувствовать прохожим. Да стоит ли еще она того, Чтоб в книги не заглядывать по году, Чтоб, все забыв, отрекшись от всего, Вернуться, стать мальчишкой ей в угоду? Он вспомнил комнату, но не такой, В какой он жил, а новой, той, в которой Все тронуто уже ее рукой: Со скатертью, с окном, закрытым шторой… Ее подарки, мелочь, баловство, То абажур, то коврик над кроватью И штопаное ситцевое платье, В котором ходят только для него. Он наизусть в нем знает все заплатки, Он любит, чтобы дома, встав со сна, Опять вся в школьных бантиках и складках, Как девочка, в нем бегала она. Да, стоит быть нелепым, безрассудным, Уехать к ней, себе же на беду, Как хорошо, что ничьему суду Такие преступленья не подсудны. Ты в этом не раскаешься сначала, Потом раскаешься, потом тебе Еще придется каяться, что мало В чем каяться нашлось в твоей судьбе.5
Как все-таки она его ждала! Она не знала раньше, что в разлуке Так глупо могут опуститься руки, Так разом опостылеть все дела. Она была внезапно лишена Тех маленьких счастливых ожиданий, Той мелочной, но ежедневной дани, Которую нам жизнь платить должна. Мы можем пережить большое горе, Мы можем задыхаться от тоски, Тонуть и выплывать. Но в этом море Всегда должны остаться островки. Ложась в кровать, нам нужно перед сном Знать, что назавтра просыпаться стоит, Что счастье, пусть хоть самое простое, Пусть тихое, придет к нам завтра днем. Любила ли она его? Тревожно Искать портрет. Не узнавать лица, Казалось, присмотреться бы уж можно, А все не присмотрелась до конца. Ей нравился в нем жесткий рот мужчины, И властное пожатие руки, И первые недетские морщины, И ранние седые волоски. Ей нравилось, что, идя с нею рядом, Он вдруг дышал, как в гору, тяжело, Блуждая городским замерзшим садом, В пальто ее укутывал тепло И, руки дольше задержав, чем надо, Терялся и краснел, сходил с ума, Когда она, его смущенью рада, Наивно говорила: «Я сама». Недавно одолела вдруг усталость. С ним после лыж вернулась чуть жива. Шел снег. Она заночевать осталась, Не из-за снега, так, из озорства. Ей не спалось, но, притворившись сонной, Она видала, как он лег у ног, Когда-то злой, но ею прирученный Лохматый и взъерошенный щенок. Такой большой, покорный, терпеливый, Не смеющий ни рявкнуть, ни напасть… Как хорошо владеть им! И, трусливо Зажмурившись, класть пальцы прямо в пасть. Она уже два года замечала, Что с ним опасно стало быть нежней. Любовью перепугана сначала, Она потом легко привыкла к ней. Заметила, что он всего слабее, Когда она — девчонка-егоза, Когда она дичится, и робеет, И делает невинные глаза. Все с ним да с ним. И даже в скучный вечер За то, что он пришел, его браня, Привыкла так, что, кажется, без встречи Сама с трудом могла прожить полдня. Но ей еще ни разу не мечталось, Забыв про все, прийти к нему домой, Чтоб, кроме вечных слов «моя» и «мой», В погасшем доме звуков не осталось. И если так, — пожалуй, ведь она Его жалела больше, чем любила. Но в эти дни, когда ей грустно было, Когда, оставшись без него, одна, Она себе не находила места, Ей показалось, что она лгала, Что мать его, назвав ее невестой, Недалеко от истины была. Ей захотелось вдруг, без предисловья, Расцеловать его, затормошить И, не спросясь ни у кого, решить, Что это называется любовью. Послушает? Вернется ли с дороги? По-прежнему ль еще она сильна? Телеграфист был заспанный и строгий, Переспросил зачем-то имена. …………………………………………………. …………………………………………………. И вот вокзал. Бутылки с кипятком, Резиновые, длинные минуты. И скорый поезд, осадивший круто. Последний шаг, плетущийся пешком. Он в самом деле приезжал сюда. Она должна ему свой голос, руки, тело. — Ждала? — Ждала. — Звала обратно? — Да. — Хотела быть со мною? — Да, хотела. А ей сказать бы только: «Милый мой», Пожалуй, приласкаться осторожно, Чтоб снова провожал ее домой, Чтоб все опять привычно и несложно. Еще хотя бы год не покидать укавого сословия девчонок, И в каждом сне его тревожно ждать, И каждый раз за сны краснеть спросонок. Быть любопытной и неосторожной, Наперекор мужскому их уму, Знать каждый раз, чего нельзя, что можно, И в руки не даваться никому. А поезд подходил уже к платформе, Вот кто-то прыгнул с ходу на перрон. Но, слава богу, тот, в военной форме, Который прыгал, все еще не он. Скорей в толпу, не думая, а там Пусть будь что будет; подождать немного, Пусть не идет за нею по пятам, Она сама найдет потом дорогу. Бежать, но раньше хоть одним глазком Увидеть, что приехал в самом деле. А если нет — глаза зажать платком, И звать опять, и ждать еще неделю.6
Не может быть. Он обежал вокзал. Он грудью бился в запертые двери. Она придет, — да кто тебе сказал? Уже поняв, но все еще не веря, Бежал, бежал, как белка в колесе, По этому грохочущему аду, Где были все, кого не надо, все, Все, кроме той, которую нам надо. Чего все это стоило ему — Он понял, лишь домой к себе приехав. Десятки книг, не нужных никому, Забытых стен нетопленное эхо, И никого. Пустой и длинный день. Бывает одиночество такое, Что хочется хоть собственную тень Потрогать молча на стене рукою. Мальчишка плачет, если он побит, Он маленький, он слез еще не прячет. Большой мужчина плачет от обид. Не дай вам бог увидеть, как он плачет. Он плачет горлом. Он едва-едва С трудом и болью разжимает губы, Он говорит ей грубые слова, Которых не позволил никому бы. Он говорит ей — милой, дорогой — Слова сухие, как обрезки жести, Такие, за которые другой Им был бы, кажется, убит на месте. Не скинув шубки, двери не закрыв И не отерши ноги на пороге, Она к нему вбежала, как порыв Не жданной им и ветреной тревоги. Так в комнату к нам входят только раз, Чтоб или в ней остаться вместе с нами, Или, простившись с этими стенами, Надолго в них одних оставить нас. Что можем мы заранее узнать? Любовь пройдет вблизи. И нету силы Ни привести ее, ни прочь прогнать, Ни попросить, чтоб дольше погостила. Он шаг ее услышал за стеною, Но, не поверив, что пришла она, На всякий случай стал к дверям спиною, Касаясь лбом замерзшего окна. Она швырнула на пол рукавицы, Чтоб он не слышал, туфли с ног сняла, На цыпочках пройдя по половице, Его за шею сзади обняла. И только здесь, услышав шорох платья И рук ее почувствовав тепло, Он в первый раз поверил, что пришло Его простое, будничное счастье, То самое, которого, не плача, Не жалуясь, мы долго ждать должны. Нам без него не радостны удачи, Труды скучны, победы не нужны. Ему осталось только потесниться, Обнять ее, своим теплом согреть, От слез, от снега мокрые ресницы Рукою неуклюже отереть.Третья глава
1
Лишить бы нас печального пристрастья Вновь приезжать на старые места, Как был бы рад из памяти украсть я Ту комнату, которая не та, Давно не та, — другими нанята И все-таки, назло тебе, похожа, Похожа так, что вдруг мороз по коже, Когда пройдешь на память этот дом И лампу под зеленым колпаком, Теперь под желтым. Почему под желтым? Всего семь лет, как из дому ушел ты, И вот они уж рады — кверху дном. Ты будешь проходить здесь только днем, Чтоб не встречать все эти перемены: Зачем-то перекрашенные стены, Дешевых люстр стеклянные подвески И толстые чужие занавески, Которых мы не покупали с ней. Я этот дом пройду, закрыв глаза, Я попрошу, раз иначе нельзя, Играющих на улице детей, Скажу, что слеп. Вдвоем с поводырем, Зажмурясь, я пройду проклятый дом. Мальчишка-поводырь мне за гроши Солжет, что здесь не та земля и небо, И сослепу, не встретив ни души, Поверю сам, что я тут прежде не был. Я заплачу, чтоб день прожить незрячим. А память? Жаль, что не заткнешь ей рта. Полжизни уписав на пол-листа, Мы память сложим вчетверо и спрячем. На что нам память? Сдать бы напрокат, Чтоб, как большие черные рояли, В чужих квартирах памяти стояли. Пускай в них барабанят наугад, Пусть, сев, как втрое сломанная палка, Там будет гаммы девочка играть, Чужую память никому не жалко, И даже лень настройщика позвать. Какие только мысли не взбредут В бессонницу, когда мы подъезжаем, И проводник уже стучится с чаем, И три соседа нехотя встают, А ты упорно смотришь за окно, Как будто правда кто-то может встретить… — Вы здесь бывали? — Да, бывал. — Давно? — Семь лет назад. — Что ж им еще ответить? Вы никогда не думали, что вдруг Уйдем — и нет ни тумб, ни крыш, ни ставен. Вернемся: ловкое движенье рук — И все назад, как фокусник, расставим? Не думали? Но поезд, подойдя, Уже был вровень с низкими домами. Перрон в окне за каплями дождя Бежал, прикрывши голову зонтами. Уже засуетились чьи-то жены, Уже стучали пальцами в стекло, А нам с тобой опять не повезло, Нас только дождь встречает у вагона. Ну что ж, ведь мы транзитные. Для нас Не всюду приготовлена погода. Нам только скоротать бы лишний час До позднего отплытья парохода. Что, в самом деле, мало нам земли? Есть поезда на Пензу, Минск и Тулу. Так нет, другой дороги не нашли, Опять на пепелище потянуло. Вот этот дом — теперь ходи кругами, Ходи, пока не высохнет песок, Пока земля, как серный коробок, У нас не загорится под ногами. Твое лицо едва ль кому напомнит Того мальчишку, что давным давно Жил за стеной в одной из этих комнат, Смотрел сквозь это темное окно, Не зная цен утратам и привычкам, Еще не веря в тот счастливый год, Что, как в тайге зимой последним спичкам, Минутам счастья есть поштучный счет. А дом все тот же. И в жару и в стужу — Не то что нам — ему износу нет, Сквозь перекраски пятнами наружу Опять пробился прежний, детский цвет. Здесь женщина, с которою когда-то Он прожил год в своем пустом углу, Тревожно, неуютно, небогато, Раскладываясь на ночь на полу. Здесь женщина, с которой слишком долго Они дружили, обманув себя, И вдруг сошлись, не разобравшись толком, Уже перетерпев, перелюбя. Их чувству дружба прежняя мешала; Они стыдились признаваться в нем, И то, что было ночью, их смущало, Смотреть в глаза не позволяло днем. Здесь женщина, с которой слишком быстро Они расстались, не успев решить. Бывают расставания как выстрел — Ни дня, ни часу дольше не прожить. В них ничего не жалко и не странно, От них, вперед решая быть умней, Страдают, как от огнестрельной раны, И, выжив, поправляются в пять дней. Но есть еще другие расставанья: Без громких ссор, без точки на конце, Ползущая сквозь дни и расстоянья Болезнь, похожая на ТБЦ, — Уже все зарубцовано, по году Уже врачей мы не пускаем в дом, И вдруг весной, в ненастную погоду, Опять, как рыбы, ловим воздух ртом. Под южным солнцем заметая след, Сбежать бы в Крым или — еще полезней — Сжечь пачку писем, вот уж много лет Подшитую к истории болезни. Здесь женщина, которая причастна К такому списку самых черных дней, К такой любви, нелепой и несчастной, Ко стольким бедам юности моей, Что, вздумай мы по этим пятнам темным Себя сквозь память, как сквозь строй, прогнать, С другими мы и счастья не припомним, С ней — и несчастье будем вспоминать. Нет, он сюда зайдет в обрез. Зайдет Уже перед отплытьем, мимоходом. Он поцелует руку, и вздохнет, И скажет, что прекрасная погода, Что он случайно оказался тут, И вот зашел, и что пора в дорогу. Что скажешь ей за эти пять минут? Да ничего. Ну вот и слава богу.2
Куда ж пойти? Еще не знаем сами. И нужно и ко всем, и ни к кому. И люди с посторонними глазами Навстречу попадаются ему. Он вдруг сообразил, что, как ни странно, Но так же, как и он, его друзья, Прожив тут юность, с легким чемоданом Перебирались в дальние края. Куда ж пойти нам? За угол и прямо, Знакомый непокрашенный фасад, Печальный дом, где много лет назад В твою отлучку умирала мама. Пять дней не умирала — ожидала; Казалось, никогда не обижал, А тут вот телеграмма опоздала, Она звала, а ты не прибежал. Как ей, должно быть, было одиноко! На телеграмму денег наскребла. А сын не едет, сын ее далеко. У сына, верно, важные дела. По целым дням глядела на дорогу, Глаза от света заслонив рукой, До самой смерти верила, как в бога, Что он приедет, он ведь не такой. Стыдилась переспрашивать соседок, Послали телеграмму или нет, Отчаявшись, мечтала напоследок, Чтоб хоть по почте ей прислал ответ. Он снова вспомнил темный зимний вечер, Притихший дом, весь в восковом тепле, И праздничные тоненькие свечи, Как в день рожденья, в детстве, на столе. Присев на лавку у ворот, устало Взглянул на дом, на фикусы в окне. Ему сегодня только не хватало Взять и заплакать, прислонясь к стене. Чтоб постовому дети рассказали, Как за углом на улице один Сидит и заливается слезами Седеющий высокий гражданин. Чтоб постовой узнал, откозырявши, Спросив, не надо ль помощи ему, Что гражданин к мамаше умиравшей Не смог прибыть и плачет потому. Он вспомнил руки матери. Ее Все в мелких ссадинках худые пальцы. Они с рассветом брались за белье И с темнотой — за спицы или пяльцы. Такие быстрые, как ни следи, Все что-то надо тормошить и трогать. Она в гробу впервые их, должно быть, Сложила неподвижно на груди. Сбиваясь с ног, чтоб дома было чисто, Прислуга всем с утра и дотемна, Мать в праздник вспоминала, что она Сама была женой телеграфиста. По воскресеньям в гости уходя, Брала с гвоздя завернутую в тряпку, Увядшую от снега и дождя, Чуть не до свадьбы купленную шляпку. Он помнит все подробности — она Висела в комнате на видном месте. Отец купил ее еще невесте, Ее носила тридцать лет жена, Потом вдова. Нет, он не взял ее, Он с похорон уехал без оглядки. Соседи разобрали все старье: Венчальный шлейф и белые перчатки, Стеклярусом обшитый кушачок, Атласный лиф с засохшей розой чайной — Тот самый черный мамин сундучок, Который в детстве был такою тайной. Все разлетелось по чужим рукам, В чужие, равнодушные квартиры. Для нас мучительные сувениры Легко и просто приживались там. Ему сейчас внезапно захотелось Хоть на минуту маму возвратить, Ее худое легонькое тело Поднять и на колени посадить, Придравшись к позабытым именинам, Все городские лавки обойти, На все, что есть, как свойственно мужчинам, Нелепые подарки принести. — Спасибо, милый. — Стой, да где ж она? Ведь только что еще жила на свете. И вдруг ушла. Играющие дети, Чужие окна, темная стена.3
Осталось меньше часа до отъезда. Теперь зайти нам самая пора В тот дом, как заколдованное место, Нам в руки не дающийся с утра. Он побежал, как мальчик на свиданье, Как будто в доме нас и правда ждут, Как будто страшно лишних пять минут Прибавить к стольким годам опозданья. Он приоткрыл чуть скрипнувшие двери. Все было тихо. Только в двух шагах Шел по полу мальчишка и с доверьем Разглядывал мужчину в сапогах. Он подхватил мальчишку. Нет, не в мать, Совсем не в мать: белесый, светлокожий, И все же чем-то — сразу не поймать — Лукавством, что ли, на нее похожий. — Да сколько же тебе? — Четыре года. — Где мама? — Там… — И, не спуская с рук, Вошел в другую комнату, как в воду, На всякий случай взяв с собою круг. Ну да, конечно, как же не узнать. Он все-таки решил сюда вернуться? Она сейчас, он должен подождать, Пока она покормит, отвернуться. Он оглядел квартиру. По углам Стояли этажерки и комоды, И стайки туфель, вышедших из моды, Паслись у ножек стульев здесь и там. Квартира даже в сумрак, в тишине, Была, как днем, шумна и суетлива. В ней, как в часы отлива и прилива, Слонялись вещи от стены к стене. Здесь девочки давно простыл и след. Привычками заменены причуды. Здесь женщина. Ей завтра тридцать лет, И в детство ей не убежать отсюда. — А вот и я. — Вот и она сама. — Совсем седой, как изменился, боже! За все семь лет ни одного письма. — А ты ждала? — Нет, не ждала. Но все же… — Что все же? — Все же… Впрочем, все равно, Позвал тогда, — пожалуй, прибежала б. Все трын-травою поросло давно, Теперь не нужно запоздалых жалоб. Знакомый жест — закинутый назад Упрямый подбородок недотроги, А взгляд не тот, ленивый, смирный взгляд, Уже привыкший гаснуть с полдороги. Он сходство в ней отыскивал напрасно. Все стало вдруг до странности другим, Быть может, материнским и прекрасным, Но бесконечно меньше дорогим. Черты как будто изменились мало, Все те же губы, но лицо ему Ничем о прошлом не напоминало И в будущем не звало ни к чему. Нет, вовсе нет, она не постарела, Ее почти не тронули года, А просто все не так: не так смотрела, Не так ходила, все не как тогда. На коврике под детскою кроватью, Среди подвязок, туфель и чулок, Валялась тряпка — выцветший кусок От старенького девичьего платья. Должно быть, ею уж не первый год Стирали пыль и вытирали туфли, И ситцевые розочки потухли От этих многочисленных невзгод. Оправившись от первой суеты, Она была, должно быть, правда рада, Что дождь прошел, и вот приехал ты, И можно выйти погулять по саду. Ей, право, очень кстати твой приход, Чтоб мстительно похвастаться семьею, Сказать, что сыну скоро пятый год (А мог девятый быть у нас с тобою), Что младший весь пошел лицом в отца (А мог в тебя). Намеки были робки, Нигде не прорывались до конца, Но в каждой фразе замыкались в скобки. Так и живем. Да, счастливы, давно… А в скобках: и безжалостны к потерям. Все хорошо. А в скобках: все равно Завидуешь. Не прячься. Не поверим. — А ты все так же? — Как?.. — Все так же, ну… — Вдруг с ноткою обидного участья К тому, что не нашел себе жену, Не то, что мы. Себе не склеил счастья. — Так все и бродишь? — Так уж повелось, Когда-то ведь за это и любила. — Была глупа, да мало ли что было, Нельзя ж мальчишкой до седых волос. Кто эта женщина? Как после сна, Глаза ладонью протереть невольно. Нет, не она. Конечно, не она. Семь лет он лгал себе. С него довольно. Она обманом выкрала у той Знакомую привычку морщить брови, И детский рот с упрямою чертой, И милую картавость в каждом слове. А если поглядеть со стороны, Как два влюбленных, словно все в порядке, Он и она вдоль каменной стены Шли через сад, рассматривая грядки. — Да, примулы, а это — с резедой. Тут смяли дети — бегали в горелки. А здесь табак, а вон на крайней той… — Он, чиркнув спичкой, поглядел на стрелки. Да, он спешит, да, едет ближе к ночи. Не хочет ли он мужа подождать? Да нет, по правде говоря, не очень. Совсем по правде? Лучше б не видать. Ревнует к мужу? Слава богу, нет. Писать ей письма? Нет, писать не станет. Когда заглянет? Пропадал семь лет, Еще на семь исчезнет и заглянет. Он вышел вон. У поворота к школе, Ютясь в пальтишко узкое свое, Шла выросшая девочка, до боли Похожая на прежнюю ее; Похожая почти до совпаденья, Неся в руках похожие цветы, Прошла как мимолетное виденье, Прошла, как гений чистой красоты. И вдруг он понял: вот с кем он прожил Все эти годы странствий и обманов, Вот чьи он фотографии возил На дне пустых дорожных чемоданов. Да, девочка. И голубой дымок, И первых встреч неясная тревога, И на плечи наброшенный платок, Казенный дом и дальняя дорога. Сквозь время тоже ходят поезда, Садимся без билетов и квитанций. Кондуктор спросит: — Вам куда? — Туда. — И едем до своих конечных станций. Такой уж путь. На счастье ль, на беду, Но, выехав за первый дачный пояс, Не выскочишь, раздумав, на ходу, Не пересядешь на обратный поезд. Смотри назад: за сеткою дождя, По-детски руки протянув с перрона, Там девочка еще стоит, следя За фонарем последнего вагона. — А эта женщина? — Да вы о ком? Об этой? Нет, о ней я не печалюсь. Знаком ли с ней? Да, помнится, знаком, Давным-давно мы где-то с ней встречались. 1938–1941ДАЛЕКО НА ВОСТОКЕ{14}
О погибших
Я там не был зимой. Но я знаю: с утра ветер бьет о замерзшую воду. Снега нет и в помине. Ветра. Ветра. Адовая погода. В эту продрогшую землю в мелких порошинках инея, словно их тронула проседь, вдавлены танков следы. Они, как тульская сталь, холодные, синие, ползут на Восток, на Восток от замерзшей воды. А над ними, над ущельем, где разбитые грузовики вверх колесами спят, дожидаясь своих мертвых шоферов, где торчат из-под льда железные лепестки изорванных взрывом моторов, над ущельем, которое между нами и ими, как рваная рана, встал высокий откос, острый, как нос корабля. Он стоит, глядя прямо в лицо желтым, острым, как пики, отрогам Хингана. Нет, она не кругла здесь, эта — политая кровью земля. И над ней высоко, на откосе, как гнездо орлов, наше братское кладбище в горной дымке мороза. Что скрывать, деревянные доски и несколько слов слишком многим здесь заменили пролитые матерью слезы, но мне кажется — тут похоронен только один, он был русый парень с голубыми глазами, он погиб, не дожив до первых седин, до славы, которая не за горами. Он летчиком был. А впрочем, не так: он был сапером, он мост наводил под обстрелом. Нет, он не был сапером. В одной из атак он майора от пули прикрыл своим телом. Нет, неправда! Тогда он выжил, на счастье. Он в пехоте и не был. Скорее всего, говорят, он был из танковой части, потом ей дали имя его. Много слухов идет о его кончине: говорят, что, от смерти за два шага, на своей курносой горящей машине он, и рушась, еще протаранил врага. Говорят, он, в сплющенном танке зажатый, перед смертью успел обожженным ртом объяснить экипажу, как можно последней гранатой подорваться втроем, чтоб врагу не достаться живьем. Говорят, что, когда его ранили в ногу, недвижим, окружен, далеко от своих, он, взмахнув над собой пулеметной треногой, уложил перед смертью последних троих. Много слухов идет о его кончине. Верно, был он героем, если столько о нем говорят: как в их полк мать из дому, рыдая, писала о сыне, как его гимнастерку надевал его младший брат. Говорят, его имя дают городам и рекам. То жестоко, то нежно имя это звучит, потому что в бою был он очень крутым человеком, но к друзьям и к любимым по-детски был сердцем открыт. Так был волосом рус он, а глаза голубые, так любим он везде был, где довелось ему жить, что все девушки плакали, даже чужие, и все парни клялись за него отомстить. Он лежит под землей на границе. Но он сам — как граница. Он лежит на орлином утесе. Но он сам — как орлиный утес. Он описан на книжных страницах, но он сам — как живая страница. Он убит. Но довольно, не плачьте — он не хотел слез. Он хотел, чтобы, с глаз их рукавом сдирая, шли вперед, скупыми словами написав о смерти жене. Это он окровавленным пальцем, заживо в танке сгорая, «Большевики не сдаются» нацарапал на дымной броне.О живых
Но довольно о мертвых. Мы живы, мы победили. Он был героем, но все-таки — лишь одним из многих других. Говорят, при жизни в друзьях его сходство с ним находили, а если так, значит, стоит поговорить и о них. Майор, который командовал танковыми частями в сраженье у плоскогорья Баин-Цаган, сейчас в Москве, на Тверской, с женщиной и друзьями сидит за стеклянным столиком и пьет коньяк и нарзан. А трудно было представить себе это кафе на площади, стеклянный столик, друзей, шипучую воду со льдом, когда за треснувшим триплексом метались баргутские лошади и прямо под танк бросался смертник с бамбуковым шестом. Вода… В ней мелкие пузырьки. Дайте льду еще! Похолодней! А тогда — хотя бы пригоршню болотной, в грязи, в иле! От жары шипела броня. Он слыхал, как сверху по ней гремит бутылка с горящим бензином, сейчас соскользнет. Или… Что или? Ночная Тверская тихо шуршит в огне… Поворот рычага — соскользнула! Ты сидишь за столом, с друзьями. А сосед не успел. Ты недавно ездил в Пензу к его жене, отвозил ей часы и письма с обугленными краями. За столом в кафе сидит человек с пятью орденами: большие монгольские звезды и Золотая Звезда. Люди его провожают внимательными глазами, они его где-то видели, но не помнят, где и когда. Может быть, на первой странице «Правды»? Может быть, на параде? А может быть, просто с юности откуда-то им знаком? Нет, еще раньше, в детстве, списывали с тетрадей; нет, еще раньше, мальчишками, за яблоками, тайком… А если бы он и другие тогда, при Баин-Цагане, тот страшный километр, замешкавшись, на минуту позднее прошли, сейчас был бы только снег, только фанерные звезды на монгольском кургане, только молчание ничего обратно не отдающей земли. По-разному смотрят люди в лицо солдату: для иных, кто видал его только здесь, в Москве, за стаканом вина, он просто счастливец, который где-то, когда-то сделал что-то такое, за что дают ордена. Вот он сидит, довольный, увенчанный, он видел смерть, и она видала его. Но ему повезло, он сидит за столом с друзьями, с влюбленной женщиной, посмотрите в лицо ему — как ему хорошо и тепло! Да! Ему хорошо. Но я бы дорого дал, чтоб они увидали его лицо не сейчас, а когда он вылезал из своей машины, не из этой, которая там, у подъезда, а из той, где нет сантиметра брони без царапин от пуль, без швов от взорвавшейся мины. Вот тогда пускай бы они посмотрели в лицо ему: оно было усталым, как после тяжелой работы, оно было черным, в пыли и в дыму, в соленых пятнах присохшего пота. И таким усталым и страшным оно было тридцать семь раз и не раз еще будет — «если завтра война», как в песнях поется. Надо было лицо его видеть тогда, а не сейчас, Надо о славе судить, только зная, как она достается.О миражах
Бригада шла по барханам, От самого Ундурхана был только зной и песок, только зной и песок, песок сквозь броню и чехлы. Приходилось мокрыми тряпками затыкать кобуру нагана, как детей, пеленать крест-накрест орудийные стволы. Но глаза — их не забинтуешь, они были красными до ожога, хотелось их разодрать ногтями, чтоб вынуть песок из-под век. Он будет сыпаться долго-долго, как в песочных часах. В глазах его так много, что можно, высыпав весь, сделать песчаные берега для нескольких рек, а всю воду выпить. Или нет, оставить немного на дне, чтоб потом, на обратном пути, хоть горстку, глоточек… Майор просыпается от ожога — он прижался щекой к броне, — шестьдесят градусов Цельсия. В небе несколько точек. Это орлы ушли вверх от жары. В броневом зеленом стекле через цепи низких барханов, переваливаясь, как утки, под абсолютно красным солнцем, по абсолютно желтой земле абсолютно черные танки идут уже третьи сутки. Все цвета давно исчезли. Остались только три: желтое… красное… черное… — цвет жары, цвет крови, цвет стали. Майор вылезает на башню. Он слышит, как там, внутри, хрипло кашляют люди. Они чертовски устали, надо будет сесть самому, а их наверх, сюда. Но сначала, сначала, черт возьми, как красиво: как это ни странно — с башни видна вода, настоящая вдруг, голубая, а над ней — ивы. Да, ивы, нагнулись, как дома на Оке. Но только они почему-то красного цвета. И, только что голубая. вода в реке начинает краснеть, краснеть, как лес на исходе лета. — Эй, погодите! Кто поджег воду? — А ивы гнутся так низко, так плоско, что вот они уже как тростник, как трава. Заливные луга… Но сейчас же острой полоской, как косой, вдоль всего горизонта подрезает их синева. И луга уплывают в иссиня-черное небо, а вместо них прямо в землю сверху втыкается лес, острый, сосновый. Давно он в таком не был… Сейчас бы туда, под сосну, в холод. Скорей, пока не исчез! Скорей, дайте двухверстку! Я нанесу — тут лес и река, тут лес и река, а топографы и забыли! — Что, товарищ майор? — Нет, ничего. — Опять одни облака желтой, как шар, туго скатанной пыли. И еще молоко солончаковых озер, соль, соль, соль, остальное — мираж, ничего нету. Он, как все, сначала не верил в эти цепи тающих гор, в этот пар над мнимой водой, в эти речные расцветы. Но все, чего не хватало в этой пустыне, сводя нас с ума, катилось перед глазами: вода и деревья, деревья, деревья с густыми, с очень густыми, с такими густыми, как хочется, ветвями, ветвями, ветвями. — Денисов, на башню! — Да, товарищ майор. — Смотри! Видишь реку? — Нет, не вижу. — И правда — пропала, одна просинь. До Баин-Цагана осталось семьдесят три, семьдесят два, семьдесят, шестьдесят восемь. Кого-то хватил удар. За бугром, в стороне экипаж ему наспех роет могилу. Земля пересохла, она не желает, по ней, как по броне, с лязгом скользят лопаты. Она мертвых берет через силу. А живым — им некогда, им надо в танк сесть, молча сдернуть шлемы и ехать. Им нет времени на слова. До Баин-Цагана осталось шестьдесят шесть, шестьдесят пять, шестьдесят три, шестьдесят два.Об утре перед боем
Новобранца приводят в роту отец и мать. Они благовоспитанно улыбаются, старые, грустные люди. Не улыбнуться — невежливо, даже если заранее знать, что он завтра будет зарыт в песок с простреленной грудью. Их сын, матрос с краболова, большой, молчаливый, смотрит в лицо отцу и не верит его улыбающимся губам. — Господин поручик, мы благословляем этот счастливый день, когда он переходит от нас к вам. Поручик завтра рядом с их сыном, не сгибаясь, пойдет через море огня. Он не будет беречь ни себя, ни его. Но сейчас, по обычаю, он говорит: — Отныне я ему мать и отец. Отныне он у меня самый нежно хранимый сын в моей роте. — И тоже улыбается из приличия. Все четверо улыбаются… Где же эта улыбка? Песок. Новобранец, зарывшись, лежит в цепи. Еще бы воды глоток. Еще бы неба кусок. Еще бы минуту не слышать, как танки ползут по степи. Он держит в руке шест с привязанной миной. Легкий и крепкий шест из бамбука. Бамбуковый шест в двадцать локтей — он ведь все-таки очень длинный, не правда ли — двадцать локтей и еще длинней на целую руку. Двадцать локтей и еще рука, когда мина взорвется — это все-таки очень много. Он храбр, но все-таки исподтишка он же может мечтать, чтобы ранило только в руку или в ногу. Фляга стоит рядом с ним на песке, но он не пьет. Галеты лежат в заплечном мешке, но он не ест. В заранее вытянутой как можно дальше, как можно дальше руке, окаменев от ужаса, он держит бамбуковый шест. Генерал, получивший поручика на русско-японской войне, ровно в час прибудет со штабом к вершине горы, ему разбивают палатку на теневой стороне, из двойного белого шелка, непроницаемого для жары. Господин поручик, тот самый, который отныне новобранцу заменяет мать и отца, опершись на меч, стоит у палатки, смотрит вдаль на пустыню и отстраняет солнце веером от лица. На белом рисовом веере нарисован багровый круг, написаны тушью солдатские изречения. Когда ротный флажок падает из ослабевших рук, веер приобретает особенное значение. В журнале, который читает поручик, нарисован храбрый отряд: солдаты идут в атаку, обгоняя друг друга, поручик с рукой на перевязи бежит впереди солдат, как флаг, поднимая веер, белый, с багровым кругом. Это было под Порт-Артуром, еще на прошлой войне, отец господина поручика получил за подвиг награду. И поручик мечтает, как сам он в красном, закатном огне пойдет в атаку с веером впереди отряда. Но новобранец, который лежит в цепи, у него нет сорока поколений предков с гербом и двумя мечами… Он не учился в кадетской школе, ни в книгах, ни здесь, в степи, слава военной истории не касалась его лучами. Он слышит, всем телом своим припав к земле, как они идут! Он слышит всем страхом своим, что они близко, что они тут! А там, сзади, еще не верят. Там знают старый устав: танки идут с пехотой, а у русских нет пехоты, она еле бредет, устав, она еще в ста верстах, она еще в ста верстах, ей еще два перехода.О том, как танки идут в атаку
А пехоты и правда не было. Она утопала в песках, шла, захлебываясь пылью, едва дыша. Летчик, посланный на разведку, впереди нее в облаках летел как оторванная от тела душа. Он знал: за десять минут отсюда уже начинался бой. Проклятье! Он мог эти сутки для них сделать за десять минут. Если б можно их всех на канатах потянуть вверх, за собой, поднять, перенести и поставить за сто верст, там, где их ждут. Он делал над их головами смертельные номера: двойной разворот, штопор, двойной разворот. И смертельно усталые люди снизу хрипло кричали «ура». Они понимали, что он им хочет помочь скоротать переход. — Что ж, придется одним. — Майор потушил папиросу о клепку брони. Комиссар дострочил на планшете последнюю строчку жене. Начальник штаба молча кивнул: — Что ж, одни так одни, — и посмотрел на багровое солнце, плывшее в стороне. Все посмотрели на солнце. Открыв верхние люки на всех, сколько было, танках, сдвинув на лоб очки, положив на поручни башен черные кожаные руки, танкисты смотрели на солнце, катившееся через пески. Не всем им завтра встретить восход под этими облаками. Майор поднялся на башню: — За Родину! — В бой! Сигналист крест-накрест взмахнул флажками, и стальные люки с грохотом захлопнулись над головой. В броневом стекле вниз и вверх метались холмы. Не было больше ни неба, ни солнца, только узкий кусок земли, в которую надо стрелять, только они и мы. Только мы и они, которых надо вдавить в этот песок. — За Родину — значит за наше право раз и навсегда быть равными перед жизнью и смертью, если нужно — в этих песках. За мою мать, которая никогда не будет плакать, прося за сына, у чужеземца в ногах. — За Родину — значит за наши русские в липах и тополях города, где ты бегал мальчишкой, где, если ты стоишь того, будет памятник твой. За любимую женщину, которая так горда, что плюнет в лицо тебе, если ты трусом вернешься домой. Облитая бензином, кругом горела трава, майор, задыхаясь от дыма, вытер глаза черным платком, крикнул: — Вперед, за Родину! Стрелок не расслышал слова, но по губам угадал и, стреляя, повторил их беззвучным ртом. Снаряд ворвался в самую башню. На мгновение глухота, как будто страшно ударили в ухо Стараясь содрать тишину, майор провел по лицу ладонью. Ладонь была залита, стрелок привалился к его плечу, как будто клонило ко сну. Майор рванул рукоять. Пулемет замолк. Замок у орудья разодран в куски. Но танк еще шел! Танк еще шел! Танк еще мог… Еще сквозь пробоину плыло небо и летели пески. И вдруг застрял и опять рванулся страшным рывком. — Денисов! — Водитель молчал. — Денисов! — Молчал. — Денис… — Майор качнулся вправо и влево в обнимку с мертвым стрелком и, оторвав ослепшие пальцы, пролез вниз. Водитель сидел, как всегда, — руки на рычагах. Посмертным усильем воли он выжал передний ход, Исполняя его последнее желанье, в мертвых зрачках земля, как при жизни, еще летела вперед. Похоронный марш, слава, вечная память — это все потом. А пока на мокром от крови кресле тесно сидеть вдвоем. Майор отодвинул мертвого, повернул лицом к броне и, дотянувшись до рычагов, прижался к его спине… Семь танков уже горело. Справа, слева и сзади были воткнуты в небо столбы дыма. Но согласно приказу оставшиеся в живых шли, не глядя, шли мимо, мимо праха товарищей, мимо горящих могил, недописанных писем, недожитых жизней. Перед смертью каждый из них попросил только горсть воды себе и победы в бою отчизне. Есть у танкистов команда: «Делай, как я!» Смерть не может прервать ее исполненья. Заместитель умершего повторяет: — Делай, как я! — Умирает, и его заместитель ведет батальон в наступление. Экипаж твой убит. Но еще далеко до отбоя, и соседи не знают, что мертвым не прикажешь стрелять. Если ты повернешь, вдруг они повернут за тобою, вечность, тридцать секунд потеряв, чтоб понять. Да! Но ты еще жив. И разодранный, страшный, молчащий, танк майора прорвался к реке. Да, пускай не стрелять, только б в землю их вмять, только б чаще догонять их машины, оставляя за собой скорлупу на песке. Майор срывает флягу с ремня. Воды больше нет. Ну и черт с ней! Он сжимает сожженный рот. В эту минуту победы больше нет ни тебя, ни меня, ни жажды, ни смерти, ничего, кроме — вперед!О вечере после боя
Вечер. Как далеко позади это поле сраженья, и слезы упоенья победой, и последнего залпа дымок, перевернутых пушек колеса, бегство тех, кто успел, и могилы тех, кто не смог. Обломок ротной трубы, не успевшей подать сигнал, бутылки из-под сакэ, солдатские ложки, рядом с телом хозяина вдавленный в землю журнал, где на залитой кровью обложке, как ни странно, по-прежнему нарисован храбрый отряд: солдаты идут в атаку, обгоняя друг друга, поручик с рукой на перевязи бежит впереди солдат, как флаг, поднимая веер, белый, с багровым кругом. После боя курили, сняв шлемы. Под головой был монгольский, зеленый с красным и черным закат. Был короткий отдых. И завтра опять бой, как вчера, и позавчера, и месяц назад. Но они говорили совсем не об этом. Чего ради повторять то, что известно, то, что опять начнется завтра с утра. Они говорили о доме, о маме, о какой-то Наде, говорили так, как будто они оттуда только вчера. Нет, неправда, к смерти привыкнуть нельзя. Но это еще не значит видеть ее во сне по ночам, думать о ней, открывая утром глаза, говорить о ней, поднося котелок к губам. И когда солдаты, которым завтра в бой, говорят не о торжестве идей, а, грустя, вспоминают о доме, о матери, о родных, то это тревожит только маленьких чернильных людей, верящих громким словам, но не верящих сердцу, которого нет у них самих. Но командир роты, который был с нами вчера в бою и пойдет с нами завтра, садится рядом, и, греясь одним огнем, слушает нашу жизнь, и рассказывает свою, и не боится вспомнить милую женщину и опустевший дом. Его не тревожит наша память о доме, о любви, об уюте комнат. Если б не было этого, где ж тогда наши сердца? Из того, кто ничего не любит и ничего не помнит, можно сделать самоубийцу, но нельзя сделать бойца. Я люблю землю в холодных рассветах, в ночных огнях, все места, в которых я еще никогда не жил. Если б мне оторвало ноги, я бы на костылях, все равно, обошел бы все, что решил. Я люблю славу, которая по праву приходит к нам. С ночами без сна, с усталостью до глухоты. Равнодушную к именам, жестокую по временам, но приходящую неизменно, если сам не изменишь ты. Я люблю женщину, которая стоит того, чтоб задыхаться от счастья, когда она со мной, чтоб задыхаться от горя, когда она оставляет меня одного, чтоб не знать ни позже ни раньше никого, кроме нее одной. Но в минуту, когда между жизнью для них и смертью за них выбирать приходится только нам самим, то, как ни бывает жаль умирать, мы не уступаем этого права другим. Если ты здоров и силен и ты уступил это право, ты не сможешь ходить по земле, которую защищал другой; слава, трясясь над которой ты струсил, — уже не слава; женщину, за которую ты не дрался, ты не смеешь называть дорогой. Мы всосали эту жестокую правду с молоком матерей. Мы все такие, и этого у нас не отнять. Мы умеем жертвовать жизнью только одной своей. Но зато эту одну трудно у нас отобрать. Мы не вспоминаем в эту минуту всех книг, которые мы прочли, всех истин, которые нам сказали, мы вспоминаем не всю землю, а только клочок земли, не всех людей, а женщину на вокзале. Но за этим, ширясь, не зная преград, встает Родина, сложенная из этих клочков земли, встает народ, составленный из друзей, которые провожали нас, солдат, плывут облака, под которыми мы росли. А в бою есть только танки, идущие напролом. Есть только красный флаг над желтым песком. Что они не сметут, то он подожжет. Они дойдут до реки и пройдут эту реку вброд, и пески за рекой, и горы, которые за песками, и еще пески, и еще горы, и море, которое за горами, они обогнут всю землю железной дугой, они обойдут все страны одну за другой, они обойдут их все, ломая жалкую бестолочь пограничных столбов, и, почернев в походах, они выйдут в другое столетье на площади неизвестных нам городов, только там наконец они встанут на отдых. Будет солнечный день. Незнакомый нам завтрашний век. Монументом из бронзы на площадях они встанут рядами. Верхний люк приподнимет бронзовый человек, сигналист просигналит бронзовыми флажками, и на всех, сколько будет их, танках, открыв верхние люки, подчиняясь приказу бронзового флажка, положив на поручни башен бронзовые руки, они будут смотреть на солнце, катящееся через века. Революция! Наши дела озарены твоим светом, мы готовы пожертвовать для тебя жизнью, домом, теплом. Встать! когда говорят об этом, ради чего мы живем и, если надо, умрем! 1939–1941 Монголия — МоскваСЫН АРТИЛЛЕРИСТА{15}
Был у майора Деева Товарищ — майор Петров, Дружили еще с гражданской, Еще с двадцатых годов. Вместе рубали белых Шашками на скаку, Вместе потом служили В артиллерийском полку. А у майора Петрова Был Ленька, любимый сын, Без матери, при казарме, Рос мальчишка один. И если Петров в отъезде, — Бывало, вместо отца Друг его оставался Для этого сорванца. Вызовет Деев Леньку: — А ну, поедем гулять: Сыну артиллериста Пора к коню привыкать! — С Ленькой вдвоем поедет В рысь, а потом в карьер. Бывало, Ленька спасует, Взять не сможет барьер, Свалится и захнычет. — Понятно, еще малец! — Деев его поднимет, Словно второй отец. Подсадит снова на лошадь: — Учись, брат, барьеры брать! Держись, мой мальчик: на свете Два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может Вышибить из седла! — Такая уж поговорка У майора была. Прошло еще два-три года, И в стороны унесло Деева и Петрова Военное ремесло. Уехал Деев на Север И даже адрес забыл. Увидеться — это б здорово! А писем он не любил. Но оттого, должно быть, Что сам уж детей не ждал, О Леньке с какой-то грустью Часто он вспоминал. Десять лет пролетело. Кончилась тишина, Громом загрохотала Над Родиною война. Деев дрался на Севере; В полярной глуши своей Иногда по газетам Искал имена друзей. Однажды нашел Петрова: «Значит, жив и здоров!» В газете его хвалили, На Юге дрался Петров. Потом, приехавши с Юга, Кто-то сказал ему, Что Петров, Николай Егорыч, Геройски погиб в Крыму. Деев вынул газету, Спросил: «Какого числа?» — И с грустью понял, что почта Сюда слишком долго шла… А вскоре в один из пасмурных Северных вечеров К Дееву в полк назначен Был лейтенант Петров. Деев сидел над картой При двух чадящих свечах. Вошел высокий военный, Косая сажень в плечах. В первые две минуты Майор его не узнал. Лишь басок лейтенанта О чем-то напоминал. — А ну, повернитесь к свету, — И свечку к нему поднес. Все те же детские губы, Тот же курносый нос. А что усы — так ведь это Сбрить! — и весь разговор. — Ленька? — Так точно, Ленька, Он самый, товарищ майор! — Значит, окончил школу, Будем вместе служить. Жаль, до такого счастья Отцу не пришлось дожить. У Леньки в глазах блеснула Непрошеная слеза. Он, скрипнув зубами, молча Отер рукавом глаза. И снова пришлось майору, Как в детстве, ему сказать: — Держись, мой мальчик: на свете Два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может Вышибить из седла! — Такая уж поговорка У майора была. А через две недоли Шел в скалах тяжелый бой, Чтоб выручить всех, обязан Кто-то рискнуть собой. Майор к себе вызвал Леньку, Взглянул на него в упор. — По вашему приказанью Явился, товарищ майор. — Ну что ж, хорошо, что явился. Оставь документы мне. Пойдешь один, без радиста, Рация на спине. И через фронт, по скалам, Ночью в немецкий тыл Пройдешь по такой тропинке, Где никто не ходил. Будешь оттуда по радио Вести огонь батарей. Ясно? — Так точно, ясно. — Ну, так иди скорей. Нет, погоди немножко, — Майор на секунду встал, Как в детстве, двумя руками Леньку к себе прижал. — Идешь на такое дело, Что трудно прийти назад. Как командир, тебя я Туда посылать не рад. Но как отец… Ответь мне: Отец я тебе иль нет? — Отец, — сказал ему Ленька И обнял его в ответ. — Так вот, как отец, раз вышло На жизнь и смерть воевать, Отцовский мой долг и право Сыном своим рисковать. Раньше других я должен Сына вперед послать. Держись, мой мальчик: на свете Два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может Вышибить из седла! — Такая уж поговорка У майора была. — Понял меня? — Все понял. Разрешите идти? — Иди! — Майор остался в землянке, Снаряды рвались впереди. Где-то гремело и ухало. Майор следил по часам. В сто раз ему было б легче, Если бы шел он сам. Двенадцать… Сейчас, наверно, Прошел он через посты. Час… Сейчас он добрался К подножию высоты. Два… Он теперь, должно быть, Ползет на самый хребет. Три… Поскорей бы, чтобы Его не застал рассвет. Деев вышел на воздух — Как ярко светит луна, Не могла подождать до завтра, Проклята будь она! Всю ночь, шагая как маятник, Глаз майор не смыкал, Пока по радио утром Донесся первый сигнал: — Все в порядке, добрался. Немцы левей меня, Координаты три, десять, Скорей давайте огня! Орудия зарядили, Майор рассчитал все сам, И с ревом первые залпы Ударили по горам. И снова сигнал по радио: — Немцы правей меня, Координаты пять, десять, Скорее еще огня! Летели земля и скалы, Столбом поднимался дым, Казалось, теперь оттуда Никто не уйдет живым. Третий сигнал по радио: — Немцы вокруг меня, Бейте четыре, десять, Не жалейте огня! Майор побледнел, услышав: Четыре, десять — как раз То место, где его Ленька Должен сидеть сейчас. Но, не подавши виду, Забыв, что он был отцом, Майор продолжал командовать Со спокойным лицом: «Огонь!» — летели снаряды. «Огонь!» — заряжай скорей! По квадрату четыре, десять Било шесть батарей. Радио час молчало, Потом донесся сигнал: — Молчал: оглушило взрывом. Бейте, как я сказал. Я верю, свои снаряды Не могут тронуть меня. Немцы бегут, нажмите, Дайте море огня! И на командном пункте, Приняв последний сигнал, Майор в оглохшее радио, Не выдержав, закричал: — Ты слышишь меня, я верю: Смертью таких не взять. Держись, мой мальчик: на свете Два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может Вышибить из седла! — Такая уж поговорка У майора была. В атаку пошла пехота — К полудню была чиста От убегавших немцев Скалистая высота. Всюду валялись трупы, Раненый, но живой Был найден в ущелье Ленька С обвязанной головой. Когда размотали повязку, Что наспех он завязал, Майор поглядел на Леньку И вдруг его не узнал: Был он как будто прежний, Спокойный и молодой, Все те же глаза мальчишки, Но только… совсем седой. Он обнял майора, прежде Чем в госпиталь уезжать: — Держись, отец: на свете Два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может Вышибить из седла! — Такая уж поговорка Теперь у Леньки была… Вот какая история Про славные эти дела На полуострове Среднем Рассказана мне была. А вверху, над горами, Все так же плыла луна, Близко грохали взрывы, Продолжалась война. Трещал телефон, и, волнуясь, Командир по землянке ходил, И кто-то так же, как Ленька, Шел к немцам сегодня в тыл. 1941ИВАН ДА МАРЬЯ{16}
1
Дорогая Марья Петровна! Тридцать лет я вас помню ровно, С того детского далека, С того самого незабвенного, В бывшем монастыре, военного Дивизионного городка, Где ваш муж служил — компульроты, А отец мой — помкомполка, Где вы слыли первой красавицей В общежитии начсостава И где я, позвольте представиться, Жил в соседней келье направо С мамой, с папой, в маленькой комнате, Долговязый такой — не помните? Вы казались мне очень старой В мои девять тогдашних лет. Вы любили петь под гитару, Засмотревшись на лунный свет; И, в то время уже седая, Моя мама отцу шептала: — Хорошо поет. Молодая… — И зачем-то тихо вздыхала. А наутро вы с нею вместе Гимнастерки мужьям стирали И взаймы то ступку и пестик, То машинку швейную брали, Обсуждали в полку событья: — Кто получит к Маю комбата? — И в подшефный детдом, к открытые, Шили байковые халаты… А всего вам, Марья Петровна, Было двадцать четыре ровно, И Иван Степанычу тоже — Вы его на месяц моложе. На Херсонщине, под Каховкой, В январе двадцатого года Приглянулся он вам — комвзвода: Невысокий, поджарый, ловкий, И глаза с татарской косинкой, И рука на черной косынке — Пулей ранена в перестрелке. Вас не сватали, не венчали, Все решилось в одну неделю. Но, не долго думав вначале, Вы всю жизнь потом не жалели. В злую зиму, пригрев, как птаху, Муж возил вас с собой по шляхам, Все боясь: комиссар бригады Разузнает — не даст пощады! (Когда к вам теперь заезжает Член Военного совета, Он с улыбкою вспоминает, Как смотрел сквозь пальцы на это.) Приходилось в году том грозном Многим женам, да и невестам Кочевать с бригадным обозом По сожженным Махно уездам. К лету, свыкшись с армейским бытом, Научились вы без опаски Делать раненым перевязки И глаза закрывать убитым. А под осень в случайной стычке, Когда банды вас окружили, Пулю в лоб махновцу влепили, Лишь потом всплакнув с непривычки. Но зато и губ не разжали, Чтоб не слушали, не глядели, Когда сына в ту ночь рожали Раньше срока на три недели. Так с похода, с солдатской каши, С пули в лоб бандиту — не струся, Началось замужество ваше, Материнство ваше, Маруся! (Так вас ласково, глядя на ночь, Называет Иван Степаныч; А вы на людях — всё Иваном, А одна, без людей, — коханым.) И сейчас вот сидим мы с вами, Перебрасываемся словами В том немецком городе Коттбус, Где Иван Степаныча корпус. На тарелку, как гостю званому, Вы кладете мне все подряд, А сама — нет-нет на коханого Да и кинете быстрый взгляд… Он, пройдя через все сражения, Седоватый стал, грузноватый, Может быть, по чьему-то мнению, Даже «трошки пидстарковатый»; Ну, а вам, хоть вся жизнь с ним вместе, Все он кажется — как невесте… Может быть, потому так кажется, Что не с тихих дней, не с лазури — Начиналась жизнь прямо с бури, Ну а в бурю узлы крепче вяжутся! Было всякое в жизни этой, Было счастье ближе и дальше, Но, как в песне, на совесть спетой, Одного в ней не было — фальши.2
После юности первых взлетов Показалась вам наказаньем Строевая его работа, Гарнизонная жизнь в Рязани. Чуть рассвет — шел к себе в пульроту, Приходил угрюм, озабочен… Обожал свои пулеметы, А жену, как видно, не очень… Вы пожаловались несмело — А его как плетью огрело! Вместо вами стыдливо неданной Ласки: «Что ты, милая, глупая…», «Собирай, — сказал, — чемоданы!» — И ушел, сапогами хрупая. Чуть тогда вы с ним не расстались, Но поплакали — и остались. Догадались — не разлюбил он, Просто слишком самолюбивый, Хоть имеет два Красных Знамени — Храбрость храбростью, знанья знаньями! За душою всего два класса. Приласкал бы, да нету часа — Как вернется, так вечер целый Чертит, чертит на схемах стрелы; Схемы разные, стрелы разные, А глаза всю неделю красные. Даже вы, бывало, раз нужно, Прикусив язык, не дыша, Обводили те стрелы мужние Тушью после карандаша. Кое-кто сомневался — где ему! Но у мужа характер твердый: Трижды резался в академию — Все же выдержал на четвертый; Это было в тот месяц самый, Когда дочка родилась ваша, И Иван Степаныч — упрямый — В вашу честь назвал ее Машей. И вам стало жаль, что в двадцатом, Когда первенца вы рожали, То зачем-то грозно Маратом, А не Ваней его назвали. Академия, академия! Горы книг, до утра сидения, Для мужей на всю жизнь наука, А для жен — по мукам хождение, — Легче бы уж просто разлука! Выпуск — праздник! Вдвоем — по Волге. В Сочи — месяц! В Крыму — неделя! Отдыхали так, чтоб надолго, Словно в воду оба глядели. Как вернулись — пошло, поехало — Назначения, перемещения… И винить-то, главное, некого — Не попросит никто прощения! Не родные вас замуж выдали — Вы судьбу себе сами выбрали: Жизнь не райскую и не адскую, Посредине как раз — солдатскую. Где вы только с ним не служили, За собой детей перетаскивая! Все места показать, где жили, — Надо к карте вставать с указкою. Под Чимкентом в тифу лежали. Под Читой в третий раз рожали… Умер сын… То ли врач был молод, То ли в сопках — под сорок холод, То ли тряской была дорога… Сами выжили — слава богу! Целый месяц, пока лечили, Ждали, что доктора присудят, И свой приговор получили: Двое есть, а больше не будет. К той поре уж вы постепенно От себя все реже скрывали, Что особые перемены В вашей жизни будут едва ли И что, странствуя по Союзу Всей семьей по военным литерам, Вам уже не закончить вуза, И заочно даже не вытянуть, Уж не стать той, себе обещанной В двадцать лет, идеальной женщиной, Что вам в жизни порой встречаются, А у вас вот не получается… Говорят — неглупая, умная, Говорят — на подъем легка… А не все, что в двадцать задумано. Исполняется к сорока. Словно плот по течению тащит — Переезды, семья, детишки… И бывает так много чаще, Чем в прочитанных вами книжках. Да, вы высших школ не кончали, Но прошли, несмотря на это, Свои радости и печали — Свои собственные университеты. Не одним стиральным, обеденным — Вековым наукам домашним, — Научились вы сердцеведенью, Жизь прожив рядом с мужем вашим. И когда в боевой готовности Полк годами стоял в глуши, Вы такие знали подробности — Чем мы плохи и хороши, Вы такие характеры видывали Во всей слабости их и силе, Что писатели бы позавидовали, Поделиться бы попросили! И давно уж не вы к кому-то Шли свои утолять печали — Вам, в слезах прибежав под утро, Горе женщины поверяли, Чтоб решили, чтоб рассудили, Потому что для них вы были Не полковничьею женою, Просто так — при нем путешественницей, А то другом их, то судьею, Тем, что люди зовут общественницей. Слово это как будто скромное, Вроде даже чуточку детское, А как вдумаешься — огромное, Ростом в целую власть Советскую. В самых дальних из гарнизонов Пояса из огня, из стали Помогали нам строить жены — Слово это недаром знали! Жили так, чтоб семья без трещин, И в бетоне нашей границы Есть их молодости отцветшей Принесенные в дар частицы. Есть заложенные в основанье, Кроме цемента и песка, Неисполненные желанья, Неиспользованные отпуска, Не надеванные по году, Потому что случая нет, Платья, вышедшие из моды, К свадьбе сшитые в двадцать лет. И другие жертвы не меньшие, Что не только до тридцати, Что и в сорок — не просто женщине, Не кляня судьбу, принести. Вы простите, что так подробно. Ставлю точку. Больше не будем… Но об этом, Марья Петровна, Тоже знать не мешает людям. Ничего, не машите руками, И у вас ведь сердце не камень!3
Все на том же Востоке Дальнем, Но уже не в Чите, в Посьете, Вы встречали деньком печальным Вашей свадьбы двадцатилетье. Муж на зимнем выходе в поле, Сын в Рязани в пехотной школе, Все в отъездах, в разъездах, заняты! Даже дочь не дома. И пусть. Это только у вас на памяти Дни их праздников наизусть. Так за все двадцать лет взгрустнулось, Словно сердце перевернулось. Походили пустыней комнат — Неужели так и не вспомнят? Стали к зеркалу, погляделись — Вот и первый седой ваш волос… Спеть попробовали — не пелось В пустоте этих комнат, голос Был как в поле несжатый колос… И такая к себе вдруг жалость, Словно к брошенной, незаконной! Разрыдалась бы, не удержалась, Если б не звонок телефонный! В трубке голос зимний, хрипатый, С промежуточной в поле чистом, Незнакомый голос солдата — Полкового телефониста: — Командир дивизии просит Передать его поздравления И, что явится к вам, доносит, Прямо с марша, без промедления. Если ж в ноль часов он не будет, Просит сутки продлить до завтра… Что вы, Марья Петровна? Будет! Будет с трубкой сидеть в слезах-то! Вы же знали, что позвонит он, Хоть вот так, хоть через солдата, Вы же знали, что лишь на вид он Невнимательный, грубоватый И что вовсе не безответно Столько лет в нем души не чаете. Или это вам не заметно? Что лукавите, не отвечаете? И сейчас вот, меня в гостиной Одного подымить оставив, По аллее немецкой длинной, Слева, под руку, как в уставе, Он ведет вас, чтоб не устали. Что-то на ухо вам толкует И, не видя, что я вас вижу, Притянув за локоть поближе, Неожиданно вас целует, За мгновение перед этим Глазом вправо стрельнув н влево, Словно вы с ним — седые дети И боитесь чьего-то гнева. Вы смеетесь — отсюда слышу, А потом о чем-то серьезном… А потом голоса все тише Под прозрачным, еще беззвездным, Под чужим и далеким небом, Под которым с войны я не был. Вечер. Мира восьмое лето. На аллее два силуэта…4
Час вечерний — время особое, Когда, за день сойдясь заранее, Нас толпою злые и добрые Обступают воспоминания: Эшелона дымные полки, Первый бой, что до слез несладок, Бомбы — в раненых — на двуколке, Первой ненависти припадок. Первый хриплый свисток атаки, Немец, навзничь вскинувший руки. В штопор скрученные бензобаки, Снег, пожарище, труп старухи. На воде шипенье осколков, Сталинградская переправа. Голос, помнящийся мне долго: — Ты — налево, а я — направо, — И обнявший меня за шею, На плече навсегда уснувший Друг, минуту назад в траншее Только шагом правей шагнувший. Под крылом, партизанской ночью, Фонарями — тире и точки, И, на случай ошибки, в клочья Писем порванные листочки. И опять дороги, стоянки, Самолетов связных болтанки, Молотящие с ревом длинным Марсианских калибров пушки. И рассвет. И с лесной опушки Дым и зарево над Берлином. Ну, а вам про что вспоминается В этот вечер, Марья Петровна? — Тот июнь, где все начинается… Муж назначен приказом в Ровно, Принимать дивизию срочно И лететь пока без семьи. — Жаль, привык здесь, дальневосточник, Ну да ладно — всюду свои! — Поцелуй на аэродроме… А с утра — начало войны. Кто поймет до конца вас, кроме Командирской, как вы, жены? Жить при нем часовым бессонным, Кочевать с ним по гарнизонам, По медвежьим углам недобрым, По ученьям да по маневрам. Жизнь прожить, как рука с рукою. А когда война началась, Что за горькое горе такое — Без него вы, а он без вас. Хуже нету этого худа: Слушать, слушать каждую ночь Лишь обрывки вестей оттуда, Где ничем ему не помочь, Где ваш муж, считая бесчестьем Без приказа выйти из боя, Лег с дивизией своей вместе, Киев загородив собою. Вам про смерть его написали Двое тех, что к своим попали, Как до смерти его не бросали, Даже как могилу копали. Так в подробностях всех жестоки Были эти солгавшие двое, Что вы там, на Дальнем Востоке, Еще долго жили вдовою. А что все ж его увидали, Сам нисколько не виноват оп. Виноваты в этом солдаты, Что присягу не зря давали, Что тащили на плащ-палатке Полумертвого командира, Да тот фельдшер, что клал заплатки На пробитые в теле дыры, Да ночами небо безлунное, Да здоровье его чугунное.5
На Урале, на полдороге, Было первое ваше свидание. Десять суток в пути, в тревоге, Ко всему готовясь заранее, Торопясь, тесемки халата Оборвав в приемном покое, Вы бегом вбежали в палату, Чтоб увидеть, что с ним такое. На какие-то полсекунды Показалось почти обидным, Как ответил на ласку скудно, Как вам руку пожал обыденно. Усадил у себя на койке — Побледневший, одутловатый. Все шутил про свои осколки, Что уже разыскали пятый, А шестого — по донесениям — Как ни роют — никак не выроют, И приходится — нет спасения — Ждать, пока всего разминируют. Но внезапно будто сломалась Им придуманная броня. — Э, да ты поседела малость… Скоро, мать, обгонишь меня! Вы сидели рядом, молчали, Долго руку в руке держали И глядели ему в глаза — В глубине их жила слеза; Не растроганная, а страшная, Ледяная, расплаты ждавшая За разгром и гибель вчерашнюю, За дивизию, мертвой павшую… (Ту слезу, за четыре года Не пролив ее ни при ком, Лишь в Берлине, в конце похода, Муж ваш с глаз сдерет кулаком!) Вы сидели рядом и знали: Он вас любит и рад вас видеть, Но из госпиталя, как выйдет, Он домой заедет едва ли. Он не каменный и не железный, — Но об этом с ним бесполезно. Через месяц вы уезжали Двумя встречными поездами. Оба поезда опоздали, Вы с ним ждали в холодном зале. Ждали, жали друг другу руки, Зная все и все же не зная, Что отмерено с ним разлуки Вам теперь без конца без края, Что вам три беспощадных года Будет помниться с двух сторон Та свердловская непогода, Заметенный до плеч перрон, Снег, к летящим окнам прилипший, Рев гудка на последней фразе, Тот уральский день, разделивший Вас двоих, как Европу с Азией.6
Десять дней потом напролет Вы качались на верхней полке. А в душе — будто битый лед, Будто смерзшихся слез осколки. Так хотелось поехать с ним, С дорогим своим, золотым, Мыть, стирать бы ему рубашки, Промывать ему в ранах гной, Не женою, — не те замашки, — Санитаркой простою в строй. Только чтобы с ним всюду рядом, А убьют — так одним снарядом. Не хотела просить — откажет, — Слава богу, характер знала. Но к отъезду решила: скажет. И в последнюю ночь сказала. Сел, еще в бинтах, на кровати, Стали ласковыми глаза. Час молчал все, волосы гладя, А потом отрезал: — Нельзя! Досиди уж там, где сидела, — Мне спокойней будет для дела. — Ну, а дело его — война, Значит, снова молчи, жена! Маша, доченька, мать встречала, — Слезы радости на ресницах! Не догадывалась, не знала, Что на сердце у вас творится, Что готова хоть завтра мать Всё — и дом и дочь — побросать И уехать — была бы воля! — В дальний край, где поет свинец, Где в неведомом снежном поле Насмерть бьется с врагом отец. Собрала таких же солдаток, Как сама, целый вечер пела, И, как муж говорит — «порядок», К утру сердце перекипело, А какой осадок на дне — Знать лишь мужу да вам — жене.7
Письма, письма! Безбожно долго Вас на Дальний Восток везут. Дымный след протянут над Волгой, С толкачом на Урал вползут, Под Тюменью застрянут где-то, Под Читою влезут в туннель И дотащатся до Посьета Хорошо как за пять недель. От столов и до подоконников Почта вечно полным-полна, Из квадратов и треугольников Заливает ее волна. Под неслышный здесь грохот пушек, Торопясь, с утра до темна Сортируют трое девчушек То, что пишет домой война. Но не могут, как ни наметаны, Все поспеть их глаза и руки, — Штатом почты не предусмотрено То, что целый народ в разлуке, То, что как умирать ни больно, Но, идя в атаку, чтоб жить, Людям хочется в треугольник Перед этим душу вложить. Муж писал вам в неделю раз: Жив. Здоров. Скучает по вас. Сослуживцам привет. И дочке. Все всегда на одном листочке. С твердым росчерком, с точной датой Так, как пишет солдат солдату. И, бывало, вам, как лекарство, Как от женских тревог спасенье, Это через все государство К вам пришедшее донесенье. Иногда, то реже, то часто, Приходили письма от сына: Про товарищей, про начальство, Про последнюю кинокартину И про то, что теперь уж точно — Не задержит их ни черта! — Они едут на фронт досрочно, Весь их курс подал рапорта! Над письмом его пригорюнясь, Вы роняли слезы на скатерть, — Как наивно боится юность, Что войны на нее не хватит! Машка — дочь, девчонка с косою, — Все сидит, уткнувшись в газету: — Мама, сколько лет было Зое? — И глаза отводит от света. Мать все видит, все понимает: Вот и эта спешит туда же И сбежит еще, кто их знает… — Не пущу, и не думай даже! Час обиженно промолчала, А потом тихонько, упрямо: — Мам, а мама! Послушай, мама, А ведь ты сама воевала! Где-то вырыла с того света Снимок ваш — в сапогах, в шинели — И заставила спеть. И спели, Как умрем мы за власть Советов! За ночь снег напдал до окон. Дочь давно уж по-детски спит, Только мать, подперевши щеку, Все над карточкой той сидит.8
А назавтра вдруг телеграмма: «Едем в бой, до свиданья, мама!» Вот и оба у вас на фронте… День по комнатам проходили, То одно, то другое тронете, Даже и обед не варили… Дочь пришла, в лицо посмотрела, Молча ужин сама согрела… Нет, вам с этой минуты мало Тех забот, что раньше хватало: Рынок, очередь в два квартала, Приготовить да постирать, Утром дочку в школу собрать, Для нее, как себе, бывало, Платья старые перешить… Хоть и занят весь день, а мало, Нету права так дальше жить, Когда сын за отцом вдогонку Где-то едет в снегах на фронт И уносит его трехтонка За кровавый тот горизонт. Правда, кровь вы пять раз сдавали И пойдете завтра в шестой, Но такая помощь едва ли Не казалась самой простой. Кто из женщин в тот год суровый Свою кровь для своих жалел? А уж вам-то, такой здоровой, Это делать сам бог велел! Был бы госпиталь здесь — туда бы Санитаркой или кухаркой, Все, что делать умеют бабы, Делать так, чтобы небу жарко! Жалко, госпиталя здесь нет — У границы стоит Посьет. Десять служб обошли, пожалуй, Ни к одной душа не лежала. Вам хотелось здесь, в тишине, Службу выбрать ближе к войне. Городская почта — домишко, Где всего лишь месяц назад Вы ругали девчат, что слишком Долго письма у них лежат; А теперь вот сидите сами За конторкою у стола, А сидевшая перед вами Добровольно на фронт ушла. Письма, письма! Нет, хладнокровно Разбирать их по адресам Все три года, Марья Петровна, Не хватало уменья вам! Как раскладывать по кварталам Голоса всех живых и мертвых, Что дошли, словно гул металла, В треугольниках полустертых? Только адрес есть на конверте, А в конвертах — жизни и смерти. Если б знать вам, на почте тут же, Что внутри там! Был в окруженье? Жив? Нашелся? Ранен? Контужен? Пал, по слухам, в первом сраженье… Слух, что умер, — взять не поверить, Задержать, запросить, проверить. Слух, что жив, — конверт отложив, В телефон закричать, что жив! Но приходит девочка в старых, Сбитых набок маминых ботах И берет всех судеб удары, Радость чью-то и смерть кого-то. И, сверяясь с книгой рассыльной, В сумке, от угла до угла, Тащит весь тот груз непосильный, Что ей за день война дала. Как вы прожили те три года, Бесконечных тысячу дней? Вам казалась ваша работа То всех легче, то всех трудней. Потому казалась труднее, Что с нее, как с большой горы, Было горе людей виднее, Всем невидное до поры. Ну, а легче порой казалось, Потому что двоих своих Терпеливей в разлуке ждалось Среди стольких разлук других. Сколько слез людских за неделю, Сколько жалоб, что нет письма, Хорошо, что право имели Им ответить: — Я жду сама. — А у вас он где? — Под Москвою. — А у вас? — У меня под Мгой. (Промолчав, что у вас их двое И не знаете, где другой.) Сын служил в парашютно-десантных, Был сегодня здесь, завтра — там, — Нет, отец его в адъютанты Не пристраивал по фронтам, Не искал ему мест потише, Не укрыл от передовой. Вот и вышло, что редко пишет И рискует там головой. Жило, спрятанное поглубже, Как притоптанный уголек, Что-то вроде упрека мужу: «Мог бы, мог! А не поберег». Но при этом прекрасно знали: Окажись они завтра дома — Не посмели б так, не сказали Ни тому из них, ни другому! После службы дома постыло Вам, как многим в те годы, было. Шли усталая, на ночь глядя, Да и то лишь дочери ради. Как умели, ее воспитывали, Как могли накормить — кормили, По субботам полы с ней мыли, Чувства праздника не испытывая. И под всем на вас легшим бременем, С днями этими и ночами, Не хватало порою времени Тосковать, как раньше, вначале, Даже тою злою тоскою, Приходящей вдруг по ночам: Что другие там, под рукою, И что пятый десяток вам; Письма — письмами, а разлука Уж на годы счет повела… Даже ревность — женская мука — Редкой гостьей у вас была. То ли слухов не доходило, То ли думать противно было… А ответить совсем уж точно, — Долгой ночью ли, долгим днем, Не на этом сосредоточены Были ваши мысли о нем. На душе то лучше, то хуже, Но под этим всем, в глубине, Год за годом думы о муже Были думами о войне. И надежду, что минут беды, Что ваш муж и сын будут живы, Не на них одних — на победу Вы в душе своей возложили. Да, вы знали, это бывает: Два письма — что их нет в живых! А победа так опоздает, Что придет к вам уже без них… Но представить, что все пропало, А они — живыми пришли, — Просто совесть не позволяла, Просто думать так не могли. От войны в любую минуту Мир души вашей был зависим. Это правда, что вы салютов Часто ждали не меньше писем.9
А теперь — о самом тяжелом. В сорок пятом, в зимнюю стужу, Наконец-то с фронта пришел вам Долгожданный вызов от мужа: Чтобы вы выезжали сразу, И такие две нежные фразы, Даже холод прошел по коже, Даже на него не похоже. И уже чемодан под полкой, И, с улыбкой слезы мешая, Дочка просит: — Чтоб ненадолго! — Ничего, проживешь… Большая! И глядите почти без грусти, Как перрон поплыл понемногу. Как ни странно, дурных предчувствий У вас не было всю дорогу. Вам казалось, что все понятно: Он вас ждет к одной годовщине, К той, которую так приятно Не самой напомнить мужчине! Дело было теперь за вами, Как в дороге не сплоховать бы, Оказаться там, куда звали, К дню серебряной вашей свадьбы. И успели! К удаче вашей, Через три гробовых метели Лейтенант, вас звавший мамашей, Свой У-2 дотащил до цели. А потом с адъютантом мужа, Вдруг на сына чем-то похожим, Целый час еще — бездорожьем, Ранней оттепелью, по лужам… И, подпрыгивая на сиденье, Все вопросы, за все три года: — Не болел ли? Не поседел ли? Как нога в дурную погоду? Адъютант отвечал сурово, Словно стоя перед ревизией: — Никак нет, командир дивизии Не болел. И сейчас здоровый. Точно так. Генерал весь белый. — А давно ль — адъютант не знает; Прежний знал, да миной задело — Он лишь временно заменяет. Муж не встретил — уехал в части, Но и тут, пока его ждали, Что нагрянуло к вам несчастье, В эту ночь вы не угадали. Только утром, когда при встрече, Весь залеплен грязи кусками, Он, не сняв шинели, за плечи Взял вас дрогнувшими руками, А глаза его затосковали, Молча, мимо глядя куда-то… Словно сердце вам оборвали Тем нелгущим взглядом солдата. «Что, убит?» — о сыне спросили Тоже молча, глазами только. И почти нелюдским усильем Деревянно сели на койку. Утешать вас даже не пробуя, Муж сидел, говорил, как было… Зная сам, что оба до гроба вы Не смиритесь с этой могилой. — Посылать тебе извещенье Не хотел… Хотел тебе сам… — И, как будто просил прощенье, Гладил, гладил по волосам. Вы сидели не живы словно — Умереть, заснуть, не вставать бы… Так вы встретили, Марья Петровна, День серебряной вашей свадьбы.10
А назавтра «виллис» заправлен Так, чтоб сделать двести и двести: Генералу к соседу справа Надо съездить с женою вместе. Все оформлено по закону: Сам командующий по телефону, Материнского горя ради, Разрешил отлучиться на день. Зная, как возить генерала, Жал водитель на девяносто! Аж брезент на лету сдирало Да мелькали польские версты. А жена с генералом рядом Села, руку рукою сжала И ни влево, ни вправо взгляда, Словно тут сто раз проезжала. Как впилась в стекло ветровое, Так и смотрит — даже обидно, Будто видит что-то такое, Что другим никому не видно. Генерал ей и то и это: — Не замерзла? Не продувает? — А она на все без ответа, Только руку крепче сжимает. Да, он прав был, этот водитель. Всю дорогу в метели волнах Вам казалось, что вы глядите На далекий маленький холмик. Где лежит на землю уроненный И землею той же прикрытый Сын ваш — месяц назад схороненный, Но для вас — лишь вчера убитый. И когда вы наземь слезали У фанерного обелиска, Вы все это издали знали — Только вдруг увидели близко. Вы не плакали, не рыдали, А дрожа, как в лютую стужу, Молча два часа простояли, Опираясь на руку мужа. И уж было совсем собрались, Но, не выдержав, обернулись — И вот тут-то и разрыдались! А когда наконец очнулись, Оторвав глаза от платочка, — Глаз других увидели муку И с пучком озябших листочков На могилу легшую руку. Перед вами тихо стояла Девушка в солдатской шинели, Видно, вас тут пережидала, Даже руки все посинели. Где цветы она отыскала, Где зимой — в январе — достала? А лицо такое усталое, Словно месяц глаз не смыкала… Вас обеих какой-то силой Уж почти толкнуло друг к другу., Но она ль себя не пустила, Вы ль не сразу подали руку — Вдруг рванулась, как от погони, И ушла без слез, без вопросов. И запомнились только косы, Да снежок на левом погоне, Да листочков зеленых чудо На снегу, на могиле сына, Да самою, невесть откуда, Имя данное — Катерина…11
На обратном пути смотрели На лежавшие при дорогах Танки, что здесь насмерть горели, На деревья в черных ожогах, На часовни без крыш и окон, Все, как в оспе, в следах осколков. Как от дому уже далеко… А идти еще надо сколько! Сколько будет еще, кто знает, Этих — со звездой — пирамидок На холмах, друг друга сменяя, Не скрывающихся из виду! Если б каждая, что теряла Сына в каждом смертном бою, Над могилой, как вы, стояла, Принеся сюда скорбь свою, — Даже только на этих склонах, На просторах этих полей, — Их не счесть бы — фигур, согбенных Над могилами сыновей. Плыл вечерний дымок над хатой, И обочиною, сторонкой, Шли молоденьких два солдата С фронтовой, в сапогах, девчонкой; И, как дома, тоненько-тоненько, Позабыв, что кругом война, Где-то пела вдали гармоника, Чтоб слышней была тишина. Генерал из машины вышел, Посмотрел на красный закат И угрюмо сказал: — Затишье! — Так, как будто он виноват. Вы смолчали, Марья Петровна, Сами знали, что долг отца — Путь оставшийся хладнокровно За двоих пройти до конца. Ну а вы? Неужели даже И теперь он вас не поймет? Что нужны вы ему — не скажет, Здесь остаться не позовет? Ночью, за невеселым ужином, Встал, сказал сурово, без жалоб: — Порознь, думаю, будет хуже нам, Лучше, если б не уезжала. Где-нибудь тебя определим, Там, где надо, не как жену, — В ППС или в политотделе Довоюешь с нами войну. Сел, замолк, словно снова нет его. Да, недаром вы четверть века И любили и знали этого Неречистого человека, Говорившего слово: «нужно», Только — если уж до зарезу, Говорившего слово: «дружба», Только — если уж как железо, И сидевшего терпеливо, Ожидая от вас ответа… Даже в горе почти счастливой Вас минута сделала эта. Утешенья, ласки — все мимо, Все не вовремя, глупо, рано, Только словом «необходима!» Заживляют смертные раны. Для того и позвал сюда: — Ты нужна. Остаешься? — Да!12
Третью трубку курю, скучая Без хозяина и хозяйки. Головами тихо качая, Липы шепчутся на лужайке. И, как вежливые домочадцы, Пошуметь отлетев в сторонку, Даже дятлы в парке стучатся Не как наши — редко, негромко. Где-то близко тени мелькнули, Под ногою ветка сломалась… — Как вы тут без нас, не заснули? Мы с женой загулялись малость! Генерал садится в качалку, Как обычно немногословный, Тронув за конец полушалка, Чтоб присела и Марья Петровна: — День в делах, а поближе к ночи Так бывает домой охота… Вот и ходим, дорожки топчем, Мы ведь с нею оба пехота. Кисть платка тихонько покручивая, Погрустнев, притомившись за день, Вы сидите с мужем, задумчивая, В потемневшее небо глядя. На земле кругом все немецкое, А луна нездешняя — русская. И, песком посыпана, детская Вьется небом дорожка узкая, Вьется вдаль надо всем, что пройдено, Над местами, где муж служил, Над полями, где сын за родину Честно голову положил, Над Курильской грядой бессонною, Где небось уж рассвет встает И где ваша дочь гарнизонную Службу с мужем своим несет, — С тем, казавшимся вам отпетым, С тем отчаянным, с тем проклятым Капитаном, что из Посьета Взял увез ее в сорок пятом… А теперь давно, как ни странно, Они счастливы оба с Машею, И зовут майора Иваном, Как Ивана Степаныча вашего. Тянет в небе далекой гарью… Хорошо, что не только тут, Что вторые Иван да Марья На Курилах где-то живут И что всюду, где есть военный Самый маленький городок, Есть и этот, обыкновенный, Неразлучный, как вы, цветок. 1954ОТЕЦ{17}
А. Г. И-ву
Все сердце у меня болит, Что вдруг ты стал прихварывать, Но мать об этом не велит С тобою разговаривать. Наверно, сам ты не велел, А матери — поручено. Пуд соли я с тобою съел, Теперь уж все изучено. Я раньше слишком зелен был, Себе недотолковывал, Как смолоду бы жизнь прожил, Не будь тебя, такого вот — Такого вот, сурового, С «ноль-ноль», с солдатской выправкой, Всегда идти готового По жизни с полной выкладкой! А вот как сорок с лишним лет Вдали от вас исполнилось, Невольно, хочешь или нет, Вся жизнь с тобою вспомнилась, С того начала самого, В Рязани, на Садовой, Где встретился ты с мамою И я при ней — готовый, Единственный и неродной… И с первой стычки — в угол! Теперь я знаю, что со мной Тебе бывало туго. Но взял меня ты в оборот, В солдатскую закалку, Как вотчим струсит, не возьмет, Как лишь отцу не жалко. Отцу, который наплюет На оханья со сплетнями: Что не жалеет, чуть не бьет Ребенка пятилетнего, Что был родной бы, так небось Не муштровал бы эдак! Все злому вотчиму пришлось Слыхать от дур-соседок! Не знаю, может, золотым То детство не окрестят, Но лично я доволен им — В нем было все на месте. Я знал: презрение — за лень, Я знал: за ложь — молчание, Такое, что на третий день Сознаешься с отчаянья. Мальчишке мыть посуду — крест, Пол драить — хуже нету! Но не трудящийся не ест — Уже я знал и это. Знал, как в продскладе взять паек, Положеный краскому, Как вскинуть вещевой мешок И дотащить до дому, Как в речке выстирать белье И как заправить койку, Что хоть в казарму ставь ее — Не отличишь нисколько! Пожалуй, не всегда мой труд Был нужен до зарезу, Но ты, отец, как жизнь, был крут, А жизнь — она железо; Ее не лепят, а куют; Хотя и осторожно — Ей форму молотом дают, Тогда она надежна. Зато я знал в тринадцать лет: Что сказано — отрезано, Да — это да, нет — это нет, И спорить бесполезно. Знал смолоду: есть слово — долг. Знал с детства: есть лишения. Знал, где не струсишь — будет толк, Где струсишь — нет прощения! Знал: глаз подбитый — ерунда, До свадьбы будет видеть. Но те, кто ябеда, — беда, Из тех солдат не выйдет. А я хотел солдатом быть. По улице рязанской Я, все забыв, мог час пылить За ротою курсантской. Я помню: мать белье кладет… — Ну как там, долго ты еще? — В бой на Антонова идет Пехотное училище. Идет с оркестром на вокзал, И мой отец — со всеми (Хотя отцом еще не звал Тебя я в это время). А после — осень, слезы жен, Весь город глаз не сводит — Ваш поредевший батальон По улицам проходит. И в наступившей тишине, Под капли дождевые, — Вон папа, — стиснув руку мне, Мать говорит впервые. — Вон папа! — Утренний развод. Приезжему начальству Отец мой рапорт отдает, Прижавши к шлему пальцы. — Вон папа! — С ротою идет, И глаза не скосит он. А рота — лучшая из рот, Мишени все как сито! Бегу к курилке во весь дух, А там красноармейцы Уже выкладывают вслух, Что у кого имеется: Что не дождешься похвалы, Натрешь мозоль — не верит! Что после стрельб подряд стволы У всех аж глазом сверлит! Гоняет в поле в снег и в грязь, Хоть сам и хлипкий с виду… Стою и не дышу, боясь Нарваться на обиду. Но старшина, перекурив, Подбить итог берется: — Строг, верно, строг. Но справедлив, Зазря не придерется. Согласен я со старшиной: С тобой и мне несладко! Ты как с бойцами, так со мной, Дня не проходит гладко! Зато уж скажешь раз в году: — Благодарю за службу! — Я гордый, как солдат, иду, Похвал других не нужно. Солдатом быть — в твоих устах Обширнее звучало, Чем вера в воинский устав, Как всех начал начало. Не всем в казарме жизнь прожить, Но твердость, точность, смелость, Солдатом-человеком быть — Вот что в виду имелось! Чтоб на любом людском посту, Пускай на самом штатском, За нашу красную звезду Стоять в строю солдатском! Так в детстве понял я отца: Солдат! Нет званья лучшего! А остальное до конца Уж на войне доучивал. Ни страха в письмах, ни тоски, За всю войну — ни слова, Хотя вы с мамой старики И сына нет второго. Лишь гордая твоя строка Из далека далекого: Что хоть судьба и нелегка, Солдат не ищет легкого! Как часто я себя пытал Войны годами длинными: Отец лежал бы или встал Сейчас, вот тут, под минами? Отец пополз бы в батальон, Чтоб все яснее ясного? Иль на КП застрял бы он, Поверив сводке на слово? Как вспомню прошлую войну, Все дни ее и ночи, — Ее во всю ее длину Со мной прошел мой вотчим. …………………………………. Скажу с собой наедине, Что годы пролетают, А мужества порою мне И нынче не хватает. Не скажешь вдруг ни «да», ни «нет». Но сердце правду знает — И там, где струсил, лег в кювет, — Там душу грязь пятнает. Нет хуже в памяти рубцов, Чем робости отметины, За каждую, в конце концов, Быть самому в ответе мне. Смешно, дожив до седины, Поблажек ждать на юность. И есть вина ли, нет вины — Я с жалобой не сунусь. А все же, как тогда, в войну, — И, может, это к лучшему, — Нет-нет и на отца взгляну; Как он бы в этом случае? Я вслух об этом не спрошу, В дверь лишний раз не стукну, Но вот сижу сейчас, пишу И помню неотступно, Что свой дохаживает век Походкою упрямой Бесстрашный старый человек, Невидимый судья мой; Один из тех, на первый взгляд Негордых и невзрачных, Про жизнь которых говорят; Вся, как слеза, прозрачна! Он по бульвару в двух шагах От вас прошел недавно, Старик в фуражке, в сапогах Потертых, но исправных. В шинельке, что ни я, ни мать Ни ласково, ни грубо Ему не можем обменять Десятый год на шубу. Прошел, на лавочку присел Со стопкой старых книжек, Но вместо чтенья на прицел Взял драку двух мальчишек. И заревевшему мигнул, Совсем как мне когда-то: — Эк панихиду затянул! А ведь пойдешь в солдаты… Не обязательно войну Старик имел в виду. Быть может, просто целину, Труд, подвиги, беду… Но на чужого старика, Сказавшего так грубо, Мать плачущего паренька Скривила злые губы! Ее-то сын уж так ли, сяк Минует лямку эту! Способный мальчик, не дурак, Других служить, что ль, нету? Старик глядит глаза в глаза, И женщина не сразу, Но понимает, что нельзя Сказать ей эту фразу; Она под взглядом старика Молчит на пользу сыну, Уже унявшему пока Свой рев наполовину. Старик уходит. Он встает, В ногах смиряя боль, И на обед домой идет К пятнадцати ноль-ноль. Идет, упрямый и прямой, Враг старости смиренной, Злой вотчим! Добрый гений мой: Пенсионер военный. 1956–1958ВОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 1936–1976
Из азербайджанской поэзии{18}
Вагиф ПЯТИСТИШИЯ
Я правды искал, но правды снова и снова нет. Все подло, лживо и криво — на свете прямого нет. Друзья говорят — в их речи правдивого слова нет. Ни верного, ни родного, ни дорогого нет. Брось на людей надежды — решенья иного нет. Все вместе и каждый порознь нищий, царь и лакей — Каждый из них несчастлив в земной юдоли своей. Их всех сожрала забота, оторванность от людей, И сколько бы я ни слышал бесчисленных их речей — В них, кроме лжи и неправды, смысла второго нет. Странный порядок в силу у сильных мира вступил: Чье бы печальное сердце ты ни развеселил — Оно тебе злом отплатит, отплатит по мере сил, Им ненавистен всякий, кто добро совершил. На целом огромном свете мне друга родного нет. Ученый и с ним невежда, учитель и ученик — Снедаемы все страстями, в плену у страстей одних. Истина всюду пала, грех повсюду проник, Кто в мулл и шейхов поверит, тот ошибется в них. Ни в одном человеке чувства святого нет. Всякий чего-то ищет, погонею поглощен. Ищут себе престолов, венцов, диадем, корон. Шах округляет земли — за ними в погоне он. Влюбленный бежит за тою, в которую он влюблен. Ни радости нет на свете, ни прочного крова нет. Пусть ты на людей, как солнце, свой излучаешь свет — Но помни, что слов признанья ты не дождешься, нет. Совесть, честь, благородство давно уж утратил свет. Услышали мы, что где-то найден честности след. Я долго искал и знаю — чувства такого нет. Алхимиками я сделал множество гончаров, В золото обращал я прах забытых гробов, Из щебня я делал яхонт, с камня срывал покров. В алмазы мог обращать я бляхи на шеях ослов, Признанья искал, — но мир мне ответил сурово: «Нет!» Я мир такой отвергаю, он в горле стал поперек, Он злу и добру достойного места не приберег. В нем благородство тщетно: потворствует подлым рок. Щедрости нет у богатых — у щедрых пуст кошелек. Повсюду царство коварства, и царства другого нет! Я видел конец надежды, мечтаний конец пустой, Конец богатства и славы с их земной суетой, Конец увлеченья женской невянущей красотой, Конец и любви, и дружбы, и преданности святой. Я знаю, что совершенства и счастья людского нет. Потухли глаза, старею, жизнь черней и черней. Сколько красавиц мимо прошло за тысячи дней! Дурною была подруга, погублено счастье с ней! Аллах, одари Вагифа милостию своей: Ведь, кроме тебя, на свете друзей у больного нет.Насими «В меня вместятся оба мира…»
В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь. Я — суть, я не имею места, и в бытие я не вмещусь. Все то, что было, есть и будет, — все воплощается во мне. Не спрашивай! Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь. Вселенная — мой предвозвестник, мое начало — жизнь твоя. Узнай меня по этим знакам, но я и в знаки не вмещусь. Предположеньем и сомненьем до истин не дошел никто; Кто истину узнал, тот знает — в предположенья не вмещусь. Поглубже загляни в мой образ и постарайся смысл понять, Являясь телом и душою, я в душу с телом не вмещусь. Я — жемчуг, в раковине скрытый. Я — мост, ведущий в ад и рай. Так знайте, что с таким богатством я в лавки мира не вмещусь. Я — самый тайный смысл всех кладов, я — очевидность всех миров, Я — драгоценностей источник, в моря и недра не вмещусь. Хоть я велик и необъятен, но я Адам, я человек. Я знаю все, но в то, что знаю, весь до конца я не вмещусь. Все времена и все века я, душа и мир — все это я, — Но разве никому не странно, что в них я тоже не вмещусь? Я — небосклон, я — все планеты, и Ангел Откровенья я. Держи язык свой за зубами, и в твой язык я не вмещусь. Я — атом всех вещей, я — солнце, я — шесть сторон твоей земли. Скорей смотри на ясный лик мой, я в эту ясность не вмещусь. Я — сразу сущность и характер, я — сахар с розой пополам, Я сам решенье с оправданьем, в молчащий рот я не вмещусь. Я — дерево в огне, я — камень, взобравшийся на небеса. Ты пламенем моим любуйся, я в это пламя не вмещусь. Старик — я в то же время молод, я — лук с тугою тетивой, Я — власть, я — вечное богатство, но сам в века я не вмещусь. Я — имя Насими носящий, я — хашимит и курейшит[5], Я меньше, чем моя же слава, но я и в славу не вмещусь.Видади
«Мы жить не можем, смерть поправ…»
Мы жить не можем, смерть поправ, — как тяжко умирать! На жизнь имея столько прав, как тяжко умирать! Мой взор еще не опустел, ведь он тебя встречал. Тебя опять не увидав, как тяжко умирать! Готов смеяться мой язык и голос щебетать. Высоко голову подняв, как тяжко умирать! Пускай страдает тот, кто знал, жалеет, кто не знал. Свою хвалу тебе послав, как тяжко умирать! Стрелой пронзенный прямо в грудь, бесцельно я бегу. Мой след неровен и кровав… Как тяжко умирать! Я разучился говорить, и силы нет в руках. Недолюбив, недострадав, как тяжко умирать! Без крова, на чужой земле, вдали от мест родных. Страданий всех не описав, как тяжко умирать!ШЕСТИСТИШИЯ
Не думай о нашем страданье — всему наступит конец, В груди удержи рыданья — слезам наступит конец. Придет пора увяданья — цветам наступит конец. В душе не храни ожиданья — душе наступит конец. Мне чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец. Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец. Возлюбленная прекрасна — она истлеет в земле, Рот ее нежно-красный — и он истлеет в земле, Локон на шее страстной тоже истлеет в земле. И раз ее образ ясный должен истлеть в земле, Мне чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец. Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец. Умрет властелин вселенной, — что выживет он, не верь. И царство его погибнет — во власть и закон не верь. Все в мире непостоянно. Что мудр Соломон — не верь. Вращению мирозданья, если умен, не верь. Мне чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец. Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец. И если — за годом годы — сто веков расцветет, И если, шумя листвою, сто садов расцветет, И если сто гиацинтов, сто цветов расцветет, То разве душа от лживых, от жалких слов расцветет? Нет! Чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец. Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец. Трудно думать о жизни — горем она полна. Каждому бриллианту — тысяча душ цена! Как в зеркале, в каждой грани подлость отражена. Клянчить себе подачек наша земля должна. Мне чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец. Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец. Цену пустому миру знал Видади больной. Мир о пощаде просит, словно набат ночной! Что за столпотворенье там, в суете земной! Жизнь коротка, не будет жизни еще одной. Мне чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец. Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец.Самед Вургун
ПОЭТ, КАК РАНО ПОСТАРЕЛ ТЫ…
Поэт, как рано постарел ты… Ты, говорят, счастливый самый, Хотя всю жизнь ты горем сыт, Как снег в горах, оно висит Над головой твоей упрямой. И скольких бы других ни грел ты, Ни влек бы к сердца очагу, Вся голова твоя в снегу! Поэт, как рано постарел ты… Вчера, когда окончил ты Читать, когда, в руках цветы — Безмолвная, перед поэтом Стояла девушка с букетом, Как долго на нее смотрел ты, Читая у нее в глазах Наивное по-детски: «Ах! Поэт, как рано постарел ты!» Охотой увлекался ты, Под буркой ночевал в пустыне И за козлами по стремнине Спускался с горной высоты. Как прежде, брал их на прицел ты, Но пули мимо них прошли И только свистнули вдали: Поэт, как рано постарел ты! Ты был жесток в житейских схватках, Был друг друзьям, был враг врагам, Но тот, кто в жизни только лгал, Кто дружбу предлагал, как взятку, Кто с лестью лез, чтоб подобрел ты, Сейчас, скрывая торжество, В твой дом вползая, шепчет: «О, Поэт, как рано постарел ты…» Да, голова твоя седа, Поэт. Но это не беда, — Ни женщина, что ты любил, Ни Родина, чьим сыном был, Те двое, для кого сгорел ты, Пусть голова твоя седа, Тебе не скажут никогда: «Поэт, как рано постарел ты!..»Я НЕ СПЕШУ…
Все в звездах небо, с моря дует ветер. Мы встретим со стаканами зарю. Не говорю: забудем все на свете! — Согреемся немного, — говорю. Пусть длится ночь, пусть опоздает утро, В объятьях дум сижу я у огня. Пусть то, что я скажу, не так уж мудро, Но мудрость друга — выслушать меня! Пока любить и петь я мучим жаждой, Пока, живой, теплом земли дышу, Я жизнь продлю в ее мгновенье каждом. Мне некуда спешить. Я не спешу. Любовь моя! Чтоб лет моих не выдать, Не говори, что я устал и стар. Я видел меньше, чем хотел бы видеть! Встань, обойдем земной летящий шар. И если парус дум моих летучих Нас бросит в океаны и моря, Не бойся! Я дорог не знаю лучших, Чем те, где не встают на якоря. Звезда ль меня лучами с неба тронет, Иль я звезду на небе погашу, Пусть радость и печаль своих коней не гонят, Мне некуда спешить. Я не спешу. И ты, мой друг, охотник, всю округу Облазивший со мною на веку, Давай пройдемся медленно по лугу И «здравствуй» скажем каждому цветку. Я должен над цветами наклониться Не для того, чтоб рвать или срезать, А чтоб увидеть добрые их лица И доброе лицо им показать. Они раскроются по доброй воле На час, на день, на сколько попрошу! Куда спешить мне? Я не ветер в поле! Мне некуда спешить. Я не спешу. Пусть туча медленней пройдет над нами, Пусть медленней течет река. И пусть, Весь мир на капли разделив глазами, Я каждую запомню наизусть. Не думай, я не постарел, я просто Хочу, чтоб все в нас оставляло след, Чтоб мы, не доживающие до ста, Прожить умели за день десять лет. Пусть не спешит перо в руке поэта Скорее книгу жизни завершить. Пусть длится день! Пусть вертится планета! Я не спешу. Мне некуда спешить.ТЕЛОГРЕЙКА
Ты помнишь, друг, как я, назад три года, В Москве, с утра к тебе ворвался в дом? И сколько б мы ни пили в ту погоду, Дай бог, чтоб чаще было так, вверх дном! Южанин, был я в ту метель простужен, И как же ты ругал меня, корил, Что даже пусть я сам себе не нужен, Тебе я нужен! — так ты говорил. Сняв телогрейку, теплую от тела, Ее мне по-солдатски подарил. — Простуженный поэт — дрянное дело! Не смей болеть! — так ты мне говорил. И голос твой, как огонек за вьюгой, Не потеряю я, пока живу, Пусть будет щепкою подарок друга, — С той щепкой я моря переплыву! Когда теперь с ружьем в степи шагаю И зимний холод режет, как стекло, Я сразу телогрейку надеваю, Хранящую еще твое тепло. Когда в Баку ударит норд весенний, И с легкими начнется канитель, И все родные хором, нет спасенья, Зовут врачей, чтоб класть меня в постель, — Я надеваю телогрейку эту И в ней сижу упрямо у огня. Каких врачей еще искать по свету, Когда ты взялся вылечить меня!ОДИНОКАЯ МОГИЛА
Фрагмент
Моя мечта вдруг унесла меня От нашей громкой и живой планеты Туда, где ночи нет, и нету дня, Нет тишины, затем что звуков нету. Людского не увидишь там лица, Вода горька там, и земля тосклива, Там нету ни прилива, ни отлива, Как нету ни начала, ни конца. Там каждый камень, прошлое приемля, Стоит, вкушая вечности покой, Закрыв глаза на небо и на землю, В надгробных думах о судьбе людской. Висят деревьев ветки неживые Над кладбищем, где неживые спят. И кипарисы, словно часовые, Над белым камнем памяти стоят. Ни дождь, хлеставший сверху мокрой плетью, Ни зной, сплетенный из сухих ремней, Не смог стереть за целое столетье Ни буквы с этих неживых камней. Гляжу на это кладбище мирское… Жизнь прожита вся в спешке, на бегу, И что-то не доделано такое, Чтобы не быть у мертвецов в долгу…Расул Рза ПУТЬ ЖИЗНИ
И мокрые весенние деревья, И молодости теплые дожди, И первый страх, И первое доверье, И спутанные косы на груди — Все остается позади… И голубые сонные глаза, И на щеке — соленая слеза, И шепот: раз пришел — не уходи! Все остается позади. Надежды голубиные полеты, И привкус клетки — в просьбах: подожди! И трепет крыльев, И в гортани клекот — Все остается позади… В вагоне позднего трамвая С дождем мы едем в старость оба, Дождь движется со мной бок о бок, Кружками к стеклам приставая. А стук колес уходит в прошлое, Напоминая мне без жалости О том, как много мною прожито, И об оставшейся мне малости. О том, что в прошлом есть мужчины, Есть женщины, Есть имена, Есть адреса И нет причины, С ним встретясь, отводить глаза. Да, многое осталось Позади, Но кое-что припасено для спора И с будущим. И если на пути Вновь встанут горы — Ну и что ж, что горы!Из грузинской поэзии{19}
Галактион Табидзе
НЕ ОСТАВЛЯЙ ЕГО, КАК СИРОТУ…
Твой стих с тобой брал века высоту, Решал бесстрашно и судил пристрастно. Не оставляй его, как сироту, Вне времени и вне пространства! Одни проваливались без следа, Другие, оступаясь, шли куда-то… Ты сам об этом написал тогда. Ставь день и час! Где подпись — там и дата! Твой стих не мост между добром и злом, Он — цвет знамен и ран на поле боя. Как в скалы врублен времени излом, Так врублен в стих ты сам с твоей судьбою. В твоей эпохе все, что есть, — твое: Твой герб, твой серп, твой молот, твое знамя, Твоя решимость доконать старье, Спалить его индустрии огнями! Твой стих с тобой брал века высоту, Решал бесстрашно и судил пристрастно. Не оставляй его, как сироту, Вне времени и вне пространства!ЗОЛОТЫЕ ШКУРЫ
Отягощенные, лениво Под летним ветром гнутся нивы; Блеснут то серебром, то сталью, То белой, облачной эмалью, И снова, солнцем залитые, Лежат, как шкуры золотые. О, сколько тигров здесь убито! И прямо на поле забыто…УТРО СОРОК ШЕСТОГО
Опять поставил: сорок пятый, Хотя с утра — сорок шестой. И памяти, и пальцам — с датой Непросто расставаться с той! Она и на небе — в созвездьях. И на бумаге — под пером, Как, вслед за молнией, возмездья Докатывающийся гром.«Есть настоящий, сущий…»
Есть настоящий, сущий — Души твоих книг читатель. И есть — ему вслед ползущий Книжных листов листатель, Тянет, потянет, вытянет Где-нибудь лыко в строку, Выудит, выдоит, выкопает… Ни спросу с него, ни проку!«Нет, друг мой Георгий!»
Нет, друг мой Георгий! Не те уже годы, Чтоб — няньки да няньки Под видом народа. Ему мы служили, Ему и дослужим. Ему! А не разным Прохожим досужим.Карло Каладзе
ВСТУПЛЕНИЕ К КНИГЕ
Слова простые не приходят сразу, Пока придут — польется пот со лба; Из них не выдуешь пустую фразу, Они тебе не медная труба! Светает, тишина… Так, в самом деле, И напишу: «Светает, тишина…» С читателем, как старый Церетели, Сойдусь, чтоб пошутить, так просто, без вина. Я чаще жизни рад, чем горем согнут, Улыбку на лице не признаю грехом. Но если у меня вдруг слезы в горле дрогнут, Пусть пальцы тоже дрогнут над стихом. Я счастлив тем, что с первых рифм, с рассвета, Жизнь посвятил грузинскому стиху: Родное слово с грешного поэта Чужих наветов смоет шелуху. Печаль придет — мы за полночь проспорим, Пока я ей свое не докажу! Со всем, что есть, и с радостью, и с горем, Я будний день на горб себе гружу. И если сердце без оглядки бьется, Моих годов разматывая нить, То у меня язык не повернется Его за нерасчетливость винить. У сердца на бессмертье нет расчета, Его земная оболочка — я. Без отдыха идет его работа В моей груди. А отдых — смерть моя.МОЙ ДЕНЬ
Я за солнцем не гонюсь, Взглядом друга обойдусь, Да ущелья тишиной, Да небес голубизной, Да кувшинчиком вина, Опорожненным до дна. Мне до самой смерти лень Жизнь делить на свет и тень. Я люблю мой день — сегодня, День обычный, день как день!ПРИТЧА О СТВАРИ И ГУДА-СТВАРИ[6]
Эта притча со мной бывает Всегда в трескучую ночь зимой. Огонь в очаге языком болтает, Довольный, что я вернулся домой. И, словно два домовых, из тени К огню ковыляют два бурдючка; Без спроса лезут мне на колени, Суют мне под мышку свои бока. Один, от воздуха задыхаясь, Дудит из-под мышки в свою дуду, Другой, как пьяница колыхаясь, Ждет, пока я стаканы найду. Один, похудев, стаканы наполнит, Другой, потолстев, опять запоет. Один, чтоб я выпил до дна, напомнит, Другой — не успеешь моргнуть — дольет. Один мне сплетен полное ухо Сладким голосом наворчит, Другой, наклонясь отощавшим брюхом, Заглянет в стаканы и забурчит. Один меня хвалит. Другой наливает. К ним в лапы попал до утра я в плен. Огонь, как ни сердится, ни пылает, Не может согнать их с моих колен. Но утром, когда в очаге лишь уголь, А ночь улетела с огнем в трубу, Двое друзей, истощив друг друга, Заснут, не жалуясь на судьбу. Один без вина, до новой получки, У другого всего две ноты на дне, Свесив свои короткие ручки, Спят бурдючки, привалясь к стене. Если мы вновь возьмемся за дело, Придется приятелей разбудить: Одному наполнить душою тело, Другого до горла вином долить. Раз по душе тебе наш обычай, Присядь к очагу хотя бы на час. А смысл этой притчи, как многих притчей, Пусть выяснит тот, кто мудрее нас.СЕМЬЯ СПРАВЛЯЕТ РОЖДЕНИЕ СЫНА
У Ташискари ночью, над Курой, Я тамада — и время не теряю! Луна и та согнулась в рог крутой, Рог, что я поднял, в небе повторяя. Ночь над столами листьями шуршит И лампами мигает прямо с неба. Хозяйка, добрая душа, спешит Подать нам мяса, зелени и хлеба. В семье родился мальчик, первый внук. И старый плотовщик из Ахалдаба Горд, что у сына сын, и все вокруг Пьют и толкуют, что давно пора бы! И я, я тоже рад тебе, малыш, Из-за тебя весь этот пир бессонный, Мой черноглазый камешек-голыш, Самой Курой на берег принесенный. Так хорошо, что хоть останови Мгновение, не пожалев об этом… А мать с отцом — как две строки любви, Срифмованных на зависть всем поэтам! Пусть ставят колыбель перед столом, Чтоб тост в горах гремел, как перестрелка: Мы песней ночь пробьем! И пулею пробьем Закинутую под небо тарелку!ДУБ
Плющ свисает с плеч ветвистых, Словно старая броня. — Дуб, тебе, наверно, триста? Как давно ты ждешь меня! Столько лет уже стоящий Здесь, не пропустив ни дня, Прошлый ты и настоящий, Будущий, после меня. Ты, наверно, все на свете Знаешь, стоя надо мной: Как мы рыбу ловим в сети, Как мы боремся с волной. Буду ждать я Пиросмани Здесь в тени твоих ветвей. Он придет и на поляне Стол раскинет для гостей. Где — напишет во весь мах! Где — пошутит кисточкой. Хлеб положит, сыр чанах С красною редисочкой. Бурдючок, барашка, зелень — Щедрой кистью угостит, И меня в руке с форелью Где-то сбоку поместит. По картону черной ночи Блики бросит краской белей. И луну в ветвях упрочит, Чтоб всю ночь висела целой. Добрый синий лунный глаз Прямо над столом зажжет, Чтобы ясно видел нас Тот, кто с нами вместе пьет. С пира каждый унесет Песенку прощальную, Ночь ее, как хлеб, дает Нам в дорогу дальнюю. Мы на дуб наш поглядим, Бросим взгляд последний, Жаль, что он опять один — Друг наш трехсотлетний. Вот он ветками плечей Пожимает мудро; Трезвый, утренний, ничей, — Утро — это утро.АБХАЗСКАЯ ПЕСНЯ
Кто в первый раз в горах запел: «Варайда-вара́да»? Так пел, что вечный лед кипел И с гор ручьями падал. Кто в первый раз в горах запел: «Варайда-вара́да»? Кому принадлежала честь Мужскую песню эту В горах абхазских первым спеть, Пустив гулять по свету? Есть в песне боль и радость есть, Лишь робости в ней нету! Я с неба сумерки сдирал, Я рвал туманы в клочья, Начало песни я искал Повсюду днем и ночью. Но только высоко, средь скал, Нашел я то начало: Там горец раненый лежал, Под ним река рычала. Тысячелетние дубы Стояли в изголовье, Он сам началом песни был, И песня пахла кровью. Лежал он, рухнув, как гора, Предательством подкошен, И в ожидании утра Над ним кружился коршун. — Вставай, охотник! Ты проспал, Дотла сгорели звезды. Чтоб день охоты не пропал, Вставай, пока не поздно! Я вижу, что нога твоя Покрыта липким ядом И размозженная змея Лежит бессильно рядом. Не умирай! Свою судьбу Продли с живыми, с вами. Смотри, как речка на горбу Несет дубы с корнями. Доверься ей, она в беде, Как горец настоящий, Тебя не выбросит нигде И до людей дотащит! И вот услышал он меня, Поднялся, стиснув зубы, И влез в поток, и лег плашмя На грудь большому дубу. Поток стрелой его понес К родным местам все ближе. Уже лачугу, где он рос, На берегу я вижу. Я жду, чтоб людям крикнул он, Позвал на помощь стоном! Но горцу лучше смерть, чем стон. Стон — это недостойно! С улыбкой на лице встречать Судьбу обязан горец. Но как же людям знак подать Улыбкою — о горе? И вместо крика или слез В волнах, со смертью рядом, Вдруг в горле горца родилось: «Варайда-вара́да!» То был не стон и не мольба, Не вопль больного тела, То мужество само себя Спеть в песне захотело! Стенанья трусов выдают. Их страх за жизнь свою. Они «Варайда» не споют У смерти на краю. Но храбрый боль не признает, Считает страх неправдой, Пока он дышит — он поет: «Варайда-вара́да!» Лишь тот, в чьем жалком сердце лед, Ту песню не оценит. Гора и та ее поймет, И к облакам возденет, И эхом об землю швырнет, Но слов в ней не изменит! Я слышу, как звучит в горах: «Варайда-вара́да!» Для всех, кому неведом страх, Та песня как отрада. Я тоже побратался с ней. С ее суровой правдой. Дай бог мне спеть на склоне дней: «Варайда-вара́да!»ОТЕЦ
Мы в чудеса не верим, но они Бывают, если страстно захотим. Был день как день. День, как другие дни, И ночь как ночь спускалась вслед за ним. Я в сумерках спешил к себе домой, Еще весь не остывший, весь дневной. Моя улыбка до дому дошла И попрощалась у дверей со мной. Я в доме так и не зажег огня, Сидел один в вечерней тишине. Два чуда — чудо ночи с чудом дня Еще боролись где-то там, во мне. Вдруг в комнату отец мой, как живой, Вошел. Я увидал его спиной: Вошел, белея снежной головой, Вошел и сам заговорил со мной. Спросил меня о доме, о родных Так, словно на неделю уезжал, Так, словно он, оторванный от них, Все эти годы мертвым не лежал. «Так, значит, жив? Так, значит, выжил ты?! А мать скончалась без тебя в слезах…» Откуда столько прежней доброты В твоих домой вернувшихся глазах? Ведь я же знаю… Помню эту ночь… Сейчас я крикну: «Нет, не может быть!» Я помню все: как я не мог помочь, Не мог оплакать и похоронить, Так как же ты из той могилы встал, Которую мы так и не нашли, Как я твое дыханье услыхал, Засыпанное комьями земли? «Ну что ж, сынок», — погладив по плечу, Как с пятилетним, маленьким, босым, Он говорит со мной. А я молчу — Его седой и постаревший сын. Он говорит: «Мой сын, ты ветвь моя, Листва живая старого ствола. Я срублен был, но не смирился я. Я был зарыт, но кровь во мне текла. Месть радует лишь слабые сердца; Я жил, добро поставив выше зла, Не жди, мой сын, от своего отца, Чтоб месть ему глаза заволокла. Я не из тех, кто в бубны злобы бьет, Кто, отстрадав, отвык людей любить. Я умер, зная: нашей правде рот Могильною землею не забить. Я клятву дал гореть, а не чадить, И вот живым из мертвых восстаю И запрещаю в трауры рядить Фамилию и карточку свою. Скажи мне лучше, как живешь, мой сын, С той злополучной ночи — тридцать лет? В каких боях ты шел за мною вслед, Подставив голову под снег седин? Я не тщеславен, но тебе скажу, Что я испытываю торжество, Когда свой дух, свой голос нахожу В дыханье века, в говоре его. Век молод был, когда, костром горя, Собою мы зажгли его, когда Быть подданными бога и царя Мы отказались раз и навсегда. Я был три раза на краю земли, Но я бежал. И в Грузию следы За мной по снегу каждый раз вели. Важа Пшавела говорил о вас, Что сила гор есть в голосе людском. Но и в молчанье тоже иной раз Есть сила гор: ни слова ни о ком! Три дня допросов: «Кто? Когда? И где?» Три дня под пыткою, по грудь в воде, Но я молчал, набравши в рот воды, И не разжал его и на суде. Ни пуль, ни ссылок, ни приговоров Я не боялся. Знал: придет рассвет, И будет он, как цвет знамен, багров, Моих знамен у века будет цвет! Я был одним из тысяч, кто восстал, Кто, спотыкаясь, вел вас по следам, Стать будущим мечтал я — и не стал. Но прошлым сделать я себя не дам. Я в крыльях внука моего живу, В размахе их, в решимости его, Сквозь жизнь и смерть свою я вас зову Лететь, как я, но дальше моего. Мой сын и внук! Я не умру, пока Там, впереди, идут с моим огнем. И это не бахвальство старика, Не страх перед своим последним днем. Тот день, не дрогнув, встретил я давно. Но то, чем жил я, живо все равно. И солнце всходит, и спешит вода, И молодое пенится вино… И раз на это время нам дано, Сказав вам все, я вас спросить хотел: Как среди ваших слов и ваших дел В вас будущее с прошлым сплетено?» «Как сплетено? Как ветер и огонь, Как две руки, черпнувшие воды. Как труд и праздник, как седок и конь, Как ветвь и ствол, как листья и плоды, Как хлеб и виноградная лоза, Как ранний дождь и радуга — в глаза! Все под одним здесь небом сплетено. Оно не делится. Оно — одно. Я не носил кольчуг. Я не тесал Камней для древних башен и церквей. Но, как щитом, прикрыв строкой своей, Случалось, их от гибели спасал. Смотри, отец, на эту ночь в окне; Она грузинской живописью мне Сегодня кажется: на сотни верст Холсты ущелий с пригоршнями звезд, Посеянных не божьей, а людской, Своею собственной рукой. Какая ночь! Какая благодать! Как ты давно не видел этих гор! Как смерти мы могли тебя отдать! Так и не понимаю до сих пор, Как вдруг я оказался сиротой. Еще задолго до войны, до той, Где мне пришлось под горький гул годов Писать стихи для сирот и для вдов. Я рад был, что их пели. Я мечтал Дробить людское горе на куски, Чтоб с каждой строчкой в небо улетал Хотя б осколок чьей-нибудь тоски. Когда-нибудь в космической пыли Потомок наш, летя, как полубог, Осколки наших песен и тревог Найдет, как верных спутников Земли. Пусть это будет мой последний час, Я все равно хотел бы одного: Чтобы всего дыханья моего Хватило бы для века моего. На вздох один. Всей грудью. Хоть бы раз! Твой внук, мой сын, придет сюда сейчас. Ты спрашивал меня, спроси его: Как будущее с прошлым сплетено? Внук как проверка для обоих нас: Быть будущим с тобой нам не дано. А он им будет. Каково оно? Ты помнишь его мальчиком, отец. Теперь он скульптор. Он упрямым стал, Здесь в доме властвует его резец, Он любит камень, дерево, металл, Не любит гипса. Рад, что наконец Век гипса кончился. Век каменный настал. Как мы с тобою, этот мальчик наш Готов схватиться с жизнью баш на баш. Он любит правду в камне и в строке. Работать — яростно. Жить — налегке. Волнуюсь за него, жду по ночам. И спорю с ним. Порой — по мелочам, Но чаще из-за времени. Оно Летит, не возвращая нам ни дня. Но он, как я когда-то, все равно Не верит в это, слушая меня… Здесь, по земле, хожу я столько лет, Успел с ней вместе столько испытать, Что и деревья у дорог нет-нет Да и сойдутся вслед мне поболтать. Здесь песенки мои поет народ, Порой не зная, что их автор тут. Ну что ж, так лучше, чем наоборот: Кто автор — знают, песен — не поют. Отец, для песен я огонь добыл Не с неба — из твоих земных глубин. Ты первым словом моих песен был, А их последним словом стал мой сын. Ты, он и я — мы в них живем втроем. Втроем? Как нож, повернутый в душе, Вновь слышу я ту ночь, притихший дом И голоса на нашем этаже. А позже — вниз знакомой палки стук, Твой затихающий, усталый шаг И скрип дверей внизу — последний звук Последней каплей ужаса в ушах… Нет, я не плачу. Разве это зло В слезах утопишь? Есть иной вопрос: Как это быть могло? Как быть могло?.. И он — страшнее океана слез. Я приговор убийце твоему Читал. Он справедлив. И я готов Не возвращаться каждый день к нему, Ко всем его ста тысячам листов. Ты прав, отец, что промолчал в ответ, Целую мудрые глаза твои. Есть, кроме павших, целый белый свет, Есть люди, небо, грозы, соловьи, Есть жизнь, которая далась с трудом И стала продолжением твоей, И есть твой внук. Помедлив у дверей, Сейчас он третьим входит в этот дом. Так вышло в эту ночь, что все втроем Вдруг мы собрались в зеркале одном: Мой сын, и я, и старый твой портрет, Висящий на стене над очагом. Озарены мерцающим огнем, С минуту вместе в зеркале живем. Но зеркало не память, а стекло. Шаг в сторону — и нас как смыло в нем. Хоть помню я и помнит этот дом. На этих стульях вон за тем столом Действительно сидели мы втроем. Дед был седой, почти как я сейчас, Я — молодой, почти как сын сейчас. А сын… А сыну было только пять, И он хотел скорей мужчиной стать. Как жить — его давно я не учу. Он стал мужчиной, у него свой нрав. А если все же спорю, то хочу, Чтоб он — не я — оказывался прав. Мой сын, я верю: честно жизнь твоя Пройдет, ты не ударишь в грязь лицом. Где б ни был ты, везде с тобою я. Так и должно у сына быть с отцом. Я тоже понял в этот час ночной, Что мой отец все эти тридцать лет Слыхал все мои «да» и мои «нет» И шел незримо за моей спиной. Пусть ветер дует в грудь нам всем троим, Мы порознь ничего не будем брать! Тяжел ли, легок — век наш неделим, И натрое его не разодрать. А ты, читатель, не сочти за грех, Что я люблю свой дом и свой очаг. Огонь — как руки дружбы на плечах, Я верю в то, что он согреет всех. Пусть это маленький огонь, но мой. Мой сын и мой отец, мой дом, мой век. Мои стихи и ты, мой гость ночной, Не сват, не брат, а просто Человек».ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА ЛЕСЕЛИДЗЕ
Я, как и прежде, только в жизнь верю, Мне солнце всех ночных теней ближе; Зачем же вдруг раскрылись в смерть двери, Зачем же мертвым вновь тебя вижу? Все в том же памятном для нас зале, Как бог войны, от рук войны павший, Лежишь, слезами земляков залит, Лежишь — моложе нас. А был — старше! Лежишь, сложивши на груди руки, Сжав рот, не выдав до конца боли. Стареют дети. И растут внуки. Как много лет прошло с того боя… Устало сдвинуты твои брови, И полководцам на войне трудно. Как много пролито на ней крови, И каждый день ее — как день Судный. Он был суров — так о тебе скажут, И беспощаден был в борьбе — скажут, Он шел наперекор судьбе — скажут, В бою не думал о себе — скажут. А ты не слышишь голосов этих, А ты — как будто на войне не был, Среди всех нас, один на всем свете, Лежишь, закрытые глаза — в небо. Народа своего сын смелый, Народа своего сын милый, Ты — там, мы — тут, и никакой силой Нам снова дух твой не вселить в тело. О, как безмолвно спят войны грозы, Как чувств своих не выдают горы; И словно душат, душат их слезы, Деревья вдовами стоят в горе. Земля горюет о своем сыне: Он был живой. Бессмертный стал ныне. Ни дня, ни ночи для него нету. Лишь вечность. Больше ничего нету. За медным медленным, как боль, маршем Лафет в бессмертие влекут кони. Издревле некуда спешить павшим, Но время нас, живых, вперед гонит, К победам нашим и к смертям нашим. Тире, две даты — вот вся жизнь вкратце, А после смерти — каменеть в белых Надгробьях, в тесноте могил братских, Над полем боя ввысь взмывать в стелах, Безмолвьем камня укорять трусов, Безмолвьем камня ободрять смелых. Вот все права, что смерть дала мертвым, То скрыв от нас, то сохранив имя. Они молчат. А мы на них смотрим, На белый камень, тот, что был ими. Ружейный залп — что может быть проще? Но, тишину в последний миг руша, Он как «из списков исключить» — росчерк, Как кол войны, забитый мне в душу. Да, знаю, знаю, лишь людей чести Делившие их ратный труд люди, В последний час спустив курки вместе, В последний раз, на миг в гробу будят. Но вслед за этим — так вокруг тихо, Как будто ты лишился вдруг слуха. И тридцать лет уж в тишине кто-то Все шепчет, шепчет о войне что-то В давно оглохшее твое ухо…Хута Берулава «Своих поэтов, с их уроками…»
Своих поэтов, с их уроками — Как жить и гибнуть непреклонными, Народ недаром звал пророками, Звал — крепостями, звал — знаменами. День завтрашний и день вчерашний В годины бедствий и печали Они, как крепостные башни, Бесстрашным словом защищали. Как воины, ценою жизни Обороняли от забвенья Отчизны праздники и тризны, Ее тысячелетий звенья. И, путь земной пройдя без страха И завершая без отсрочек, Вдруг превращались в горстку праха И в несколько бессмертных строчек.Фридон Халваши ЗРЕЛОСТЬ СТИХА
Юность стиха — как любви пора, Как усы у мальчика над губой; Вдруг огонь и земля, волна и гора — Все разом заговорят с тобой! Юность стиха — как сентябрьский шум Молодого вина, что обручи гнет. Сделать дело — ему не придет на ум, А незнакомой звезде кивнет! Но если, два крыла отрастив, Он взлетит до высот настоящей любви, Он оттуда все увидит, твой стих, — Оленя ранят, а стих в крови! Он рванется из плена райских красот, Не держи в небесах его, не томи! Пусть он в бой против рабства наземь сойдет, Пусть под пули станет рядом с людьми. Пусть душа его не будет глуха Ко всему, чем на грешной земле живут! Так сначала приходит зрелость стиха, А потом уж тебя поэтом зовут.Из узбекской поэзии{20}
Алишер Навои ГАЗЕЛЬ
Весна без тебя — палача жгут, смертные муки, ад! В нем красные розы меня жгут, белые — леденят. Весна без тебя для меня — ад, ад ночи и ад дня, Но в том раю, где ты без меня, нет ни льда, ни огня. Если захочешь меня найти, стать под моим окном — По лицу моему иди, по бороздам слез на нем. Как в сладких плодах — горькая кость не удивит меня, Так в сладких устах — твоих слов злость не удивит меня. Не лги про меня, что там, в аду, гол и бос Навои. Я одет и обут в печаль и беду — в подарки твои. Нет, не боюсь лжи и угроз, хотя вижу над головой, Как секиру в небе занес юный месяц — гонец твой.Гафур Гулям К НАМ ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОГОСТИТЬ, ДРУЗЬЯ!
Когда вы будете в Узбекистане, То, как бы вы с дороги ни устали, Я знаю, каждый звать вас в гости станет Радушными, нелживыми устами, — Но в первый дом входите в мой, друзья! Гафур Гуляма знаете, конечно! Мой адрес даст в Ташкенте каждый встречный. В мой дом входите, я вам рад сердечно! Без проволочек — жизнь так быстротечна — Ко мне шагайте, я вас жду, друзья! Мой садик — ваш! Пусть только скрипнет дверца!! На грядках зелень мяты, кинзы, перца, Вот свежая вода, вот полотенце, А вот открытое вам настежь сердце! И в сад и в сердце вас пущу, друзья! Над огородом я для вас трудился, Всего к столу нарвать распорядился! Куда б хозяин иначе годился! Жаль только, вот шафран не уродился, А остальное — ваше все, друзья! Ковер постелем и, чтоб слаще отдых, Подушки бросив в шелковых разводах, Прогнав печаль, забывши о невзгодах, На языках пятнадцати народов Споем, что в голову придет, друзья! Кто детям рад, кто без детей скучает, Зятьев и снох в придачу получает, А там и внуков на руках качает… Под детский крик по пиалушке чая До ужина не выпить ли, друзья? Я в юности еще пришел к решенью: Дом без детей — как стол без угощенья, Как шар земной без вечного вращенья! За шумный дом свой не прошу прощенья! Мы сами будем в нем шуметь, друзья! Вином и мясом пахнет синий воздух. Стол — как земля, а вы вокруг — как звезды! Вот наш инжир, вот винограда грозди! Лепешки теплые, — пока не поздно, Я по куску вам отломлю, друзья! Горит очаг, смешав в домашнем дыме Дыханье сада с ветерком пустыни. Вот персики с бочками чуть седыми, Но раньше них давайте взрежем дыню! Мы в этом не раскаемся, друзья! Теперь, когда уже всерьез сидим мы, Отведайте самсы, казы, нарына! Пусть их названья непереводимы, Но, чтобы суть понять, необходимо Их все подряд попробовать, друзья! Вино у нас домашнее, густое, В нем слиток солнца плавает в настое. Есть предложенье, самое простое: Без лишних слов кувшина дно пустое В кратчайший срок исследовать, друзья! Вот вносит Муххарам, моя супруга, Два блюда с пловом, два горящих круга! Она прикладывает к сердцу руку, И не спеша плывет от друга к другу, И к плову приглашает вас, друзья! А после плова, за зеленым чаем, Мы к берегу поэзии причалим: Фуркат, и Пушкин, и Джами вначале, Ну, а потом, друг другу отвечая, И что-нибудь свое прочтем, друзья! Есть ваши книги у меня на полках, Есть и мои. Взгляните втихомолку: Писал я много, жил довольно долго, И сколько их — я сам не знаю толком, Пусть, если захотят, сочтут друзья! Я заболтался! Время пролетело! Душа бы вечно бодрствовать хотела, Но, к сожаленью, спать желает тело… Ночуйте здесь! Мы быстро это дело Устроим каждому из вас, друзья! Кто помоложе — тем ковров наносим, Кошму в саду, под абрикосом, бросим, Молодоженов на чердак попросим: В Узбекистане ведь такая осень, Что простудиться мудрено, друзья! Итак, устами старого поэта Я вас зову, прошу запомнить это, Пусть издали, пусть даже с края света, Хотите — осенью, а не боитесь — летом К нам приезжайте погостить, друзья!Хамид Гулям
ПОСЛЕДНИЙ МОСТ
Много мостов есть через Нил. Описывать все — не хватит чернил. Но этому вот, на котором стою, Я посвящаю балладу свою. Шофер Али согласен со мной, Что мост этот — лучший мост под луной; Али этот мост хвалит до звезд, Каждую доску и каждый гвоздь! Хотя скрипит от старости он, Хотя не сияет над ним неон, Но для араба он неспроста Дороже любого другого моста! — Этот мост мне дорог, — скажет араб, — Как память о том, что я больше не раб! Этот мост красив потому, что он мой! По нему англичане ушли домой! Ушли наконец-то, давно пора б! — И долго вслед им глядел араб, Покуда последней колонны хвост Не прошел через этот, последний, мост, Последний оставшийся не у дел Генерал на «виллисе» прогудел, И тени штыков прошли по волне В последний раз, потонув на дне, Последняя пушка, последний танк… Отныне навеки да будет так! Да будет так! И в память о том Назвали мост «Последним мостом»! Но, стоя на гордом этом мосту, В балладе воспев его красоту, Мы не забудем — ни я, ни ты, — Что в Африке есть другие мосты. Другие мосты, плохие мосты: Иностранные ходят по ним посты. Я проехал по Африке много верст, Я видал в ее реках отсветы звезд, Но со звездами рядом, вниз головой, Под мостами ходит там часовой! Нет, не только на Ниле — в других местах… Не пора ли напомнить о тех мостах, По которым не сам — так ногами вперед Засидевшийся в Африке хищник уйдет?! Не угроза, не с моста вниз головой! Если хочет добром, пусть уходит живой, Пусть уходит! Нет просьб других! Уходи! Пусть уходит! Нет крика другого в груди. Пусть уходит домой! Пусть уходит домой! Через мой мост. Да, через мой! Хотя ты его жадно считал своим, Это я, африканец, зарыт под ним, Это я тонул здесь. Я лес валил! Это я его кровью своей полил! Я твой бич и дубину тебе не прощу, Но, не выстрелив в спину, через мост пропущу. Пропущу тебя на условье одном — Что ты мост перейдешь и забудешь о нем До тех пор, пока смогут земля и вода Твою тень со штыком забыть навсегда! Нет в балладе конца. Мы под нею черту Подведем на последнем самом мосту…ГВОЗДИКА
Гвоздику я бы не пустил в балладу, Да спутник так болтлив, что нету сладу! В Александрию едем с ним на поезде. И нет конца его сладчайшей повести Про Фергали, про Фергали великого, Про лацкан пиджака его с гвоздикою, Известной каждому на побережии, Зимой и летом неизменно свежею, Просунутою незаметно кончиком В петличку с тонким водяным флакончиком. Мой спутник хочет, чтоб на всю планету Я раструбил бы про гвоздику эту. В нем нет еще и тени подозрения, Что не сойдутся наши точки зрения. Уже мы слезли с поезда, в отеле мы, Свет погасили и легли в постели мы, Но все струится с языка незримого Рассказ про Фергали неповторимого: — Он хлопок здесь скупает в эти месяцы. Вам завтра утром предстоит с ним встретиться — С его улыбкою, с его гвоздикою… — Всю ночь мой спутник маятником тикает, Гудит не уставая, словно радио, А я его своим молчаньем радую, Лежу, не сплю, ловлю сквозь гулы голоса, Как волны бьют в береговую полосу И как, шурша песком, сама пустыня Перебегает улицы пустые. Нет, не про Фергали с его гвоздикою — Я про пустыню думаю про дикую, Безводную, бесснежную, безмерную, Не меренную рейкой землемерною, С шатрами бедуинов гордо-рваными, С их нищетой, прикрытою Коранами, С мечтой о Ниле под кошмою каждою, С неутоленным голодом и жаждою, С песком, в зубах хрустящим как безумие, С верблюдами, иссохшими как мумии, С детьми худыми, как само отчаянье, С глазами их, которых нет печальнее! Я вижу в кровь исхлестанную спину Батрачки, убежавшей с поля к сыну, Я вижу хлопок на краю пустыни И кровь на нем! И сердце мое стынет От бешенства холодного и страшного, От этого наследья дня вчерашнего. Лежу. Молчу. А спутник все неистовей Мне соловьем про Фергали насвистывает: — Хотя и стар, но выглядит так молодо, Когда плывет по рынку с белым золотом, Как весел он, как вежлив, вот увидите! Всегда с гвоздикой свежей, вот увидите! И тут, себя сдержать уже не пробуя: — Давайте спать! — я говорю со злобою. Но сам всю ночь египетскую, лунную Все не могу заснуть, с башкой чугунною. Огни и звезды портового города… А сердце, как ножом, тоской распорото! Глаз не сомкнув, с утра иду на вылазку: За домом дом, за вывескою вывеску — Смотрю лавчонки, лавки, магазинищи… Голодных ребра и жратвы корзинищи — Открытое без всякого смущения Богатства с нищетой кровосмешение. А вот и порт, толпой судов заставленный, И рынок здешний, до небес прославленный, С его египетского хлопка кипами, Со звоном денег, с криками и всхлипами, С его торговцев языками бешеными, Как колокол над городом подвешенными. И среди этого столпотворения — Вдруг мне навстречу, как стихотворение, Сам Фергали с гвоздикой неизбежною, Розовощекий, с сединою снежною. Мы рынком сведены, людьми представлены, Друг перед другом он и я поставлены. Да, это верно, выглядит он молодо, Нет на лице следов забот и голода. Он горд, людей он криком не преследует, Как тот бедняк, что продает последнее. Всего одно движенье пальцем подано — И горе тысяч куплено и продано… Да, это верно, он нежнее нежного Мне хвалит море хлопка белоснежного, Но не хотел и на день бы остаться я В его руках на белых тех плантациях, Где крик батрачки, в кровь бичом обласканной, Торчит гвоздикой красною из лацкана, Где молоком грудным, как бык, он выпоен, Из тысячи голодных сытым выкроен, С улыбкой розовой, с походкой важною, С гвоздикою, от слез ребенка влажною. Наш разговор с ним тонкой ниткой тянется; Сейчас рвану — и два конца останется! Обоих нас я этим лишь обрадую, Но как же быть тогда с моей балладою? Чем гладкою концовкой быть испорченной, Пусть лучше остается незаконченной, Поскольку на гвоздику эту красную И есть, и будут точки зренья разные.ДЫМ НАД ХИЖИНОЙ
Эту свою балладу начну я в глуши такой, Где не найти адвоката, лишь судьи есть под рукой. Безмолвны рощи какао, в хижинах нет огней; Как вымерла вся деревня, один лишь дымок над ней. В хижине у Воттуна все племя сошлось чуть свет. Уже очаг догорает, а Воттуна все нет. Воттун пошел к англичанину, три дня уже нет его. Пошел передать он мысли племени своего. Но английский начальник в железо его заковал И только потом его мысли к себе на допрос позвал. Так легче выиграть диспут, когда, придя на допрос, Помнит, что он закован, тот, кто мысли принес. Ночное позднее время; полисмену не по душе, Что снова сошлось все племя в Воттуновом шалаше. Воттун говорил здесь речи, он не просто болтун, Говорят, что для всей империи стал опасен Воттун, Руки Воттуна закованы, но в одной из газет, Говорят, на первой странице, напечатан его портрет. Говорят, он сказал англичанам, что земля под ними горит, Говорят, это очень отчаянно — то, что он говорит, Будто бы масло пальмовое и каучуковый сок, Чем отдавать англичанину, лучше вылить в песок, Будто бы тот, кто спину гнет для чужих барышей, — Будто бы он унижен таким порядком вещей. Будто бы он поэтому голоден, болен, слаб, Будто бы здесь, в Нигерии, есть еще слово «раб», Будто бы это слово надо выжечь дотла. Будто б тогда Нигерия счастливой страной была! О чем еще говорил он? О чем говорил? Ах да! Будто б врачей побольше надо послать сюда; Будто б надо лекарствами пичкать черных детей; Будто б они не выживут без этих его затей; Будто бы надо черным школы построить тут; Будто б они без грамоты ну прямо не проживут; Будто б все они люди, у всех своя голова, — И так говорил он, будто бы сам верил в свои слова! Полисмен идет по деревне. Все заперто на замок, Но над хижиною Воттуна вьется в небо дымок. Вьется тонкий, как волос, среди непроглядной мглы И упрямый, как голос, закованный в кандалы. Полисмен идет по деревне. Полисмен до утра следит. Хозяина нет, но в хижине племя его сидит. — Воттун в кандалы закован, а что же сделаем мы? Неужели мы свои мысли не выручим из тюрьмы? Против нас англичане сети плетут свои. Судья — племянник начальника, начальник — дядя судьи. Начальник сказал: — Из Лондона пусть едет к вам адвокат. Но нанять адвоката может тот, кто богат. Тысяча фунтов стерлингов адвокату цена. У адвоката дети, у адвоката жена. Адвокату ехать и ехать — Нигерия далеко. Нет, нанять адвоката племени нелегко: Весь урожай какао за самый хороший год Тысячу фунтов стерлингов племени не дает! И все-таки, все-таки, все-таки, пусть целый год голодать, Надо тысячу фунтов адвокату отдать. Пусть берет свою тысячу, пусть скорее едет сюда, Чтобы спасти Воттуна от неправедного суда! Уже решается племя на долгий голодный год. Но у порога хижины негр молодой встает: — А вдруг у начальника нашего и в Лондоне есть друзья? А вдруг адвокату окажется родственником судья? И они с судьей соберутся и все решат, как хотят. И наши голодные дети нам этого не простят! Нет, лучше напишем в Гану, там есть один адвокат. Он черный, он телеграмму нам дал, что приехать рад. С начальником незнаком он, судье не родственник он. Он денег у нас не просит за то, что знает закон. Ему нужна только виза, чтоб это дело начать. Начальник должен поставить на ней большую печать! — Пусть ставит! — сказало племя. — Пусть среди ночи встает. И то, что назвал ты визой, нам прямо в руки дает! — И, покинув шалаш Воттуна, все племя ночью пошло К большому дому начальника, где бетон и стекло. Где в комнатах вентиляторы, лед и водопровод. Где день и ночь полисмены вдвоем стоят у ворот. Но их начальнику мало в такую бурную ночь. Он вызвал отряд полиции, он просит ее помочь! Полиция окружила племя со всех сторон. Теперь начальник спокойно вышел на свой балкон. — Зачем вы явились ночью? — Потому что не можем ждать! Ту вещь, что зовется визой, ты нам должен отдать. Ты должен на ней поставить свою большую печать. И пока не сделаешь это, мы не будем молчать! — Я не дам вам визы, я знаю, что едет к вам адвокат (Еще б не знать! У начальника на телеграфе брат.) Я не дам адвокату визы, даром проездит он. Воттун все равно виновен и будет мной осужден!.. — Мы не уйдем без визы! — Уже взведены курки, Но, как черные статуи, стоят впереди старики. — Мы не уйдем без визы! — говорят старики, Людскими глазами глядя в автоматов зрачки. — Мы не уйдем без визы! — твердят их мертвые рты, Когда уже автоматы пролаяли из темноты. Не отступив от слова, сами они не ушли — Их сыновья и внуки на плечах унесли. Но и начальник слово выдержал до конца. Сослан Воттун в оковах на добычу свинца. Говорят, он пишет оттуда, что будто бы попран закон, Что будто бы он невинен, что будто б зря осужден! Но говорят, что будто бы начальник все письма рвет И будто бы так и будет, пока начальник живет… Не знаю, как это будет, кто из них победит. В хижине у Воттуна племя его сидит. И чтобы огонь был вечным, в него всю ночь без конца То один, то другой бросает облитые гневом сердца! Пусть будет конец баллады занесен над врагом, Как палка упрямого дыма над вечным тем очагом!Хамид Алимджан ЛЮБОВЬ
Заглянул мне в глаза, протянул мне цветы, Приказал, чтоб держала их в сердце, на дне! И поверила я, что оставил мне ты Их в залог, что останешься жив на войне. Знаю — судьбы любви в руки смелым даны; Знаю — брошена молодость наша в бои; Знаю — долго по дымному небу войны Ветер гнать будет письма твои и мои. Помню, как ты спросил меня, глядя в глаза: — Будешь ждать меня, да? Будешь ждать меня, да? И в глазах твоих твердых мелькнула слеза. Не забуду ее никогда, никогда! Для чего же меня ты оставил одну, Когда я без тебя и дышать не могу! Мне в разлуке не жить. Я ушла на войну, За тобой, как огонь по степи, я бегу! Не по-женски тяжелою стала рука. В небе горькие флейты разлуки поют. Нам не видно друг друг — война велика! Может, так суждено, что нас порознь убьют? Я целую тебя через тысячи верст Прямо в губы далекие, прямо в глаза. Поцелуй мой летит над пожарами звезд, Над войной, над землей, где пурга и гроза. Свои губы навстречу моим протяни. Поцелуй твой летит через ту же пургу… Может, так и не встретясь, замерзнут они, Как две капли кровавых на белом снегу?Зульфия ЗАЦВЕЛ УРЮК
Хамиду Алимджану
«Зацвел урюк наш у окна» — Так ты писал, когда был жив. Урюк цветет. Живу одна, На сердце камень положив. О, если бы могли года Огонь разлуки погасить! В изнеможении сюда Пришла свиданья я просить. Протосковавши вечер весь, Опять в знакомый дом вошла, Одна заночевала здесь, Где я с тобой вдвоем жила. Рекой добра и теплоты Здесь наша молодость текла. Здесь счастье было. Здесь был ты. Здесь я тобой полна была. Здесь в доме каждый уголок Напоминает ночи те, И прежней песни уголек Нет-нет и вспыхнет в темноте. Здесь, глядя в милые черты, Притихнув, молча я ждала, Пока стихи допишешь ты И оторвешься от стола. В безрадостных своих ночах Запомню до седых волос, Как нежен был и величав Тот, с кем так мало жить пришлось. Горжусь, что ты писал при мне. Пусть каждая строка твоя Давно завещана стране, Но первой слушала их я. До смерти не забуду — нет! — Тех прежних, тех счастливых нас. Уже зарозовел рассвет, Так и не дав сомкнуть мне глаз. Твой голос как глухая боль: «Зацвел урюк наш у окна…» И со свидания с тобой Опять я ухожу одна.Мамарасул Бабаев
НОЧЬЮ НАД СТИХАМИ…
Всю ночь напролет костром горит моя голова, Мысли летят и гибнут, как в огне мотыльки, Прямо в душу мою бьют кулаками слова, Бьют, как в плотину волны набухшей ливнем реки. Я для начала пробую написать о любви. Бегут строка за строкою по бумаге бегом: «Руки твои… Губы твои… Брови твои…» Нет, не могу! Мне надо в эту ночь о другом: «Мы взяли воду за горло. Нам власть над ней по плечу! Глотай же ее, пустыня! Стань зеленой кругом!» Но нет, я и об этом, оказывается, не хочу! Будет и про пустыню. Но в эту ночь о другом: «Мама, милая мама, наконец не буду в долгу, Напишу о тебе, о самом мне до слез дорогом!» Но, написав две строчки, я чувствую: не могу! Нет, не могу! Я должен в эту ночь о другом! Так почти до рассвета костром горит голова, Мысли летят и гибнут, как в огне мотыльки, И бьют кулаками в душу неродившиеся слова, Бьют, как в плотину волны набухшей ливнем реки. Но наконец под утро, расталкивая слова, Мысль о войне и мире решает ночной спор: На плаху войны положена планеты голова, — Кто же из рук убийцы вырвет его топор? Позор моего молчания растет в глазах, как гора! Если не я, то кто же выйдет на бой с врагом? Через поля бумаги бегу со штыком пера: Сегодня только об этом — и ни о чем другом!ОРКЕСТР
В оркестре были мастера чудесные, Трудились, не крича про свой талант. Но бомбою замедленного действия Упал к нам с неба новый музыкант. Считая ожидания бесплодными, Он к славе побежал, не чуя ног, На голову, пустую и холодную, Спеша надеть хоть краденый венок. Он ловко путал музыку с клеветами, На каждого сажая по пятну. Он всплыть хотел, считая, что для этого Полезно всех других пустить ко дну. Мы поначалу даже не усвоили Всех перемен фальшивого лица, А тех, кто заподозрил, успокоили: — Ну что ж, одна паршивая овца… Нам надо было заниматься нотами, А он был так напорист, так речист, Что оказалось вдруг его заботами — Все в пятнах! Только он, как голубь, чист! Он, не создавший ни одной мелодии, Гремел, свергал, то «против» был, то «за»! И смешанное с подлостью бесплодие В конце концов нам бросилось в глаза. Чтоб он сошел с трибуны, настояли мы. Нет, мы не стали рук ему вязать! Напротив, подвели его к роялю мы, Но он, увы, не мог ни ноты взять!* * *
Чтоб оценить иные дарования, Их надо сдвинуть с их привычных мест. Мораль сей басни шире, чем название. «Оркестр» — при чем тут, собственно, оркестр?Аскад Мухтар
«Встал. Улица белым-бела…»
Встал. Улица белым-бела, У двери робкие следы… Зачем ты ночью здесь была? Мой дом сожгла. Меня сожгла. Чего под пеплом ищешь ты?«Чабан в горах, высоко от подножий…»
Чабан в горах, высоко от подножий, За облаком, в рожок поет незримо. А эхо вниз бежит и врет прохожим: «Неповторимо я! Неповторимо!»Из болгарской поэзии{21}
Димитр Методиев ОТКРЫТИЕ МИРА
Мой сын начинает ходить. Сам! Спотыкаясь и падая На ровном месте — просто от страха. Он плачет. А я поднимаю его и говорю преувеличенно строго: «Вот тебе! Что? Так и надо!» А он, совершенно счастливый, Отвечает мне тем же: «Вот тебе! Что? Так и надо!» Это мне-то, отцу! Как вам нравится это? И опять гнет свое, идет, растопырив руки. Мой сын научился ходить. Он уже вырос, да как! Сам открывает все двери И бесстрашно топочет по комнатам, Устрашая все наше семейство. Он врывается и бросает тарелку; Готово! — от тарелки — осколки! И от пластинки — осколки! А с книгой не вышло — она не бьется. Но зато она рвется, да еще как! Мой сын изучает мир. Крутит радио до отказа И бежит от звериного рыка, Лежащего в тихой коробке. Очень бледный, выглядывает из-за угла. Но как только мы выключаем, Он опять подбирается к ящику, Десять раз, двадцать раз, до тех пор, Пока это упрямое радио Не научилось включаться. Теперь они стали друзьями. А с печкой так и не стали; Она ненадежная — сама поманила теплом И сама же потом укусила. Он не любит таких, как печка! Подозрительно скрипнули двери, Мой сын привстает на цыпочки. Мы в тревоге! — он что-то задумал. Мы хором ругаем его: «Не суй в рот спички! Не дергай за шнур! Ручку на место! Слезай оттуда, Не лазай туда!» — И — шлеп по рукам! По любопытным, храбрым рукам! А он смеется — и тянет их снова. А он рыдает — и тянет их снова. А он вырывается из объятий И бегом! — оттуда, где можно, — Туда, где нельзя. Туда, куда мама не разрешает, Туда, куда папа не разрешает, Туда, где нельзя, Но где «интересно»! И только бабушка, моя мама, Ему потакает, ходит за ним Из комнаты в комнату, с места на место. И все говорит, говорит ему что-то, Как взрослому, равному человеку. А мне, как маленькому, объясняет: Вот так, сынок, и растут. Только так и растут..Константин Павлов ПАСТОРАЛЬНОЕ
Больше не буду злобным — Буду добрым. Среди врагов — боже, спаси их! — Выберу только тех, что под силу. Скажу: «Прощай!» — городу, Уйду на природу. Починю старый забор, Буду жить без забот Долго ли коротко — Тихо и кротко. Зимой кругом дома буду бродить. А летом — что-нибудь разводить. Вот только — что? — вопрос. Нет ни голубей, ни роз. Кругом, в бурьяне, — одни змеи. Ну что ж, имею то, что имею, Вместо голубей Разведу змей. Приручу их добрыми поучениями, А потом с мелкими поручениями Пошлю их в дома своих врагов…Из македонской поэзии{22}
Цане Андреевски МИР И МЫ
Мы смотрим на этот мир Глазами своей любви, Поэтому он красив. Мы строим этот мир Руками своих надежд, Поэтому он высок. Мы носим этот мир В ладонях своей доброты, Поэтому он широк. Мы будим этот мир Светом веры своей, Поэтому он чист. И даже когда он вдруг В грудь нам вонзит свой нож, Мы его не клянем; Мы, рану зажав, встаем, Чтоб выстрадать до конца Свою доброту к нему.Гане Тодоровски * ПОСЛЕ ОБЕДА
Сидим равноправные, Будда, Христос, Магомет, Я И моя жена. Болтаем про разное, Насчет галактики и планет. И о том, что если одна Из них окажется заселена, Какая же вера из трех будет занесена Туда, в Мирозданье, И получит преобладанье? Вторник, день, когда телевизор, слава богу, молчит. Так что для разговора — приволье. Дети посапывают, Младший немножко хрипит — Снова недолечили бронхит. Жена что-то гладит И утюгом недовольна… Трое пророков, без венчиков и сияний, Запросто с нами сидят, Ничего не пророчат, Не забегают вперед на опасные расстоянья. Может, в этом и мудрость их, Между прочим? Жене даю денег, Чтоб говорить не мешала пророкам. — Купи нам вина И сиди и ворчи там за дверью. А сам про них думаю: «Много ли проку В их разговорах? Вот уж сколько веков Все равно им не верим!» Услышав «вино» — Магомет облизнулся, Услышав «жена» — Христос поперхнулся. Услышав «деньги» — Будда проснулся. И только Маркс на стене Совершенно спокойным остался, Что ему до волненья Вдруг прикоснувшихся к жизни пророков? Он-то видел всегда Своим диалектическим оком, Что человеку не чуждо ничто человеческое.Радмила Трифуновска НОЧЬЮ, КОГДА ТЕБЯ НЕТ
Когда тебя нет, на кого, кому по ночам Оставляешь меня одну? Иконам? Четырех стен кирпичам? Собакам, лающим на луну? Умею не знать про тебя. Умею, на губы — печать, — Что дыму нет без огня. Но кому же, кому? Молча хочу кричать, — Кому по ночам оставляешь меня? Чужим улыбкам, которые в темноте Как удар ножом? Чужой доброте В доме чужом? Если б ты все знал! Если б ты все знал! Силой бы меня за собой гнал! За спину бы меня, как мешок, брал! Ни одной ночи, Ни длинней, ни короче, Ни зимней, ни летней, Ни первой, ни последней, Никакой ночи Ни разу бы у меня не украл!Валентин Тавлай ТОВАРИЩ{23}
(С белорусского)
(Поэма)
1
Сперва ему еще казалось, Что он решетки тут согнет, И жизнь его не умещалась За их железный переплет. Грудь молча стены обступали, О своды билась голова, А ноги на полу решали Все те же вечных — дважды два. Здесь перестал ты быть скитальцем, Здесь без оков одна душа; Тюрьма считает дни по пальцам, Их загибает не спеша. Покуда время еле-еле Ползет в тюремной тишине, Ты, как безумный, ищешь щели В непроницаемой стене. И каждый день однообразно, Увидев сторожа с судком, Ты пальцы сводишь от соблазна Его оставить под замком. И в каждую грозу ты снова Упрямо просишь дальний гром Испепелить твои оковы Багровых молний языком.2
Не бей об стену кулаками, С ней спор не выдержит рука, Кирпич века срастили в камень, И стал он крепок, как века. Но слушай, слушай! Непреклонно Пускай живет в твоих ушах Далекий, многомиллионный Шаг на московских площадях. И ты привыкнешь постепенно Ловить, как отзвук тех шагов, Шум наших дум, что через стены Идут в атаку на врагов. Не властны камень и известка Над нашею живой душой, Сквозь них с мадридских перекрестков К нам в камеры влетает бой. Пусть завтра карцер мой пустует, Но тем, что в ночь меня убьют, Сто камер словом: «Протестую!» — С утра пощечин надают.3
О прошлом вдруг нахлынут думы: Разлука с домом, пыльный шлях И слезы матери, угрюмо Так и застывшие в глазах. Асфальт расторгся под ногами, Распалась надвое стена, И ты неслышными шагами Все ходишь, ходишь дотемна. Не по тюремным серым плитам, Не по казенным злым камням, А по тропинкам, по забытым, Полынью пахнущим полям. С тобою рядом шляхом дальним Пылят жандармы с двух сторон, А сзади с шелестом печальным Березы отдают поклон.4
Ты к камере своей привязан, Ты выучил тюремный стук, Ты карцером пять раз наказан В алфавите за каждый звук. Ты понимаешь с полуслова Намеки через три стены, И запросто с тобою снова Товарищи со всей страны. Как старый политзаключенный, Ты можешь запустить «коня» — С запискою шпагат крученый — К соседу среди бела дня. Очередной доклад без сна Приняв по буквам терпеливо, Ты рад: какая перспектива Из камеры твоей видна! Тебя с взведенными курками Ведут на суд, чтоб срок додать, И ты, вернувшись, окнам камер На пальцах объясняешь: «Пять!»5
Франко готовит мавров к штурму, Чтобы Мадрид свободный взять, И пан министр Грабовский в тюрьмах Решил нас тоже штурмовать. Он двинул голод в наступленье На маленький Мадрид в тюрьме, Но мы пока в своем уме, Умрем, но не согнем колени. Был парень в карцер брошен снова, В мешок из камня, без окон. Наверх из карцера сырого С колючим кашлем вышел он. И сразу же к стене, и сразу Соседу выстукать спешит: «Как там франкистская зараза? Как держится там наш Мадрид?» Вплоть до тюремного обеда Лежал, стараясь не грустить, Потом у верхнего соседа Решил махорки попросить. Но у соседа нет махорки, Лишь в мыслях можно дым пускать И фалангистов на все корки С Грабовским заодно ругать.6
Сны о Мадриде над тюрьмою Тревожно к западу плывут. Душа болит? Крепись душою! Салют, Испания! Салют! Весь день с Грабовским он воюет, Но лишь отворит двери сон — С Интербригадой марширует Дорогою к Мадриду он. Но почему вдруг, словно связан, Нельзя рукою шевельнуть? Огромный марокканец сразу Сжал горло и налег на грудь… Очнулся весь в поту, усталый, В ушах еще орудий гром, А за окном уж засвистала Тюрьма своим беззубым ртом, Поднялся с койки: что за пятна? Шатнувшись, плюнул, поднял бровь, Еще раз плюнул — снова кровь. И больше не смотрел. Понятно.7
Ломая о решетки крылья, День все горел и не сгорал; Горшок с похлебкой остывал, Есть не хотелось — от бессилья. Взял книгу — буквы в ней горели. Листы пылали, как костер. Рукою дотянувшись еле, Он пересохший рот обтер. Кувшин в углу как будто рядом, Но, смерив пять шагов пути Пылающим от жажды взглядом, Он трезво понял — не дойти. Поднялся. Ухо уловило Знакомый стук, — припал к стене: То пулеметы слышно было, То крик «Камрадос!» в тишине. «Нет, не могу, пока прилягу, Пусть жар к утру перегорит. Малага ты, моя Малага, Высокий мой, родной Мадрид! Долрес, слушай, поскорее Скажи им — ни на шаг назад! Я встану, я еще успею К атаке всех Интербригад!»8
В бреду поднялся до рассвета И так стучал, в огне горя, Что за тремя стенами где-то Стук поднял с нар секретаря. Слез на пол секретарь усталый И нехотя к стене приник, Но эхо складывать вдруг стало Из мертвых букв пылавший крик: «И ждать… не в силах… Там сраженье., Там без меня… мой взвод стоит… Дай, секретарь, мне открепленье, Пусти… меня… на фронт… в Мадрид». «Наверно, парень шутит с нами, — Подумал секретарь. — Пускай», — И, улыбнувшись под усами, — «Согласен! — стукнул. — Поезжай!» Не понял, секретарь, не понял, О чем твой коммунист просил, Когда пылающей ладонью Он, умирая, в стену бил. Не сможешь завтра ты без боли Узнать, как недогадлив был, И вспомнить, чт ему позволил, Куда его ты отпустил…9
День занялся сырой, острожный, Как каждый день, свистел свисток, Впервые на поверку можно Ему не вскакивать с досок. В конторе принесенных мамой Уже не взвесят сухарей, И врач не проскрипит упрямо: — Здоров как бык, вставай живей! Сломались перед сердца силой Решеток сталь и стен бетон, Сквозь них из камеры постылой В Мадрид ушел сражаться он. Мамуся, родна мати, мама! Сто раз оплачь, но не забудь Фигурку хлопца, что упрямо Ушел из хаты в этот путь. Ушел, тебе оставив слезы, Ушел, чтоб не вернуться к нам Ни к Белоруссии березам, Ни к тихим матери рукам. На нарах, грязных и холодных, Лежит он телом, где упал, А сердцем на ветру походном Пылает с пиренейских скал!Эдуардас Межелайтис{24}
(С литовского)
ГОЛУБОГЛАЗАЯ СКАЛА
1
Дом в стороне стоит в тени деревьев и веков. Нейлоновый спектакль сюда еще не вторгся. Со старых стен, из старых рам дубовых струятся настоящие ручьи, и настоящие дороги выбегают из настоящих желтых и зеленых полей, и, распирая рамы, вылезают плечистые американские деревья. А книги, как ученики, опаздывая в школу, бегут, бегут по длинной книжной полке… А в стене не торопясь горит очаг, зажженный в прошлом веке. И отблески огня, как маленькие рыжие собачки, то бегают по черным кирпичам, то к старому хозяину прижмутся и лижут ноги. Вот и все.
2
Он подает, как высохшую ветвь, свою большую морщинистую руку. Она чуть-чуть дрожит, но в этой дрожи — не старость, а усталость от работы. Да, небоскребы задавили «Листья травы» и грубо встали между деревьями и солнцем, между птицами и солнцем. Да, там, на этом стоэтажном камне, не свить гнезда, не высидеть птенцов. И ветру не под силу втащить на эти крыши семена трав и деревьев. Но поэт и в этих черных городских потемках своим морщинистым и чутким ухом слышит и песню птицы, и шуршанье ростка, сверлящего листочком землю, и голос снежной вьюги, далекий, дикий, не обработанный ни в чьем оркестре.
Его глаза сквозь частокол скребущих небо зданий видят, то здесь, то там, полоску голубого сада с несорванными яблоками звезд. И он, когда захочет, ходит сам по голубому собственному саду.
3
Смотрю ему в лицо и вижу скалу, всю в трещинах. Горит очаг. И отсветы его косым вечерним солнцем освещают скалу над морем, трещины в скале. Из трещин смотрят добрые, простые, голубые глаза — два голубых цветка в расщелинах седого камня. На камне — два густых колючих завьюженных метелью куста бровей, а из-под них видны две проруби во льду, две голубые, в которых купаются, друг другу не мешая, вечернее сегодняшнее солнце и молодость, минувшая давно. Два голубых наивных детских глаза, глухой и сильный голос — Роберт Фрост.
4
— Я в молодости девушку любил, — как детям сказку начинает он, — мы встретились под яблоней весной. И я ее поцеловал. Но птица, сидевшая на яблоне, сказала: «Роберт! Что ты творишь, чем ты вознаградишь ее за сладость поцелуя? Раз больше нечем, спой ей песню, что ли! Кто знает, если повезет — поймет!» Вот именно тогда я и сложил ту песенку на птичьем языке, с которой все потом и началось.
Так говорит он о своем начале, сам улыбаясь над своим рассказом.
5
Как тихо… Только шелестит очаг, переворачивая времени страницы. Огонь домашний теплыми руками касается морщин, проводит пальцами по руслам пересохших ручьев, где пот струился — всю жизнь, а слезы — тоже иногда текли, наверно, может быть, кто знает… Потом очаг в лицо хозяину бросает два быстрых блика, и они ответно пляшут в двух очажках под серыми бровями. Уже девятое десятилетье они упрямо, весело не гаснут на этом добром каменном лице.
6
О, эти огоньки в глазах! Как много в глазах людей — погасших очагов, засыпанных и выстланных деньгами. Как часто, глядя в эти неживые глаза, я вижу там, на дне их пустоты, зеленое долларовое пламя. А у поэта просто есть глаза, есть старые бесценные глаза, которых в банке не заложить и в сейф не спрятать. Да, если так считать, то Роберт Фрост — крупнейший капиталист на этом континенте. А я считать иначе не научен: душа поэта — золотой запас, который не меняют на бумажки. И есть ли еще золото другое — я не уверен. Если не считать мерцания падающих с неба звезд.
7
Поэт читает, глядя на огонь, стихи о человеке и дороге. Он в тех годах, когда уже не шутят, произнося слова: конец дороги. Он говорит их весело и просто, как будто видит там, за горизонтом, стихи, идущие своей дорогой, гораздо дальше жизни человека.
Над океаном, не сдвигаясь с места, трудолюбиво разбивая волны, вся в трещинах, в расщелинах, в морщинах, стоит Голубоглазая скала.
ГОЛУБОГЛАЗАЯ СКАЛА. ЕЩЕ РАЗ
1
Вблизи Ниагары я видел недавно Скалу, с голубыми глазами. Они голубели из каменных трещин, когда, прислонившись к камину, поэт Роберт Фрост читал нам стихи.
Я об этом писал. Я считал, что мы больше не встретимся: Скала уже старая, море жизни подгрызло ее. А планета так велика: полушарие дня, полушарие ночи… И дорог туда и обратно так много, что повторные встречи исключены.
Оказалось, что — нет! Она меньше, чем думаем, эта планета. И поэты встречаются на ее перекрестках везде, где, выбирая дорогу, в раздумье стоит человек.
2
Друг позвонил мне в Москве, вечером, в номер гостиницы: «Эй, что вы там? Лежите, обложенный книгами по Латинской Америке? Собираетесь утром лететь? Но пока еще вечер, приезжайте в кафе «Аэлита». Мы принимаем там Фроста! Да, вот именно. Нет, не ослышались. Да, прилетел. Да, Седая скала влезла по трапу за океаном и вылезла здесь. Да, представьте себе, он рискнул. Приезжайте!»
3
В молодежном кафе «Аэлита», как в маленьком космосе, за стаканом вина сидит моя Старая голубоглазая потрескавшаяся скала. А в нее, как зенитки, уперлись стволы фотокамер — целая армия «Луков», «Лайфов» и «Таймсов». Они атакуют Скалу, но не могут добиться успеха. Дело в том, что Скала настроена миролюбиво. Голубые глаза в ее каменных трещинах испаряют добро, а не яд. А для этих зениток добро не годится, добро не фотогенично. Саксофоны смеются над неудачей зениток, а Скала, улыбаясь из трещин голубыми глазами, сидит в молодой толкучке поэтов, пьет вино (немножко) и кофе (тоже немножко).
4
Почему бы Голубоглазой скале не сидеть сейчас, на закате, у огня и не греться в отблесках собственной славы? Что ему еще нужно — этому старому сердцу? Почему не лежит на подушке эта белая старая голова? — Мои глаза не желают закрыться, пока не увидят, что будет с нашей планетой. Мои старые глаза, мои старые уши, мое усталое сердце имеют право знать правду: сгорит ли наша земля в своем собственном пламени? Или будет жива? Мне нужен ответ, ясный и точный. Только после него я согласен остановить свое сердце. Тот, кто владеет музыкой слов, и только всего, — тот еще не поэт. Настоящий поэт привык добираться до сути. А суть — судьба человека.
5
— Мне бы хотелось, чтоб и наши, и ваши сели вместе в корабль и полетели к луне! — говорит кто-то из нас за столом. Из каменных трещин испытующе, молча смотрят голубые глаза. — А не выйдет ли так, что в один день, далеко не прекрасный, мы все вместе отправимся на луну? — Да, я, кажется, не ошибся, именно эту тревогу я читаю в глазах моей знаменитой Скалы.
6
Нет. Так не будет. Будущий мир поет и танцует здесь, в «Аэлите», и от всей души рукоплещет Голубоглазой скале, когда он, согласившись на просьбы, мощно и низко гудит в микрофон свои гранитные традиционные строфы. Будущий мир пишет жизнь на своих веселых полотнах, пишет жизнь черновиками стихов, нотными знаками, пишет жизнь, а не смерть. И если Седое столетье пересекло океан, чтобы лично проверить своими голубыми глазами — что тут варят у нас, жизнь или смерть, то наш будущий мир отвечает ему на этот вопрос голубыми глазами своих космонавтов. И я вижу, как на граните Голубоглазой скалы одна за другой исчезают морщины тревоги и Скала глубоко, облегченно вздыхает.
7
А потом мы сидим у моего старого друга за ужином дома. И Скала дрожащими пальцами держит красный большой помидор и любуется солнечной силой этого шара земного. А потом наступает очередь яблока. Скала его тоже берет и тоже любуется им. Где-то там, в лабиринтах души, он находит себя молодого и уносит туда, в свою молодость, это яблоко и помидор. Он старик, и они для него давно несъедобны. Но их цвет, их земная округлость все равно еще радуют душу.
8
Мой друг приглашает покурить после ужина. У него в кабинете на большом рабочем столе, как после прибоя — горы кусков разных пород, отполированных морем. Мой друг упирается трубкой в меня — он гостил этим летом у моего Янтарного моря, он все это нашел на наших северных дюнах. Дрожащие руки Голубоглазой скалы медленно роются в этом деревянном богатстве.
9
Здесь обрубки деревьев, и ветки, и корни. Старый скульптор — Янтарное море их долго качало, и мыло, и терло о северный мелкий песок, постепенно из них вырезая то головы птиц длинноклювых, то оленьи копытца, то крылья, то макеты ракет, то курчавую бороду бога… Мой друг предлагает Голубоглазой скале что-нибудь выбрать на память. И Скала выбирает. Долго колеблется, думает, вертит и наконец поднимает странный кусок дерева, сразу похожий изгибом и на крыло, и на серп.
10
Что ж, выбор удачный. Тень птичьих крыльев — всю жизнь на дороге поэта. Я вдруг вспоминаю, как там, в его доме, у его очага, он говорил нам, как написал свою первую песню, как целовался под яблоней с девушкой и птица, сидевшая где-то в ветвях над их поцелуем, сказала: «Роберт, что ты творишь? Чем ты вознаградишь ее за поцелуй? Спой ей песенку, что ли!» Вот тогда он и спел свою первую песню. Птица — крылья поэта. Птица — модель самолета. Птица — прообраз ракеты. Птица нас подбирает с земли, чтоб забросить на звезды. Птица — всегда и везде, с детства до смерти. Песня без птицы — как жизнь без движенья. Другое дело, что крылья под старость устают… Глубоко уйдя в свои мысли, он в конце концов выбирает на память именно птичье крыло.
Через весь океан, к Ниагаре, в кармане Голубоглазой скалы улетает это птичье крыло, над которым так долго трудилось мое Янтарное море. Добрый путь! Добрый путь! Настоящий поэт — это земля под ногами, звезды над головой и птичье крыло в каждой песне.
P. S. Когда я перечитывал свою путевую книжку, пришло известие: умер Роберт Фрост. Океан жизни все-таки сделал то, к чему долго стремился, — подточил гранитные корни моей Голубоглазой скалы. Умирать бывает труднее и легче. И наверное, все-таки легче, убедившись, что наша планета будет вращаться и человек будет жить. Пусть великому старому человеку будет пухом земля двух полушарий планеты.
Баграт Шинкуба «Пьют за долгую жизнь мою!»{25}
(С абхазского)
Пьют за долгую жизнь мою! А я, словно не понимаю, Со стаканом в руке стою И — весенний лес вспоминаю: Тянет к небу стволы весна, Ствол мужает и раздается, И кора для него — тесна, И коре — опасть остается. Если я вдруг стану корой, Тесной для моего народа, Пусть он сбросит меня долой И растет, как велит природа. Опаду у его корней, Стану почвою, перегноем, Помогу и смертью своей Ему вырасти надо мною.Мустай Карим СНЕГ ИДЕТ…{26}
(С башкирского)
Третий день подряд идет мокрый снег, Мне невмочь уже третью ночь — Стонет старая рана, как человек. Третий день подряд идет снег. Третьи сутки осколок в теле моем Бродит, тычась то тем, то другим углом, Словно выхода ищет и не найдет. Третий день подряд снег идет. Снег идет… Я не знаю — тело ль мое болит, Сам осколок ли болью стал? Он был в Руре выкопан и отлит, А потом на Днепре был в меня зарыт, Этот ставший миной металл. Было два их, — пишу, чтоб запомнил сын, — Два осколка мины одной; Фомина в могилу унес один, Я на память в теле унес другой. Ноет рана моя двенадцатый год. Третий день подряд снег идет. Снег идет… Снег растает и станет вчерашним днем, Превратится зима в весну, Но железный осколок в теле моем Не растает, пока я помню войну!Расул Гамзатов{27}
(С аварского)
«Снова сбросила холод седой земля…»
Снова сбросила холод седой земля, В теплом воздухе ветками шевеля. Зеленее зеленого тополя. А мы с тобою — седеем. Море, после того как прошла гроза, Голубей голубого, как бирюза, Голубей, чем когда-то твои глаза. А мы с тобою — седеем. На заре, хоть сама, как вечность, стара, Розовее розового гора. Ей — чернеть по ночам, розоветь — с утра. А мы с тобою — седеем. А нам с тобою не зеленеть, Не голубеть и не розоветь. Мы не гора, не море, не ветвь. Мы люди — и мы седеем.«Вот и темнеть еще раньше стало…»
Вот и темнеть еще раньше стало, И по утрам рассветает туго… У дня и ночи одно одеяло, Они его стаскивают друг с друга. Зимние ночи, зимние ночи, Я не прошу вас стать покороче. Пусть мои мысли станут длиннее, Жизнь — очевидней, и смерть — виднее. Про жизнь: я думаю, что как надо Идет она — в вечных трудах и драках. И смерть, я думаю, мне в награду Придет, не подав заранее знаков. Не опасаясь нежданной встречи, Живу, не боясь во все горло гаркать. Свечу, как могу! Если люди — свечи, — Не обязательно стать огарком.НАДПИСЬ НА КАМНЕ
Я б солгал, не сказав, сколько раз я страдал, На Гунибе стоял с головою поникшей, Видя надпись: «На камне сем восседал Князь Барятинский, здесь Шамиля пленивший…» Для чего этот камень над вольной страной, Над моею советской аварской землею, Где аварские реки бегут подо мной, Где орлы-земляки парят надо мною? Я к реке, чтоб проверить себя, припаду Всеми струями — струнами всеми своими. Мне вода столько раз, сколько к ней подойду, Прошумит Шамиля незабытое имя. Нет вершин, где б он не был в ночи или днем, Нет ущелий, куда б он хоть раз не спустился, Нет такого ручья, чтобы вместе с конем После боя он жадно воды не напился. Сколько кровью своей окропил он камней, Сколько пуль рядом с ним по камням просвистало! Смерть с ним рядом ходила, а он — рядом с ней, И она все же первой устала; Четверть века ждала, чтоб он дрогнул в бою, Чтоб от раны смертельной в седле зашатался, Чтоб хоть раз побледнел он и, шашку свою Уронив, безоружным остался. Эту шашку спросите об этой руке! О чужих и своих несосчитанных ранах! Быль и сказка, сливаясь, как струи в реке, Нам расскажут о подвигах бранных. Дагестан, Дагестан! Почему же тогда Тот, чье имя России и миру знакомо, Здесь, на скалах твоих, не оставил следа, Почему о нем память — лишь в горле комом? Почему на камне лишь имя врага? Неужели тебе сыновья твои чужды? Неужели нам ближе царский слуга, Что заставил их бросить к ногам оружье, Что аулы твои предавал огню, Царской волею вольность твою ломая? Пусть стоит этот камень. Я его сохраню, Но как памятник я его не принимаю! Я б солгал, не сказав, сколько раз я страдал, На Гунибе стоял с головою поникшей, Видя надпись: «На камне сем восседал Князь Барятинский, здесь Шамиля пленивший…» Я проклятый вопрос домой уношу. Дома Ленин глядит на меня с портрета. «Товарищ Ленин, я вас прошу, Ответьте: разве верно все это?» И чудится мне, — прищурясь, в ответ На этот мой вопрос откровенный Ильич головою качает: «Нет, Товарищ Гамзатов, это неверно!»Кайсын Кулиев «Ноги у печали стали черные…»{28}
(С балкарского)
Ноги у печали стали черные; Шла она босой по неживым Пепелищам, по жилищам взорванным, По снегам войны пороховым. Руки у печали стали черные; Рылась она в пепле и золе, Отгоняла от убитых воронов, Предавала мертвецов земле. Платье у печали стало черное; Слишком долго с нами она шла Той дорогой, где по обе стороны Сыновей обугленных тела. Люди, дайте отдохнуть печали, Дайте руки, ноги ей обмыть. Дайте хоть теперь! Раз мы в начале Не смогли ее остановить.Назир Хубиев ЛАВИНА{29}
(С карачаевского)
Как лавиною, все мое детство С головой завалило войной. Помню — бьет пулемет по соседству, Всадник падает рядом со мной… До сих пор, когда скрежет лавины Среди ночи поднимет меня — Все мне кажется: руки раскинув, Там в горах кто-то рухнул с коня.Зайндин Муталибов ПИСЬМО{30}
(С чеченского)
Мне нужны твои письма, как хлеб, как оружье, Как решимость подняться над страхом своим. Я такой же, как все. Я не лучше, не хуже. Только письма твои — мне нужны, а не им. Ночь посеяла в землю бесплодные зерна металла, Чтоб с рассветом они дымом нового боя взошли. Я сижу в блиндаже, я пишу тебе это устало Не из дома, как раньше. Не с земли. А из-под земли. Лягу срезанным колосом в утреннем поле железном Или до ночи буду идти сквозь железо — живой? Это знать не дано. А гадать бесполезно; Но пока, до рассвета, я все еще твой. Не тоскуй. Я и так за двоих нас тоскую, За два тела воюю и за две души. Эта ноша тяжка. Но я выбрал такую. Только письма пиши мне. Пиши мне. Пиши.Доржпалам{31}
(С монгольского)
«Если пуля тебя ранит…»
Если пуля тебя ранит, Только ранит — не убьет, — Эту рану врач зашьет, И она болеть не станет, Пока дождик не пойдет. Если друг тебя обманет, Не убьет, а только ранит, Только в сердце попадет, — Время рану не затянет, Врач иголкой не зашьет.«Ходит смерть круг за кругом…»
Ходит смерть круг за кругом, Рвет сердца и аорты… «Был он другом, был другом», — Повторяем про мертвых. Но приходится туго, — И смертельное слово: «Был он другом, был другом…» Говорим про живого.Назым Хикмет ВЫЙДЯ ИЗ ТЮРЬМЫ{32}
(С турецкого)
Утро
Ты проснулся. Где? Дома. Но дома отвык просыпаться ты. Верный признак тринадцати лет, Проведенных в тюрьме. Кто лежит с тобой рядом? Одиночество? Нет, жена. Она Спит, как ребенок. Как идет ей беременность! Сколько времени? Половина шестого, — Вы знаете, что до вечера Беспокоиться нечего. Есть полицейское правило — Засветло не арестовывать.Вечерняя прогулка
Ты вышел из-за решетки тюремной. Ты вышел. Вы вместе. И жена твоя беременна. Взяв тебя под руку, Она гуляет с тобой По кварталу. И легко, словно даже и не устала, Несет свою священную тяжесть. Ты горд собой и ею горд. Вечерний город Остывает, как будто пальцы ребенка озябли, И кажется, надо Взять и согреть в ладонях эту прохладу. Коты квартала у дверей мясной сошлись, как поклонники. А на втором этаже, грудью на подоконнике, Жена мясника, завитая, скучая и тая, Вечера созерцает картину. Небо чисто. Как раз там, где его середина, Первая вечерняя звезда Блестит, как налитая в стакан вода. В этом году бабье лето. Абрикосы уже пожелтели, А инжир еще зелен. Дочь молочника Георгия с наборщиком Ахметом Вышли гулять, и в тени пальцы их сплетены, И ты видишь это. В бакалейной лавчонке Сурена загорелись огни. Он армянской резни не забыл. Он убийцам отца не простит до конца, до смертной черты. Но он любит тебя, потому что и ты Не простил тех, кто помог На лбу Турции выжечь это клеймо. Все чахоточные квартала, те, что уже не встают, Смотрят на вечер сквозь стекла. В кофейне — пьют, а около Можно видеть печальную спину безработного сына прачки Фатьмы. Радио Осман-бея передает вечерние известия, И ты с женою вместе попадаешь в Корею, Где желтолицые люди сражаются с белым драконом И куда грязным законом загнаны четыре тысячи Ахметов, Чтобы убивать своих братьев. Ты багровеешь от гнева, слушая это, И от бессилья вернуть их обратно. И печаль Не вообще, не чья-то, какая попало, А именно твоя собственная Беснуется со связанными руками, как будто жену твою толкнули так, что она упала При тебе животом на камень. И ребенка уже не будет. Или как будто тебя опять судят, И снова в тюрьме, за решеткой, перед твоими глазами По суткам Крестьяне В жандармских куртках Бьют просто крестьян. Свалилась ночь. Пора и домой, Полицейский автомобиль, пахнущий тюрьмой, Дотерпев дотемна, выезжает из-за угла, светя на камни. — Не к нам ли? — шепчет жена.Час ночи
На синей домотканой скатерти Облюбовавшие для жилья наш дом Наши храбрые книги стоят с открытым лицом, Не желая ни трусить, ни лгать. О моя мать! Я вернулся домой Из-за крепостной стены, построенной, чтобы нас сломать, Врагами нашей страны в сердце моей страны. Час ночи. Мы не гасим света. Рядом со мной лежит жена. Она беременна. Это Пятый месяц знаем я и она. Но мне все еще не верится. И вот я кладу руку на ее живот И слушаю, как ребенок все шевелится и шевелится: Листок на ветви деревца, Рыбка в струе ручья, Ребенок во чреве. Мой ребенок! Мать моя для моего ребенка Связала розовую распашонку, Она такая крошечная, что страшно трогать, — В мою ладонь вся длина, А рукава — вот такие, с ноготь! Я хочу, если это будет девочка — Так чтоб в мать, с головы до ног! А если мальчик — чтоб ростом с меня, чтоб со мною сравняться мог. Мой ребенок! Если это будет девочка, — чтоб была кареглазой, красивой. А если мальчик — пусть просто взгляд будет синий. Мой ребенок! Я не хочу, чтоб моего ребенка в двадцать на войне убивали, Если это будет мальчик. А если девочка — я не хочу, чтобы бомбы рваться Стали ночью над ней, погребенной в подвале! Мой ребенок! Мальчиком или девочкой, кем бы он ни был И до скольких бы он ни дожил лет, — Я не хочу, чтоб от него тюрьмой закрыли небо Только за то, что он за мир! за правду! за свет! Но я знаю, что если запоздает то, что люди зовут рассветом, Ты должен, ты будешь бороться, каким бы тебе ни грозили концом. Да, как видно, сейчас нелегкая должность эта, Должность — быть отцом. Час ночи. Мы не гасили огня. Я прислушиваюсь. Может, через минуту, А может, под утро Они выберут миг, ворвутся в мой дом и уведут меня В храброй компании наших книг. И в кругу полицейских, готовых ринуться, Все-таки я повернусь и увижу с дороги, Как моя жена стоит на пороге, Как колышется платье ее и лицо ее светится, И как в ее животе, тяжелом от материнства, Мой ребенок шевелится и шевелится.Рождение
Его мать родила мне мальчика. Мальчик белокурый, безбровый, дышит тепло Светящийся шар в голубых пеленках — И весит три кило. Когда мой мальчик родился, Родились дети в Корее, Похожие на подсолнечник, но рука Макартура срезала их поскорее, Пока они не попробовали материнского молока. Когда мой мальчик родился, Родились дети в застенках Греции. Их отцов убили, Решетки были первым в мире, На что им дали смотреть И около чего греться. Когда мой мальчик родился, Родились дети в Анатолии, Они были синеглазые, черноглазые, кареглазые. Но вши их покрыли сразу. И я не знаю, со сколькими из них Случится чудо — остаться в живых. Когда мой мальчик родился, Дети родились в самой великой стране И окунулись в счастье, которое Дать всем детям хотелось бы мне. Когда моему мальчику Будет столько лет, сколько мне, Я умру. Но земной шар уже сможет Стать огромной колыбелью с шелковой постелью, Где будут наравне баюкать всех детей всех цветов кожи!Юлиан Тувим{33}
(С польского)
«Я крохи юности собрал…»
Я крохи юности собрал. Что ж, птицам их швырнуть? Иль, может, их в слова вложив, пустить слова летать? Слова и птицы улетят и, завершив свой путь, — Ко мне обратно, тут как тут, и будут снова ждать. А что им скажешь? Больше нет крох юности моей? Поверят? Нет! Начнут кружить, как мертвая листва, Крылами в стекла будут бить, и у моих дверей, Оставшись верными, умрут и птицы и слова.ОПЕЧАТКА
В жизнь мою закралась опечатка, Путаница в тексте на виду, — Требуется авторская правка: От рожденья на сороковом году, На каком от смерти — неизвестно, Автор просит все исправить вновь — В тексте вместо слова «безнадежность» Следует опять читать «любовь».Витезслав Незвал{34}
(С чешского)
БАЛЛАДА О НАДЕЖДЕ
Я не любитель по аллеям шаркать, Не коротатель вечеров в кино. Я, старый мастер, знаю: в мире жарко, Ему грозит авария давно! Вы думаете: взрыв еще не скоро, Успеете нажать на тормоза? Нет, мир проскочит ваши семафоры И у людей откроются глаза! Вы нас боитесь! И хотя не тронут Еще ваш мир рабочею рукой, Уже вы порох сыплете в патроны, Ночей не спите, потеряв покой. Вы птицы невысокого полета, Вам страшно знать, что где-то спит гроза. Но час пробьет — и гром начнет работу И у людей откроются глаза! Хочу, чтоб вам досталось на орехи, Чтоб даже дух ваш вымело дотла! Чтоб вы, поджав хвосты, меняя вехи, Раз навсегда узнали, чья взяла! Мы — мастера угля, железа, хлеба, Решают дело наши голоса. Мы выйдем в блузах голубых, как небо, И у людей откроются глаза! Ремонт земли начнем мы без наряда, Сойдемся и поднимем руки «за»! И сделаем на совесть все, как надо, И у людей откроются глаза!БАЛЛАДА О БЕЗРАБОТНЫХ ТОВАРИЩАХ
Часы на что безупречные — И то вдруг что-то сломается! А мы — как студенты вечные, Нам век без работы маяться. Земной поклон демократии За наши дни беззаботные! Пью за вас, мои братья, Товарищи безработные! Нам горе идет с процентами, И нет конца этой повести, А можно бы стать доцентами, Будь у нас меньше совести. Но, к счастью, нам всем не нравятся Предательства руки потные. Пусть старый мир нами давится, Товарищи безработные! Мы любим людей трудящихся, Во сне и строим и пашем мы, Мы не в числе садящихся На шею народу нашему; Презираем сытые морды их, Проповеди их рвотные, Мы, голодные, гордые, — Товарищи безработные! Вряд ли им с нами справиться, Загнать из людей в животные. Нам слишком людьми быть нравится, Товарищи безработные!«Наконец уезжаю. Последний свисток…»
Наконец уезжаю. Последний свисток. Если б мир был вот этим вокзальным плакатом, Я швырнул бы его, как ненужный платок, Что слезами закапан и в катыш закатан. Словно рыба, долиною слез поплыву… Может, позже я в этом сравненье раскаюсь. Но под молнией, падая камнем в траву, Даже птицы порой говорят заикаясь. Высыхает платок, заслоняя собой города. Мы под ними весь день по туннелям свистели. Если б так вот и смерть, как черный туннель в никуда: Пролетел — и проснулся в незнакомом отеле. Ты любил ее, да? Так не бойся разлук, Пусть она, а не ты, если вздумает, плачет. Смерть любви — как прыжок без протянутых с купола рук. Но ты выжил в тот день, хоть он смертью был начат.ПРОЩАЙ!
С богом![7] Прощай! Как ни странно, мы оба не плачем. Да, все было прекрасно! И больше об этом ни слова. С богом! И если мы даже свиданье назначим, Мы придем не для нас — для другой и другого. С богом! Пришла и ушла, как перемена погоды. Погребального звона не надо — меня уж не раз погребали, Поцелуй, и платочек, и долгий гудок парохода. Три-четыре улыбки… И встретимся снова едва ли. С богом! Без слов — мы и так их сказали с избытком, О тебе моя память пусть будет простой, как забота, Как платочек наивной, доверчивой, как открытка, И немножко поблекшей, как старая позолота. С богом! И пусть ты не лжешь, что меня полюбила Больше всех остальных… Все же легче нам будет в разлуке. Пусть что будет, то будет! Что было, то было… И тобою, и мной к новым судьбам протянуты руки! С богом! Ну что ж! В самом деле! Ну да, в самом деле. Мы не лжем, как врачи у постели смертельно больного. Разве мы бы прощались, если б встретиться снова хотели? Ну, и с богом! И с богом!.. И больше об этом ни слова!ИЗ ЦИКЛА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
«В мае, месяце зеленом…»
В мае, месяце зеленом, От чужих краев устав, Я вернулся в них влюбленным, С добрым словом на устах. Не годясь в ханжи и судьи, Я чужое не кляну, Но, конечно, полной грудью Только дома я вздохну; Только дома, где отрадно, Что друзья повсюду есть, Где туда или обратно В каждый поезд можно сесть!«Вот и унесся, как гонщик…»
Вот и унесся, как гонщик, Мчавший нас синий экспресс! В узкоколейный вагончик Я по-домашнему влез. Сел на диванчике низком, Все мне знакомо кругом. Медленно, с визгом и писком, Тащит нас старый вагон; Весело выкрашен желтым, Словно домашний комод. Бабка в нем едет с кошелкой, С хрустом рогалик жует; Едут в корзинках продукты, Пахнет парным молоком. Шляпу приподнял кондуктор, Словно со мною знаком… Кто-то гадает невесте, Кто-то роняет слезу… Сердце мое не на месте, Сердце домой я везу.«Еду цветущим краем…»
Еду цветущим краем И слезы лью без вины. Сиренью, сломанным маем, Часовни полным-полны. Кого-то мучают вины, Душит фальшивый смех. А я в слезах без причины, Безгрешно плачу при всех. Не знаю… А впрочем, знаю: Разлука долгой была, Ты, чешская речь родная. До слез меня довела!КАТАФАЛК
Снова за стеною до рассвета Стуки молотка, Словно заколачивают где-то Кости бедняка, Звезды виснут на ветвях дубовых. До земли их гнут. Мимо дома этой ночью снова Черный гроб везут. Потеряв о времени понятье, Бьют всю ночь часы, Словно безъязыкое проклятье, Где-то лают псы. И, вскочив, как от удара палки, Я к окну встаю… Там везут на черном катафалке Родину мою.ЗНАМЕНА ДЕВЯТОГО МАЯ
Небо, небо — цвет свободы, Цвет лазури и победы, Все в цветах, в пыли и в песнях Танки, танки пролетают! Окна улиц повернулись И бегут за ними следом. Прага, Прага, наконец-то Ты свободна, Золотая! Я влюблен в тебя в такую, Мы такой тебя забыли. Пусть еще стреляют немцы Из подъездов и подвалов, Но железом и камнями От разрушенных бастилий Мы с тобою вместе, Прага, Их накормим, как бывало! Возле танков, где на башнях Едут пыльные мессии, У домов, еще звенящих Ранеными зеркалами, И в глазах, где, пролетая, Отражается Россия, Сбросив путы полонянки, Прага пляшет вместе с нами!ПАРИЖ БЕЗ ПОЛЯ ЭЛЮАРА
В Париже пасха. Весна, воскресенье. Сена тащит под мост облака. Я иду по весеннему парку. Среди перевернутых стульев И оттаявших статуй Я ищу тебя! Я прошу Париж мне помочь. Но он в это время безлюден, как кладбище утром. Я иду по нему, как слепец, опираясь на палку рассвета. Я ищу тебя всюду и вдруг замечаю, Как на чьем-то лице промелькнет Твоя чуть надломленная улыбка. Я беру этот милый весенний денек Не в свои, а в твои немножко дрожащие пальцы И любуюсь им вместе с тобой. Вон деревенские женщины… Они знают Париж еще хуже меня И идут по нему, словно Красные Шапочки, Дай им бог не встретиться с волком. Если правду сказать, я и ночью искал тебя. Но Париж мне ответил, что Поль Элюар Больше здесь не живет. Что за странный ответ… Ты ведь сам был Парижем! В каждом городе есть перекрестки братства, Мы на них встречались с тобой, Помогая вздувать над землею флаги Цвета воздуха, Цвета глаз твоих синих. Я обнимаю тебя, Элюар, И твой Париж обнимаю. Я опять нахожу в нем тебя, Твою боль, твою нежность, твое дыхание, Твою память и твой Понемногу слабеющий, Уходящий из памяти голос. Вон по Сене плывет пароходик воскресный… Мне сейчас показалось, что ты Тоже так вот уехал И к вечеру будешь…ВЗДОХ
Желтый лист над палаткой моей пролетел, Жаль всего, что ушло и уходит от нас. Жаль, что дождь и что осенью жизнь без прикрас, Жаль тех книг — я прочесть их когда-то хотел, Жаль тех синих, теперь уже выцветших, глаз.МЕЧТАЮ…
Мечтаю, чтоб мир был с войной незнаком, Чтоб он и без крови был ярок! Стихи мои пейте, как чай с молоком, Я чашки пришлю вам в подарок! Мечтаю, чтоб мир, как подвал гончара, Пел глиняным дружеским хором. Стихи мои весело ешьте с утра С тарелок с моравским узором. Но если покоя нам рано просить И мир еще полон тревогой, Стихами моими не грех закусить До боя и перед дорогой. И если придется ремень потесней Стянуть среди временных тягот, Пусть хлебом и сахаром, тем, что нужней, На стол к вам стихи мои лягут. Мечтаю, чтоб свет над землей не потух, В стихах говорю свое мненье, Я родину утром бужу, как петух, Мне нравится это сравненье!НАДПИСИ В ЗАЛЕ КРАСНОЙ АРМИИ В МАВЗОЛЕЕ НА ГОРЕ ВИТКОВ В ПРАГЕ
1
Друг мой, бдителен будь на земле, под которой я стыну! Право требовать это я смертью в бою заслужил. Я ушел на войну. Я убит в день рождения сына. Я убит — чтоб он жил. Я убит — чтоб ты жил.2
Человек! Я хочу, чтоб с войною повенчан ты не был! Чтобы кровь моя самой последнею кровью была! Я, объятья раскрыв, как свобода, летел к тебе с неба, Парашют мой сгорел, но свобода — пришла!3
Когда пушки мои говорили с врагами как судьи, Когда мир содрогался в хрустящих объятьях войны, Догадайся, о чем я мечтал у лафета орудья? О цветах полевых. Об улыбке жены.4
Хочешь знать, почему мы навеки великими стали? Почему нас враги ни согнуть, ни сломить не могли? Нас никто никогда не ковал из железа и стали, Превратила нас в сталь цель, к которой мы шли!5
Побеждая, я умер. Я мост наводил через реку. И по мне, как по мосту, взбежала победы заря. Если пал человек, чтобы жизнь сохранить человеку, Значит, верно он жил. Значит, умер не зря.6
Если горе войны среди ночи придет к тебе на дом, Если меч занесен над отчизны седой головой, Будь с народом своим. Будь не ниже, не выше — будь рядом. Нету званья в бою выше, чем рядовой!7
Не жалей, что я умер. Я умер, себя не жалея, За тебя и за мать, за просторы родимых полей! Хочешь быть как отец? Стой в бою, где всего тяжелее, И себя, если надо, как он, не жалей!8
Кто там? Брат мой? Сестра? Кто там молча простился со мною? Я не слышу — я мертв. Твоего я не вижу лица, Но я верю тебе, что свой долг перед этой страною Честно выполнишь ты, как солдат, до конца!Редиард Киплинг{35}
(С английского)
ОБЩИЙ ИТОГ
Из департаментских песен
Далеко ушли едва ли Мы от тех, что попирали Пяткой ледниковые холмы. Тот, кто лучший лук носил, — Всех других поработил, Точно так же, как сегодня мы. Тот, кто первый в их роду Мамонта убил на льду, Стал хозяином звериных троп. Он украл чужой челнок, Он сожрал чужой чеснок, Умер — и зацапал лучший гроб. А когда какой-то гость Вдруг принес с резьбою кость, — Эту кость у гостя выкрал он. Отдал вице-королю, И король сказал: «Хвалю!» Был уже тогда такой закон. Как у нас — все шито-крыто, Жулики и фавориты Ели из казенного корыта. И секрет, что был зарыт У подножья пирамид, Только в том и состоит, Что подрядчик, хотя он Уважал весьма закон, Облегчил Хеопса на мильон. А Иосиф тоже был Жуликом по мере сил. Зря, что ль, провиантом ведал оп? Так что все, что я спою Вам про Индию мою, Тыщу лет не удивляет никого, — Так уж сделан человек. Ныне, присно и вовек Царствует над миром воровство.* СВОИ, ЧТО ЛИ, ПЕСНИ ВАМ ПЕЛ ГОМЕР?
Свои, что ли, песни вам пел Гомер? Он брал, что плохо лежало, И гудел их обратно, на свой манер. Вроде меня, пожалуй. Пастухи, торговцы и матросня Что откуда стянул он — знали, Но они его, как и вы — меня, За это в шею не гнали. Не трепались о нем, что Гомер — вор. Не считали это виною. Подмигнут ему — и весь разговор, — Как у вас при встрече со мною.ДОБРОВОЛЬНО «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
Неважный мир господь для нас скропал. Тот, кто прошел насквозь солдатский ад И добровольно «без вести пропал», Не беспокойтесь, не придет назад! Газеты врали вам средь бела дня, Что мы погибли смертью храбрецов. Некрологи в газетах — болтовня, Нам это лучше знать, в конце концов. Врачи приходят после воронья, Когда не разберешь, где рот, где нос. И только форма рваная моя Им может сделать на меня донос. Но я ее заставлю промолчать. Потом лопаты землю заскребут, И где-то снова можно жизнь начать, Когда тебя заочно погребут. Мы будем в джунглях ждать до темноты Пока на перекличке подтвердят, Что мы убиты, стало быть — чисты; Потом пойдем куда глаза глядят. Мы снова сможем девочек любить, Могилы наши зарастут травой, И траурные марши, так и быть, Наш смертный грех покроют с головой. Причины дезертирства без труда Поймет солдат. Для нас они честны. А что до ваших мнений, господа, — Нам ваши мненья, право, не нужны.НОВОБРАНЦЫ
Когда на восток новобранцы идут — Как дурни, резвятся, как лошади, пьют. Иные из них по дороге умрут, Еще не начав служить как солдат, Служить, служить, служить как солдат, солдат королевы! Эй вы, молодые, поближе к огню! Я не первых встречаю и хороню. Но пока вы живы, я вам объясню, Как должен вести себя умный солдат, Умный, умный, умный солдат, солдат королевы! При чуме и холере себя береги, Минуй болота и кабаки. Холера и трезвость — всегда враги. А кто пьян, тот, ей-богу, скверный солдат, Скверный, скверный, скверный солдат, солдат королевы! Если сволочь сержант до точки довел — Не ворчи, как баба, не злись, как осел. Будь любезным и ловким, — и вот ты нашел, Что наше спасенье в терпенье, солдат. В терпенье, в терпенье, в терпенье, солдат, солдат королевы! Если жена твоя шьется с другим, Не стоит стреляться, застав ее с ним. Отдай ему бабу — и мы отомстим, Он будет с ней проклят, этот солдат, Проклят, проклят, проклят, солдат, солдат королевы! Если ты под огнем удрать захотел, Глаза оторви от лежащих тел И будь счастлив, что ты еще жив и цел. И маршируй вперед, как солдат, Вперед, вперед, вперед, как солдат, солдат королевы! Если мажут снаряды над их головой, Не ругай свою пушку сукой кривой, А лучше с ней потолкуй, как с живой, И ты будешь доволен ею, солдат, Доволен, доволен, доволен, солдат, солдат королевы! Пусть кругом все убиты — а ты держись! Приложись и ударь и опять приложись. Как можно дороже продай свою жизнь. И жди помощи Англии, как солдат, Жди ее, жди ее, жди ее, как солдат, солдат королевы! Но если ты ранен и брошен в песках И женщины бродят с ножами в руках, Дотянись до курка и нажми впотьмах И к солдатскому богу ступай, как солдат, Ступай, ступай, ступай, как солдат, солдат королевы!ГИЕНЫ
Когда похоронный патруль уйдет И коршуны улетят, Приходит о мертвом взять отчет Мудрых гиен отряд. За что он умер и как он жил — Это им все равно. Добраться до мяса, костей и жил Им надо, пока темно. Война приготовила пир для них, Где можно жрать без помех. Из всех беззащитных тварей земных Мертвец беззащитней всех. Козел бодает, воняет тля, Ребенок дает пинки. Но бедный мертвый солдат короля Не может поднять руки. Гиены вонзают в песок клыки, И чавкают, и рычат. И вот уж солдатские башмаки Навстречу луне торчат. Вот он и вышел на свет, солдат, — Ни друзей, никого. Одни гиеньи глаза глядят В пустые зрачки его. Гиены и трусов и храбрецов Жуют без лишних затей, Но они не пятнают имен мертвецов: Это — дело людей.«Серые глаза — рассвет…»
Серые глаза — рассвет, Пароходная сирена, Дождь, разлука, серый след За винтом бегущей пены. Черные глаза — жара, В море сонных звезд скольженье, И у борта до утра Поцелуев отраженье. Синие глаза — луна, Вальса белое молчанье, Ежедневная стена Неизбежного прощанья. Карие глаза — песок, Осень, волчья степь, охота, Скачка, вся на волосок От паденья и полета. Нет, я не судья для них, Просто без суждений вздорных Я четырежды должник Синих, серых, карих, черных, Как четыре стороны Одного того же света, Я люблю — в том нет вины — Все четыре этих цвета.ДУРАК
Жил-был дурак. Он молился всерьез (Впрочем, как Вы и Я) Тряпкам, костям и пучку волос — Все это пустою бабой звалось, Но дурак ее звал Королевой Роз (Впрочем, как Вы и Я). О, года, что ушли в никуда, что ушли, Головы и рук наших труд — Все съела она, не хотевшая знать (А теперь-то мы знаем — не умевшая знать), Ни черта непонявшая тут. Что дурак растранжирил, всего и не счесть (Впрочем, как Вы и Я) — Будущность, веру, деньги и честь. Но леди вдвое могла бы съесть, А дурак — на то он дурак и есть (Впрочем, как Вы и Я). О, труды, что ушли, их плоды, что ушли, И мечты, что вновь не придут, — Все съела она, не хотевшая знать (А теперь-то мы знаем — не умевшая знать), Ни черта не понявшая тут. Дураку его шкура мила была (Впрочем, как Вам и Мне), И, когда, его выпотрошив дотла, Ему леди под зад коленкой дала, Дурак не приставил к виску ствола (Впрочем, как Вы и Я). В этот раз не стыд его спас, не стыд, Не упреки, которые жгут, — Он просто узнал, что не знает она, Что не знала она и что знать она Ни черта не могла тут.ЭПИТАФИИ 1914–1918
ПОЛИТИК
Я трудиться не сумел, грабить не посмел, Я всю жизнь свою с трибуны лгал доверчивым и юным, Лгал — птенцам. Встретив всех, кого убил, всех, кто мной обманут был, Я спрошу у них, у мертвых, — бьют ли на том свете морду Нам — лжецам?ЭСТЕТ
Я отошел помочиться не там, где вся солдатня. И снайпер в ту же секунду меня на тот свет отправил. Я думаю, вы не правы, высмеивая меня, Умершего принципиально, не меняя своих правил.КОМАНДИР МОРСКОГО КОНВОЯ
Нет хуже работы — пасти дураков. Бессмысленно храбрых — тем более. Но я их довел до родных берегов Своею посмертною волею.ЭПИТАФИЯ КАНАДЦАМ
Все отдав, я не встану из праха, Мне не надо ни слов, ни похвал. Я не жил, умирая от страха, Я, убив в себе страх, воевал.БЫВШИЙ КЛЕРК
Не плачьте! Армия дала Свободу робкому рабу. За шиворот приволокла Из канцелярии в судьбу, Где он, узнав, что значит сметь, Набрался храбрости — любить, И полюбив — пошел на смерть, И умер. К счастью, может быть.НОВИЧОК
Они быстро на мне поставили крест, В первый день, первой пулей в лоб. Дети любят в театре вскакивать с мест — Я забыл, что это — окоп.НОВОБРАНЕЦ
Быстро, грубо и умело за короткий путь земной И мой дух, и мое тело вымуштровала война. Интересно, что способен сделать бог со мной Сверх того, что уже сделал старшина?ТРУС
Я не посмел на смерть взглянуть в атаке среди бела дня, И люди, завязав глаза, к ней ночью отвели меня.ОРДИНАРЕЦ
Я знал, что мне он подчинен и, чтоб спасти меня — умрет. Он умер, так и не узнав, что надо б все наоборот!ДВОЕ
А. — Я был богатым, как раджа. Б. — А я был беден. ВМЕСТЕ. — Но на тот свет без багажа Мы оба едем.* ПРОСЬБА
Заканчивая путь земной, Всем сплетникам напомню я: Так или и́наче, со мной Еще вы встретитесь, друзья! Я вам оставлю столько книг, Что после смерти обо мне Не лучше ль спрашивать у них, Чем лезть с вопросами к родне!КОММЕНТАРИЙ
Настоящий том представляет собой наиболее полное собрание стихотворных произведений К. М. Симонова, созданных в период с 1936 по 1976 год. Соблюдая утвердившийся для собраний сочинений жанрово-хронологический принцип расположения, автор наряду с этим счел возможным сохранить некоторые стихотворные циклы с наиболее устойчивыми названиями, состав стихов в которых оставался более или менее постоянным в течение многих лет. Это циклы «Соседям по юрте», «Из дневника», «С тобой и без тебя», «Друзья и враги», «Вьетнам, зима семидесятого».
Том делится на три раздела по жанрам — Стихотворения, Поэмы, Вольные переводы.
В каждом из них произведения располагаются по хронологии. Исключение составляют циклы «С тобой и без тебя» и «Друзья и враги».
Первый из них, созданный в основном в 1941–1942 годах, постепенно, с временными перерывами пополнялся до 1954 года, второй сложился, соединив в себе стихи из двух книг, написанных в 1948–1954 годах.
Все произведения датированы автором, в комментариях к каждому из них приводятся сведения о первых публикациях.[8]
А. Александрова Сканирование, распознавание, вычитка — Глюк ФайнридераПримечания
1
Написано вместе с А. Сурковым.
(обратно)2
Я тебя люблю (исп.).
(обратно)3
Свободен (англ.)
(обратно)4
«Ваше здоровье», «Русские солдаты», «Русские друзья», «Русские парни» (англ.).
(обратно)5
Хашимит и курейшит — то есть из рода хашим арабского племени курейш. По преданию, из рода хашим происходил Мухаммед, считающийся основателем ислама (Здесь и далее примеч. переводчика.)
(обратно)6
Ствари — бурдюк с вином. Гуда-ствари — народный инструмент, сделанный из бурдюка. На нем играют, зажав его под мышкой и постепенно выпуская из него воздух через вделанный в него рожок.
(обратно)7
С богом! — прощай (чеш.).
(обратно)8
Стихотворения, помеченные звездочкой в заглавии, публикуются впервые (прим. 2-го верстальщика).
(обратно)Комментарии
1
Стихотворения (1936–1939)
Рассказ о спрятанном оружии. — Впервые в журнале «Знамя», 1937, № 2.
Новогодний тост. — Впервые в кн.: «Молодая Москва». М., 1937. Первоначальный вариант в газете «Известия», 1936, 1 января (первая строка: «Победный год идет к концу…»).
Генерал. — Впервые в журнале «Знамя», 1937, № 8.
Однополчане. — Впервые в журнале «Новый мир», 1938, № 10.
Дорожные стихи:
1. Отъезд. — Впервые в журнале «Крокодил», 1939, № 5 (под назв.: «Дорожное»). Печаталось также под назв.: «Прощальное».
2. Чемодан. — Впервые в журнале «Новый мир», 1939, № 4. Также в кн.: К. Симонов. Дорожные стихи. М., «Советский писатель», 1939.
3. Телеграмма. — Впервые в журнале «Новый мир», 1939, № 4. Также в кн.: К. Симонов. Дорожные стихи. М., «Советский писатель», 1939.
4. Номера в «Медвежьей Горе». - Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 9 (под назв.: «Номер в Медвежьей Горе»).
5. Тоска. — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи тридцать девятого года. М., «Советский писатель», 1940 (без назв.).
6. Вагон. — Впервые в журнале «Новый мир», 1939, № 4.
7. «Казбек». - Первоначальный вариант в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 9 (под назв.: «Память»). Печаталось также без назв., переработанное, в кн.: К. Симонов. Стихи тридцать девятого года. М., «Советский писатель», 1940.
8. В командировке. — Впервые в журнале «Литературный современник», 1940, № 5–6 (под назв.: «Москвич»).
9. Северная песня. — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи и поэмы, 1936–1954. М., Гослитиздат, 1955.
Изгнанник. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 9.
Старик. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 9.
Мальчик. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 9.
Поручик. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 9.
Английское военное кладбище в Севастополе. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 9.
Часы дружбы. — Впервые в журнале «Литературный современник», 1940, № 5–6 (под назв.: «Дружба»).
(обратно)2
Соседям по юрте
Транссибирский экспресс. — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи тридцать девятого года. М., «Советский писатель», 1940. Также в кн.: К. Симонов. Стихи. М., «Правда», 1940 (Б-ка «Огонек», № 35).
Механик. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1940, № 2.
Орлы. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1940, № 2.
Деревья. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1940, № 2.
Сверчок. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1940, № 2.
«Слишком трудно писать…» — Впервые в журнале «Знамя», 1940, № 2 (печаталось также под назв.: «Письмо»).
Фотография. — Впервые в журнале «Знамя», 1940, № 2 (без назв.).
Кукла. — Впервые в журнале «Знамя», 1940, № 2 (без назв.). Также в «Литературной газете», 1940, 5 марта.
Танк. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1940, № 2. Также в «Литературной газете», 1940, 5 марта.
Самый храбрый. — Впервые в журнале «Знамя», 1940, № 2 (без назв.).
Тыловой госпиталь. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1940, № 2.
«Куда ни глянешь — без призора…» — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1940, № 2 (под назв.: «Ремесло»).
Осень. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1940, № 2 (под назв. «Дождь»).
«Семь километров северо-западнее Баин-Бурта…» — Впервые в журнале «Знамя», 1940, № 2.
«Всю жизнь любил он рисовать войну…» — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 9.
(обратно)3
Из дневника
Из дневника. — Впервые в журнале «Огонек», 1944, № 20–21.
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1941, № 11–12. Также в газете «Красная звезда», 1942, 3 февраля (под назв.: «Письмо Другу»); в газете «Рабочий путь» (Смоленск), 1946, 19 января (под назв.: «А. Суркову»).
Родина. — Впервые в журнале «Политпросветработа», 1942, № 23–24. Первоначальный вариант в журнале «Литературный современник», 1940, № 5–6.
«Словно смотришь в бинокль перевернутый…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1941, № 11–12. Печаталось также под назв.: «Север», «Бинокль».
«Мы не увидимся с тобой…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Лирика. М., «Молодая гвардия», 1942. Также в кн.: К. Симонов. Стихотворения. 1936–1942. М., 1942 (под назв.: «Другу»).
Полярная звезда. — Впервые в газете «Комсомольская правда», 1942, 30 июня (под назв.: «Звезда»). Также в кн.: К. Симонов. Лирика. М., «Молодая гвардия», 1942 (без назв.).
Товарищ. — Впервые в газете «Красная звезда», 1941, 20 декабря.
«Я знаю, ты бежал в бою…» — Впервые в журнале «Красноармеец», 1942, № 22 (под назв.: «Баллада»).
Атака. — Впервые в журнале «Знамя», 1942, № 1–2. Также в газете «Красная звезда», 1942, 11 марта.
Пехотинец. — Впервые в журнале «Знамя», 1942, № 1–2. Также в газете «Красная звезда», 1942, 11 марта.
Слава. — Впервые в журнале «Знамя», 1942, № 1–2.
Через двадцать лет. — Впервые в кн.: К. Симонов. Лирика. М., «Молодая гвардия», 1942. Также в кн.: К. Симонов. Стихотворения. 1936–1942. М., Гослитиздат, 1942.
Смерть друга. — Впервые в газете «Красная звезда», 1942, 16 июля. Также в журнале «Новый мир», 1942, № 11–12.
«Если дорог тебе твой дом…» — Впервые в газете «Красная звезда», 1942, 18 июля (под назв.: «Убей его!»). Также в газете «Комсомольская правда», 1942, 19 июля (под назв.: «Убей его!»); в журнале «Спутник агитатора», 1942, № 13 (под назв.: «Убей его!»); в журнале «Краснофлотец», 1942, № 15 (под назв.: «Убей его!»); в журнале «Политпросвет-работа», 1942, № 17–18 (под назв.: «Убей его!»); в кн.: «О любви и ненависти». Б. м., 1942 (под назв.: «Убей его!»); в кн.: «Флот в боях за Родину». Кн. I. М., 1942 (под назв.: «Убей его!»); в кн.: «Убей его! — Презрение к смерти». М., 1942 (ВУПОАП).
Безыменное поле. — Впервые в кн.: К. Симонов. Война. Стихи 1937–1943 годов. М., «Советский писатель», 1944.
В Заволжье. — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи и поэмы. 1936–1954. М., Гослитиздат, 1955.
Песня о веселом репортере. — Впервые в кн.: «Две песни (подражание Беранже)». — Песенка о чемодане. — Веселый репортер. Слова К. Симонова. Муз. М. Блантера. М., 1944 (Музфонд СССР). Также в кн.: К. Симонов. Стихи и поэмы. 1936–1954. М., Гослитиздат, 1955.
Фляга. — Впервые в кн.: К. Симонов. Война. Стихи 1937–1943 годов. М., «Советский писатель», 1944.
Корреспондентская застольная. — Впервые в сб.: «Песенка корреспондента». Для голоса и джаза. Слова К. Симонова. Муз. М. Блантера. М., 1945 (Музфонд СССР). Также в кн.: К. Симонов. Стихи и поэмы. 1936–1954. М., Гослитиздат, 1955.
Сказка о городе Пропойске. — Впервые в кн.: «День поэзии. 1962». М., «Советский писатель», 1962.
Старая солдатская. — Впервые в сб.: «Песни к пьесе «Жди меня». Текст К. Симонова. Муз. М. Блантера. М., 1944 (Музфонд СССР) (под назв.: «Как служил солдат…»). Также в кн.: К. Симонов. Стихи и поэмы. 1936–1954. М., Гослитиздат, 1955.
Возвращение в город. — Впервые в журнале «Знамя», 1943, № 7–8.
Слепец. — Впервые в газете «Литература и искусство», 1943, 14 августа.
Три брата. — Впервые в журнале «Знамя», 1943, № 7–8. Также в журнале «Красноармеец», 1943, № 17–18 (под назв.: «Возвращение»).
У огня. — Впервые в журнале «Знамя», 1943, № 7–8.
Открытое письмо. — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихотворения и поэмы. М., Гослитиздат, 1945.
Жены. — Впервые в газете «Красная звезда», 1943, 4 июля (под назв.: «Трое»). Также в журнале «Знамя», 1943, № 7–8 (под назв.: «Солдатский разговор»).
Дом в Вязьме. — Впервые в журнале «Знамя», 1943, № 7–8.
Ночной полет. — Впервые в журнале «Огонек», 1948, № 44.
Встреча на чужбине. — Впервые в газете «Правда», 1945, 29 сентября (первая строка: «Пускай в Москве ты молчалив и сух…»). Также в журнале «Знамя», 1945, № 9 (под назв.: «На чужбине»).
«Не той, что из сказок…». — Впервые в журнале «Юность», 1965, № 5 (под назв.: «Накануне победы»).
Сыновьям. — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи и поэмы. 1936–1954. М., Гослитиздат, 1955.
(обратно)4
С тобой и без тебя
(1941–1954)
«Плюшевые волки…» — Впервые в журнале «Красная новь», 1942, № 1–2.
«Я много жил в гостиницах…» — Впервые в журнале «Красная новь», 1942, № 1–2.
«Когда со мной страданьем…» — Впервые в журнале «Красная новь», 1942, № 1–2.
«Тринадцать лет. Кино в Рязани…» — Впервые в журнале «Красная новь», 1942, № 1–2.
«Если родилась красивой…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Лирика. М., «Молодая гвардия», 1942. Также в кн.: К. Симонов. С тобой и без тебя. Из лирического дневника. М., «Правда», 1942 (Б-ка «Огонек», № 13).
«Я очень тоскую…» — Впервые в журнале «Красная новь», 1942, № 1–2.
«Я, верно, был упрямей всех…» — Впервые в журнале «Красная новь», 1942, № 1–2.
«Ты говорила мне «люблю»…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1941, № 11–12.
«Жди меня, и я вернусь…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1941, № 11–12. Также в газете «Правда», 1942, 14 января; в газете «Комсомольская правда», 1942, 9 апреля; в кн.: «Гражданская и Отечественная война в поэзии». Киров, 1942; в кн.: «Удар по врагу». Свердловск. 1942; в кн.: «За Родину!» Вып. 2. М. — Л., 1942.
«Майор привез мальчишку на лафете…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1941, № 11–12. Также в газете «Комсомольская правда», 1942, 12 апреля.
«Я не помню, сутки или десять…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Лирика. М., «Молодая гвардия», 1942.
«Над черным носом нашей субмарины…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1941, № 11–12.
«Если бог нас своим могуществом…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1941, № 11–12.
«Не сердитесь — к лучшему…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1941, № 11–12.
«В домотканом, деревянном городке…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Лирика. М., «Молодая гвардия», 1942. Также в кн.: К. Симонов. С тобой и без тебя. Из лирического дневника. М., «Правда», 1942 (Б-ка «Огонек», № 13).
«Я помню двух девочек, город ночной…» — Впервые в журнале «Красная новь», 1942, № 1–2.
«На час запомнив имена…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Лирика. М., «Молодая гвардия», 1942. Также в кн.: К. Симонов. С тобой и без тебя. Из лирического дневника. М., «Правда», 1942 (Б-ка «Огонек», № 13).
«Мне хочется назвать тебя женой…» — Впервые в журнале «Красная новь», 1942, № 1–2.
«Я пил за тебя под Одессой в землянке…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Лирика. М., «Молодая гвардия», 1942.
«Я, перебрав весь год, не вижу…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1941, № 11–12.
Хозяйка дома. — Впервые в журнале «Новый мир», 1942, № 11–12.
«Когда на выжженном плато…» — Впервые в журнале «Краснофлотец», 1942, № 19–20 (под назв.: «Любовь»). Также в газете «Комсомольская правда», 1942, 19 ноября (под назв.: «Любовь»); в журнале «Новый мир», 1942, № 11–12 (под назв.: «Любовь»).
«Твой голос поймал я в Смоленске…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1942, № 11–12 (под назв.: «Единственное письмо»).
«Пусть прокляну впоследствии…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1942, № 11–12.
«Был у меня хороший друг…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1942, № 11–12. Также в журнале «Краснофлотец», 1942, № 23–24 (под назв.: «Был у меня хороший друг»).
Каретный переулок. — Впервые в кн.: К. Симонов. Избранные стихи. М., «Советский писатель», 1948 (Б-ка избр. произведений сов. литературы).
Дожди. — Впервые в кн.: К. Симонов. Избранные стихи. М., «Советский писатель», 1948 (Б-ка избр. произведений сов. литературы).
«Не раз видав, как умирали…» — Впервые в журнале «Знамя», 1945, № 9.
Далекому другу. — Впервые в газете «Красная звезда», 1944, 6 января. Также в кн.: «Чтец-декламатор». М., 1944; в журнале «Знамя», 1945, № 9.
«Первый снег в окно твоей квартиры…» — Впервые в журнале «Знамя», 1945, № 9.
«Вновь тоскую последних три дня…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. I. М., «Художественная литература», 1966.
Летаргия. — Впервые в журнале «Знамя», 1945, № 9.
Музыка:
1. «Я жил над школой музыкальной…» — Впервые в журнале «Знамя», 1945, № 9.
2. «Когда изобразить я в пьесе захочу…» — Впервые в журнале «Знамя», 1945, № 9.
3. «Три дня живу в пустом немецком доме…» — Впервые в журнале «Знамя», 1945, № 9.
«Над сном монастыря девичьего…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. I. М., «Художественная литература», 1966.
«Да, мы живем, не забывая…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. I. M., «Художественная литература», 1966.
«Мы оба с тобою из племени…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. — Пьесы. — Рассказы. Л., Гослитиздат, 1949.
«В чужой земле и в городе чужом…» — Впервые в журнале «Знамя», 1945, № 9.
«До утра перед разлукой…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. I. M., «Художественная литература», 1966.
«Стекло тысячеверстной толщины…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. — Пьесы. — Рассказы. Л., Гослитиздат, 1949.
«Я в эмигрантский дом попал…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. — Пьесы. — Рассказы. Л., Гослитиздат, 1949 (Как глава из поэмы «Несколько дней»).
«Трубка после обеда…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Избранные стихи. М., «Советский писатель», 1948 (Б-ка избр. произведений сов. литературы. 1917–1947).
«Как говорят, тебя я разлюбил…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. I. M., «Художественная литература», 1966.
«Я схоронил любовь и сам себя обрек…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. I. М., «Художественная литература», 1966.
«Я не могу писать тебе стихов…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. I. М., «Художественная литература», 1966.
(обратно)5
Стихотворения (1946–1976)
«Умирают друзья, умирают…» — Впервые в журнале «Сибирские огни», 1972, № 3 (из цикла «Память»).
«Ненужные воспоминанья…» — Публикуется впервые.
«Бывает, слово «ненавижу»…» — Публикуется впервые.
Разведка. — Впервые в «Литературной газете», 1971, 7 июля. Также в журнале «Смена», 1971, № 15.
«Сколько б ни придумывал фамилий…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Тридцать шестой — семьдесят первый. Стихотворения и поэмы. М., «Художественная литература», 1972.
«Тот самый длинный день в году…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Тридцать шестой — семьдесят первый. Стихотворения и поэмы. М., «Художественная литература», 1972.
«Навеки врублен в память поколений…» — Впервые в журнале «Сибирские огни», 1972, № 3 (из цикла «Память»).
«Преуменьшающий беду…» — Впервые в журнале «Сибирские огни», 1972, № 3 (из цикла «Память»).
«Вновь с камнем памяти на шее…» — Впервые в журнале «Сибирские огни», 1972, № 3 (из цикла «Память»).
«Не лги — анатом!..» — Публикуется впервые.
«Осень, ветер, листья — буры…» — Публикуется впервые.
«То недосуг самих себя чинить…» — Публикуется впервые.
Не тут, так там… — Публикуется впервые.
«Самих себя, да и печать…» — Публикуется впервые.
«Кто в будущее двинулся, держись…» — Публикуется впервые.
«Вот тебе и семьдесят, Самед!..» — Публикуется впервые.
Опыт верлибра. — Публикуется впервые.
(обратно)6
Друзья и враги
(1948–1954)
В корреспондентском клубе. — Впервые в кн.: К. Симонов. Друзья и враги. Книга стихов. М., «Советский писатель», 1948.
Военно-морская база в Майдзуре. — Впервые в газете «Коммунист» (Саратов), 1948, 4 января (под назв.: «Бухта Майдзура»). Также в журнале «Новый мир», 1948, № 3.
Митинг в Канаде. — Впервые в газете «Бакинский рабочий», 1948, 8 октября. Также в газете «Правда», 1948, 3 ноября; в журнале «Новый мир», 1948, № 11; в кн.: К. Симонов. Друзья и враги. Книга стихов. М., «Советский писатель», 1948.
Красное и белое. — Впервые в журнале «Новый мир», 1948, № 11.
Тигр. — Впервые в журнале «Новый мир», 1948, № 11.
Улица Сакко и Ванцетти. — Впервые в журнале «Новый мир», 1948, № 11.
Три точки. — Впервые в журнале «Новый мир», 1948, № 11.
Баллада о трех солдатах. — Впервые в журнале «Огонек», 1948, № 44.
Немец. — Впервые в журнале «Новый мир», 1948, № 11.
Нет! — Впервые в журнале «Новый мир», 1948, № 11.
Ночь перед бессмертием. — Впервые в журнале «Знамя», 1949, № 11.
В гостях у Шоу. — Впервые в «Литературной газете», 1954, 1 мая. Также в журнале «Октябрь», 1954, № 7; в журнале «Новый мир», 1954, № 5.
Письмо из Аргентины. — Впервые в журнале «Новый мир», 1954, № 5.
Переправа через Янцзы. — Впервые в журнале «Новый мир», 1954, № 5.
В Гуйлине. — Впервые в газете «Советская Белоруссия», 1954, 19 сентября. Также в журнале «Огонек», 1954, № 39.
Любовь. — Впервые в газете «Коммунист» (Ереван), 1954, 25 июля (под назв.: «Капля»), Также в газете «Красноярский рабочий», 1954, 18 ноября; в журнале «Октябрь», 1954, № 11.
Новогодняя ночь в Токио. — Впервые в журнале «Октябрь», 1954, № 7.
Xибачи. — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. — Пьесы. — Рассказы. Л., Гослитиздат, 1949.
Футон. — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. — Пьесы. — Рассказы. Л., Гослитиздат, 1949.
Золотые рыбки. — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. — Пьесы. — Рассказы. Л., Гослитиздат, 1949.
«Бывает иногда мужчина…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. — Пьесы, — Рассказы. Л., Гослитиздат, 1949.
«Чтобы никогда не думала…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. — Пьесы. — Рассказы. Л., Гослитиздат, 1949.
«Барашек родился хмурым осенним днем…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи, — Пьесы. — Рассказы. Л., Гослитиздат, 1949.
Дом друзей. — Впервые в журнале «Октябрь», 1954. № 11.
Сын. — Впервые в журнале «Октябрь», 1954, № 11.
Чужая душа. — Впервые в журнале «Октябрь», 1954, № 11.
Борису Горбатову:
1. «Умер друг у меня — вот какая беда…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1954, № 11.
2. «Умер молча, сразу, как от пули…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1954, № 11.
3. «Дружба настоящая не старится…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1954, № 11.
«Дружба — дружбой, а служба — службой…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи 1954 года. М., «Советский писатель», 1954 (под назв.: «Под зонтиком»).
Жил да был человек осторожный. — Впервые в газете «Правда Украины», 1954, 3 ноября. Также в газете «Горьковская правда», 1954, 18 ноября; в журнале «Октябрь», 1954, № 11.
Улыбка. — Впервые в газете «Правда», 1954, 29 октября. Также в журнале «Октябрь», 1954, № 11.
Друг-приятель. — Впервые в журнале «Октябрь», 1954, № 11.
Анкета дружбы. — Впервые в журнале «Нева», 1956, № 5.
Тост, услышанный в Дагестане. — Публикуется впервые.
«Зима сорок первого года…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. Поэмы. Вольные переводы. 1936–1961. М., «Советский писатель», 1962.
Наш политрук. — Впервые в журнале «Огонек», 1961, № 44. Также в кн.: «Крылья века». М., 1961 (первая строка: «Я хочу рассказать всю правду…»).
3намя. — Впервые в газете «Неделя», 1963, 6 — 12 октября, № 41. Также в кн.: «День поэзии. 1963». М., «Советский писатель».
(обратно)7
ВЬЕТНАМ, ЗИМА СЕМИДЕСЯТОГО
Чужого горя не бывает… — Впервые в газете «Правда» 1971, 24 января (под назв.: «От вашего корреспондента…»).
Над Лаосом. — Впервые в кн.: К. Симонов. Вьетнам, зима семидесятого. Книга стихов. М., «Современник», 1971.
Бомбежка по площадям. — Впервые в кн.: К. Симонов. Вьетнам, зима семидесятого. Книга стихов. М., «Современник», 1971.
Дежурка. — Впервые в кн.: К. Симонов. Вьетнам, зима семидесятого. Книга стихов. М., «Современник», 1971.
Рукопись. — Впервые в газете «Книжное обозрение», 1971, № 26, 25 июня. Также в кн.: К. Симонов. Вьетнам, зима семидесятого. Книга стихов. М., «Современник», 1971.
Матери Бориса Горбатова. — Впервые в кн.: К. Симонов. Вьетнам, зима семидесятого. Книга стихов. М., «Современник», 1971.
Товарищу То Хыу, который перевел «Жди меня…». — Впервые в кн.: К. Симонов. Вьетнам, зима семидесятого. Книга стихов. М., «Современник», 1971.
«…Не пишется проза, не пишется…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Вьетнам, зима семидесятого. Книга стихов. М., «Современник», 1971.
(обратно)8
Победитель. — Впервые в журнале «Октябрь», 1937, № 10. После опубликования поэмы отрывки из нее печатались в газетах: «Советская Литва», 1954, 29 сентября (под назв.: «Памяти Николая Островского»); «Актюбинская правда», 1954, 29 сентября (под назв.: «Вперед!»).
(обратно)9
Ледовое побоище. — Впервые в журнале «Знамя», 1938, № 1. После опубликования поэмы отрывки из нее печатались в журнале «Краснофлотец», 1941, № 12 (под назв.: «Поучительные уроки истории») и № 13 (под назв.: «Мы победим»).
(обратно)10
Суворов. — Впервые в журнале «Знамя», 1939, № 5–6. (До опубликования поэмы отрывок из нее печатался в «Литературной газете», 1938, 15 октября.)
(обратно)11
Мурманские дневники. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1938, № 6.
(обратно)12
Пять страниц. — Впервые в журнале «Знамя», 1938, № 12.
(обратно)13
Первая любовь. — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихотворения. 1936–1942. М., Гослитиздат, 1942.
(обратно)14
Далеко на Востоке. — Впервые печаталась как глава из поэмы «Родина» в журнале «Октябрь», 1942, № 11 (под назв.: «О погибших»). Впервые полностью в кн.: К. Симонов. Избранные стихи. М., «Советский писатель», 1948 (Б-ка избр. произведений сов. литературы).
(обратно)15
Сын артиллериста. — Впервые в газете «Красная звезда», 1941, 7 декабря. Также в кн.: «Славим героев». М., 1942.
(обратно)16
Иван да Марья. — Впервые в журнале «Огонек», 1954, № 44. Также в кн.: К. Симонов. Стихи 1954 года. М., «Советский писатель», 1954.
(обратно)17
Отец. — Впервые в газете «Комсомольская правда», 1958, 10 августа.
(обратно)18
ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ
Вагиф. Пятистишья. — Впервые в кн.: «Антология азербайджанской поэзии». М., «Художественная литература», 1939 (под назв.: «Мухаммес»).
Насими. «В меня вместятся оба мира…» — Впервые в кн.: «Антология азербайджанской поэзии». М., «Художественная литература», 1939.
Видади. «Мы жить не можем…» — Впервые в кн.: «Антология азербайджанской поэзии». М., «Художественная литература», 1939.
Шестистишья. — Впервые в кн.: «Антология азербайджанской поэзии». М., «Художественная литература», 1939 (под назв.: «Мусседес»). Печаталось также под назв.: «Муссадас».
Самед Вургун. Поэт, как рано постарел ты… — Впервые в «Литературной газете», 1956, 19 января. Также в журнале «Литературный Азербайджан», 1956, № 5; в кн.: Вургун С. Избранное. М., 1956.
Я не спешу… — Впервые в «Литературной газете», 1956, 19 января. Также в журнале «Литературный Азербайджан», 1956, № 5; в кн.: Вургун С. Избранное. М., 1956.
Телогрейка. — Впервые в журнале «Литературный Азербайджан», 1956, № 5.
Одинокая могила. — Впервые в кн.: К. Симонов. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. I. M., «Художественная литература», 1966.
Расул Рза. Путь жизни. — Впервые в газете «Правда», 1976, 30 декабря (без назв.).
(обратно)19
ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ
Галактион Табидзе. Не оставляй его, как сироту… — Впервые в «Литературной газете», 1973, 31 октября. Также в журнале «Литературная Грузия», 1973, № 10; в кн.: Г. Табидзе. Лирика. Тбилиси, 1973.
Золотые шкуры. — Впервые в журнале «Литературная Грузия», 1973, № 6. Также в кн.: Г. Табидзе. Лирика. Тбилиси, 1973.
Утро сорок шестого. — Впервые в «Литературной газете», 1973, 31 октября. Также в кн.: Г. Табидзе. Лирика. Тбилиси, 1973.
«Есть настоящий, сущий…» — Впервые в кн.: Г. Табидзе. Лирика. Тбилиси, 1973.
«Нет, друг мой Георгий!..» — Впервые в кн.: Г. Табидзе. Лирика. Тбилиси, 1973.
Карло Каладзе. Вступление к книге. — Впервые в журнале «Новый мир», 1953, № 1. Также в кн.: Каладзе К. На холмах Грузии. Тбилиси, 1959; в кн.: Каладзе К. Книга лирики. Тбилиси, 1963 (без назв.).
Мой день. — Впервые в журнале «Новый мир», 1958. № 1. Также в кн.: Каладзе К. Старые деревья. М., 1958.
Притча о ствари и гуда-ствари. — Впервые в журнале «Новый мир», 1958, № 1 (под назв.: «Притча о гуда и гуда-ствири»). Также в кн.: Каладзе К. На холмах Грузии. Тбилиси, 1959 (под назв.: «Притча о гуда и гуда-ствири»).
Семья справляет рождение сына. — Впервые в журнале «Новый мир», 1958, № 1. Также в кн.: Каладзе К. Старые деревья. М., 1958.
Дуб. — Впервые в журнале «Дружба народов», 1963, № 8.
Абхазская песня. — Впервые в журнале «Литературная Грузия», 1961, № 1. Также в кн.: «Песни Грузии». Тбилиси, 1961; в журнале «Дружба народов», 1962, № 10. Печаталась под назв.: «Варайда-варада».
Отец. — Впервые в газете «Неделя», 1966, 31 июля — 6 августа, № 32.
Памяти генерала Леселидзе. — Впервые отрывок в «Литературной газете», 1975, 1 октября.
Xута Берулава. «Своих поэтов, с их уроками…» — Впервые в газете «Правда», 1976, 30 декабря.
Фридон Xалваши. Зрелость стиха. — Впервые в журнале «Новый мир», 1958, № 3.
(обратно)20
ИЗ УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ
Алишер Навои. Газель. — Впервые в газете «Правда Востока», 1968, 2 июня.
Гафур Гулям. К нам приезжайте погостить, друзья! — Впервые в газете «Известия», 1960, 17 июня. Также в журнале «Дружба народов», 1960, № 8; в журнале «Звезда Востока», 1960, № 8.
Xамид Гулям. Последний мост. — Впервые в газете «Правда», 1960, 7 февраля. Также в журнале «Огонек», 1960, № 8.
Гвоздика. — Впервые в журнале «Огонек», 1960, № 9. Также в журнале «Звезда Востока», 1960, № 7.
Дым над хижиной. — Впервые в журнале «Огонек», 1960, № 9. Также в газете «Правда Востока», 1960, 1 марта; в журнале «Звезда Востока», 1960, № 7.
Хамид Алимджан. Любовь. — Впервые в журнале «Дружба народов», 1960, № 8. Также в журнале «Звезда Востока», 1960, № 8.
3ульфия. Зацвел урюк. — Впервые в журнале «Дружба народов», 1960, № 8. Также в журнале «Звезда Востока», 1960, № 8; в кн.: 3ульфия. Стихотворения. М., 1961; в кн.: «Голоса друзей. Стихи поэтов Узбекистана в вольных переводах К. Симонова». М., 1960 (Б-ка «Огонек», № 37).
Мамарасул Бабаев. Ночью над стихами… — Впервые в журнале «Дружба народов», 1960, № 8. Также в журнале «Звезда Востока», 1960, № 8.
Оркестр. — Впервые в журнала «Дружба народов», 1960, № 8. Также в журнале «Звезда Востока», 1960, № 8; в кн.: Бабаев М. Дождь листья моет. М., 1964.
Аскад Myхтар. «Встал. Улица белым-бела…» — Впервые в журнале «Дружба народов», 1960, № 8. Также в журнале «Звезда Востока», 1960, № 8.
«Чабан в горах…» — Впервые в журнале «Дружба народов», 1960, № 8. Также в журнале «Звезда Востока», 1960, № 8.
(обратно)21
ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ
Димитр Методиев. Открытие мира. — Впервые в журнале «Юность», 1964, № 5.
Константин Павлов. Пасторальное. — Впервые в журнале «Новый мир», 1968, № 9.
(обратно)22
ИЗ МАКЕДОНСКОЙ ПОЭЗИИ
Цане Андреевски. Мир и мы. — Впервые в журнале «Октябрь», 1975, № 8.
Гане Тодоровски. После обеда. — Публикуется впервые.
Радмила Трифуновска. Ночью, когда тебя нет. — Впервые в журнале «Октябрь», 1975, № 8.
(обратно)23
Валентин Тавлай. Товарищ. — Впервые в кн.: К. Симонов. Друзья и враги. М., «Советский писатель», 1948.
(обратно)24
Эдуардас Межелайтис. Голубоглазая скала. — Впервые в газете «Известия», 1962, 28 августа.
Голубоглазая скала. Еще раз. — Впервые в кн.: Э. Межелайтис. Алелюмай. Литовская сюита. М., «Советский писатель», 1966. Также в кн.: К. Симонов. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. I. M., «Художественная литература», 1966.
(обратно)25
Баграт Шинкуба. «Пьют за долгую жизнь мою!..» — Впервые в кн.: Б. Шинкуба. Избранное. М., «Художественная литература», 1976.
(обратно)26
Мустай Карим. «Снег идет…» — Впервые в журнале «Новый мир», 1955, № 6.
(обратно)27
Расул Гамзатов. «Снова сбросила холод седой земля…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. Поэмы. Вольные переводы. 1936–1961. М., «Советский писатель», 1962.
«Вот и темнеть еще раньше стало…» — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. Поэмы. Вольные переводы. 1936–1961. М., «Советский писатель», 1962.
Надпись на камне. — Впервые в кн.: К. Симонов. Стихи. Поэмы. Вольные переводы. 1936–1961. М., «Советский писатель», 1962.
(обратно)28
Кайсын Кулиев. «Ноги у печали стали черные…» — Впервые в газете «Правда», 1967, 17 февраля.
(обратно)29
Назир Xубиев. Лавина. — Впервые в газете «Правда», 1966, 18 июля.
(обратно)30
3айндин Муталибов. Письмо. — Впервые в журнале «Литературный Азербайджан», 1973, № 2.
(обратно)31
Доржпалам. «Если пуля тебя ранит…» — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1965, № 7.
«Ходит смерть круг за кругом…» — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1965, № 7.
(обратно)32
Назым Xикмет. Выйдя из тюрьмы. — Впервые в «Литературной газете», 1951, 24 июля.
(обратно)33
Юлиан Тувим. «Я крохи юности собрал…» — Впервые в кн.: «Поэты — лауреаты Народной Польши». В 2-х томах. Т. I. M., 1954 (под назв.: «С крохами юности»).
Опечатка. — Впервые в кн.: Тувим Ю. Стихи. М., 1948.
(обратно)34
Витезслав Незвал. Баллада о надежде. — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1960, № 5. Также в кн.: Незвал В. Избранное., М. Издательство иностранной литературы, 1960.
Баллада о безработных товарищах. — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1960, № 5. Также в кн.: Незвал В. Избранное. М., 1960.
«Наконец уезжаю…» — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1960, № 5.
Прощай! — Впервые в журнале «Новый мир», 1946, № 10–11 (без назв., первая строка: «С богом. Ну что ж! Как ни странно, мы оба не плачем…»).
Из цикла «Возвращение домой»:
«В мае, месяце зеленом…» — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1960, № 5. Также в кн.: Незвал В. Избранное. М., Издательство иностранной литературы, 1960.
«Вот и унесся, как гонщик…» — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1960, № 5.
«Еду цветущим краем…» — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1960, № 5.
Катафалк. — Впервые в журнале «Новый мир», 1946, № 10–11.
Знамена 9 мая. — Впервые в журнале «Новый мир», 1946, № 10–11.
Париж без Поля Элюара. — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1960, № 5. Также в кн.: Незвал В. Избранное. М., Издательство иностранной литературы, 1960.
Вздох. — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1960, № 5. Также в кн.: Незвал В. Избранное. М., 1960.
Мечтаю… — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1960, № 5. Также в кн.: Незвал В. Избранное. М. Издательство иностранной литературы, 1960.
Надписи в зале Красной Армии в мавзолее на горе Витков в Праге. — Впервые в журнале «Иностранная литература», 1960, № 5. Также в кн.: Незвал В. Избранное. М., 1960; в кн.: К. Симонов. Голоса друзей. М. Издательство иностранной литературы, 1960.
(обратно)35
Редиард Киплинг. Общий итог. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 5 (первая строка: «Много мы ушли едва ли…») (под общим заголовком «Департаментские песни»).
Свои, что ли, песни вам пел Гомер? — Публикуется впервые.
Добровольно «пропавший без вести». — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 5 (под общим заголовком «Армейские стихи»).
Новобранцы. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 5 (под назв.: «Молодой британский солдат (Английский новобранец)») (под общим заголовком «Армейские стихи»).
Гиены. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 5 (первая строка: «Когда хоронивший отряд уйдет») (под общим заголовком «Армейские стихи»).
«Серые глаза — рассвет…» — Впервые в кн.: «Трилистник». Стихи зарубежных поэтов в переводе Н. Заболоцкого, М. Исаковского, К. Симонова. М., «Прогресс», 1971 («Мастера поэтического перевода», вып. 13–15).
Дурак. — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1939, № 5 (под общим заголовком «Исторические стихи»).
Эпитафии (1914–1918):
Политик. — Впервые в газете «Литературная Россия», 1966, 12 августа.
Эстет. — Впервые в газете «Литературная Россия», 1966, 12 августа.
Командир морского конвоя. — Впервые в газете «Литературная Россия», 1966, 12 августа.
Эпитафия канадцам. — Впервые в кн.: «Трилистник». Стихи зарубежных поэтов в переводе Н. Заболоцкого, М. Исаковского, К. Симонова. М., «Прогресс», 1971 («Мастера поэтического перевода», вып. 13–15).
Бывший клерк. — Впервые в газете «Литературная Россия», 1960, 12 августа.
Новичок. — Впервые в газете «Литературная Россия», 1966, 12 августа.
Новобранец. — Впервые в газете «Литературная Россия», 1966, 12 августа.
Трус. — Впервые в газете «Литературная Россия», 1966, 12 августа.
Ординарец. — Впервые в газете «Литературная Россия», 1966, 12 августа.
Двое. — Впервые в газете «Литературная Россия», 1966, 12 августа.
Просьба. — Публикуется впервые.
(обратно)
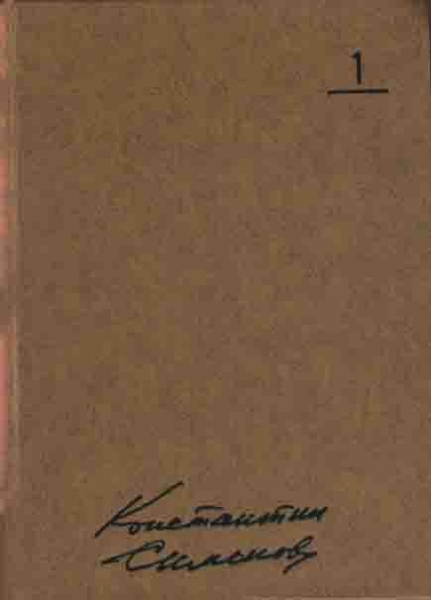

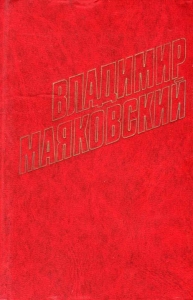


Комментарии к книге «Том 1», Константин Михайлович Симонов
Всего 0 комментариев