Дмитрий Бак Сто поэтов начала столетия Пособие по современной русской поэзии
Права
© Дмитрий Бак, 2015
© «Время», 2015
Издание осуществлено при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 годы)
Terra poesis: Бронзовый век русской поэзии Вместо предисловия
Читатель держит в руках книгу, составленную на основе серии эссе, на протяжении нескольких лет печатавшихся в журнале «Октябрь», впрочем, примерно каждый пятый текст написан специально для книжного издания.
Как нетрудно догадаться, речь пойдет о современной поэзии, о ее бронзовом веке. По интенсивности публикаций в журналах, по обилию поэтических вечеров и фестивалей последние двадцать пять – тридцать лет вполне можно сопоставить с благодатными для русской поэзии 1890–1900-ми годами. Спору нет, количество напечатанных стихов никак не гарантирует высоких достижений – никто сейчас не возьмется предугадать, есть ли среди современных стихотворцев новые Ахматова, Мандельштам либо, по крайней мере, Сологуб или Волошин. Впрочем, это было бы предприятие странное и даже бесполезное. Гораздо важнее иное: попросту очертить границы современной «территории поэзии» – назовем ее Terra poesis, – попытаться дать моментальный снимок нынешней поэтической ситуации во всем ее пестром разнообразии. Время публикаций, о которых идет речь (стихотворных подборок и поэтических сборников) условно ограничено 2000-ми и началом 2010-х годов – отсюда и заглавие книги, апеллирующее к началу столетия как к термину, прозрачно отсылающему к классическому понятию конец столетия (fin de siècle), бытовавшему на стыке веков XIX и XX-го.
Хотелось бы подчеркнуть две сопряженные друг с другом особенности предлагаемого собрания эссе о современной поэзии.
Первая: сто поэтов, о которых идет в книге не являются, по мнению автора, «самыми лучшими» из всех ныне пишущих либо недавно ушедших из жизни. Книга – не отборочный турнир, не этап розыгрыша звания чемпиона русской поэзии. Автор пишет о тех, чьи стихи кажутся ему интересными, характерными для нынешнего положения вещей в поэзии, наконец, – о своих любимых стихах и поэтах. Выбор ста – главным образом, личное мнение, лучшей критикой которого было бы не сетование на несовершенство перечня поэтов, а восполнение возможных лакун в новых публикациях.
Вторая особенность книги, тесно сопряженная с первой: отсутствие того или иного поэта в заветном перечне ста имен вовсе не является знаком пренебрежения к нему со стороны автора. По указанной причине было бы совершенно неправильно рассуждать, почему в книге отсутствуют, скажем, Евгений Евтушенко и Наум Коржавин, Андрей Вознесенский и Виктор Кривулин, Семен Липкин и Владимир Леонович, Константин Ваншенкин, и Александр Ревич, Вс. Некрасов и Дмитрий А. Пригов, Ры Никонова и Сергей Сигей, Нина Искренко и Рафаэль Левчин, Алексей Парщиков и Лев Лосев, Борис Рыжий и Валерий Прокошин, Татьяна Бек и Михаил Поздняев, Борис Викторов и Евгений Блажеевский, Ирина Хролова и Павел Белицкий, Евгений Сабуров и Александр Миронов, Вячеслав Вс. Иванов и Владимир Захаров, Дмитрий Бобышев и Алексей Пурин, Новелла Матвеева и Юнна Мориц, Ефим Бершин и Игорь Шкляревский, Андрей Дементьев и Юрий Влодов, Татьяна Полетаева и Наталья Ванханен, Владимир Аристов и Виталий Лехциер, Мара Маланова и Татьяна Нешумова, Дарья Суховей и Татьяна Вольтская, Александр Левин и Владимир Строчков, Михаил Сухотин и Мирослав Немиров, Сергей Бирюков и Игорь Померанцев, Марк Шатуновский и Сергей Соловьев, Михаил Синельников и Виктор Коваль, Владимир Тучков и Евгений Карасев, Юлий Ким и Михаил Щербаков, Виктор Коркия и Илья Колли, Ника Скандиака и Арсений Ровинский, Михаил Генделев и Андрей Грицман, Глеб Горбовский и Николай Кононов, Анатолий Богатых и Эвелина Ракитская, Павел Нерлер и Евгений Степанов, Борис Гребенщиков и Земфира Рамазанова, Александр Анашевич и Кирилл Медведев, Евгений Никитин и Евгений Чигрин, Виктор Пеленягрэ и Вадим Степанцов, Максим Замшев и Сергей Арутюнов, Александр Самарцев и Сухбат Афлатуни, Константин Бандуровский и Александр Беляков, Светлана Бодрунова и Лариса Березовчук, Татьяна Милова и Юлия Скородумова, Василий Бородин и Андрей Гришаев, Дина Гатина и Юлия Идлис, Наталия Азарова и Елена Горшкова, Фаина Гримберг и Полина Барскова, Алевтина Дорофеева и Галина Климова, Дмитрий Данилов и Александр Иличевский, Надя Делаланд и Ербол Жумагулов, Ирина Евса и Инна Кабыш, Всеволод Емелин и Евгений Лесин, Ульяна Заворотинская и Татьяна Мосеева, Ольга Иванова и Елена Лапшина, Марина Кудимова и Вячеслав Куприянов, Геннадий Калашников и Алексей Кубрик, Андрей Коровин и Максим Лаврентьев, Игорь Сид и и Виктор Iванiв, Владимир Друк и Виталий Кальпиди, Владимир Кучерявкин и Игорь Вишневецкий, Катя Капович и Евгения Лавут, Константин Кедров и Елена Кацюба, Света Литвак и Маргарита Аль, Виктор Куллэ и Илья Кутик, Вадим Степанцов и Юрий Ряшенцев, Анатолий Кудрявицкий и Илья Фаликов, Бонифаций и Герман Лукомников, Валерий Земских и Евгений Мякишев, Сергей Шестаков и Анастасия Строкина, Александр Бараш и Игорь Караулов, Денис Сюкосев и Юрий Казарин, Ксения Маренникова и Ирина Шостаковская, Сергей Морейно и Сергей Тимофеев, Игорь Булатовский и Дмитрий Строцев, Хельга Ольшванг и Александра Петрова, Александр Очеретянский и Елена Сунцова, Григорий Петухов и Алеша Прокопьев, Ксения Чарыева и Ганна Шевченко, Вадим Перельмутер и Олег Юрьев, Галина Рымбу и Екатерина Соколова, Ольга Сульчинская и Елена Исаева, Алексей Тиматков и Андрей Чемоданов, Анна Саед-Шах и Алина Витухновская, Сергей Самойленко и Виктор Санчук, Андрей Тавров и Амарсана Улзытуев, Марина Хаген и Света Сдвиг, Анна Логвинова и Яна Токарева, Шиш Брянский и Валерий Нугатов, Ян Шенкман и Владимир Губайловский, Александр Сорока и Александр Уланов, Кирилл Корчагин и Михаил Свищев, Лета Югай и Екатерина Перченкова, Алексей Порвин и Игорь Белов, Анна Золотарева и Анна Глазова, Татьяна Данильянц и Мария Тиматкова – список, разумеется, можно было бы продолжить.
По своим жанровым признакам эссе, включенные в книгу, восходят к айхенвальдовским «силуэтам», то есть для автора важнее всего высказать личное впечатление, подкрепленное ситуативным анализом, а вовсе не включаться в полемические битвы об отдельных поэтах либо участвовать в разработке очередной версии истории русской поэзии. В намерения автора входило не построение причинно-следственной логики эволюции отечественного стихотворчества, но моментальный снимок его современного состояния, в медицинской терминологии – не эпикриз, но диагноз.
Отсюда понятно, почему в книге отсутствует установка на выстраивание иерархий, «обойм», прослеживание контуров поэтических направлений и групп, прояснение происхождения поэтики одних стихотворцев из творческих открытий других, а также оценочные суждения и сравнение манер и стилей разных поэтов между собой. Все эти историко-литературные задачи остались за рамками разговора о современной поэзии, да и сам этот разговор ведется почти без использования литературоведческой терминологии, понятной далеко не всякому читателю. В силу разнородности и разномасштабности «героев» книги, в некоторых случаях необходимы азбучные исходные пояснения по поводу «жизни и творчества» поэтов сравнительно менее известных либо недавно дебютировавших. В других же разделах книги, в целом рассчитанной на читателя компетентного и заинтересованного, разговор пойдет сразу о сути дела – о конкретном этапе творчества поэта, известного и популярного, без дополнительных сведений из области истории и предыстории.
Следует отметить также, что среди авторов стихов присутствуют и те, для кого поэзия является своего рода «скрипкой Энгра», то есть занятием важным, но сопутствующим основной творческой работе прозаика, журналиста, художника, певца. Без этих ярких мазков картина современной поэтической ситуации, по моему убеждению, выглядела бы неполной.
Идеальным (и, конечно, недостижимым!) образцом для автора послужил классический цикл рецензий на вновь выходящие в свет поэтические сборники, опубликованный Николаем Гумилевым в журнале «Аполлон» в 1909–1916 годах под названием «Письма о русской поэзии». Разумеется, совершенно неблагодарным занятием было бы проведение прямых параллелей между тогдашним и нынешним «поэтическим материалом», однако два косвенных схождения между «Письмами…» и нашей книгой все же хотелось бы отметить.
Первое схождение – свобода от кастовых, «литературно-политических» и иных предубеждений. Стойкий борец с «наследием символизма» Гумилев с сугубым вниманием относился к произведениям Брюсова и Блока, Бальмонта и Вяч. Иванова. Этой нейтральности, непредубежденности, пожалуй, даже некоторой отстраненности, зачастую не хватает современным критикам, пишущим о поэзии. Подборки традиционных и новых «толстяков» пестрят старыми и новыми именами, издается несколько журналов, специально посвященных поэзии, массив русских стихотворных текстов в сети практически неисчерпаем. Однако целостная картина отсутствует, к ней нет даже подступов. Ясно, что взгляд на поэзию поверх полемических и кастовых барьеров чреват всеядностью и неразличением между великим, характерным и скоропреходящим. Между этими Сциллой и Харибдой автор книги надеется благополучно пройти, поскольку убежден: более прямого пути к объективной и полной картине русской поэзии начала XXI века найти невозможно.
Второе схождение классического цикла актуальных рецензий на поэтические сборники с книгой эссе о современных поэтах состоит в том, что разбираться будут тексты заведомо разновеликие. Рецензии «Аполлона» были посвящены не только Анненскому, Андрею Белому, Цветаевой, Кузмину и даже не только К. Фофанову, В. Пясту, С. Городецкому, С. Клычкову и Ю. Балтрушайтису, но также и Валериану Бородаевскому, Иосифу Симановскому, Александру Рославлеву, Михаилу Левину, Николаю Животову… Можно легко предсказать будущие инвективы по поводу не более чем камерной известности многих героев книги. Не остается ничего иного, как эти недовольства заранее вынести за скобки, счесть результатом непонимания задач нашего проекта первичной «рекогносцировки» территории современной поэзии.
Итак, главное содержание каждого эссе – попытка определения творческих принципов и лейтмотивов того или иного поэта в начале нового столетия, главным образом, в двухтысячные годы. Подобные суждения неизбежно обречены на то, чтобы многим показаться (и оказаться на деле) очень личными, неокончательными, подлежащими уточнению и конкретизации. Хотя в книгу включены эссе об поэтах и текстах, с точки зрения автора заведомо значительных и важных, дело вовсе не сводится к комплиментарным разборам. Одна из неотъемлемых задач каждого эссе – попытка уловить и описать вектор развития творческой манеры и литературной позиции поэта – не в общем и целом, но в рамках сравнительно непродолжительного интервала, условно говоря между 2000 и 2015 годами. Причем дело, по замыслу автора книги, не должно ограниваться абстрактными формулировками, обозначающее укрепление позиций дебютантов либо непродуктивное самоповторение былых первооткрывателей новых высот. В каждом отдельном случае делается попытка обозначить логику движения, иногда для автора книги неблизкую, порой неприемлемую. Иногда симптоматичным оказывается даже факт умолкания, молчания поэта, в недавнем прошлом плодовитого и влиятельного, одним словом, случай, когда, по Жуковскому «лишь молчание понятно говорит».
В ситуации предпринятого нелегкого выбора для анализа ста поэтов из гораздо большего количества возможных, да еще и перед лицом необходимости обозначения позиции оценки эволюции каждого из сотни, конечно, случаи несогласия с высказанными в книге суждениями будут исчисляться не менее чем десятками. Иное совершенно невозможно – последующая полемика встроена в задачи книги, как раз ее отсутствие свидетельствовало бы о том, что прозвучавшие мнения случайны, не отмечены печатью убежденности и ответственности.
За последние полвека русская поэзия прошла извилистый и сложный путь. Основной парадокс текущего момента ее развития – гигантская дистанция между «читательским» и «профессиональным» диагнозами ее эволюции.
С точки зрения эмпирического наблюдателя – по сравнению с 1960-ми годами, поэзия ушла в тень, прошли времена стадионных чтений, миновала эпоха «всенародной» популярности Вознесенского и Ахмадулиной, Окуджавы и Евтушенко.
Профессиональный историк литературы судит иначе: картина эволюции стала гораздо более полной, поскольку в постсоветское время была стерта грань между подцензурной поэзией (в том числе – «стадионной») и поэзией неофициальной, в круг которой входили поэты, незаслуженно отодвинутые на второй план – «лианозовцы», «смогисты» и многие, многие другие.
«Эсхатологический» диагноз эволюции русского стихотворчества (с точки зрения «обычного» читателя) подводит к мысли о движении поэзии под уклон, об отсутствии в начале нового века новых ярких имен, известных за пределами узкого круга утонченных ценителей. Точнее говоря, стихи могут обрести «широкую известность» только случае наличия какого-то внешнего, необязательного довеска: актуальной сатиры (случай Дмитрия Быкова) или эстрадной визуальности (случай Веры Полозковой).
«Филологический» диагноз (с точки зрения профессионального историка литературы) также достаточно пессимистичен, однако в совершенно ином роде. Дескать, в последние десятилетия продолжали и продолжают работать многие большие поэты, однако их аудитория теперь вовсе не стадионы, но в лучшем случае, университетские аудитории или небольшие артистические кафе. «Подлинная» поэзия, таким образом, представляется в виде камерной (=снобистской) артхаусной среды, стойко противостоящей профанным убеждениям «толпы», которая ни на шаг не подвинулась вперед со времен популярности Вознесенского и Ахмадулиной и ныне как никогда достойна классического окрика из серии «подите прочь!..».
Если выбирать из двух крайностей, то, не скрою, вторая позиция мне ближе и понятней. Однако, исходя из задач предлагаемой книги, хотелось бы и в этом случае избежать предсказуемой односторонности. Да, сейчас пишут и публикуют стихи десятки больших поэтов. Да, они отодвинуты прочь с авансцены, не могут выдержать конкуренции с современными медиа, с алгоритмами формирования культовых репутаций, свойственных низовой культуре. Но все же – голоса этих поэтов по-прежнему различимы, стихи их по-прежнему доступны пониманию «обычного» читателя, важны и незаменимы. Чтобы это понять, нужно для начала просто прочитать эти стихи, поговорить о них…
Попробуем?
Михаил Айзенберг или Чем жива душа?
Михаил Айзенберг долгие годы не только пишет стихи, но и публикует эссе о поэзии. Благодаря нескольким сборникам айзенберговской критики-эссеистики была воссоздана полная картина развития русской поэзии прошлого века. Именно воссоздана, поскольку на протяжении значительного времени неподцензурные поэты существовали как бы отдельно от тех, кто мог увидеть свои стихи в открытой печати еще в советское время. Когда меняется эпоха, неизбежно возникает определенный вакуум методологии отношения к прошлому, в том числе – литературному. Тут легче всего просто поменять все плюсы на минусы. И наоборот – задвинуть в отдельную, наглухо закупоренную вечность былые авторитеты и развернутой во фронт колонной вывести на столбовую дорогу всех тех, кто вчера был незаслуженно или насильственно забыт. Михаил Айзенберг поступает иначе. Он пытается к самым разным поэтическим группам и поэтическим личностям применить выверенный до микрона гамбургский аршин, соблюсти соразмерность, ввести необходимые коэффициенты, чтобы сформировать единую масштабную сетку для разметки карты современной поэзии.
Отточенность и ясность мысли, исключительно высокая степень личной включенности в процесс – вот главные достоинства Айзенберга-эссеиста. Многие его формулировки просятся в учебники: «Школу Бродский действительно создал, и это настоящая беда для нашей поэзии. Писать стало легко». Сравнительно немногие поэты остались за пределами его внимания, и одна из важнейших лакун – понятное без комментариев отсутствие суждений о поэте по имени Михаил Айзенберг. Попытаться начать заново (либо, если угодно, продолжить) разговор о его стихах – давно назревшая необходимость, хотя, приступая к разговору о поэзии Айзенберга, приходится немедленно и навсегда дистанцироваться от его собственной манеры судить о стихах. Причина проста: поэзия Айзенберга демонстративно неотчетлива, содержит прихотливую вязь рассуждений с самим собою, порой не то чтобы темных, но по крайней мере – не толкуемых с ходу.
Первая книга поэта «Указатель имен» (1993) заканчивается стихотворением «В этом лесу проходит граница пыли…», пронзительным и одним из самых известных, содержащим традиционное для русской поэзии рассуждение о «грядущей смерти годовщине». И даже в этом – не побоюсь сказать – маленьком шедевре последняя строка нуждается в дополнительной дешифровке, содержит, так сказать, смысловой избыток, вернее – значит сразу многое:
Я под конец объясню тебе легкий способ.
Михаил Айзенберг своего преданного читателя никогда не щадил. У него какое-то отдельное, специальное зрение – неброское, неяркое, неразборчивое. Неотчетливость и смазанность картин – вот что здесь подкупает и обескураживает одновременно. Откуда эта отдельная вселенная? Что значит? К чему зовет? Стихи содержат ясную стилистическую доминанту. Один из соратников Айзенберга по поэтическим трудам Сергей Гандлевский говорил: необходимо, чтобы в стихотворении в положенном месте был заложен густой заряд тротила, который в нужное время детонирует, и читателя мороз подирает по коже. У Айзенберга – полет голоса по стиху, энцефалограмма произведения зачастую представляет собою ровное плато без единого пригорка, пуанта, смыслового скачка. Главное состоит не в фабульных либо лексических, ритмических открытиях, мир сплошь уже открыт, освоен, предметы, факты, события наделены названиями. Вот, скажем, начало одного из «старых» стихотворений:
Вся земля уже с наклейками. Смотрит тысячью голов, как выходит за уклейками одинокий рыболов. (1980)Для того и необходим «указатель имен» – надо распознать, повторить, заново понять все, что уже кем-то и когда-то наречено по имени.
Есть поэты, которые начинают разговор с самых обыденных вещей, а молния прошибает где-то посередине стихотворения или к концу. У Айзенберга часто бывает так, будто бы все главное и необычное уже случилось до начала «действия» стихотворения, произошло за кадром, сам текст является лишь продолжением разговора, данного с середины:
Стараюсь думать о своем, но между прочим я понимаю, что живьем когда-то был проглочен.Стихотворение называется «Внутри кита» и ясным образом отсылает к книге пророка Ионы, однако самое главное событие случилось давно и навсегда. Теперь остается лишь понять, что значат отдаленные и уже непреодолимые последствия когда-то бывшего. Открыть, что говоришь прозой (или стихами), понять, что белое бело и «Кай смертен», – вот что приходится делать всякому, кто – вслед за Михаилом Айзенбергом – готов пуститься в рискованный путь открытия очевидного. Его стихи стремятся к тому, чтобы превратиться в карту местности, размером и масштабом равную самой местности, не содержащую пустот, метафорических сгущений либо символических намеков. Это зрение можно было бы назвать кинематографическим, если бы можно было допустить съемку объективом предельной широкоугольности и широкозахватности, способным взять в кадр сразу все 360 градусов обзора.
И такой же страницей развернулась земля, а по ней вереницей штемпеля, штемпеля.«Другие и прежние вещи» – знаковое заглавие одного из сборников Михаила Айзенберга. Речь здесь не только о старых и новых вещах-произведениях, но и о вещах в прямом смысле, то есть о предметах, деталях, фрагментах жизни. Всматриваясь в раз навсегда наименованные «вещи обихода» по Айзенбергу, читатель немедленно обнаружит среди них и сознание того, кто их наблюдает. Поэтическое зрение в стихах Айзенберга тоже дано как вещь, оно, по сути дела, не меняется с годами, занимает свое прочное место среди прочих окружающих предметов, будучи не более чем одним из этих предметов, не возвышается над миром вещей, а является одной из деталей ландшафта этого мира. В пастернаковской «Грозе моментальной навек» творческое усилие сопоставлялось со вспышкой, озаряющей не тьму, но свет:
…Вот, казалось, озарятся Даже те углы рассудка, Где теперь светло, как днем!Какой же пейзаж выхватывает (не из тьмы, но из света же!) подобное сознание? Тусклый и статичный, это во-первых. И еще – странным образом тавтологичный, содержащий собственное Я в виде вещи, выведенной за пределы сознания. Мое Я – это не способ видеть мир, а главный объект видения, однако его наблюдение ведет не к навязшей в зубах рефлексии, сомнениям в собственных чувствах, мыслях и поступках, но к чему-то совершенно другому – к почти сновидческому диалогу с самим собой, к изумленному, порою – раздраженному наблюдению себя со стороны. Единственный, на мой взгляд, поэтический аналог – стилистика великих книг Ходасевича «Тяжелая лира» и «Европейская ночь» (самые очевидные примеры: «Перешагни, перескочи, Перелети, пере – что хочешь…» или «Я, я, я. Что за дикое слово!..»). У Ходасевича, впрочем, изумление перед созерцанием собственной души как детали внешнего антуража, как вещи, уравновешена конкретными картинами объективного мира, фабульным разнообразием («Идет безрукий в синема…»), присутствием в стихах многочисленных героев, помимо «лирического», иногда названных по именам.
У Айзенберга же установка на усложненное и вместе с тем – усложненно тавтологическое повторение имен уже однажды названных вещей доведено до крайности. Здесь нет ни событий, ни прочих людей, только пространство затрудненного самонаблюдения, созерцания себя как другого:
Тело, костная тина. Но сирена кричит в мозгу, собирая все воедино по усилию, по волоску.Это сознание горожанина, ежедневно проходящего по одной и той же улице, наталкивающегося взглядом на знакомые книжные переплеты на домашних полках, думающего изо дня в день одни и те же торопливые мысли. Инсайт для Айзенберга наступает не в момент выхода за пределы круга обыденности, но именно в ту секунду, когда эта обыденность застит весь горизонт:
Незаметные перепады дней от удачи и до молчания.В этой тотальной самотождественности, казалось бы, вообще невозможно нестандартно думать, отделиться мыслью от окружающего ландшафта. Однако Айзенберг тематизирует как раз не мысленные взлеты, но всматривается в броуновское движение сознания, поглощенного миром вещей и от них неотличимого.
Добраться до понимания и осознания того, что именно я думаю в любой отдельно взятый момент и – как именно мне удается думать, признавать эту мысль именно своей, а не ничьей, принадлежащей сразу всем, кто способен одновременно вглядываться в для всех одинаковый мир повседневных фактов, вещей и событий. Так что же я сейчас думаю и чем мое думанье обусловлено, свободно ли оно, зависит ли от внешних причин?
Нас пугают, а нам не страшно Нас ругают, а нам не важно Колют, а нам не больно Гонят, а нам привольно Что это мы за люди…Нет, моя мысль ничем не обусловлена извне, мне все равно, «…свободно ли печать Морочит олухов, иль чуткая цензура В журнальных замыслах стесняет балагура». Здесь мы подходим к важнейшему свойству поэтики «нового» Михаила Айзенберга, печатающегося уже не в малодоступном неподцензурном там– и самиздате, но издающего книги, обретшего стабильный круг ценителей. Дело в том, что главное в его стихах осталось прежним, и нам понятно, почему сущностное содержание его лирики никак не зависело и сейчас не зависит от внешнего запрета либо дозволения. Самый переход от запрета к дозволению остался на уровне содержания словно бы не замеченным, в этом отличие Айзенберга от десятков поэтов, которые напряженно-серьезно (как, например, Гандлевский или Бунимович) либо иронически отстраненно (подобно Иртеньеву или Кибирову) всматривались в стремительно окружившую нас двадцать пять лет назад эпоху перемен. Айзенберг подобные перемены выносит за скобки, работает на предельных регистрах. Как нам живется сейчас, говоря словами Георгия Иванова, «В утреннем воздухе странной свободы?». Что изменилось, если абстрагироваться от смены власти, бытовых привычек и количества провизии в магазинах? Айзенберга интересуют не контрасты света и тьмы, но – скажу еще раз – разные оттенки света, обертоны тождественности.
Высота, подайся вниз. Наше время раскололось. Поплотнее запахнись, если сердце только полость. ‹…› И себе ли на уме проходящее напрасно? Жизни выжатой взамен будет масляное масло.Как-то в середине девяностых я оказался случайным свидетелем беглого диалога двух поэтов – московского и петербургского. Возвращая автору только что прочитанную рукопись, петербуржец бросил москвичу знаменательную реплику. Что-то вроде: «А ты, Юра, пожалуйста, больше никогда не пиши женских стихов». В этой рискованной формулировке под «женскими» стихами подразумевались тексты, которые содержат эмоции, принадлежащие конкретному человеку, обусловленные некими событиями его внешней и внутренней жизни. Айзенберг «женских» стихов не писал никогда, в его подборках и книгах нечем поживиться тем, кто чает найти в поэзии рецепты «воспитания чувств». И эта отстраненность от персональности ощущений носит вовсе не концептуалистский характер, сколь бы близко не общался в жизни Михаил Айзенберг с корифеями московского концептуализма.
В том-то и дело, что обостренная персональность в стихах присутствует, да только как бы поверх конкретных впечатлений и эмоций, это именно персональность вообще, а не конкретное личностное ощущение:
Неотчетливое лицо. Нет следов ни добра, ни яда.Стихи Айзенберга нередко вызывают впечатление автоматического письма, почти магической невозможности сосредоточиться на существенном, необходимости сновидчески говорить обо всем сразу:
Поименно вызываю все, что вспомнится, все, что мы наговорили, что увидели. И тогда-то, государыня-бессонница, замыкаются твои предохранители.Поэт ничего не обещает, не только рецептов жизни, но и откровений о себе, и это еще одно удивительное свойство лирики Айзенберга, лишенной традиционного лирического героя:
Я ни за что не могу поручиться. Что это тянется там, волочится? Что это ходит за мной по пятам? В окна стучится – что это там?Голос Михаила Айзенберга в современной поэзии в своем роде единственный. Его ни с кем невозможно спутать. Однако этот голос звучит не для всех. Тех, кто в стихах ищет гармоничных ритмов и глубоко личных откровений, просим не беспокоиться понапрасну.
Библиография
За Красными воротами / М. Н. Айзенберг. М.: Клуб «Проект ОГИ», 2000. 56 с.
Другие и прежние вещи / М. Н. Айзенберг. М.: НЛО, 2000. 96 с. (Премия Андрея Белого).
О простых вещах // Знамя. 2000. № 2.
Тайные рычаги // Знамя. 2001. № 5.
Не плотнее ветра // Знамя. 2002. № 3.
В метре от нас // Знамя. 2003. № 3.
«Даже не щука, а так – белорыбица…» // Критическая масса. 2003. № 1.
Новые стихи // НЛО. 2003. № 62.
В метре от нас / М. Н. Айзенберг. М.: НЛО, 2004. 100 с. (Премия Андрея Белого).
Кустарные виды // Знамя. 2004. № 6.
Признаки тихого наводнения // Знамя. 2005. № 6.
«Ходят вести, потерявшие сознанье…» // Критическая масса. 2005. № 3–4.
Рассеянная масса // Знамя. 2006. № 8.
О мёде и воске // Знамя. 2007. № 7.
Стихотворения // Новый берег. 2007. № 18.
Даль, блеснувшая копьем // Знамя. 2008. № 5.
Рассеянная масса / М. Н. Айзенберг. М.: Новое издательство, 2008. 72 с. (Новая серия).
Переход на летнее время / М. Н. Айзенберг. М.: НЛО, 2008. 560 с.
Случайное сходство / М. Н. Айзенберг. М.: Новое издательство, 2008. 80 с. (Новая серия).
Василий Аксенов или «Позор надменным португальцам!..»
Василий Аксенов – поэт? Всякий, кто берет в руки книгу «Край недоступных фудзиям» (М.: Вагриус, 2007), прежде всего обращает внимание на подзаголовок «Стихи с объяснениями», то есть как будто бы втайне сохраняет неясную надежду: вдруг все-таки объясняются не свои стихи? Нет – прочь упования! – ничего подобного, стихи свои, только не написанные специально и отдельно, а рассеянные в виде вкраплений по многим романам и повестям замечательного прозаика, в первые годы нового столетия вернувшего себе энергию молодых (шестидесятых) лет, а с нею и популярность прежнего накала…
Филолог-академик и переводчик Михаил Гаспаров, описывая в книге «Занимательная Греция» жизнь эллинов, исторические события замещает поверьями, преданиями и мифами. По словам Гаспарова, «это все равно что составлять таблицу по хронологии Киевской Руси и включать в нее даты: тогда-то Илья Муромец убил Соловья-разбойника, а тогда-то Руслан – Черномора». Аксенов предлагает читателю самоанализ, раздумья по поводу своего творческого пути посредством монтажа и комментирования стихотворных фрагментов, вошедших в книги. Это своего рода авторский миф, некое поверье, выстраивающее весьма прихотливую «линию жизни». В подобной затее немало юмора и тонкой самоиронии: можно ли, например, вообразить, что какой-нибудь романист пишет о своем творческом становлении, монтируя, скажем, только пейзажные описания, взятые напрокат и наугад из разных книг? Или только объяснения героев в любви?
Впрочем, уже на первых страницах некоторое недоумение, вызванное экстравагантным жанром книги, уступает место заинтересованному вниманию и пониманию, сами собою приходят аналогии, вспоминаются герои русских романов, пишущие стихи всерьез либо между делом, в яблочко либо невпопад. Таких на самом деле довольно много – от капитана Лебядкина из «Бесов» до Годунова-Чердынцева (набоковский «Дар») и Юрия Андреевича Живаго. Нет, нет, все это не то, не так! Верно, стихи во всех перечисленных книгах пишут герои, однако их рифмованные строки отнесены к итоговому, «авторскому» смыслу романа непосредственно, напрямую, минуя особенности контекста эпохи его создания. Читаем стихи Лебядкина – думаем: вот как искажена, изуродована нигилистическим бесовством великая русская поэзия:
Я пришел к тебе с приветом, Р-рассказать, что солнце встало, Что оно гор-р-рьячим светом По… лесам… затр-р-репетало. Рассказать тебе, что я проснулся, черт тебя дери, Весь пр-р-роснулся под… ветвями…Однако ведь ясно, что стихоговорение Лебядкина как таковое вовсе не является социальным фактом конца 1860-х годов, как не является таковым и чердынцевское писание взахлеб прозрачных стихов в среде русских эмигрантов, обитавших в Берлине в период создания «Дара». Разгул же стихотворной стихии на страницах ранней прозы Аксенова является отголоском всеобщего поэтического выплеска давно и незримо таившейся и годами копившейся энергии молчания. До XX съезда в течение двух десятилетий нельзя было не то что читать свои и чужие стихи вслух, рискованно было даже писать что-либо в одиночестве, для себя (вдруг сообщат куда следует?), и вот – мощная волна 1956-го и последующих годов выносит на поверхность устное чтение как таковое, захлебывающееся стихописанье, которому подвержены все и вся – не только барды или «стадионные» поэты… Ближайший аналог стихотворному паводку у героев раннего Аксенова легко найти, например, в «Понедельнике…» Аркадия и Бориса Стругацких: «Раскопай своих подвалов / И шкафов перетряси, / Разных книжек и журналов / По возможности неси».
Вся эта вроде бы официозная сатирическая чушь, «критика недостатков» из комсомольских стенгазет неприметно смешивается с разливанным морем оттепельной вольницы: «Товарищ, пред тобою Брут. Возьмите прут, каким секут, секите Брута там и тут…».
В этой кутерьме цитат и побасенок немудрено протащить в печать и кое-что запретное. Аксенов дополняет «творческую историю» своего первого романа «Коллеги» анекдотом о том, как его герой Зеленин мимоходом вспоминает строфу из «Баллады» Бориса Пастернака, посвященной концерту Генриха Нейгауза («Удар, другой, пассаж – и сразу / В шаров молочный ореол / Шопена траурная фраза / Вплывает, как больной орел…»). Дебютный роман Аксенова был опубликован в культовом тогда журнале «Юность» в 1960 году, через несколько недель после кончины опального Пастернака, подвергнутого травле после присуждения Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго». Аксенов передает свой разговор с ответсеком «Юности» Железновым: “Все собираюсь вас спросить, Вася, чьи это у вас там стихи про Шопена?” Недолго думая, я брякнул: “Это мои собственные”. Железный “правдист” Железнов похлопал меня по плечу: “А знаете, совсем неплохо”».
Натянуть нос неусыпным соглядатаям и блюстителям подцензурного официоза считалось особым шиком, заветные, опубликованные с помощью лукавых ухищрений строки потом долго еще демонстрировали друг другу посвященные. Так было с прорвавшимся в примечания к академичнейшей статье замечательного филолога Владимира Топорова четверостишием некоего «Г. Иванова», на поверку оказавшимся цитатой из гениального и совершенно «непечатного» поэта-эмигранта Георгия Иванова, да еще из демонстративно ностальгического по старой, «царской» России стихотворения: «За бессмыслицу! За неудачи! / За потерю всего дорогого! / И за то, что могло быть иначе, / И за то – что не надо другого!»…
Как в повестях молодых Стругацких, так и у «оттепельного» Аксенова бесконечные стихотворные импровизации имели двойное дно: на поверхности смысла ничем не противоречили стилистике советских лозунгов, а для посвященного, «проницательного» читателя были над этими самыми лозунгами уничтожающей, саркастической издевкой. Потому-то так близко сходились по стилистике стихотворные фрагменты из вещей, предназначавшихся для советской печати, и писавшихся заведомо в стол:
…Я профессор Виллинглон, Презираю Пентагон За набитую суму И бубонную чуму!(Рассказ «Рандеву» про Леву Малахитова, проводящего время в ресторане «Арагви», у Аксенова – «Нашшараби».)
Позор надменным португальцам! Успеха копьям ФРЕЛИМО! В кулак мы загибаем пальцы… Пантомимо… Пантомимо…(«Песня протеста советской молодежи, исполненная машинисточкой-пантомимисточкой Ниночкой Лыгер-Чепцовой» из переданного на запад романа «Ожог».)
Однако у стихотворных вставок в аксеновских вещах были и иные задачи, кроме демонстративного и изощренного фрондирования и бравирования своею ироничной бескомпромиссностью. Помимо «социальной» «романные стихи» имели функцию сугубо эстетическую, не имеющую прямого отношения к тоталитарному режиму и дозволенным оттепельным насмешкам над оным. В только что вышедшей книге автор называет эти обильные стихоизлияния героев «зонгами» – и все сразу становится понятным. Зонги – яркая черта пьес Бертольда Брехта, чья театральная стилистика в значительной степени предопределила становление любимовской «Таганки». Зонги у Брехта – песни, которые никак не мотивированы характером исполняющих их героев. Зонги поют герои вовсе не «поющие», то есть не лиричные, не романтичные, просто поют все сразу, хором, разрывая на время единую канву театрального действа, разрушая традиционную сценическую логику. Зонги могут петь, взявшись за руки, герои-антиподы, за миг до начала пения яростно соперничавшие друг с другом. Стихия зонга вносит в действие дополнительное измерение, путает карты жизнеподобия, а значит, преодолевает границы условности, содержит некое прямое обращение к зрителям.
Но ведь именно этим – особого рода «новой искренностью» – и славен Аксенов, причем не только в прозе шестидесятых, но и в поздних вещах, написанных как в период эмиграции, так и после возращения в Россию. Он обращается со своим читателем как с равным ему собеседником, говорит с ним напрямую, по-мужски, без обиняков и оговорок.
В новой парадоксальной книге, содержащей «стихи с объяснениями», автор подробно рассказывает о том, как вписывались стихи в текст «Коллег», «Затоваренной бочкотары», «Ожога», затем романа «Новый сладостный стиль», «Московской саги», наконец недавних романов «Вольтерьянцы и вольтерьянки», «Москва-ква-ква»… Однако во вступительном разделе Аксенов обдуманно лукавит, формулирует свое кредо, отталкиваясь от тезиса, переворачивающего хрестоматийное пушкинское «Лета к суровой прозе клонят»:
Лета идут, как клон за клоном, Лета к суровой рифме клонят…Это демонстративное profession de foi несет отпечаток все той же, неоднократно нами упоминавшейся двусмысленной буффонады. Ну конечно же, вовсе не «лета» приманили к музе писателя «суровую рифму», ведь сам Аксенов пишет, что в 1960 году «каждую главу своего первого объемного сочинения (речь о романе “Коллеги”. – Д. Б.) ‹…› предварял стихом из трех и более строф». Стихи были изъяты «железной женскою рукой» редактора отдела прозы журнала «Юность» М. Озеровой, но вновь и вновь появлялись практически во всех последующих вещах Аксенова: «В процессе романостроительства я то и дело испытываю желание выйти за границы жанра, начинается спонтанная ритмизация, а вслед за этим и рифмовка».
И в своей полумемуарной книге Аксенов остается верен себе: он предельно внимателен к читателю-собеседнику, его главный интерес состоит в том, чтобы комфортно и интересно было именно читателю, узнающему массу неизвестных ранее подробностей написания и появления (непоявления) в свет многих любимых книг. Так, например, пьеса «Цапля», отвергнутая на родине, была поставлена студентами в Нью-Йорке, потом состоялась парижская премьера (параллельно с чеховской «Чайкой»). А после перестройки пьеса поставлена только в Магнитогорском театре кукол.
Читатель не скучает, он завороженно поглощает стихотворные цитаты из известных вещей, поражаясь их новому и свежему звучанию вне изначального контекста прозы и драматургии: «Средь мирозданья, как инсект, полз “жигулек” в шоссейном гаме. В нем ехал молодой субъект, международник Моногамов…». Или – пародия на патриотическую песнь из фильма «Ошибка резидента»: «Открой мне, Отчизна, / Секреты свои, / Военную тайну / Открой ненароком…»…
После глубокомысленной цитаты из романа «Новый сладостный стиль»
Willow tresses? Oh, my amorous flu! Sisters in their elegant dresses, The eyes are blindly blue! Push it or press it, Ya vas Lyublue!дается перевод:
«Косицины ивы, / Насморк влюбленности, / Сестрицы красивы, / До ослепленности! / Глазу отрада – / Хоть стой, хоть падай!» Далее следует замечательное своей серьезностью пояснение: «Английский и русский тексты автора».
По сути дела, Аксенов нащупывает в своей книге совершенно особый жанр. Не превращая разговор об уже написанных и опубликованных вещах в пассивный пересказ, он предлагает читателю своего рода ремейк: что-то пересказывается в масштабе один к одному, что-то изображено заново, вставлено в иную событийную рамку и т. д.
В финале книги, как легко предсказать, речь идет о романе «Редкие земли». Как пушкинская Татьяна неожиданно для автора «Евгения Онегина» «удрала штуку» и вышла замуж, так и «роман неожиданно завершается основательной коллекцией небольших стихов, каждый из которых посвящен редкоземельному элементу: иттрию, лантану, церию…». Пространный список редкоземельных элементов воспроизведен полностью.
И все равно невозможно избавиться от впечатления, что книга Василия Аксенова прервана на полуслове: «Боже праведный – на полуслове!» – добавим мы от себя…
Библиография
Край недоступных фудзиям: Стихи с объяснениями. М.: Вагриус, 2007.
Алексей Алехин или «Снимает снимает снимает фотограф…»
К чему русской поэзии верлибры? С течением времени ответ становится все более понятным. И не после бесконечных фестивалей либо деланно недоуменных публичных вопросов: «Как? Ты до сих пор пишешь в рифму?». Богатство флексий и совпадающих с ними корневых клаузул в русском стихе беспримерно, его еще хватит на много лет – думаю, нефтяные запасы истощатся раньше. Однако всегда ведь существует соблазн погреться у огонька, использующего натуральное топливо, а не отложения, свидетельствующие о многовековом умирании живого.
Вековое накопление значений в созвучных частях слова создает ритм гармоничный, но автономный, словно бы независимый от авторского усилия – регулярный, вопреки всем дольникам и логаэдам. Любое приближение к верлибру претендует на возвращение к натуральному топливу стиха, к энергии света и ветра, веющего, как известно, вполне повсеместно, нерегулярно, непредсказуемо, с порывами до ураганного и шквального, а после вновь слабеющего, вплоть до бриза и штиля.
Алексей Алехин больше двадцати лет пишет и публикует стихотворения, лишенные рифм, их основное свойство – отдельность, дискретность мысли. Здесь нет ничего приблизительного, туманного, отвлеченного, каждый текст эквивалентен вполне ясной формуле, существующей и в стихе и – если вдуматься – помимо стиха.
с возрастом вещи снашиваются все медленнее а времена года все скорее деревья то наденут листву то сбросят вот и зима проносилась до дыр… («Грифельная ода»)Один точный образ (вернее, образ-сентенция), существующий на грани условного и обобщенного до притчи афоризма и – нескольких конкретных ситуаций. С годами время идет быстрее? Ну конечно! – подтвердит каждый, кому за… И в чем это проявляется? А в том, что притупляется вкус, не получается наслаждаться тем, что еще недавно было пределом мечтаний. И в том, что зимы и весны мелькают быстрее. Интенсивность жизни растет, а сила трения между сознанием и бытием уменьшается, гаснет, жизнь человека оставляет вокруг меньше следов, потому что внутренняя, кинетическая энергия падает. «Меркнет зрение – сила моя» – анапестическая строка Тарковского вроде бы о том же самом, однако ее ритм регулярен и неодолим, оттого огранка стиха чеканна, а высказанная эмоция достигает трагических нот («Я свеча, я сгорел на пиру…»). А что будет дальше в свободном стихе? Вместо сокрушительной бури – едва заметное дуновение ветра, какое-нибудь заземленное наблюдение, скажем, о повседневном гардеробе, что ли, – раз уж «вещи снашиваются все медленнее». Да, именно так:
а галстук без единого пятнышка уж вышел из моды…В стихах Алехина с читателем всегда говорит зоркий рассказчик, однако зоркость его избирательна и двояка. Иногда смысловое ядро стихотворения строится на границе слов и вещей, включает в себя известный или создаваемый на ходу афористический сюжет. Можно ли увидеть современный мир глазами библейского пророка Ионы, проглоченного – напомним – китом? Разумеется, можно:
Хвала телевизору. Террористы разрушили башню Вавилонского торгового центра. На концерте Иерихонского духового оркестра в зале рухнула крыша. Масса жертв. Гей-парад в Содоме разогнан ангелами правопорядка. ‹…› А мне тут хорошо в ките… («Иона»)Вот еще примеры подобной незарифмованной афористики, словно бы даже не погруженной в плавильню стиха, – просто мысли вслух:
без поэта мир почувствовал бы себя несчастным как женщина без зеркальцаДа, следы своего рода «восточной» поэтики тут налицо. В рифмованных афоризмах просвечивают центрально-азиатские твердые формы, в мимолетных картинках – дальневосточные. В смысловом пространстве от Хайяма до Басё, как это ни странно, с полным комфортом размещаются сценки из жизни современного человека, который всегда остается самим собою, иногда, пожалуй, напоминает себе Журдена, который вдруг выяснил, что, оказывается, всю жизнь говорил если не прозой, то нерифмованными стихами…
Минимализм – природное свойство экономной алехинской поэтики, его раздраженно краткого, не терпящего лексических излишеств стиха. Сощуренный редакторский глаз смотрит вдаль параллельно траектории взгляда поэта, и это идет в актив стиха. Я помню свое давнишнее оцепенение, когда пришло в голову вдуматься в начало чеховской «Душечки». «Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке задумавшись». Почему рассказ начинается именно с крылечка? Не с сеней? Не с окошка или описания вечернего неба? А просто потому, что именно при таком зачине мир, в котором вскоре разыграются события рассказа, окажется как будто бы естественным, никак к этим событиям не предрасположенным. Пример был приведен, разумеется, не ради сравнения, а просто для того, чтобы объяснить впечатление подчеркнутой конкретности описаний в начале стихотворений – той конкретности, что лукаво представляется случайной, почти безотчетной.
Троллейбус Сапгира троллейбус в котором умер Сапгир все бегает по Долгоруковской и Кольцу на коричневом сиденье где он упал подбородком на грудь юная парочка склеилась поцелуемОленька – будущая Душечка – в начале рассказа задумалась совершенно неспроста, в этой по видимости глубокой задумчивости – ключ к ее будущим почти мгновенным и почти нераздумчивым сменам воззрений в каждом новом браке. «Склеившаяся» в поцелуе парочка выхвачена взглядом из всех пассажиров троллейбуса тоже совершенно не случайно. Стоит только допустить, что именно здесь провел поэт последние секунды жизни…
Создание новых конфигураций из привычных контуров слов и вещей – характерное свойство свободного стиха, который дает поэту возможность приобщиться к неведомому в очевидном. Алексей Алехин сполна использует свой шанс.
Библиография
Записки бумажного змея / А. Д. Алехин. М.: Время, 2004. 288 c.
Арион. 2005, № 1.
Время звучания // Новый мир. 2005, № 10.
Мичуринские облака: Поэма // Вестник Европы. 2005, № 15.
Последняя дверь // Интерпоэзия. 2005, № 2.
О-ля-ля! // Арион. 2006, № 4.
Псалом для пишмашинки / А. Д. Алехин. М.: ОГИ, 2006. 80 с.
Греческие календы // Новый мир. 2007, № 6.
Из «Записок бумажного змея» // Дружба народов. 2008, № 4.
Неба хватит на всех // Новый мир. 2008, № 7.
Временное место / А. Д. Алехин. М.: Время, 2014. 64 с.
Анна Альчук или «…На волю, на волю, на волю!»
Уж сколько раз твердили миру о том, что пути авангарда в последние сто лет трудноуловимы и нестойки, как выстроенные на макетах башни гигантских небоскребов, для которых не нашлось своевременного (и гигантского) финансирования. Авангард и авангардисты дружно устали ориентироваться на местности. Кто теперь разберет – впереди ли они поэтической планеты всей? позади ли? либо как раз вровень выстроены с традиционной поэтикой? Словосочетания «классика авангарда», «классический авангард» напрочь утратили парадоксальность, а с нею многие образчики авангардной поэзии невозвратимо покинул и «парадоксов друг» – казалось, навсегда. Ничем современного читателя не удивить: ни лексикой, ни ритмикой, ни звуком – вот и получается, что очередные добропорядочные попытки вскрыть внутренность самовитого слова зачастую выглядят как уроки сольфеджио.
Недавно ушедшая из жизни Анна Альчук стойко придерживалась своего пути в стихотворчестве, несмотря ни на какие зигзаги «актуальности», востребованности ее поэтического мышления. Тихо и понемногу публиковала она «обычные» стихи (были еще и «визуальные», непременно требующие картинного рассматривания, но о них стоит говорить отдельно), изредка их читала, в порубежные годы до и после «перестройки», пожалуй, чуть чаще.
Если попробовать вывести несколько предельно общих и непременных свойств авангардной поэтики, то все сведется, по всей вероятности, к двум особенностям. Первым и главным является «субмолекулярный» уровень осмысления языкового материала – поиски значений внутри привычных слов либо на их границах, выявление скрытых смыслов в единицах речи и языка, обычно неосмысленных, по крайней мере в качестве таковых не воспринимаемых. Второе свойство авангардной поэтики – прямое жизнетворчество, зачастую демонстративно эпатажное отождествление бытового и поэтического поведения. Примеры того и другого столь многочисленны и многообразны, что каждый читатель книг с опытом сможет легко вспомнить свои, избавив меня от тривиального экскурса в прошлое. Впрочем, увы, и поэзия Анны Альчук теперь уже навсегда воспринимается в прошедшем времени, тем очевиднее будет наш вывод о том, что из двух наскоро выведенных ключевых особенностей поэтического авангарда ей присуща только первая (расщепление словесных молекул) и лишь в самой малой степени – вторая. Можно возразить, что чтение Альчук все же было по-особенному выразительным, она стремилась подчеркнуть просодическую структуру фразы, наметить дополнительные ударения, обозначить тембры и призвуки. Все это так, но в поэтическом поведении Анны Альчук не было не только ни грана эпатажа, но и вообще «ничего личного», ни малейших «желтых свитеров» либо «завываний кикиморой»…
На поверку эта освобожденность поэтической речи от пафоса первоооткрытия новых смысловых высот декларирована самим поэтом – и неоднократно. Все дело в том, что поэт вообще ничего не произносит впервые и от себя, он лишь говорит на языке, вернее, говорит языком; а может быть, согласно Бродскому, дело обстоит еще загадочней и проще: язык говорит сам, используя поэта в качестве чуткого посредника.
В одном из эссеистических манифестов Анна Альчук формулирует свое поэтическое кредо предельно прямо: «Я вижу свою задачу лишь в следовании тем законам, которые предопределяют функционирование языка: как разговорного, так и литературного (я имею в виду язык русской поэзии). В этом контексте любые споры о приоритетах по поводу тех или иных литературных приемов теряют смысл. Все изначально уже присутствует в языке, именно он является единственным автором; поэтам остается следовать его законам, быть его верными адептами и добросовестными комментаторами» («О единстве противоположностей, или Апология сотрудничества»).
Вот, скажем, как описывается дождь:
по диагоналинии ливни-и-и ка пеплились стеклились слитно стлались исни мизвали лией открылись глиняной ли нялой? («за окном – дождь»)Сама Альчук говорит, что один из ее приемов – имитация иероглифического письма, создание гибридных словоформ, словно бы «натекающих» друг на друга, грамматически неопределенных и двусмысленных, зависящих напрямую от огласовок устного чтения.
Строка «исни мизвали лией», например, содержит как раз несколько подобных вписанных друг в друга эскизов параллельных фраз. Здесь легко увидеть и фразу «И с ними звали лилией», и осколок выразительной формы глагольного императива «исни» (приблизительно равно «плесни!»), и выразительное звукоподражание «лией» – от глагола «лить»…
Эти изощрения могут нравиться или вызывать привыкание и отторжение вплоть до идиосинкразии, но они – с точки зрения поэтической традиции (пардон, – классического авангарда!) абсолютно понятны, прозрачны, чисты и честны. Меня, впрочем, все же чуть останавливает необходимость всякий раз эту прозрачность заново устанавливать и описывать «своими словами». Ну вот, например, как выглядит в исполнении Альчук щебет птиц, напоминающий звук морского прилива:
ГОЛУБИзна ибисы сойки плещут: ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА ВOЛЮ!.. («пена – камень»)Вот так – и ни малейших попыток «мысль разрешить», «выкрикнуть слова» или хотя бы «достать чернил и плакать». И эта напряженная сдержанность – дорогого стоит, бьет в цель без промаха, особенно теперь, когда все молекулы поэтических смыслов в поэзии Анны Альчук уложены в раз навсегда сложившийся узор. В ее последней подготовленной к печати подборке есть стихотворение, написанное словно бы на прощание:
ОТлеТЕЛА душа отдышалась отрешилась от шлака и – вширь просияла на синем отсель несиницей в руках саркофага – прошивающим Землю дождем журавлем обживается вечностьВысокий минимализм Анны Альчук отныне обживает просторную вечность русской поэзии.
Библиография
Словарево / А. А. Альчук. М.: RAMA, 2000.
Посвящается Велимиру Хлебникову // Поэзия русского авангарда. М.: Издательство Руслана Элинина, 2001. С. 265.
Року укор: Поэтические начала. М.: Изд-во РГГУ, 2003.
сказа НО: Стихи 2000–2003 гг. // Поэтика исканий, или Поиск поэтики: Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа XX–XXI веков и современные литературные стратегии». М.: Ин-т рус. языка им. Виноградова, 2004. С. 463.
не БУ: Стихи 2000–2004 годов / А. А. Альчук. М.: Б-ка журнала «Футурум АРТ», 2005. 54 с.
Крепость каменных швов // Дети Ра. 2006, № 4.
Тер-рариум… // Время «Ч»: Стихи о Чечне и не только. М.: НЛО, 2006. С. 193–193.
То самое электричество: По следам XIII Московского Фестиваля верлибра. М.: АРГО-риск, 2007. C. 9–10.
Дыхание // Дети Ра. 2008, № 5(43).
Максим Амелин или «Собирайся с духом, пока свободен…»
С мнениями и толкованиями стихам Максима Амелина повезло. Его ругали, хвалили, даже сгоряча прощения просили в рецензиях. Апогей обсуждений и горячих споров случился тому назад лет уже пять-шесть, после выхода в свет третьей книги стихов «Конь Горгоны» (2003), удостоенной нескольких премий. Нынешний Амелин находится в тени новых (порой скороспелых и недолговечных) поэтов-лауреатов и поэтов-фаворитов, объявившихся на небосклоне во второй половине двухтысячных. О чем говорит затишье в обсуждении стихов поэта – о кризисе и растерянности? О возмужании и накоплении новых серьезных сил? Для ответа на эти вопросы неизбежно придется сопоставлять день нынешний и день минувший.
В начальную пору первых своих заметных публикаций Амелин выступил как непримиримый ненавистник всех тогдашних стилистических и тематических новаций. Посреди очередного периода авангардной раскованности русского стиха раздался глас, ратующий сбросить современность с парохода вечности. Знаток русских и античных древностей, переводчик латинской поэзии, Амелин стремился вдохнуть жизнь в причудливые метрические формы, употреблял лексику («Нет нощеденства без ликовства…»), некоторым резавшую слух похлеще обсценной. Его «вечными спутниками» и собеседниками в поэзии были Языков и Баратынский, Пиндар и Катулл.
«Поэт-творец» во многих тогдашних стихотворениях Амелина представал в облике «мастера-стихотворца»: трезвого, склонного к аналитической ясности наблюдателя вселенских, космических событий, свидетельствующих о логичной соразмерности мира, о «Божием величестве». Личное звучало неброско, стускленно, – только в перспективе вечного любая эмоция обрамлялась нейтрализующими аллегориями и перифразами:
…состаришься, пока меж завитками гжели проступит хохлома…Это говорил человек не на самом деле стареющий, но рассуждающий о старении. «Ломоносовские» (равно как и до-ломоносовские, даже античные) интонации всячески акцентировались. В стихах Амелина властвовали столетия, созвездия и прочий глагол времен, авторское же сознание последовательно очищалось от личностной конкретности и уникальности. Впрочем, только предельно наивному в своем неведении (а порою – в благородном возмущении) читателю могло (либо – может и до сих пор) показаться, что с ним высокопарно беседует некий одописец, упивающийся надмирным совершенством бытия, чуждым «простых человеческих дел». На деле уход в поэтическую старину означал вовсе не уклонение от личного, но отказ от лишнего, пренебрежение чрезмерностью, излишеством мелких чувствований и торопливых реакций на злободневные события, которыми грешили многие стихотворцы раннего постсоветского времени:
На – «Есть ли вдохновение?» – в ответ я ставлю прочерк вместо да и нет…Что ж, подобная уверенность в собственной абсолютной «профессиональной» прозорливости недалека от холодного и отстраненного сальеризма («Ты, Моцарт, бог, но сам того не знаешь, Я знаю, я…»). Однако уверенность эта вовсе не приводит к сальеристским же заблуждениям насчет шансов поверить гармонию алгеброй. Амелин словно бы существует в своем восемнадцатом (а то и семнадцатом) веке, когда все эти бесконечные сомнения и метания еще не народились на свет. Поэт тщательно, со знанием дела воспроизводит событие допушкинского, доромантического поэтического высказывания, в контуры которого не вписывается самонаблюдение и роковая несовместимость с (по Жуковскому) «невыразимым» миром; отсюда самая, пожалуй, знаменитая строка Максима Амелина:
Мне тридцать лет, а кажется, что триста…Скажем теперь самое главное. Эта сложная реконструкция давно ушедшего поэтического мироощущения, «повторение пройденного» на поверку оказывается вовсе не архаикой, а крайней модернизацией! Любая попытка дублирования известного оборачивается ремейком хотя бы уже потому, что нельзя дважды войти в одну реку. Вот почему враг «постмодерна без берегов» Амелин неизбежно впадает в постмодернистскую игру с готовыми смыслами, которые преображаются в результате простого повторения и помещения в новый контекст.
Герой стихов Амелина шести-восьмилетней давности насквозь пропитан «антологическим» духом умеренности, это человек уверенный и спокойный:
Стихи ли слагаю, Венеру Ласкаю ли, пью ли вино – во всем осторожность и меру всегда соблюдать мне дано…Амелин (тогдашний, «ранний») отстранен от обычной для постперестроечных лет подчеркнутой социальности, а также и от личных трагедий, его отгораживает от жизни не только старая нормативная поэтика, но и сама интонация трезво обдуманного веселья, которое никогда не сменяется опьянением:
Будь какая ни будет всячина – у меня же на лбу веселье несказанное обозначено…В пору обретения известности, узнаваемости всякий поэт испытывает противоречивые эмоции. В нынешнем течении стихотворческих дел друг друга стремительно сменяют даже не поколения, не группы, а быстро набегающие и откатывающие от берега «волны», возгласы отдельных поэтов. И многим кажется, что без этого шумного прибоя уже не обойтись. Еще бы – ведь поэты «Московского времени», с опозданием оказавшиеся в центре внимания в начале девяностых, ныне часто воспринимаются уже как классики, вслед за ними, по самому скромному – негамбургскому – счету, на авансцене на краткое время показывались четыре-пять более молодых групп (поколений) стихотворцев. Подобный темп смены ориентиров был неведом ни прошлому, ни позапрошлому столетиям, он порою напоминает мелькание лиц на подиумах или текучие списки музыкальных хитов-однодневок.
В этой связи особенно важна позиция Максима Амелина, как будто бы и знать не желающего никаких перемен. Разумеется, и сам он столкнулся с проблемой выбора: искать новую манеру? Следовать прежней? Читатели и почитатели ждут явно разного – кто-то побуждает к переменам, а кто-то ратует за постоянство. Что же выбирает Максим Амелин? Перечитаем его подборки последних лет.
Перед нами поэт практически новый, обновленный. Куда и делась озорная веселость и непробиваемая защита от сильных чувств, твердокаменная броня пристрастия к античным Каменам? Здесь – прямые высказывания, почти наивные (во всяком случае, уж точно – трогательные) для всякого, кто помнит Амелина, едва отпраздновавшего тридцатый день рождения и уже мнившего, что разменял тридцать первый десяток лет от роду.
По мрачным странствую пещерам Аквилона, чтоб остудить твое взволнованное лоно и сердце отогреть, но, парой каблучков как по полу ни цокай, рабыней преданной иль госпожой жестокой ты мне не будешь впредь.Как видим, Аполлон, равно как и прочие Зефиры и Амуры, – на своих местах. Но содержание стихотворения совершенно иное – ясное, прозрачное и однозначное. В русской поэзии не во второй и не в третий раз случаются прорывы к неслыханной простоте либо к огню, мерцающему в сосуде. Амелин сохраняет преемственность со своею прежней поэтикой не только стилистическую, но и интонационную. Он и сейчас стремится свести все дело к галантному афоризму, к выводу, формуле.
«Кто любит, – говорю словами Еврипида, – тот любит навсегда».Однако за риторическими фигурами – подлинная боль нового опыта, незащищенность и одновременно твердость, как раз и обретенная во времена испытаний – не стилевых, но жизненных, не эстетических, но отчаянных и болевых. Только что приведенная сентенция, например, венчает вот какое стихотворное рассуждение:
Метущаяся плоть и взор пугливой лани, – хоть расторопные поднять и длятся длани упавшую свечу, всё на свои места пусть расставляет случай. Как беден мой язык, великий и могучий, – могу, но не хочу. Встреч редких сладок век, но миг разлуки слаще, – сраженный клятвами, в серебряные чащи без цели, без следа дух уносящими, не подавая вида: «Кто любит, – говорю словами Еврипида, – тот любит навсегда».Вот еще один пример «новой манеры» Амелина – афоризм не просто привлекателен отстраненной отточенностью, но является результатом (и средством) преодоления самого что ни на есть непосредственного ощущения – боли:
Разбитая может ли чаша срастись и злак всколоситься, исторгнутый с корнем? – Лишь пар устремляется струйками ввысь, от праха земного к обителям горним, отзыва взыскуя, зане не суметь ни письменно выразить жалоб, ни устно, – так патина кроет небесную медь: искусство безжизненно, жизнь безыскусна.Максим Амелин ныне находится на распутье, но и в этот нелегкий момент остается самим собою – смелым, дерзким, способным приблизиться на расстояние прямой видимости как раз к тем словам и поступкам, от которых многие годы отстранялся, прячась за изысканную архаику.
Самостояние – грозный вызов тем, кто, просчитывая успех, вместо сомнений, причуд, капризов ищет – не может найти – утех. Внятен дальних и ближних, вовсю хваля и хуля, скрип и скрежет зубовный, что воздано не по чину. Незачем дожидаться, пока меня с корабля современности сбросят – во вспененную пучину днесь, поглубже вздохнувши, как есть, я сам сигану добровольно, без рук и без помощи посторонней. Выплыву – не надейтесь, пойти не пойду ко дну, плавать умея, силой владея своих ладоней, не захлебнусь, поскольку стихии мои – вода и земля, по которой Господь расселил народы. Настоящего судно! – иди себе хоть куда, я же не твердой почвы, но зыбкой ищу свободы.И он выплывет, не захлебнется, в этом у меня нет никаких сомнений. Другое дело, что новый берег может оказаться для него вовсе непознанной землей. Тем интереснее и важнее будет дожидаться опубликования свежих подборок Максима Амелина.
Библиография
Долги земле и небу // Новый мир. 2000. № 4.
На потеху следопытам // Знамя. 2000. № 11.
Из-под пепла и брена // Новый мир. 2001. № 6.
В огонь из омута // Новый мир. 2002. № 7.
Боярышник // Знамя. 2003. № 4.
Конь Горгоны / М. А. Амелин. М.: Время, 2003. 124 c.
Девять измерений: Антология новейшей русской поэзии. М.: НЛО, 2004.
Древневосточные мотивы // Арион. 2004. № 2.
Двум // Знамя. 2005. № 9.
Загрубелый воздух // Октябрь. 2005. № 3.
Продолжение «Веселой науки», или Полное собрание всех Брюсовых изречений, пророчеств и предсказаний, на разные времена и случаи данных // Новый мир. 2005. № 1.
Дети Ра. 2006. № 5.
Единственный Одиссей // Новый мир. 2006. № 9.
Пометы на полях // Знамя. 2008. № 1.
Храм с аркадой // Знамя. 2008. № 6.
Гнутая речь / М. А. Амелин. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2011. 464 с.
Юрий Арабов или «Так почему ты бредишь, что жизнь сиюминутна?..»
О чем стихи Юрия Арабова? О том, что недоговорено в его прозе – романной и сценарной. С позднесоветских времен бури и натиска, когда Арабов был среди вдохновителей вольного и полуподпольного клуба «Поэзия», изменилось многое. Арабов приобрел заслуженную репутацию киносценариста-классика, стихи же пишутся вроде бы только ради автокомментария к «главным» текстам, от случая к случаю… Впрочем, есть во всем этом свое лукавство, какая-то закономерная «ирония судьбы». Известно ведь, что только время расставляет акценты: в конце концов и певец Лауры воспринимал свои любовные сонеты как нечто частное и незначительное по сравнению, например, с трактатом «О презрении к миру»…
У Арабова есть своя тема, своя нота, безошибочно узнаваемая в его стихах на протяжении многих лет. Жизнь в ожидании вечно свершаемого таинства и чуда, которое присутствует в мире и сейчас, но забыто, погружено в сумятицу навязанных идеалов и принудительных легких удовольствий, заслонено всеобщей уверенностью в преобладании посюсторонних истин: конкурса Евровидения – над Пьером Булезом, телерепортажей об избрании нового понтифика – над обетами искупления и покаяния. Арабов словно бы самого себя убеждает: нет, все не так, спокойствие, только спокойствие! Ничто не забыто, не кануло, пусть даже и не всем это очевидно, – ничто под луною не меняется! Имеющий уши и глаза расслышит, различит музыку сфер сквозь заезженные фонограммы, у него – слышащего и видящего – свои цели:
Выдерни из себя это, Выкраси и выброси, То, что ночами шептал при свете И днем мусолил в кромешной сырости. Выдерни, выкраси, растопчи, Запрячь в стреху или под колеса Трактора, что всегда «ап-чхи» Говорит со времен еще Наркомпроса. Будь хотя бы блондином на фоне снега, Будь хотя бы брюнетом на фоне ночи И, как ангел, здесь не оставив следа, Уйди на небо из многоточий.Искаженная чередою железных веков мелодия, по глубокому убеждению героя стихотворений Арабова, продолжала звучать всегда, в том числе, конечно, и в благословенные времена так называемого застоя, когда для каждого был открыт путь внутреннего сопротивления и автономного движения к подлинной жизни вопреки жизни ложной и навязанной извне. Так думает герой Арабова. А вот Евгений Бунимович, соратник Арабова по клубу «Поэзия», в хрестоматийных строках описывает тогдашние времена и нравы совершенно иначе:
В пятидесятых – рождены, в шестидесятых – влюблены, в семидесятых – болтуны, в восьмидесятых – не нужны…Арабов пишет о том же, о тех же, но – прислушаемся – дьявольская разница! С одной стороны, конечно,
Это было время, когда стреляли в других, Ну а ты – только сигарету. Это было время, когда давали под дых И собак запечатывали в ракету.Однако приглядимся: жизненная траектория родившихся в семидесятые имеет у Арабова совершенно иной вид. Да, влюблены были в шестидесятых (и в шестидесятые), но болтунами не были никогда, предпочитали молчание, а потому не испытали ни перестроечных иллюзий, ни постсоветских разочарований.
Кто кидал коктейль Молотова на врага, Тот счастливее тех, кто его распил. Я хлебал коктейль Молотова в года, Когда каждый носил в глубине распил. ………………………………… Наши следы в кабаках везде, А вот Христос не оставил следов, Потому что ходил по воде. Из закусок были орех расколотый, Двое шпрот, обветренных, как наждак. И нам подавали коктейль из Молотова, Чтобы мы заливали внутри рейхстаг.Главные события всегда происходят «внутри» сознания, а значит – мало зависят от того, какое тысячелетье на дворе. Самое главное – что с чем сравнивать! В перспективе большого времени культуры подробности приобретений и утрат перестроечных иллюзий выглядят неразличимо мелко и бледно. Необходимо сопоставлять не тучные годы со скудными, но видеть родство любых сегодняшних дней с временами, когда вершились главные, доселе не канувшие в небытие смыслы:
Еще не дождь, но пока не снег, И гарь на ангелах городских. Светофор говорит пешеходам: «Нет». И дальше не видно следов никаких. И дальше не видно обычных людей С халвой, подарками для родных. Лишь тьма и поступь слышна зверей…Упоминание о халве прозрачно отсылает к Бродскому (точнее говоря, к его известнейшему «рождественскому» стихотворению), и эта отсылка для Арабова фундаментально важна. Только сопрягая времена и смыслы, можно избежать насильственной деформации сознания, которая происходит тем более целенаправленно, чем более свободными, «демократичными» кажутся правила повседневной игры в жизнь:
Несколько политологов Раздели меня донага. Несколько политологов Выудили из подкорки врага. Несколько политологов И несколько эндокринологов Не оставили мне ни фига. Я с утра был то Лазарем, то Христом, Сам себя оживив и поставив стоймя. Я с утра говорил с говорящим кустом, – Человека гораздо труднее понять… Но в этом кусте скрывался не Иегова, И куст горел по всем каналам «на пять»…Голос Юрия Арабова слышен не всем, он (по Баратынскому) «негромок» в отличие от многих меньше проживших на свете стихотворцев, культивирующих колоритное устное фестивальное чтение, «незаурядную» лексику и вообще «социальную» поэзию. Но «всякому городу нрав и права», как говаривал Григорий Сковорода. Для того чтобы прибор (ну хоть тот же телевизор, к примеру) продолжал работать, вовсе не нужно, чтобы все телезрители были телемеханиками. Арабов вполне ясно осознает свои задачи, честные и частные, но от этого не менее, а наоборот – более значительные:
…Я пишу эти строки в зоне рискованного земледелия, начиная кружить над опытом, словно бабочка над растением. Раньше я строил город, но теперь я построю хлев, где из деликатесов только вода и хлеб.В только что изложенные соображения необходимо внести одну весьма существенную поправку. Никому не должно казаться, что в стихах Арабова описаны легкие прогулки по садам вечных смыслов, проступающих сквозь современную нежить. Арабов предлагает читателю историю сомнений и утрат человека, почти целиком погруженного в эту самую нежить, почти навсегда утратившего связь с предвечным чудом. Гармония растворена в повседневных тягостных диссонансах. Гармония и есть диссонанс – лучше всего, как мне кажется, это выражено в замечательном стихотворении, в котором «сложная» музыка нынешнего и прошлого столетий описана как лучшая метафора очистительных событий, отсылающих к евангельским временам.
Штокгаузен не умер. Он просто бредит в трубах, Из кранов выползает холодная змея, Быт крепок, словно улей, он закален на трупах, И на зубах крошится чуть ржавая земля. Ведь наша жизнь сложилась. Как водка настоялась, Но Бог ее не любит, наверное, он прав, И в дебрях сухожилий есть мертвая усталость, Как в августе бывает на перекрестке трав. Ты вылил свою воду, как Иоанн Креститель, Ты видел его руку, которая мертва. Ты горную породу долбил, как небожитель, Чтоб камень возродился из своего нутра. Так почему ты бредишь, что жизнь сиюминутна, Застегиваешь криво дешевое пальто, И умираешь ночью, и просыпаешь утро, И шепчешь, просыпаясь: «Не то, не то, не то…»?Смыслы современной поэзии можно было бы представить в виде круговой диаграммы. В ней у каждого значительного поэта был бы свой сегмент, более либо менее объемный в зависимости от масштаба автора. Для Юрия Арабова в нашей диаграмме смыслов, конечно, нужно зарезервировать особый контур. Может быть, не особенно бросающийся в глаза с первого взгляда, но, по моему убеждению, довольно сильно влияющий на соседние смысловые сегменты. Посреди споров очередных архаистов и новаторов, в перекрестье битв сторонников и противников рифмы, классических метров и верлибров позиция Арабова отличается какой-то особенной отстраненностью. Вы говорите, что все традиционные атрибуты силлаботоники исчерпаны? Почитайте Арабова, он доказывает обратное, причем не декларативно, не в форме пафосных афоризмов – он просто пишет стихи.
Библиография
Сумма теологии // Знамя. 2001. № 5.
Апокриф // Арион. 2002. № 1.
Воздух: Стихи и поэмы / Ю. Н. Арабов. М.: Футурум БМ, 2003. 192 с.
Стихотворения // Арион. 2004. № 3.
Попытка плача // Знамя. 2005. № 6.
У трех вокзалов, в рапиде… // Знамя. 2007. № 3.
Стихотворения // Арион. 2008. № 3.
Нефть-строительница… // Знамя. 2008. № 11.
Земля / Ю. Н. Арабов. М.: Арсис-Дизайн, 2012. 208 с.
Анна Аркатова или «О светотени думаешь одной…»
В наши дни временная дистанция между скрытым от посторонних глаз событием создания стихотворения и его обнародованием предельно сокращена, иногда она сводится к нескольким ударам по клавишам, необходимым для размещения только что написанного текста в микроблоге. Тем ценнее, что в пространстве поэзии продолжают существовать авторы, словно бы задержавшие дыхание, экономящие свои и читательские силы, пишущие редко, а чаще красноречиво молчащие. Это такие разные поэты, как, скажем, Д. Тонконогов, М. Гронас, Г. Дашевский, отчасти С. Гандлевский. «Блажен, кто молча был поэт» – эта строгая пушкинская формула к сегодняшнему стихотворчеству не очень-то применима. В эпоху твиттера все побуждает к незамедлительному выговариванию пришедшего на ум и на сердце. Речь идет даже не о многописании, но именно о сокращении расстояния между написанием и преданием гласности любых строк, в том числе и тех, что по-прежнему, несмотря на все сны о конце искусства, называются стихами. Нет труднопреодолимой (и часто необходимой!) преграды между эмоцией и «лирической возможностью» (Набоков), между замыслом и словом, между черновиком и публикацией.
Стихи Анны Аркатовой в большинстве своем отмечены подобной печатью непосредственности – иногда подкупающе откровенной, иногда наивной, а порою оборачивающейся необязательностью. Стихотворение целиком располагается в монологичном пространстве рассуждения о себе изнутри и снаружи, попытки судить о происходящем в мире помимо авторского сознания практически отсутствуют либо даны иронически:
История, повремени! Запомни, как в этом форсаже И мы были птицам сродни. А может, и ангелам даже.История может быть только личной, накрепко связанной с конкретными событиями, случившимися в чьей-то отдельно взятой жизни. Если взыскательно вынести за скобки все стихи, в которых дело сводится к коллизии ты-да-я-да-мы-с-тобой, – останется ли еще что-нибудь? К счастью – останется: например, стихотворения, в которых связка личного и исторического не выглядит столь предсказуемой, подлежащей простому пересказу. Есть у Аркатовой вещи, в которых появляется недосказанность, неопределенность, широта – в общем, все то, что отличает поэзию от мастеровитых иллюстраций конкретных чувств и событий.
Четырнадцатое июля День взятия Бастилии Бабушка с тетей заснули А меня отпустили У тебя мол такие нагрузки Иди погуляй у подъезда А то дед как начнет по-французски Орать эту как ее марсельезу Не приведи господи…Поводом для воспоминаний о событиях далекого детства здесь становится Национальный праздник Французской республики (стихотворение «День взятия Бастилии»). Причем отличия от предыдущего процитированного стихотворения разительны. Там – достаточно стандартная констатация: «со мною (с нами) происходит нечто настолько значительное, что для нас происходящее эквивалентно событиям исторического масштаба». Здесь – все выглядит совершенно иначе, День взятия Бастилии и бесконечно далек от мелких семейных событий, и вместе с тем тесно с ними связан, в конечном счете – стал причиной неловкой попытки бабушки и тетки отправить юное создание на принудительную прогулку.
Это стихотворение – сравнительно нечастый для Аркатовой случай выхода за границу узкой арены событий, в которых обязательно участвует не только «я», но и «ты». Об этих извечных персонажах, всем известных до тривиальности, связанных отношениями любви-разлуки и т. д. и т. п., нынче писать очень трудно, нужен какой-то особенный поворот темы, иначе все выглядит слишком уж ясно и предсказуемо. «Храни меня в сухом прохладном месте, / Бери меня четыре раза в день…» или «Скребущая во сне изнанку живота – / любовь, я не люблю уже твоей запруды» – вроде бы ведь и выстрел точный, да только слишком уж на виду все стадии и атрибуты: оружие, пули и мишень, вернее говоря, лук-стрела-сердце. И даже сверхточные выстрелы уже не так неодолимо бьют в цель, как это было лет сто назад, в пору рассуждений о надетых не на ту руку перчатках:
Дергаешь плечики – что же надеть? Вечная паника у гардероба. Брось – начинается третья треть, Где-то кроится последняя роба. Что тебе брошки, платки, кружева? Думай о главном – ведь ты же большая! Думаю: главное, юбка жива, Что надевала, тебя провожая.Впрочем, как только Анна Аркатова перестает следить за полетом Эротовых стрел, возникает совсем иная геометрия стиха, лишенная заранее промеренной узкой камерности. Взамен появляется выверенная точность пропорций, очерчивающих разомкнутый горизонт смыслов. «Пространственные» метафоры здесь упомянуты не случайно – по всей видимости, живопись, графика во всех технических деталях известны Аркатовой не понаслышке. Классические живописные изображения аукаются друг с другом, вдруг возникают как навечно застывшие прообразы ситуаций современной жизни, превращаются в живые картины, многое подсвечивающие и объясняющие.
Не женская, скажу тебе, работа – Разглядывать часами фрески Джотто, Зрачок на резкость тщетно наводя, – Когда его стекло почти размыто, А женщина предчувствием убита, Сама глядит и плачет за тебя. Ее волос утраченный рисунок Так верно закрепил желток и сурик, Сопроводив к подножию волной, Что для тебя здесь больше нет сомнений – Ты думаешь о свойствах светотени, О светотени думаешь одной. ‹…›Можно, вероятно, и не знать, что в этом стихотворении («Капелла Джотто после реставрации») речь идет о расписанной Джотто ди Бондоне капелле семейства Скровеньи в Падуе, главное – приобщиться к очевидной мысли: библейские сюжеты (и их классические изображения) могут быть самым непосредственным образом сопряжены с нашей суетной жизнью. Причем важно, что эти соответствия не носят характера прямолинейных расшифровок, они многозначны, нетривиально глубоки. И как же важно, что карты тут не раскрыты, фраза «женщина предчувствием убита» может означать и предвестие крестных мук на Голгофе, и совершенно иные «женские» заботы: материнство, любовь, труд как таковой, физический и сердечный («Не женская, скажу тебе, работа…»). И все это возникает не из прямо названных и объясненных эмоций, но просто посредством умения чувствовать «свойства светотени»…
Не знаю, привиделась ли мне в последней строфе молочница с картины Вермеера, завороженно смотрящая на струю льющегося в миску молока, погруженная в свои, утаенные от всех мысли… Так или иначе, и здесь Анна Аркатова верно схватывает окольную связь душевного настроения и физически конкретного жеста, за которой кроется цельность мира, взаимозависимость слов и вещей:
Хозяин высушил и вытер стеклянный корпус января, и слово здесь звучит как выстрел, случайный, выпущенный зря. Поскольку ясно, что без споров, Без оглушительных вестей Взойдет причина для разбора Как части речи жизни всей. Потом подробней – части слова своих потребуют отмет, и я на холоде готова держать, как пленку на просвет, свой жест, отмеренный еще раз, и, тщась периоды продлить, сбиваться шепотом на шорох, и молоко на скатерть лить…Значит, все же получается, что Аркатова сильна вовсе не на территории «женской лирики», что самые важные ее стихотворения выходят далеко за рамки любовных трюизмов! Весь вопрос, как всегда, в пропорциях исхоженных тропинок и воздушных путей в стихах. Соотношения эти не всегда говорят в пользу автора, впрочем, еще ведь далеко не вечер. Главное – думать о светотени!
Библиография
Групповой портрет // Арион. 2001. № 1.
Внешние данные. М., СПб: Летний сад, 2003.
Наша поэтическая антология // Новый берег. 2006. № 14.
Под общим наркозом // Знамя. 2007. № 2.
Пейзаж для снимка // Новая Юность. 2007. № 4 (79).
Теперь мы движемся наощупь // Интерпоэзия. 2008. № 2.
Одноклассники. ru. маленькая поэма // Новый мир. 2009. № 5.
Полная ясность. Стихи // Знамя. 2009. № 7.
Листки // Арион. 2011. № 1.
День ученика. Стихи // Новый мир. 2011. № 6.
Прелесть в том. М.: Воймега, 2012.
Белла Ахмадулина или «Свой знала долг, суровый и особый…»
Большой поэт всегда начинается с узнаваемых тем, образных рядов, которые постепенно (либо – стремительно) складываются в цельный и обжитой мир. В дальнейшем возможны разные варианты поэтической судьбы, но очень многое зависит от степени постоянства либо гибкости и переменчивости созданного и однажды опознанного читателем мира. Склонность к осознанному отказу от собственных творческих установок – удел Б. Пастернака или Н. Заболоцкого, их путь в самых общих определениях может быть описан как более или менее резкий и вызванный целым комплексом внешних и внутренних причин переход от «сложности» к «простоте».
Иное дело Белла Ахмадулина – координаты ее поэтического космоса остаются стабильными и узнаваемыми на протяжении долгого времени. Космос Ахмадулиной – обжитой, соразмерный человеку, порою камерный, суженный до габаритов комнаты, дома, сада, до смысловых рамок задушевной беседы. Ключевые позиции в ахмадулинском мире принадлежат искусству, лелеемой способности к высокому стилю, к изысканной выспренности поэтического высказывания. Здесь царит культ дружбы, Пушкина, русской лирики, русской музыки и природы. Однако – и в этом самое главное! – поэтическое пространство Ахмадулиной, будучи устойчивым и даже незыблемым, все же меняется, точнее говоря, меняет свои функции, иначе воспринимается на фоне хронологически и сущностно разных поэтических контекстов.
В ранние шестидесятые незабываемые «мотороллер розового цвета» или «розовый фонтан» газированной воды, брызжущей из автомата, воспринимались как знаки своеобразного бунта – сразу и против казенной «гражданской лирики» эпохи соцреализма, и против высокого и искреннего гражданского пафоса в стихах Евгения Евтушенко. Жизнь частного человека, окруженного маревом собственного, не навеянного извне видения вещей, есть главный предмет внимания Ахмадулиной в те годы. Энергия преображения традиции, смелого смещения фокуса поэтического зрения, отход от привычного, традиционного – вот итог сложного взаимодействия (притяжения/отталкивания) лирики Ахмадулиной и стихотворного мейнстрима оттепели.
С течением времени и – особенно явным образом – в последнее десятилетие ахмадулинская манера, оставаясь опознаваемой почти безошибочно, начинает восприниматься совершенно по-другому. Равнодействующая смыслов движется теперь по направлению к уходу от каких бы то ни было бунтарских нарушений традиции. Претерпевшая лишь несущественные изменения манера ахмадулинского стихового высказывания ныне выглядит совсем иначе. Неизменная камерность и сосредоточенность на высоком дружестве поэтического общения теперь уже кажется (и на самом деле является!) знаком отсутствия протеста, вообще отсутствия сильной, резкой эмоции, выходящей за рамки сдержанного и твердого высказывания, адресованного не оппоненту, но другу и единомышленнику.
Прекрасная способность Ахмадулиной к усложненному и вместе с тем почти силлогистически ясному высказыванию по-прежнему остается непревзойденной:
Шесть дней небытия не суть нули. Увидевшему «свет в конце тоннеля» скажу: – Ты иль счастливец, иль не лги. То, что и впрямь узрело свет, то – немо. Прозренью проболтаться не дано. Коль свет узрю – все черный креп наденьте. Успению сознанья – все равно, что муж вдовеет, сиротеют дети…Пространность стихов Ахмадулиной, их сюжетность, событийная насыщенность давних поклонников поэта обмануть не могут. Речь всегда идет не об эпически отстраненном изображении неких вымышленных, условных, случившихся с другими людьми событий, но о происшествиях, точно и непременно имевших место в духовной либо «материальной» жизни конкретного человека – поэта Беллы Ахмадулиной.
Можно было бы сказать, что большая часть опубликованных произведений поэта принадлежит к категории стихотворений «на случай», за каждым угадывается (либо бывает назван прямо) конкретный собеседник – по большей части человек искусства, а порою – случайный встречный, которому уделена проникновенная и рассчитанная на понимание речь о его собственной бытовой либо сокровенной жизни.
Поэзия для Ахмадулиной – не средство описания и не объект внимания, но непреложное свойство бытия. Метафоры и рифмы, оставленные, например, Пушкиным, не обойдены вниманием потомков, давно покинули рамки конкретных стихотворений, вошли в плоть и кровь реальности, как самые простые и исконные слова и вещи.
Я думала в солнцеморозном свете: зачем так ярко, так тепло живой Он непрестанно помышлял о смерти? Мысль не страшна – насущна и важна, и предстоящей пагубы подробность обдумана: бой, странствiе, волна… Нет книги – можно пульс виска потрогать, добыть строку, желанье загадать иль вспоминать Его июнь двухсотый, где я, как при дуэли секундант, свой знала долг, суровый и особый…Стоит гению однажды произнести «мороз и солнце» – и, начиная с этого мгновения, сопряжение двух физических параметров (низкой температуры и яркого света) становится свойством любого зимнего дня, достойного эпитета «чудесный». Момент сопряжения однажды сказанного поэтического слова и его нового повторения-творения в устах поэта в стихах Ахмадулиной означен рядом близких эпитетов – «чудо», «волшебство», «творчество»:
Я ожила, а слово опочило. Мой дар иссяк, но есть дары цитат. Нашлись для точки место и причина…Как же это напоминает незабываемые «старые» (1968 года) строки Беллы Ахмадулиной:
Мне вспоминать сподручней, чем иметь. Когда сей миг и прошлое мгновенье соединятся, будто медь и медь, Их общий звук и есть стихотворенье.Вот так и продолжает петь свои песни Ахмадулина, не замечая дольних бурь и битв, обращаясь к Андрею Битову и Юрию Башмету, к Борису Мессереру и Юрию Росту, Андрею Вознесенскому и Юрию Любимову, Володе Васильеву и Кате Максимовой… Нет, не все у нее гладко, иногда словесная вязь наглухо закольцовывается в круговую череду поэтических раздумий о самой поэзии. Пожалуй, в истории русской поэзии только Афанасию Фету удавалось сохранить живость и непосредственность в столь густой взвеси возвышенных слов. Ахмадулина же порою испытывает «умственные затруднения», впрочем, и сама в этом с легкостью признается:
Лежаний, прилежаний, послушаний я кроткий и безмолвный абсолют. Двоится долг двух розных полушарий, они не ладят, спорят, устают. Я лишь у них могу просить подмоги, но скрытен и уклончив их намек. Мозг постоянно думает о мозге. Он дважды изнемог. Он занемог. («Умственные затруднения»)Вопреки подобным опасениям в стихах Беллы Ахмадулиной последнего десятилетия мысль о мысли не отдаляет поэта от реальности, но порождает двойную мысль о бытии: полнокровную, самодостаточную, хоть и замкнутую в теме и предмете; игнорирующую того, кто не настроен на волну симпатии и понимания, но безошибочно находящую благодарного и сочувствующего слушателя.
Библиография
Влечет меня старинный слог. М.: Эксмо, 2000. 525 с.
Нечаяние: Стихи, дневники. 1996–1999. М.: Подкова, 2000. 213 с.
Сны о Грузии // Дружба народов. 2000. № 10.
Стихи. Поэмы. Переводы. Рассказы. Эссе. Выступления. Екатеринбург: У-Фактория, 2000. 607 с.
Стихотворения. Эссе. М.: АСТ; Астрель; Олимп, 2000. 507 с. (Отражение. XX век).
Блаженство бытия // Знамя. 2001. № 1.
Блаженство бытия. М.: Эксмо, 2001. 412 с.
Пуговица в китайской чашке. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 60 с.
Пациент // Знамя. 2002. № 10.
Хвойная хвороба // Знамя. 2003. № 1.
Посвящения // Знамя. 2004. № 1.
«Живут на улице Песчаной…» // День и ночь. 2005, № 11–12.
Таруса / Б. Ахмадулина; иллюстрации Б. Мессерера. М.: Артлибрис, 2005. 272 л.
Василию Аксенову // Октябрь. 2007. № 7.
Письмо Булату из Калифорнии // Вестник Европы. 2007. № 19–20.
Путник. М.: Эксмо, 2007. 318 с.
Шарманки детская душа. М.: Эксмо, 2007. 352 с.
Озябший гиацинт // Знамя. 2008, № 5.
Утро после луны. М.: Астрель; Олимп, 2009. 352 с. (Книга на все времена).
Озябший гиацинт. М.: Астрель; Олимп, 2009. 288 с. (Книга на все времена).
Иван Ахметьев или «Инструментальное значение поэзии…»
Стихи Ивана Ахметьева узнаваемы с полуслова: поскольку в них нередко присутствуют и в самом деле как будто бы только полуслова и полуфразы, языковой материал расходуется экономно, с минимальными издержками для глаза и уха читателя. Впрочем, минималистская поэзия – это не просто короткие стихи. Дело совсем не в краткости, но в изначальном разрушении привычного равновесия слов, вещей и представлений. Тут нет ничего странного или тем более мистического. Ведь значением обладают не только слова, но и фрагменты слов – причем не только «разговорч-», «крутящ-», но даже и «-ость» и «-тель». «Довольно покупать все новые модели проигрывателей – пора наконец найти выигрыватель» – эта случайно услышанная незатейливая острота возможна именно потому, что «-тель» может означать не только прибор (как «глушитель»), но и род занятий («учитель»). Смешение двух смыслов может породить каламбур, замкнутый в словесной материи (семантике); чтобы этот каламбур услышать, достаточно просто «переключить» восприятие в иной регистр: так, в том же слове «глушитель» посредством подобного переключения регистра можно усмотреть метафорическое обозначение строгого цензора, душителя литературной свободы.
Подобные обобщения значений слов не всегда связаны с их сокращением, буквальным превращением в полуслова. Ахметьев может употреблять не усеченные формы слов, но иметь в виду предельно обобщенные, отвлеченные от событийной плоти значения:
не здесь то есть не сейчас и не сразу но обязательноЯзык, на котором идет повседневное общение, часто кажется не более чем техническим средством выражения того, что человек хочет сказать. Ну произношу я слово «дождь» в убеждении, что соответствующее атмосферное явление, с одной стороны, объективно существующее понятие «дождь», с другой, и, наконец, относящееся к сим материям звукосочетание «дождь» – суть три варианта одной сущности, между которыми нет никаких барьеров. Но почему именно это сочетание звуков обозначает падение капель воды с неба, почему «дождь», а не «рейн» (rain) и не «реген» (der Regen)? Ведь придумал же создатель аналитической философии не имеющую смысла, но внешне правильно построенную фразу: «За окном идет дождь, но я так не считаю»! Так вполне допустимо сказать с точки зрения согласования в роде-числе-падеже. Но совершенно невозможно говорить с точки зрения смысла.
Витгенштейн в подобном примере взрывает автоматизм отношения к обычному языку как к мертвому орудию. Но поэтический-то язык весь целиком представляет собой нечто особенное, «деформированное», «остраненное», выводящее за пределы простой инерции! Если допустить существование поэзии, целиком построенной на подобном остранении, то это и будут стихи Ивана Ахметьева. Вот одно из его произведений:
инструментальное значение поэзии (в смысле обоих Некрасовых)В этом тексте два смысловых уровня: с одной стороны, перед нами декларация: что есть поэзия вообще, вернее – какой ей надлежит быть: согласно Николаю Некрасову, стихи должны оказывать на жизнь прямое (в том числе «гражданское») воздействие; по рецептам другого Некрасова, Всеволода, назначение поэзии – служить инструментом порождения новых смыслов слов, новых связей между словами и вещами. Парадокс в том, что перед читателем не только поэтический манифест, но и сама поэзия во всей своей инструментальной конкретности и полноте! В давно минувшие дни министр народного просвещения граф Уваров, приведший своего былого товарища по обществу «Арзамас» Александра Пушкина на теоретическую лекцию в Московском университете, воскликнул: «Вот вам теория поэзии, а вот и сама поэзия!». В данном и во многих других случаях текст Ивана Ахметьева говорит читателю нечто очень сходное:
любое стихотворение выражает чувства которые испытывал автор в момент его написанияЧитай: и это стихотворение тоже говорит о чувствах, испытанных автором, только для строгости и полноты картины эти чувства не упомянуты, вынесены за скобки обобщения. Пересечение границ – основной принцип стиховой речи Ахметьева, причем границ весьма разнообразных – между языком и реальностью как таковой:
стало пасмурно и закапало сижу один среди стиховВпрочем, помимо отвлеченных манифестов и смысловых сдвигов в грамматике, стихи Ахметьева – как бы поверх всех словесных барьеров – содержат ясные отсылки ко времени написания. «Перестроечный» контекст ясно присутствует не только в самом, пожалуй, известном афористическом одностишии Ивана Ахметьева (и не введи нас во Ингушетию), но и, например, в «однословии» (зоотечественники).
Что же на деле означает для русской поэзии некрасовско-ахметьевское грамматическое сгущение смыслов? Думаю, две противоречащие, но вместе с тем увязанные друг с другом вещи. Во-первых, парадоксальное освобождение стихотворения от персональности, субъектности, демонстративный отход не только от любых лирических сантиментов, но и от традиционного лиризма как такового. Если с подобных позиций переписать «Я помню чудное мгновенье…», то получилось бы нечто вроде:
явилась и тут же во мне сноваНо, во-вторых, в подобного рода стихах есть и нечто совершенно противоположное: уход от прямого выражения чувств означает не холодную бесстрастность, а, напротив, концентрацию эмоции, точнее, возможность присутствия в каждой точке пересечения слов и вещей сразу нескольких ощущений, что ведет вовсе не к отстраненности, но к предельному напряжению лирического переживания. Обозначенная антитеза имеет самое широкое культурное значение. Необходим ли для восприятия нового («авангардного») искусства «третий глаз»? Способен ли поклонник Боттичелли любоваться Малевичем? Стихи Ивана Ахметьева убеждают: вполне способен, более того, обретение нового зрения способствует более глубокому восприятию классических шедевров.
люди те же остались те что осталисьТак говорит Ахметьев, играя словами, имея в виду не только то, что «люди нынче те же, что и всегда», но и что «из людей мало кто уцелел» – почти полный эквивалент восклицания из «военной» песни традиционнейшего лирика прошлого века («Нас осталось мало, мы да наша боль…»). Почему поэзия в который уже раз за последнее столетие стремится сменить вектор развития, обратиться к внутренней природе языка? По каким причинам традиционный лиризм оказался под сомнением? Где выход из очередного смыслового тупика? Иван Ахметьев не дает готовых ответов, а всего лишь произносит:
рекомендую задуматьсяЭтому призыву, право же, нельзя не последовать.
Библиография
Девять лет: 1992–2001. М.: ОГИ, 2001. 80 с.
[Стихи] // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2001. Сезон 2000/2001 г., вып. 1. С. 5–6.
[Стихи] // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2001. Сезон 2000/2001 г., вып. 2. С. 3–5.
[Стихи] // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2001. Сезон 2000/2001 г., вып. 3. С. 10–11.
Вот до чего дожил // Новый мир. 2001. № 5.
Amores: Стихи 1966–2002. М.: ЛИА Р. Элинина, 2002. 40 с.
[Стихи] // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2002. Сезон 2001/2002 г., вып. 6. С. 66–67.
Наконец что-то отдать… // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2003. Сезон 2002/2003 г., вып. 9. С. 8–11.
[Стихи] // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2003. Сезон 2002/2003 г., вып. 10. С. 17–18.
[Стихи] // Самое выгодное занятие: По следам X Московского фестиваля верлибра. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2003. С. 10–11.
[Стихи]: По непрочному воздуху: По следам XI Московского Фестиваля верлибра. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2004. С. 37–38.
[Стихи]: То самое электричество: По следам XIII Российского фестиваля верлибра. М.: АРГО-РИСК, 2007. С. 13–14.
«позвонили и молчат…» и др. // «ВОЛГА – XXI век». 2008. № 3–4.
ничего обойдется. М.: Самокат, 2011. 96 с.
Николай Байтов или «Суха поэзия, мой друг…»
В стихотворениях последних лет Николай Байтов, по обыкновению, говорит словно бы не с читателем, а с самим собою, все понимающим с полуслова. Потому и тон беседы сдержанный, почти равнодушный, без модуляций и каденций. В стихах преобладает намеренно тусклый колорит. События тоже описаны не ахти какие – обычные и невыдающиеся. Читатель ждет уж рифмы розы? Так не получит же он ее ни за что и ни под каким видом! Вот что, как бы за кадром, произносит Николай Байтов. Поэзия – это совсем не то, что вы думаете, что ожидали от меня услышать! На многократное повторение с иллюстрациями этого несложного, на первый взгляд, тезиса у Байтова уходит много сил и (вот уже) много лет.
Что же все это значит, для чего делается? Уж не для того же, чтобы в течение долгого времени оставаться как бы в тени, не привлекать широкого внимания ни в пору советского (то есть, конечно, антисоветского) самиздата, ни в перестроечное время перемен, ни потом, в постсоветскую эру, когда многие обитатели андеграунда из сторожек и котельных переселились прямиком в грантоносные заграничные палестины. Многие, но не Байтов, который твердит свое, по-прежнему избегая малейшей открытой эмоциональности и остроты.
Скупо даю тебе я ракурсы лиц, слабые позы, взгляды из-под волос. Редко меня ловили фокусы линз. Имя мое невидимо назвалось.На очевидную недостаточность ожидания традиционных «поэтических» смыслов в стихах Николая Байтова указывает очень многое. В мире Байтова поэзия вовсе не имеет какого-то особого веса, не занимает места на Парнасе, да и сам Парнас – пуст, ежели допустить, что он вообще существует. Стихотворец, соответственно, никак не может быть уподоблен Орфею, звуком сладкоголосой цевницы приводящему в движение животных, людей и светила.
Моя коллекция затей представлена – в апреле, в мае. Свирелью я зову детей – Они гуляют, ноль вниманья. Речитативом разольюсь, расплачиваюсь равнодушьем. Гуляю в садике цветущем, скучаю, сам себе дивлюсь.Вот эти-то особого рода «скука», видимая медлительность и являются стартовой площадкой для фирменной «байтовской» энергетики, прячущей в своих недрах скрытые мегабайты многообразной нюансировки бытового восприятия. Допустим, что вы не стихи читаете, дражайший читатель, а просто рассматриваете самых что ни на есть настоящих гуляющих детей. Можете ли вы оказать на них какое-то прямое воздействие? Вряд ли, разве что домой позовете одного из них, если это, конечно, ваш отпрыск, чужой-то не откликнется! Поэзия в байтовском мире тоже не откликается на пафосные призывы, словно бы в них и не нуждается, будучи такой же органичной составляющей жизни, как апрель, май или гуляющие дети. Что это означает? Сведение поэтического начала в мире к абсолютному нулю? Думается, нечто совершенно противоположное: возвышение поэзии до одного из подлинных, фундаментальных событий, которые именно по этой причине являются заурядными, – как кучка ожидающих автобуса на вечерней остановке или те же самые дети, подобно кошкам гуляющие сами по себе.
Базовая идея Байтова (недаром же естественника по образованию!) состоит в том, что слова и вещи, буквы и события, стихи и жизненные истории суть явления однопорядковые, почти тождественные. В мире на равных правах существуют и материя, и ее словесные экспликации. Впрочем, подобные заковыристые фразы, перенасыщенные терминами, Николаю Байтову, разумеется, чужды. Чтобы сказать совершенно то же самое, он непременно найдет слова попроще, события пообыденней:
Странно ехать под шофе в грузовой машине. Страшно ехать по шоссе в грозовую ночь. По обочинам бегут случаи из жизни: Ратца, Чагодица, Кихть, Воя, Вондожь, Вочь…Странная игра соответствиями, тотальное тождество звуков, знаков и предметов. Даже под шофе подспудно отождествлено с неназванным шофером, где-то за кадром непременно вращающим баранку грузовой машины. Подобное «номиналистическое» поэтическое зрение, конечно, не является абсолютно новым, однако необычно то, что оно начисто лишено не только малейшего оттенка религиозной метафизики (для которой слово, логос также вмещает в себя мир, бывший в начале), но даже и заурядного, прошу прощения, символизма, соположения материи и духа, как это многажды было в поэзии – от Бодлера и Рембо до Блока и Вяч. Иванова.
Медленно грузная цепь облаков тянется в небо из-за сарая – стадо коров, запряженных зарею, стадо коров, ой ты стадо коров.Что протягивается из-за сарая – облака ли, коровы? Или коровы, похожие на облака? Описание этого простейшего события оказывается довольно сложным, даже прихотливым.
Известно, что всякое описание, насыщенное классически использованными символическими понятиями, оказывается разомкнутым, распахнутым в дали бесконечных соответствий. Вот, допустим, кто-то нам говорит: «Вхожу я в темные храмы…». Понятное дело, что никто тут никуда не входит, да и вообще не передвигается в физическом пространстве: речь идет о символическом движении души навстречу контакту с неведомым, бесконечным, «прекраснодамным».
У Байтова все происходит прямо противоположным образом. Событие захлопывается, сужается до полного тождества с самим собою, не предполагающего никакой дистанции, никакой эмоции или оценки. Что сейчас происходит со мною, пишущим о стихах Николая Байтова? Кипение пытливой мысли? Нет, просто стук по клавишам. Хотите подробнее? Скажу: «По кла-ви-шам», могу перечислить: «к», «л», «а»… В этом тусклом унылом бормотании самому себе под нос нет даже иронии, к которой привычно прибегали многие борцы с ложным пафосом в поэзии.
Много книжек читал я в родной стороне: много букв, много слов, много мнений. Ничего не унес я в своей котоме, уходя в непогоду и темень. В это утро упреков, утрат и тревог, в пустоту бесполезных терзаний лезут пятна рябин и бригады грибов, сопрягаясь в багряный гербарий. …Только дождик да ветер осенний торопливо стучится в слепое окно, как сосед бьет в окошко слепое, – знать, машина пришла, знать, открыли сельпо, как сказал бы Гандлевский-Запоев.Да, большие русские поэты С. Гандлевский и Т. Кибиров из подобного скупого и непафосного описания непременно извлекли бы нечто хоть и неброское, но в читательском сознании совершенно определенное: ностальгическое сердечное колотье либо ироническую ухмылку. Байтов же стремится достигнуть нулевой степени письма, тут не только «роза пахнет розой», не только в небе горит «не луна, а светлый циферблат», но отсутствует даже эмоция низведения жизни до молчаливого тождества с собою. С таким же успехом можно было бы изображать кружение электронов по их крутым орбитам либо прихотливые превращения аминокислот. Как бы все сказанное изобразить в теоретических красках? А вот как: «У Байтова утраченной оказывается любая модальность бытия, его предикативность, чтойность». Конечно, и на этот раз сам поэт легко и неоднократно находит обороты куда более незатейливые и внятные:
Неужели опять обретать атрибут, утеряв предикат пререканий?.. В поле ветер метет ярлычки мертвых букв, составляя последний гербарий.Вы, значит, думали, что поэзия невозможна после Освенцима? Это, конечно, тоже верно, спору нет. Однако она невозможна просто по определению, потому что в ней не заинтересована материя современной реальности, разложенная вдоль и поперек на молекулы и атомы цифровых наноинноваций.
Похоже, я с детства болтался, всему человечеству чужд, в прозрачном кристалле пространства вдали от количества душ. И вот эти грустные мысли да бедные игры ума. Одни только буквы и числа да некоторые имена.Ну ладно, допустим. И что же в таком случае остается делать тому, кто в другом измерении сущего, в навсегда исчезнувшем подлунном мире народных троп и нерукотворных столпов был бы поэтом? Как «что»? Да стихи писать, конечно, только не простые, а, например, вот какие:
Суха поэзия, мой друг, но зеленеет жизни проза, как старый на лужайке дуб листвой оделся вдруг так просто, что проезжающий Болконский воскликнул: «О, как был я глуп, когда средь леса букв подобия своей печали!.. Где ж вы, друзья однополчане, лишившиеся ног и рук? Ужели эти ваши члены – и те, и прочие, и все, творя банальный гимн весне, восходят к солнечной листве в безличном веществе вселенной?»Как видим, в тусклой реальности Байтова есть свои ориентиры, своя собственная роза ветров. Чтобы до них досмотреться, надо совершить немало предварительной работы, немало лишнего отбросить из своих привычных поэтических ожиданий.
Мне снилась пустая деревня. Ноябрь. Серый дождик идет. Я встал, чтоб использовать время, которое тоже идет.Николай Байтов на протяжении многих лет стремится без остатка «использовать» для своих опытов все ресурсы мироздания, вложить поэтическое усилие в те сферы существования, которые обычно находятся за порогом бытового восприятия. В его речи непременно присутствуют энергия, напряженная динамика, которые лишь маскируются под колорит обыденного перечисления ничем не примечательных событий. От такой поэзии не ждут милостей, взять их у нее – задача внимательного читателя.
Библиография
Тридцать девять комнат // Знамя. 2000. № 3.
Волосы смыслов // Знамя. 2000. № 12.
Времена года. М.: ОГИ, 2001. 64 с. (Поэтическая серия клуба «Проект ОГИ»).
О моем шурине // Знамя. 2002. № 2.
Приблизительно так // Знамя. 2003. № 2.
Куст слов // Знамя. 2004. № 7.
Что касается. М.: Новое издательство, 2007. 92 с. (Новая серия).
282 осы. Таганрог: Нюанс, 2010.
Резоны. М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2011.
Марина Бородицкая или «Дурацкая привычка быть счастливой…»
Среди хороших и разных есть поэты, о которых вроде бы не помнишь – впрочем, не потому, что они отсутствуют на твоей личной карте поэзии. Наоборот, поэты эти существуют настолько определенным и непреложным образом, так плотно занимают свое место, что не требуют специального припоминания. Ну не перебираем же мы поминутно в памяти все буквы алфавита – нам легко и приятно быть уверенными в том, что «с», например, обязательно встретится в словах слава, страсть или фарс…
Марина Бородицкая вопреки всем предрассудкам с особым цинизмом провозглашает, что
И женщиной быть, и поэтом – Завиднее участи нет.Коли женщина, значит, жена, и мать, и хозяйка – все сплошь рискованные амплуа с готовым ассортиментом застывших масок-эмоций. Все эти основные инстинкты в стихах Бородицкой присутствуют, спору нет! Однако сознательное сужение диапазона ролей и тем – не знак бедности зрения, но лишь прием, повод для проявления особого рода минимализма, бесконечного модулирования того, что всегда находится под руками и не требует частого припоминания.
Косынка, пижамка, пеленка, Прохлада, как в летнем лесу… Я выкупанного ребенка В постель на закорках несу. ………………………………… Ни роста, ни стати, ни пыла Ни прочих изящных затей – Одна лошадиная сила Досталась породе моей. На нас сэкономлены средства, Зато нам легко на земле: Ведь мы переносчики детства, Мы учим держаться в седле.Что здесь не так или не совсем так, как это сплошь и рядом бывает в лирике материнского долга и семейного очага? Конечно, филигранно двусмысленная фраза «переносчики детства» даже важнее, чем постоянное у Бородицкой самосравнение с рабочей лошадью, покорной всем тяготам жизни. Марина Бородицкая – помимо всего прочего – детский поэт, а значит, поэт, умеющий приковать внимание самого взыскательного читателя. Именно это дерзкое умение сделать интересным простое и важное Бородицкая последовательно переносит во взрослую поэзию.
Поэты как дети: цветную стекляшку нашел Иль камушек редкий – один в кулаке зажимает: – Уйди, не твое! – и мальчишки, забыв про футбол, Его окружают, канючат, сопят и гадают. Иной же – в раскрытой ладони то так повернет Находку, то этак… и тянет, и молит: взгляни же! Но прятками, салками занят сегодня народ, Лишь рыжая девочка робко подходит поближе.Детям игра – всегда всерьез, взрослый, не понарошку отдающийся игре, – либо чудак-человек, либо нечто гораздо более запущенное. Ничего иного как будто бы не дано – нигде, кроме стихов Марины Бородицкой. На территории «детской» поэзии, где, казалось бы, все ноты давно сосчитаны и уложены в каталог, она, если разобраться, выпевает довольно сложный мотивчик, не «маршаковский» и даже не «остеровский». Это песенка взрослого человека, который не подлаживается под детские приколы, но остается собою, играющим в свои взрослые игры. Дети всегда чувствуют такую серьезность, живо на нее реагируют, она «держит» их внимание гораздо прочнее, нежели всевозможные ути-пути. Позволю себе отклониться от темы. Мой двоюродный дед (родных, увы, увидеть не довелось), разливая суп по тарелкам, рассуждал о том, как он любит в вареном мясе жилы и кости. Время было не самое сытое, дедовы рассказы были поводом, чтобы положить мне в тарелку куски понаваристее. У взрослых всегда – какая-то своя игра (типа «папиной работы»), но это все-таки игра, то есть нечто домашнее, неопасное, происходящее не полностью всерьез, подлежащее перемене.
Деду ведь в самом деле нравятся вершки, значит, я со спокойной совестью могу оставить себе любимые корешки, – так думалось мне когда-то за обеденным столом. И до сих пор я слышу этот насмешливый мужской голос, неловко-ласковым щитом ограждавший детские шалости от других невыдуманных опасностей.
В стихах Марины Бородицкой – к тому и веду – преобладает веская «отцовская» интонация, призванная вернуть не только детям детскую естественность (переносчики детства), не впадающая в инфантильную «материнскую» чувствительность либо в насильственную – и тоже немужскую – вечную жалобу на тяжкую взрослую жизнь типа: «а тут еще и ты не делаешь уроки…». Рабочая лошадь не тяготится своей долей, она пашет глубоко и счастливо и никогда не испортит борозды.
Не только с представителями непарнокопытной фауны сопоставляет свою лиргероиню Бородицкая, но еще и с культурными растениями:
Я картошка, дожившая до весны. Нет во мне былой белизны. А кругом молодняк – розовеют, крепки, Выставляют наружу пупки. Я на ощупь мягка, Шкурка мне велика, Но хозяина не подведу: Я пустила два сильных, два сочных ростка И готова лечь в борозду.Два ростка – два сына, Бородицкая, как обычно, ничего не придумывает, а пишет «прямо о себе», но суть даже не в этом. Дело в особой вескости слов и точности формулировок, очень далеко отстоящих от легкой игровой атмосферы ее квазидетских (а если разобраться, детских вдвойне) стихов, с которых мы начали наши рассуждения. В этой особой твердости не иначе как слышны отголоски еще одного параллельного поэтического ремесла Бородицкой – переводческого.
Второстепенные английские поэты, вы руки тянете ко мне из темной Леты и, как детдомовская ребятня: – Меня, – кричите вы, – меня, меня!..Английские стихи разных времен, изысканные, порой чуть манерные, но всегда стремящиеся к дефинитивности и точности высказывания, – вот что явственно присутствует в подтексте «оригинальной» поэтики Марины Бородицкой. Например, если речь заходит
…О девочке сильной и строгой, Прекрасной, как точный прыжок…Думается, из того же источника – неиссякаемая ирония и самоирония, постоянное желание взглянуть со стороны не только на себя, но и на всех, кто готов эту насмешку над собой подметить и подвергнуть нехитрому анализу:
Я никогда никому объяснить не в силах, что у меня к чему. Про любой пустяк мямлю: мол, исторически так сложилось, так получилось, а пуще – сказалось так. Добрый мой критик с розовыми щеками, мысленно прижимаю тебя к груди и оставляю на кухне тетрадь со стихами: будешь анализировать – не буди.Имея в виду подобные психоаналитические напутствия, остается произнести немногое. Марина Бородицкая говорит не меняя тона, ей для стихов не нужен какой-то особый повод. И в радостном упоении мелочами иронии лишь малая толика, хотя она есть – и детская, и по-английски чуть манерная. Вот, скажем, Сантехник – супергерой концептуалистских ристалищ, ну кто, кроме Марины Бородицкой, отважится сказать о нем такое:
По-доброму в нашем квартале Относятся люди ко мне: Суровый сантехник Виталя При встрече мне рад, как родне!Бородицкая дышит, как пишет: ровно, беспафосно и счастливо – словно бы переворачивая с ног на голову окуджавское литературное профессьон де фуа, вносит в него обычную свою мягкую иронию. Поэт, он что, просто пописывает? Или защищает форпост высот духа от наседающих профанов? Как-то так у Бородицкой получается, что и то и другое сразу. То есть, конечно, нельзя забывать о пребывании на посту, на страже. Но верная картина получится, если вспомнить «Операцию Ы»: Шурика, охраняющего вместо Бабули продовольственный склад. Все всерьез, по-настоящему, включая налетчиков. И все как-то налегке, помимо осознания высокого долга.
На посту в краю пустынном Мерзну с верным карабином В кем-то выданном пальто. Я чего-то сочиняю И, наверно, охраняю Что-то нужное – но что? Тут кругом глухая местность, Где-то гордая словесность Мчит в гудящей мгле ночной. Ты ль, небесный разводящий, Посмеялся надо мной? Не сменили, не убили, Может, просто позабыли И не взяли даже слова, Как мальчишки в том саду. Видно знали: не уйду.Есть у Кафки притча с простым названием «Ночью», там тоже речь о всеми забытом часовом, охраняющем неведомо что и от кого. Вокруг ничего страшного не происходит, но, как знать, может быть, беды именно потому и отступают, что близорукий Шурик сосредоточенно мерзнет на своем посту? «Бодрствовать кто-то должен» – так заканчивается притча Кафки. Марина Бородицкая берет на себя эту странную обязанность: стоять на страже настолько неброско и неприметно, чтобы о ее присутствии на карте современной поэзии можно было со спокойной душой не вспоминать, не беспокоиться, не думать.
Библиография
Год лошади. М.: Скрипторий, 2000. 62 с.
К погоне лицом // Новый мир, 2001, № 8.
Стихотворения // Арион, 2002, № 3.
Герб и дата // Новый мир, 2003, № 11.
Стихотворения // Арион, 2004, № 4.
Нечаянный выигрыш // Новый мир, 2004. № 10.
Оказывается, можно. М.: Время, 2005. 195 с. (Поэтическая библиотека).
Ода близорукости // Новый мир, 2006, № 3.
Гомеопатия, мечта поэта // Иерусалимский журнал, 2006, № 23.
Еще ведь и чаю не пили // Новый мир, 2007, № 4.
Стихи из разных путешествий // Иностранная литература, 2007, № 12.
Мне бы игру спасти // Новый мир, 2008, № 11.
Ода близорукости. М.: Время, 2008. 80 с. (Поэтическая библиотека).
Крутится-вертится. М.: Время, 2013. 320 с. (Поэтическая библиотека).
Евгений Бунимович или «…с этим и предстанет перед высшим…»
Написанные в последние годы стихотворения Евгения Бунимовича способны удивить всякого, кто уже много лет (или десятков лет) знает и ценит его поэзию.
был такой евгений бунимович полторы натуры мрамор бронза ощущал предутреннюю горечь устранял немедикаментозно бунимович был такой евгений хрен с горы синайской в поле чистом не любил писать стихотворений да и получалось неказисто с этим и появится на страшном с этим и предстанет перед высшим буни говорите мович как же был такой да весь куда-то вышелЧто за оказия, что за коллизия? Откуда эта ирония, подлинна ли она? Мы ведь помним, что Бунимович – из тех стихотворцев, которые еще в восьмидесятые годы внесли новое и свежее содержание в поэзию. Евгений Бунимович – один из основателей легендарного клуба «Поэзия», под сень которого сошлись все почувствовавшие долгожданный ветер перемен, а также и те, кто любил читать и слушать стихи. Этот поэтический круг очерчивал резкую границу между суррогатом застойной свободы и свободой, самими поэтами над собою признанной.
Время было иное – «интерьерное», «кухонное», полное неясных надежд. Евгений Бунимович написал о своих сверстниках хрестоматийные и, пожалуй, пророческие строки:
В пятидесятых – рождены, в шестидесятых – влюблены, в семидесятых – болтуны, в восьмидесятых – не нужны. Ах, дранг нах остен, дранг нах остен, хотят ли русские войны, не мы ли будем в девяностых отчизны верные сыны… («Поколение»)Он любит многоточия в конце строк и стихотворений. Кажется, стихи можно запросто продолжить, приписать еще что-то свое. Мне, например, одна из строк всегда вспоминалась в таком виде:
Ах, дранг нах остен патер ностер…Стихотворение открыто всем ветрам, в нем слышатся интонация лермонтовской «Думы» и «сороковые, роковые…» Давида Самойлова. В стихах Еременко, Иртеньева, безвременно ушедшей Нины Искренко центонные переклички имели две вполне четко различимые смысловые доминанты. Во-первых, подмигивание «своим» – тем, кто и в года глухие читал не Грибачева, а Мандельштама и мог с полулета опознать классическое «и вчерашнее солнце на черных носилках несут» в свеженаписанном стихотворении Александра Еременко, упомянутое в чуть преобразованном виде, сдобренное отсутствовавшей у Мандельштама иронией:
…и вчерашнее солнце в носилках несут из подвала в подвал…Во-вторых, расчет был не только на читателя-собрата, прошедшего школу самиздатского чтения, но и просто – на читателя «подготовленного», легко ловящего не одни лишь редкостные мандельштамовские цитаты, но перифразы Баратынского, Фета, Блока.
Стихи тогдашние нынче читаются совсем по-иному. Советские семидесятые миновали, и хотя наступивший рассвет далеко не для всех открыл безбрежные горизонты, но необходимость нонконформистской твердости и тотальной иронии в стихах как будто бы отпала, исчезла и нужда в подмигивании посвященным между строк, в рубленом цитировании полузапрещенных строф. Уже не только написан Вертер, но и Мандельштам издан. Многое в поэзии той поры видится иначе. Для кого-то из авторов исчезновение жесткого сопротивления материала оказалось роковым: стихи иссякли.
У поэзии Евгения Бунимовича иная судьба. В его строках со временем лишь яснее проявилась их изначальная неброская, но веская сущность. Уже самые ранние его стихи запоминались не только обширной эрудицией, но и – ей вопреки – несколько даже нарочитой скромностью дара и негромкостью голоса. Монолитна и постоянна у Бунимовича тема сравнения самого себя с неким неодушевленным предметом, продуктом конвейерного городского производства:
Я сошел с конвейера Москвы… Я – москвич… Обидно, что не ЗИЛ… …Я простой московский чебурек… …Стою – завернут в целлофан с ценою на боку…Москва в этих цитатах присутствует не случайно. Для Бунимовича почти экстремальная частота упоминания первопрестольной обратно пропорциональна обычному пафосному тону рассказа о городе, в чьем имени так много слилось-отозвалось. Рискну предположить, что «москва» для Бунимовича – имя нарицательное, это его естественное и единственно возможное место пребывания – как «комната», «улица», «дом». Город – непреложная среда обитания героя Бунимовича: ни тебе сельского кладбища, ни кремнистого пути, ни даже сонного ручья. Его герой всегда упоминает о «москве» как будто бы вскользь, на ходу: он занят другим, у него всегда дел по горло.
Здесь мы подходим к еще одному отличию от нонконформистской поэзии восьмидесятых. Человек в стихах Бунимовича не ждет гордо и непоколебимо либеральной погоды у берегов Патриаршего пруда, не провозглашает многозначительное «ужо!» слепым небесам либо каменным истуканам и тиранам. Он просто – работает, например преподает математику в школе:
Падают доски, идет общешкольный ремонт… Небо с разбивкой на два варианта… В кровеносных сосудах давление красных чернил…О минимализме Бунимовича писалось неоднократно, но вот – его (минимализма) жизненный контекст. Сочиняется герою нашего поэта как бы между прочим, поэзия всегда вставлена в оправу иных житейских занятий.
Итак, «лирический герой» Бунимовича – некто горожанин до мозга костей, изо дня в день добывающий хлеб насущный в поте лица своего, считающий себя самого продуктом повседневного городского кровообращения, на ходу делающий мгновенные зарисовки в свой устный альбом. Что еще? Еще налицо легкая усталость, иногда даже тяжелое утомление, неизбежно соседствующие с разночинным полуподневольным трудолюбием. И – важнейшая вещь! – здесь же наготове спасительная ирония и самоирония, заведомое недоверие к любому пророческому тону да и вообще ко всему «высокому».
Из мягкой самоиронии усталого горожанина труженика извлекаема исходная эмоция практически любого стихотворения Евгения Бунимовича. Он – по призванию своему и по судьбе – поэт-гражданин, которому в лучших вещах удается быть просто поэтом. Движение Бунимовича по направлению к афоризму неизбежно вытекает из его приверженности к минимализму, равно как и из ироничной социальности, причем афористичность его с годами только нарастает. Вот, например, одна из совсем недавних миниатюр:
сначала пел в подземном переходе как поплывет на белом пароходе позднее пел на белом пароходе как счастлив был в подземном переходе («Сurriculum vitae», 2008)Вот где тропинка к той странной на первый взгляд интонации, которая так бросилась в глаза в стихотворении «…был такой евгений бунимович…»!
У каждого поэта своя судьба, почти неизбежно связанная с превратностями времен, которые, как сказано – «не выбирают». Нередко случается, что в жизни автора стихов какой-то непродолжительный момент оказывается кульминационным, вершинным, а далее следует равнинное и размеренное стихописание, а то и крутой склон, ведущий к забвению, – вспомним путь талантливого Владимира Бенедиктова после феерического для него 1836 года, когда он почти затмил собою самого Пушкина.
Возможен иной вариант жизни и судьбы, с несколькими пиками-подъемами, с обретением второго, третьего дыхания; в этом случае обычно имеет место смена регистра, новые ноты и интонации – примеры известны: от Афанасия Фета до Инны Лиснянской. Обретая созвучность новой эпохе, поэт нередко начинает писать в несколько иной манере, случаи монолитной верности единым художественным принципам можно пересчитать по пальцам. Да это и немудрено: шестидесятнический энтузиазм, сумрачная стойкость семидесятых, ироничное упоение свободой времен перестройки – все эти реалии нашей истории вроде бы требуют разных средств художественного освоения. Бунимович – один из немногих поэтов, сумевших на долгие годы сохранить потенциал однажды найденных художественных принципов. Принципы эти, как сказано, ставят поэзию как таковую в позицию неброской, косвенной зависимости от повседневной нелегкой трудовой жизни рядового горожанина. Именно по этой причине поэту удается сохранить первозданную свежесть голоса.
Библиография
Стихотворения // Арион. 2000. № 1.
Естественный отбор. М.: Владом, 2000. 192 с.
Исходящие // Знамя. 2006. № 6.
Ежедневник. М.: ОГИ, 2006. 288 с. (Твердый переплет).
Моленбек: Палимпсест // Октябрь. 2007. № 7.
Моленбек: Палимпсест. Брюссель/М., 2007.
Стихи. М.: Союз писателей Москвы, 2008.
…И другие официальные лица // Знамя. 2009. № 3.
Линия отрыва. М.: Новая газета, 2009.
Replique/Реплика. Paris: Lettres russes, 2014.
Когда заасфальтировали небо. М: Время, 2014.
Дмитрий Быков или «Непостоянства общего заложник…»
Быков может по-всякому, Быков говорит, как пишет, а дышит, как говорит, – так думают все, кто упускает из виду тот очевидный факт, что Дмитрий Быков не только и не просто прозаик, переводчик, обозреватель, фельетонист, телерадиоведущий, документалист (и прочая, и прочая, и прочая), но еще и поэт; нет, пожалуй, поэт в первую очередь, по преимуществу. Не потому, что опубликовал несколько поэтических книг, – это нынче не велика невидаль! – но по той простой причине, что именно с поэзии начинается его литературное зрение, причудливо воплощенное во множестве разножанровых книг.
Для всех, кто в 1994 году прочитал сборник «Послание к юноше», очевидно, как сильно и во многих смыслах существенно, чтобы не сказать кардинально, изменился Быков-лирик, а он, безо всяких оговорок, именно лирик, один из немногих в сегодняшней поэзии. От гладких, порою намеренно манерных строк (привет красивой игре в куртуазных маньеристов!) – к неровным, иногда демонстративно неряшливым ритмам, от бравирования симпатиями к повседневным радостям – к все чаще беспросветным нотам усталости и совсем не манерной скорби. «Усталость», «скорбь» – понятия почти запретные в сегодняшней поэзии, и особенно – в разговоре о ней. «Новая искренность» Дмитрия Быкова, с которой он некогда входил в литературу, вовсе не сошла на нет, не растворилась в опыте и трезвости зрелого возраста и в упоении литературным успехом.
При всех переменах, даже метаморфозах манеры Быков многие годы играет с читателем в одну и ту же игру. Пункт первый: я говорю то, что думаю, нет, даже не так: я и есть на самом деле тот, кто говорит моими стихами, тождество биографического Быкова и, простите за банальность, литературного героя всячески подчеркивается.
Пункт второй: Быков прямо говорит о том и о тех, что и кого не любит. Настолько прямо, что его стихи кажутся зарифмованной прозой, а иногда и выглядят как проза: стихи записаны в строчку, в подбор! Не любит Быков многих, прежде всего – идеалистов-шестидесятников, кухонных интеллектуалов и вечных энтузиастов-борцов.
Хорошо, что я в шестидесятых Не был, не рядился в их парчу. Я не прочь бы отмотать назад их – Посмотреть. А жить не захочу. Вот слетелись интеллектуалы, Зажужжали, выпили вина, В тонких пальцах тонкие бокалы Тонко крутят, нижут имена. А вокруг девицы роковые, Знающие только слово «нет»…Но позвольте, той же для многих странной нелюбовью одаряет Быков и вейсманистов-структуралистов семидесятых, а также фигляров-постмодернистов позднесоветских лет.
Нет, уж лучше эти, с модерном и постмодерном, С их болотным светом, гнилушечным и неверным, С безразличием к полумесяцам и крестам, С их ездой на Запад и чтением лекций там, – …………………………………….. Но уж лучше эти, они не убьют хотя б.В тот же загон попадают и насельники Серебряного века, а заодно и эмигранты разных волн и разливов, которые котируются лишь как меньшее зло по сравнению с теми, для кого нетчеловеканетпроблемы:
И уж лучше все эти Поплавские, Сологубы, Асфодели, желтофиоли, доски судьбы, – Чем железные ваши когорты, медные трубы, Золотые кокарды и цинковые гробы…К какому же «поколению» принадлежит Дмитрий Быков, с кем он чувствует себя своим? Отождествление себя с некой группой, генерацией, пусть даже «потерянной» или «рассерженной» – дело для русского литератора, кажется, привычное и непременное! Выбор велик, одни возмужали в «сороковые, роковые», а другие «в пятидесятых рождены, в шестидесятых влюблены». Быков идет поперек течения, он не желает совпадать с каким бы то ни было групповым, коллективным воззрением на жизнь, будь то религиозная соборность либо коммунистическая тотальность. Либерализм? Воспевание личности как высшей ценности? Да нет же, либеральное фразерство, да и либералов как таковых Быков также не терпит – об этом написаны многие тексты, причем с той же последней прямотой, что и только процитированные.
Пункт третий: Быков, прямо говорящий о своих антипатиях, фобиях и идиосинкразиях, предпочитает последовательно умалчивать о своих прямых симпатиях. Тут нужна оговорка. Можно ли надеяться на прямое присутствие в стихах некоего исповедания веры, открыто сформулированного жизненного и художественного кредо? Нет, конечно, в большинстве случаев – нет, но Быков – статья особая: слишком прямо заявлено в стихах тождество автора и героя, слишком явно декларированы точки отталкивания, чтобы не надеяться отыскать области соприкосновения и симпатии. Быков предпочитает говорить о собственной переменчивости, непостоянстве, более того – о каком-то странном присутствии в поле зрения и в сознании одновременно нескольких эмоций.
Но не было ни власти и ни страсти, Которым я предался бы вполне, И вечных правд зияющие пасти Грозят кому-то, но не мне… Непостоянства общего заложник, Я сомневался даже во врагах. Нельзя иметь единственных! Треножник Не просто так стоит на трех ногах. И я работал на пяти работах, Отпугивая призрак нищеты…Ну, «многостаночность» Быкова-литератора этими (и им подобными) стихами объяснена сполна, но дело не просто в стремлении делать много дел сразу, но в сути, в особом строе души. Одновременное присутствие в сознании несопоставимых разностей и крайностей может вести к последствиям многоразличным. С одной стороны, легкость творческого перевоплощения основана на Протеевом даре, способности к метаморфозам тела и духа («Пушкин, Протей…»). С другой стороны, Подпольный человек страдает как раз от неспособности вместить разноразмерное: «Они так и кишат во мне, эти противоположные элементы…». К чему это приводит – хорошо известно: «Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым» (из той же повести Достоевского).
Пункт четвертый: Дмитрий Быков при всей своей откровенно демонстрируемой всеохватности и любвеобильности никогда (или почти никогда) не скатывается ни до одной из плоских и банальных крайностей. Он не становится ни сентиментально всеядным, ни циничным и желчным, сохраняет в неприкосновенности живую сердцевину поэтического протеизма, многим не нравящейся способности говорить противоположное, несводимое к единому знаменателю.
С одной стороны: «Жизнь – это роман с журналисткой. Стремительных встреч череда С любимой, далекой и близкой, родной, не твоей никогда…» То есть (поясняю) никакая любимая не становится твоей до последнего предела. Еще более прямо: «И, опасаясь, что изменит эта, – Любить и ту, и ту, и ту, и ту!». С другой же стороны, щемящее ощущение подлинности и единственности чувств и встреч:
Лишь мы с тобою в кольце фронтов лежим в земле, как пара кротов, Лежим, и каждый новый фугас землей засыпает нас. Среди войны возрастов, полов, стальных стволов и больных голов Лежим среди чужих оборон со всех четырех сторон.С одной стороны, подчеркивание посюсторонности мира, его богооставленности, избавленности от четвертого, метафизического измерения: «Ни божественное слово, ни верещащий соловей не значат ничего другого, кроме бренности своей». С другой стороны, стихи зрелого Быкова просто-таки переполнены метафизикой, за бренностью брезжит вечность:
Мне страшно жить и страшно умереть. И там и здесь отпугивает бездна. Однако эта утварь, эта снедь Душе моей по-прежнему любезна. Любезен вид на свалку из окон И разговор, что все насквозь знакомо, – Затем, что жизнь сама себе закон, А в смерти нет и этого закона.Видимая легкость стихоговорения Дмитрия Быкова с годами становится все более затрудненной и отягченной раздумьями, все более несводимой к манерному флирту с жизнью. Однако главная черта его стилистики остается при нем: речь о склонности к афористической ясности, к афоризму как таковому. Вернее будет сказать – к метафорическому афоризму, если подразумевать, что афоризм и метафора – вещи совместные далеко не всегда. Афоризм у Быкова не самоценен, не замкнут в себе, вставлен в обширную рамку расширяющегося смысла. К примеру, лихо закругленная фраза «Небольшая вспышка в точке прицела» из замечательной быковской «Двенадцатой баллады» на поверку означает вовсе не то, что лежит на поверхности: взгляд охотника на только что подстреленную дичь, стрелка – на пораженную цель. Тот, кто наделен даром творческого зрения, оказывается не стрелком, а целью, пораженной выстрелом из совсем иного оружия, нацеленного в сердце любого из смертных: «Посчитать расстояние по прямой. Небольшая вспышка в точке прицела. До чего надоело, Господи Боже мой. Не поверишь, Боже, как надоело».
Трудно предположить, удастся ли Дмитрию Быкову, прошедшему в девяностые сквозь огонь и воду, а в двухтысячные – услышавшему зов медных труб, сохранить в стихах двусмысленную, опасную, но такую трогательно архаичную, чуть наивную двойственность, лукавство искренности и противоречивую афористичность. Но в течение последнего десятилетия, несмотря на все перипетии судьбы успешного литератора, все лучшее оставалось при нем – это факт, на мой взгляд, бесспорный.
Библиография
Рыцарь отказа // Новый мир. 2000. № 5.
Отсрочка: Книга стихов. СПб.: Геликон Плюс, 2000. 164 с.
Автопортрет на фоне // Новый мир. 2005. № 5.
Последнее время: Стихи, поэмы, баллады. М.: Вагриус, 2007. 505 с.
На стыке умиления и злости // Новый мир. 2007. № 4.
Письма счастья: двадцать баллад и другие стихотворения. М.: Вагриус, 2010. 688 с.
Отчет: Стихотворения, поэмы, баллады. М.: ПрозаиК, 2009. 576 с.
Новые письма счастья. М.: Время, 2010. 512 с.
На самом деле. М.: Эксмо, 2011. 320 с.
Блаженство. М.: Эксмо, 2013. 352 с.
Андрей Василевский или «ну типа философ кант…»
С Андреем Василевским произошла удивительная обыкновенная история – в нечастый который раз личное совпало с ветром перемен в городе и мире, вернее – с прекращением всех свежих дуновений переменного ветра. Писал он стихи и в девяностые, но тогда бризы и мистрали свободных иллюзий были им несозвучны, поэтому о поэте Василевском понемногу забыли даже те, кто когда-то читал коллективные сборники студентов и выпускников Литинститута. И вот на излете 2000-х случилось-таки: совпадение геометрии паруса и направления ветра, обратная ломка голоса – возвращение подросткового фальцета, изо всех сил выдаваемое за возмужание и старение.
За стеной соседи голосят. Я проснулся, мне за пятьдесят. За окном великая страна. Очень эта родина странна. Человеку к старости нужна Собственная тесная страна. Чтоб на расстоянии руки Положить тяжелые очки. Я родился здесь, в другой стране, На Луне, увиденной во сне. Хочется ласкать, а не кончать И железо больше не качать.Совершенно ясно, что лаской тут не обойтись – юношеское обострение чувствительности и чувственности не спрячешь за декларациями старческого бессилия. До самой сути в стихах Василевского дойти нелегко не по причине чрезмерного пристрастия к иронии, на каждом шагу провоцирующей двусмысленность любого тезиса и даже простого возгласа. И не из-за усердно (почти навязчиво) декларируемого равнодушия – ср. название книги 2009 года: «Все равно». Василевский настойчиво, раз за разом говорит нечто противоположное тому, что говорит, – это поэт жизнеутверждающей новой метафизики, которая в нашем надцатом столетии уже общеобязательно, в духе протестантского апофатического богословия, должна начинаться с тезиса об отрицании абсолюта.
Чтобы убедить в наличии веры и в необходимости верить, в последние десятилетия все тиллихи и бонхёфферы начинали издалека: «Вы уверены, что небеса пусты? Не сомневайтесь, я совершенно согласен. Но вместе с тем…». Тут-то и начинается! Вы думаете, что с вами говорит Немолодой агностик Уже не молодой? Но ведь он вполне убежден в необходимости знания и познания, пусть даже эта убежденность раз за разом выдается за сомнение и неверие, за раздражение и старческую тоску:
Этой осенью, этой зимою Всё равно, что будет со мною. Всё возможно, всё невозможно, Утомительно и тревожно. Всё равно, ничего не надо. Кто-нибудь, помилуй нас грешныхПоэт Василевский провел в летаргическом сне пору концептуалистских иллюзий, соблазнов расставания с лирическим Я и вообще с лиризмом. И вот, пройдя через круги иронии, вся эта устаревшая геометрия прямого высказывания не отмирает, а воскресает в новых системах координат.
Возьмем, например, пограничную ситуацию: человек, бывший и остающийся родным, тяжело умирает, почти утрачивая себя:
безрадостное жевание мучительное испражнение неинтересный бред самого себя изживание то еще упражнение конца ему нет слабой жизни прилив отлив я недобр он терпелив… [тесть умирает]Что здесь написано пером? Мучительная встреча с уходящей жизнью другого – повод для обнаружения в себе недоброты.
Чего не вырубишь из этого стихотворения никакими прятками за стеной равнодушия?
…к сожалению мы родня я того же вида и это во всех смыслах убивает меняСледующая за многозначительной, графически выделенной увеличенным пробелом паузой, внезапно открытая в себе эмоция жестокого равнодушия к чужой смерти приводит к неизбежному выводу о ее (смерти) убийственной уродливости, отвратительности. Раздражение отталкивающим умиранием другого, убивает меня самого. Причем сразу во всех смыслах – их, этих смыслов, вероятно, не менее трех. Первый смысл: я измучен внешним – уродливым зрелищем близкой смерти близкого человека. Второй: я внутренне умерщвлен, лишен собственной привычной способности к сочувствию. Но есть и последний предельный смысл: я убит собственным убийственным равнодушием и бесчувствием, а это значит, что я по-прежнему жив и открыт сопереживанию, морок омерзения от боли ближнего – не более чем временное затмение чувств. Апофатический круг приводит от инверсии и перверсии чувств к возвращению к собственной подлинности.
Почему нынче невозможна поэзия? Поводов после Аушвица накопилось более чем довольно. Василевский суммирует доводы, говорящие о невозможности искусства, сгущает краски до пределов отрицания любого пути назад к искусству. Жизнь на протяжении тысячелетий бывшая предметом для художественного мимесиса, словно выворачивается наизнанку, как старый чулок, обретает какое-то мезозойское измерение, не предполагающее присутствия зоркого человеческого глаза при доисторических пейзажах. Вокруг никого, кроме кольчецов и усоногих, существование превращено в цепь рефлекторных жестов-реакций, механически регистрирующих звуки и цветовые пятна.
Но и в эту сновидческую реальность поверх всех барьеров проникают вести извне, отблески осмысленности:
утром снилось гудение комара залетевшего со двора Гераклит промывает слипшиеся глаза сколько стружки внутри и вовне до утра работала невидимая фреза невозможно дважды проснуться в одной странеВот так штука! Показавшийся за гранью абсолютного равнодушия и бесчувственности серый и безликий контур недожизни без красок и объема, стремительно оборачивается пророческой сверхреальностью, из которой легко и без усилий видится сущность вещей и событий.
новое русло ручья после ливня траншея после экскаватора муравью всё едино для тех кто не понял: с определенной точки зрения нет разницы между естественным и искусственнымУмозрения Гераклита и Канта через столетия соседствуют не только друг с другом, но и с каким-то призрачными видениями будущего, доступными вроде бы только сивиллам и оракулам, но с каждым днем проясняющими свои контуры для обычных современников некалендарного начала двадцать первого века.
далеко далёко поворачивается сауроново око люди запада смотрят на европу с востока ночь тепла и густа папа выпишет индульгенцию отвоюем венецию освободим флоренцию всё поставим на свои места мало нас или немало мы вернёмся из-за урала ополченец ребёнок старик прячет в погребе дробовик чтоб когда-нибудь с этого места его правнук дошёл до бреста и счастливый вдохнул холодный атлантический воздух свободныйНепривычная роль пророка в своем отечестве дается именно тому, кто для начала декларировал расставание с малейшим желанием не только пророчествовать, но и воспринимать окружающее в какой бы то ни было осмысленной перспективе. Именно эта болезненная редукция чувств и эмоций оборачивается даром двойного зренья.
сразу за поворотом история становится фразеологическим оборотом ‹снарком и бармаглотом› сном троечника ван сусанин ныряет в сумеречную зону крейсер идет на одессу выходит к херсону все равно победа будет за намиЧто это – прямое провидение? Осторожнее со стихами Андрея Василевского – как бы не отыскались еще какие-нибудь рецепты понимания завтрашних и послезавтрашних событий…
Библиография
Привет Ахметьеву // Новый мир. 2004. № 6.
никто ни при чем // Новый мир. 2007. № 7.
до конца времен // Новый мир. 2009. № 2.
Всё равно. М.: Воймега, 2009.
еще стихи // Новый мир. 2010. № 4.
еще стихи. М.: Воймега, 2010.
Артхаус // Новый мир. 2011. № 2.
Плохая физика. М.: Воймега, 2011.
просыпайся, бенедиктов // Новый мир. 2012. № 6.
Трофейное оружие. М.: Воймега, 2013.
Лермонтов едет в телеге и видит огни // Новый мир. 2014. № 12.
Мария Ватутина или «Спи, любимый, счастье где-то выше…»
Мария Ватутина в последние годы пишет много, публикуется весьма обильно, ее стихи востребованы, читаемы и обсуждаемы – не только в той среде, которая в прежнее время именовалась «литературной критикой», но и среди читателей, ценителей современной поэзии. Суждения, правда, иной раз высказываются противоположные: от уверенных приветствий в адрес еще одного в полный голос заявившего о себе крупного поэта до попыток назвать Ватутину поэтом одной темы, близкой «широкому» читателю в силу своей подчеркнутой обытовленности и обыденной простоты. Что ж, действительно, стихи Марии Ватутиной «обычному» читателю соразмерны, понятны, близки и по проблематике, и по поэтике. Чтение ее сборников и журнальных подборок не требует, на первый взгляд, никакой специальной подготовки: преимущественно регулярные классические метры, четкий синтаксис, прозрачная образность, ребра жесткости стиховой формы почти неощутимы, на них не задерживается внимание. И еще одна важная вещь – в стихах Марии Ватутиной дело почти никогда не обходится без историй, происходящих с людьми, преобладает интонация рассказа о событиях, которые могут случиться почти с каждым из читателей, живущих в России на рубеже столетий. Многосюжетный сериал о современности и современниках лишь изредка и ненадолго прерывается картинами Флоренции или Рима – впрочем, в этих стихах почти всегда неуместны любые (не только иноземные) картины, пейзажи, имеющие самостоятельное значение, выходящие за рамки рассказанных историй. Нет, конечно же, кроме житейских историй имеются в стихах Ватутиной и метафизические диалоги с Творцом, и исторические экскурсы, однако все это непременно помещено внутрь сознания одного из участников обыденных событий, происходящих с обычными людьми.
Общий знаменатель рассказов – неблагополучие. Люди непрерывно чувствуют неустроенность, страдают от бытовых неурядиц, от отсутствия того, что в старых тостах желали под псевдонимом «личного счастья». Счастливые моменты бывают, но они почти неуловимы, скоропреходящи, растворены в боли и горьки на вкус.
…свобода съемной комнаты где вниз устремлены подтеки на обоях и тускл паркет и снег покрыл обоих и сад ветвистой памяти о болях и голубей слетевших на карниз и музыкой заснежена кровать провал хребта подъем бедра лодыжка вы сверху словно в развороте книжка два текста об одном у вас интрижка или любовь под снегом не понятьВ жизни героев Ватутиной затруднения и несчастья перевешивают прозрения и удовольствия, лишь изредка выпадающие на их долю; боль, немощь и ощущение неуюта – вот константы их земного существования.
Завиточками кафель до кухоньки, платяной в коридорчике шкаф… Что за монстр вылетает из куколки, дребезжащую дверь отыскав, и куда улетает? надолго ли? «Навсегда, – говорит, – навсегда». Сколько опыта мы понадергали, бесполезного, как лебеда, резеда…Присутствие в стихах Марии Ватутиной немалого количества уменьшительных грамматических форм, междометий и вводных слов, размечающих устную речь, словно бы уравновешивает те несчастья, неблагополучия, которые случаются с ее героями. Все неудачи и боли вставлены внутрь рассказа и тем самым смягчены, отдалены от момента рассказывания, представлены в виде нестрашной (в конечном счете) истории – почти сказки, обращенной к ребенку. Очень характерно в этом смысле стихотворение «Колыбельная», в котором параллельно существуют несколько начал. Неторопливый диалог матери с засыпающим сыном («Пять собак и два больных кота. / Спи, мой сын, вживайся понемножку…») включает обобщения, обращенные вовсе не к нему («Это наша родина, разрез. / От соседки пук чертополоха. / Если очень плохо, можно в лес. / Спи, сынок, такая уж эпоха…»), а также отсылает к евангельским рождественским таинствам:
На конюшне страшно и темно, Лошади, фырча, глядят в решетку. Глаз коня, как круглое окно. Спи, мой мальчик, нужно жить в охотку. …………………………………………………. Все пришли в ночлежку на краю: И овечка, и верблюд, и пони. Спи, ребенок, баюшки-баю, Сухо и тепло у нас в загоне.Неприметный переход от быта к бытию – постоянная логики рассуждений ватутинских героев; так, кстати, дело обстоит и в «Колыбельной»:
Счастье, словно всадник на коне, Ходит кругом над кипящим лугом, Где-то тоже здесь, но в вышине. Спи на тряском воздухе упругом.Изображенная в стихах Ватутиной полная страданий и неурядиц жизнь насельников великой страны, недавно распавшейся на пятнадцать ранее нерушимых осколков, легко узнаваема и в лирике других современных поэтов. Однако картины межеумочной, зыбкой эпохи даны у Ватутиной под особым углом зрения: лицезрение несчастий и трагедий не порождает неудовлетворенности и протеста. Причина проста: ежели разобраться хорошенько (рассуждает Ватутина), лишения и утраты не являются отклонениями от некой обязательной и для всех гарантированной нормы, они сами по себе суть норма! Не просто лишения, но испытания человека на прочность, не повод для протеста, но необходимые условия раздумий о том, что в жизни неизбежно – не только в результате социальной несправедливости, но и вследствие непреложных законов физической и духовной природы. Болезнь, немощь, старость из жизни не выкинешь, значит, нельзя их выкидывать и из песни:
Месяц смертей заканчивается холодом и дождем. Старуха старая жалуется на ноги, До кухни медленно, до туалета бегом, Телевизор и телефон. Смерть на пороге, Но старуха не может дойти до двери. Смерть пожимает плечами: приду попозже. ……………………………………………………… – Ноги, ноги мои, – причитает старая, шлет в ляжку Инъекцию, в следующий раз в живот, Чередует пять раз на дню, пьет взатяжку Цикорий и живет, живет.Но коль скоро неблагополучие – не временное несовершенство, но непременное свойство жизни (Мандельштам: «А Сократа печатали? Христа печатали?»), значит, «правильная» реакция на него – не сопротивление и даже не смирение, но попытка осторожного вживания, сочувствия ко всем товарищам по неизбежному несчастью земной юдоли. Вот почему слова участия можно и необходимо найти даже для ангела-хранителя:
Ангел мой, не сиди на небе, продует. Посмотрю на небо: посыплют звезды. Сор в глазах, не видно рассвета, сжалься. Ангел, ангел, куда же меня завез ты, Ночь кругом, и нет никакого шанса.Как и в только что процитированном стихотворении, у Ватутиной много случаев резкого перехода от заботливого участия к сетованию, от смирения – к жалобе; собственно, эти эмоции и определяют смысловые полюса ее поэзии.
Балладные повествования о житейских историях: Матерщинница, поздняя мать, за кавказца замуж. Получился солнечный зайчик. Скачет, как мячик. Да уж! Доходная торговка в теле. Да, кто она в самом деле?соседствуют здесь со сценами сдержанного примирения с низкими истинами жизни, попытками выстоять и противопоставить лишениям спокойствие и заботу:
когда ты в воздухе когда на небеси у нас темнеет небо на руси и многие натруженные жены глядят на небо молятся зело а там твой рейс багажники гружены плед колется и пусто на табло,но также и с приступами невыносимого отчаяния, когда все испытанные средства противостоять горестям оказываются бессильны:
…Как я устала от витиеватой Линии зла, закрепленной за мной.Безысходное отчаяние в стихах Ватутиной присутствует сравнительно нечасто, но моменты его появления во многом ставят под сомнение иные тексты, в которых сквозь мрак блестит свет, а значит, имеет характер абсолютный:
Я не помню радости. По ночам Я не помню, как наступает день: То ли тень ползет по моим плечам, То ли снега тихая дребедень…В такие мгновения всепоглощающего одиночества и ощущения собственной заброшенности может помочь уже не смирение, но самоирония:
Паду в ножки, расстелюсь травой, брошу чушь пороть. Буду щи варить да поругивать Путина. Не дает Господь. Говорит Господь: – Не пора, Ватутина.На стыке обоих смысловых полюсов Ватутиной время от времени удается создать стихотворения очень глубокие и важные. Предельное отчаяние рождает предельное же усилие преодоления. Именно в таких случаях удается избежать монолога-жалобы и монолога-смирения, основным событием стихотворения становится усилие, требующее от героя и читателя абсолютной концентрации душевных сил:
Я день скоротала, и свет погасила, И спать улеглась, отвернувшись к стене. Какая-то потусторонняя сила, Паркетом скрипя, приближалась ко мне. И тюль надувался, и таяли стены, И капала капля, когда на крыльцо Все предки мои от границ Ойкумены Вступили и молча забрали в кольцо. …………………………………………… О, книга моих совпадений с пространством И временем, ты ли разверзлась на миг, И кровная связь с переполненным царством Небесным была установлена встык.Обилие напечатанных стихов, выдержанных в единой стилистике, как правило, свидетельствует об одном из двух возможных сценариев дальнейшего развития поэта. Либо замыкание в «своей» тематике и стилистике, либо прорыв к новым горизонтам смысла. Мне кажется, в случае Марии Ватутиной второй сценарий вполне возможен, тем более что опасность победы первого сценария подступила вплотную.
Библиография
От нас пойдет Четвертый Рим // Новый мир. 2000. № 5.
Четвертый Рим. М., 2000.
Пурга с незнакомых звезд // Новый мир. 2001. № 3.
Сквозная тема // Знамя. 2001. № 10.
Имперский код // Новый мир. 2003. № 1.
Осколок тьмы // Новый мир. 2004. № 1.
«Не делай такие глаза» // Знамя. 2004. № 4.
Лебеда да ковыль // Октябрь. 2004. № 11.
На любых руинах // Новый мир. 2005. № 4.
Фронтовая тетрадь // Знамя. 2005. № 5.
В височной доле // Новый мир. 2006. № 4.
Стихи // Новый берег. 2006. № 13.
«Ничего не бывает случайно…» [в разделе «Наша поэтическая антология»] // Новый берег. 2006. № 14.
Перемена времен. М.: Русский Двор, 2006. 144 с.
Обратный билет // Новый мир. 2007. № 5.
Стихи [в разделе «Стихи дипломантов конкурса»] // Новый берег. 2007. № 16.
Ока впадает в Стикс // Октябрь. 2008. № 1.
С волны на волну // Дети Ра. 2008. № 3 (41)
Любовь под снегом // Новый мир. 2008. № 8.
Разрыв с морем // Октябрь. 2008. № 12.
Девочка наша. М.: Элит, 2008. 56 с.
Дом балерин // Интерпоэзия. 2009. № 2.
Долг перед родиной // Новый мир. 2009. № 7.
«В дни, когда Бог открывает свои склады…» и др. // Волга. 2009. № 9–10.
Лестница смотрит вниз… // Октябрь. 2009. № 9.
Памяти Сергея Лукницкого // Новый Берег. 2009. № 24.
На той территории. М.: Art House media, 2009. 126 с.
Ничья. СПб.: Геликон, 2011.
Цепь событий. М.: Русский Гулливер, 2013.
Дмитрий Веденяпин или «“Нет” как ясное “есть” вместо “был” или “не был”…»
Сегодня в русских стихах много воспоминаний и ими вызванных сравнений: нынешнюю страну сопоставляют с прошлой, зрелость (старость) с отрочеством, странствия – с детским чувством абсолютной неподвижности. Способность и склонность к припоминанию ушедшего, конечно, в первую голову связана с возрастом, в юных стихах «тех, кому до…» преобладает внимание к настоящему, к утратам и обретениям секундной давности и доступности. Вокруг наличия/отсутствия воспоминаний легко понастроить схем, например: «блажен, кто смолоду был молод», то есть молодым еще придет пора ностальгировать, пересматривать жизнь и впадать в неслыханную простоту, а пока пусть подождут и попишут что-нибудь ученическое. Противоположная схема, не снисходительная, но брюзгливо сенильная: отсутствие оглядки на прошлое лишает стихи объема, третьего смыслового измерения, метафизики, портит вкус, приучает к подчеркиванию «пубертатных» эмоций. Оба варианта упрощения – снисходительный первый и брюзгливый второй – проходят мимо важнейшего: вопроса о соотношении постоянного и переменного начал в подлинном поэтическом даре. При всех преобразованиях, самые ранние интонации подлинного поэта узнаются и в его зрелых вещах, несмотря на любые перемены. Значит, исходный вопрос о наличии мотива припоминания в стихах должен быть сформулирован иначе: не в связи с биологическим возрастом автора, а в отношении к постоянной/переменной составляющей его дара.
Столь длительная преамбула предваряет тезис о том, что для Дмитрия Веденяпина припоминание-сравнение является главным элементом (то есть первоначалом) стихотворчества. Во-первых, по той причине, что в его лирике немало прямых отсылок к миру детской безоблачности, знакомой по первому сборнику придуманного в набоковском «Даре» поэта Федора Годунова-Чердынцева.
Когда в передней щелкает замок И на пороге возникает папа, Его большая фетровая шляпа Едва не задевает потолок…Во-вторых, потому, что лица ближайших к детскому центру вселенной людей, навсегда оставшиеся в памяти, то и дело повторяются:
…И этот луч как будто значил, что Нам всем – всем: маме, папе, бабе Ане – Отпущено лет, минимум, по сто, А, оказалось, это не про то.И в другом стихотворении:
Дальше от, но к значительно ближе. Tout le reste, конечно, – литература. Может, я еще возьму и увижу Маму, папу, бабушку, бабу Нюру?..В последней небольшой книжке Веденяпина («Между шкафом и небом», 2009) подлинность имен и названий, упоминаемых в стихах, удостоверена дважды: в мемуарном эссе, предваряющем стихи, и в серии фотографий, где есть и бабушка, и баба Нюра… Веденяпин пишет нечто совершенно независимое от столбовых дорог развития русской лирики, не замечает сшибок насмерть архаистов и новаторов, журнальных, фестивальных и интернетных споров, непримиримого противостояния поэтических поколений, борьбы верлибра с рифмой, Москвы – с Петербургом, сетевой поэзии с книжной.
В этом демонстративном отстранении от споров и распрей есть толика наивности и какого-то инопланетного бесстрастия. Увезенные в зарубежное небытие бунинская дореволюционная Россия или джойсовская Ирландия, еще не обретшая независимость от Британской империи, застыли навсегда в шедеврах, настолько же педантично точных, насколько и абсолютно нереальных, параллельных реальной жизни. Поэтика и проблематика Веденяпина решительно внеположна всем изменениям, случившимся с русской лирикой в последние десятилетия, и именно потому – притягательна и интересна.
Что такое стихи? Гармонь в землянке? Безутешный роман в Париже? Или бабочка на полянке? Бабочка – ближе.Поэзии подлежит в первую очередь близкое, различимое на расстоянии вытянутой руки, но в том-то и дело, что глубины метафизики тоже находятся в непосредственной близости от каждого индивидуального сознания. Эйдосы и догматы (само собою, не названные по именам!) идут у Веденяпина через запятую с бабочками и одуванчиками.
Пустота как присутствие, дырка как мир наяву, «Нет» как ясное «есть» вместо «был» или «не был» Превращают дорогу в дорогу, траву в траву, Небо в небо. Заполошная мошка, влетевшая с ветром в глаз, На дороге у поля, заросшего васильками («Наклонись, отведи веко и поморгай семь раз»), Что-то знает о маме. В перепутанном времени брешь как просвет Между здесь и сейчас – бой с тенью Между полем и небом, где все кроме «нет» Не имеет значенья.Сравнение непосредственно наличного (и потому поверхностного) с глубинным и подлинно действительным – вот что находится в фокусе внимания Веденяпина. Именно так: мотив сравнения первичен, он предшествует мотиву любого воспоминания, в том числе и воспоминания о детстве. Дело вовсе не в детстве, но в постоянном наложении сущностного на видимое, порою вовсе не легком, но болезненном и (как бы это точно сказать?) безоткатном, не имеющем обратного хода, как в стихотворении «Карельская элегия».
Тридцать лет не был. Приехал – дождь. Все ржаво, серо. На причале в рифму кричат: «Подождь, Кинь спички, Серый!» А приятель (выпил? характер – дрянь?), На ходу вправляя в штаны рубаху, Тоже на всю пристань пуляет: «Сань, Пошел ты на х..!» Все похоже: проза (слова), стихи (Валуны и вереск, мошка и шхеры, Комары и сосны, цветные мхи, Серый). Просто тот, кто раньше глазел на бой Солнца с Оле-Лукойе, Не был только и ровно собой, Как вот этот, какой я.Равенство самому себе – не банальная исходная наличность, но плод неторопливой работы, и, уж коли эта работа совершена, затрачено необходимое количество мегаджоулей, все меняется не в астральных смысловых глубинах и высотах, но в повседневном восприятии, обычном зрении, посредствующем между глазом и миром. Однажды увидев все в истинном свете, невозможно обрести «первоначальную немоту», говорить просто о сложном. Вот почему Дмитрий Веденяпин обречен на сложное говорение о простом:
Мама смотрит в шкаф – там ночует свет. Под землей шумит поезд. Время держит речь, но не слышно слов, И тогда – сейчас – что-то происходит.Все говорит за то, что Веденяпин и в дальнейшем будет неспешно нанизывать на стержень главных своих мотивов все новые картинки ближайшего и нездешнего. И немногочисленные, но проницательные ценители этих картинок будут ожидать с обычным нетерпением и вниманием.
Библиография
Трава и дым. М.: ОГИ, 2002. 56 с.
Озарение Саид-Бабы // Октябрь. 2004. № 2.
Что такое стихи? // Октябрь. 2006. № 2.
Значенье свиста // Воздух. 2006. № 2.
Стеклянная дверь // Знамя. 2006. № 10.
Проза (слова) // Воздух. 2007. № 4.
Эта пьеса // Воздух. 2009. № 1–2.
Пустота как присутствие // Знамя, 2009, № 7.
Стихи // Студия, 2009, № 13.
Между шкафом и небом: Проза [автобиографическая] и стихи / Д. Ю. Веденяпин. М.: Текст, 2009. 112 с.
Что значит луч. М.: Новое издательство, 2010.
Дмитрий Воденников или «Все так жарко – в цвету – пламенеет…»
Кого только не записывали в родоначальники так называемой новой искренности – и раннего Дмитрия Быкова, и зрелого Дмитрия Александровича Пригова, и Владимира Померанцева, и чуть ли не Аполлона Григорьева. Не избежал этой участи и Дмитрий Воденников, однако, в отличие от многих, он собственное причисление к лику великих искренников и отрицал, и приветствовал одновременно.
В книге «Holiday», вышедшей в предпоследний год минувшего столетия, интонация напористой и наивной непосредственности мотивировалась просто и классически, поскольку была опосредована стилизацией детского зрения, взгляда, непрерывно видящего цветные сны наяву:
Ах, жадный, жаркий грех, как лев, меня терзает. О! матушка! Как моль, мою он скушал шубку, а нынче вот что, кулинар, удумал: он мой живот лепной, как пирожок изюмом, безумьем медленным и сладким набивает и утрамбовывает пальцем не на шутку. О матушка, где матушка моя?Неотчетливые аллюзии и явные ассоциации легко монтируются в этих стихах с первоначальным принципом инфантильного бормотания, не противоречат ни ему, ни друг другу. Мгновенные картинки словно бы не успевают полностью отчеканиться в слова, которые еще не выучены, не освоены, как законы перспективы в наивной живописи. Оттого пропорции мира оказываются обдуманно и осмысленно смещенными, а неожиданно изощренные реминисценции кажутся спонтанными удачами, которые чем случайней, тем вернее. Ну, скажем, бог весть, взаправду ли рефрен «О матушка, где матушка моя?» прямо отсылает к восточной поэтике, а именно к рефрену в великом стихотворении поэта Махтумкули (Фраги), сына поэта Азади, в великом переводе Арсения Тарковского:
Рок! Ты солнце мое черным платом забрал, Ты веселье у бедного сердца украл. Счастья нет для Фраги, веру он потерял. Где ты, честь моя, где мой отец – Азади?Возглас, означающий у восточного стихотворца крайнюю степень скорби об умершем отце-наставнике, оборачивается у автора сборника «Holiday» отчаянным вскриком испуганного ребенка, зовущего маму. А впрочем нет, это не мгновенный испуг ребенка, но щемящий страх взрослого человека, познавшего соблазн и грех. А если вчитаться, и это не последний смысл, поскольку в следующей строфе детство возвращается:
Отец мне говорит: Данила, собирайся, поедем на базар, там льва степного возят, он жаркий, жадный лев, его глаза сверкают…Определенность и контурная ясность исходного приема тает, растворяется в двусмысленности. Мир диковинных зверей из детсадовской книжки окончательно отождествляется с лубочными картинками нравственного содержания (отнюдь не детскими по своему глубинному смыслу), к тому же и дитя наделяется явно условным именем Данила, а значит, и сам говорящий неприметно отделяется от его достоверной биографии, раздваивается, говорит разными голосами, словно кудесник на ярмарке. Что ж, такая искренность привлекала, даже манила, особенно во времена господства демонстративной концептуалистской отстраненности от непосредственного лирического высказывания. Девяностые годы – пора расцвета иронической, социальной, авангардистски преображенной поэзии. На этом фоне лирика Воденникова казалась (и была на самом деле!) привлекательным примером литературного упорства, достойной внимания попыткой сохранить собственную поэтику, писать так, словно и не произошло ничего в жизни и поэзии.
Вот такой была «искренность» Дмитрия Воденникова в ту пору, когда его стихи еще не превращались на каждом шагу в манифесты и символы веры. Искренним было призрачное и многоцветное единство голосов, лишь изредка совпадавших в одной, непосредственной, честной, но все же тривиальной эмоции – ностальгии по утраченному месту и времени детства:
Я быть собою больше не могу: отдай мне этот воробьиный рай, трамвай в Сокольниках – мой детский ад отдай (а если не отдашь, то украду).В этой строфе знаменательна констатация невозможности тождества с самим собою; таким образом, искренность понимается здесь не как простое соответствие распирающей сознание изнутри эмоции, но как постоянная необходимость преодоления себя. Не случайно же в стихах той поры на каждом шагу оживала стереоскопическая многозначность детской-недетской памяти:
Было горло красненьким, голодным, прогорклым, горькое, как масло, слепое, жадное горло – жалким и жадным горлышко, как рыбешка, было, всех проглотила жадная жалкая рыба.Не то «горлышко» болит у ребенка, который с замиранием сердца следит за стальными инструментами в холодных руках участкового врача, не то – речь о каком-то совсем ином, не своем горле, даже о глотке, пасти чудовища, готового поглотить согрешившего (то есть больного душою, не телом) человека. А там недалеко и до прозрачных аллюзий на те же лубочные картинки или даже на страшное полотно Старшего Брейгеля «Большие рыбы поглощают малых».
«Ранний», свежий, еще «игравший на новенького» Воденников умел оставаться в стороне от литературных споров. Но, как говорится, дальше – горше. Названия следующих сборников говорят сами за себя: «Как надо жить – чтоб быть любимым», «Мужчины тоже могут имитировать оргазм»… Зазывность, порою прямая императивность выходят на первый план, то и дело перечеркивая ощущение праздника, столь знакомое по стихам из «одноименной» книги 1999 года. Поэт все чаще чувствует себя носителем некой истины, прочим людям и поэтам неведомой, изо всех сил старается эту истину не просто высказать, сформулировать, но и пророчески прожечь ею сердца слушателей.
Слушателей, так как в эти же годы Воденников обретает популярность, мало кому из стихотворцев его поколения ведомую. Он много выступает на поэтических вечерах и фестивалях и всегда подчеркивает тождество своего облика в стихах и в жизни. Поэт и его герой – одно и то же лицо, иначе не бывает, все, кто пытаются писать по-другому, в лучшем случае заблуждаются, а в худшем – вовсе не являются поэтами. Собственную непосредственность и «искренность» Воденников начинает всячески демонстрировать, а это первый и явный знак того, что первоначальное единство творческой личности утрачено. В стихах появляется много строк, выделенных курсивно. Они принадлежат внутреннему оппоненту, ведущему аутический диалог с поэтическим «я» автора.
Так дымно здесь и свет невыносимый, что даже рук своих не различить – кто хочет жить так, чтобы быть любимым? Я – жить хочу, так чтобы быть любимым! Ну так как ты – вообще не стоит – жить. А я вот всё живу – как будто там внутри не этот – как его – не будущий Альцгеймер, не этой смерти пухнущий комочек, не костный мозг и не подкожный жир, а так, как будто там какой-то жар цветочный, цветочный жар, подтаявший пломбир, а так, как будто там какой-то ад пчелиный, который не залить, не зализать… Алё, кто хочет знать, как жить, чтоб быть любимым? Ну чё молчим? Никто не хочет знать?Стихи Воденникова всегда несли в себе заряд полемичности, в них всегда чувствовался задорный вызов. Однако в начале двухтысячных меняется предмет спора и объект полемики. Спорят друг с другом не разные возможные взгляды на окружающий мир, но разные голоса внутри одного и того же поэтического сознания. Однажды созданный образ самого себя разрастается, занимает почти все пространство стихотворения. Утрачивается многозначность слов и пестрота красок, один и тот же прием ироничного раздавания направо и налево рецептов поэзии и правды становится порою навязчивым и однозвучным. И мало что меняется оттого, что поэт сам понимает ограниченность и ущербность собственных построений. У рефлексии есть одно коварное свойство: она не может замереть, прекратиться, застыть на неком постоянном уровне. Лучше всего это сформулировано в «Отрочестве» Толстого: «…часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? – я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю. И так далее. Ум за разум заходил…»
Самосознание непременно становится мучительным, невыносимым. Я с детства сладок был настолько, что меня от самого себя, как от вина, тошнило, а это – просто бог кусал меня, а это – просто жизнь со мной дружила. Уже – всей сладостью, всей горечью – тогда я понимал, что я никем не буду, а этой мелочью, снимаемой с куста, а этой формой самого куста, а этой ягодой блаженной – буду, буду.Многое меняется в сборнике 2006 года, знаменательно названном «Черновик». Большинство стихотворений здесь снабжены, по выражению самого Воденникова, «автоэпиграфами» – даже те, которые уже публиковались прежде без всяких предуведомлений. Все варианты смысловых соотношений между автоэпиграфами и «основными» текстами могут быть сведены к двум основным случаям. Первый – «диалог», самополемика, знакомая по прежним годам, здесь неизбежно задается правило постепенного выведения неких истин, которыми стихотворец снисходительно готов поделиться с современниками («Я вас всех научу – говорить с воробьиной горы…»). Более интересен другой случай – отрицание автоэпиграфа, попытка начать и продолжить стихотворение совершенно иначе по сравнению с исходным замыслом. При этом текст превращается в палимпсест: чистовик наложен на первоначальный набросок, который автора более не удовлетворяет.
Впрочем, во многих случаях усиленные попытки вернуть первоначальную непосредственность речи терпят фиаско уже в автоэпиграфе, и стихотворение снова и снова попадает в одну и ту же ловушку разговора с самим собой.
Вся моя пресловутая искренность – от нежелания подыскивать тему для разговора. Раньше – в подобных случаях – я сразу ложился в постель. Теперь – говорю правду. Хорошо это, плохо – не мне судить. Но людям – НРАВИТСЯ.Что ж, действительно, все это нравилось и нравится довольно-таки многим людям. Но – и это необходимо осторожно принять во внимание – далеко не всем…
Библиография
Кукольный дом // Новая Юность. 2001. № 1(46).
Из «Цветущего цикла» // Новая Русская Книга. 2001. № 3–4.
Блеск пчелиный // Знамя. 2001. № 4.
Как надо жить – чтоб быть любимым. М.: ОГИ, 2001. 48 с.
Ягодный дождь // Новый мир. 2002. № 1.
Мужчины тоже могут имитировать оргазм. М.: ОГИ, 2002. 57 с.
Вкусный обед для равнодушных кошек. М.: ОГИ, 2005. 132 с.
Из книги «Черновик» // Новый мир. 2006. № 8.
Черновик. СПб.: Пушкинский фонд, 2006. 94 с.
Стихи к сыну // Знамя. 2007. № 3.
Здравствуйте, я пришел с вами попрощаться. М.: Гаятри, 2007. 176 с.
Обещание. М.: Эксмо, 2011. 288 с.
Иван Волков или «…И объективна даже красота»
Поэтические биографии складываются по-разному. Порою главные открытия, наиболее глубокие смысловые прорывы случаются на переломах судьбы, иногда вне какой бы то ни было объяснимой зависимости от внешней, событийной биографии стихотворца – в тридцать, сорок, а то и семьдесят лет. Бывает и иначе: когда к вершинным прозрениям приводят не новации, а значимые повторения – на протяжении многих лет – одних и тех же стилистических и тематических построений, бесконечные вариации, подтверждающие подлинность магистральных тем. В судьбе костромича Ивана Волкова – во всяком случае, пока – разыгрывается одна и та же мистерия нескольких доминирующих интонаций и событий. Его герой живет в мире неблагополучном, чужом, требующем для своего описания предельного усилия, вслушивания в неслышную и негармоничную музыку сфер, являющую себя в деталях и подробностях совершенно немузыкальных, иногда отталкивающих. В то же время контекстом, фоном, а иногда и непременным условием прорывов из быта в бытие служат события и отношения глубоко личные, камерные, не имеющие касательства ни к прямым метафизическим размышлениям, ни к исторически значительным реалиям. В одном из сравнительно недавних стихотворений характерно сплетены оба мотива:
Мы слышим из-под одеяла, Свернувшись в одного ежа, Дышанье времени шакала – А наша общая душа (Ее покой исполнен смысла, Ее полет непостижим) Под потолком, слоясь, повисла, Подвижна, как табачный дым…Истоки образного ряда вроде бы очевидны: тяжелая лира, исторгающая немелодичные, диссонансные созвучия, в стихах Ивана Волкова продолжает звучать настойчивой и бьющей по нервам дисгармонией. Однако тут же начинаются отличия, которые (к счастью) перевешивают сходства – иначе попросту и не было бы предмета для разговора. Разорванность реальности на отдельные фрагменты, ноты, осколки событий ведет читателя вовсе не к временам «европейской ночи», когда взлетели на воздух первые смертники-авиаторы и пронеслись над миром «колючих радио лучи». Характерная для лирики срединных советских лет разорванность реальности на отдельные атомы, фрагменты чувств и событий продолжает существовать в стихах Ивана Волкова почти как знаковый анахронизм. На дворе и в самом деле совсем иное тысячелетье, уже прочитан Пригов, торопливо освоены и частично оттеснены на второй план «новая искренность» и «новая социальность». А вот находится же поэт, который, как встарь, спокойно признается:
Я пристрастился к коньячку Азербайджанскому…Неизжитый душевный андеграунд в стихах Волкова не может быть преодолен ни при каких условиях, это не следствие нарушения неких фундаментальных норм, но особая, странная норма, искривленная повседневными мелочами и вечным неблагополучием:
Горит помойка во дворе! Выходит зритель на балконы – Конечно, в нашей-то дыре, Где полтора кинотеатра Катают мутную попсу, Пожарные иллюзионы С алмазным дымом на весу Спасают лучше психиатра…Что это – давно преодоленные обстоятельства места и времени, оставшиеся существовать лишь в облике неизжитых комплексов, до которых мало кому есть дело? Или очередная попытка выступить с позиций нонконформизма, с точки зрения поэзии, свободной от какого бы то ни было давления извне? Здесь начинаются сложности, поскольку внятного и, как стали говорить в перестроечные времена, однозначного ответа на эти вопросы нет. Слишком к разновеликим результатам приводят в разных стихотворениях исходные установки поэта Ивана Волкова. С одной стороны, прямолинейные и, как представляется, безвозвратно отошедшие в прошлое декларации:
Очень не хотелось бы причислиться – Жуть! – ни к пожирателям экзотики, Ни к производителям бессмыслицы. Никогда не пробовал наркотики И ни разу не голосовал.С другой же стороны – есть немало примеров того, как поэт сам понимает ограниченность и рискованность запоздалых пристрастий к стилистике дисгармонии и полного отторжения от мелких и крупных обстоятельств жизни:
…Вот у Бодлера были бабы! С такими стервами Париж Мог извинить ему хотя бы Зазнайство, бедность и гашиш. Попили кровь – не говори, бля! – Тупые демоны – все три! А как играть в enfant terrible’я С моей гармонией внутри? С домашним ангелом небесным, Веселым чудом красоты, Волнующим и интересным Без демонической туфты?Так что же – долой «демоническую туфту», прочь горестные и безысходные раздумья, коль скоро они связаны с обстоятельствами конкретными, преодолимыми, камерными – вроде непомерно растянутой во времени и описанной во многих, слишком многих стихотворениях истории романа между возлюбленными, живущими в разных приволжских городах – Костроме и Саратове? Но если мысленно избавиться от демонической туфты – многое ли в стихах Волкова останется сказанного всерьез и по-новому? Скажу прямо: этот остаток придется отыскивать усиленно и долго, но поиски все же не будут безрезультатны.
Я знаю, я слышу дрожанье земли, Они надвигаются с Волги, Несчетное войско в огромной пыли, Кочевники, варвары, волки На низких гривастых степных лошадях Придут – и поселятся на площадях. Бессмертная гвардия лучших калек – ……………………………………………… Чтоб мы, потерявшие все и везде, Вернувшись на гиблое место, Могли бы, бродя по колено в воде, Норд-ост отличить от зюйд-веста, Чтоб синяя цифра слепые суда Вела, как звезда!Волков-лирик демонстративно традиционен и не балует читателя открытиями. Но в тех точках траектории своего пути, в которых ему удается преодолеть засилье мотивов, связанных с гостиничными номерами, коньячком и разомкнутыми объятиями, случаются подлинные поэтические удачи. И наоборот, как только на поверхности смысла появляются ноты ностальгии по навсегда ушедшей внешней неустроенности, по временам высокого андеграундного безделья и всепоглощающей депрессии, – там открытия исчерпываются и начинается привычная стихия самоповторов, порою болезненных.
Поскорее бы изобрели Для таких, как мы, машину времени, Чтобы обездоленным Земли, Лишним человеческого племени В позапрошлом веке ночевать.Впрочем, справедливости ради необходимо заметить, что и в мире неприкрытых чувств Волкову порою удается сказать нечто совершенно свое: трогательное и небанальное:
Я умру от горя, а ты – от скуки. За тобой слетят два небесных буки, Моего же никто не подымет праха. Я умру от стыда, а ты – от страха. Я умру на дороге, а ты – в больнице, Где дадут исповедаться, причаститься, Мои же никто не отыщет кости. Я умру от жалости, ты – от злости. Ты умрешь, конечно, от медицины, А я – от истории. Без причины Проползет по мне ее жирный жернов. Я умру от боли, а ты – от нервов, И от зависти, и от тоски отчасти. Я умру от счастья, умру от счастья, Которое ты мне как пить даешь. Я умру от любви, а ты не умрешь.О пути поэта трудно судить со стороны, по отдельным публикациям, даже – порою – по книгам. Однако по многим признакам можно с большой долей уверенности предположить, что Иван Волков переживает сейчас нелегкий период, когда для него решается слишком многое, чтобы говорить об этом поверхностно и поспешно. Впрочем, убежденность в том, что твердость и определенность манеры для него не позади, а впереди, меня не покидает во многом благодаря его отдельным стихотворениям: мощным и свидетельствующим о нерастраченных силах и непройденных путях. Вот одно из них, «Лесной пожар», на мой взгляд, весьма сильное и показательное.
Огонь берется ниоткуда. Сосна несется, как акула. Пока, у ветра на спине, Не подлетит к другой сосне. Вот если б записать на пленку Бегущий звук внутри огня И через мощные колонки Включить везде средь бела дня! Какие пепельные ветры Внутри движения свистят, Древесной массы кубометры Хоть исчезают, но летят. Огонь берется ниоткуда – Вот лес качается, высок, Как деревянная посуда, Где Красный спит еще Цветок.Библиография
Крымские сонеты // Знамя. 2000. № 9.
Стихи // Арион. 2001. № 3.
Средства связи // Знамя. 2001. № 9.
Долгая счастливая жизнь // Знамя. 2002. № 3.
Страшный планетарий // Знамя. 2003. № 12.
Продолжение. М.: ОГИ, 2003. 78 с.
Вокзалы – ворота в ничто // Октябрь. 2004. № 4.
Не прощаясь // Знамя, 2005, № 9.
Алиби: Три книги. М.: Листопад Продакшн, 2005. 136 с.
Подари мне губную гармошку // Октябрь. 2006. № 3.
Желтая гора: Поэма // Октябрь. 2008. № 2.
Почти рассвет // Октябрь. 2008. № 11.
Стихи для бедных. М.: Воймега, 2011. 60 с.
Мазепа: Поэма. М.: ОГИ, 2014.
Мария Галина или «Где плавает черная рыба, где белая рыба плывет…»
Честно говоря, подступиться к поэзии Марии Галиной довольно просто – гораздо проще, чем это может показаться даже тем, кто ее стихами увлечен, а таких в последние годы немало. Чем загадочнее вещи, описанные в стихах Галиной, тем более непреодолимое возникает желание поразгадывать эти стихи, как ребус. Если последовать хотя бы ненадолго этой полушутливой логике, то начальный пункт разгадывания придет сам собою. Мария Галина в прошлом ихтиолог, житель Одессы. И вот вам, пожалуйста: разнообразных рыб в ее стихах более чем достаточно, порою даже – в одесском антураже:
Товарищи, готовьте тару – плывет ставрида по бульвару, и осыпают листья клены над головой ее склоненной. Вдоль мокрой каменной ограды, вдоль Ланжерона и Отрады идет последняя ставрида, ей больше ничего не надо…И даже не только рыбы в изобилии встречаются в стихах Марии Галиной, но и прочие насельники водной стихии, например земноводные. Главное – не простое присутствие морской и мелководной фауны, но мотив метаморфозы: все были всеми, все могут обернуться всеми. Или – уже обернулись, да мы не заметили, не могли заметить:
Жаба, жаба, ты не смейся, говорят ей казаки А не то схвачу за пейсы да пущу тебе кишки Я тебя прихлопну, жаба, просто пальцами руки Жаба бедная смутилась, даже слезы на глазах Отвечает – сделай милость, забирай себе, казак Видишь, вот он, полный чар Чудный камень безоар Кто его с горилкой выпьет, кто его положит в рот Тот, простреленный навылет, снова встанет и пойдетВот и пройдена легко и незаметно грань достоверности: мимесис больше не означает подражания реальности, поскольку нет такой реальности, где рыбы превращаются в жаб, а потом оказывается, что жабы наделены пейсами, немедленно превращающими их в персонажей редко цитируемой редакции гоголевского «Тараса Бульбы» (откуда и казаки, конечно). Дальше – больше: никакой грани между водой и сушей, оказывается, не существует, ихтиологическая сновидческая явь застит контуры жизни, привычные для приматов и гоминидов:
За скользкой подводною глыбой, за гранью поверхностных вод, Где плавает черная рыба, где белая рыба плывет, В накатанных водных просторах, меж ребрами материков Стоит неразборчивый шорох от всех корабельных винтов…Но (шутки в сторону!) у этих фантасмагорий есть ясный подтекст: наше общее прошлое, скажем еще более прямо – советское былое бытие. Там полагалось покорять пространство и время, воспевать первокосмические успехи родины, а также провожать сверстников за туманом, на целину и в китобойные моря. Прошлая страна, как затонувший остров-материк, оставила в контуре сознания современников свой исчезающий, но четкий по периметру след, простирающийся по всем больше не существующим границам.
От Китайской стены до Золотых ворот Золотистый плод, солнечный оборот, И когда, прищурившись, смотришь на облака Или чуть повыше, можно увидеть, как Золотой Гагарин махнул крылом и исчез В голубой глазури потрескавшихся небес.Именно в этой полустертой, но стойкой стране почившего духа и живут на равных основаниях человечьи и океанские народы, продолжая многим неслышный разговор:
Или вот: приполярный свет, зеленый лед, На китобазу опускается вертолет, И, стерев ладонью изморозь над губой, Фотокору, гордясь собой, позирует китобой И не слышит, как в водной толще печальный кит «Отпусти народ мой» впотьмах ему говорит, В ледяной шуге, ворочая в горле ком, Указуя ввысь окровавленным плавником.Мария Галина предлагает читателю баллады-палимпсесты, напоминающие по стилистике прозу фэнтези, в особенности ту ее разновидность, которая связана с альтернативным пониманием истории. Одна реальность то и дело накладывается на другую – даже если забыть на минуту, что сама Галина пишет фантастическую прозу, параллели с миром фэнтези никуда не исчезнут. Для превращения привычного в магически-чудесное (или опасное, угрожающее) не нужны никакие инопланетяне. Точнее – мы сами и есть те самые инопланетяне, которые (подобно воспетому в печати и на экране сталкеру) на каждом шагу натыкаются на знаки присутствия иного мира в каждодневной рутине.
Мифогенная любовь-ненависть-опаска по отношению к эпохе атомных-ледоколов-застойных-явлений-перестроечных-иллюзий на поверку ведет в лирическом мире Галиной к еще более радикальным метаморфозам реальности. В этом (том?) монолитном и строгом мире все твари и люди неприметно отождествляются с мифологическими персонажами культурного прошлого. Дети разных народов, силуэты людей, чудовищ и рыб разных стран и времен без малейших швов сшиты в причудливые фигуры призраков, которые, если разобраться хорошенько, живее всех живых.
Мария Галина нечасто из придуманного мира странных метаморфоз возвращается в более привычную реальность жизни и высокой литературной традиции, да и эти возвращения окрашены в цвет выходящих за рамки обыденности ассоциаций – например, Горациевых:
Я – памятник себе. Другого мне не светит. Почти в свой полный рост. Он ниже сорных трав, он наблюдает ветер Наземных птичьих гнезд. ……………………………………………….. Нет, вся я не умру – душа и все такое… Вспорхнет, белым-бела… И Бродский с Ковальджи в божественном покое Сомкнут над ней крыла…Нельзя не сказать о том, что в последние годы настойчивые повторения мотивов и приемов в лирике Галиной все чаще заставляют размышлять о чем-то большем и неизведанном. Может быть, уже пора подумать об «автоматизации приема» и о нарастающей заурядности даже самых необъяснимых превращений предметов и переселений тел и душ? Что ж, вполне вероятно, не за горами рождение в стихах Марии Галиной совершенно новой тематики и топики. Хотя настойчивые перемещения в недалекое, но уже ставшее вечно отдаленным от нас прошлое по-прежнему привлекают и завораживают всех, кто его знал не понаслышке:
На это гульбище бессмертных На эти темные аллеи Под песню Аллы Пугачевой Про то, чтоб лето не кончалось Про я хочу увидеть небо Пошли, покуда наливают. Топча брильянтовую зелень Под дребезг дикого варгана Под песни Аллы Пугачевой И мы не пробовали манны Покуда были живы сами – Мы больше пели чем плясали И больше плакали чем пели…Библиография
[ «Что-то не то происходит на свете в зеленой карете…»] // Арион. 2000. № 1.
[Саул и Давид] // Арион. 2003. № 1.
[Осень на большом фонтане] // Арион. 2004. № 3.
[Из цикла EX FISICA] // Арион. 2005. № 1.
«Доктор Ватсон вернулся с афганской войны…» // Новый Берег. 2005. № 10.
Неземля. М.: Журнал поэзии «Арион», 2005. 104 с.
В саду камней // Новый мир. 2006. № 3.
[Метаморфозы] // Арион. 2006. № 4.
Кто не спрятался, пусть не винит // Новый мир. 2007. № 4.
Инфракрасный значок // Знамя. 2007. № 9.
[«…так, она…»] // Арион. 2008. № 1.
Замороженная вода // Новый мир. 2008. № 2.
[Елена] // Арион. 2009. № 1.
Другое что-то // Новый мир. 2009. № 3.
На двух ногах. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2009. 88 с.
Письма водяных девочек. N. Y.: Ailuros Publishing, 2012.
Все о Лизе. М.: Время, 2013.
Владимир Гандельсман или «Я этим текстом выйду на угол…»
Стихи Владимира Гандельсмана узнаются почти мгновенно, он говорит словно бы шепотом, обращаясь если не к себе самому, то к кому-то очень близкому, то есть предельно близко расположенному в пространстве, чтобы расслышать шепот. При этом слова как будто бы сопровождаются легким кивком, рассчитанным на понимание не всех, но посвященных, стоящих рядом, видящих то же, что и сам стихотворец. Что же видит он и как видит? Укрупненные в полумраке предметы – как в детстве, когда после упорных попыток удается, наконец, забраться в какой-нибудь недоступный чердак заброшенного дома. Или – тоже в нежном возрасте – когда вдруг выключат освещение и посреди электрического искусственного дня вдруг наступает ночь – настоящая, та, что царит за окнами. Предметы увеличиваются в размере, между ними пропадают зазоры, и наоборот, возникают пустоты в том, что при дневном свете кажется монолитным и плотным. И еще – со всех сторон обступает особенная темная тишина, так что, кроме шепота, любое говорение кажется громким и даже опасным, способным разрушить хрупкую (и – увы! – временную) зоркость.
Я более люблю всего, когда врасплох из ничего ловлю сознания всполох. Оттуда, где привык не быть из ничего, – краеугольный сдвиг в земное существо, – я более люблю вещественную весть его, чем жизнь саму. он лучшее, что есть. А ночи не страшись и утра не проси, рукою дотянись и лампу погаси.«Сознания всполох», момент прозрения (состояние, названное в Джойсовом «Портрете художника» эпифанией) – для Гандельсмана важнее, чем само «содержание» наблюдения, конкретная окраска эмоции. Мгновенное озарение возможно по любому, даже самому незначительному поводу, Гандельсман его лелеет и пестует, недаром в одной из его опубликованных записных книжек содержится наблюдение о том, что «поэзия Мандельштама освоила речь, опережающую разум». Оставляя в стороне параллели, отметим, что уж к самому Гандельсману этот принцип имеет прямое отношение. Чтобы очередной раз впасть в состояние инсайта, необходимо избавиться от избытка сознания, изжить какое бы то ни было умение логически рассуждать и задаваться вопросами о подлинных пропорциях вещей за пределами круга, очерченного сладостным визионерским заблуждением.
В георгина лепестки уставясь, шелк китайский на краю газона, слабоумия столбняк и завязь, выпадение из жизни звона, это вроде западанья клавиш, музыки обрыв, когда педалью звук нажатый замирает, вкладыш в книгу безуханного с печалью, дребезги стекла с периферии зрения бутылочного, трепет лески или марли малярия – бабочки внутри лимонный лепет, вдоль каникул нытиком скитайся, вдруг цветком забудься нежно-тускло, как воспоминанья шелк китайский узко ускользая, ольза, ускоЧто же в сознании поэта располагается до разума, «опереженного» речью? Чаще всего – состояние эмпатии, слияния с природой как таковой и отдельными предметами – в частности. Слишком уж «речь опережает разум», остается только
Расширяясь теченьем реки, точно криком каким, точно криком утратив себя до реки, испещренной стволами, я письмом становлюсь, растворяясь своей вопреки оболочке, еще говорящей стихами. Уходя шебуршаньем в пески, точно рыба, виски зарывая в песчаное дно, замирающим слухом… Как лишиться мне смысла и стать только телом реки, только телом, просвеченным – в силу безмыслия – духом…Доминирует в таких стихах безграничное чувство восторга, интонация гимна и оды (о, как я привязан к Земле, как печально привязан!..)[1], которая странно выглядит в соседстве с «безмыслием». Упоение совершенной сложностью мира то и дело переходит в самоупоение, в наслаждение собственным даром в простом видеть усложненное (а зачастую – придуманное). При этом как капли воды похожими становятся десятки стихотворений: «На что мой взгляд ни упадет, / то станет в мир впечатлено…». Да и какая, в конце концов, разница, чем спровоцирован очередной инсайт – полетом птицы или разворачиванием завтрака? Вот эпифания о полете птицы, вполне удачная:
Птица копится и цельно вдруг летит собой полна крыльями членораздельно чертит на небе она облаков немые светни поднимающийся зной тело ясности соседней пролетает надо мной в нежном воздухе доверья в голубом его цеху в птицу слепленные перья держат взгляд мой наверхуА вот – инсайт на тему завтрака, гораздо более прихотливый («Разворачивание завтрака»):
Я завтрак разверну между вторым и третьим в метафору, задев струну, от парты тянущуюся к соцветьям на подоконнике, пахнет паштетом шпротным иль докторской (я вспомню гнет учебы с ужасом животным: куриный почерк и нажим, перо раздваивается, и капля сбегает в пропись – недвижим, сидишь, – не так ли и ты корпел, и ручку грыз, и в горле комкалась обида, товарищ капсюлей и гильз и друг карбида?)…Чем отвлеченней ситуация наблюдения за речью поперед мысли, тем интенсивнее упоение, доходящее до пика в случае уже почти пародийной рифмовки момента философского наблюдения не за птицей либо за разворачиванием завтрака, но – за бытием вещи как таковой, любой, вещи вообще:
Обступим вещь как инобытие. Кто ты, недышащая? Твое темье, твое темье, меня колышущее…Здесь обаятельная укрупненность наивного созерцания вещей в детском одиноком полусумраке оборачивается надуманными беседами с самим собою: тут уж как ни старайся оказаться поближе – магического шепота кудесника не расслышишь! Порою эта преизбыточная мелочность доморощенного философствования самим же поэтом признается как путь в тупик, не в направлении к реальности, но прочь от нее:
Разве поверхность почище, но тот же подбой, та же истерика поезда, я не слепой, лучше не быть совершенно, чем быть не с тобой. Жизнь – это крах философии. Самой. Любой.Тема школьного завтрака возникла в наших рассуждениях вовсе не случайно: «остраненное» видение полнее всего присутствует именно в детском сознании, еще не ведающем «взрослых» вопросов. Стартовое усилие во многих стихотворениях Гандельсмана часто эквивалентно именно припоминанию о «детском» состоянии сознания – даже в тех случаях, когда прямо ни о каком воспоминании не говорится. Впрочем, есть у поэта цикл «Школьный вальс», содержащий именно такие подростковые воспоминания о ярких событиях «среднего и старшего школьного возраста».
Подобные «школьные» стихотворения, написанные с точки зрения повзрослевшего человека, – вовсе не новость, они имеются у очень разных поэтов: Тарковского, Бродского, Павловой. В цикле Гандельсмана немало отрадных частных наблюдений, но очень уж часто они связаны с пубертатными открытиями («С девочками двумя пойдем / за гаражи и снимем / трусики: с тоненьким петушком / я постою на синем», или «Зажатие в углу Беловой, дыханье рыбное ее…», или «О, Юдина полуобнятость, / уйдешь, тебя недораздев», или «Сношений первых воплощенный / друг-Рябинкова / так прыгает на неученый, / небестолкова…»). Дело тут не в настойчивости темы, а в том, что, по большому счету, безоговорочное преобладание самого состояния прозрения-озарения над каким бы то ни было внятным его осмыслением, содержательным наполнением нередко грозит обернуться прямой инфантильностью, тщательно взращенной искусственной экзальтацией. И тогда станет вдруг понятно, чего же до боли не хватает в этих, внешне мастеровитых, стихах. Ведь прямо же говорится в гандельсмановской «Косноязычной балладе»:
Я этим текстом выйду на угол, потом пойду вдали по улице, – так я отвечу на тоски укол, но ничего не отразится на моем лице.Все-таки очень бы хотелось, чтобы такая сложная и сама по себе небессмысленная словесная конструкция, как «выход текстом» на угол улицы, не была лишь самодостаточным риторическим приемом. И сопровождалась бы хоть каким-нибудь жестом, необщим выражением лица.
Библиография
Тихое пальто. СПб.: Пушкинский фонд, 2000. 64 с.
Чередования. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2000.
Одиночество в Покипси // Волга. 2000. № 1.
Материя стиха // Октябрь. 2000. № 8.
Сиделка на ночь // Знамя. 2000. № 12.
Стихи // Звезда. 2001. № 7.
Голоса // Арион. 2002. № 1.
Стихи // Звезда. 2002. № 7.
Новые стихи // Октябрь. 2002. № 8.
Стихи // Звезда. 2002. № 11.
Поэтическая тетрадь // Новый журнал. 2002. № 227.
Новые рифмы. СПб.: Пушкинский фонд, 2003. 80 с.
Поэт и чернь // Октябрь. 2003. № 1.
Стихи // Урал. 2003. № 2.
Школьный вальс. СПб.: Пушкинский фонд, 2004. 48 с.
Из книги «Школьный вальс» // Звезда. 2004. № 3.
Поэтическая тетрадь // Новый журнал. 2004. № 237.
Обратная лодка. СПб.: Петербург – XXI век, 2005. 286 с.
Осень полковника // Интерпоэзия. 2005. № 3.
Стихи // Звезда. 2005. № 4.
Стихи // Звезда. 2005. № 7.
Сон памяти друга // Октябрь. 2005. № 11.
Поэтическая тетрадь // Новый журнал. 2005. № 239.
Стихи // Новый журнал. 2005. № 241.
Стихи номера // Критическая масса. 2006. № 2.
Посвящение // Интерпоэзия. 2006. № 5.
Стихи // Звезда. 2006. № 6.
Стихи // Новый журнал. 2006. № 245.
Стихи // Крещатик. 2007. № 3.
Птицы // Октябрь. 2007. № 3.
Стихи // Новый журнал. 2007. № 248.
Портретная галерея в стихах и переводах. СПб.: Пушкинский фонд, 2008. 96 с.
Статуэтки // Волга. 2008. № 4 (417).
Патритриптих // Интерпоэзия. 2009. № 1.
Цитата // Интерпоэзия. 2009. № 1.
Пересказ монолога // Знамя. 2009. № 2.
Точка засыпания // Новая Юность. 2009. № 2 (89).
За тем окном // Дети Ра. 2009. № 4 (54).
Чудный сбой // Новый мир. 2009. № 24.
Стихотворения // Новый берег. 2009. № 24.
Стихи // Новый журнал. 2009. № 256.
Каменный остров. Нью-Йорк, 2009.
Цирковой артист // Знамя. 2010. № 4.
Жизнь моего соседа // Октябрь. 2010. № 5.
Ладейный эндшпиль. СПб.: Пушкинский фонд, 2010.
Ода одуванчику. М.: Русский Гулливер, 2010.
Читающий расписание. СПб.: Пушкинский фонд, 2012.
Видение. СПб.: Пушкинский фонд, 2012.
Сергей Гандлевский или «…ты не поверишь: все сбылось»
Сергей Гандлевский на протяжении вот уже очень долгого времени пишет и публикует стихи очень редко и скупо: одно-два стихотворения в год, иногда – чуть больше, однако это не меняет общего впечатления крайней взыскательности к собственной работе. Поэт словно принял добровольный обет привлекать внимание читателя только по самым важным, непроходным поводам. Стихотворения как будто бы занимают заранее подготовленные для них страницы в некой единой и единственной универсальной тетради. Причем сам факт наличия подобной «тетради» в сознании поэта и его внимательных читателей делает невозможным появление все новых сборников, как это происходит у других современных стихотворцев, включая иногда самых влиятельных и крупных.
Гандлевский придерживается в стихах тех немногих важнейших принципов, которые были им сформулированы еще на рубеже восьмидесятых и девяностых годов прошлого века. Из них самый, пожалуй, существенный получил в одном из эссе Гандлевского наименование «критического сентиментализма». Поэт всегда выясняет отношения с собственным прошлым, помнит из этого прошлого огромную массу деталей. Однако его задача состоит в том, чтобы из этих деталей отобрать именно те, что ведут от жизни к судьбе, имели и имеют краеугольное значение не только для давно отошедшего за горизонт прошлого, но и для сегодняшней, продолжающейся здесь и сейчас жизни. Так вот, «критический сентиментализм», в понимании Сергея Гандлевского, означает попытку избежать в отношении к прошлому двух крайностей: «волевой» и «иронической». Обе эти реакции предполагают отстранение от прошлого, дистанцирование от него – либо на основе мужественного отрицания прежних заблуждений, либо под предлогом саркастического высмеивания комических и гротескных сторон себя прежнего и былого времени в масштабах своего поколения. «Критический сентиментализм» означает невозможность резких переакцентировок: как бы ни менялась жизнь, все, что происходит, случается раз и навсегда. Ушедшее оживляет и придает смысл сегодняшнему, как, например, «любовь к родному пепелищу». То, что некогда было твердым убеждением, остается таковым навсегда, даже когда его принято уже считать заблуждением молодости. У человека нет и не может быть иных, кроме однажды обретенных, родителей, иного детства, иной страны молодости, кроме тех, которые выпали на долю, – даже если той страны нынче нет на политических картах, а родителей нет в живых…
Мама чашки убирает со стола, Папа слушает Бетховена с утра, «Ножи-ножницы», – доносится в окно, И на улице становится темно. Раздается ультиматум «марш в кровать!»Сущностные события прошлого, имеющие продолжение в настоящем, могут скрываться в самых обыденных мелочах, важно их правильно отобрать, просеять сквозь сито памяти. Это непросто, прежде всего, потому, что в моменты интуитивных проникновений в ушедшую жизнь в ней видится не избранное, а абсолютно все:
всё разом – вещи в коридоре отъезд и сборы впопыхах шесть вялых роз и крематорий и предсказание в стихах другие сборы путь неблизок себя в трюмо а у трюмо засохший яблока огрызок се одиночество само…Знаменитая по прежним стихам Гандлевского, фирменная его изысканная точность деталей, напоминающее об акмеистической поэтике полное совпадение слов и обозначаемых ими вещей и событий – все это в данном случае способно сыграть злую шутку. Припоминание и описание буквально всего в прошлом может породить тягостную тотальность; не в его власти помочь извлечению ясной, по-мандельштамовски «кристаллической» ноты-эмоции, от подобного воспоминания впору лишь отмахнуться:
обоев клетку голубую и обязательный хрусталь семейных праздников любую подробность каждую деталь включая освещенье комнат и мебель тумбочку комод и лыжи за комодом – вспомнит проснувшийся и вновь заснетВоспоминание, его, как сказано почти два столетия тому назад, тягостно разворачивающийся в ночи длинный свиток – магистральная тема Гандлевского. Причем в стихах последнего десятилетия (по крайней мере, опубликованных) это напряженное раздумье-припоминание почти напрочь вытесняет все иные возможные способы лирического освоения жизни.
Очкарику наконец овчарку дарит отец. На радостях двух слов связать не может малец. ……………………… Почему они оба – я? Что общего с мужиком, кривым от житья-бытья, у мальчика со щенком?Модальность соотношения прошлого и настоящего у Гандлевского – величина переменная. Один из вариантов – несоответствие былых ожиданий и наличной реальности:
Мне нравится смотреть, как я бреду, Чужой, сутулый, в прошлом многопьющий, Когда меня средь рощи на ходу Бросает в вечный сон грядущий. ……………………………………………… И сам с собой минут на пять вась-вась Я медленно разглядываю осень. Как засран лес, как жизнь не удалась. Как жалко леса, а ее – не очень.Порою несоответствие дней нынешнего и минувшего заостряется у Гандлевского до предела, доходит до точки кипения, и это – рискнем предположить – очень сильные, но не самые запоминающиеся строки поэта. Конечно, все лучшее – в прошлом, там молодость, там живы родители, там первые радости любви:
Синий осенний свет – я в нем знаю толк как никто. Песенки спетой куплет, обещанный бес в ребро. Казалось бы, отдал бы все, лишь бы снова ждать у метро Женщину 23-х лет в длинном черном пальто.Но все же гораздо более «гандлевскими» являются случаи, когда воспоминание о прошлом не просуществовало целые десятилетия незыблемым, но изменилось, а теперь, по прошествии времени, оно должно возникнуть вновь, преодолевая период забвения и отчуждения, а то и отрицания:
Мама маршевую музыку любила. Веселя бесчувственных родных, ……………………………… Моя мама умерла девятого мая, когда всюду день-деньской надрывают сердце «аты-баты» – коллективный катарсис такой. Мама, крепко спи под марши мая! Отщепенец, маменькин сынок, самого себя не понимая, мысленно берет под козырек.Казенные бравурные мелодии, связанные с временами пионеров и комсомольцев, набили оскомину, режут слух, но эти (как сказано в другом стихотворении Гандлевского) «спичечные марши» по прошествии лет вызывают в памяти не праздничные парады, а проблески воспоминаний о матери, потому-то диссидент-отщепенец, «самого себя не понимая», делает стойку «на караул».
Еще более таинственными являются случаи полного соответствия былых желаний и наличных реалий. Здесь уже речь не о нетленности первой любви и не о необходимости преодоления высокомерия по отношению к собственному прошлому и к самому себе в этом прошлом. На первый план выходит другое: отдельные наши интуитивные предощущения либо сознательно выстроенные «планы на жизнь» с самого начала оказываются воплощенными, не нуждаются ни в воскрешении, ни в переосмыслении. В пору отрочества Сергея Гандлевского принято было поощрять мечты о профессиях космонавта или полярника. А вот писателем – слабо захотеть вырасти?! Мальчик Сережа, например, пожелал стать как раз таки поэтом – и вот вам, нате-пожалуйста:
Первый снег, как в замедленной съемке, На Сокольники падал, пока, Сквозь очки озирая потемки, Возвращался юннат из кружка. …………………………………… И юннат был мечтательным малым – Слава, праздность, любовь и т. п. Он сказал себе: «Что как тебе Стать писателем?» Вот он и стал им.Чудо отождествления времен у Гандевского лишено пафоса, пророческого подтекста, прямой связи с нравственными либо эстетическими категорическими императивами. Здесь вообще нет никакой императивности, неизбежности: на то оно и чудо, чтобы случаться по темной воле провиденциального случая и длиться долго-долго, в масштабах одной отдельно взятой человеческой жизни – всегда.
Ни сика, ни бура, ни сочинская пуля – иная, лучшая мне грезилась игра средь пляжной немочи короткого июля. Эй, Клязьма, оглянись, поворотись, Пахра! Исчадье трепетное пекла пубертата ничком на толпами истоптанной траве уже навряд ли я, кто здесь лежал когда-то с либидо и обидой в голове. Твердил внеклассное, не заданное на дом, мечтал и поутру, и отходя ко сну вертеть туда-сюда – то передом, то задом одну красавицу, красавицу одну. Вот, думал, вырасту, заделаюсь поэтом – мерзавцем форменным в цилиндре и плаще, вздохну о кисло-сладком лете этом, хлебну того-сего – и вообще. Потом дрались в кустах, еще пускали змея, и реки детские катились на авось. Но, знать, меж дачных баб, урча, слонялась фея – ты не поверишь: все сбылось.Здесь чудо отождествления времен явлено в материи весьма низкой, неизысканной, воплощено в страданиях молодого «пубертата», и это очень важно для поэтики Гандлевского. Дух веет, где хочет, стихи растут из известных всем неблагообразных сред – этим нельзя управлять, невозможно подвергать анализу. Всего только и необходимо – тщательно и честно воспроизвести главное из прошлых дней, запавшее в память, вопреки позднейшим прозрениям и разочарованиям, в соответствии с эстетическим ракурсом критического сентиментализма. Именно этим на протяжении многих лет и занимается русский лирик Сергей Гандлевский.
Библиография
Два стихотворения // Знамя. 2000. № 1.
Два стихотворения // Знамя. 2000. № 9.
Порядок слов: стихи, повесть, пьеса, эссе. Екатеринбург: У-Фактория, 2000. 431 с.
Два стихотворения // Знамя. 2001. № 12.
Двадцать девять стихотворений. Новосибирск: Артель «Напрасный труд», 2001.
Найти охотника: Стихотворения. Рецензии. Эссе. СПб.: Пушкинский фонд, 2002. 218 с.
Два стихотворения // Знамя. 2004. № 1.
Синий свет: Стихи // Новый мир. 2005. № 6.
Два стихотворения // Знамя. 2006. № 1.
Четыре стихотворения // Знамя. 2007. № 1.
«Ни сика, ни бура, ни сочинская пуля…» // Знамя. 2007. № 5.
«О-да-се-вич?» – переспросил привратник…» // Знамя. 2007. № 7.
«Очкарику наконец…» // Звезда. 2007. № 12.
Некоторые стихотворения: новые и избранные. СПб.: Пушкинский фонд, 2008. 48 с.
Опыты в стихах. М.: Захаров, 2008. 160 с.
Два стихотворения // Знамя. 2009. № 1.
Стихотворения. М.: Астрель, Corpus, 2012.
Марианна Гейде или «Ночью коридор становится вдвое длинней…»
Необходимо сказать сразу и с последней прямотой: Марианне Гейде подвластно в словесном ремесле очень многое – мало кому иному доступное. В ее стихах – один и тот же, с полуслова узнаваемый строгий и мощный порыв за пределы обыденного видения, прочь от привычных контуров самоощущения и восприятия внешней стороны вещей. Провидеть мир до себя и без себя, присвоить зыбкую интуицию чувства, освобожденного от персонального носителя, звука – самого по себе, никаким материальным предметом не исторгнутого и ничьим ухом не уловленного.
как прелый виноград, не смогший стать вином, как блеклый мусор, недозревший в почву, как – кто как виноград, не смогший стать вином? кто – блеклый мусор, недозревший в почву? Я? Нет. Мы? Нет. Какие-то они? Их нет, и нас, меня – всё нет, есть прелый виноград, не смогший стать вином, есть блеклый мусор, недозревший в почву, и несравненны, и неповторимы, как слово, сказанное мимо ушей, как бы вода, ушедшая из походя разбитого кувшина. так – правда честно выживших вещей, так несравнен и так неповторим от стынущей воды отходит дым, и смотрит вверх, и задыхается в чужую спину.Слово, сказанное «мимо ушей» и не вымолвленное ничьими устами, – к чему оно? Что чувствует тот, кто внимает именно таким – темным и внятным одновременно – словам? На этот вопрос нет и не может быть ясного ответа. Точнее говоря, никто не может дать ответа, не услышав вопрос, а стихотворение Гейде почти всегда начинается в той точке, в которой невозможна сама постановка вопроса. Все в мире – так, вопреки тому, что возможны двунадесять объяснений происходящего с разных точек зрения, на уровне обыденного сознания имеющих разные градусы обоснованности, а на деле – лишенные как причинных предпосылок, так и рационально объяснимых знаков воздействия на реальность.
Основной парадокс риторики авторской речи в стихах Гейде – существование рядом друг с другом на равных правах двух противоположных интонаций. С одной стороны, интуиции о бытийственной подоплеке всех окружающих нас событий носят вполне бытовой, нейтрально констатирующий характер, однако с другой – они подкреплены пророческим, мирозиждущим избытком осведомленности, обнаруживают силу откровения, повествующего о первоначальном акте творения, многократно воспроизведенном впоследствии, вплоть до момента начала речи:
кто сворачивает пласты не добытых никем пород, не названных никем насекомых кто за крылья берет и отпускает, не оставив клейма, – кто видит город, когда его погребает тьма. погрузим ладони в дегтярную жирную грязь – и там маленькая анаконда, что спит в подушечках пальцев, не изменит свой вид, как крот, прорывая свой лаз, чувствует лбом и спиной свое направление, как птица, пляшущая ни для кого, чертит невозвратность движения своего каждой следующей весной…Способность наблюдать неявное приводит к уравниванию двух реальностей: «мозговая игра» в сознании повествователя уравнивается с ходом дел вне этого сознания, причем все оказывается сопоставимым со всем, помимо реальных масштабов явлений:
пойло злое золотое, вот и зарево пустое между ребрами дрожит, небо просит о постое, небо голое оболом раскатало на полнеба шишковидную луну, в воду звездочки сигают, хрен поймаешь хоть одну. под крыльцом кольцом согнулись или выгнулись дугой беспороднейшие псы, чешут голову ногой или, ноздри раздувая, гонят зайца головного по коробке черепной: бедный заяц головной. У причала покачали голыми боками лодочки, привязанные на ночь рыбаками, точно чалые лошадки, скоро утро, и отчалят, а пока что тебе снится, лодка Таня, что тебе снится, лодка Наташа, в час, когда на свете нет вообще ничего, кроме воды и песка.О чем идет речь в финале стихотворения, о пароходах (лодках) либо о человеках Тане и Наташе, установить совершенно невозможно, тем более что метафорическое олицетворение неодушевленных предметов здесь доведено до предела двусмысленности, подчеркнутой легко узнаваемой «ленинградской» аллюзией («что тебе снится…») на иной «пароходный» текст, гораздо более буквальный и брутально-однозначный. Именно таким образом «монтажный принцип» распространяется на явления, изначально не связанные друг с другом; в процессе вхождения в поэтический текст слова и обозначаемые ими понятия начинают играть новыми гранями, обнаруживать ранее неявные ассоциативные связи.
Что ж, Марианне Гейде вполне по силам увлечь имеющего силу увлечься. И все бы здорово, если б не было в ее текстах на каждом шагу столько явной и скрытой апологетической энергии: восстановить в исконных правах метафизику, обозначить аксиомы и субстанции, с первого восклицания проникнуть in medias res!
Казалось бы, и в самом деле: кто придумал, что метафизика апеллирует к инстанциям весьма абстрактным, для обычного человека почти неуловимым? Вот Кант в предисловии к «Критике чистого разума» (которую принято считать головоломно неясной для простого читателя) настаивает на том, что его книга абсолютно понятна и доступна каждому, поскольку трактует о предметах очевидных для всех: «Я имею дело только с самим разумом и чистым мышлением, за обстоятельным знанием которых мне незачем ходить далеко, так как я нахожу разум во мне самом».
Сложное не значит отвлеченное, наиболее сложно то, что дано каждому, но обычно проходит незамеченным именно из-за очевидности.
Гейде действует в стихах на грани дозволенного – не потому, что некто (или Некто) положил предел поэтической свободе, но по причине прямо противоположной: есть непреодолимые крепостные стены стихотворной естественности, спонтанности, прости господи, «глуповатости», если уж на то дело пошло!
Возьмем впечатляющую книгу Марианны Гейде 2005 года «Время опыления вещей». Уже в первых стихотворениях здесь чересчур демонстративны ритмические, а иногда и лексические созвучия зачинов стихотворений с текстами слишком известными своею принадлежностью поэту, много сделавшему для развития поэтической метафизики как раз таки совершенно спонтанной, лишенной навязчивой рефлексии. Пойдем по порядку: Во тьме несыгранных любвей / Проснулась долгая немота у Гейде явно вызывает в памяти: Да обретут мои уста / Первоначальную немоту нашего поэта. Начало следующего стихотворения: Бессонницей – шапкой бобровою / Надежно накрыло меня – отсылает к Я вздрагиваю от холода / Мне хочется онеметь! (наличие в претексте логаэдических ритмических пауз-стяжений сходства не отменяет). В поисках параллелей к следующему стихотворению сборника: И синью и сладью нелюбом / Питать зарешеченный взгляд / Когда по морям белогубым / Уходит пространства фрегат… – можно цитировать практически любой фрагмент из знаменитого цикла «Восьмистишия», например: Когда, уничтожив набросок, / Ты держишь прилежно в уме…
Впрочем, мера нерефлективной естественности поэтического текста в сборнике «Время опыления вещей» оказывается по большей части соблюдена, стихотворения еще не превращены автором в сплошную инструкцию по их применению, как это нередко случается в позднейших вещах. Более того, в упомянутом сборнике налицо еще один дополнительный прием, повышающий градус «поэзии жизни» в ее противостоянии искусственной и головной «поэзии поэзии». Дело в том, что многие стыки между отдельными стихотворениями книги «Время опыления…» выполнены по правилам венка сонетов, в котором последняя строка каждого сонета становится первой строкой следующего. Например, финальные строки: И верили, что, утекая, / Вода возвращается в дом – соотносимы с началом следующего стихотворения: Ночною порою я слушаю шум / Воды и молчит мой ум…
А вот другую книгу Гейде «Слизни Гарроты» даже привычное наличие совершенных текстов не спасает от демонстративной умозрительности, достигающей апогея в разделе «Автокомментарии». Здесь небезынтересные, но чрезмерно гелертерские пояснения к поэтическим текстам напрочь перечеркивают значение последних. Все, дальше ехать некуда: богатая традиция русской метафизической лирики последних двух столетий переходит в собственную противоположность, руководства по эксплуатации стихотворений перевешивают стихотворения как таковые. Поминутные ссылки на Беркли, Хайдеггера и Гуссерля только усугубляют дело: беспрестанно на ум приходят слова о профессиональных обязанностях сапожника и пирожника. Образцы подобной мертвеющей на глазах псевдолирики, что греха таить, имеются в современной русской поэзии в робком, но крепнущем изобилии, они заразительны – так нелегко (пока еще не поздно!) и так необходимо вырваться из-под их влияния, тем более что метастазы покамест не проникли в саму поэтическую ткань. Ведь если забыть о существовании авторских отточенных и одновременно тяжеловесно-неловких растолкований, то сами по себе тексты вполне еще сохраняют первородную силу:
кто сворачивает пласты не добытых никем пород, не названных никем насекомых кто за крылья берет и отпускает, не оставив клейма, – кто видит город, когда его погребает тьма…Не правда ли, почтенный читатель?
Библиография
Листки // Арион. 2003. № 3.
«Кто сворачивает пласты не добытых никем пород…» // НЛО. 2003. № 62.
Коралловые колонии // Новый мир. 2004. № 3.
Время опыления вещей. М.: ОГИ, 2005.
Стихи номера // Критическая масса. 2005. № 2.
Стихотворения // Новая Юность. 2005. № 3(72).
Солнечноротый ангел // Октябрь. 2005. № 5.
Слизни Гарроты: Стихи с автокомментариями. М.: АРГО-РИСК, 2006.
Утро выкатило шар // Октябрь. 2006. № 10.
Дмитрий Голынко-Вольфсон или «…видно, это формула современности…»
Как только отзвучали девяностые (не то лихие, не то глоток свободы), стих Дмитрия Голынко-Вольфсона стал самим собою. И даже стало понятно, почему прежде он был чем-то иным. Стилизация масскультной полугламурной вымышленной реальности, почти неотличимая от плоской банальщины, вдруг резко сошла на нет, из-под ложно-надрывных повествований, густо замешенных на цитатах из словесности всех времен и народов, показался продуктивный и скудный минимализм, как нельзя более точно соответствующий не тону разговора с читателем, но результирующему вектору высказывания. «Перемелется – мука будет»: вот присловье, лучше всего описывающее движение Голынко от за сто лет выевшей темя петербургоносной карнавальной буффонады – к строгой стихотворной политэкономии смыслов, к обдуманным сериям вариаций на заданные темы.
Было (цитата почти наугад): В ночном такси – блюз флюоресцентного Зообурга! – в обнимку с моим кузено и ди-джеем найт-клуба «Бункер» мы неслись курцгалопом по Венскому проспекту из казино «Ennui», где с везения сняли пенку. Моё кузено – запястья в нефритовых браслетах – перстеньками глаз a la Бёрдсли красавцев клеил. Сколь ни метал бисер греха – никого не закадрил… Не беда, для таких каналий, как мы, везде кабинет заказан. («Сашенька, или Дневник эфемерной смерти», 1994–1995)И так было почти всегда в голынковских картинно и намеренно затянутых историях, настолько круто замаскированных под криминальное чтиво, что от него практически неотличимых.
И вот все это перемололось, ушло, лишнее выгорело. Осталось – ясное и должное, хотя (допускаю) – не всем интересное. В первой половине двухтысячных Дмитрий Голынко-Вольфсон заново находит и разрабатывает свою особую большую стихотворную форму. Вместо поэмообразных причудливо закрученных сюжетных повествований появляются своего рода циклы стансов, серийно разрабатывающих одну магистральную тему. Вместо линейного (порою сложно-многолинейного!) повествования – музыкальное варьирование лейтмотивов, воплощенное в почти чеканных, прозрачных до четкости сериях завершенных строф, причем внутри отдельных стихов могут присутствовать знаки препинания, которые последовательно опускаются на границах строк и строф. Достаточно много в свое время было написано о переломной вещи под названием «Бетонные голубки, или Несколько тостов за Гернику Гвеницелли». Однако еще более интересны «Элементарные вещи», «Зоны неведения», «Напрасные обиды» и иные модуляции, облеченные в фирменную голынковскую форму.
Здесь получают полноценную мотивировку две ключевые особенности поэтики Дмитрия Голынко-Вольфсона, в более ранних текстах порою повисавшие в воздухе. Во-первых, склонность к захлебывающемуся монологу, который не всегда монтировался со сложным и разветвленным сюжетосложением. Теперь стремительный темп словоговорения ясным образом соответствует поставленной задаче – стремительно, основываясь на чуть ли не автоматическом порождении текстов, выпалить все теоретически и практически возможные варианты выбранной темы. И во-вторых, мотивированной оказывается интонация почти бесконечного перечислениия сходных явлений и фактов, опять-таки ранее выглядевшая случайно, а начиная с 2002–2003 годов напоминающая сериальное музицирование, стройную и демонстративно холодную словесную алеаторику.
Вот, например, как развивается в одноименном цикле тема «Элементарных вещей» (каждая миниатюра цикла у автора обозначена аббревиатурой ЭВ):
элементарные вещи много места не занимают видно, это формула современности (ЭВ 1) элементарная вещь задумана о смерти о ее мифологии и физкультуре (ЭВ 2) к элементарной вещи приходят гости и она начинает чувствовать нет в ней стыда, нежности и приязни нет злости, презренья – стрижка (ЭВ 3) элементарная вещь отправляется на рынок уцененной белиберды, покупает на распродаже что-нибудь приятное и полезное анафему или любовь товар беспрецедентно быстро приедается (ЭВ 4) если в ней что-то кипит внутри – это не страх не готовность к самопожертвованью не стремленье к подвигу, к беспокойной жизни элементарные вещи всегда спокойны спокойствие перенимают у них ноги если сорвется на крик элементарная вещь не терпенье иссякло, это крик радости победы: ей зачтены прошлые прегрешенья экземы возмездья можно не опасаться (ЭВ 5) элементарные вещи живут вне человека состояние вне – их конек и хобби в человеке зарыто нечто от элементарной вещи в этом – его величье но человек намного крупнее элементарной вещи (ЭВ 6)Заявленный в заглавии цикла мотив «элементарной вещи» корреспондирует с понятием элементарных частиц, обезличенных, мельчайших кирпичиков бытия, в начале прошлого века занявших место атомов, которые на протяжении тысяч лет казались неделимыми. Элементарная вещь находится вне человека, она более дробна, чем человеческая личность, живая, одушевленная, персонифицированная, напоминающая скорее атом. Можно вспомнить, например, поэму в прозе Георгия Иванова «Распад атома», в которой речь как раз и идет о распаде личности человека индустриальной эпохи, соответствующем расщеплению атома в новейшей ядерной физике. В зрелых циклах Голынко присутствует характерный прием перевода отвлеченных рассуждений на поэтический язык, спонтанные монологи, облеченные в форму серийных стансов, не содержат прямой рефлексии, но ее предполагают. Лишенное эмоциональной непосредственности автоматическое текстопорождение обретает таким образом человеческое измерение, нацелено на ясный эстетический результат, очищенный от былой утомительной барочной избыточности ранних текстов Дмитрия Голфынко-Вольфсона.
Библиография
Директория. М.: АРГО-РИСК; KOLONNA Publications, 2001. 96 с. («Тридцатилетние»).
Бетонные голубки. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 220 с. («Премия Андрея Белого»).
Стихотворения // Зеркало. 2005. № 26.
Что это было // НЛО. 2010. № 106.
Линор Горалик или «Ходить нога, кричать вот этим ротом…»
А в общем-то, совершенно неважно, в какие именно тексты воплощается литературная работа Линор Горалик, неспроста же на одной из ее электронных страниц то, что некогда было бы названо стихами, обозначено как «тексты в столбик»! Можно много говорить о превышении обычной меры условности и отдалении от прямолинейного жизнеподобия в текстах Горалик, об их сближенности с лубочными картинками, рекламными роликами и биллбордами, незатейливыми клипами на слова однозвучных новых песен о неглавном. Но если всерьез, то серийные и одиночные произведения Горалик предельно далеки как от безудержного имитаторства лубка, так и от свободной концептуалистской игры или от «новой социальной поэзии». Конечно, основной эмоциональный посыл стихов Горалик легко отождествить с жесткими тембрами социальной поэзии, как бы заставляющей человека споткнуться о собственную нечуткость и равнодушие. Так – да не так! Линор Горалик на все лады говорит о преодолении физической боли и физической же, а потому назойливо-неотвратимой, вины, не имеющей никакой явной материальной причины, не предшествуемой в прошлом никаким предосудительным либо постыдным поступком:
Если за молоком или так, в поношенном до ларечка, можно встретить девочку – восемь пасочек, два совочка, – у подъезда, у самого у крылечка. Тело у нее щуплое, голова пустая. Вся она, словно смерть, любимая, словно смерть, простая, – и коса, и коса густая. Вот она выбирает пасочку и идет ко мне осторожно, так берет документики, будто это важно. Фотография, биография, биопсия, копия. Это я, девочка, это я. Голова у меня пустая, совесть чистая, ты моя.Усмотреть в мире никем не заслуженную, не спровоцированную вину – вот что пытается совершить Линор Горалик в своих текстах в столбик. У этого жеста, духовного движения возможны два подтекста: глубоко личный и всеобщий универсальный, – и оба они сходятся в библейской реальности стихий и сил. Проекцией личного соприсутствия незаслуженной вине является болезнь – в первоначальном значении этого слова, производном от боли. Страждущие стоны и ропот Иова оглашают эти подмостки.
Как умирают пятого числа? Как умирают третьего числа? Как умирают в первый понедельник? Лежат и думают: «Сегодня все музеи закрыты – санитарный день. Все неживое чает очищенья, и чучела спокойней смотрят в вечность, когда стряхнули месячную пыль». Как умирают ближе к четырем – в детсадовский рабочий полдник? А ближе к новостям? А в шесть секунд десятого? А в пять секунд? А в три? А вот сейчас? Какие ж надо святцы, чтоб никого из нас не упустить.Проекцией универсальной служат иные события библейского масштаба, пусть и сведенные к тесным рамкам рассказа либо рождественской истории:
Как в норе лежали они с волчком, – зайчик на боку, а волчок ничком, – а над небом звездочка восходила. Зайчик гладил волчка, говорил: «Пора», а волчок бурчал, – мол, пойдем с утра, – словно это была игра, словно ничего не происходило, – словно вовсе звездочка не всходила. Им пора бы вставать, собирать дары – и брести чащобами декабря, и ронять короны в его снега, слепнуть от пурги и жевать цингу, и нести свои души к иным берегам, по ночам вмерзая друг в друга (так бы здесь Иордан вмерзал в берега), укрываться снегом и пить снега, – потому лишь, что это происходило: потому что над небом звездочка восходила…Здесь важны именно стилистические перебои от предельной экспрессии к бесстрастности, невыносимо болезненное-для-меня приведено в действие чем-то непреложным и жизнедарующим. В этом странном сочетании сдержанности и нетерпимости, покорности и бунта, сомнений и убежденности – ветхозаветный сюжет вечной борьбы за право вести борьбу без надежды на победу. Парадоксальное бесстрастие при виде и при чувстве боли оборачивается затаенной героикой, как в бьющих по нервам сценах еврейского погрома, запечатленных в бабелевском «Переходе через Збруч». Невыносимое горе оставлено при себе, для других обнажена минималистски оформленная немота, не сопоставимая ни с концептуалистской легкостью нанизывания условных и понарошку срисованных картинок, ни с прямолинейной публицистикой социальных поэтов.
При подобном лаконизме выразительных средств, при почти демонстративном господстве монотонной интонации равнодушия и отстранения стихи Линор Горалик отличаются очень большим диапазоном тембров. Боль, болезнь, спокойное спасение в условном и холодном, слова не пристают к чувствам, лишены экспрессии. Это очень напоминает внезапное внимание чеховского Климова из рассказа «Тиф», только очнувшегося от многонедельного болезненного бреда, к простейшим подробностям быта: к бликам света на стекле графина с прохладной водой, к звуку проезжающей за окном извозчичьей пролетки… И все это оказывается неотделимым от библейского кода первотворения и мироустройства, даже если апостолы названы русскими уменьшительными именами:
Плывет, плывет, – как хвостиком махнет, как выпрыгнет, – пойдут клочки по двум столицам. Придут и к нам и спросят, что с кого. А мы ответим: «Господи помилуй, Да разве ж мы за этим восставали? Да тут трубили – вот мы и того. А то б и счас лежали, как сложили». С утра блесна сверкнула из-за туч, над Питером и над Москвой сверкнула. И белые по небу поплавки, и час заутренний, и хочется мне кушать… Смотри, смотри, оно плывет сюда! Тяни, Андрюша, подсекай, Петруша!..Сведение многоразличного к единому, неброское тождество далековатых друг от друга понятий, вещей и событий – все это легко узнаваемые черты стихотворной манеры Линор Горалик, чьи строки в столбик – по первому впечатлению – предназначены для ребенка либо для невзыскательного поглотителя бульварного чтива. Сказать на этой территории, этим языком о материях сущностных и существенных не каждому удается. У Линор Горалик получилось, пусть и отдают себе в этом отчет очень немногие ее читатели.
Библиография
Подсекай, Петруша // Новый мир, 2007, № 2.
Подсекай, Петруша. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2007. 48 с.
Устное народное творчество обитателей сектора М1 / Сост., предисл. и послесл. С. Петровский. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2011. 96 с.
Наталья Горбаневская или «Вот мы и дожили – но до чего?..»
Лирика Натальи Горбаневской двоится. На протяжении многих и многих лет в ней присутствуют стихотворения, в которых поэт ищет «точный маршрут к недоступным высотам», оглядывается назад, а получается что вверх, ввысь:
Это весна, равноденствие, это зима, зиме, зимы кончается срок, и она выходит на волю, на дальний, самый дальний восток, и чем дальней, тем печальней. А весна сбивается с ног, смывает остатки сугробов, вымывает останки гробов, ибо час Воскресения пробил в выходные отверстия белых лбов, ибо Бог – это вправду любовь, но себя ко всему приготовь.Последние строки весьма знаменательны, они ясно говорят о том, что религиозное чувство, одушевляющее поэзию Натальи Горбаневской, лишено малейшего оттенка назидательности, намека на застывшее морализаторство. Вроде бы вполне ясно объяснено в приличествующих текстах, как достигается благодать, но приготовить себя следует буквально ко всему, ибо многое вокруг может менять природу, бликовать, превращаться из света в тень и обратно. «Причастность тайнам» выведена за храмовые пределы, выглядит обмирщенной, но вовсе не профанированной бытом.
На этом горнем фоне неким контрастом выглядят другие стихи – торопливо проборматываемые усталым, порою опустошенным человеком, уставившимся в компьютер, медленно бредущим к вокзалу по знакомой парижской улице и в произвольном порядке выдергивающим фрагменты картинок давно минувших дней.
Книжку читаю – книжка в руках рассыпается. Таю, не таю – сосулька в груди просыпается. Сплю ли, не сплю ли – через горло сыта сновиденьями. Сыплются пули провиденья ли, Провиденья ли. Сыплют горохом по тонкому льду и прозрачному. Катятся эхом наживо, наголо, начерно.Для этого человека основное занятие – явно не поэзия, он обращается к стихам как бы попутно, не с тем чтобы разрешить специальную эстетическую либо моральную задачу, но просто в стремлении продублировать, прокомментировать случившееся с ним здесь и сейчас, роняя слова полуслучайные, разговорные и просторечные, словно бы и не предназначенные для чужого уха.
…Родит земля читателя? Врача скорее. Грех замоля, предстану ль я пред галереей чудесных рож, где каждый схож со мной хоть чутку, хорош, нестар, как санитар, что вопреки рассудку бросает ключ, как солнце луч кидает в море… Могуч прилив, все высветлив – и страх, и горе.Человек, написавший эти стихи, понятен и прозрачен – он почти невольно перефразирует словно все еще полузапретного Мандельштама («…читателя?», «могуч прилив…»), – демонстративно неофициален, почти брутален в подборе слов («рож», «чутку») и спустя несколько десятилетий накрепко укоренен в советских шестидесятых-семидесятых. Он продолжает ощущать себя на грани эпохи глубокого вдоха примстившейся воли и возвращения вечных сумерек свободы. Вот, по Бродскому, «конец перспективы»:
Телеграфный переулок. Черная «Волга» гонится за мной, въезжает на тротуар. Сон 69-го года.А вот и новый виток надежд-иллюзий:
Демокра! И восклица! Пить нам воду не с лица. Да и не к лицу. Вот икра, и фуа-гра, и другие сплендора важному лицу…Лирический дневник сопровождает автора и в небесных прозрениях, и в земных буднях, так же как на равных правах привычной домашности присутствуют в стихах Натальи Горбаневской реалии Москвы и Парижа. Обе описанные версии лирики Горбаневской весомы и самодостаточны, однако самое главное все же начинается в момент столкновения разных способов жить: жертвенного пренебрежения обыденным ради вечного – и погружения в рутинные, но также самоотверженные повседневные усилия исполнить долг не перед небом, но перед людьми. В эти мгновения привычное кажется невыносимым, полнозвучный мир оказывается вовсе лишенным звуков:
Я знаю, зачем мне дана глухота – чтоб стала ничейною речь изо рта, чтоб стало нечаянным слово из уст, как если б пил чай Иоанн Златоуст, как пламя вдоль просеки, сбросив тряпье, посмотрит и спросит: «Где жало твое?»Нет двух свобод и двух способов жить, нет противостояния устоев и привычки к быту и тяги к бытию. Кроящееся на глазах читателя новое тождество лирического героя в лучших стихах Горбаневской лишено как монотонности духовного взлета, так и постоянства покорности земной юдоли. На этом уровне рассуждений крайности сходятся, никакая линия горизонта не отделяет небеса от почвы, именно на этом рубеже рождается новое качество лирики поэта:
Кто там стучится в висок, но снаружи, рушится мой герметический череп, через растрещины глубже и глуше грузный паром ударяется в берег и удаляется снова и снова, сном или явью, явью ли, снами, с нами отходит от брега родного прямо на дно, под зеленое знамя…И есть у Горбаневской еще несколько важнейших стихотворений, в них драма сопряжения энергии и материи отходит на второй план, место действия снова предельно конкретизируется, но становится в то же время предельно условным, пейзаж неприметно переходит в рассуждение, более не поддающееся рассудочному проговариванию, непересказываемое, слитное и совершенное.
Кочерыжка водокачки, точно витязь у распутья, а за пазухой в заначке пирожок и в нем капуста, ‹…› чтобы лук не перепрягся, чтоб копье не затупилось, чтоб ворона, точно клякса, с водокачки не спустилась доклевать сухие крошки, выклевать пустые очи и на все на три дорожки каркать, каркать что есть мочи.Водокачка с ходу отождествляется с витязем на распутье, а где витязь – там битва, там гибельный пир, литургия смерти и воронье над павшими воинами. Круг замыкается. Это коловращение почти не предполагает остановки, оглядки, может быть только понимание необходимости не отводить глаз, не выпускать из поля зрения смысл, каким бы размытым, нечетким он порою ни казался. Мало кто способен чувствовать и видеть чересполосную сложность и жесткость жизни так ярко и определенно. Наталья Горбаневская это умеет.
Библиография
Последние стихи того века. Ноябрь 1999 – декабрь 2000. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2001. 96 с.
Где и не лежало… Стихи // Континент. 2002. № 114.
Русско-русский разговор: Избранные стихотворения. Поэма без поэмы: Новая книга стихов. М.: ОГИ, 2003. 300 с.
Восьмистишия военные // Звезда. 2003. № 6.
Из новых стихов // Континент. 2004. № 121.
Стихи // День и ночь. 2005. № 9–10.
Чайная роза / Предисл. Д. Давыдова. М.: НЛО, 2006. 128 с. (Поэзия русской диаспоры).
Свобода воли: Почти поэма // Звезда. 2006. № 5.
Кому, о ком, о чем, зачем, почем, куда? // Континент. 2006. № 128.
Стихи // Звезда, 2008, № 6.
Приложение: Из новых стихотворений // НЛО. 2008. № 91.
Развилки: Стихи. Август 2008 – декабрь 2009. Самара: Дом искусств, 2010. 50 с.
Круги по воде: Стихи. 2006–2008. М.: Новое издательство, 2010. 84 с.
Стихи // Звезда. 2010. № 10.
Штойто. Стихи 2010 года. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2011. 64 с.
Мартовские стихи // Интерпоэзия. 2011. № 1.
Из книги «Штойто» // Звезда. 2011. № 5.
Веревочка // Знамя. 2011. № 9.
Из книги «Круги по воде» // Новый берег. 2011. № 33.
Мой Милош. М.: Новое издательство, 2012. 440 с.
Города и дороги. М.: Русский Гулливер, Центр совр. лит., 2013. 400 с.
Осовопросник. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2013. 56 с.
Михаил Гронас или «Меня у меня не отнять…»
Вот настало времечко: новейшие дивайсы и гаджеты норовят поработить своих пользователей, искоренить их былое обыкновение разговаривать друг с другом вживую, втянуть на территорию изнурительного онлайнового общения. Сплошь и рядом слышу, как вместо приветствия встретившиеся коллеги или друзья обмениваются отрывистыми пересказами недавно адресованных друг другу электронных сообщений: «Я тебе написал!» – «Я ответил!» Электронная коммуникация запутала всех в одну бесформенную сеть, пропускная способность которой многократно превышает возможности одного отдельно взятого хомосапиенса. К чему все это привело? А к тому, что мы готовы благодарить многих знакомых и друзей не за подачу весточки, но за милостивое присутствие-молчание. Легче просто знать, что такой-то и такой-то мирно живут в каком-нибудь своем твиттере-фейсбуке, что-то отрывисто произносят порою, адресуясь сразу всем и никому конкретно.
В присутствии глобального информационного сверхтекста что-то важное происходит и с поэзией, с русской поэзией. И дело здесь не только в том, что стихотворцы с именем (мусорные «поэтические» порталы – не в счет) выкладывают в сети только что созданные тексты (неясно, можно ли считать это полноценными публикациями или речь должна идти только о современных аналогах рукописного и устного бытования поэзии?). Я думаю, что происходит – и уже произошло – нечто гораздо более масштабное. Принцип серийного производства породил не только бесконечные телевизионные саги, не только заставил не бульварных, а серьезных прозаиков поставить писание романов на поток. Абсолютная доступность сразу всех производимых поэтических текстов чем далее, тем более производит впечатление чрезмерного многописания. Причем включенный в процесс «профессионал» уже не в силах уследить за всем, что подпадает под определение поэзии, а человеку со стороны, наоборот, – при всем изобилии подборок, сборников и ежедневных онлайн-публикаций – кажется, что поэзия закончилась во времена если не Блока и Ахматовой, то Вознесенского и Окуджавы. Как быть с этим двойным статусом поэзии, с ее одновременным преизбыточным бытием и якобы полным отсутствием? Сформулируем точнее: какой тип «авторского поведения» современного поэта прямо соответствует сетевой парадигме русской лирики?
Думаю, что поточное производство даже качественных текстов сейчас не очень-то продуктивно, зачастую эффективнее воздействует многозначительное молчание поэтов, однажды (либо многажды) ранее «прозвучавших», а ныне предельно экономно расходующих творческие потенции и таким образом избегающих упреков в предсказуемости и самоповторах. Всем участникам глобального поэтического разговора-полилога на равных основаниях внятны как «реплики» поэтов (книги и подборки стихов), так и их молчаливые обозначения собственного присутствия. Как-то так сегодня существует «стих в большом городе», многообразный, почти неуловимый, способный сохранить привлекательность без специальных усилий продюсеров и спонсоров.
Михаил Гронас – один из тех поэтов, чей голос продолжает внятно звучать и без регулярных публикаций на протяжении целого десятилетия, последовавшего за довольно громким успехом в начале 2000-х годов. В своей судьбе Гронас явно «не ставит» на поэзию – ему есть чем заняться как филологу, университетскому преподавателю, переводчику интеллектуальной литературы. Способ присутствия Гронаса на поэтическом поле – весьма показателен. Поэт явным образом не заботится о собственном литературном реноме, не подчеркивает свою цеховую принадлежность, не жжет сердца надмирным глаголом, не претендует на какой бы то ни было избыток приобщенности к тайнам мастерства. Разговор идет на равных – между двумя современниками, а не между поэтом и «остальным миром».
Первоначальное, универсальное раздумье «непоэта» Гронаса – о тождестве личности в условиях ее бесконечных расщеплений в разных жизненных ситуациях, разных возрастах, в многообразных социальных ролях.
помню как сижу в детском садике на раскладушке и ко мне по коридору приближается воспитательница толстая так что кажется что это несколько человек идут в обнимку… ……………………………………………… и я тогда думаю вот мне мало лет и вот я сейчас думаю что-то но важно что я вот так же буду потом потом думать а это буду все равно я и буду совсем другой в голове но останусь мной…Однако этот человек интересен не только тем, что он – как все, не тем, что обостренно переживает ускользающую определенность и самотождественность собственного я, – кого этим нынче удивишь!
меня у меня не отнять да кто ж отнимает? человека такого – нема все же все понимают просто – зимаГронасовский рассказчик умеет почувствовать и открыть в повседневности неожиданные масштабы, ему внятно присутствие в привычных вещах и явлениях извечных изначальных смыслов, чаще всего отсылающих к библейскому кругу событий. Так, предрассветная домашняя тишина оборачивается сосредоточенным безмолвием Творения, поэтому на кухне не вода течет из крана, но шумят «воды»:
долго ли коротко ли больно ли холодно ли темнеет светает дорога до Бога видна тебе не подняться голос твой бледен но друг ты слышишь как воды на кухне шефство берут над тишиной над тишиной…Иногда этим параллелизмом быта и бытия дело и заканчивается. Но чаще установление библейского подтекста происходящего – не итог, но старт дальнейшим метаморфозам реальности. Гронаса всегда можно узнать по стремлению к абсолютной лаконичности высказывания. Фирменный минимализм Гронаса восходит к лапидарности новозаветной притчи, как правило, свободной от портретных и пейзажных излишеств. Притча сводит события к универсальной нравственной формуле, лишенной индивидуальной подоплеки, не дающей возможности отвлечься на «личное». Экономная весомость притчи, напряженный бытовой профетизм, библейская величественность – сознание весомости произносимого – вот смысловые координаты этих рифмованных и безрифменных миниатюр. Любое частное наблюдение немедленно становится поводом для масштабного обобщения, для превращения единичного случая в хорошо темперированное упражнение на тему морали. Вот как описана поездка в метро:
А кто сидит напротив? Это мои родные, Забывшие, что мы братья, И от этого только ближе. Я одолжу их облик, Подержу немного под веком И пересяду в другую Прямую черную реку.Попробуем свести в одной точке два основных вектора поэзии Гронаса.
Первый – современный человек, горожанин технической эпохи вынужден напряженно искать основания для самоопределения, для обнаружения устойчивой тождественности своей личности. Подобное углубление в себя ведет к ощущению пустоты и выхолощенности ощущений:
пусто мне, пусто. сети пустые и письма пустые пришли, дети, которых нашли, убежали обратно в капусту, в смете нули там, где прибыли, и там, где расходы, – нули, ой, куда же мы прибыли, куда же нас завели…Главное отчуждающее последствие одиночества – даже не в разобщенности с другими людьми (как у экзистенциалистов, как у любимого Гронасом Пауля Целана), а в иссушающем чувстве неподлинности самого себя:
когда я плакал когда я плакал когда я плакал последний раз? я не помню когда я плакал когда я плакал последний раз клавиатура клавиатура клавиатура – дура клавиатура клавиатура клавиатура – мамаВторой вектор гронасовской лирики – попытки выхода за пределы болезненного самоанализа и приобщение к моральной топике притчи. И получается, что именно это усилие по расставанию с собою приводит к воскрешению чувств, отказ от традиционной урбанистической индивидуальности открывает путь к новой персональности, вмещающей личное сочувствие всем, кто в этом сочувствии нуждается.
ни у кого уже никакого добра не осталось холодно стало, а раньше было теплей вот элегия жизни моей а правило жизни – избегать в переходах нищих, слепых которых сам слепей когда из метро выходишь воздуха клей разводить руками потому что ни у кого уже никакого добра не осталосьПостоянно присутствующие в стихах Гронаса мотивы сиротства (ср. название сборника «Дорогие сироты»), нищеты, бесприютности связаны не только с судьбами бездомных и обездоленных насельников современного большого города, они означают нечто большее. Осиротел тот, кто замкнулся в себе, оказался в изоляции от горизонта сочувствия ближнему, которое пробивается через любые внешние препятствия, как трава сквозь каменные плиты на городских площадях.
Гронас предлагает вполне конкретный алгоритм поведения: посредством отказа от скомпрометировавшей себя персональности индустриальной и постиндустриальной поры – вернуться к исходной точке индивидуализации, к приобщению тотальности морального императива. Эта задача имеет мало общего с искусством, не носит специально поэтического характера, к ней невозможно ничего ни прибавить ни убавить. Отсюда особая значительность веского молчаливого присутствия Михаила Гронаса в современном поэтическом поле. Творческое кредо Гронаса не нуждается во все новых и новых текстовых иллюстрациях, слово не только «найдено», но и высказано. Очень возможно, что Михаил Гронас почувствует необходимость сформулировать иные поэтические максимы, и тогда, вероятно, появится новая серия публикаций. Но это, по словам классика, уже совсем другая история.
Библиография
Маленькие стихи и песни переходов // Волга. 1999. № 8.
Шесть стихотворений // Вавилон, вып. 6. М., 1999.
Дорогие сироты. М.: ОГИ, 2002. 80 с.
10/30, стихи тридцатилетних. М.: МК-Периодика, 2002. 160 с.
Стихотворения // Зеркало. 2002. № 19–20.
Юлий Гуголев или «Помнишь не то, что имел в виду…»
Читать Юлия Гуголева легко и приятно, писать о нем – судя по всему – тоже: количество развернутых отзывов, рецензий, персональных разделов в аналитических статьях едва ли не превышает по объему им написанное и опубликованное. Мало того, что Гуголев – «взыскательный художник», берегущий бумагу от необязательных слов, он еще и на редкость цельный, фактурный, словесно и жестово определенный стихотворец, ничего не скрывающий и ни о чем не умалчивающий, режущий правду-матку напролом и раз за разом – более или менее сходным образом.
Это – осмелюсь предположить – часто и многим так кажется, видится, мстится.
Джентльменский набор общих мест-мнений о поэте Юлии Гуголеве не то чтобы весьма пространен. Прежде всего – непременная повествовательность, присутствие события и одновременно рассказа о нем, обычно незатейливого и раскованного. Далее: совпадение реального человека Юлика и парохода-рассказчика в стихах, причем это человек скорее праздный, нежели целеустремленный, часто – вырвавшийся из бытовой рутины типа «работа – дом» и пустившийся в путь-дорогу. Точнее говоря, отправился он в путешествие-командировку, где львиная доля времени уходит не на дела, а на треп со случайными встречными и на разные варианты «отдыха» – в том смысле, как говорят неосторожным посетителям уже гуляющие в ресторане-сауне-притоне люди с весомым авторитетом: «Мы тут, брат, отдыха-а-аем!..». Пустая болтовня сопровождает этого человека, и только:
Ну что ж это за наказание! Спокойно стою себе в тамбуре. Курю сигарету приличную. Ничем вроде не отличаюсь от прочих командировочных. Спокойно стою, но не робко.Что еще? Всепоглощающая ирония и самоирония, отсутствие «идей» и малейшего пафоса, наконец, постоянство гастрономических мотивов: из всех жизненных и производственных процессов, связанных с едой, делаются столь же радикальные выводы, как у Леви-Стросса в трактате о сыром и вареном:
Как средь пустыни туарег бьет верблюда, представив речку, так я, завидев чебурек, ударить рад по чебуречку.Перечисленный набор стандартных суждений о стихах Юлия Гуголева бесхитростен и прям. И наконец-то пора произнести: он не ироник, он другой – еще лет двадцать назад совершенно немыслимый рассказчик и бытописатель. Совсем даже не пересмешник, а человек, упорно твердящий две-три мысли, о которых нечасто упоминают рецензенты.
Мысль первая: единство характера современного человека слагается только из движений, намерений и жестов физического, физиологического свойства, не описываемых ни языком возвышенного обмана духовных истин, ни посредством терминов и технических свойств, приложимых к «умениям» и «способностям» новомодного гаджета. Ай-фон, ай-пад или ай-хомосапиенс последнего выпуска умеет и призван делать то-то и то-то, а сегодняшний Человек Отдельный – особенно горожанин! – отличается от своих братьев и сестер как раз видеорядом повседневных впечатлений, линейкой физиологических функций, тем, как он живет, спит, пьет не в режиме универсальной благополучной настройки, а именно в те моменты, когда вокруг что-то меняется, происходит мелкое событие, выглядящее как анекдот, будь то поездка в другой город или посещение театра. Между постоянством моего внешнего облика и привычек и происходящим событием – резчайший контраст, стена тайны, момент немотивированности и по-видимости-случайности:
Ладен телом, округл лицом, не лишен физической силы – славным малым, но подлецом меня мама с отцом родили. Репутация? Наплевать. Только алиби мне поможет. Я сегодня хочу рассказать Обо всем, что меня тревожит, Обо всем, в чем я виноват. В заключение – случай в метро. Раз мы с Олей пришли во МХАТ. Там играла Жанна Моро…Мысль вторая: запоминается всегда не то, что хочешь и пытаешься запомнить, между фактами, воспоминаниями и словами рассказа – несмотря на видимую слитность и единство того, другого и третьего – неизбежно разверзается пропасть, она почти непреодолима и неописуема, почти как расстояние между ядром и электронами в тесном пространстве атома, когда-то и кому-то казавшегося неделимой частицей материи.
Странно то, что наверняка помнишь не то, что имел в виду, то есть не то, что хотел запомнить или даже прочесть заранее, не то, что следовало…Немедленно вспоминаются косые лучи заходящего солнца, ставшие самым первым впечатлением Алеши Карамазова, или недоумение Николая Ростова, следящего за движениями рук сдающего карты Долохова. «Как получается, что просто движутся эти пальцы, тасующие карты, а я проигрываю состояние и фамильную честь?» – думает Ростов. Как получается так, что – вопреки случайности впечатлений и встреч – я запоминаю именно то, что так важно для меня, безо всякой скидки на иронию – так мог бы думать гуголевский рассказчик, будь он меньше похож на себя, походи он на разложенного по либерально-автоматическим полочкам и функциям интеллектуала, верящего в провидение и конечную осмысленность бытия. А так – опять череда глубоко не случайных, надоедливых обыденностей, как в знаменитом стихотворении Гуголева о бессмысленных и беспощадных беседах с лифтершей:
– И не скажешь, а скажешь… – бухтит Александра Михална. – Юлик, здравствуй! Как сам? – Здрасьте, здрасьте. – Во, думаю, влип-то. Разумеется, я на беседы с лифтершей чихал, но иногда избежать их не мог в ожидании лифта. И не скажешь, а скажешь… С запевки такой постоянно я слушать должен был разное, часто хотелось мне выть уже, например, что хожу целый день, голова, вот, как пьяная, что погоды такой никакие сосуды не выдержат…В нелегкие и вечные времена перемен очень часто на первый план выходят ценности простецкие и непосредственные, почти биологические, именно они, например, удерживают на поверхности жизни героев романа «потерянного поколения» (лейтенанта Генри из романа «Прощай, оружие!» спасает привязанность к женщине на фоне фальшивых призывов к воинской доблести). «Гений простых человеческих дел» если не универсально целителен, то несомненно полезен и смыслотворен: ведь даже чудо в Кане Галилейской произошло не иначе как в ответ на простую недостачу еды и питья у вступавших в брак небогатых людей…
Вот подоспела и третья мысль о стихах Юлия Гуголева: для его рассказчика переживание служит вернейшим способом преодоления несчастий. Это обычный, порою – примитивный человек, делящий с представителями рода своего не исключительные способности и достоинства, но соблазны отказаться от необходимого, пройти мимо важнейшего, да еще столь стремительно, что и петуху некогда пропеть трижды. Герои Гуголева – заклинатели несчастий и бед при всей своей внешней неприглядности. Джойса уже спрашивали двунадесять раз, почему легкомысленная Мэрион в его романе должна быть соотнесена с верной и самоотверженной Пенелопой? Ответ был тот же, что и в случае Гуголева: железный век если и не рождает чудовищ, то привлекает внимание к людям обычным, потому что именно они способны преодолеть каверзы времени.
Ирония в стихах Гуголева присутствует, но роль ее маргинальна, так же как, впрочем, и у «раннего» Д. А. Пригова («Вот я курицу пожарю – жаловаться грех…»), и у «позднего» Тимура Кибирова. Человек, «пожаривший курицу» или радеющий о наиболее экономном способе приготовления пищи насущной (как бабушка в известнейшем стихотворении Гуголева «Да-а, а вот Генцы мясо едят…»), – не понарошку, а на самом деле центр и столп бытия, только он способен проявить героизм там и тогда, где и когда, казалось бы, уже навсегда нет места счастью и подвигу.
Среди и без того немногочисленных стихотворений Юлия Гуголева меня особенно завораживают те, которые можно было бы, по аналогии с поздними повестями Тургенева, назвать таинственными. Вот одно из них, посвященное Евгении Лавут:
Ловит, ловит, – кого поймает? – ладошка сухая, живая ловушка, диастема, твердая дужка, утлая лодочка костяная. Нам не ведома, Водой невредима. – Хлопчик, вишь как, Пийдемо, пийдемо… И вот уже летит без огня и дыма. – Откуда нервишки? – Из лесу, вестимо! Ведьма, видимо…Что тут происходит, кто кому что говорит и зачем, и даже – кто кого встретил? Нет ответа, тем более ясно выступает на первый план великая тайна явного и повседневного непроницаемого мыслью и смыслом мира, прячущегося под личиной заурядных и скучных событий.
Тут только и остается, что воскликнуть вслед за Юлием Гуголевым:
Ой, даже прямо не знаю, что сказать. Это было полной неожиданностью. И главное – так зло, с таким нажимом. А главное – чего? почему? с какой стати? Кстати, этого следовало ожидать. В принципе всё к этому и шло, потихоньку так, потихоньку, и так далее. Нет, ну главное, с таким нажимом и так зло. Еще повезло, можно сказать, слава богу, все живы. Еще повезло, говорю, слава богу, все живы, можно сказать. Нет, ну это было полной неожиданностью. Ну я даже прямо не знаю, что сказать.Библиография
Полное. Собрание сочинений. М.: ОГИ, 2000. 80 с.
Автор // Новая русская книга. 2002. № 1.
Из цикла «Впечатления из другой области» // Интерпоэзия. 2005. № 2.
Впечатления из другой области // Октябрь. 2005. № 10.
Ногти ходжи Даниёра // TextOnly. 2005. Вып. 13.
Командировочные предписания. М.: Новое издательство, 2006. 80 с.
Впечатления из другой области // Знамя. 2006. № 4.
Стихи // Вестник Европы. 2007. № 21.
Странствия // Знамя. 2008. № 6.
Новые стихи // Октябрь. 2008. № 8.
Из новых стихотворений // Интерпоэзия. 2009. № 2.
Время прибытия // Октябрь. 2009. № 10.
Естественный отбор. М.: НЛО, 2010. 136 с.
Данила Давыдов или «Мне больно от отсутствия меня…»
В стихах Данилы Давыдова тесно от слов, людей и событий, в подтексте всего происходящего – незримо бьющийся пульс большого города, населенного людьми слишком разными, чтобы быть интересными друг другу, способными воспринимать окружающее лишь мельком, с налету, вполглаза. Подобные картины рождают двойственные эмоции. С одной стороны – это комфортное место обитания, поделенное на квадратики, обжитое и освоенное, целиком приспособленное для удовлетворения нужд своих насельников. С другой – здесь звучат одновременно все голоса и интонации, порождая слитный безличный гул, что нелегко вынести, проследить слухом, зрением и мыслью за вереницей параллельных сюжетов, нехитрых либо, наоборот, изощренных шумов и напевов, броуновских перемещений людей и вещей.
Житель сего мира реагирует на происходящее по-разному, довольно часто все ему здесь по росту, под размер, в кайф, он не прячется за личины и прочие маски, мимолетные встречные и собеседники носят имена, совпадающие с именами литераторов, широко известных в определенно-личной околопоэтической среде и мало что говорящих «широкому читателю». Над седой равниной полупрофессионального литературного быта зачастую не наблюдается ни малейших туч, все реакции и поступки носят почти рефлекторный характер, без слов понятный и почти безошибочно предсказуемый
Несколько сборников выпустил Данила Давыдов в последние годы, и в каждом последующем нарастает отстраненность героя от описанного выше автоматизма слов и дел. Комфорт оборачивается ритуальным автоматизмом, нарастает ощущение несвободы, зависимости от привычных привязанностей.
пока не требуют поэта но вот вот уже и потребовали сказали чтобы садился рядом чтобы чувствовал себя как дома чтобы типа не парился наливают потом еще наливают потом говорят: свободен иди погружайся в заботы мираЗдесь видно, как происходит порождение дополнительных (а на самом деле – самых важных, центральных) смыслов в миниатюрах Давыдова: при малейшем отходе от равномасштабного воспроизведения бытовой ситуации включаются совершенно новые алгоритмы семантики. В начале и в конце стихотворения присутствуют две прозрачные аллюзии на узнаваемые со школьных времен пушкинские тексты. Сначала получается, что «поэта» требуют к (неупомянутой, но явно подразумеваемой) «священной жертве» вовсе не Аполлон, а как раз таки «заботы суетного света», с творчеством вроде бы несовместимые. Однако в финале именно неназванные друзья-хозяева-собутыльники, некие «они», олицетворяющие мирскую суету, повелительно изрекают «иди» с интонацией, безошибочно отсылающей к «Пророку»: восстань, виждь и, обходя моря и земли, – жги сердца глаголом. Возвышенный пафос церковнославянских словес исчезает неспроста: повеление высказывается от имени повседневной суеты и к ней же отсылает. Именно быт должен быть творчески освоен, преодолен, окольцован словом, пусть не высоким по штилю, но столь же мирозиждущим и объемным.
Многочисленны в стихотворениях Давыдова и противоположные по смыслу и духу реакции на засилье обманчивой усредненности и простоты – иронические интонации возникают с завидной регулярностью. Впрочем, чем далее, тем более – ирония и стеб оказываются весьма несовершенным оружием: все игры происходят всерьез, требуют если не полной гибели, то понимания ее угрозы:
никак не обойтись без стёба когда приходит дядя стёпа за руку ласково берет ведет ведет в свой огород там чудеса. но нам не дали составить перечень чудес лишь почки нежные отбили и сбросили куда-то внизИрония почти неизбежно перерастает в свою противоположность, серьезную рефлексию, не только не способствующую освобождению от ловушек повседневной рутины, но усугубляющую их власть:
если кому-то есть до чего-то дело если кого-то интересует мнение не твое да и не мое неважно чье эту персону не определишь как гения …………………………………………………… не гений он и человек ли? мудрено сказать то есть он есть но как он есть каким манером куда его влечет недальновидный следует заметить ум а равно и не по летам задрюченное тело – неведомо но вот над горизонтом встает природы царь встает уже стоит блин! посмотри! какой нелепый вид рефлексия увы взрывается экспромтом и наш субъект вовек не будет индивидВсе предельно грубо и зримо, даже безотрадно: всякий, кто пытается осмыслить происходящее, достоин насмешки, вернее будет даже поменять местами предпосылку и результат: именно тот, кто не желает быть пассивным винтиком, достоин осуждения и насмешки.
Один из сборников Данилы Давыдова недаром многозначительно озаглавлен: «Добро». Насколько уместно говорить в условиях предельного усреднения и упрощения основных алгоритмов жизни о допустимости и необходимости присутствия в ней морального закона? Не будем проводить пафосные параллели с риторическими конструкциями о возможности существовании искусства после Аушвица или о том, укоренена ли в современном бытии человеческом какая-либо иная теодицея, кроме апофатической, то есть исходящей из эмпирической невозможности рассуждений о Божестве. Предмет переступающих через сомнение, облеченных в форму притч рассуждений Данилы Давыдова – конкретнее и уже, но нисколько не примитивнее, не мельче: насколько повседневная практика существования современного человека может быть прочитана с использованием кодов традиционной морали?
Начинать эти рассуждения следует ab ovo, с попыток заново определить понятия, обновить значения слов, стертых ритуалами усреднения, тотальной высказанностью всех смыслов и усталостью от многократного высказывания плоских трюизмов.
Вместо уверенности и гарантированности очевидностей вокруг внезапно оказывается мир еще неназванных (или уже не называемых подлинными именами) вещей, которые надо заново и точно наречь, тем самым подарив им новую жизнь:
Спорное дело: никак не найти самому ветру определенье словарное, а коль не выйдет – что будет с газетой, вырванной из рук, что станет с песком, в кулек закрученным?..В этой перспективе ненареченности простых вещей обычного горожанина обступает другой мир – не переполненный, но пустой, взыскующий правильных мыслей и поступков, соразмерных заново нарекаемым вещам. Отягощенность клишированными рецептами поступков и определениями предметов уступает место свежести и полноте, особенно ясно наблюдаемой в недавних по времени стихотворениях Давыдова:
мне больно от отсутствия меня – но это ведь довольно распространенная фигня – говорят: это пройдет главное оставаться на собственном месте говорят: не забывай о совести о чести и вот в лесу глухом печальном – ведь каждый знает этот лес! – блюду свой интерес сижу мечтаю молча об огне первоначальномНикакие отговорки о «распространенной фигне» не спасают от мечтаний о «первоначальном огне», от невозможности скрыть от самого себя всей подноготной подлинности, порою нежелательной, не подходящей под стандарты быта, лишенного метафизического измерения. Порою сквозь стеб трагикомически, серьезно-иронически проступают чуть ли не интонации Арсения Тарковского, о вещах предельных рассуждавшего предельно осторожно и абсолютно серьезно («Я жить хочу и умереть боюсь…»):
пусть смерти нет но я ее боюсь ну то есть ненавижу и любуюсь непереходный, ты наводишь грусть а переходный – даришь робость в ней нет ведь ничего в ней много слов пустых в ней множество ничьих, опустошенных шкурок и соблазнительных но подлых мечт давай дерзи, придурок да будешь вечн соси фальшивый леденец попискивая, птенец пока сияющий венец гниет, недорогКакой-то надлом-перелом все более заметен в недавних стихах Данилы Давыдова. Что это означает – не берусь судить, хотя, по первому впечатлению, мне это обретение третьего смыслового измерения кажется хоть и рискованным, но продуктивным и перспективным. Так что, может, и вправду не всуе сказано:
мое хипье которому все мало попробуй-ка с начала да в начало тогда быть может вектор изменится и сядет вдруг какая птица?Библиография
Добро. М.: Автохтон, 2002. 164 с.
О времени, об огне // Дети Ра. 2005. № 4(8).
Сегодня, нет, вчера. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2006. 96 с.
Контексты и мифы / Предисл. Ю. Орлицкого, Д. Кузьмина. М.: Арт Хаус Медиа, 2010.
Стихи // Урал. 2010. № 3.
Марш людоедов / Предисл. М. Гейде. М.: НЛО, 2011. 160 с.
Московская метафизика // Урал. 2013. № 1.
За все надо платить // НЛО. 2014. № 1(125).
«вот кажется уже случилось…» и др. стихи // Волга. 2014. № 3–4.
Да потому что тут // Новый мир. 2014. № 3.
Григорий Дашевский или «Простачок такой-то, приди в себя…»
Даже не знаю, стоит ли в начале разговора упоминать о том, что «в миру» Григорий Дашевский – тонкий филолог-классик, переводчик интеллектуальных книг. С одной стороны, античные лирики (и не только лирики) имеют к его стихам отношение самое непосредственное, но с другой – какое все это имеет значение? Главное в другом: Дашевский – из тех поэтов, которые могут себе позволить писать (по крайней мере публиковать) сравнительно немного и при этом не только не зарыть в землю талант, но наоборот – не растрачивать дар по мелочам, избавиться от извечной опасности преждевременного узнавания стихов и автоматизации счастливо найденных приемов.
Голос Григория Дашевского громок и отчетлив даже в отсутствие обычных для наших дней медийных «усилителей» звучания и премногих томов напечатанных книг. Стих Дашевского подобен полету истребителя с изменяющейся геометрией крыла, поэту удается удержать перед внутренним взором читателя сразу две или даже несколько параллельных картинок, ситуаций, интонаций.
Тот храбрей Сильвестра Сталлоне или его фотокарточки над подушкой, кто в глаза медсестрам серые смотрит без просьб и страха, а мы ищем в этих зрачках диагноз и не верим, что под крахмальной робой ничего почти что, что там от силы лифчик с трусами. Тихий час, о мальчики, вас измучил, в тихий час грызете пододеяльник, в тихий час мы тщательней проверяем в окнах решетки.Уже название стихотворения («Тихий час») обнаруживает забытую многосмысленность этого словосочетания, закрепленного почему-то исключительно за послеобеденным сном в детском саду или советском пионерлагере. Час спокойного самонаблюдения порождает мысли, отсылающие сразу к нескольким контекстам – от детсадовского («не спать, когда положено») до тюремного («дожить до рассвета очередного дня»), от «пубертатного» («немедленно раздеть глазами любое существо противоположного пола») до больничного («угадать в глазах медсестры отсутствие страшного диагноза»). Не символическое единство бытового и духовного планов единого события, не вдохновенно импровизационное раздвоение исходной ситуации (игра на рояле и кормление птиц у Пастернака: «Я клавишей стаю кормил с руки…»), а полиэкранное параллельное развитие нескольких историй, увязанных в узел сходством стержневого мотива.
Диковатые вещи, бунтующие понятия роятся в стихотворениях Дашевского в ритмах броуновского движения, освобожденные от притязаний сознания, отпущенные на волю, не складывающиеся в единую причинно-следственную и смысловую линию.
Ни себя, ни людей Нету здесь, не бывает. Заповедь озаряет Сныть, лопух, комара. Ноет слабое пенье, Невидимка-пила: Будто пилит злодей, А невинный страдает, Побледнев добела. Но закон без людей На безлюдьи сияет: Здесь ни зла, ни терпенья, Ни лица – лишь мерцает Крылышко комара.Некто забрел в подмосковную комариную дачную глушь? Или размышляет о тайне крестных мук? «Затрудняюсь ответить», только и остается произнести читателю, для которого, тем не менее, полнота и ясность восприятия стихотворения остаются непоколебленными. Мы привыкли к тому, что лирический абсолютный praesens, то есть замедление течения времени (вплоть до «остановись, мгновенье, ты прекрасно…») обычно провоцирует «подключение» читателя к переживанию того, кем запечатлено то или иное событие или раздумье. В случае Дашевского читатель оказывается оставленным перед лицом нелегкого свободного выбора, поскольку ему не к чему подключиться, он лишь с огромным трудом может докопаться до того, что на самом деле испытывает рассказчик.
Ты, воздух, всё свое лазурь, лазурь о духоте, клонящей в сон меня. И яви ни в одном глазу. Мне трудно дышать тобою, лжецом таким. Но солнце ест глаза, словно оно – дым от иного огня, который будет гореть и уже горит. Оно наклоняет мой взгляд в предлежащий прах, словно оно – споткнуться страх, словно оно – стыд.Между тем мы ясно чувствуем силу и глубину переживаемого чувства, оно не имеет ничего общего с умозрительной игрой отвлеченностями. Герой Дашевского восторженно и самоотверженно любит, напряженно вглядывается в мыслительные контуры собственного существования, словом – занимается делами, не слишком модными в наших временах и нравах. Ради гарантии подлинности параллельно разворачивающихся смежных сюжетов Дашевский иной раз дает подсказки, прямые отсылки к первоисточнику. Скажем, все стихотворения цикла «Имярек и Зарема» в примечании приурочены каждое к своему первоисточнику в книге Катулла. Таким образом, текст вполне самодостаточный и многогранный обретает даже не третье, а, пожалуй, четвертое измерение. Так, пятое стихотворение Катулла (в переводе М. Амелина «Жить, любя, моя Лесбия, да будем…») обретает новое существование следующим образом:
Только не смерть, Зарема, только не врозь. Мало ли что сторонник моральных норм думает – нас не прокормит думами. Солнце зароют на ночь – ан дышит утром, а мы наберем с тобою грунта в рот, в дрему впадем такую – не растолкают. Тронь меня ртом семижды семь раз, сорочью сорок тронь, семерью семь. Утром что с посторонних, что с наших глаз – сорок долой и семью, тронь и меня: сплыли – и не потеряем, не отберут.…Иногда кажется, что малописанье в случае Григория Дашевского – единственный способ сохранить в неприкосновенности дар, затаенно существующий где-то в Москве и каждое мгновенье нацеленный на неуловимое разумом сопряжение отпущенных на свободу далековатых идей и событий. Экономная трата боеприпасов в данном случае означает только одно: каждый выстрел ложится точно в цель, в самое яблочко. Как, например, вот этот:
«Давай, ты умер» – «Да сколько раз уже в покойника и невесту» – «Нет, по-другому: умер давно. Пожалуйста, ляг на ковер, замри. Нету креста, бурьян, но я бываю и приношу букет. Вот чей-то шелест – не твой ли дух: я плачу, шепчу ему в ответ» – «Лучше я буду крапива, лопух: они лодыжки гладят и щиплют. Новое снизу твое лицо – шея да ноздри да челка веером». («Ковер»)Библиография
Генрих и Семен. М.: Клуб «Проект ОГИ», 2000. 40 с.
Дума иван-чая. М.: НЛО, 2001. 88 с.
Ни себя, ни людей… // Знамя. 2003. № 10.
Литература // Критическая масса. 2004. № 3.
Несколько стихотворений и переводов. М.: Каспар Хаузер, 2014. 20 с.
Олег Дозморов или «Я закрываю магазин стихов… Написанное не дает уснуть…»
Кажется, еще никто не говорил о поэзии офисного планктона; между тем, она существует. В стихах Олега Дозморова человек вовлечен в ежедневное стандартизированное и бескрылое существование, в котором главное место занимает наблюдение за экраном компьютера. Вот он неуютным утром пробирается на службу знакомым приевшимся маршрутом и думает монотонную думу свою:
Ну что за день двадцатое апреля? Кружится снег. И началась рабочая неделя. И человек Торчит, как пень, один на остановке, другой бредет, как тень его в развязанном кроссовке, и снег идет. ‹…› Я полчаса промерз на остановке. О, если б там, в рекламе, на билборде, на листовке, гиппопотам изобразил осмысленное что-то, раздул ноздрю… Ты мне сказал смотреть на бегемота, и я смотрю.Любопытно, что именно в этом стихотворении содержится фраза, давшая название сборнику Дозморова: Смотреть на бегемота. Вне контекста можно было бы подумать о ее значении что угодно, кроме действительно присутствующего. Наблюдение за бегемотом? Воспоминание о детском посещении зоопарка? Отсылка к мифологическим чудовищам? К тайным грехам, вызывающим муки совести? Нет, на самом деле – фраза означает всего лишь бессмысленное рассматривание изображения ни в чем не повинного гигантского млекопитающего на рекламном изображении во время затянувшегося ожидания на остановке общественного транспорта. Очень характерен и зачин стихотворения: давайте-ка напишем про сегодняшний день, про двадцатое апреля. А могли бы написать и про двадцать третье и про седьмое мая – успеем еще, всему свое размеренное и бессобытийное время.
Стихи случаются не во время побегов в широкошумные дубровы, они рождаются из непосредственного наблюдения окружающей обстановки, которая весьма часто располагает к тематике старого доброго производственного романа, освобожденного от фабулы и сведенного к рассуждениям героя-производственника.
Утром придешь на работу рано – в комнате никого, сквозняк бумаги перелистывает на столах. Отчего такая свобода внутри? Ниотчего. Просто исчез, словно жара, старый-престарый страх. Просто утром прошел одинокий отменный дождь. Автосигнализации до сих пор кое-где пищат. Всё слабее, впрочем, и скоро отступит дрожь прохладных и влажных листьев, что на тополях дрожат. Милые, все уже кончилось, теперь только солнце, свет вас будет нежить, греть, баловать, охранять. Заходят, ставят сушиться зонты, включают свет. Начинают по телефону трещать, по клавиатуре стучать.Нет, что вы, никто не говорит, что поэтическое зрение у Дозморова сведено к подобному ограниченному и однообразному кругозору человека монитора и клавиатуры, разнообразные дистанции между его усталым взглядом на мир и смыслом стихотворения, конечно, существуют, порою специально подчеркиваются:
В этом стихотворении умирают все, за исключением одного. В первой строфе герой ставит чай, поджидает старость. Старики, как известно, делятся на тех, у кого времени много, и у кого почти не осталось. У этого – завались. В юности все начиналось с разговоров, дальше предполагался выбор. Жизнь, шепчет он, мерзость и компромисс, но и нам иногда выпадает «рыба». В третьей строфе вдруг наступает зима, а героя называют по имени – скажем, Женя. Стих написан с утра, чтоб не сойти с ума, беспокойным человеком, не лишенным воображения. Это – автор. Времени у него в обрез. Ему нужно, допустим, в химчистку и на прием к лору. Настроение портят изжога и лишний вес, и уролог вчера взял больно мазок на флору. Автор бежит в химчистку, герой наливает чай, не зная, что с ним случится, автор бранит погоду и ныряет в метро «Парк культуры», я им говорю «прощай» и иду к океану смотреть облака и воду.Океан, облака и вода – реалии отсылающие к британским трудам и дням Олега Дозморова (см. раздел книги «Стихи, написанные в Уэльсе»), хотя, впрочем, фон офисного времяпрепровождения присутствует во всех главных локусах стихотворений Дозморова (Свердловск – Екатеринбург, Москва, Британия). Везде – одни и те же довольно-таки натужные попытки написать стихи именно сегодня, обозначить дату, да еще порою – посетовать на отсутствие малейшей свежести, оригинальности:
Июль. Двадцать второе. Не стихи? В саду, как облака, раскрылись розы. Всегда хотелось срифмовать «тихи». Я знаю, знаю, все слова из прозы. Да, руки коротки. А нужно – «коротки». И тяжесть, тяжесть в голове чужая. Да, облака, а нужно – «облаки». Небесная, а нужно – «небесная».Подобными сетованиями, повторяемыми настойчиво и неотвратимо, размываются возможные продуктивные различия между переживаниями офисного персонажа и стороннего наблюдателя, который, казалось бы, мог делать далеко идущие обобщения о метаморфозах современной поэзии, выросшей на асфальтовых тропах больших городов. Обобщенные суждения невозможны, поскольку дело сведено именно к узкому «планктонному» кругозору «белого воротничка»:
Приветствую. Уже часов с пяти-шести ужасно тянет спать и ужинать охота. И хочется уйти, но с этим не шути – ты помнишь, как тебе нужна эта работа. Одиннадцатича-совой рабочий день ознаменован пе-рерывом, как цезурой. Напротив желтый дом плечом уходит в тень, другой – выходит из трагической фигурой. Возвышенная злость, лирическая спесь! Вы не должны смущать чистюлю-привереду. И Ходасевич был уже. Точнее, есть. Лет через пятьдесят отпразднуем победу. Ну а пока в Москву выходит гражданин из офисного дна и движется понуро вперед по Моховой, пожизненно один, и тень его длинна, как ты, литература.При таких настойчивых и обильных указаниях на неблагоприятные производственные обстоятельства, сопутствующие написанию стихов, исчезает даже спасительная самирония, остается только почти ритуальное указание на время и место рутинного ежедневного труда:
Словно Пьер, понабравшийся мудрости у народа, шепча «Что вы можете сделать с моей душой?», отыскивая в облаках существительное «свобода» и не находя, топать по Моховой мимо «Националя», мимо филфака, мимо марбургского студента, слепившего те стишки, после которых три века неумолимо за нами водятся силлабо-тонические грешки, мимо лучшего в мире Зоологического музея, где среди всяких тварей в систематизированном раю на картине маслом сидит ученик Линнея и смотрит печально на разрезанную змею, шествовать словно твой протопоп Аввакум туда, где стоит только, переделывая дела, допустить промашку – образовывается вакуум вокруг твоего офисного стола.Вакуум вокруг офисного стола – точнее не сказать невозможно, как невозможно и усмотреть в условиях противостояния офисного дела и поэтического слова основания для оправдания собственной поэтической манеры. Напрасны попытки обозначить стихи Дозморова как некую городскую «поэзию ежедневного быта», основанную на сознательном смирении и благородном самоумалении стихотворца, следующего традиции в пору невозможности ее соблюдения. Подтверждения этой позиции присутствуют в стихах Олега Дозморова довольно редко – вот одно из них:
«…учиться реагировать на мир словесным образом. Не попросту словесным, а строго в рифму, соблюдать размер, предписанный столетьями традиций. Не правда ли, меж жребиев других великая, прославленная участь?»Гораздо важнее однако иные авторские декларации, прямо говорящие о натужности, а вовсе не о жертвенной добровольной скованности его манеры, об отсутствии интереса к жизни и стихописанию. И все это говорится часто, прямо и без прикрас:
Нет интереса? Сочиняй, воспринимай себя буквально, метафорой пренебрегай, все прочее не гениально. Учись и стань совсем другим, чужим, ненужным и безвестным, как эти тучи – серым в дым. Естественным, неинтересным…Невидимые миру слезы офисного отшельника, безуспешно старающегося сочинять строго в рифму, не становятся эстетически значимым фактом современного существования, замыкаются в узком мирке носителя стандартных производственных эмоций:
Я книг не читаю, стихов не пишу, почтительно важное тело ношу с работы домой и опять на работу, и если замечу, увижу хоть ноту, ее не расслышу, но после, потом, когда прихожу в твердокаменный дом, в котором живу, я ее вспоминаю, пытаюсь продолжить и плачу, страдаю и милому карандашу говорю: я верен тебе, я, как прежде, горю, одиннадцать строчек тебе посвящаю.Дело заходит еще дальше: поглощающие такого человека эмоции бессилия и обиды проецируются на весь окружающий мир, в кривом зеркале преображают его, превращают в нечто похожее на цитату из болезненных рассуждений героев «Записок сумасшедшего» либо «Записок из подполья»:
Я не думал, что будет так, мне казалось, что будет хуже. Блок выходит в кромешный мрак, Мандельштам никому не нужен. По программе одно кино и какой-то футбол на ужин. Блок старательно пьет вино, Мандельштам никому не нужен. Можно даже «Каренину», но лучше уж домусолить Пруста. Блок старательно пьет вино, Мандельштаму смешно и грустно. Ни жены, ни подруги нет, за окошком смердит погода – и нисходит небесный свет: одиночество и свобода.Удастся ли Олегу Дозморову выбраться за пределы привычного на протяжении многих лет закрытого перечня эмоций и мотивов? Хочется надеяться на лучшее, пока же вполне сохраняет силу стихотворный манифест начала 2000-х:
Я закрываю магазин стихов, и открываю магазин несчастий, зла, общечеловеческих грехов и прочего по этой части. Я покупаю старые долги, храню несовершенные победы, и если я торгаш, то помоги моей торговле, приноси мне беды и бедствия. Ну а потом беги.Библиография
Восьмистишия // Звезда. 2001. № 12.
Посеверней и победней // Арион. 2002. № 2.
Восьмистишия // Звезда. 2002. № 12.
голоса // Арион. 2003. № 3.
Отблеск // Знамя. 2003. № 5.
[Стихи] // Уральская новь. 2003. № 16.
Восьмистишия. Екатеринбург: Т.Е.П.Л.О., 2004.
голоса // Арион. 2005. № 3.
Когда вода исчезнет из чернил… // Знамя. 2005. № 10.
[Стихотворение] // Арион. 2008. № 4.
«Подошел к самому себе…» и др. стихи // Волга. 2008. № 4(417).
Шотландия // Знамя. 2008. № 6.
Стихи // Звезда. 2008. № 8.
Ход облаков // Знамя. 2010. № 8.
«Кофе, бисквит, пирожок европейский…» и др. // Волга. 2010. № 9–10.
Перемен не предвидится // Новый мир. 2010. № 10.
Допустим, пейзаж // Арион. 2011. № 1.
Стихи, написанные в Уэльсе // Урал. 2011. № 7.
Казнь звуколюба // Знамя. 2012. № 2.
Смотреть на бегемота. М.: Воймега, 2012.
Так еще больнее // Арион. 2012. № 3.
Вечное «почти» // Новый мир. 2012. № 4.
Стихи // Звезда. 2012. № 9.
Другая правда… // Урал. 2012. № 10.
Аркадий Драгомощенко или «Мысль, предшествующая тому, чем она станет через мгновение…»
На протяжении многих лет (даже десятилетий) Аркадий Драгомощенко последовательнее многих «соседей» по убеждениям работает не просто на границах лирической субъективности (как, например, концептуалисты), но на водоразделах существования самого поэтического языка да, пожалуй, и языка как такового. Речь идет вовсе не о лексике, синтаксисе или коммуникативных свойствах поэтического высказывания (взгляды кубофутуристов и не только). Все разновидности зауми и прочих «языковых расширений» поэтического лексикона исходили из драматического представления о «недостаточности» традиционного языка как средства высказывания, а следовательно – из утопического намерения нащупать некий параллельный, исконный поэтический праязык, самовитое слово, не искаженное утилитарностью (предсмертный Гумилев: «Дурно пахнут мертвые слова»).
У Драгомощенко синдром острой языковой недостаточности отсутствует напрочь. Главное для поэта – не грамматические преобразования, но доказательства бытия грамматики как таковой. Ключевая формула Драгомощенко: «Грамматика не выдерживает немоты…» проста и прозрачна: нельзя рассуждать о языковой онтологии помимо высказывания, произнесения слов, следовательно, бытие языка нащупывает себя прямо в процессе говорения – помимо намерения автора, «произносителя» слов. Язык реализует себя независимо от воли поэта, параллелен субъекту высказывания, течет по самостоятельному руслу, поскольку при любой попытке речи немедленно выходит за собственные границы.
Есть правила. Они прекрасны. Потому как Правила знают язык, в котором сотканы. Иначе не было бы горизонта. Законов. Вышитых насквозь золотыми мухами. Не было бы ни игл, тебя, ни того, Кто смог бы прибегнуть к другим гласным. Я так и делаю. О, улей! В сторону, сестра. Меньше всего – интересует «метр». «Вижу тополя на “закате”»; даже видеть себя. Не очень большого размера и возраста. Видеть себя и мать, которая за тележкой. Везет овощи, т. е. я – мешок с картофелем. Можно видеть себя, не знающего, На каком языке говорит тот, кто не знает…Любое произнесенное слово, фраза немедленно закавычиваются, иногда дважды («Вижу тополя на “закате”»), при этом реальность наблюдения («видения») тополей на закате, да и самый «закат» – уже в момент рождения эту «объективную» реальность покидают, целиком переходят внутрь высказывания как явления языка. Такое обращение с языком восходит к стратегиям аналитической философии: знаменитая формула «за окном идет дождь, но я так не считаю», содержит в себе тот же переход из мира вещей в мир высказываний, поскольку фраза о дожде не имеет ни малейшего отношения к атмосферным явлениям, но принадлежит к различным вариантам выражения модальности: сомнения, уверенности, настаивания и т. д.
Отдельная поэтическая реальность Аркадия Драгомощенко притягательна «для немногих», для тех, кто слышит и чувствует ее многочисленные подтексты в философских построениях полутора последних столетий. И эта же реальность видится пресной абстракцией тем, кто убежден в необходимости для поэзии интуитивной простоты, внятности, если угодно – пресловутой высокой «глуповатости». Многие интерпретаторы (включая и самого автора, неоднократно формулировавшего свое поэтическое profession de foi) подпадают под обаяние исходных постулатов и аксиом его поэтики, не замечая следующих из них теорем и лемм. На деле оказывается, что демонстративная непростота, «вторичность», теоретизм стихов Драгомощенко сильно преувеличены. По крайней мере, наряду с обычной метафизической топикой в конкретных стихотворениях существует параллельная смысловая география – традиционная и доступная непосредственному восприятию. Стоит, например, обратить внимание на посвящение отцу одного из известных стихотворений, и обычные для поэта нелинейные смысловые преобразования оказываются вторичными на фоне множества подсказок, выводящих читателя на твердую почву непосредственного высказывания, не требующего аналитических процедур:
Трофиму К. Драгомощенко
Разве твоя в том вина? Моя? Говорят, скоро весна, а тебе столько, сколько было всегда, и к тому же – больше не снишься. Ты еще говорил в тот прошлый раз… Но что? Что имеет значение? Говорить: мало этого? или же много? Ни один горизонт не может быть так достоверен, как прочерченный падением камня. ‹…› Потому как, – вот что! почти забыл – не видеть тебя в белом кителе, в купоросных кристаллах сирени. Их разводил руками, захлебываясь, бежал (вот откуда то, что явится тысячелетием позже). Оставалось немного, чтобы увидеть, как облокотясь о теплый капот виллиса. Что мог сказать в ту пору? Как мог понять то, что не понимаю сегодня? Как невыносимо свежо и косо несет бензином, и какие-то на отлете белые платья женщин. Конечно, вода, кувшинки, горячие латунные гильзы, близорукость. Но даже и без вспомогательных стекол вижу, как между тобою и мною растет и растет небо, вздымаясь выше, чем Гималаи.В некоторых стихотворениях переход от аналитической эзотерики метавысказываний к непосредственному чувству оформлен и композиционно, при этом сквозь ветвящиеся тропки смысловых «ризом» постепенно проступает прозрачная логика перехода от хаоса к ясности, чуть ли не к «любовной лирике»:
Драгомощенко – Фигуриной
Отпивая глоток в неопределенном времени, в незавершаемом действии – Найти место, на столе. Расположение вещи. Но стол и есть место для Для разнообразных вещей. Странное дело, Потебня грезил внутренними формами «слов», он начинал с сущности, с платоновских идей в камне, Начинал и прекращал. Его прекращение не дошло до нас, как, к примеру, «синий». Однако начало его речи залегало в «столе». Зачем Потебне стол? Это ведь Харьков? Что-то другое и не имеющее отношения к длине цветовых волн. Нет. Нет – лучше, чем «да», даже «да» в алмазах бессмертия и чехова. Я люблю «Нет», я вырос из этого сада. В этом саду мы не всегда спали с Леной Под одним деревом, – это так трудно сегодня вспоминается, но я, когда хочу, Помню все, что необходимо, мне нужны ее картины, руки, ее дикий смех, Как все священные коровы, потому что она опоясана шнурами Моей подозрительности и ожидания, потому что я открываю голову и смотрю Картины, на которых одно и то же – это как смерть, которая всегда та же, Смерть, как учительница/учитель, заползающая в наш рот при произнесении Любого слова, – но, если что-то есть, значит, и этому есть конец. Елена. Я тебе должен.…Но главное-то совсем не в этом, я толкую вовсе не о пронзительном одиночестве неавангардного авангардиста Аркадия Драгомощенко в русской поэзии. Эти без малого (после Хлебникова) сто лет одиночества ныне пришли к странному финалу. Реальность настигла отшельника, его логико-лингвистические изыскания о природе поэзии в последние годы приобрели совершенно иной смысл. Слишком много вдруг оказалось вокруг (не побоюсь этого слова) значительных и разных русских поэтов, умеющих орудовать и горшком и ухватом, и верлибром и в рифму. Поэтические манеры тесно прилегают друг к другу, они разнообразны только по видимости, а на деле являются продуктом как никогда прежде высокой степени автоматизированности всех версий стилистики и поэтики. Так высказывания в чате, претендующие на разнообразие, постепенно утрачивают свойства несходства – все и разом. Отдельных высказываний не различить именно потому, что шум времени обращен в информационный шум, как в глобальной социальной сети. От столетней давности кризиса невозможности существования традиционного искусства мы пришли к его сугубой возможности и осуществимости. Что станет ответом на кризис всевозможности авангарда? Необходим если не выход, то по крайней мере понимание насущности новой и сложнейшей поэтической простоты, когда уже не только Аркадию Драгомощенко ясно:
Только то, что есть, и есть то, что досталось переходящему в области, где не упорствует больше сравнение.Библиография
Описание: Избранные стихи. СПб.: Гуманитарная академия, 2000. 384 с.
Реки Вавилона // Новая русская книга. 2001. № 2.
Литература // Критическая масса. 2001. № 1.
На берегах исключенной реки. М.: ОГИ, 2005. 80 с.
Два стихотворения // Крещатик. 2005. № 3.
Стихи // Иностранная литература. 2006. № 10.
…в белом кителе, в купоросных кристаллах сирени // Знамя. 2008. № 5.
Глазного яблока дрожь // Дети Ра. 2009. № 3(53).
Поскольку люблю свет рам // Знамя. 2009. № 8.
кто действительно разбирает буквы // Знамя. 2010. № 6.
Тавтология: Стихотворения. Эссе. М.: НЛО, 2011. 452 с.
Александр Еременко или «Скажу тебе, здесь нечего ловить…»
Многозначительное молчание Александра Еременко длится уже годы и, оставаясь само по себе величиной пустой, фигурой отсутствия, наполняет окружающую поэтическую среду всякий раз новыми смыслами. Не только стихи Еременко, но и его литературная позиция – одна из немногих констант, один из последних устоев, скрепляющих стремительно ветшающий каркас представлений о бронзовом веке русской поэзии. Именно на фоне незыблемой скалы, безмолвного присутствия поэта Александра Еременко можно пытаться начертить контуры пейзажа с наводнением – истории поэзии новейших времен.
В ранние годы внезапно разрешенной свободы все менялось стремительно: лавинно рушились вавилоны тиражей лауреатов ленгоспремий, возвышались акции тех, кто ранее прозябал в самсебяиздате и андерподполье. И едва ли не один только титулованный «король поэтов» восьмидесятых годов ни на пол-октавы не возвысил голос, не взвинтил темп публикаций и выступлений, а уж о повально захлестнувшей многих и многих грантовой лихорадке и речи не было. Жил человек, как жил всегда, и некогда произнесенное в скудные годы квартирных чтений оставалось веским и теплым, злым и соленым, терпким и нужным. И не то чтобы правильно было бы бросить камень в грантополучателей, мечтателей и многопечатателей девяностых и начала двухтысячных годов: кто-то восполнял недополученное, кто-то просто не мог иначе. Но по мере всеобщего углубления в эпоху смутных признаков покоя и воли со всеми ее садами радостей земных – все более явной становилась еще одна, для многих неочевидная вариация творческого поведения: свобода отказа от прямолинейного пользования свободой. Именно в то время окончательно затвердели в коллективной памяти нескольких поколений читателей свинцовые формулы Еременко: и …мастер по ремонту крокодилов, и О чём базарите, квасные патриоты…, а также …выходит девочка дебильная, В густых металлургических лесах… – далее везде.
Тут-то и пресеклась первая часть симфонии молчания Александра Еременко. 4’33’’ миновали, наступило время нервного allegro, отмеченное сборником стихотворений разных поэтов, написанных о Еременко либо ему посвященных. О «Ерёме» понадобилось специально напомнить – не потому что забыли те, кто помнил, а по причине неприсутствия его стихов и жестов в сознании нового поколения вошедших в круг читателей и почитателей русской поэзии.
Здесь начинается самое главное, длящееся по сей день затмение привычных представлений «о поэте и поэзии». Стихотворчество быстрого реагирования в нынешние скудные годы новых очаковских времен немедленно сменило регистр: вместо надежд и иронии, обращенной в прошлое, нарождается и крепчает скорбная интонация неприятия современности, новая социальность оборачивается прессингом и троллингом по адресу сужающегося сектора дозволенных высказываний на фоне возрождения неволи и потуг по созданию единых учебников всех наук. Все эти новоявленные актуальные интонации, разумеется, глубоко логичны, обусловлены самою природой времени, но… Но что же Еременко? А Еременко-то безмолствует по-прежнему! В этом молчании опять различимы новые смыслы. Становится очевидным, что и в советские, и в ранние постсоветские времена противники и сторонники разных версий ортодоксии были скованы одной цепью общего смысла: существовали на фоне и вопреки друг другу.
Видимость свободы обмена буквами в информационную эпоху обернулась губительными последствиями для всех былых оппонентов – слышнее всего для «широкого читателя» оказались облегченная ироничность и поверхностная эстрадность. В отсутствие мученического ореола патентованная верность поэтической подлинности уходит в артхаусную тесноту, «обычному» человеку почти совершенно не внятную. Геройски рискованное писание в стол или в тамиздат вышло в тираж: пиши и говори сколько угодно, тебя больше не услышат, и вовсе не по причине цензурного террора или прямых репрессий. Все изменилося под нашим зодиаком, все перевернулось, и почти только один Ерема остался верен себе. Волны громких возгласов перекрыли друг друга, стало слышнее, что он в последние годы не вовсе молчит, а скорее шепчет:
Скажу тебе, здесь нечего ловить. Одна вода – и не осталось рыжих. Лишь этот ямб, простим его, когда летит к тебе, не ведая стыда. Как там у вас? ……………………………………………… Не слышу, Рыжий… Подойду поближе. («Борису Рыжему на тот свет»)Если приглушить фон разнозвучных рулад классиков и дебютантов, то театральный шепот молчащего свидетеля былой и нынешней эпохи Александра Еременко станет еще слышнее и многозначительней:
В воюющей стране не брезгуй тёплым пивом, когда она сидит, как сука на коне. В воюющей стране не говори красиво и смысла не ищи в воюющей стране.Не очень-то верится, что это произнесено не сегодня, а, по крайней мере, позавчера, тем более отчетливо важным является совсем уж апокалиптическое изречение Александра Еременко:
Больше я не скажу ни строки. А в конце, чтобы всё было честно, На Язык возложите венки.И ведь самое существенное состоит в том, что это не самоличный отказ от стихов в очевидной логике антигорациевой риторики невозможности памятника из слов и строф. «Анти-Памятник» по версии Еременко выглядит радикальнее. Не только поэтический язык пресекается на наших глазах, но язык как таковой. Расширим логику Горация-Державина-Пушкина и иже с ними до четырех возможных сценариев конъюнкции, регулирующей взаимоотношения внешней реальности языка и аристотелевски «подражающего» ей поэтического слова.
Первый сценарий: реальность незыблема, поэтический слог невечен, проще говоря, внешняя жизнь живее всех поэтик.
Второй: внешняя жизнь все так же абсолютна, но и поэзия также бессмертна (это, собственно, и есть ситуация всех «Памятников»).
Третий: окружающее не-бесконечно, но лишь искусство (поэзия) его сохраняет, придает смысл. Это вариант любого жизнетворческого искусства, симолистского, например.
Александр Еременко провозглашает (вслед за поздним Баратынским?) еще один, четвертый (анти-Бродский) сценарий – «весь умрет» не только поэт, но и язык как таковой. Новый «последний поэт» явился? Посмотрим сказал слепой, рассудим еще, насколько эта эсхатология, простите на парадоксе, жизнеспособна! Но как бы там ни было, пора произнести, кроме всяких шуток: признаки окончательного ухода поэзии из фокуса пристального коллективного внимания и уважения есть, и они нарастают. По крайней мере – в одной отдельно взятой стране…
Значит правда, что ли, «Блажен, кто молча был поэт»?
Библиография
Opus Magnum. М.: Деконт+, 2001. 526 с.
Новые стихи // Знамя. 2005. № 1.
Литература других регионов // Дети Ра. 2006. № 5.
Стихи // Урал. 2007. № 4.
В густых металлургических лесах: Сонет // Дети Ра. 2010. № 11.
Хроника текущих событий // Знамя. 2012. № 10.
Михаил Еремин или «Продлиться пересказом или утварью…»
Есть, есть еще люди в наше время! Вот Михаил Еремин писал не только в Ленинграде семидесятых-восьмидесятых, в пору расцвета так называемой «филологической школы», но и сегодня, в нынешнем Санкт-Петербурге продолжает создавать свои причудливые, всегда исключительно восьмистишные миры. В восьмистишиях Еремина всегда присутствуют слова необычные, порою изысканно-редкие, диковинные: «циркумцеллионствовать», «реотаксис», «калибиты», «эрратические», «антецедентные», «амредиты»… Слова, подобные приведенным, далеко не всегда придуманы самим поэтом, есть много случаев привнесения в стиховую ткань специальных терминов, имеющих весьма конкретное значение для посвященных и неведомых большинству читателей, ленящихся «заглядывать в академический словарь».
Термин по-разному взаимодействует с «обычными» словами в зависимости от композиционной разновидности конкретного стихотворения. Возьмем, например, восьмистишие-пейзаж, каких у Еремина немало:
Полночна констелляция, Пруд – лоно лунно – без морщинки, И – тени, тени, тени… – акустическое одиночество. Упругую поверхность возмутить (Затрепетала спугнутая элодея.), Припав губами. Жажда – Извечнее И приснее воды?Здесь несколько слов имеют терминологическое значение либо обозначают отвлеченные понятия, которые без некоторого смыслового смещения, казалось бы, не могут быть просто через запятую включены в перечень созерцаемых предметов и явлений пейзажа. Так, «констелляция» в прямом значении – «сочетание светил на звездном небе», в переносном – значимое взаиморасположение и взаимосуществование предметов или факторов. Прямое и переносное значения тесно взаимодействуют, поскольку в поле зрения входят вещи и обстоятельства, благоприятствующие созерцанию звезд (полночная пора, поверхность пруда). Однако звезды в стихотворении не упоминаются – в том числе и потому, что пруд непрозрачен, зарос элодеей – растением, которое называют еще водяной чумой. Речь, значит, вовсе не о привычной «картинке», которая готова сама собою возникнуть при одном упоминании о полуночи вблизи воды. «Констелляция» означает как раз «сочетание факторов» – весьма разнопорядковых: не только доступных зрению, но и «слуховых», кстати, также описанных не без слов-терминов («акустическое одиночество»). Напиться из мутного, заросшего элодеей пруда можно только при наличии сильной жажды, именно об этом вполне бытовом событии здесь идет речь. Но бытовая конкретность тает, если вспомнить, что сопутствует глотку ночной воды. Во-первых, возвращается на первый план зрительная составляющая пейзажа, чуть ранее уступившая первенство слуховой: нарушается незыблемость водяного зеркала. Во-вторых, стартовая точка ереминского описания пейзажа, отмеченная словом «констелляция», возвращается к первоначальному, прямому значению. «Констелляция» – это не обязательно сочетание видимых светил, их расположение фиксируется не глазом и даже не телескопом. Пусть небо напрочь закрыто облаками, положение планет в любой момент известно и астроному, и астрологу.
Следовательно, речь идет не о взаимном расположении звезд, теней и акустически различимых звуков вблизи ночного водоема. Конкретная картинка ночи превращается в раздумье, в центре которого соотношение «жажды» и «воды» – субстанций, тесно связанных между собою через посредство человеческой эмоции, желания. Существует ли жажда без и до воды? Можно ли помыслить желание утолить жажду без наличия в сознании образа водной стихии? Здесь ясно различим один из центральных мотивов философской лирики Еремина – стремление заглянуть за грань появления слова (=акта творения), попытка прочувствовать и описать контуры чувства либо мысли еще до их вербализации.
Поэтический первоисточник подобных усилий очевиден: мотив забытого слова необыкновенно важен для иного стихотворца, написавшего, между прочим, самые знаменитые русские «Восьмистишия» двадцатого столетия, так же всматривавшегося в парадоксы наименования предметов и явлений («быть может, прежде губ уже родился шепот…» и так далее).
Если вернуться к процитированному стихотворению Михаила Еремина, то очевидно, что итоговое рассуждение о соотношении понятий жажды и воды также оказывается разомкнутым. Пусть «жажда» и не принадлежит к ряду специфически ереминских экзотических слов-терминов, но его значение в финале тоже стремительно преобразуется, расширяется, подобно кругам, расходящимся по поверхности воды, тронутой губами пьющего. Речь не только о физиологической жажде, но и о неутолимом ментальном стремлении соприкоснуться с неведомым, пусть неясным и «мутным» (пруд, заросший элодеей). Так любой конкретный пейзаж преображается в логически стройную и строгую цепь рассуждений.
И это еще сравнительно простой случай! Ведь у Еремина есть стихотворения, где отсутствует даже намек на зримую очевидность внешнего мира:
А если и тщиться Проникнуть во глубь И выспрь Тернарного – недра, окрест И вечное горнее – мира, То при пересчете небесных светил, адиафор и дыр Не остановиться ли на предпоследнем Числе натурального ряда?Вопреки непростоте умственных построений, поэт проводит раздумье читателя по строжайше определенному маршруту. Игра значениями в конечном итоге не размывает контуры определенности, но ведет к непреложному результату. Грамматические усложнения (например, заключение в скобки целых периодов) только усиливают у всякого читателя, привыкшего разбирать интеллектуальные ребусы Еремина, острое ощущение парадокса. Поддаваясь логике его стихотворных силлогизмов, мы обнаруживаем в себе новую способность – подобно автору, на равных правах непосредственно ощущать впечатления не только от восприятия зримого, но и от созерцания феноменов, доступных лишь внутреннему, умственному зрению.
Вот, казалось бы, одно из самых очевидных поначалу восьмистиший, в котором речь идет о незабвенных временах бытования неофициальной, неподцензурной литературы и жизни на задворках навязшей в зубах тоталитарной ортодоксии:
Нет, не грустить о славных временах Народных пирожков с начинкой Из ливера еретиков, – но, скажем, примерять личины (Напялил, словно маску, кости таза, Изящно позвоночник изогнул – Подобно хоботу противогаза, И стал неузнаваем вельзевул.) и Беседовать о самоценности плацебо.Никакого подобия «пейзажа» здесь нет и в помине, но бесспорный логический ход (недопустимо грустить о временах застойного обилия и стабильности, поскольку то и другое было результатом насилия – пирожки начинены выеденной печенью еретиков) предельно усложняется. Что можно противопоставить ностальгии по советской фальшивой идиллии? Ответ далеко не очевиден. Cмирение? любовь к тяготам настоящего? Несвобода, если задуматься, гораздо легче и определеннее свободы (здесь, на прокуренных кухнях – «мы», «свои», а «они» – там, в их кабинетах и прочих местах обитания лжи и фальши). Да, было именно так, но если эта ясность и определенность утрачены, то опасность примерять вельзевуловы личины только усиливается, остается вместо лечения принимать плацебо – «пустые» таблетки, лишь имитирующие терапевтический эффект. Получается, что «грустить о славных временах» советского застоя – означает мечтать вовсе не о дешевых пирожках, но о временах неотчужденной убежденности в своей правоте, подлинности дружб и враждебных столкновений. В пору бесхребетных компромиссов тотальной имитации всех добродетелей, когда эпидемия лицедейства захлестнула все вокруг, устроит ли тех, кто помнит времена иные, суррогатное лечение пороков сладенькими пустышками-плацебо?
Михаил Еремин на протяжении десятилетий не меняет голоса, его восьмистишия выстраиваются в единую цепь размышлений о материях важнейших и насущных. Но усложненность речи уже не выглядит защитой от навязчивой простоты подцензурной поэзии позднесоветской эпохи. Времена сменились, и стихи Еремина в новом контексте звучат с прежней (и одновременно новой) силой. Они по-прежнему адресованы не всем, но чем больше читателей начала столетия расслышат негромкий голос петербуржца Михаила Еремина, тем будет лучше – и для внимательных читателей, да и для судеб наступившего века тоже.
Библиография
Стихотворения. Кн. 2. СПб.: Пушкинский фонд, 2002. 56 с.
Стихи // Звезда. 2002. № 7.
Поэтическая тетрадь // Новый журнал. 2002. № 227.
«Считать ли происками заастральных сил…» // НЛО. № 62.
Поэтическая тетрадь // Новый журнал. 2003. № 231.
Литература // Критическая масса. 2004. № 2.
Стихотворения. Кн. 3. СПб.: Пушкинский фонд, 2005. 52 с.
Стихотворения. Кн. 4. СПб.: Пушкинский фонд, 2009. 48 с.
Стихи разных лет // Дети Ра. 2009. № 3(53).
Стихи // Звезда. 2010. № 4.
Стихи // Звезда. 2011. № 6.
Стихотворения. Кн. 5. СПб.: Пушкинский фонд, 2013. 48 с.
Ирина Ермакова или «Я всю жизнь держалась на честном слове…»
И правда – все зависит от ракурса, от угла зрения, еще точнее – просто от природы зрения как оптического прибора, позволяющего разным тварям видеть волны разной длины. Что человеку многоцветно, то для кошки черно да бело, а насекомому – объемно да фасеточно… С оптикой у Ирины Ермаковой неразрывно связаны и акустика, да и семантика наблюдаемого мира – спелого, упругого, налитого гармонией и статикой состоятельности и достаточности жизни. Как бы сказать попроще, не впадая в ухоженную стилистику самой Ермаковой? Ну, в общем, и не подумаешь, что она живет и придумывает слова в том же городе и в том же столетии на дворе, что и новые социальные поэты, прекрасные и честные, видящие кругом разруху и непоправимые несчастья, для коих есть свои причины: на них необходимо указать, чтобы преодолеть. Нет, у Ермаковой в стихах сколько угодно пораженных в правах людей, не имеющих, как сказал бы публицист, доступа к социальным лифтам:
– И-и-и! Людина Оля, Олька-дьяволенок визжит, визжит, визжит, нарезая квадратные круги по двору: – И-и-и! – и железная скамейка у подъезда взрывается, сокрушенно причитая: – Люд, чёй-то она? Ой, люди! Ишь, монстра какая! Дитё все-таки… Людмила, ты б ее в садик сдала! – Не берут – Оля! Оля! Оля! Горе мое, до-омой! …………….. – Не берут, она ж – не говорит, шестой годик пошел – не говорит, все понимает, сучка, – и не говорит. – И-и-и! – визжит всё – дерево, тротуар, сугробы, голуби, стекла дома, напряженно-багровые от солнца. – Сладу, сладу с ней нет, спать без пива – не уложишь, высосет свою чашку – и отрубается. – И-и-и! – и пожилая наша скамейка поеживается и поджимает ноги, жалобно кивая головами: – И-и-и, бедная Люда, на пиво-то-кажен-день – поди заработай. («Скамейка»)Московская Йокнапатофа Ирины Ермаковой располагается где-то у сложной излучины реки, между Нагатинским затоном и Коломенским. Эти места изображены на обложке сборника «Улей»: карта столицы нашей родины цвета золотистого меда, со смещенным центром, в аккурат приходящимся на окрестности заповедного парка и автозавода-гиганта на другом берегу реки – полной тезки не верящего слезам города. Классическая заводская окраина: многоэтажки из малогабаритных квартир для бывшей лимиты на холмистой улице с поэтичным именем Высокая. Бывали, знаем, здесь есть где разгуляться несчастью:
А еще наш сосед Гога из 102-й, Гога-йога-бум, как дразнятся злые дети. В год уронен был, бубумкнулся головой, и теперь он – Йога, хоть больше похож на йети. Абсолютно счастливый, как на работу с утра, принимая парад подъезда в любую погоду, он стоит в самом центре света, земли, двора и глядит на дверь, привинченный взглядом к коду… Генерал кнопок, полный крыза, дебил – если код заклинит – всем отворяет двери, потому что с года-урона всех полюбил, улыбается всем вот так и, как дурик, верит…Счастье – это неведение о собственном горе, эта формула настолько пластична, что легко поддается инверсии: любое «ведение» непременно оборачивается ощущением неблагополучия, ментальным несчастьем, готовым перелиться в жизнь, притянуть, подобно магниту, горести не вымышленные, но всамделишные, выраженные в фактах и событиях. А юродивая неосведомленность так и остается кратчайшим путем к уверенности и спокойствию:
Счастливый человек живет на четвертом этаже в 13-й квартире. Он улыбается всегда, просто не может иначе. Все знают, что его зовут Толик, а его бультерьерку – Мила, что ездит он на «копейке» и никогда не пьет за рулем, что работал когда-то на ЗИЛе (вон, видишь? – во-он, голубые трубы за рекой) и что вечная его улыбка – результат обыкновенного взрыва в цеху.Как-то так получается у Ермаковой, что «нет безобразья в природе», поэтому слова о счастье недоумка Гоги не выглядят метафорой, как и многие другие местные зарисовки не выглядят картинками горя и пошлости.
У этой странной гармонии, пробивающейся и сквозь искривленные пространства загубленных жизней, есть два основания, два ключа. Первый – спокойное сочувствие и терпимость к иному, чужому и чуждому, которое только и ждет твоей ненависти, чтобы напасть из-за угла, а в ответ на спокойствие и молчаливое неосуждение – готово повернуться самой приглядной из возможных сторон, обернуться меньшим из зол:
Гудит ли слишком всеподъездное застолье гребет ли дворничиха слишком бурно снег немедленно – средь нас возникнет Коля не мент не мусор не лягавый – просто Коля душевный участковый человек И ярость тает и пурга взлетает обратно ввысь туда где всё – вода и Коля тут же возглавляет запевает и разливается и разливает как горний лейтенант и тамада… («Метель»)Есть и другой ключ к открытию равновесия в пестром и хаотичном балагане Нагатинского затона – тесное соседство искажающего смысл и Промысел механического существования-разложения подданных автомобильного Молоха и безразличной ко всякому движению водной стихии. Взгляните на карту: здесь вода с трех сторон окружает сушу, остров – не остров, замкнутый котел творения, когда все идет в дело: и простецкие неслитные голоса нетрезвого люда, и плеск редких волн, промасленных до блеска сточными водами. Первородная водная стихия для Ермаковой краеугольна, она то и дело разливается волной в стихах из сборника «Колыбельная для Одиссея», где морское странствие служит сквозной метафорой жизни, страсти, преступления-похищения, памяти…
Как видим, не только про места нагатинские пишет Ирина Ермакова, но московский водный и промышленный Юго-Восток – все же лучшая метафора ее стилистических поисков в последние годы. Собственно, Ермакова никакого стиля не ищет, он уже существует и задан спокойствием и терпимостью одной стороны и зыбкой и будоражащей гранью между естественным в пробирке безобразием и выращенной в пробирке искусственной красотой.
Стиль рожден сутью вещей, он не только поддержан изнутри творческого жеста поэта, но и покоится на прочных опорах внешней природы вещей. Вот какая картина получится, если принять за аксиому не только различие оптических аппаратов человека, кошки и пчелы, но и разницу между параметрами зрения разных поэтов… Но, по большому счету, все это не про Ермакову. Стоит только мысленно стать за плечом поэта, всмотреться в то, что он предлагает увидеть – и станет ясным и внятным неожиданное. Поэтическое зрение не может являться единственным в своем роде, оно тотально, поскольку на любой предмет уже упали взгляды всех прежних и нынешних подлинных стихотворцев. Ирина Ермакова наделена даром видеть не только собственное зрение, воспринимать зрительные волны не только в «своем» диапазоне длительностей, но провидеть именно тотальность поэтического освоения вещей и явлений.
Цветет шиповник дышит перегной Вы так нежны как будто не со мной В лугах гуляют девочки и козы Качает цепи ветер продувной Я чувствую грядущее спиной Пока Тургенев бродит за стеной Пока он пьет один в своем Париже Он тоже не болел он тоже выжил И расквитался с тяжестью земной Навскидку – бес но бабочка – на свет Он пишет мне в ответ японской прозой Как хороши как рыжи были розы И ставит подпись: Мятлев Гасит свет И в темноте – тупым шипом изранен – Вскочил ругнулся разорвал конверт Хихикая исправил: Северянин Цветет шиповник Я сплю уже не помню сколько лет…Это всезнание, восприятие тотальности поэтического в его слитности с непосредственно жизненным, чувственно осязаемым дает поэту право и основание быть одновременно предельно наивной («Красота-то какая, мама дорогая! / Налитая, белая, спелая, золотая…» или «Вот гляжу на тебя и таю, как баба, – смешно?..») и – в других, параллельных случаях – отстраняться от любой конкретности в пользу самой что ни на есть метафизики, почти фетовской:
Мне снилась смерть блестящая как свет взлетающий над льдами перевала и грановитой радостью играло изогнутое лезвие-хребет И воздух тяжелея от воды гудел и взвинчивал меня все круче и были так смиренны с высоты неоспоримым солнцем налиты к сырой земле оттянутые тучи Там рос туман и полз ветвями рек и накрывал легко и беспристрастно земную жизнь мою и всё и всех а верхний мир сиял как человек вернувшийся домой из вечных странствий Но мелочи горючие земли тягучим списком – точно корабли уже взвились за солнечною спицей и вспыхнули в луче – когда взошли навстречу мне растерянные лица И взвинченное небо занесло и словно сквозь горящее стекло я вижу звука золотой орех: плывет в дыму искрящий круглый смех трещит фольга оплавленной полоской а там в ядре в скорлупке заводной ржет огненный пегаска – коренной так раскалившись в оболочке плотской душа моя смеется надо мной И обжигает продираясь за и видимо-невидимая рать дудит: не спи не спи раскрой глаза! И я проснулась чтобы жить опятьЗа годы изысканной работы со стихом Ирина Ермакова вовсе не стала поэтом раз навсегда найденной манеры, именно поэтому от нее всегда ждешь неожиданного и нового. Что-то она приготовит читателю в будущем?
Библиография
Голоса // Арион. 2001. № 1.
Жизнь засвечена словно в обратном кино… // Дружба народов. 2001. № 7.
Колыбельная для Одиссея. М.: Журнал поэзии «Арион», 2002. 120 с.
Никаких трагедий // Арион. 2002. № 2.
Легкая цель // Новый мир. 2003. № 3.
Уголь зрения // Октябрь. 2003. № 3.
Все на свете вещи // Арион. 2003. № 4.
Царское время // Новый мир. 2004. № 4.
Дурочка-жизнь // Арион. 2004. № 4.
Языком огня // Дружба народов. 2004. № 5.
Зерна гранита и зерна граната // Октябрь. 2004. № 6.
Переводчик // Интерпоэзия. 2005. № 2.
Голоса // Арион. 2005. № 4.
В красном городе // Новый мир. 2005. № 5.
Пустырь на Соколе // Знамя. 2005. № 9.
Вниз по карте // Октябрь. 2005. № 9.
Февраль // Октябрь. 2006. № 2.
Голоса // Арион. 2006. № 3.
До сигнального блеска // Новый мир. 2006. № 10.
Улей. Книга стихов. М.: Воймега, 2007. 84 с.
Голоса // Арион. 2007. № 3.
А у нас в Японии: Стихи из книги «Алой тушью по черному шелку» // Октябрь. 2007. № 4.
Речь на мефодице // Новый мир. 2007. № 10.
Стихи // Вестник Европы. 2007. № 19–20.
Из книги «Улей» // Интерпоэзия. 2008. № 1.
Стихи // Арион. 2008. № 4.
Новые стихи // Октябрь. 2008. № 9.
В ожидании праздника: Стихотворения 1989–2007 годов. Владивосток: Рубеж, 2009. 132 с.
Эрос – Танатосу // Новый мир. 2009. № 5.
Перекресток // Октябрь. 2009. № 8.
Свидетель Света // Октябрь. 2010. № 1.
Остров // Новый мир. 2011. № 2.
Иван Жданов или «Я был как письма самому себе…»
Тот не жил в поэтическом вакууме ранних восьмидесятых, кто не помнит строчек Ивана Жданова – услышанных во время его нечастых выступлений, переданных из рук в руки на исписанных торопливым почерком листочках, а чуть позже – почти чудом! – появившихся в подцензурной печати, минуя обычный маршрут навстречу ворованному воздуху тамиздата и обратно.
Я поймал больную птицу, но боюсь ее лечить. … Останься, боль, в иголке! … Иуда плачет – быть беде! … Когда умирает птица, в ней плачет усталая пуля… … Вода в глазах не тонет – признак грусти. Глаза в лице не тонут – признак страха. … Был послан взгляд – и дерево застыло, пчела внутри себя перелетела через цветок… … Когда неясен грех, дороже нет вины… … Займи пазы отверстых голосов щенячьи глотки, жаберные щели… … Мы – верные граждане ночи, достойные выключить ток.Перечень этих строк может быть кратким либо пространным, достаточно дочитать его до любой возможной середины, чтобы все припомнить и понять: полнота в данном случае не имеет никакого значения. Жданов не вписывает себя в современный (тогдашний) контекст, не разделяет мотивы и цели творчества, привлекавшие многих современников. Он не подпевает адептам поэтического официоза и не возражает им, не иронизирует по поводу жизни и быта позднесоветской эпохи и не пытается, подобно концептуалистам, с подчеркнутой нейтральностью интонации соединить культуру Большого стиля и «Культуру Два», не взыскует новой религиозности и не сетует на предмет ее невозможности и пустоты небес.
Жданов начинает писать стихи так, как будто бы на дворе конец семидесятых годов предыдущего, девятнадцатого столетия. Еще не прозвучали литературно-пророческие возгласы Мережковского, еще не задуманы брюсовские прожекты по созданию русской проекции европейского символизма, более того, даже дебют Надсона не состоялся, а уж о так называемом Серебряном веке и тем более о большевистской литературной утопии еще и слуху нет. Неведомы разнообразные сомнения в самом праве поэзии на существование – от парадоксов Ницше до афоризмов Теодора Адорно. Поэтическая традиция для Жданова не просто жива, но органична и естественна, как порыв теплого ветра июльским вечером. Поэтическое слово несводимо к бытовой речи и тем более – к просторечию, оно останавливает время и в неизменном виде передается вперед и вперед, доколе в подлунном мире, в потомстве жив хоть один читатель…
Поэт Жданов обрел известность в нешироком кругу знатоков, поскольку его имя стало постоянно включаться в ходовые в то время «обоймы» стихотворцев, по мнению некоторых продвинутых критиков, причастных к некоему новому поэтическому направлению, тут же получившему не менее ходкое имя. Здесь не хочется повторять получивших немалое распространение заковыристых терминов, сгустившихся над текстами трех московских поэтов, из которых двое были выходцами из алтайской глубинки. Причина проста – обоймы оказались недолговечными, терминология – недостоверной. У каждого из трех некогда объединявшихся в «группу» поэтов оказался свой путь, пожалуй единственное совпадение для всех троих – постепенно надвинувшееся молчание, уход с авансцены литературного быта.
В случае с Ждановым молчание наиболее очевидным образом переходит в многозначительную фигуру умолчания. После получения ныне не существующей, а некогда престижной премии Аполлона Григорьева в 1997 году Иван Жданов удаляется от московской суеты и от актуальной литературы. Новых публикаций становится все меньше и меньше, однако возможны ли они, необходимы ли, если и прежние стихи Жданова до сих пор не прочитаны, недостоверно включены в сиюминутные и скоропреходящие ряды и контексты рубежа 1970-х и 1980-х? Так, стихи Арсения Тарковского из его первой книги «Перед снегом», вышедшей в 1962 году, когда поэту было 55 лет, некоторыми рецензентами всерьез сопоставлялись с поэзией если не Андрея Вознесенского, то Леонида Мартынова, хотя написаны многие стихи Тарковского были еще в тридцатые годы.
Иван Жданов с самого начала был склонен сопрягать два почти несовместимых в истории русской поэзии начала: изысканную интеллектуальность и непосредственность таланта-«самородка», идущего к слову не через умственный изыск, а прямо от прямого наблюдения вещей и явлений. Применительно к девятнадцатому веку это означало бы, например, что рукодельная «народность» Алексея Кольцова могла быть дополнительно оснащена оптикой космического видения Федора Тютчева. А что же означает молчаливое присутствие в поэзии голоса Ивана Жданова в текущий момент истории русского стиха?
Думается – не более того, что уже сказано: новые стихи (будем на это осторожно надеяться) пишутся и дождутся своего часа. Но для них не пришло время до тех пор, пока «старые» тексты Жданова не будут прочитаны в своем реальном масштабе, а не в узком контексте позднесоветской и постсоветской эпох. Не в последнюю очередь благодаря стихам Жданова рубежное время 1980–1990-х годов больше не выглядит периодом снятия цензурных ограничений и иронической борьбы с пережитками соцреализма.
Я был как письма самому себе Из будущего моего, оттуда, Где возраст, предназначенный на вырост, Уже заполнен прошлым до предела, К тому же не моим, я был орудьем Для приручения его, дорогой И путником на ней, и даже целью, Хранилищем, проводником, который Не мог меняться, изменять себя Без опасенья изменить себе. И все-таки душа припоминает Сама себя и что она – не только Всего лишь место где-нибудь в груди, А то, с чем может вдруг отождествиться Пространство – как забытое письмо, Оставленное для тебя на случай – Между рукой и будущим твоим.Будущее, предсказанное и заранее контурно увиденное в ждановских письмах к самому себе, теперь наступило, поэтому даже в отсутствие новых публикаций прежний провидческий голос поэта Ивана Жданова становится для нас все более звучным и значительным. Слышите?
Сергей Завьялов или «…(какая разница какими словами)…»
Сергей Завьялов долгие годы тихо и яростно продолжает кропотливую неутомимую работу со стихом, она сравнительно немногим видна и слышна, но действенна, поскольку его усилия всякий раз удваиваются, а точнее говоря – двоятся.
С одной стороны, в печати появляются новые тексты, не всегда похожие на стихи даже внешне: тут и вкрапления на разных языках, выглядящие порою как партитура симфонии, и архаичная шрифтовая графика, и полузабытые печатные гарнитуры.
Оборотная сторона этих публикаций не менее важна: стихи провоцируют не прямую читательскую реакцию «удовольствия от текста», но программируют старт собственных размышлений читателя, связанных с непосредственным содержанием стихов лишь косвенно – в целом и в общем. Собственно, описанная двойственность присуща любому авангардному художественному высказыванию, еще с тех времен, когда не успели войти в оборот оксюморонные обороты типа «классический авангард».
Завьялов, выстраивает свою собственную, ни с какими образцами не сходную поэтику, начиная со стихов довольно уже давних, еще сохранявших традиционный графический облик, внешне не слишком отмеченных уникальным своеобразием, ну разве что увеличенные интервалы между словами обозначают подспудное присутствие альтернативной просодии и мелодики стиха, наличие дополнительных смысловых интонационных пауз, ведущих за пределы силлаботоники по направлению к ритмике архаичного (простите за выражение –) квантитативного стихосложения:
На исходе советской эпохи слышишь смолкла возня смертоносная угрюмых владык но что это более властное нас пеленает в серый свой плащ Да я не видел этих искусанных пальцев лагерные гнойные раны в детстве моем уже заросли так кого ж обвинить мне в том что кисти безвольно поникли и нет сил разучить на втиснутом в бетонные стены пианино «Красный Октябрь» эту мелодиюНа грани 90-х и 2000-х Завьялов идет проторенной дорогой архаизации стиха, которая в последние сто лет почти всегда одновременно означает и нечто противоположное – радикальную модернизацию. «Постарение»-обновление поэтики ведется по двум основным направлениям, причем оба связаны с вполне личными обстоятельствами: поиски мордовских (мокшанских и эрзянских) лингвистических, фольклорных и этнических обертонов в поэтике и актуализация античных мотивов в языке и просодии. Для ленинградца в третьем поколении, всегда с подчеркнутым вниманием относившегося к своему финно-угорскому происхождению да еще полтора десятилетия преподававшего латынь и греческий, все это более чем органично. Впрочем, это органика на грани фантастики, слишком резко контрастируют с привычными мотивными и ритмическими ожиданиями современного читателя стихов.
Целостность внешне простого речевого жеста в завьяловской системе координат расщепляется: бытовая речь, становясь поэтической, гарантированно проблематизируется, утрачивает предсказуемость и очевидность. Самый ясный довод в пользу динамичной непредсказуемости языка – присутствие в нем обертонов и начал, непосредственным восприятием не улавливаемых, а с точки зрения нынешнего, все и вся унифицирующего мира – вовсе несущественных. Современные антропологи, например, всерьез рассуждают о доле разных исторических видовых начал в генофонде современного homo sapiens’а. И что нам, вроде бы, до того, на какую долю мы неандертальцы? Однако светила говорят, что это существенно – приходится верить…
В целях выявления и полупрояснения подобных, внешне некрупных и дробных, находящихся за порогом непосредственного восприятия начал Завьялов использует два-три основных приема. Первый – актуализация инонациональной и инокультурной образности, которая, на поверку оказывается своей, автохтонной, как латентно присутствующие в фенотипе современного человека «неандертальские гены»:
Брат мой занесенный снега окоченевший мороз будто лишенный воздух холод такой чужой страна мы встретиться и ни язык родной ни какой общий оборот речь ничего уже ни даже память проигранное сражение родной очаг но что же тогда так заставлять одна болезнь больное биться сердце (Мокшэрзянь кирьговонь грамматат)(Берестяные грамоты мордвы-эрзи и мордвы-мокши)Другой прием завьяловской деавтоматизации стихописьма уже упоминался – графическое обозначение иных, архаичных и культурно дистанцированных типов просодии текста. Скажем, ритмика русского стиха принципиально не может (подобно древнегреческой и латинской) строиться на систематическом различении долгих и кратких слогов. Причина проста – отсутствие в языке долгих и кратких гласных. Сколько ни тяни в произношении слово «дом» («доооом!») – другое значение слова не возникнет. Кстати, во многих европейских языках подобные различия значений слов вполне возможны (английские sheep и ship, немецкие Staat и Stadt), хотя ритмические параметры английской и немецкой поэзии вполне соприродны русской метрике. Вот один из образчиков завьяловской работы с архаической просодией – со знаменательным и вполне объяснимым посвящением:
В. Кривулину
Звук как мало чистого звука в наших стихах разве что где-то на Поклонной горе пропевшая птица автомобильный клаксон внизу на шоссе солнце Боже мой снова солнце греет шубу слепит зажмуришься – красная пелена не смотри на него зажмурься зажмурься слушай («Весна на поклонной горе»)Еще одна вариация завьяловского преодоления стиховой инерции работает уже не на стыке языков, национальных культурных традиций либо противостоящих друг другу разновременных просодий, но внутри русской поэтики и в пределах русского языка. Достаточно широко известны захватывающие переводческие эксперименты Михаила Гаспарова, обозначенные как «переводы с русского на русский» и самим академиком названные «литературным хулиганством». Возможна ведь некоторая модернизация переводов иноязычных стихов, которые каждое время прочитывает по-новому! Значит, можно представить себе разные подстрочники иностранных стихотворений – то стремящиеся сохранить архаику текста, почти последовательно вводящие слова и конструкции, понятные современному читателю. Гаспаров ставил вопрос о точности перевода и подводил нас к пониманию размытости самого стремления к этой самой точности. Для современного англоязычного читателя язык Шекспира безусловно архаичен, но для зрителей шекспировских пьес все было совсем по-другому, а значит в поле зрения автора «Гамлета» и «Отелло» вовсе не было никакой задачи архаизировать текст реплик своих персонажей. Как же тогда переводить точно?
Следующий логический пункт подобных рассуждений предсказуемо парадоксален.
Если в случае переводных стихов почти невыполнимая установка на точность выглядит все же манящей и провоцирующей на все новые и новые версии перевода классических текстов, то как быть с русской классикой? Здесь ведь невозможны подстрочники, канонический текст незыблем, несмотря на независимо от воли отдельно взятого читателя изменившиеся исходные параметры восприятия. Слово «пустынный» для большинства носителей русского языка утратило значение «одинокий», восходящее к церковнославянским текстам. А что тогда происходит со строкой Свободы сеятель пустынный? Возможно ли ее – нет, не перевести, а просто прочитать и понять точно, без невольного ассоциирования с песчаным пейзажем пустыни?
Путь к адекватности и точности восприятия классических поэтических текстов, по Завьялову, только один – эти тексты необходимо перевести на «язык» семантических денотатов, то есть объектов реальности, стоящих за словами и существующими помимо конкретных слов – с их двусмысленной динамичностью значений. Что получается? А вот что:
какая небывалая метель обрушилась на нас в эту ночь казалось что окна до половины залеплены снегом ты зажгла свечу на столе и столбик ее пламени отбрасывал на потолок причудливые тени как продолжение твоих длинных пальцев как колыхание твоих распущенных волос ты умеешь так трогательно раздеваться: два легких удара башмачков по полу и вот ты уже укутываешь меня собой словно чистым снегом пока сквозняк все сильнее раскачивает пламя свечи на столе (Борис ПастернакВернувшись утром от возлюбленной, поэт еще раз радостно переживает произошедшее)Осталось высказать предположение о возможном общем знаменателе усилий Сергея Завьялова придать русскому стиху второе дыхание, лишить его инерционности и убаюкивающей ритмической предсказуемости. Завьяловские попытки по природе своей двойственны – адресованы как продвинутым экспертам (для которых, например, осведомленность об экспериментах М. Гаспарова является неотъемлемым слагаемым повседневного восприятия стихов), так и читателю «обычному», не ведающему о стиховедческих премудростях, но интуитивно и непосредственно чувствующему достоверность и привлекательную простоту любых видимых усложнений лексики, графики, ритмики стиха. Так, футуристические опыты по (вос)созданию «заумного» языка привлекательны равным образом для продвинутых адептов и для всех читателей поэзии. Демократические убеждения Завьялова имеют отношения не только к политике, но и к поэтике. Любой человек, независимо от социального пакета исходных условий доступа к искусству (образовательный ценз, имущественный и т. д.), имеет полное право на чтение и понимание поэзии, во всей ее неслыханной простоте. Только так могут читатели чувствовать себя свободными и неущемленными – и что тут поделаешь, ежели, по Завьялову, в очередной раз оказывается, что сложное понятней им?!
Библиография
По направлению к дому // Дружба народов. 2001. № 6.
Мелика. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
Пороги на Ванте // Арион. 2007. № 2.
Речи. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
Алексей Зарахович или «В лодке то лодочник, то вода…»
Разнообразие – почти непременное свойство лирики, узнаваемые, постоянные мотивы и ритмы в стихах только и воспринимаются, что сквозь пестроту и разнообразие ситуаций, точек зрения, смысловых обертонов. Противоположные примеры редки, известны почти наперечет – вспомним, например, стихи Михаила Еремина, много лет пишущего исключительно и только размышления-восьмистишия. Такое постоянство формы – чаще всего удел давно минувших дней, трудно допустить, что кому-нибудь придет в голову одно за другим сочинять стилизованные под хокку малостишия, выглядывая во двор из окна многоэтажного дома или сидя на пороге дома деревенского, уединенного.
Живущий в Киеве русский поэт Алексей Зарахович пишет, конечно, не хокку (и вообще твердые стихотворные формы встречаются у него довольно редко, разве что сонеты), однако на уровне мотивов и интонаций его стихи удивительно, почти демонстративно монотонны. Одно стихотворение словно бы продолжает другое, перетекает в третье, потом становится четвертым, пятым… Глагол «перетекает» довольно точно отражает суть дела – практически в каждой вещи Зараховича так или иначе присутствует вода, еще точнее – река со всем сопутствующим антуражем: обитателями речных вод, рыбаками, берегами, прибрежными лесами…
Река в стихах Зараховича – вовсе не обязательно Днепр, город у реки – не обязательно Киев, но узнаваемый с первого взгляда ореол привычных со времен Гоголя и Куинджи «украинско-днепровских» смыслов виден здесь невооруженным глазом:
Тиха украинская ночь Умна украинская дочь Что жизнь ее? – в тени обочин Слепая песня кобзарей Был долог путь, стал волос тоньше Остановившихся бровей Она так многого не знает Она так просится смотреть К морозу звезды, убывает Луны ворованная медьДыхание Реки, течение Воды проступают сквозь все разнообразные подробности жизни человека, существующего в этой культуре – южной, степной, кочевой, песенной, раздумчивой, медленной, погруженной в себя: определения перетекают одно в другое, вносят дополнительные смыслы в трудно формулируемое, но интуитивно понятное единство мира. Из этого мира родом герой-рассказчик (точнее – герой-наблюдатель) Алексея Зараховича, кстати, вовсе не обязательно сельский житель либо горожанин-рыбак. Любой его жест, взгляд, действие, любая мысль немедленно находят символическое соответствие в неспешной жизни речных вод. Скажем, неторопливое раздумье-размышление-фантазия ассоциативно замещается в стихах Зараховича речным пейзажем со стеклодувом. Он только что придуман, вернее, рождается на фоне неба и воды в самом процессе придумывания. Почему стеклодув? Все очевидно – ремесло легче всего уподобляется прихотливой работе воды, призванной порождать бесчисленные округлые и неясные формы и контуры предметов («Стеклодув»):
Воды бродячее стекло Качает лодку стеклодува А он забыл про ремесло …И я забыл про стеклодува Кому еще так повезло На вымостках стоять и видеть Всю видимость – и сушь и сырость Весь вымысел – себе назло Воды разбитое стекло …На вымостках стоять и видеть – Оттенки, тайники, приметы Мальков тревожные полеты И слышать не тебе советы И верить – не твои заботы Так рыбе, взятой под стекло Приносят воздух в птичьем клюве …И что ни выдох – ремесло Трубит о спящем стеклодувеПочти сомнамбулическое вглядывание в себя всякий раз порождает «речной эквивалент» любого настроения, водяную метафору судьбы. Образный ряд аскетически сужен, редуцирован до водной стихии – первородной колыбели жизни, места зарождения всех допустимых и почти немыслимых ситуаций. Человеку Наблюдающему в стихах Зараховича, так сказать, ни холодно ни жарко: он ничего не способен почувствовать до наблюдения – ни горя, ни счастья, ни печали, ни радости. Такой наблюдатель весь сведен к своему наблюдению, оказывается парадоксальным образом избавлен от индивидуальности, от личностного избытка, который непреложно существует в сознании героя традиционной лирики. В поэзии Алексея Зараховича живет человек с долитературным, можно сказать, с «фольклорным» мировидением, он не только помещен в природную (речную) среду, но и его песни монотонны, как речное течение, и почти напрочь лишены нюансировки, перепадов ритма и смысла.
В этой реке невысокой на вид Два или три этажа без подвальных Слышишь, звенит колокольчик трамвайный Слышишь, уже не звенит, не звенит Сколько же вечности этой на вид Как посмотреть, если с лодки, то много Светишь фонариком – длится дорога Путают вёсла сигнальную нить Если с моста осторожно, слегка Только взглянуть, так чтоб капля зрачка Не соскользнула в свое отраженье Видишь – себя повторяет движенье Круг на воде продолжает кружить…Что происходит с человеком у реки, каким он туда попадает или, вернее, каким становится вблизи воды, часто помимо собственной воли? По Зараховичу – именно здесь вдруг происходит какое-то переключение сознания, смена регистра: из «деятеля» гость речных берегов неминуемо превращается в созерцателя. Самая простая и очевидная аналогия: рыбак в ходе своего излюбленного и медлительного подкарауливания будущей добычи рано или поздно сам превращается в пассивного участника какого-то большого действа, его уму и сердцу непостижимого, порою из искателя жертвы сам становится жертвой. В такой сказке рыбак и рыбка незаметно меняются местами – это понятно, пожалуй, даже без обращения к аналогиям из Пушкина, Хемингуэя или Виктора Астафьева:
Полночь… Банальнее нет начала Обыкновеннее нет причала Лодки наклон и кивок весла Водят по ниточке баржу с грузом: Липким углем, раскаленным арбузом В лодке то лодочник, то вода Остановиться… Остаться… Жить Остановиться, остаться, выжить Берег един, как церковная известь Не завоеван, неразделим Снасти опущены… На теченье Слышно чехони тугое тренье Слышно, как движется не спеша Перебирая тростник губами То ли утопленник, то ли душа С длинными как у сома усамиВ стихах Алексея Зараховича нередко присутствует второй план, речная мистерия оказывается лишь мистерией, условностью, аллегорическим занавесом, за которым разыгрывается подлинная, неусловная жизнь. Часто в финале стихотворения возникают через пробел еще строки, заключенные в скобки, точнее, скобка здесь только одна, открывающая, – она обозначает начало, не имеющее одного-единственного ясного продолжения. Это второй голос, параллельная партия в партитуре, здесь если не происходят, то по крайней мере обозначены другие события и другие их участники: некое Я, некая Ты («любимая»), некие перипетии человеческих отношений. Однако все это (главное, привычное; наконец, современное) оказывается на втором плане, дано лишь обиняком и намеком, в фокусе же внимания – все тот же медленный ряд речных пейзажей с вписанными в них призрачными силуэтами рыб, людей, деревьев. За пределами вечных стихий продолжают тикать часы повседневности, однако истинный ход вещей закладывается именно там – в остановившемся времени вод. На язык этого медленного мира природы оказываются, впрочем, переводимыми многие реалии движущегося времени, времени культуры, скажем, реалии чеховские («Чехов»):
Сперва окунись, там где будешь ловить окуней, Став частью реки, хоть бы частью ненужной, напрасной Вот лось отраженный качнул плавниками на дне Лосось – догадаешься ты, – обманувшая Каспий Гроза будет в полдень, а нынче кратчайшим путем – Прямым, под линейку проложенным, будто бы к сроку Ты здесь очутился при удочке и с врачом Что каплю дождя может выжать из пальца иголкиПодобные опыты Алексея Зараховича на грани возможностей его метода работы со смыслом, за пределами добровольно принятой им самим «водной аскезы», на мой взгляд, особенно интересны. Может быть, именно они указывают на вероятные пути развития его самобытной, но все же достаточно камерной стилистической манеры?
Библиография
Река весеннего завета: Поэма-сонет. Киев: Факт, 2003.
Короткой водой // Знамя. 2008. № 9.
Рыбья скворешня // Знамя. 2010. № 7.
Чехонь. Киев: Гамазин, 2011. (Серия «Зона Овидия»)
Белая цифирь // Знамя. 2011. № 7.
Николай Звягинцев или «Вынуть платок, наиграть разлуку»
Поэтов (согласно удобной батюшковской таксономии) легко разделять на «странствователей» и «домоседов»: в прямом ли смысле, в переносном ли, – почти каждый стихотворец волен выбирать между сосредоточенным вниманием к знакомым приметам домашнего обихода и жаждой новых впечатлений, странствий, ритмов и форм. Николай Звягинцев в своих стихах – путешествует, словно бы не покидая родных стен, точнее говоря, – все свое носит с собой, в том числе привычный быт, размеренное домашнее существование, когда необходимые предметы обнаруживаются без труда – вслепую и наощупь. Так перемещаются улитка, черепаха: счетчик показывает все новые сантиметры и мили, а дом – вот он, при них. В текстах Звягинцева часто упоминаются неродные города и местности, но почти всякий раз это лишь очередное упражнение на тему «путешествие с домом на спине».
Если поеду ниже ступенькой, Литература почти что вся Станет как лужа с молочной пенкой Велосипедного колеса. Разом представлю дом на колесах, Стекла со спичечный коробок, Книгу, достойную двух полосок, Пулю, летящую вверх и вбок, Ноев ковчег и свою каюту, Море, где ночью неглубоко, Двух пешеходов, на две минуты Только что прыгнувших в молоко.Это, пожалуй, «модельный» звягинцевский текст: здесь и в самом деле изображена «почти вся» литература-по-Звягинцеву, то есть – сведенная к странному на первый взгляд перемещению сразу и по морю, и посуху: в ближний дачно-велосипедный свет и в спасительный дальний край, куда можно сбежать от Потопа, втиснувшись в толпу на борту Ковчега. Впрочем, и эти две параллельно существующие картинки морского и сухопутного путешествий – не едины, каждая из них, в свою очередь, подлежит дальнейшему умножению и дроблению. Так, громоздкий, наскоро сбитый перед лицом угрозы «ковчег» стремительно, словно в пластилиновом мультике, превращается в океанский круизный лайнер с комфортабельными «каютами».
И наоборот – оба путешествия не только дробятся, но и сходятся воедино, составляя – в конечном счете – картинку, в реальности уже совершенно не возможную. Смотрите: встреченные велосипедистом прохожие отражаются в только что рассеченной колесом луже, по которой за секунду до их появления пошла рябь, напоминающая пенку на остывающем горячем молоке. Почему они вдруг оказываются не отраженными в мелкой водице уличной лужи, но целиком и полностью «прыгнувшими в молоко»? Все просто – потому что наш странствователь, наша улитка-черепаха не только на велике катит, но и на пароходе плывет по глубокой морской воде, в которую недолго и спрыгнуть. Если напомнить, что не только молочная лужа уподобляется морю глубиною в человеческий рост, но и в море «ночью неглубоко», то можно поставить окончательный диагноз – море и суша, велосипед и ковчег-лайнер становятся деталями единой картины, представляющей путешествие чувств, не тождественное, впрочем, каноническому «сентиментальному путешествию».
Путешественник Звягинцева не предается сантиментам, его реакция на ранее неведомые места и события сводима скорее к общей приподнятости, глубокому вздоху восторга, нежели к конкретной, детально выписанной эмоции. Общее здесь преобладает над частным, отвлеченная от конкретного повода восторженность самим фактом странствия напоминает не то изысканный фетовский безглагольный восторг перед лицом природной музыки рассветов, соловьев и ручьев, не то обильное, «южное» восхищение «украинской ночью» и тихой погодой над широкой рекой. Кстати говоря, «степные» ассоциации здесь не случайны – можно вспомнить об участии Николая Звягинцева в разного рода «крымских» поэтических форумах и группах, его внимание к поэзии выходцев из этих краев и т. д.
Сходя с поэтических небес на грешную землю, скажем, что отвлеченное упоение звягинцевского героя легко уподобить восторгу подростка, присевшего на пол просторной комнаты и обнаружившего себя среди сразу же увеличившихся в объеме и таинственно нависших над ним некогда знакомых предметов – шкафа, стола, окна. Вот почему в только что разобранном стихотворении в первой же строке герой рассчитывает на поездку «ниже ступенькой» – кстати, эта реалия свидетельствует о том, что нами был упущен еще один вид транспорта, на котором одновременно передвигается звягинцевский странствователь, наряду с ковчегом и велосипедом явно оседлавший еще и вагонную площадку со ступеньками, спускающимися прямо к несущейся навстречу поезду земле (у другого поэта – «Под шторку несет обгорающей ночью И рушится степь со ступенек к звезде»).
Позиция странствователя у Звягинцева, если разобраться, вовсе не проста. Не наивна, далека от прямолинейной и сиюминутной реакции на неизведанность и новизну. Отношение героя к событиям можно условно окрестить как раз антиимпрессионистическим. Его впечатлительность – не проводник эмоций, а совсем напротив – мягкая, но ощутимая преграда, разделяющая бытие и сознание. Что на самом деле происходит в уме и сердце всегда готового к новым путевым заметкам героя? Очень и очень нелегко ответить на этот вопрос: порою читатель ловит себя на том, что оказывается внутри ситуации, описанной еще в 1830-х годах русским романистом Александром Вельтманом, у которого в романе «Странник» главный герой путешествовал, рассматривая мелкие детали географической карты. Любопытство остается просто любопытством, не достигающим четко очерченного круга взаимодействия с собственными намерениями любопытствующего.
В городе канатная дорога, Солнышко и мало голосов, Влажная раскопанная Троя С белым деревянным колесом, Виды театрального романа, Завтрак и сухая пастила, Масляная тонкая бумага Цвета заоконного стекла. Утро, до него наперсток соли, Мало-мало соды на ноже. Поручни, крыла его, рессоры Спят еще в воскресном гараже. Выстрелишь – и заспанное древо Бросится на солнечный фасад Парою начищенных тарелок, Только что сомкнувших паруса.Есть, впрочем, у Звягинцева и иные тексты, обычно сводимые к микроновеллам, не сопряженные с пространственными перемещениями. Проекция «многоканального» описания путешествия на конкретное событие зачастую порождает неожиданные повороты сюжета, поток впечатлений, точно уловленных и переработанных теперь уже не просто свидетелем, но участником событий:
Шарит рука колено соседки, Водит биноклем в чужом ряду. Ее хозяин скучает под сеткой, Ждет не дождется, когда подадут. Где по весне густые ресницы, Осенью тянешь пустой билет. Там их всего четыре страницы – Дама, девятка, король, валет. Будто со дна парашютной вышки Или из дома, где сверху львы, Вынырнет левая с горстью вишни, Шляпу собьет с твоей головы. Пара часов – и крик петушиный, Пара минут – и рельсовый стык. Ее сверчок печатной машины, Быстрый взгляд поверх пустоты.Образный ряд путешествия и здесь оказывается на своем месте (билет, парашютная вышка, рельсовый стык), однако никакая поездка даже не имитируется, превращается в метафору встречи двух людей перед лицом грядущей неизвестности. Непросто преобразованные путевые заметки коллекционера звуков и красок – центральный пункт лирики Звягинцева; в этом состоит его сила и – разумеется – некоторая узость стилистического диапазона. Можно долго перечислять, какие темы, идеи, мотивы, в сегодняшней поэзии суперактуальные, у Звягинцева отсутствуют начисто. Однако, возможно, и не стоит одному из немногих нынешних лириков по преимуществу поддаваться на провокацию востребованности и ангажированности? Как знать – ощущение некоторой приторможенности движения в последних текстах Николая Звягинцева присутствует – или это просто попытка найти стыковочный узел и перебраться на борт еще неведомого мегаэкспресса?
Библиография
Крым НЗ. М.: ОГИ, 2001. 48 с.
Стихи // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2001. Сезон 2000/2001 г., вып. 2. С. 93.
Одно стихотворение // Вавилон: Вестник молодой литературы. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2001. Вып. 8. С. 89.
Памяти Прохорова // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2002. Сезон 2001/2002 г., вып. 7. С. 7.
Два стихотворения // Вавилон: Вестник молодой литературы. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2002. Вып. 9. С. 21.
Стихи // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2002. Сезон 2001/2002 г., вып. 6. С. 5–7.
Маяковская-3 // «НЛО», 2003, № 62.
Одно стихотворение // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2003. Сезон 2002/2003 г., вып. 11. С. 36.
Два стихотворения // Вавилон: Вестник молодой литературы. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2003. Вып. 10. С. 65.
Стихи // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2003. Сезон 2002/2003 г., вып. 10. С. 5–7.
Туц. М.: Новое издательство, 2008.
Улица Тассо. М.: НЛО, 2012. 96 с. (Новая поэзия).
Игорь Иртеньев или «Где смерть с иронией сплелась»
Ирония (обычно) – прием одноразовый, исчерпаемый, автоматизирующийся; исключение в истории искусства было, но уж больно давнее – еще у первых, великих немецких романтиков. Для них ирония была мироустроительным принципом, трагическим законом бытия, благодаря которому ставится под сомнение не только окружающая поэта жизнь, но и жизнь внутренняя, а также (и это самое важное) само по себе его право дистанцироваться от жизни, сомневаться в ее должной обоснованности и праве на автономию. Времена романтической иронии давным-давно миновали, будучи превращенной в заданный прием, ирония делается легко предсказуемой, клишированной, часто становится производной от жанрового комизма, например, басенного. Автор басни, во-первых, говорит одно, а подразумевает иное («Отколе, умная, бредешь ты голова» – реплика обращенная к Ослу у Крылова), во-вторых, иронически высмеивает пороки на фоне очевидной и общепринятой нравственной нормы, закрепленной в финальной моральной сентенции.
Игорь Иртеньев приобрел известность, применяя иронию вне басенного канона, то есть помимо классической сатиры, при этом во время тотальной переоценки ценностей, когда родился образ «поэта-правдоруба», акцентировалось не высмеивание конкретных моральных заблуждений либо нарушений, но высмеивание как таковое. Причины понятны – уж больно очевидно разрешенная сатира советской эпохи отдавала фальшью и казенностью (из серии «если кто-то кое-где у нас порой Честно жить не хочет…»), а то и просто ложью, поскольку «нечестность» во многих сферах была возведена в культ и в правило.
Если столько лет сумел остроумный и тонкий поэт Иртеньев продержаться на гребне известности, не расставаясь со стандартизированным приемом иронии, значит – было и есть в его манере и что-то помимо приема: во в этом и попробуем разобраться.
Универсальная ситуация в стихах Иртеньева – отмежевание пишущего от большинства, причем большинство это (в пику псевдо-пафосному официальному обозначению народ) часто называется сниженно-демографически: население. Примеры многочисленны:
Мне с населеньем в дружном хоре, Боюсь, не слиться никогда, С младых ногтей чужое горе Меня, вот именно, что да… ________ Ее населению и, соответственно, мне, Поскольку душою являюсь его, как известно, И, в пропасть скользя со страной этой самой совместно, Уже не успею в другой я родиться стране… ________ Призвал к населения росту Мой президент меня, Думаешь, это просто Так вот день изо дня?.. ________ Чем характерно население Российской нашей Федерации? Тем, что легко в изготовлении, Но тяжело в эксплуатации… ________ Люблю в ночи смотреть я порно, Особенно в кругу семьи, Ему все возрасты покорны И населения слои…Припоминается еще одна деидеологизированная номинация: толпа, во времена оны последовательно подменявшая понятие народ, взятое прямиком из официозной триады (православие, самодержавие, народность). Конечно, нельзя забывать, что в известных стихотворениях классика «о поэте и поэзии» толпе противостояла фигура поэта, а вовсе не насмешника.
Впрочем, ироническое пересмеиванье навязших в зубах казенных правил и у Иртеньева вовсе не абсолютно. Очень важно выделить и присмотреться к тем стихотворениям, в которых позиция ироника уступает место вовсе не титаническому образу стихотворца-пророка, но человеку частному, не просто не желающему сливаться с народом (=коллективом = толпой), но отстаивающему свою индивидуальность, независимость, незыблемую автономию, воплощенную, однако, в подробностях сугубо бытовых, частных:
Хочу, друзья, поговорить о личном, А вы меня послушайте о нем. Немало станций есть в метро столичном, Растет число их с каждым новым днем. Но лишь одной я повторяю имя… ‹…› «Таганская», души моей отрада, Как с юностью, я с нею встречи жду. ‹…› Мы с ней одною связаны судьбою, С нее в бессмертье начал я полет. Не оттого ль все чаще меж собою Народ ее «Иртеньевской» зовет.Ироническая концовка в таком контексте выглядит почти демонстративной, если угодно, искусственной маскировкой, – чтобы читателю сподручней было оставаться в границах привычных ожиданий иронической насмешки в стихах поэта-правдоруба.
Есть, однако, у Иртеньева тексты, где этого демонстративного возвращения в лоно иронии не происходит вовсе, а к привычному восприятию его стихов возвращают разве что демонстративно регулярная метрика да рифма.
Вроде все уже песни пропеты, И, казалось бы, сплясаны пляски, Но еще только брезжат сюжеты, Что потребуют яркой огласки. И пока мы в бессмысленных спорах Вырываем друг другу чуприны, Где-то там, на кудыкиных горах, Набухают такие лавины И такие доносятся лязги, Что смешны по сравнению с ними Эти милые детские дрязги Меж не самыми малыми сими.Границы эмоции здесь вовсе не связаны с легкой издевкой над тем в жизни, что и подлежит легкой издевке, непознанные «лязги» жизни отсылают к тайнам невыдуманным, но устрашающим и важным, находящимся далеко за пределами привычного иртеньевского круга бытовых частностей. Конечно, и здесь иронический интертекст исправно работает, но возможные скрытые смысловые и ритмические цитаты скрыты так глубоко, что в реальности их существования вполне можно и усомниться (смысл: «гармония в стихийных спорах…»; ритм: «неужели вон тот – это я?..»).
Подлинная лирика самобытно русского поэта Игоря Иртеньева, как мы видим, начинается там, где иссякает инерция иронического приема, а удалой пересмешник становится внимательным и ранимым наблюдателем своей частной, «сугубо личной» жизни:
Вот так, под разговорчики в строю, Едином и хождении не в ногу, И проживаем друг мой понемногу Мы жизнь сугубо личную свою.Этот вывод тем более важен, что и времена сменились, и воздух вокруг иной, о чем сам Иртеньев высказался предельно ясно:
Всего лишь за пяток какой-то лет Так изменилась вся система знаков, Что мух не отделить уж от котлет, Козлищ от агнцев, плевелы от злаков. Но сколь бы плотной смесь та ни была, Она всего лишь то и означает, Что отвечает агнец за козла, Хоть тот и ни за что не отвечает.Что ж посмотрим, как будет выглядеть в наблюдениях Игоря Иртеньева реальность сегодняшнего дня. Ирония отошла на второй план – как говаривал полузабытый классик советской истории литературы – не начало ли перемены?
Библиография
Ряд допущений. М.: Независимая газета, 2000.
Антология сатиры и юмора России XX века. Т. 5 / И. Иртеньев. М.: ЭКСМО-Пресс, ЭКСМО-маркет, 2000. 384 с.
Народ. Вход-выход. М.: Эксмо, 2003.
Избранное. М.: Эксмо, 2005.
Утром в газете… М.: Изд-во АНО «Редакция Ежедневной Газеты», 2006.
Марксистский переулок. М.: Астрель, 2010.
Безбашенный игумен. М.: Олма Медиа Групп, 2013.
Повестка дна. М.: Время, 2015.
Александр Кабанов или «Отечество, усни, детей своих не трогай…»
Александр Кабанов изначально самоопределен как человек и поэт, располагающийся между стихий, на теплом южном ветру, в разверзающейся прогалине между языками, культурами, бытовыми укладами – в этом его сила и слабость. С одной стороны – полнозвучный голос способен преодолевать любые слуховые фильтры и ограничения, ничего не упуская, не теряя по пути, чувствуя специфику всех составляющих причудливого поэтического мира, несопоставимого ни с одной конкретной предметной реальностью и – сразу со всеми. С другой же стороны, очень уж часто стали повторяться в стихах Кабанова фразы и особенно перечни на постмодернистском волапюке – эффектные, но одноразовые в своей удивительности и нестандартности.
Челночники переправляют в клетчатом бауле Харона через таможенный терминал, старые боги ушли, а новые боги уснули, электронные платежи, бездна, а в ней – безнал. В позе эмбриона с баночкой кока-колы о чем-то шипящей и темно-красной на вкус, Харон засыпает, и снятся ему оболы, киоск обмена валюты (очень выгодный курс!), школьное сочинение: «Как ты провел Лету?», берег, плывущий навстречу, в жимолости и хандре, первая женщина – Индра, а последняя – Света с татуировкой ангела на бедре. Она оставила визитку с телефонами этих самых челночников, жителей Чебоксар. Марк Аврелий был прав: смерть – сетевой маркетинг, а любовь – черно-белый пиар. Баул открывается радостным: «Прилетели!» Харон успевает подумать, как же ему повезло, он еще не видит пустыню, по которой идти недели, и бедуина, который выкапывает весло.Все здесь соответствует всему и псевдонеожиданные и вовсе не странные сближенья лета и Леты, бездны и безнала посылают читателю сигнал об одном и том же открытии, сделанному в литературе лет сорок: мифологическое прошлое не умирает, оно продолжает жить в контурах повседневности, способное объяснить ее, вырваться на волю страшной тайной, проклятием, магическим выходом из безвыигрышного положения.
Мумия винограда – это изюм, изюм, эхо у водопада, будто Дюран-Дюран, мальчик за ноутбуком весь преисполнен «Doom», ну а Господь, по слухам, не выполняет план. Прямо из секонд-хенда вваливается год, вот и любовь – аренда, птичьи мои права, прапорщик бородатый вспомнился анекдот, лезвие бреет дважды – это «Нева-Нева». Старый почтовый ящик, соросовский ленд-лиз для мертвецов, входящих и исходящих из снежного полумрака этих ночных минут, Что ты глядишь, собака? Трафик тебя зовут. Крыша этого дома – пуленепробиваемая солома, а над ней – голубая глина и розовая земля, ты вбегаешь на кухню, услышав раскаты грома, и тебя встречают люди из горного хрусталя. Дребезжат, касаясь друг друга, прозрачные лица, каждой гранью сияют отполированные тела, старшую женщину зовут Бедная Линза, потому, что всё преувеличивает и сжигает дотла. Достаешь из своих запасов бутылку «Токая», и когда они широко открывают рты – водишь пальцем по их губам, извлекая звуки нечеловеческой чистоты.К чему приводит в поэзии состояние подобной легкости бытия, вполне, впрочем, выносимой? Какие у нее новые координаты, коль скоро достигнуть определенности смысла больше невозможно, нельзя надеяться испытать боль или радость, а только перепевы былых ощущений, как с этим быть?
Должна очиститься реторта, и перегонный куб – остыть, поэзия – до мяса стерта, как много надобно забыть! В расстегнутых ширинках комнат, клавиатуру теребя, но, кто рискнет и нам напомнит, что надобно забыть себя? О, сколько жести в этом жесте, багровой кожи с бахромой… …я позабыл, в каком ты месте, читатель нелюбимый мой. И я хлебал из общей кружки литературный cabernet, и не заметит новый Pushking, что старого на свете нет.В этом анизотропном мире, где все направления равновероятны и все реакции идут в дело, возможно разве что помимо прямого намерения попасть в точку, предсказать развитие событий в нашем приземленном одномерном виде. Здесь Александр Кабанов силен, многие его тексты как будто бы предназначены для того, чтобы стать пророческими, воплотиться в реальность.
Отечество, усни, детей своих не трогай, ни плавником, ни ласковой острогой, ни косточкой серебряной в «стволе»… Славяне – очарованная раса, ворочается пушечное мясо в пельменях на обеденном столе. А я – любовью сам себя итожу, ты – в переплете, сбрасываешь кожу, как сбрасывают ветхое вранье в считалке, вслед за королем и принцем, так бьют богов, так пробуют мизинцем – отравленное зеркало мое. Трехцветная юла накручивает мили, вот белый с голубым друг друга полюбили, вот красный оросил постельное белье… И ты рисуешь профиль самурая, от нежности и от стыда сгорая, отравленное зеркало мое.В остальном же пока в стихах Кабанова царит все то же вавилонское смешение и смещение слов и вещей, фактов, достоверно доказуемых и легендарных, лиц реальных и литературных. Караул от всего этого давно устал, правда-правда, остается надеяться, что и сам поэт это понимает.
Он бряцает на мандолине в Чуйской долине, где у солнца лысина в бриолине, иногда к нему приезжает Чингиз Айтматов – налегке, без секьюрити и адвокатов. Говорят, что это – Манас, друг Тохтамыша, богатырь и поэт, переживший свою легенду, у него караван гашиша и буддистская «крыша», а что еще надо, чтоб встретить старость интеллигенту? Кушай конскую колбасу, вспоминай Пегаса, проверяй на вшивость мобильник и жди приказа, а когда он придет – вызывай на себя лавину, человек дождя и йети наполовину. («Манас»)За новым поворотом века – новые тропы русского стиха. Пройти по ним сможет не просто идущий, а тот, кто обладает смешанным опытом травматического наслаждения. Я уверен, что Александр Кабанов – именно их таких поэтов, так что все еще будет, обязательно будет…
Библиография
Образование в Японии // Неприкосновенный запас. 2001. № 5 (19).
Ласточка / Александр Кабанов. 2002.
голоса // Арион. 2003. № 2.
Айловьюга. СПб.: Геликон Плюс, 2003. 144 с.
Из перехваченного письма // Интерпоэзия. 2005. № 3.
[Стихи] // Новый Берег. 2005. № 9.
За рюмкою смолы // Новый Мир. 2005. № 10.
Крысолов. СПб.: Геликон Плюс, 2005. 144 с.
Какое вдохновение молчать // Дети Ра. 2006. № 6.
Поэзия странное дело… // Зарубежные записки. 2006. № 7.
Ребенок ua // Знамя. 2006. № 8.
Ужин с натурщицей // Континент. 2006. № 127.
Стихотворения // Новый берег. 2007. № 15.
Аблака под землей. М.: Изд-во Р. Элинина, 2007. 106 с.
Рукопись в прибое // Новый мир. 2008. № 3.
Больно надо // Дружба народов. 2008. № 6.
Стихотворения (из цикла «Приборы бытия») // Новый берег. 2008. № 22.
ВЕСЬ. Харьков: Фолио, 2008.
Комиссар катанья // Новый Мир. 2009. № 1.
Раздвоенное слово // Октябрь. 2009. № 2.
«Крыша этого дома пуленепробиваемая солома…» и др. // Волга. 2009. № 5–6.
Точка от укуса // Дружба народов. 2010. № 5.
Исход москвичей // Новый мир. 2010. № 6.
[Стихи] // Урал. 2010. № 9.
«Венецианский триптих» и девять других стихотворений // Сибирские огни. 2010. № 11.
Бэтмен Сагайдачный. М.: Арт Хаус медиа, 2010. 160 с.
По ком скрипит кровать // Интерпоэзия. 2011. № 7.
Боевой гопак // Дружба Народов. 2011. № 7.
Стихотворения // Новый Берег. 2011. № 34.
Русский индеец // Новый Мир. 2012. № 11.
Толкователь спамов // Интерпоэзия. 2013. № 3.
Под небом из бесплатного вайфая // Дружба Народов. 2013. № 4.
Случайное возгорание // Интерпоэзия. 2014. № 2.
Горящий сахар // Новый Мир. 2014. № 5.
Из книги «Волхвы в планетарии» // Дружба Народов. 2014. № 7.
Геннадий Каневский или «Не называй свою смерть по имени…»
Точный, легкий, экономный – это я про Геннадия Каневского: попытки с налета определить его манеру удаются не очень, хотя все поэтические компании и контексты понятны с первого вздоха. Каневский – больше очевидной понимающему взору суммы источников и ориентиров – в этом все дело, его поэтика не сводится к известному и родственному, но сохраняет и накапливает родство с многими смыслами и приемами, издавна живущими вокруг русских стихов.
Что умеет Каневский? Держать тему, расщепленную на насколько вариаций, видеть партитуру целиком, переступая через барьеры отдельных партий. Вот достаточно простой случай:
с неба тревожный весенний свет под ногами вышивка крестик гладь может быть за каждым приходит смерть как из школы родители забирать стоит она на трамвайном кругу созывая ветер со всех сторон одноклассники машут и вслед бегут воробьи галдящие средь ворон бесполезно просить погулять еще лужи грипп мороженое все дела послезавтра устный потом зачет говорящий куст посреди стола кому наливают вино не мне под трамвайные звоны издалека о ком говорят во втором окне с занавеской оборванной с уголкаЗдесь сопряжены две темы, вполне совместимые, восходящие к исходной метафоре, построенной вокруг простого слова «забирать». Среди его значений есть и другие («забирать в армию», например), но и два совмещенных в партитуре Каневского достаточно очевидны: «забирать из школы» и «смерть забирает». Сам по себе прием не нов (первое, что приходит на ум: сочетание картин игры на рояле и кормления птиц в хрестоматийной «Импровизации» – Я клавишей стаю кормил с руки…). В чем приращение смысла по Каневскому? Найдем два отличия.
Во-первых, каждая из картинок не только поясняет другую, но и продолжает жить своей жизнью, развиваться и расти, как будто и нет базовой метафоры, накрепко сращивающей их воедино. Картинка, увиденная глазами школьника, ожидающего прихода родителей, минуя мотив учебы, наращивается обертонами, по всей вероятности, более поздними, уже студенческими («устный», «зачет»), а тема прихода смертного часа подзвучена аккордом из «Заблудившегося трамвая» («трамвайные звоны…»).
Во-вторых, в отличие от высоких образцов музыкально расщепленных на партии стихов-импровизаций («грохочущая слякоть» + «шумней чернил и слёз» = «писать о феврале навзрыд») у Каневского демонстративно отсутствует тема самого процесса написания стиха, творчества, преображения жизни в звук и т. д. Самоумаление последовательно: к нам обращается не творец, но рассказчик: иногда взволнованный и стремительный, но всегда подчеркивающий свою схожесть с любым человеком вокруг, твердо рассчитывающий силы и средства воздействия на читателя, экономно пользующийся арсеналом поэтических приемов – одним словом: точный, легкий, экономный, что и требовалось доказать.
Возьмем более сложный случай реализации летучей манеры стихописания Геннадия Каневского. Здесь уже не сад расходящихся тропок – расщепление темы на параллельно существующие партии, но коллизия между реальностью и ее описанием, которые не соседствуют, но борются друг с другом не на жизнь, а на посмертное существование:
я говорю метель а ты не веришь я напеваю снег а ты не слышишь ты знай себе скользишь по тротуарам на маленькой березовой дощечке всё валится всё под уклон слетает и тенькают серебряные пули она москва ее лепили бесы где шаг шагнет подземные провалы где матюкнется там холмы такие что по пути домой зайди на рынок купи грудинку и горох для кати я говорю а как горох о стенуКлассические аристотелевские принципы подражания действительности то ли трещат по всем швам, то ли получают новое подтверждение. Мимесис не только не преображает жизни, он не отменяет ее автономного существования, реальность продолжает существовать и после акта творения художника, причем это ее бытие не ведает случившегося с нею преображения. Но все же в присутствии описания объект описания не может быть равен самому себе, обретает дополнительное зеркало, для рассматривания и обдумывания себя. Не два параллельных пересказа, но пересказ и предмет пересказа живут в одну сторону от границ жизни и небытия. Вот почему так привлекательно в стихах Геннадия Каневского сосуществование многоразличного, несовместимого, наличие параллельных историй – от бытовых до философских. Конечно, поэт и сам все о себе прекрасно понимает, однако его «филологические» декларации отменяют сами себя уже в заглавии
я люблю филологическую поэзию я люблю филологическую критику я люблю филологов (даже спал с некоторыми) это не шутка способ их отношения к миру их абстрагирование от многих вещей кажущихся и мне неприятными некая их внеположность суете воспринимаются мною как род эскапизма а я не знаю ничего на свете прекраснее эскапизма нет я не филолог нет я вообще никто но я слушаю их беседы не понимая половины слов и только догадываясь об их значении по латинским корням … нефилологи несомненно со временем вымрут в ходе естественного отбора и я принимаю и приветствую это как сто лет назад некто приветствовал грядущих гуннов в заключение данного сообщения заявляю что пишу его в здравом уме твердой памяти находясь в москве на станции метро войковская в этом тексте нет иронии в этом тексте нет сарказма в этом тексте нет двойного дна это не трубка [декларация 0 (ceci n'est pas une pipe)]Понимающий поймет, что заглавие стихотворения отсылает к картине Магритта и к трактатам Фуко и Деррида, которые построены по риторической модели, отрицающей традиционную риторику рационального называния. Если Козьма Прутков призывает не верить видимой лжи (Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, – не верь глазам своим), то Магритт восстает уже против кажущейся очевидности: если под изображением трубки видишь подпись это не трубка – необходимо усомниться не в верности подписи, но в самой постановке вопроса о верности изображения натуре. Невозможно ведь подобрать правильное содержание к подобной подписи – если следовать традиционной рациональности – на этой картинке могло бы быть изображен любой предмет, не являющийся трубкой (от сигареты до преданной любви), вернее говоря – все сразу предметы и объекты бытия, в своей совокупности трубкой не являющиеся. Не верь мне, потому что я пишу о том (и, главное, – так), что отменяет сам вопрос о вере и доверии.
Пойдем дальше: не только первоначальная целостность жизни совершенно автономна, не поддается отражению, художественному истолкованию, но верно и обратное: мимесис также автономен и независим от своего предмета: единожды освоенная словом, реальность воплощается в слово и интерпретацию без остатка. Если отставить в сторону, вынести за скобки мотив художественного отражения, получится еще радикальнее: субъект, обретший предикат, отныне утрачивает независимость, сводится к этому предикату безо всякого остатка.
небо для летчиков, море для моряков. ходят кругами, прикармливают войну. а до земли, между прочим, недалеко: шаг в глубину. пой кирпичные своды, табачный дым. в образцах не смешивай глины слои. не давай на поругание свой хитин, строки свои. помни: ты жил полмиллиона лет, проживешь и еще, раковина, трилобит, их расхожая смерть не поет тебе и не болит. воздух – для ангелов, воду взял рыбнадзор – вон на моторке ночною летит совой. а позвонки земли, время и мезозой – для тебя одного.Нет более воздуха без ангелов, неба без летчиков, а моря без моряков. Потому-то и существуют параллельно столь противоположные по своей сути явления, как война и ангельская чистота. Мыслимое – есть, возможное – воплотимо, доступное зрению – видимо, это не только и не просто новый извод платоновского учения об эйдосах, прообразах предметов и явлений, но и стихотворения Геннадия Каневского – точные, легкие, экономные. доступные и близкие очень разным читателям, даже тем, кто не слышит встроенного в них философского подтекста.
Многознание не только не научает уму, как говорили древние, оно может вполне оставаться за кадром, не мешая восприятию стихов, в которых, как уже сказано, нередко представлен и результат написания, и – сам процесс. Само нанизывание слов о том, что происходит в мире, не застит мира, более того, побуждает в этот мир пристальнее всмотреться.
если долго сидеть на берегу реки, мимо тебя проплывут твои живые друзья, моисей в корзине, ржавые тростники, пятая батарея, тусклая бирюза. если долго стоять по пояс в воде – будут тебя искать, нету тебя нигде. проплывают звонки знакомым, проплывают их голоса: «видели отражение в зеркалах», «слышали, как взвизгнули тормоза». если медленно опуститься вниз, мимо тебя проплывет твоя тихая жизнь. только не закрывай глаза. только не закрывай глаза.В отличие от многих сверстников и поэтов более молодого поколения, Геннадий Каневский не только не абсолютизирует драматичную безысходность жизни, состоящей из коллективных родовых травм, неизжитых комплексов и синдромов, но – сохраняя трезвость взгляда и будучи навсегда привитым от ложного идиллического пафоса – всерьез рассуждает о вполне традиционных «логоцентричных» ценностях, не перечеркнутых новейшими разысканиями в области философии языка.
на сосновой даче игра в лапту сын наркома в белом стоит цвету хочет рыженькую вон ту теплоход плывет по стеклянной реке два гудка его два укола пирке малый шрам на ее руке машинист поет и уходит в рейс старший мастер звонко стучит о рельс послезавтра его арест человек идет вдоль проезжей любви на закат на левый берег невы он в тени своей головы у собаки боли у кошки боли у страны моей заживи ([пирке])Как видим, пристрастие и стремление к традиции живет у Каневского в форме заклинания, заговора, и это только на первый взгляд кажется странным. Ведь, коль скоро, реальность слова равновелика жизни, но как же иначе, если не в слове, можно надеяться эту жизнь в позитивном смысле слова – заклясть, то есть поддержать ее витальность, сохранить здоровье, утолить человеческие печали.
Библиография
Провинциальная латынь. Симферополь: Автограф, 2001. 53 с.
Мир по Брайлю. СПб.: Геликон Плюс, 2004. 76 с.
[Стихи] // Новый берег. 2005. № 9.
Случайная жизнь // Знамя. 2006. № 4.
Коллекция за стеклом // Октябрь. 2006. № 5.
Как если бы. СПб.: Геликон Плюс, 2006. 98 с.
Стихи // Волга – XXI век. 2007. № 7–8.
[Стихи] // Новый Берег. 2008. № 19.
Небо для летчиков. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2008. 56 с. (Библиотека журнала «Воздух»).
«если долго сидеть на берегу реки…» и др. стихи // Волга. 2009. № 1–2.
[Стихи] // Новый берег. 2009. № 24.
Replay // Новый берег. 2009. № 25.
[12 декабря] и др. // Волга. 2010. № 7–8.
[харьков] и др. // Волга. 2011. № 5–6.
Перед началом ночи // Новый берег. 2011. № 34.
Ручьи города Киева // Новый мир. 2012. № 5.
Странное и откровенное // Октябрь. 2012. № 10.
«[говорят июнь]» // Волга. 2012. № 11–12.
Синагога в бомбоубещиже, или Ответ на незаданный вопрос // Новый мир. 2012. № 11.
Стихотворения // Новый берег. 2012. № 38.
Поражение Марса. N. Y.: Ailuros, 2012. 80 с.
Простенок миров // Новый мир. 2013. № 6.
Подземный флот // Октябрь. 2013. № 10.
«Чтобы по-настоящему возвыситься, умали себя» // Урал. 2014. № 8.
Без зазрения слов… // Урал. 2014. № 8.
Стихотворения // Новый берег. 2014. № 43.
Подземный флот. N. Y.: Ailuros, 2014. 77 с.
Светлана Кекова или «Не пугайся чудес, ибо их невозможно исчислить…»
Стихи Светланы Кековой узнаваемы с полузвука – традиционная ритмика, точная рифма, непременное соотнесение дольнего с божественным. На протяжении лет останавливает внимательного читателя (меня, например) даже не появившаяся некоторая однозвучность интонаций, но нечто иное, гораздо более существенное и, по гамбургскому счету, выходящее далеко за пределы стихотворчества Кековой. Речь о совместимости религиозного откровения, вероучительной проповеди со смысловым диапазоном светской поэзии. То, что рождается во глубине пустынных душ людей уверовавших, вопреки сомнению, при переводе на язык, внятный другим, нередко обращается в тютчевский «наружный шум». Верность, «правильность» нетождественны вере и праведности:
Не нужно искать утешенья нигде – ни в беглой воде, ни в зеленой звезде, ни в звуках волшебного рога, а только у Господа Бога. В воде, как дитя, вырастает коралл, вздыхает в заветных глубинах: – Зачем Ты, о Боже, меня покарал, лишив меня крыл голубиных? – Не нужно себя разрешать от оков, как воду реки – от воды родников: попробуй достать из-под спуда простую надежду на чудо. – А голубь вздыхает, летя над водой: – Один я остался на свете, хотел бы питаться я пеной седой и плакать, как малые дети. – Не нужно тревожить заветных могил, покуда последний твой час не пробил, не плачь перед самою смертью, а веруй Его милосердью. – Зеленая гаснет на небе звезда, шепча: я под утро воскресну, – а ставшая бурным потоком вода не хочет заглядывать в бездну. – Ты тоже, любимый, туда не смотри, под утро соленые слезы утри – пусть голубь воркует приблудный и День приближается Судный…Стихотворение по-своему совершенное, но вполне сводимое по своей основной мысли к первым восьми строкам и, если задуматься, к первым четырем и даже к одной (самой первой) строке. Лирическое созерцание тесно переплетено с религиозным прозрением, но переплетение лишено драматизма, прекрасной сложности волевой победы либо чудесной ереси итоговой, прошедшей через испытания простоты. В пределе жесткости высказывания можно было бы сказать, что облечение религиозного поучения в стихотворную форму оказывается избыточным, внешним на фоне глубины и важности высказанных мыслей.
Что же – для поэзии непременно необходимы цветы зла, а незамутненное благочестие находится по отношению к искусству, по словам Тарковского, «в стороне от нас, от мира в стороне»? Похоже, что все-таки именно подобным образом складываются в новое время отношения поэтического голоса и пророческого логоса. Ведь и готовый к сожжению сердец божественным глаголом герой пушкинского стихотворения так ничего и не рассказал о сути своих будущих зажигательных речей, в этой пронзительной балладе мы находим слова о чудесной способности проповедовать, но никак не о самой проповеди. И способность эта обретена в драматическом столкновении с невыносимой болью расставания с привычными зрением, кровообращением и слухом. Природа поэзии, если и не требует впрямую извлечения дисгармонических нот из неотвратимой привлекательности зла, то, по крайней мере, фундаментального сомнения («дар напрасный, дар случайный…»), сквозь которое иногда, не для всех, при полном отсутствии гарантии происходит прорыв к подлинному, вечному и небесному. Причем здесь важен не результат, а процесс, не итоговая счастливая развязка, но поле битвы. Очень много у Светланы Кековой стихотворений, где серьезность и непредсказуемость борений:
Лицо пчелы – в нектаре и пыльце. Завершена цветущих лип проверка. И черный пудель лает на крыльце, пугая молодого Гейзенберга…смазывается неотвратимостью развязки:
…Арбузы серебрятся на бахче, смуглеет тыква, зерна копит дыня… Но знаю я – наступит время «Ч», и будет плакать на твоем плече невидимого тайная твердыня.То, что вседозволенность греха, господство зла – лишь видимость, снимаемая провидением и молитвой, для благочестивого человека, привычно (и всякий раз с новым смирением и усердием) произносящего первые слова Символа веры, – непреложная истина, для читателя стихов – вещь почти запретная. Нет всеобщего и неминуемого преобладания горнего над дольним, нет, попросту говоря, неизбежной смены нынешнего, земного времени, грядущим, вечным. Ведь даже сладость многократного перечитывания любимых книг частично основана на этом детском недоверии к гарантии заранее известного. А вдруг да не погибнет Ленский, не бросится в отчаянии к вокзалу Анна Аркадьевна Каренина. В стихах Кековой слишком часто развязка наступает в самом начале, стартовая формула перечеркивает (либо, по крайней мере, лишает аутентичности) все происходящее следом. Кекова осознанно сужает пространство поэтического высказывания, исключает для себя целую вереницу испытанных приемов и легких путей: политическую актуальность, злободневность тем, нестандартную во всех смыслах метрику и лексику, иронию – список легко продолжить. И в тех случаях, когда удается избежать заданной неизбежности благочестивых развязок, создания Кековой обретают стилистическое равновесие и композиционную завершенность (примером может служить стихотворение-перифраз мандельштамовского «Ламарка»).
Открытость и непредсказуемость финалов не только не ставит под сомнение полноту и непреложность присутствующих в стихах высоких смыслов, но, наоборот, придает этим смыслам дополнительную весомость, вводит их на территорию искусства и избавляет от гладкой риторичности. Иногда в результате появляются подлинные шедевры:
Пространство выгнуто, как парус, – везде закон его таков, и составляют верхний ярус большие лица мотыльков. Покуда мы еще над бездной по пленке тоненькой скользим, своей печалью безвозмездной мы Божий мир не исказим. Жизнь, как вопрос неразрешенный, мы оставляем на потом, и дятел, разума лишенный, и рыба вод с открытым ртом похожи на ключи, из скважин торчащие, – и видно им, как человек обезображен и сыт неведеньем своим.Библиография
Восточный калейдоскоп: Стихотворения 1980–1990-х годов. Саратов: Колледж, 2001. 74 с.
На семи холмах. СПб: Пушкинский фонд, 2001. 73 с.
На семи холмах // Новый мир. 2001. № 3.
Цветня Триодь // Знамя. 2001. № 4.
По новым чертежам // Знамя. 2001. № 11.
«Звезды русской провинции»: Стихи участников II Московского международного фестиваля поэтов // Уральская новь. 2001. № 11.
Стихи // Звезда. 2002. № 1.
Тень тоски и торжества // Новый мир. 2002. № 4.
Сад неприкаянный // Знамя. 2002. № 5.
Стихи // Звезда. 2003. № 1.
Созвездие спящих детей // Знамя. 2003. № 7.
Пленение инеем // Новый мир. 2003. № 7.
Тени летящих птиц // Знамя. 2004. № 8.
Больное золото // Знамя. 2005. № 10.
Неземной конвой // Новый мир. 2005. № 11.
У подножия Желтой горы. СПб.: Петербургский писатель, 2006.
Плач о Древе жизни. Саратов: Изд-во Саратовского гос. соц. – экон. ун-та, 2006.
Учитель словесности // Новый мир. 2006. № 7.
На пути в Эммаус. Алма-Ата, 2007.
Сквозняк иного мира // Новый мир. 2007. № 5.
«Ходит ангел под липами в Липецке…» // Сибирские огни. 2007. № 9.
Тоннельный эффект // Зарубежные записки. 2007. № 12.
Потаенный хор. Тамбов, 2008.
Шелкопряды языка // Новый мир. 2008. № 4.
Стихи // Нева, 2008, № 8.
Не наяву и не во сне // Сибирские огни. 2008. № 12.
Стихи о людях и ангелах. Саратов, 2009.
Ангелы этого мира // Новый мир. 2009. № 6.
Последний свидетель // Сибирские огни. 2009. № 12.
Надежда на прощение // Новый мир. 2010. № 8.
По замыслу Ганса-датчанина // Сибирские огни. 2010. № 8.
Плащ с двойной подкладкой (из старых тетрадей) // Дружба народов. 2011. № 4.
Стихи // Звезда. 2011. № 5.
Бахыт Кенжеев или «Бесцельных совпадений нет…»
Как сказано в одной из притч Кафки, «бодрствовать кто-то должен», – в последние без малого полвека роль ночного толкователя дневных событий безоговорочно принадлежит Кенжееву. Бахыт Кенжеев не дремлет, его поэтическая работа беспрецедентна по размаху, масштабам и степени признанности. Конечно, он находился бы на посту и в отсутствие какого бы то ни было вдохновляющего отклика, не случайно же в стихах Кенжеева так много упоминаний о самом процессе писания – преимущественно ночного.
Попробуй бодрствовать, тревожась от души. Поставь ромашки – не в бутылку, в вазу, – включи кофейник, хлеба накроши ночному ангелу, чтоб улетел не сразу…Нет, речь вовсе не идет о новых «Ночных бдениях» Бонавентуры, перед нами не целенаправленные схоластические усилия, Кенжеев импровизирует, легко переходит от одного предмета к другому, не связывая себя границами элегического канона русской «ночной» лирики. В самом деле, и у Ломоносова с Пушкиным, и у Шевырева с Тютчевым смысловой ореол ночного раздумья сопряжен с обостренным вниманием к краеугольным проблемам бытия. «Открылась бездна звезд полна…» у Ломоносова, «Когда для смертного угаснет шумный день…» Пушкина, тютчевское «Святая ночь на небосклон взошла», да и стихи Заболоцкого («Когда вдали угаснет свет дневной…») – все это примеры ночного обострения чувств, перемещения в область предельных по остроте ощущений и вопросов. У Кенжеева – иное: бытие сводится к быту, и это неспроста. Привычка к ночной работе – след времени шестидесятых-семидесятых, когда в сознании многих и многих (впоследствии эмигрировавших и «вернувшихся в Россию стихами») день и ночь, как сон и явь, как труд и отдых, навсегда поменялись местами. Гребенщиков позже споет: «Я где-то слыхал о людях, что спят по ночам». Неспящие – из поколения Бахыта Кенжеева:
…я человек ночной и слухом не обделен. Когда зима охватывает санным звуком оцепенелые дома предместий правильных, когда я, в клубок свернувшись, вижу сон о том, что жизнь немолодая крутится страшным колесом, – все хорошо, у колеса есть и ось, и обод. В этот час я нехотя соприкасаюсь со светом, мучающим нас, и принимаюсь за работу, перегорая ли, дрожа, пытаясь в мир добавить что-то, как соль на кончике ножа…Необыкновенно важна итоговая совмещенность ночных размышлений с подробностями повседневного существования, отсюда «соль на кончике ножа» – развоплощенная метафора «соли» как центральной мысли, сути. У Кенжеева аттическая соль превращается в натрий-хлор – нехитрую приправу к (наверняка) очень простому блюду, обычно сопутствующему напитку, от которого остаются бутылки – возможное прибежище для столь же незатейливых цветов (ромашек), упомянутых в предыдущем процитированном стихотворении. Конечно, не стоит упрощать: человек, не спящий ночью, не только поглощает простую снедь, он понимает, что его задача в другом, уверенно утверждает, что Блажен дождавшийся прозрения к утру.
Но в том-то и штука, что в стихах Кенжеева нередко описывается не праздник, но ожидание праздника, «прозрения» чем случайней, тем вернее ложатся в цель где-то за пределами стихотворения, где, конечно, есть и высокие раздумья, и непреодолимые страсти, и боренья. Но как театр начинается с вешалки, так стихотворение Кенжеева начинается (и заканчивается!) на пороге сильного ощущения и рискованного жеста на краю смертной бездны. Читатель вслед за призывом стихотворца бросает быстрый взгляд «туда, туда» – за пределы текста и тут вдруг понимает, что вокруг по-прежнему мирный ночной интерьер с натюрмортом из нехитрых гастрономических импровизаций на столе.
Зачем меня время берет на испуг? Я отроду не был героем. Почистим картошку, селедку и лук, окольную водку откроем и облаку скажем: прости дурака. Пора обучаться, не мучась, паучьей науке смотреть свысока на эту летучую участь. Ведь есть искупленье, в конце-то концов, и прятаться незачем, право, от щебета тощих апрельских скворцов, от полубессмертной, лукавой и явно предательской голубизны, сулившей такие знаменья, такие невосстановимые сны, такое хмельное забвенье! Но все это было Бог знает когда, еще нераздельными были небесная твердь и земная вода, еще мы свободу любили, – и так доверяли своим временам, еще не имея понятья о том, что судьба, отведенная нам, – заклание, а не заклятье…«Паучья наука смотреть свысока» на превратности человеческой жизни, вопреки декларациям, для Бахыта Кенжеева остается чистой теорией, и, вероятно, этому стоит порадоваться, поприветствовать звоном щита одного из очень немногих остающихся в строю (простите за формулу) «чистых лириков», избежавших всех пронесшихся над русской поэзией бурь деперсонализации, концептуализации и «постконцептуалистских» возвратов к исконной точке смысловых революций, когда снова оказалось, что «жизнь и поэзия – одно». Насколько (как уже сказано) внимателен Кенжеев к моментам творчества, прорастания стихов из бытового сора, настолько он глух ко всем авангардным сомнениям в дальнейшем существовании традиционного стиха в его исконных ритмических и тематических координатах. У Кенжеева как будто бы нет собственной поэтики, он словно не замечает слов, говорит через их голову о вещах и сущностях жизни. Все начиналось еще в шестидесятые с очередного в истории русской поэзии требования «прекрасной ясности», прямо сказать, с Александра Сопровского, серьезный разговор о котором до сих пор не состоялся, – впрочем, это совсем другая история. Получилось так, что многие поэты того же круга далеко отошли от тогдашних стремлений, кое-кому кажется, что одинокий Бахыт Кенжеев точно идет не в ногу, не замечая социальных заказов и актуальных стилистических сбоев.
Наиболее просвещенные из коллег уверяют, что я повторяюсь, что я постарел, но не вырос. Влажный вечерний снег бьет в глаза, и перчатки куда-то пропали. Стоит ли мельтешить, оправдываться на бегу, преувеличивая свои достоинства во сто раз – если что и скажу, то невольно, увы, солгу – без дурного умысла, без корысти, просто по привычке. От правды в холодный пот может бросить любого, затем-то поэт, болезный, и настраивает свой фальцет-эхолот, проверяя рельеф равнодушной бездны…Ни слова в непростоте, никакого желания произвести впечатление – ну кому это понравится?! Стоять на торной дороге традиции и минимализма приемов – это теперь уже воспринимается как вызов, почище самого крутого авангарда. Конечно, случается однообразие – гладкий стих у Кенжеева иной раз норовит переродиться в мастеровитую гладкопись. Самые большие его удачи – емкие стихотворные афоризмы (вот, например: «бесцельных совпадений нет») – нередко повисают в воздухе, не поддерживаются органикой вызревания и развития счастливо найденной мысли. Особенно это заметно в финалах, которые в десятках случаев ждешь намного раньше, чем они наступают. Хотя лаконичности в стихах Бахыта Кенжеева последних лет явно прибавилось, поэт понимает: «Остается все меньше времени, меньше вре…». Эпоха твиттерных новостей не допускает не только многословия, но и простой неторопливости, однако немногим избранным общий закон не писан, именно поэтому Кенжеев неминуемо продолжает нести свою ночную вахту:
Если и вправду молчание – свет, если смирение – тьма, то и в гордыне особого нет смысла, ты знаешь сама. ‹…› Рюмка щербатая невелика, голос свободен и тих. И представляется – ах, как легка жизнь, словно пушкинский стих. Что ж, протяни-ка мне руку, сестра – лучше уж так, чем никак, чем засыпать, проплутав до утра в собственных черновиках.И еще одного важного поветрия (так и хочется сказать «тренда», да грехи не пускают!) сумел избежать Кенжеев – тотальной для поэзии восьмидесятых и девяностых годов иронии. Только, бывало, поймает интонацию стеба:
Вот гуляю один в чистом поле я и настраивает свой фальцет-эхолот, с целью сердце глаголами жечь, и тут же возвращается на свой кремнистый путь: и гнездится в груди меланхолия, и настраивает свой фальцет-эхолот, а по-нашему – черная желчь.Так и идет у Бахыта Кенжеева дело – от книги к книге, без перепадов интонаций и тембров. Что ж, нескучно на этом свете, господа!
Библиография
Из стихотворений Ремонта Приборова // Старое литературное обозрение. 2001. № 2 (278).
В чешуйках кремния // Знамя. 2001. № 8.
На букву «ы» // Октябрь. 2002. № 3.
Ихтия // Знамя. 2002. № 5.
Лазурная полынья // Новый мир. 2002. № 5.
Голоса // Арион. 2003. № 2.
Ангел от Иоанна // Знамя. 2003. № 2.
Цикада в горсти // Новый мир. 2003. № 6.
Невидимые. М.: ОГИ, 2004. 208 с.
Три стихотворения // Интерпоэзия. 2004. № 1.
Голоса // Арион. 2004. № 2.
Новые стихи // Октябрь. 2004. № 3.
Гроза над Средней Азией // Знамя. 2004. № 4.
Возбудитель праха // Новый мир. 2004. № 8.
Книга стихотворений. Алматы: Искандер, 2005. 60 с.
Так и бродим родимым краем… // Зарубежные записки. 2005. № 1.
Звук похищенный // Октябрь. 2005. № 4.
Пустынные времена // Новый мир. 2005. № 6.
Глоток кагора в холодном храме // Знамя. 2005. № 8.
Вдали мерцает город Галич. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2006. 56 с.
Стихи мальчика Теодора (Из книги «Вдали мерцает город Галич») // Новый берег. 2006. № 11.
Памирские воды // Знамя. 2007. № 1.
Детский метроном // Новый мир. 2007. № 5.
Выбросить зеркало // Знамя. 2007. № 10.
Четыре стихотворения // Сибирские огни. 2007. № 10.
Стихи // Новый журнал. № 246.
Крепостной остывающих мест: Стихотворения 2006–2008 гг. Владивосток: Альманах «Рубеж», 2008. 80 с. («Линия прибоя»).
Пообещай мне страшный рай… // Знамя. 2008. № 8.
Давай молчать // Новый мир. 2008. № 10.
Дорога в тысячу верст // Сибирские огни. 2008. № 10.
Лишь запах полыни лечит… // Октябрь. 2009. № 5.
Теплее всех времен // Новый мир. 2009. № 6.
Верхний свет // Знамя. 2010. № 1.
Поделочные камни // Новый мир. 2010. № 3.
Колхида // Знамя. 2010. № 9.
Невидимые журавли // Сибирские огни. 2010. № 9.
Посвящение мальчику Теодору // Дружба народов. 2011. № 1.
Варить стекло // Знамя. 2011. № 3.
Не спи, не спи // Новый мир. 2011. № 3.
Крепостной остывающих мест. М.: Время, 2011. 128 с.
Послания. М.: Время, 2011. 640 с.
Глиняные плиты // Знамя. 2012. № 1.
Еще поживем // Новый мир. 2012. № 1.
Три стихотворения // Октябрь. 2012. № 2.
Сообщение. М.: Эксмо, 2012.
Странствия и 87 стихотворений. К.: Laurus, 2013. 176 с.
Ремонт Приборов. Гражданская лирика и другие сочинения. 1969–2013. М.: ОГИ, 2014.
Тимур Кибиров или «Нет – увы – никакой я не зайка уже…»
Трудно быть поэтическим кибер-богом! Трудно уметь раз за разом безошибочно попадать в узкий створ ожидаемого восторга современников из последнего советского поколения, на чью нераннюю молодость аккуратно пришлись большие надежды перестроечных лет. Тимур Кибиров все это делает совершенно естественно и изящно, поскольку в его лирике рубежа восьмидесятых-девяностых нет ни одного примысленного, пришедшего со стороны слова. Один ныне известный историк литературы именно так и написал: мол, мы с друзьями двадцать лет назад вдруг поняли – вот поэт нашего поколения! И пошло-поехало – вал рецензий и даже диссертаций, содержание которых сегодня уже довольно просто суммировать. Итак, Кибиров на пике известности и популярности пленил сердца внимательных читателей благодаря парадоксальному раздвоению собственного поэтического образа. С одной стороны, тотальная ирония, концептуалистская отстраненность, веселый демонтаж всех и всяческих масок и канонов. С другой, наоборот, – абсолютная слитность с героем, уход от пересмешничества, романтическая ранимость, даже своеобразный нравственный ригоризм.
На рубеже столетий фоновая смысловая картинка сменилась, книги Тимура Кибирова открыли совсем другие читатели – они, конечно, по-прежнему, «ловят» слова-сигналы из сравнительно недавнего прошлого, некоторые даже без дополнительных пояснений различают в тексте многочисленные цитаты из русской (и не только) классики, слагающие фирменные кибировские центоны; цитаты эти отсылают сразу к нескольким параллельным контекстам, опытам восприятия текстов. Однако эти смыслы для многих и многих нынешних книгочеев – заимствованы из другой эпохи, отчуждены, нередко кажутся искусственными и «головными». Что ж, такие резкие переключения культурного кода случались и прежде, причем для их возникновения даже не требовались революционные преобразования. Стоило солнцу русской поэзии признаться, что, мол, лета к суровой прозе клонят, – сумасшедшая популярность насквозь вторичного Бенедиктова – тут как тут!
Однако вернемся к Кибирову конца девяностых – двухтысячных. Тут впору сакраментальное восклицание «вы, нынешние – нутка!» обратить не к публике, но к самому поэту. Практически точно «на рубеже столетий» в значительной степени в ответ на вызовы времени поэтика Тимура Кибирова существенным образом двоится.
Ирония и самоирония остаются в силе, выходит очень много новых книг, постоянно ожидаемых, заранее любимых, предсказуемо успешных. Однако в скоморошьих ужимках и прыжках все более проглядывает уже не страх поражения и слабости, но поражение и слабость. Слишком полное отождествление с героем логично приводит к старению – вполне житейскому, неотвратимому. Твердили же на протяжении веков поэты, подключенные к горацианской традиции, о том, что «часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить». Так вот, доля этой живой «части» в восприятии мира в случае Кибирова неуклонно уменьшалась, – и тут не могли помочь никакие испытанные приемы: ироническая бравада, изысканные сарказмы не застили суровой правды вещей:
В одно ухо мне Эрос орет, а в другое – Танатос. Голова моя кругом идет. Черт, наверное, все разберет. Все разложит пронырливый Freud!.. Да и так все понятно! В общем-целом понятно уже – так мне было и надо! Не хрен было канючить вотще, не хрен было прельщаться вобще! Не хрен было развешивать уши! А теперь вот, как миленький, слушай оглушающий этот дуэт, какофонию эту! И сходи осторожно на нет по крутому по склону лет. И – как положено поэту – бреди на слух. И в набегающую Лету – бух!Апогеем полного слияния рассказчика и персонажа выглядит сборник «Amour, exil…» (2000) – здесь (понимающий – поймет!) контуры личного невыдуманного поражения видны особенно ясно.
Но есть и другой Кибиров, менее предсказуемый и привычный, не столько ниспровергающий кумиров, сколько отстраняющийся как от прямой иронии, так и от обычных центонных уходов в чужие контексты и смыслы. Особенно ясно этот перелом, придающий голосу поэта новый объем и дополнительные низкие обертоны, заметен в сборнике с симптоматичным названием «Юбилей лирического героя». Увидевший свет ровно в том же году, что и «Отвергнутый Амур», сборник содержит вещи, адресованные тому же лицу и по тому же поводу фатально несчастной страсти, но написанные совершенно иначе:
Рим совпал с представленьем о Риме, что нечасто бывает со мной. Даже ярче чуть-чуть и ранимей по сравненью с моею тоской. Поэтический прах попирая средиземного града сего, не могу описать, дорогая, мне не хочется врать про него. Тыщи лет он уже обходился без меня, обойдется и впредь. Я почти говорить разучился, Научился любить и глазеть. В полудетском и хрупком величьи Рим позирует мне, но прости – он не литературоцентричен. Как и вся эта жизнь. Как и ты.Конечно, и здесь есть демонстративно архаизированные либо столь же явно приближенные к разговорной речи слова, сигнализирующие об ироническом «самобичевании» вполне биографически конкретного человека: «прах попирая», «града сего», а с другой стороны – «тыщи лет», «глазеть» и т. д. Сей добровольный изгнанник – в отсутствие знаков внимания со стороны Прекрасной Дамы – отправился в страну, которой посвящены ее литературоведческие штудии (поистине Wer den Dichter will verstehen muss ins Dichters Lande gehen). Однако иронические пассажи в этом тексте выглядят лишь фрагментарными вкраплениями, порою, надо сказать, инородными, смазывающими возникшую было вполне классическую архитектонику стихотворения, в центре которого находится теперь уже вовсе не ироник, говорящий прямо от лица рассказчика, но сложный и непрозрачный силуэт привычного «лирического героя». Самоотрицание концептуалистского канона в этом стихотворении заметно невооруженным глазом. Еще один шаг – и возвращение к доконцептуалистской условности было бы совершенно полным и… пошлым. Так бы случилось, например, если бы последняя строфа выглядела так: В полудетском и хрупком величьи Рим позирует мне поутру, Когда (pardonnez moi!) крылья легчайшие птичьи Шелестят, как листы на ветру.
Если вдуматься, перед нами, вероятно, не простое раздвоение поэтики, как это было сформулировано выше, это две параллельные друг другу и весьма различные реакции поэта на два параллельно идущих процесса: обретение персональной зрелости, желающей не впасть в банальную старость и немощь, и уход «иронической эпохи» конца восьмидесятых – девяностых, когда правда поэтов-правдорубов еще казалась свежей и непознанной.
Особо следует сказать о резко изменившемся жизненном контексте стихов, который с некоторым напряжением принимает прежнюю иронию, а то и вовсе отторгает ее.
…Свобода приходит никакая не нагая – в дешевых шмотках с оптового рынка, с косметикою блядскою на лике и с песней группы «Стрелки» на устах. Иная, лучшая – не в этой жизни, парень. И все-таки – свобода есть свобода, как Всеволод Некрасов написал.Разочарование в некогда заветной и обетованной «свободе» растет, убеждение в том, что к ней должно прилагаться еще что-то, ранее казавшееся обычным и необязательным, крепнет и воплощается в сентенциях почти публицистических, не по-кибировски одномерных, лишенных иронического карнавала. Этот процесс берет свое начало у самого перелома времен, например, в стихотворении конца 90-х читаем:
Даешь деконструкцию! Дали А дальше-то что? – А ничто. Над кучей ненужных деталей сидим в мирозданье пустом. Постылые эти бирюльки то так мы разложим, то сяк, и эхом неясным и гулким кромешный ответствует мрак. ……………………………………. И, видимо, мира основы держались еще кое-как на честном бессмысленном слове и на простодушных соплях.Движение (возвращение?) к традиционному, отделенному от биографического лица герою стихов прослеживается у Кибирова последних лет весьма отчетливо. Штука в том, что такой герой не стареет, не терпит поражений, обусловленных прямыми жизненными неудачами, наоборот – неудачи зачастую идут на пользу творчеству, из боли ведь могут извлекаться самые высокие ноты, как это многажды было в прошлом. Конечно, Тимур Кибиров остается самим собою, в его блестящем сборнике «Кара-барас», например, есть привычно искрометные «иронические» куски:
Идеал Убежал… (Нет, лучше эквиритмически) – Идеалы Убежали, Смысл исчезнул бытия, И подружка, Как лягушка, Ускакала от меня. ‹…› Мертвых воскресенья чаю, К Честертону подбегаю, Но пузатый от меня Убежал, как от огня. Боже, боже, Что случилось? Отчего же Всё кругом Завертелось, Закружилось И помчалось колесом?Однако ощутимо в сегодняшних текстах Кибирова и совершенно другое дыхание, как, скажем, в стихотворении «Вместо эпиграфа» (приписанном набоковскому Джону Шейду).
Когда, открыв глаза, ты сразу их зажмуришь от блеска зелени в распахнутом окне, от пенья этих птиц, от этого июля, – не стыдно ли тебе? Не страшно ли тебе? Когда сквозь синих туч на воды упадает косой последний луч в осенней тишине, и льется по волне, и долго остывает, – не страшно ли тебе? Не стыдно ли тебе? Когда летящий снег из мрака возникает в лучах случайных фар, скользнувших по стене, и пропадает вновь, и вновь бесшумно тает на девичьей щеке, – не страшно ли тебе? Не страшно ли тебе, не стыдно ль – по асфальту когда вода течет, чернеет по весне, и в лужах облака, и солнце лижет парту четвертой четверти, – не стыдно ли тебе? Я не могу сказать, о чем я, я не знаю… Так просто, ерунда. Все глупости одне… Такая красота, и тишина такая… Не страшно ли, скажи? Не стыдно ли тебе?Здесь, уже почти совсем нет знаков, напоминающих о былом ёрничестве. Разве что слово одне?
Библиография
Юбилей лирического героя. М.: Клуб «Проект ОГИ», 2000. 48 с.
Amour, exil… СПб.: Пушкинский фонд, 2000. 64 с.
Нищая нежность // Знамя. 2000. № 10.
«Кто куда, а я – в Россию…» М.: Время, 2001. 512 с.
Шалтай-Болтай. СПб.: Пушкинский фонд, 2002. 56 c.
По первой, не чокаясь… // Знамя. 2002. № 1.
Стихи // Вестник Европы. 2002. № 6.
Пироскаф // Знамя. 2002. № 6.
Стихи. М.: Время, 2005. 856 с. (Поэтическая библиотека).
Новые стихи // Знамя. 2005. № 11.
Кара-Барас. М.: Время, 2006. 64 с. (Поэтическая библиотека).
Кара-Барас! Опыт интерпретации классического текста // Новый мир. 2006. № 4.
ПОЭЗИЯ // День и Ночь. 2006. № 11–12.
На полях «A Shropshire lad». М.: Время, 2007. 192 с. (Поэтическая библиотека).
Зарисовка с натуры // Знамя. 2007. № 6.
Три поэмы: 2006–2007. М.: Время, 2008. 128 с. (Поэтическая библиотека).
Две поэмы // Знамя. 2008. № 1.
Стихи о любви / Предисл. А. Немзера. М.: Время, 2009. 896 с. (Поэтическая библиотека).
Греко– и римско-кафолические песенки и потешки // Знамя. 2009. № 1.
Греко– и римско-кафолические песенки и потешки. М.: Время, 2009. 80 с. (Поэтическая библиотека).
Муздрамтеатр. М.: Время, 2014. 80 с. (Поэтическая библиотека).
См. выше. М.: Время, 2014. 80 с. (Поэтическая библиотека).
Кирилл Ковальджи или «Наступила пора невозможности слов…»
Стихи Кирилла Ковальджи привычно и регулярно появляются в печати вот уже без малого семь десятилетий. Что происходит с манерой поэта на столь стайерских дистанциях, да еще с учетом бурных событий, не раз происходивших вокруг Ковальджи как в той стране, где он родился и вырос, так и в нынешней? Сам поэт задается подобными вопросами постоянно; пожалуй, с наибольшей отчетливостью он сформулировал код собственного взросления-молодения в словосочетании Обратный отсчет, которое не только вынесено в заглавие стихотворения-манифеста, но и дало название одной из итоговых книг Кирилла Ковальджи, включающей новые стихи, мемуарные записи, полемические выступления и рецензии.
– Моя жизнь началась со смерти и старости. Была мировая война. С первых лет я смотрел на мир глазами маленького старичка, познавшего светопреставление. Потом на долгие десятилетия я, как губка, был погружен в застойное время. Но все-таки война осталась позади, и я освобождаюсь от смерти и старости. Наконец я решительно помолодел – пришла свобода, простор для мыслей и чувств. Но, вот незадача, обратный отсчет завершается: приближается ноль. Не дадут мне спокойно поиграть в кубики… («Обратный отсчет»)Поэт Ковальджи вообще довольно-таки своеобразно обращается со временем, раз за разом переступает его физические характеристики, причем не просто заставляет течь вспять, от старости к юности, но – и это самое главное – вообще выходит за рамки физики, придает времени весомое антропологическое, персональное измерение. Персонифицированный взгляд на время рождается не сам по себе, но в результате осознанной работы – одновременно дерзкой и смиренной.
Я отцовскую чайную ложечку серебряную давно засунул в ящик и не пользуюсь ею. Чем-то мне неприятны вещи, спокойно пренебрегающие временем, запросто переступающие через своих владельцев…Речь идет, как видим, не о простой инверсии времени, но о настойчивых попытках покинуть его неизменный водоворот, удалиться прочь от глагола времен, в мир звуков и голосов более камерных, отсылающих к движениям души скорее, нежели к огромным неуклюжим поворотам руля. Но вот парадокс: камерность добывается в результате поистине титанических усилий, результат борений со временем – скромен, зато таит в себе многие неведомые миру битвы.
я хочу отстать от жизни от сегодняшнего дня (как сосновый бор от поезда как от лайнера звезда)Необходимость отстать от неумолимого хода часов диктуется не только и не столько опытом, но и самой природой окружающей нас эпохи, оставляющей человеку ничтожно мало времени для поддержания отношений не только с другими людьми, но и с самим собой. Отсюда рождается непреложная логическая связь: выпасть из течения времени означает обрести себя и перейти от жизни компьютерной марионетки к подлинному существованию.
отключить телефон не включать телевизор не раскрывать газет не распечатывать писем не залезать в интернет в зеркало заглянуть – познакомиться…В чаемом персональном существовании, конечно, присутствуют и роковые вопросы времени, однако мудрость человека, пережившего многое и многое, некогда казавшееся важным, а ныне напрочь позабытое, – позволяет разбавить любой пафос необходимой толикой иронии.
У России свой путь. Роковые вопросы возвращают на круги своя… На границе вагоны меняют колеса – у России не та колея.У позднего Кирилла Ковальджи словно бы обостряется зрение, большое видится даже в отсутствие положенного расстояния, а главное – сокращается необходимый для связного высказывания объем слов и знаков препинания:
– кончилась эпоха великих географических открытий нет белых пятен и в литературе одни туристы, а старый Колумб работает гидом… – но я-то еще не открыт!Отточенный лаконизм приводит поэта к ярко выраженной афористичности, ее доля в стихах Ковальджи отчетливо растет, лента клонят не только к краткости, но и к суровой прозе верлибра:
Пьяный проснулся в вагоне метро: – Какая это улица? …а когда восстанут из гроба, тоже начнут озираться?Склонность к емкой краткости нередко обращается к своему пределу – форме моностиха, дающего мгновенный снимок жизни, порою – уже вовсе не в персональном, но социальном измерении:
Гласность, вопиющая в пустыне…Применительно к постоянно присутствующей в стихах Ковальджи любовной теме можно сказать, что здесь афористическая краткость нередко оборачивается восточной притчевостью, набором рецептов поведения в типовых ситуациях:
Я люблю эту девочку, эту девушку, я замираю, когда ее вижу, но мне семь лет, мне нельзя. Я люблю эту девушку, эту женщину, я замираю, когда ее вижу, но это ее портрет, она умерла давно, мне нельзя. Я люблю эту девушку, эту женщину, я замираю, когда ее вижу, но мне семьдесят семь, мне нельзя. Я люблю эту девушку, эту красавицу, я замираю, когда ее слышу, но я уже умер давно, мне нельзя.Ни малейшей сентиментальности, сусальности, идилличности нет в стихах Ковальджи, когда речь всерьез заходит о поэзии. Здесь присутствие гамбургского счета корректирует обратный отсчет старческого помолодения, никакие компромиссы невозможны:
Поэты, поэтессы – Гламур, деликатесы… Фуфло и ширпотреб… Большая редкость – хлеб. («Обзор современной поэзии»)Дело даже не в оскудении поэзии, но в исчерпании потребности в ней, это особенно невыносимо в нынешнем мире:
погибали поэты, вымирают теперь читателиИ тут уже – в сторону все иронические попытки остаться вне логики развития жизни, выскочить из потока времени. Невозможность поэтического слова все более вступает в права не по причине личного творческого бессилия, но по совокупности причин и обстоятельств. Современное Ватерлоо поэтического слова переживается не в трагических интонациях классических рассуждений о приходе железного века и уходе последнего. Дело, как говаривал один поэт, в мировом законе, который невозможно одолеть, но которому и покориться нельзя, недопустимо, греховно. Итак, до последнего слова хранить очаг поэзии, воевать за нее не на ристалищах модернизаций и экспериментов, но на территории своего, конкретного и персонального усилия. Так считал и продолжает считать поэт Кирилл Ковальджи.
Наступила пора невозможности слов, обустроившихся в словаре. Воздух ртом от удара ветров я хватаю теперь на холодной заре. Как подумаешь – мог я быть скрипачом, мог, да вот – помешала война. Я отдался словам – а они ни при чем там, где в силе смычок и струна! Ты бы понял, она бы меня поняла, может быть, и себя б я постиг… А словами нельзя – такие дела. А молчанье без слов – это крик!Библиография
голоса // Арион. 2002. № 1.
Смена светотени // Новый мир. 2003. № 9.
Тебе. До востребования. М.: Когелет, 2003. 255 с.
На близком Востоке // Континент. 2004. № 122.
голоса //Арион. 2005. № 1.
Окончательный вариант // Новый мир. 2005. № 8.
Зёрна. М.: Авваллон, 2005.
Поэзия // День и ночь. 2006. № 1–2.
Пять стихотворений // Зарубежные записки. 2006. № 6.
Пока люблю, вся мудрость в настоящем… // Дружба народов. 2006. № 9.
Из чрева дней // Дети Ра. 2006. № 12.
Новые «Зерна» и другие стихи // Интерпоэзия. 2007. № 1.
Избранная лирика. М.: Время, 2007. 496 с., ил. (Поэтическая библиотека).
[Стихотворение] // Арион. 2008. № 1.
Капли на донышке // Новый мир. 2009. № 1.
Из дневника моего приятеля // Дети Ра. 2009. № 12 (62).
[Стихотворение] // Арион. 2010. № 1.
Палитра // Дружба народов. 2010. № 3.
Из стихотворений пятидесятых годов прошлого века // Дети Ра. 2010. № 4 (66).
Пора невозможности слов // Новый мир. 2010. № 8.
Два сонета // Дети Ра. 2010. № 11 (73).
В сердцевине // День и ночь. 2011. № 6.
Стихотворения // Новый берег. 2011. № 31.
листки // Арион. 2012. № 3.
Дополнительный взнос. М.: Вест-Консалтинг, 2012.
Как я жил? // Дети Ра. 2013. № 3 (101).
Из новых стихотворений // Дети Ра. 2013. № 6 (104).
Как впервые // Зинзивер. 2013. № 6 (50).
Стихи в темноте // Новый мир. 2013. № 7.
Стихи из студенческих тетрадей // Дети Ра. 2013. № 10 (108).
Моя мозаика, или По следам кентавра. М.: Союз писателей Москвы, 2013. 474 с.
[Стихи] // Крещатик. 2014. № 1 (63).
Посреди океана // Дети Ра. 2014. № 2 (112).
Сонеты. М.: Союз писателей Москвы, 2014. 42 с. (Библиотечка поэзии Союза писателей Москвы).
Леонид Костюков или «…никогда не спрашивай меня о моей работе…»
Поэзия Костюкова не особенно видна и заметна вовсе не потому, что он пишет (во всяком случае – публикует) рифмованные тексты довольно редко – нам случалось уже рассуждать о поэтах, которые немногословны, но многозначительны (Гронас, Тонконогов, Дашевский…). Здесь случай иной – один из примеров запоздалого, почти демонстративного «непрофессионализма», высокого «любительства». Не только стихи, но и прозу Костюков многие годы пишет и печатает исподволь, мимоходом, как бывало в те времена, когда публиковаться чаще напрасно было и надеяться. Позиция Костюкова-поэта неотделима от его «творческого поведения» как ценителя литературы, тонкого эссеиста. Он не только разбирается в литературе, но и может научить этому других, а главное, ее попросту, прошу прощения, любит. «Профессионалу» в этом порою признаваться неловко, как мастеру-кондитеру – в пристрастии к сладкому. Костюков-профессионал роняет свои признания как бы неохотно, но уверенно:
никогда не спрашивай меня о моей работе никогда не спрашивай меня о моей работе хорошо – в первый и в последний раз ты можешь спросить меня о моей работе ‹…› прольется много дурной крови лучше не светиться возле струи никогда не объединяйся ни с кем кроме кроме своей семьи («Крестный отец»)Его стихотворные «реплики» разрозненны, не выстраиваются в единую развернутую «фразу», зачастую противоречат друг другу стилистически и даже идеологически. Присутствие Леонида Костюкова в поэзии нарочито пунктирно, содержит лакуны, пропущенные логические звенья развития, не поддается какой бы то ни было попытке анализа «эволюции творчества». «Пишу – когда и как желаю, не опасаясь анахронизмов, без оглядки на то, что уже сказано ранее, мною и другими». Вот так:
В суете простых скоротечных дел я случайно куртку его надел и пошел в ларек покупать муку по размытой глине и по песку. Дождь с утра грозился – и вот пошел. Я в кармане куртки его нашел шапку из материи плащевой, по краю прошитую бечевой. Он сложил ее, как бы я не смог, – я бы просто смял, закатал в комок, обронил в лесу, позабыл, уйдя, никого б не выручил от дождя. Там очки – для его, а не чьих-то глаз, валидол, который его не спас, пара гнутых проволок – потому, что так нужно было ему. Дождь все лил, сводя ручейки в ручей, и в сиротстве бедных его вещей, в каждой мелочи проступала смерть, как когда-то из вод – твердь. И с тех пор доныне влекут меня две стихии – воздуха и огня, что умеют двигаться в никуда – без названия и следа. («Памяти тестя»)Костюков пишет так, будто только что придумал зарифмовать что-нибудь вроде «берез – овес». Это – особый род изощренного эпатажа, неброский, утонченный, видимый лишь посвященным. Эта негромкая дерзость сильнее воздействует на всех наделенных слухом и имеющих уши, чем лобовой бунт современных бурных гениев, адептов обсценных слов и тем, искателей очередной новой социальности:
Тополиный пух ест дыханье мое, колотье у меня в боку. – Канотье, вы сказали? – Нет, колотье, как у лошади на скаку. Так случится – Господь остановит коня, в дом горящей души войдет, на вершине дня – на закате дня в небе молнией прорастет. – Вы сказали: Господь? – Я сказал – Господь. – То есть дух? – То есть дух и плоть. Посмотри – горит тополиный пух, то есть плоть, но скорее – дух.Странная, немодная позиция человека, знающего ремесло словотворения, но отделывающего слова не по правилам. Так неловкий рассказчик в бессмертном романе «Что делать?» патетически изрекает: «Я знаю о Рахметове больше, чем говорю». Почти фатальный избыток осведомленности о правилах игры не мешает Леониду Костюкову стилизовать стихи под наивные, спонтанные. На грани набоковского раздраженного упоения разными конфигурациями чистой формы Костюкову удается сказать что-то абсолютно свое – не то чтобы совсем неизвестное, но произносившееся иначе, с иным градусом серьезности и личной причастности. Здесь подобной причастности одновременно и минимум, и максимум, потому что в следующий раз (может, через несколько лет) все будет сказано совершенно иначе, но без отказа от прежних мнений и интонаций. Вы опять говорите, что поэты бывают хорошие и разные? Что ж, согласен, – среди хороших случаются и такие…
Библиография
[Три стихотворения] // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2001. Сезон 2001/2002 г., вып. 5. С. 12–15.
От дальних платформ // Знамя. 2002. № 8.
Голоса // Арион. 2006. № 2.
Снег на щеке. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2009.
Листки // Арион. 2010. № 1.
Как будто плывем… // Арион. 2011. № 1.
Стихотворения из «Тушинского цикла» // Новый берег. 2011. № 31.
Константин Кравцов или «…есть, пойми, узкий путь…»
Из немалочисленного хора современных поэтов, сопричастных христианской (православной) риторике, топике и проблематике, Константин Кравцов выделяется достаточно резко. Напрашивается апофатическая логика, рассуждение от противного. Не впадает Кравцов в сусальное благочестие, не занимается схоластической эзотерикой, не соскальзывает к назидательному тону, не проецирует религиозные универсалии на техногенные и иные коллективные травмы, наконец, не пытается приспособить христианские ценности к профанному сознанию мирянина и атеиста, – всего этого вокруг сегодня пруд пруди.
Человек, живущий внутри не только религиозного, но и повседневного богослужебного опыта, ориентируется на свое непосредственное восприятие, никому из непосвященных ничего не разъясняет. Иногда пропущенные объяснения восполнимы достаточно легко.
Ангел-хранитель больниц и гимназий, вот твои ветреные хризантемы: залиты солнцем губернских оказий, рельсы по воздуху тянутся, где мы кто это «мы»? неуместные сидни, прах на спирту, отморозки и лохи: спим на ступенях, и лествицы сини, рельсы струятся, и радуют крохи Трапезы светлой, весны Твоей звенья, Город в посмертных промоинах зренья («Лазарева суббота»)Каждый, кто слышал (хотя бы из «Преступления и наказания»!) о воскрешении Лазаря, все, кто знает, в какую седмицу Великого поста бывает Лазарева суббота, без труда поймут, например, почему в стихотворении упоминаются больницы. Бывают случаи посложнее: не ведающие о труде кн. Евгения Трубецкого о русской иконописи под названием «Умозрение в красках» имеют права не понимать мотивного ряда одноименного стихотворения:
Отключиться, все окна свернуть, проступить, как, не зная износа, беззаконный тот шелковый путь: парадиз, что открылся без спроса в льдистых красках над снегом по грудь.Как рождается это внятное лишь северному народу контрастное сочетание льдистого сумрака пейзажей и яркого многоцветья священных изображений – вот в чем вопрос! «Северные» мотивы занимают в отточенной лирике Константина Кравцова место не случайное. «Тундра», «ягель» и иные приполярные атрибуты свидетельствуют не только о повседневном и символическом, ментальном опыте поэта-северянина, эти образы сопряжены с лагерным насилием, которое, в свою очередь, опосредованно связано с насилием, описанным в евангелиях, преодолимым и преодоленным, оставившим зримый след в реликвиях (из них особенно усердно упоминается Туринская Плащаница). «Далековатые» уподобления (холод – реликвия – унижение тела и души), повторяясь, облегчают «обычному» читателю путь к постижению кравцовских строк:
При слове север сердце воскресает, а почему – не знаю. Приглядись: вот в сумерках блестит грибная слизь, а дальше все земное вымирает, уходит, не спросясь, и вот лишь слово: и верую, и сев пребудут в нем, и верба, развернувшаяся снова – там, на ветру, во Царствии Твоем. («Север»)А вот иной пример – невынужденной зашифрованности, которая может отступить, если, скажем, читателю известно, что Секондо Пиа – фотограф, впервые запечатлевший Плащаницу, а выражение «смерть автора» отсылает к работам французских интеллектуалов Ролана Барта и Мишеля Фуко:
– А смерти автора, кстати, радовались и раньше: один иерей врал о похоронах Лермонтова: Вы думаете, все тогда плакали? Никто не плакал. Все радовались. – Что нам до поля чудес, жено? но спит земля в сияньи голубом, те залитые известью ямы шаламовские, ученики в Гефсимании (в паузе слышно, как в детской дребезжат стекла вослед трамваю) есть, пойми, узкий путь, – узкий путь, а с виду безделица: звон каких-нибудь там серебряных шпор, когда ни одна звезда, когда звезды спали с неба как смоквы и небо свилось как свиток, как тот сударь, и лишь тахрихим, та холстина в опалинах (в паузе – отрывок блатного шансона, проехавший мимо), и подумать только: какой-то там фотолюбитель, какой-то Секондо Пиа. («Смерть автора»)Степень затемненности/просвещенности зависит не только от осведомленности читателя в тонкостях притчи о мытаре и фарисее и в значении слова «хамсин» – умерщвляющий жизнь южный ветер, в Египте становящийся северным (дующим с севера, но несущим все ту же сушь), а в российских пределах тоже превращающимся в ветер с севера, но несущий уже не зной, а снег. Не только эта осведомленность отмечает разные степени проникновения в смысл, но само умение читателя воспринимать поэтический текст как нечто многослойное и многосмысленное, взывающее к встречной умственной и моральной работе. Иначе, по Константину Кравцову, и быть не может в подлинной поэзии.
Библиография
Январь. М.: Э. РА, 2002. 79 с.
Беспутный наш снег… // Октябрь. 2002. № 6.
Парастас. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2006. 56 с.
Салехард // Знамя. 2006. № 4.
Парастас // Интерпоэзия. 2007. № 1.
Дым Отечества // День и ночь. 2009. № 5–6.
Рождение воздуха // Знамя. 2009. № 10.
Аварийное освещение / Предисл. Н. Черных, С. Круглова, Л. Костюкова. М.: Русский Гулливер, 2010. 64 с.
«Частичные галлюцинации» и др. // Волга. 2010. № 3–4.
Из цикла «На длинных волнах» // Новый мир. 2012. № 9.
Сергей Круглов или «Проснешься ночью оттого, что душа плачет…»
Немало мы перевидали в последние десятилетия христианской поэзии, ранее наглухо запрещенной. Есть духовная поэзия, создаваемая как насельниками монастырей и служителями храмов, так, зачастую, и мирянами-интеллектуалами.
Творения, принадлежащие к духовной поэзии, созданы по старым лекалам вероучительных текстов, предельно близких тем, которые используются по прямому назначению непосредственно в церквях и обителях.
Есть также поэзия религиозная – ее обычно создают миряне, особенно остро переживающие собственную воцерковленность. В религиозной поэзии легко усмотреть две разновидности: условно говоря, философскую, погруженную в мистику творения, пророчества и откровения, и (терминология столь же условна) назидательную, непрерывно сличающую живые думы, чувства и поступки человека с непреходящим, заповеданным нравственным идеалом. Последняя разновидность религиозной поэзии в постсоветское время, когда исчезли запреты прежних лет, нередко выглядит особенно ущербной. Столько здесь бывает ложного пафоса, картинной возвышенности чувств и дум, а главное – случаев моральной предрешенности любой жизненной коллизии! Коль скоро верно учение – значит, на все вопросы существуют заготовленные ответы, праведность заранее отделена от греха, остается только поместить в кроссворд слово с нужными литерами внутри, подставить вместо переменной нужную (и заранее известную) нравственную величину.
Все описанные изводы христианской поэзии достаточно рискованны, обречены существовать на грани возможного. Коли мирянин – почто идешь на заказанную тебе территорию служения, требующего специального духовного посвящения? Коли лицо духовное, тем более – к чему стремишься к неканоническим способам общения с паствой? Вовсе ведь необязательно видеть в окормляемых верующих еще и читателей – нет ли тут гордыни и уклонения от смирения?
Поэзия Сергея Круглова – случай совершенно особый, хотя и не вовсе уникальный – вспомним, например, лирику о. Константина (Кравцова). О. Сергий (Круглов) рискует на всю катушку: мало того, что он прибегает к необязательным и сомнительным для духовного лица способам высказывания, его стихотворчество к тому же совершенно избавлено от благостной возвышенности тона и заведомой рецептуры человеческих поступков. Это поэзия человека, прочно и навсегда поставившего себя на одну доску с читателем, способного прислушиваться к собственным сомнениям, сомневаться в самих устоях веры, терпимо относиться не только к проявлениям иной религиозности, но и к нередкому отсутствию в окружающей повседневности даже намеков на спиритуальные эмоции и интуиции сверхличного, трансцендентного. Круглов начинает со сравнения поэзии и церковного служения:
У поэта умер читатель. Блюдися, о иерее! Не сравнивай (И тебя, глядишь, не сравняют): У поэта читатель – Вовсе не то, что у священника прихожанин. Когда священник прихожанина отпевает – Он входит за ним в вечную память, И выходит, и может войти снова: За все это батюшке, глядишь, еще и заплатят. Когда поэт читателя хоронит – Остается ему кругом должен…Мало того, что сравнение не в пользу поэзии, совмещение обеих культурных практик чревато двуличием и раздвоением личности. Дело даже не в поэзии как таковой. Интеллектуал, принесший с собою под церковные своды светскую привычку к чрезмерному раздумью, воздвигает на собственном пути почти непреодолимые препятствия:
В келье монаха-академика галка Учится латыни, а бесы Воровством промышляют. Вот выкрали сериозный нумер «Ярбух фюр понерологик», желтый том открыли, Гундосо читают, Тычут щетинистые щупальца в строчки, Морщат несуществующие лбы, жуют сопли, Ошарашенно склады повторяют, друг ко дружке Оборачивают рыла: «Вот это запомни!..», Новые строят ковы, Верифицируют: Восемь страстей, они же – Суть восемь смертных грехов.Круглова волнуют не праведные (им не надобен дополнительный посредник в высоких раздумьях) и не падшие неизмеримо низко, заблудшие и чающие движения вод. Поэт беседует с такими же, как он сам, обычными людьми, он утверждает, что приходской православный священник испокон века живет нуждами прихожан, в промежутках между совершениями таинств в храме он ничем не отличим от любого верующего. Сомнения и соблазны нередко настигают такого человека даже не в непосредственной близости греха, но в связи с упоением привычки к благочестию, которое может стремительно лишиться сердечной укорененности, стать лицемерным и двуличным. Вот как описана судьба героя притчи о блудном сыне в стихотворении «Дух уныния»:
Праздничный пир Давно закончен (мяса тельца, впрочем, Хватило еще на месяц). Младший брат пытается жить В отчем доме. Кое-как приспособился: главное – Вести себя пристойно, изображать благодарную радость, Пока отец смотрит Труднее всего было научиться Правилам, которых, оказалось, множество в доме: Не хватать со стола руками, не испускать при всех газы ………………………………………………………………………. Тошно, конечно, Что дни один на другой похожи, Что иногда ночью Проснешься оттого, что душа плачет …………………………………………… Лучше уж так. Главное – здесь кормят. Это главное. Это всегда было главным, Разве не так? вспомни! – убеждает себя младший, Из-за того и вернулся. Ведь верно же, верно?Простого прихожанина в наши дни окружает совершенно иная жизнь, в которой отношения человека и Бога фатально изменились, – на это нельзя закрывать глаза. То, что легко было во времена оны счесть ересью, становится едва ли не нормой. Эти девиации, травмы, отклонения от нормы нельзя просто отрицать, с ними надо учиться сосуществовать, жить рука об руку. Господь не просто заповедал человеку подвиг духовного соработничества, он теперь сам в нем нуждается как в необходимом подтверждении своего могущества. Эта антиномия раз за разом возникает в стихах Круглова: всесилие Творца ущербно в отсутствие человеческой поддержки.
Говорит Господь: «Что мне делать С вами, жители ада! …………………………………………… Рыдаете: «Пожалей нас, начальник! Где ж твоя милость!» …………………………………………………………… Любовью помиловать и простить вас желаю – Презрительно цедите: «Не нуждаемся!» ……………………………………………… Чем мы еще здесь живы, – не ведаю! Вы ведаете, вы, – ответственные За Меня, Которого приручили».Финальная аллюзия на Экзюпери здесь особенно важна, милосердие в наш век необходимо проявлять с обеих сторон – и с горней, и с дольней! Не ведет ли это к послаблениям, к возможности несоблюдения церковных предписаний? Да, возможно, дело обстоит именно так, – отваживается прямо сказать Круглов, настойчиво сближающий в своих стихах инстанции тела и духа:
Воскресение – оправдание тела: Мнемоний, мнимостей, Обетов, отложенных на завтра, Старых фотографий, неотправленных писем, Новинок, вышедших позавчера, – Жизни. Тело ведь тоже душа, только другая.Ощущение тела относится к числу первоначальных человеческих интуиций, доступных с первых минут самосознания, в отсутствии идеи о Божестве. Значит, сближение тела и души – не ересь, но дополнительный шанс для человека увидеть в самом простом и очевидном присутствие сверхъестественного и обязывающего к моральному поведению, следующему не буквальной личной выгоде, но некой непреложной идее, требующей смирения и жертвы. Важен конечный результат, а не каноническая безупречность процесса, для кого-то необходимость духовности более очевидна, будучи выражена на языке «недуховном», нередко отдающем фальшью. Вера, Бог, вообще идеал в сегодняшнем мире не есть нечто изначально позитивно определенное, а порою доступное лишь от противного, апофатически:
и только Ты на кресте забытый крест – и есть сама забытость то и дело всплывающая в мир как рекламный баннер в сайт постовое делание спасающегося: не дать раздражению прорваться смирить в себе этого зверя не кликнуть курсором в перекрестье: «закрыть»Круглов – поэт не для всех, в его стихах – россыпь имен и понятий, скромному жителю подлунного мира вполне чуждых. Но есть у о. Сергия удивительная способность переводить отвлеченное на обыденный и общепонятный язык, причем – с тонкими вариациями и обертонами. Так, в стихотворении «Картина “Девятый май”» на равных правах присутствуют отсылки к текстам Лермонтова («В полдневный жар в долине Дагестана…») и Шолохова, Твардовского и Исаковского («Враги сожгли родную хату…»), а также аллюзии, восходящие к творчеству отца и сына Тарковских («Иван до войны проходил у ручья, Где выросла ива неведомо чья…»). Неважно, сколько культурных подтекстов удастся расшифровать читателю, суть дела от этого не меняется:
солдат березоньку зарезал сапожной шилою проткнул молочной кровию прозрачной он солдатенка напоил чиста та кровь и не содержит в себе кровавыя души а вся душа ее в солдате в его ль во песнях золотых а и березоньке не больно: девичья беля не болит сочится в горлышко мальчонку да к небушку не вопиет ай где ж ты родина родная куда ты папку забрала! – мальчонок плакал все голодный все кровь Березову сосал березка вечная стояла под ней нежив лежал солдат и во груди его сияла медаль за взятый китежградТак умеет ныне писать только о. Сергий (Круглов), поэт-священник, любыми путями стремящийся не наставительно снизойти до собеседника, но дотянуться до его таинственной неизведанности, прямо обусловленной превратностями современного мира – не религиозного, но постсекулярного, если счесть верным меткое определение Юргена Хабермаса.
Библиография
Снятие Змия со креста. М.: НЛО, 2003. 208 с. (Серия Премии Андрея Белого).
Зеркальце: Стихи. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2007. 64 с.
Из стихотворений 2006–2007 годов // НЛО. № 87.
Приношение. Абакан: Хакасское книжное изд-во, 2008. 208 с.
Переписчик: Стихотворения и поэма / Предисл. Б. Дубина. М.: НЛО, 2008. 288 с. («Новая поэзия»).
Лазарева весна 2008 года // Зинзивер. 2009. № 2(14).
Вернись по черным рекам, венами… // Знамя. 2009. № 2.
Из цикла «Окна» // Сибирские огни. 2009. № 10.
Народные песни. М.: Русский Гулливер, Центр современной литературы, 2010. 116 с.
Серафимополь // Знамя. 2010. № 9.
Колокольчик цимцум // Знамя. 2012. № 1.
Григорий Кружков или «Гумилев с Мандельштамом, как лев с антилопой…»
Есть такие поэты, которые живут в собственном мире, полном культурных реалий прошлого и настоящего, перенасыщенном ассоциациями, переплетениями старых и новых смыслов – однажды бывших и заново выкраиваемых из частокола чужих строк и строф непосредственно в момент написания стихотворения:
Назвался Одиссеем – полезай к Полифему, назвался Немо – молчи, таись и скрывайся, и даже когда Морфей приведет морфему к тебе в постель – молчи и не отзывайся. ‹…› И если Алиса все еще ждет Улисса, плывущего из Лисса и Зурбагана, пускай сестра моя, корабельная крыса, напишет ей честно, как нам погано… «Назвался одиссеем…»(Капитан Немо – Тихону Браге)Калейдоскоп уже случившихся в книгах, картинах, скульптурах событий – одна из самых характерных примет поэзии Григория Кружкова последних, да и более ранних лет. Рассуждая о его стихах, очень легко попасть в надежную колею стандартных интерпретаций: переводчик, мастеровитость, вторичность и проч. Но этой схемой лирика Кружкова, если разобраться хорошенько, вовсе не исчерпывается.
Атмосфера постоянного присутствия знакомых и полузнакомых литературных имен является не причиной, а следствием феерической атмосферы сказки – мира без дистанций, в котором все или очень многое для художника возможно и выполнимо. Все предметы и события при ближайшем рассмотрении обнаруживают двойное дно, их аутентичность не замкнута в привычных буднях, в любой момент может быть сопоставлена с иной, чудесно соответствующей миру любимых книг, и, таким образом, обрести третье измерение.
Ну, например, кто из жителей современного города не чертыхался в сердцах, когда в самой простой ситуации оказывался наедине с каким-нибудь пластиковым чудовищем с множеством кнопочек и рычажков или – того хуже – с гладким сверкающим экранчиком и вообще без кнопок. В прошлой жизни эта штука называлась, например, телефон, а сейчас у нее непроизносимое имя, подобное каббалистическому заклинанию. Перегруженность быта гаджетами и девайсами началась, конечно, не вчера. Вот кто-то, скажем, однажды придумал носовые платки, и тогда это был «девайс нашего времени». И знаете, как об этом расскажет Григорий Кружков? Правильно, угадали:
Человека, который изобрел носовой платок, Умертвили злодеи. Умертвили его не за то, Что он изобрел. Но еще почему-то страшнее, Что убили не просто какого-то короля, Но того, чьим стараниям благодаря (Значит, можно сказать, что он жил и погиб не зря) Мы чихаем и плачем нежнее. ‹…› Может быть, все к тому и идет. Посмотри на экран. Левый кран прикрути. Или вовсе заткни этот кран. Лучше в ванну заляжем. Удивляюсь, откудова столько взялось сволочей, Что придумали столько полезных вокруг мелочей, Что не знаешь, которая кнопка и номер тут чей, И каким вытираться пейзажем… («Ричард II»)Но не только легкая сказочная буффонада (или, иногда, притчевая условность) приводит к обилию заимствованных реалий в стихах Кружкова. Все, на поверку, оказывается очень серьезно, от сказки либо притчи отмысливается сам принцип сопоставления предметов друг с другом, причем сами по себе параллели с вымышленно-знакомыми литературными мирами вполне могут быть вынесены за скобки.
Спору нет, диапазон приемов и тем в лирике Григория Кружкова довольно узок, но можно ведь сформулировать и иначе: поэту удается на весьма ограниченной территории добиться весьма различных эффектов – от демонстративно игровых, почти импровизационных – и до осмысленно усложненных и сопряженных с метафизикой творения.
И все же самые любопытные результаты «метод Кружкова» дает в тех случаях, когда серьезное смешивается со смешным, творчество оборачивается изобретательством, а все стихотворение в целом начиняется этакой неподражаемой сумасшедшинкой, завлекательной и узнаваемо кружковской (как в стихотворении «Кулибин»):
Шел Кулибин улицей пустынной, Вдруг он слышит топ и лай из мрака: За стопоходящею машиной Мчится пятистопная собака! Говорит механик ей с укором: «Для чего тебе der Funfter нога? Fier есть для собаки полный кворум, Funf, помилуй, это очень много». Отвечает странная собака: «Wievel Kilometer до Калуга? – Хорошо, передохнем, однако, Что лучше нам понять друг друга. Кто виновен, если разобраться, Что должна я жить с ногою пятой? Ведь на четырех мне не угнаться За твоей машиною проклятой! Нет теперь ни Leben мне, ни Lieben!» – Тявкнула – и вдаль умчалась сучка… И остался в темноте Кулибин – Гениальный русский самоучка.Кружков в стихах умеет еще очень многое, и это не удивительно, поскольку он сосредоточен на стихотворчестве целиком, а все прочие виды деятельности из своей жизни совершенно последовательно устраняет. Социальная активность, протесты, борьба за общие идеалы – все это навсегда табуировано, не входит в сферу его привычек и интересов.
Странный круг поэтических пристрастий? Немодная поэтика, отдаленность от всех возможных «мейнстримов»? Все это, безусловно, так! Но Кружков – это Кружков, он не желает иначе, и вообще – слава Богу, есть и такие поэты…
Библиография
Гостья. М.: Время, 2004. 400 с.: ил.
Стихи // Звезда. № 6. 2005.
Время дискобола // Новый мир. № 10. 2005.
От луны до порога // Новый мир. № 12. 2006.
Стихи. // Звезда. № 1. 2007.
Слепи себе другого человека // Новый мир. № 6. 2007.
Молоко одуванчиков // Знамя. № 8. 2007.
Новые стихи. М.: Воймега, 2008. 80 с.
Собака Бунина // Новый мир. № 9. 2008.
Философия деревьев // Знамя. № 12. 2008.
Стихи // Звезда. № 2. 2009.
Из немецкого блокнота // Дружба народов. № 1. 2010.
Ящерица // Новый мир. № 12. 2010.
Достигший моря // Знамя. № 3. 2011.
На сон грядущий // Знамя. № 5. 2012.
Письмо с парохода. М.: Самокат, 2010. 80 с.: ил.
Юрий Кублановский или «Огонек служения вместо чуши…»
Поэтическая позиция Юрия Кублановского в последнее десятилетие получила поддержку с неожиданной стороны. В прежние годы (включая проведенные вне России) романтический принцип «жизнь и поэзия – одно» выглядел в случае Кублановского совершенной абстракцией. Кублановский – один из немногих современных представителей традиционной «гражданской лирики», но вот за пределами поэтического текста его заветные призывы им самим никак не подтверждались, не подкреплялись. Достаточно уединенный образ жизни, отсутствие публичной активности, стремление сохранить личное духовное пространство – все это входило в известное противоречие с ясно проступающим в стихотворениях Юрия Кублановского обликом стихотворца-идеолога, человека, остро чувствующего драматизм российских событий прошлого века.
Известны качественные афоризмы о том, что Кублановский умеет про общее говорить очень личностно, а личное возводить в ранг всеобщего. Подобная диалектика все же кажется мне не более чем эклектикой, стремлением оправдать подлинность поэтической интонации многих стихотворений посредством утверждения права поэта на раздвоение между поэзией и жизнью.
Россия под пятой внутренних и внешних губителей лежит в руинах – как было с этим не бороться не только словом, но и делом? Иное дело – последние времена, когда страна вроде бы вернулась на естественный путь развития, но не приблизилась не только к своему идеальному метафизическому прообразу, но и попросту к элементарному благополучию и стабильности. Оказалось, что былые враги одолены… иными врагами, в результате смешались все краски и страны света. Если раньше в политике «правое» называлось «левым» и наоборот, то теперь под сомнением любые попытки отличить убеждения от их мастерских либо бездарных имитаций. Очередной вариант смуты благоприятствует не делу, но уединению, именно в эти годы позиция Юрия Кублановского обрела органику, его образ трибуна-мизантропа перестал быть казусом и приблизился к одной из возможных ипостасей героя нашего времени.
Кублановский, как и в прежнее время, исходит из главного принципа: поэтическое слово – не вещь в себе и для себя, оно не повисает в воздухе украшением, поскольку за ним предполагается и на самом деле существует вполне определенная реальность.
С той поры, как где-то в груди возник огонек служения вместо чуши, стал я верный медиум-проводник, щелкопер по жизни, потом старик, окормитель тех, кто имеет уши. («Времена года, 6»)Именно идея «служения» отличает традиционную гражданскую лирику от новейшей «социальной поэзии», для которой жесткие изображения личных и общественных изъянов и травм резко преобладают над метафизическими реконструкциями поруганных идеалов. Как правило, нет в социальной поэзии и топики уединенного авторского сознания, у Кублановского по-прежнему занимающей авансцену практически любого стихотворения. Только что процитированный цикл «Времена года», например, завершается так:
Порча коснулась, да, слезных пазух всерьез. Поровну в сердце льда осенью и в мороз. Над снулой рекой вихрится диск огня. И я теперь не такой, каким ты помнишь меня.Каков же он сейчас, поэт, остро ощутивший парадоксальную неразличимость идеала прежней, «докатастрофической» России и России нынешней, более не вписывающейся в ясные антитезы идеального и трагического? Пока в стране трагедия стремительно совместилась с тем, что казалось идеалом (свобода веры, отсутствие коммунистического диктата), поэт чувствовал упадок сил, немощь, тоску по невозвратным годам сил и надежд.
Минули годы, годы. В моду вошли обноски. Стали пасти народы новые отморозки. ‹…› Запрусь я на все запоры, никому не открою. Мысленно разговоры стану вести с тобою. Прежний мой дух мятежный уж не огнеопасен. Если решишь, что снежный я человек, согласен.Предчувствия – невеселы, признания – тверды; испытывая боль при виде «того, что совершается дома», поэт еще более непосредственно ощущает перемены в самом себе:
Я живу с простым и твердым чувством приближения к границе жизни. Только вот не я к ней приближаюсь, а она проходит возле дома.Фальшивые ноты у Кублановского проскакивают как раз в тех случаях, когда экзистенциальная неоспоримая подлинность выносится за скобки, а следом высокая идея служения неприметно превращается в разоблачительную публицистику, в поиски супостата, принесшего горе честному народу.
В пелене осеннего молока хорошо бы, выровняв аритмию, генным кодом старого черепка разживиться и воссоздать Россию.Впрочем, даже иллюстративные лозунги порою обретают некое право на законное существование в стихах, если они сопряжены с подлинным чувством человека, болезненно расстающегося с былой убежденностью в существовании единой и единственной правды.
…Ведь помнишь, как, бодро шагая вначале, ты вдруг задохнулась в пути: – Россию, которую мы потеряли, уже никогда не найти. Я был только автор ненужных нетленок. Ты – русая птица ночей. Зачем же тогда в либеральный застенок таскали выпытывать: чей?Стоит решиться на неочевидное обобщение: крупный и самобытный поэт Юрий Кублановский работает на рискованных границах между подлинной и служащей самой себе поэзией и желаемой идеальной правдой. Именно поэтому практически в каждом отдельно взятом стихотворении он решает одну и ту же задачу органического сопряжения здесь и сейчас ощущаемой эмоции и далеко идущей (порой «геополитической») максимы. В отсутствие свободной и непокорной художественной логики любая, даже абсолютно верная мысль, а также без остатка подлинная эмоция стремительно обращаются в лозунг, рецепт, фантомную боль, не имеющую никакого отношения к страдающей духовной материи.
В тех случаях, когда золотое сечение оказывается найденным и соблюденным, когда поэт поднимается до высокой и непредубежденной способности суждения sine ira et studio, – именно в этих случаях Кублановскому удаются шедевры. Вот, на мой взгляд, один из самых бесспорных («Сны»):
Зимою – впадиной каждой, полостью пренебрегавшие до сих пор льды заполняют едва ль не полностью речные русла, объем озер. Лишь луч, нащупавший прорубь черную там, где излуки в снегах изгиб, работу видит локомоторную мускулатуры придонных рыб. Россия! Прежде военнопленною тебя считал я и, как умел, всю убеленную, прикровенную до горловых тебя спазм жалел. И ныне тоже, как листья палые иль щука снулая блеск блесны, я вижу изредка запоздалые неразличимые те же сны.Библиография
Дольше календаря. М.: Время, 2005. 736 с.
Над строчкой друга // Новый мир. 2005. № 6.
На маяк // Новый мир. 2006. № 5.
Евразийское // Новый мир. 2007. № 5.
Мученик тополей // Новый мир. 2008. № 5.
Перекличка // Новый мир. 2009. № 5.
Перекличка. М.: Время, 2010. 112 с.
Чтение в непогоду // Новый мир. 2010. № 1.
Фатум // Новый мир. 2011. № 3.
Поздние стансы // Новый мир. 2012. № 5.
Посвящается Волге. Рыбинск: Медиарост, 2010. 144 с.
Изборник. Иркутск: Издатель Сапронов, 2011. 456 с.
Чтение в непогоду. М.: Викмо-М; Русский путь, 2012. 224 с.
Демьян Кудрявцев или «родина не возьмет смерть никуда не денет»
В старое недоброе время стихи Демьяна Кудрявцева окрестили бы «гражданской лирикой», и не без основания: личное в ней раз за разом оказывается преодоленным, перекрытым «общественным», порой «геополитическим»:
как оно начиналось вчера казалось припомнишь разве там где ты у меня жила между ребер согретым комом хорошо что осталось места только тоске да язве страшно смотреть в окно стыдно в глаза знакомым теплая эта снедь времени года удаль едва ли осталась в городе кухня без наших денег скоро времени суток обратно идти на убыль родина не возьмет смерть никуда не денет только горят рубцы не рубиновым блеклым светом воротник горизонта вспорот сталью финками новостроек забери меня топь москвы гниль айвы сердцевина лета засыпает форточку белым тополем спи любимая дай укрою («Колыбельная 2»)Слово-сигнал «родина» здесь употреблено не только абсолютно уместно, но и неуловимо таинственно. Нет в нем заказного патриотизма гражданских лириков прежней поры, нет и безграничной иронии поэтов-правдорубов. Не просматривается также комплекс ностальгических ощущений тех стихотворцев, кто роднится не с советским патриархальным «чувством родины», но с культурным кодом своего неминуемо единственного советского детства, незамутненного позднее понятой ложью и фальшью официальных формул и лозунгов.
Кудрявцева долгое время принимали за своего адепты «социальной поэзии», поэтико-политические радикалы даже писали врезы к его сборникам. Напрасно. Вот в прежние времена критики-проработчики строго спросили бы Демьяна К. не только о том, «чем он занимался до 1991 года», но и какую (чью!) идеологию он отстаивает, какова же, говоря по сути, его «гражданская позиция»? Вывод был бы весьма прост: да это прямо космополит какой-то, тут у него и Коран, и Тора, и родные среднерусские равнины. Что же это, в самом деле, за «родина» описана у Кудрявцева – она уж точно не «Родина», не фатерлянд ли какой, в самом-то деле, не ровен час?
все больше седины и странное случилось все меньше правоты все кружится больней отечество мое где у дороги чивас где так не страшен черт как дед его корней все меньше тишины и в межсезонье шины не оставляют след не путают следа а топкой родины когда болит брюшина и как в последний хлюпает водаХорошо темперированный музыкальный строй классического стиха Кудрявцеву прекрасно известен, однако он более невозможен – не только после Аушвица, но и спустя немногие годы после войны в Заливе и атак на башни-близнецы, Сербию и Ливию. Вокруг нас – хорошо глобализированный мир нового столетия, толком не отличающий не только эллина от иудея, но и (в истории) Пересвета от Челубея:
а вот это пауза перекур пересвет и в рот его челубей чем длиннее речь тем она слабей это мой народ и его культур это чисто поле его конкур который только пройдя пешком с молоком кобылицы и вещмешком где неволя доли и небылицы где у горла родина точка ком («Рязань, 5»)Парадокс Демьяна Кудрявцева – в конфликтном сосуществовании двух противоположных тезисов. Первый: чувство «родины» невозможно помимо экстремальных, военных ощущений, современная персональная (и – тем более – социальная) идентичность не покоится мирно на лоне традиционного, природного («национального») бытового уклада, но напряженно складывается в ходе всемирно-условных военных действий – буквальных либо ментальных.
Тезис второй: любая непосредственная данность подлинного ощущения подвластна медийному воспроизведению, в пределе своем – тенденциозной имитации, намеренно расставляющей броские акценты, лишающей аутентичности любую эмоцию:
Мы дорисуем горы позади земля не виновата что скупа толпа не виновата что она толпа жена не виновата что солдата солдат не виноват что не женат какие мы выделываем па чтоб доказать что мы не виноваты какого черта лишняя стопа и от какого бога ждать опоры когда земля скупа рисуйте горы чтоб дальше чем до гор не отступать. («Ландшафт», 2)Порочная медийная логика вечного поиска веского информационного повода превращает завлекательный показ событий в превратный, здесь уже не остается места ни для какой «настоящей» «идейной позиции», лишь бы картинку дорисовать так, чтобы не смог зритель новостей оторвать от нее блуждающего и капризного, избалованного взгляда:
давайте заедая почвой землей щебенкой закусим эту воду почкой культей ребенка неси не замедляя шага дерьмо из хаты лицом на фотоаппараты под белым флагом! («Парламентер», 5)Этому всеобщему, вавилонскому смешению мнений, понятий и вер содействует и фирменная кудрявцевская смещенная рифмовка, строки затекают одна в другую, границы между ними то ли вовсе стерты, то ли, наоборот, количественно умножены.
Не красота из пустоты а просто ты горишь кустом а это дом в котором дым густой в котором дом. («Самсон», 5)Регулярное четверостишие перекроено и записано в семь строк, причем рифмы, которые при традиционной графике стиха оставались бы внутренними (ты – пустоты, густой – кустом), приобретают полновесность классических концевых рифм. Кудрявцев вообще рифмует все со всем, знаменитый тыняновский «принцип единства и тесноты стихового ряда» здесь явлен в абсолютном пределе. Созвучия пронизывают буквально каждое слово– и звукосочетание (красота-пустоты-просто-кустом-густой), как в средневековой английской поэзии («Беовульф») или (насколько могу судить по толкованиям знатоков) в библейском тексте. Так все же на чьей стороне Демьян Кудрявцев, что он желает сказать публике, порою в недоумении колеблющей поэтический треножник?
Библейский текст был упомянут не случайно – внимание, правильный ответ! Кудрявцев сознательно пытается вписать содержащиеся в стихотворении смыслы в несколько параллельных контекстов, вложить в каждый текст возможность разных интерпретаций – именно различных, находящихся на нетождественных уровнях толкования, не противоречащих друг другу, но дополняющих. Кстати, во времена схоластической герменевтики существовала традиция толковать канонические тексты, восходя от буквального смысла через аллегорический и метафорический к высшему мистическому смыслу. Кудрявцев не ищет правды ни на одной из воюющих сторон, он резким виражом уходит в сторону от рокового вопроса «кто виноват» – в направлении расслаивания смыслов. Возьмем стихотворение, при публикации в подборке озаглавленное «Скороговорка», а в книге получившее заглавие более прозрачное, «пушкинское»: «Мойка».
не долго осталось прожить по-хорошему чтобы морошку у челяди ныть учи ледяные на ощупь горошины белое крошево семя луны бакенбардами было да бабами гордое время которое мерили мы – мерина тыкали мятою мордою в только что выпала карта зимы ты исповедуй истерику терека что довела до неволи невы до синевы уходящего берега дальше америки слаще халвы вспомни когда-либо вроде бы родина голоса голого сотовый мед как на ладони чернеет смородина ягода гадина волчий пометБуквальное содержание – чья-то (скорая) смерть – оснащено, во-первых, вполне самоценными созвучиями («истерика Терека», «неволя Невы»), во-вторых, содержит детали, недвусмысленно ясные для всех посвященных в подробности последуэльного умирания Пушкина. И наконец, самый широкий контекст у Кудрявцева – никак не мистический («анагогический»), но вполне политизированный, если только политику понимать буквально, как место сопряжение персонального с общим, групповым, государственным.
Так же точно множатся смыслы и в других стихотворениях: о мастерстве поэзии на той обратной стороне планеты о мастерстве поездили на кой поехали когда махнул рукой махнул рукой товарищам и нету между америкой пока еще и светом который можно выключить строкой («Гагарин», 5)Если не знать о принадлежности этого текста к «гагаринскому» циклу, глаголы из лексикона первого космонавта («поехали», «поездили»), употребленные по отношению к «Америке», легко принять за эмоции первых путешественников за железный занавес. Сопряжение разных бытовых смыслов, расщепленных спонтанными созвучиями и сходящихся в единую точку в области политических подтекстов, – вот фирменный знак поэзии Демьяна Кудрявцева. Вот почему в прежние времена идейной ортодоксии ему бы точно не поздоровилось…
Библиография
Практика русского стиха. М.: Независимая газета, 2002. 150 с.
[Шесть стихотворений] // Вавилон: Вестник молодой литературы. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2003. Вып. 10. С. 39–43.
Имена собственные / Proper Names. М.: Время, 2006. 240 с. (С параллельным текстом на англ. яз.)
Стихи // Урал. 2010. № 3.
Инга Кузнецова или «Короткий сон бесшумный как индеец…»
Стихотворение Инги Кузнецовой почти всегда производит обманчивое впечатление связности и логичности именно потому, что в каждый отдельно взятый момент содержит движение ассоциации между двумя точками, по смыслу тесно сопряженными друг с другом. Никакой статики, ни малейшего хода по горизонтали, только наклонные кривые, ведущие то вверх, то вниз – но всякий раз отчетливо приоткрывающие новые контуры событий. Аналогия – «пластилиновый» мультфильм, в котором метаморфоза важнее сюжета. Ясная ассоциация, повторимся, связывает только две ближайшие друг к другу точки прихотливо выстраиваемой смысловой траектории. На более пространных отрезках пути связность усмотреть куда труднее: каждое стихотворение – упражнения на заданную тему, управляемая термоядерная реакция смысловых сопряжений, имеющих истоком исходную ассоциацию. Возьмем стихотворение «Короткий сон», в заглавии которого стартовое движение прямо названо по имени, то есть погружено в сновидческую логику последовательности картин, на самом деле никакой логикой не связанных:
Короткий сон бесшумный как индеец бежит скрываясь от других видений но коридоры плачущих растений уже расчистил инженер-путеец на свете дождь поющий без умолку здесь будет город сделанный из денег и мелочи сбивающие с толку похожие на гибель в кофемолке а я хочу навеки и всерьез внезапно все во мне соединилось как островки разбитого винила в природу превращается сырье а где же я? не знаю ну и пустьНекоторые ассоциативные звенья пропущены, но легко восстановимы, иные, наоборот, избыточно тавтологичны. Итак, вот сон: движение по коридорам растений, по (железнодорожным) путям, сквозь дождь, через «город из денег», далее – мелочь, гибель мелких частиц (зерен) в кофемолке, мгновенное воссоединение ранее раздробленного на мелкие гранулы, соединение виниловых осколков в единый диск, затем смена вектора движения: вместо перехода от сырья к изделию – ход назад, к сырью, к первоначальной цельности, к застигнутому врасплох «я», не знающему, где его подлинная ипостась, – в начале либо в итоге, в стартовом пункте отдаления от природы либо на финишной прямой сомнения в допустимости работы с собою как с сырьем, подлежащим переработке.
Скажем прямо, у этой поэзии «не женское лицо». Атрибуты «любовной лирики» на местах («Я прошу твоей нежности, у ног твоих сворачиваюсь клубком…»), но дело не в теме, а в способе рассуждения, скованном железной логикой на наших глазах рождающихся последовательных картин. Власть этой логики всесильна настолько, что способна соединять не только сходное, но и – поверх барьеров – разобщенное и «далековатое». Эта парадоксальная манера рассуждения может вызвать резкое неприятие: в результате сложнейших преобразований оказывается, что гора родила мышь, а итоговое приращение смысла ничтожно по сравнению со стартовой точкой ассоциативных метаморфоз. В только что разобранном стихотворении, например, решающую «разницу потенциалов» представляет зашифрованная цитата из классического стихотворения о «полной гибели всерьез» (у Кузнецовой: «гибель… навеки и всерьез»). Значит, «коротким сном» управляет артистическая логика: это художник ищет шанса умереть не понарошку, но на самом деле, чтобы не сводилось принесение себя в жертву к красивой анимационной картинке о перемалывании кофейных зерен.
Тем, кому все это не понравится, посоветовать нечего, они наверняка сочтут, что сложность здесь избыточна, не обязательна, надоедливо громоздка. Зато тех, кто способен увлечься движущимися пластилиновыми картинами Инги Кузнецовой, ждет в ее текстах немало открытий. Поэт демонстрирует и мастеровитость и – в то же время – всячески акцентирует свое неведение, неосведомленность в том, что именно происходит в его сознании. Кузнецова не просто бравирует неосведомленностью о себе же самой, но всякий раз устраивает саморазоблачительный ритуальный танец, нацеленный на добывание значений и смыслов. Так первобытный охотник, передавая новичкам навыки охоты, рассказывал бы не о повадках зверя, но о тонкостях ритуального поклонения его наскальным изображениям.
…Пришла зима, похожая на осень. Колеса надеваются на оси, как встарь, но только катятся – куда? Открой же эту книгу посредине: там я стою челюскинцем на льдине, кругом – вода. Там я стою челюскинцем на льдине с улыбкою раззявы и разини и лестницей веревочной в руках. Она упала из незримой точки, и я не знаю, кто там – вертолетчик иль ангел – ждет рывка. И я не знаю, кто там – вертолетчик иль ветер – крутит облачные клочья. Крошится льдина, точно скорлупа. И ледоход на появленье птицы похож, на гибель сна под колесницей. А я стою, медлительна, глупа, и лестницу из пальцев выпускаю…Лестница, ведущая в небо (образ, явленный праотцу Иакову), – мотив столь же традиционный, сколь и широкий по смыслу, необъятный по спектру возможных истолкований. В этом стихотворении (впрочем, как и в других) Инга Кузнецова описывает не результат, но зыбкий процесс самопознания, вслушивания в собственное «я», захваченное ощущением близости Иаковлевой лестницы – то ли благого небесного спасения (ангел), то ли к почти насильственному похищению из дольнего мира (вертолетчик). Мотив спасения граничит с мотивом охоты, причем толком не известно, кто именно на кого охотится, находится ли рассказчик на прицеле у стрелка либо на примете у милостивого ангела.
Слово «рассказчик», кстати, промелькнуло не случайно. У Кузнецовой нет чувств, переживаемых здесь и теперь. Все это было где-то и когда-то, спонтанная эмоция осознана, оформлена рядом сменяющихся картин и – рассказана с сохранением всех тогдашних нюансов и нынешних примечаний к ним.
Я обернусь, и что-то за спиной смутит меня невинностью порядка. Как бы не так, здесь умысел двойной, здесь в воздухе невидимая складка. Опять шмыгнет, дыханье затаит вчерашний ежик с чуткими ушами, и легче мне, что страх имеет вид. Пусть поживет за нашими вещами. В прозрачных стенах движутся зверьки, как будто рыб подводные теченья. Здесь мысль и плоть тождественно легки, пространство здесь утратило значенье. И если утром встанешь, чтоб смахнуть пыль со стола, сомнешь в воображенье тот странный мир, по полировке путь, оставленный тебе как приглашенье.В стихах-рассказах Инги Кузнецовой есть и прибыль, и убыль. Способность заглянуть, увидеть незримое, невыразимое приобретена за счет отказа от изображения первоначального и очевидного, – того, что существует за пределами и до зарождения поэтического слова. Да мы и не станем требовать от пирожника сапог – ведь пироги он печет на славу!..
Библиография
Послушай птиц // Новый мир. 2000. № 6.
…Да, я существую // Дружба народов. 2000. № 9.
Голоса // Арион. 2001. № 4.
Сны-синицы. М.: Независимая газета, 2002. 48 с.
Тревожная птица // Новая юность. 2002. № 1(52).
У окраины сердца // Новый мир. 2003. № 9.
Прогулки наугад // Октябрь. 2003. № 9.
За секунду до пробужденья // Новый мир. 2004. № 10.
Стихи // Интерпоэзия. 2005. № 2.
Полеты над-под // Дружба народов. 2005. № 3.
Ближе к ядру зимы // Октябрь. 2005. № 8.
Пять стихотворений // Октябрь. 2006. № 7.
Испорченный батискаф // Октябрь. 2009. № 5.
Голубая вершина мифа // Новый мир. 2009. № 10.
Внутреннее зрение. М.: Воймега, 2010.
Опасный краткосрочный свет // Интерпоэзия. 2010. № 1.
Музыка в подъязычье // Дружба народов. 2010. № 4.
Мы были зимним человеком // Октябрь. 2011. № 5.
Мой бог тревог // Дети Ра. 2011. № 6(80).
Стихи из «Книги реки и осоки» // Дружба народов. 2011. № 6.
Соло для осеннего голоса // Новый мир. 2012. № 1.
Дмитрий Кузьмин или «Я хуже, чем никто…»
Стихи Дмитрия Кузьмина прокомментированы его жизнью и бытом в гораздо большей мере, чем это бывает всегда и обычно. Для такого комментария словесная оболочка чаще всего не нужна, но порою автор прибегает и к ней, и тогда его поэзия оказывается под фигурой самоумаления, общая формула примерно такова: «я – один из сотен многих». Или: мои индивидуальные ощущения не делают открытий, они ценны, как должны быть уважаемы и всерьез принимаемы любые честные ощущения частного человека, пусть незнакомого, принадлежащего к другому, неведомому и неблизкому мне сообществу, так сказать, к чужому меньшинству.
Здесь – антиномия, поскольку сказанное настолько верно, что отрицает собственную непреложность. С одной стороны, да, действительно, автор – один из многих, «такой же, как все», он пристально всматривается в лица и силуэты встречных, накапливает даже целый цикл картинок, подсмотренных в метро. Например:
Поминутно покачивает головой – словно бы не в состоянии поверить: да, это он в полупустом вагоне, медленно движущемся в сторону окраины, налегке, без вещей, место рядом свободно (только в самой глубине сиденья притулился к спинке орешек фисташки).Но ведь, с другой стороны, свои впечатления записывает не уравновешенный наблюдатель, равный всем и многим, но человек, подчеркивающий свою свободу от любых оков и стандартов, готовый идти до конца в отстаивании свободной витальности. Даже в тех случаев, когда доводы оппонентов-рутинеров вполне убедительны, наш экстремал будет, подобно Подпольному человеку у классика, отстаивать свою независимость:
Когда меня били головой об лёд Чтобы я назвал этот лед водой Я боялся захлебнугься в этой воде И продолжал называть ее льдом.Здесь видно, как отличия между разными агрегатными состояниями вещества «аш-два-о» стираются, больше не имеют никакого значения, предназначены лишь для того, чтобы в своей неразличимости рождать протест против разделения мира на разные доминионы и анклавы. Вот – слово найдено: мир един в своей энергичной расчерченности на непохожие друг на друга секторы и сегменты, подведомственные разным сознаниям и жизням. Это питательная среда для «новой», молодой поэтики, перечеркивающей поблекшие ценности «великой литературы», неизбежно порождающей власть канона и штампа. Любая претензия на власть одних жизненных и мыслительных траекторий над другими – порочна, ей должен быть немедленно противопоставлена картина вавилонской тесноты, в которой каждый волен выбирать себе свою лесенку на башню, спутника, да и самого себя тоже:
Ты хуже, чем другой: знакомству с тобой предпочли знакомство с другим. Я хуже, чем никто: знакомству со мной предпочли одиночество. («В ночном клубе»)В чем тут засада? Борьба с насилием так часто оборачивалась новым насилием, что контраргументы против динамичной теории жизненной полноты и равноправия живущих напрашиваются сами собой. Ведь и либерализм в эпоху башен-близнецов натолкнулся на необходимость превентивного и якобы благого неравенства и насилия, оправданного высокими целями! Проповедь вавилонского мультикультурализма равных и малых в жизни и поэзии поставлена под сомнение с тою же непреложностью, с какою терпят крах иллюзии о пестрой Европе. Известный филолог и литератор рассказал байку о советском кадровике. Позвонили ему, бедному, откуда следует и сказали, чтобы брал на работу отщепенцев, несмотря на пробелы в анкете: пусть соберутся в одном месте – надзирать легче будет. Доблестный работник кадровой службы видит очередной листок по учету кадров, где все, как обычно: «имеет, был, находился» и далее по списку. И вот его возглас: «Ну позвонили, сказали, всех брать! Но ведь не только же всех!». Нарушение Аристотелевой логики налицо, исключенное третье существует, а часть становится больше целого. Поучается, что слово «все» означает вовсе не всех как таковых, а только определенных «всех», отмеченных среди других и прочих.
Как только допускается хоть какая-то жизнь за пределами нашей молодой и подвижной вселенной, битком наполненной ночными клубами, «обкурами» и непримиримой свободой, все в мире оказывается по-другому. «Все» больше не все, а нечто порою вполне инфантильное
Пришел на дискотеку слишком рано (дома не объяснишь ухода заполночь)…Значит, кроме дискотеки, существует дом, и «объяснения» здесь не просто раздражающе вынужденны, но существенны – они нужны другим: не «всем», а тем, кто остается дома. Поколение тех, кому еще воспрещено выбираться на дискотеки, а также брать со стола на кухне ножик и спички, неизбежно становится взрослее, что и требовалось рассказать! Ну-ка, все вдруг взяли в руки по ножику, надели по сапогу с цепями, чиркнули спичкой! Уже можно, нужно, надо отрезать ломоть хлеба, на дворе мокрое месиво и не видно ни зги! Здесь жизненно-идеологический комментарий вновь вплотную подбирается к стихам Дмитрия Кузьмина, точно расчисленным и отмеренным, настолько обдуманно немногочисленным, что едва ли не половина просто обречена стать хитами. Теория жизненной теории суха, а древо кузьминских не-всегда-верлибров зеленеет гораздо более пышно и правдоподобно.
Почему? Да просто потому, что его наблюдатель то и дело оказывается способным выглянуть за узкие пределы догмы, услышать отрицаемое, заинтересоваться им, да и на свое, кровное («молодое»!) взглянуть иронически.
По крутому обкуру явилась в литературный клуб Малоизвестная, тихая поэтесса. А брат-писатель пошел на эмоции скуп – Смотрит без всякого интереса, Как в огромных глазах, не стекая, стоит стекло И слегка обвисшая грудь Выглядывает из косо застегнутой блузки… Не забудь, и тебя как-то в юности дернуло, поволокло, Только дребезг в ушах, как «Орленок» вприпрыжку на спуске, Тормозишь – и башкой через руль… А потом уже были Державин с сортиром и Пушкин с глаголом. Что ж теперь тебе, старче, слабo полуголым Публике втюхивать свою рифмованную муру? И Дидло надоел, и Дидро, и нацелившийся в ребро Купидон, в безобразную школьную форму одетый… На-ка, милая, что ли, прикройся «Литературной газетой». Черт бы с ней, с красотой, – будем делать добро.Одна (не своя) стремящаяся к «высокой поэзии» разновидность молодости оказывается раздетой и разутой настолько, что впору прикрыть стыд профильным изданием. Но и другая (бывшая своя, а ныне вместе со зрелостью вкусившая серое равнодушие) молодость демонстрирует бессилие и бесплодие. Кузьмин-поэт счастливым образом то и дело комментирует и выправляет Кузьмина-идеолога и культуртрегера. Монтажное зрение позволяет искоса видеть вокруг и свое и не свое, примеры многочисленны:
Скашивая взгляд от обзорной статьи по новейшим течениям мирового трансавангарда блеклым петитом в альманахе «Ойкумена», издающемся в Калининграде областном тиражом 250 экземпляров, выхватываю отдельные фразы из дневника, что ведет в продолговатом блокноте с ярко-синей обложкой юноша лет девятнадцати с наушником от плеера в правом ухе, короткой высветленной до песчаного цвета стрижкой и длинными темно-зелеными манжетами, торчащими из рукавов пиджака: «самый важный день» «обменялись кольцами» «приятно» «отныне» («Риторика»)Вот к этой риторике еще бы вальяжность Яичницы да развязность Балтазаровича – невесты горя бы не знали, знали бы, кого выбирать! А так гоголевская коллизия продолжается: не получается, чтоб жизнь и поэзия одно! Однако все впереди, юность неизбежно уходит, а зрелость уже теперь в стихах Дмитрия Кузьмина дает о себе знать – хотя бы стереоскопическим зрением, позволяющим видеть иное и чужое…
Библиография
«По выбоинам местного проезда…» // Вавилон: Вестник молодой литературы. Вып. 7 (23). М.: АРГО-РИСК, 2000. 220 c.
«Снилась переписка двух влюбленных…» // Крещатик. 2005. № 3.
Хорошо быть живым: Стихотворения и переводы. М.: НЛО, 2008. 336 с.
Александр Кушнер или «Рай – это место, где Пушкин читает Толстого…»
Для поэта, приверженного традиции (Александр Кушнер – из верных ее сторонников), самое главное – пропорции, в особенности – соотношение в каждый отдельный момент старого и нового, узнаваемого и открываемого впервые. Абсолютно ровная траектория развития, полное доминирование раз навсегда очерченного круга тем так же нежелательно, как и чересчур безболезненное расставание с творческим прошлым. Для читателей стихов Александра Кушнера только что нами спонтанно выведенный «коэффициент неизведанного» особенно важен: слишком уж весома его поэтическая репутация шестидесятых-восьмидесятых, велик объем опубликованных, обсужденных и оцененных по гамбургскому счету подборок и поэтических книг.
Во времена прежние если что и раздражало тех, кто оппонировал поклонникам Кушнера, так это его неколебимое творческое благоразумие и благополучие, редкое умение сохранить должную и благородную дистанцированность от всех катаклизмов, накрепко связанных с тем или иным «текущим моментом». Кушнер, безусловно, принадлежит к кругу лириков, прямо или косвенно споривших с «физиками» в шестидесятые годы, не будучи, однако, «шестидесятником» в точном смысле этого слова. Аналогичным образом Кушнер, один из литераторов, задававших тон в ленинградской литературной вольнице семидесятых, не был при этом прямым деятелем неофициальной литературы. Итак, глубокие и тонкие творческие реакции на внешние события вместо реакций прямых, провоцирующих «крутые повороты судьбы». Впрочем, творчество для Александра Кушнера и есть его главная судьба, это кредо было заявлено в самых первых публикациях, в стихотворениях, к настоящему времени ставших классическими.
Вернемся к «коэффициенту неизведанного». По всем законам гармонической алгебры Кушнер вроде бы обязательно должен был оказаться в нелегком положении. Слишком весом знаменатель дроби – традиционность и инерционность узнаваемой поэтики одного из крупнейших стихотворцев последней трети двадцатого столетия А. Кушнера. Насколько же объемным должен быть числитель дроби (новации, перемены, переломы, разрывы), чтобы пропорция получилась оптимальной! Однако на практике все получается совсем иначе, несмотря на отсутствие сколько-нибудь явного стремления к нестандартным ходам и приемам, стихи Кушнера последних лет выглядят свежими, энергичными, новыми. Думается, неожиданно добрую службу сослужили перестроечные и постсоветские контексты и обстоятельства, которые обусловили формирование поэтических принципов «сумрачного» Кушнера, на тот момент казавшегося абсолютно перерожденным, разочаровавшимся в своих прежних идеалах, покинувшим привычную башню из слоновой кости. И вот вся эта неорганика, на несколько скудных лет прикинувшаяся открытием новых горизонтов, наконец «спадает ветхой чешуей». Это не значит, что для русской поэзии наступили тучные годы – вовсе нет, сумрак не рассеялся, однако в одной отдельно взятой поэтической вселенной сумраку брошен вызов.
Все привычные грани кушнеровского магического кристалла остались в силе, только после временного затмения духа двадцатилетней примерно давности они знаменуют не самоповтор, но смелый жест следования новейшим вызовам, стойкого сопротивления неслыханному прессу.
Метафизика Кушнера монолитна и целостна, сводима к нескольким аксиомам-заповедям – первоначальным сущностям, проступающим сквозь множество явлений – стихотворных примеров. Начальный пункт кушнеровских скрижалей – отталкивание от социальности сумрачного конца столетия в пользу вечности природы, не ведающей политической злободневности: «Дождь не любит политики, тополь тоже, Облака ничего про нее не знают».
Как соотносится метафизическое, природное с божественным? Здесь нет ответа, порою перевешивает скепсис, недоверие к новоявленной публичной религиозности и общественно принудительному соблюдению внешних атрибутов веры. И все же:
Верю я в Бога или не верю в бога, Знает об этом вырицкая дорога, Знает об этом ночная волна в Крыму, Был я открыт или был я закрыт ему. А с прописной я пишу или строчной буквы Имя его, если бы спохватились вдруг вы, Вам это важно, Ему это все равно. Знает звезда, залетающая в окно…Впрочем, если дать себе труд додумать собственные сомнения в бытии абсолюта, в конечном счете все карты лягут не в пользу скепсиса.
Однако доминирует в стихах Кушнера все же более прямой причинно-следственный ход: от сумрачного мира суетной коллективности и актуальности – через природу непосредственно к искусству, минуя даже самую постановку вопроса об религиозном абсолюте. Идея творца как такового, не причастного к искусству, оказывается в этом построении избыточной:
Я не любил шестидесятых, Семидесятых, никаких, А только ласточек – внучатых Племянниц фетовских, стрельчатых, И мандельштамовских, слепых.Можно сформулировать и более жестко, не декларируя приоритет поэзии, но прямо демонстрируя ее жизнестроительную силу посредством апелляции к великим подтекстам Ходасевича («…разве мама любила такого, Желто-серого, полуседого И всезнающего как змея?»):
Уходя, уходи, – это веку Было сказано, как человеку: Слишком сумрачен был и тяжел. В нишу. В справочник. В библиотеку. Потоптался чуть-чуть – и ушел. ‹…› Девятнадцатый был благосклонным К кабинетным мечтам полусонным И менял, как перчатки, мечты. Восемнадцатый был просвещенным, Верил в разум хотя бы, а ты? Посмотри на себя, на плохого, Коммуниста, фашиста сплошного, В лучшем случае – авангардист. Разве мама любила такого?.. («Прощание с веком»)Мирозиждущая метафизика Кушнера вновь, как в прежние времена, сводится к вечному воплощению поэзии в то, что нам кажется жизнью: «Перемещается в стихи / Жизнь постепенно…» Но подобное перемещение не отменяет почти что платоновского догмата о предвечности и бесконечности смыслов, заключенных в великом искусстве:
Рай – это место, где Пушкин читает Толстого. Это куда интереснее вечной весны. ‹…› Гости съезжались на дачу… Случайный прохожий Скопище видел карет на приморском шоссе. Все ли, не знаю, счастливые семьи похожи? Надо подумать еще… Может быть, и не все.Поэзия не только предшествует реальности, но и врачует недуги и печали, она сродни молитве, возносимой ввысь ради спасения и умиротворения мирового неустройства. Поэзия после Аушвица не просто продолжает существовать, но и перевешивает не только иные искусства, но и другие роды и жанры внутри литературы:
Потому что больше никто не читает прозу, Потому что наскучил вымысел: смысла нет Представлять, как робеет герой, выбирая позу Поскромней, потому что смущает его сюжет…Что же изменилось в голосе нового Кушнера, оставившего позади сумрак девяностых? Во-первых, резко снизился градус упоения бытом как таковым, мельчайшими деталями повседневности. Таинственность жизни не может более просто вытекать из фетовски восторженных возгласов, она нуждается в более глубоких обоснованиях. Во-вторых, резко уменьшилась доля конкретной афористичности, ясность выводов. Прозрачность стиха все чаще уступает место непосредственному переживанию нерасчленимого первоединства выражения и содержания поэзии, совсем как в по-шопенгауэровски порывистых и темных шедеврах Фета:
Что-то более важное в жизни, чем разум… Только слов не ищи, не подыскивай: слово За слово – и, увидишь, сведется всё к фразам И не тем, чем казалось, окажется снова…Невозможно, наконец, не отметить участившиеся случаи снижения пафоса, вторжение иронии даже в святая святых:
Никому не уйти никуда от слепого рока. Не дано докричаться с земли до ночных светил! Все равно, интересно понять, что «Двенадцать» Блока Подсознательно помнят Чуковского «Крокодил». Как он там, в дневнике, записал: ‹Я сегодня гений›? А сейчас приведу ряд примеров и совпадений. Гуляет ветер. Порхает снег. Идут двенадцать человек. Через болота и пески Идут звериные полки. ‹…› Пиф-паф! – и сам гиппопотам Бежит за ними по пятам. Трах-тах-тах! И только эхо Откликается в домах. Но где же Ляля? Ляли нет! От девочки пропал и след. ‹…› («Современники»)И вот скажите – что же это, как не бесконечно порицаемый, путающий все карты вечности, построенный в боях постмодернизм?
Библиография
Облака выбирают анапест. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. 96 с.
Стихи // Звезда», № 1, 2008.
Меж двумя дождями, в перерыве… // Новый мир. № 1. 2008.
Стихотворения // Арион. № 4. 2008.
На фоне притихшей страны // Знамя. № 7. 2008.
Вечерний свет // Зарубежные записки. № 14. 2008.
Стихи // Звезда. № 1. 2009.
Десять стихотворений // Новый мир. № 2. 2009.
Метонимия // Арион. № 3. 2009.
Стихи // Нева. № 3. 2009.
С той стороны стекла // Знамя. № 4. 2009.
Стихи // Звезда. № 12. 2009.
Опыт // Звезда. № 1. 2010.
Невероятный случай // Новый мир. № 2. 2010.
Стихи // Нева. № 4. 2010.
Продолжение молний // Знамя. № 5. 2010.
Стихи // Звезда. № 1. 2011.
Последний луч зари // Знамя. № 2. 2011.
Другой дороги нет // Новый мир. № 3. 2011.
Стихи // Нева. № 5. 2011.
Стихи // Звезда. № 9. 2011.
Розоватый воздух бессмертия // Урал. № 10. 2011.
Облака в полете // Новый мир. № 1. 2012.
Стихотворения // Арион. № 2. 2012.
Стихи // Звезда. № 2. 2012.
Такой волшебный свет // Знамя. № 4. 2012.
Стихи // Нева. № 6. 2012.
Зимние звезды // Урал. № 7. 2012.
Времена не выбирают… М.: Эксмо, 2014. 416 с.
Античные мотивы: [Стихотворения; Эссе]. СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга; Геликон Плюс, 2014. 160 с.
Веселая прогулка. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2011. 48 с.: ил. (44 веселых стиха).
Эдуард Лимонов или «Ветер Истории дует в глаза…»
Есть такая профессия – норму от крайности отличать, прокладывать мосты через кисельные реки сомнений и компромиссов, отрезать пути к отступлению, к моральной капитуляции. И для этого – скажем прямо – все средства хороши, включая даже и скучные, до которых, впрочем, у Эдуарда Лимонова никогда не было охоты. Тут все больше что-нибудь веселенькое и прямое, как угол в девяносто градусов. Вот, например:
Зачем ты меня так изранила, И наших детей прикарманила? Зачем, отвечай мне, чертовка? Тупая ты, словно морковка, Ты сволочь, морковкина дочь. Ты – овощ, тебе не помочь!Так и слышится раздраженное бормотание («тоже мне новость, корявые вирши, бытовуха, серость!..»). Легко продолжить подобное брюзжание, подвести все под предсказуемую теорию. Веселенькое тут, дескать, не в ситуации самой по себе, а в отсутствии иронии, в неловкой попытке запечатлеть в стихах кухонную свару. Ну и, конечно, все это от недостатка утонченности, а это прямое последствие поверхностного радикализма…
О Лимонове можно и нужно говорить помимо политики, как бы ни подталкивали его рифмованные тексты к противоположному, как бы ни маскировались они под политические агитки либо под мещанские жестокие романсы. Вот ведь странность: если в данном конкретном случае судить поэта по законам, им самим над собою признанным (стихи равны прямому политпризыву, оклику), то чушь получится полная. Либо (одна крайность) – крайняя по степени пролетарская солидарность, желание разделить лимоновские упования на то, что
В разбитых куполах гиперторгцентров будут летать птицы. В стенах парламентов мира будут зиять дыры. На наш седьмой съезд соберутся полевые командиры, Обветрены, загорелы, измождены и усталы будут их лица… («Скоро»)Либо (крайность номер два) – снобское интеллигентское нытье про безвкусицу формы и наивность (примитивность, вредность и т. д.). Второе мнение – бессильно, потому что оно неверно, по крайней мере, с точки зрения нашего автора, его точно не могут понять люди, которые:
…хоронят своих мертвецов, Выхваляя их до небес! Каждый банальный актер Сморчков Становится Геркулес. («Герои Интеллигенции»)Ну может ли подобным людям приглянуться поэзия человека, который так непримирим к их собственным пристрастиям и привычкам:
Одевай свой пиджак и иди потолкаться под тентом, Светской жизни пора послужить компонентом, Чтоб с бокалом шампанского, в свете горящего газа, Ты стоял. А вокруг – светской жизни зараза…? («Светская жизнь»)Получается, что у Лимонова с читателем либо совсем нет общей территории, жизненных и мысленных пересечений (либеральные книгочеи, утонченные ценители «высокого»), либо, если речь идет о своих (от радикальных борцов до новейших социал-литераторов), то они свои – в доску и живут не то что на смежных территориях, но буквально в тех же интерьерах, что и сам автор, а значит, на все триста процентов разделяют его «жизнь и мнения». Они вполне могли в унисон с ним восторженно воскликнуть что-нибудь вроде:
Хочу тебя, моих инстинктов стаю, Пока могу, держу, не выпускаю. Но, видно, долго так не протяну… Хочу тебя, как офицер – войну. Как молодой воспитанник училищ Во сне желает победить страшилищ!Эти «молодые воспитанники училищ» (военных, видимо? суворовских?) настолько солидарны с лидером, что попросту смотрят на жизнь его глазами, одобряют доброе
(типа: «Дождь шелестит, дождь падает на жесть, А у меня теперь подруга есть С такою замечательною попой! Что хочешь делай: тискай или шлепай!»),горюют о горе
(вроде: «Без женщины остался я один, Ребенок капитана Гранта»).На самом деле Лимонов уж сто лет в обед как пишет стихи совсем про другое. Все эти годы растет и ширится новомодный порок: имитация убеждений перехлестывает мутной волной через все плотины обычаев, устоев и моральных императивов. Отчуждение идей от поступков достигло апогея и беспредела. Если на огромном рекламном щите красуется гладкий лик псевдозвезды, а рядом пузырек с патентованным снадобьем величиною с полчерепа, то тут еще все понятно: конечно, свойства чудо-притирки могут к глянцу звездных щек не иметь ни малейшего отношения. Кто профан – непременно намажется, ведь «я этого достойна». Но ежели у кого-то вышло восемь поэтических книг, это совсем не значит, что этот самый кто-то – поэт; а крестящийся в телекамеру начальник вовсе не обязательно верит в Бога; и прогрессивный режиссер, ставящий пьесу о молодежном бунте против власти, не обязательно не берет другой рукой у власти денег на свое протестное творчество.
Вот бытовой, политический и моральный фон, благодаря которому стихи Лимонова набирают все новые очки. Диагноз можно продолжить, но и так получается милая картинка: ничего не означает ничто, все подлежит обдуманному брендингу, за которым – пустота, мрак кромешный и скрежет зубов. В зыбком болоте есть отдельные островки суши, твердой почвы: здесь можно быть уверенным, что человек, пишущий стихи, хотя бы совпадает со своими декларациями, тождествен собственным призывам, пусть даже – таким:
На площадь! Родина! На площадь! Где стяги северный полощет Тревожный ветер колесом, Мы их ряды собой сомнем…Не нравится? И ладно – дело же, как сказано, не в выборе между восторгом и омерзением, свои в данном случае опознаются не по политике, а по умению отличить фальшь и имитацию от подлинных чувств. И пусть эта искренность нараспашку кажется (и на самом деле является) комичной, неподдельности от нее не убудет даже в самых крайних случаях:
Где я совсем один живет, Мне южный ветер в окна бьет. («Нет снега»)Впрочем, что это я – ведь и помимо лобовых и демонстративно неуклюжих деклараций есть у Лимонова немало текстов, от которых захватывает дух:
Стучат мячами. Гул стоит И щебет голосов, Но меч над городом висит И он упасть готов. Играют дети в баскетбол, Качается качель, Но меч висит. Не добр, не зол, Неспешно ловит цель…Не захватывает? Что ж: если это происходит только по причине несходства политвзглядов – значит, еще не все потеряно…
Библиография
Стихотворения. М.: Ультра. Культура, 2003. 416 с.
Ноль часов. М.: Запасный Выход, 2006. 112 с.
Мальчик, беги! СПб.–М.: Лимбус Пресс, 2009. 144 с.
А старый пират… М.: Ад Маргинем, 2010. 128 с.
Стихи // Зеркало. 2010. № 35–36.
К Фифи. М.: Ад Маргинем, 2011. 128 с.
Атилло Длиннозубое. М.: Ад Маргинем, 2012. 144 с.
СССР – наш Древний Рим. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 160 с.
Инна Лиснянская или «Я пишу лишь о том, о чем я вслух не рискну…»
Право же, стоит однажды взглянуть вокруг: есть ли что-нибудь еще не подмеченное Инной Лиснянской, не освоенное ее стихом? Если вы находитесь не в мегаполисе и видите не только улицы, фонари и аптеки, – можно сказать с уверенностью: вы живете внутри мира и быта поэта Инны Львовны Лиснянской. Многолетнее недобровольное загородно-пригородное уединение благодатно совпало с природой поэтического зрения Лиснянской. Предельная сфокусированность на частном, но важном в себе и вокруг, умение выделить одну, почти случайную деталь происходящего, а также выхватить крупным планом какую-нибудь мимолетную мысль, вдруг обретающую полноту и весомость именно в связи с подмеченным фактом, предметом или событием, – вот непременные приметы стихотворений Инны Лиснянской последнего десятилетия.
Ветер качает деревьев верхи, И на березе ворона Громко, в раскачку слагает стихи: Родина, крона, корона! Кажется: держит на черном крыле Розу осеннего солнца, Кажется: всё на огромной земле Царством вороньим зовется. ‹…› Я в междождливое небо смотрю, Вижу всё то, что не снится, И верноподданно благодарю Дерево, ветер и птицу.Способность сконцентрироваться на частном и монолитном по смыслу – непременный результат отшельничества¸ уединения, стремления к замедленной зоркости взамен отстранения от городской суеты. Однако есть в даре Инны Лиснянской и иная, во многом противоположная, сторона: умение воспринимать мир расфокусированным взглядом, вбирающим противоречия, фиксирующим разнообразные, не приведенные к единому знаменателю события, параллельно существующие эмоции. В пригородном уединении Лиснянская остается посланцем цивилизации, который порою не способен отчетливо ответить на вопрос: что же именно с ним и в нем происходит в данную минуту. Современный горожанин может одновременно думать о постигшем его вчера горе и готовиться к предстоящей через несколько часов важной деловой встрече, а попутно еще – проклинать пробки, лавируя между потоками машин по дороге на эту самую встречу, и заодно заинтересованно прислушиваться к экстренному выпуску новостей по радио.
Тихие дни и тихие вечера. А в телевизоре – взрывы, убийства, война. Тихие дни и тихие вечера. А в интернете – безумные письмена. Тихие дни и тихие вечера. А в телефоне тревожные голоса…Именно эта стереоскопия чувств, способность размашисто и смело совмещать несовместимое так привлекает в стихах «поздней» Лиснянской, в которых неспроста то и дело мелькают слова «ноутбук», «курсор» и им подобные. Ни грана назидательности, уверенности в собственной правоте, избыток легкой (либо глубокой) самоиронии.
Поздняя юность поэта Инны Лиснянской началась, разумеется, на разломе эпох, когда личная неприкаянность тесно сомкнулась с разломами, возникшими на пути целых народов:
На территории игольчатой и лиственной, На черноземной, на болотной, на степной От русской нации до самой малочисленной Нет не обиженной сегодня ни одной. Причины ясные, а следствия туманные. И мы не ведаем, что завтра натворим. Все швы разъехались – и вскрыты раны рваные, Каких не видывал и августейший Рим.Образ разошедшихся швов (отсылающий и к изношенным одеждам, и к обнажившимся ранам) для поэзии Инны Лиснянской переходной эпохи является одним из ключевых. Однако промелькнувшие было намеки на «социальность», симптомы «политической» злободневности из ее стихов достаточно стремительно уходят, на первом плане снова оказывается уединенное раздумье, только в еще более чистом варианте, не отсылающем ни к каким внешним препятствиям. Причина удаления в дом у самого леса – теперь уже вовсе не «квартирный вопрос» и не официальная непризнанность. Дистанцированность от водоворота событий знаменует не вынужденный уход с авансцены, а осознанный шаг в поисках подлинного угла поэтического зрения. Травмы и разошедшиеся швы лечатся не хирургическим путем, но посредством внутренней концентрации и вглядывания в жизнь. Подобное никогда не лечится подобным, в этом героиня Лиснянской абсолютно убеждена.
И здесь нас ждет парадокс: для стихов Лиснянской последних десятилетий характерна предельная простота слога, отключенность от каких бы то ни было «поисков формы», столь важных для русского стиха прошлого и нынешнего столетий:
Пишу стишки простецкие Под маской дневника, – В них мира мысли детские И старости тоска.Но вместе с тем налицо изысканная (порою избыточная) усложненность самых простых по видимости рассуждений. И усложненность эта является не рассудочным умствованием, но органичной способностью интуитивного, «многоканального» восприятия окружающего мира. Лиснянская – помимо любой тенденциозности, намеренности – в высшей степени наделена незаменимым для поэта умением: провидеть в повседневном – исконное и глубинное. Этот доморощенный подмосковный платонизм неоднократно самим же поэтом вышучивается, остраняется:
Я замечала: в счастье ли, в печали, – Все от меня ужасно уставали. И лес устал от странности моей Любить людей и избегать людей. ‹…› Устали от меня и небеса И ленятся закрыть мои глаза. И может быть, когда меня не станет, Моя могила от меня устанет.Ну в самом деле, как не «уставать» от человека, который за обыденностью различает нездешние прообразы вещей и событий, во всяком малом умеет различить присутствие иного, большего. Видимая «усталость» оборачивается для внимательного читателя пониманием простого факта: бесконечные сотни стихотворений Лиснянской, написанных «на случай», вернее, – на любые случаи из жизни (от прошумевшей поздней электрички, до встречи с библейскими местами в Иерусалиме) оказываются единым целым именно благодаря присутствию общей подоплеки, глубинной универсальной темы.
Абсолютный взлет поэтики Инны Лиснянской – ее стихи, посвященные памяти ушедшего мужа и поэта, человека, с которым нацело и набело прожита жизнь. Универсальная тема – соотношение бытовых ситуаций и их проекций в даль вечности – остается в силе. Но ведь еще десятилетие тому назад, в самом начале столетия, еще при жизни друга и спутника, было сформулировано поэтическое кредо Лиснянской («Имена»):
Я пишу лишь о том, о чем я вслух не рискну – В моем горле слова – словно дрожь по коже, Мой язык в нерешительности ощупывает десну, Потому что мне каждое слово, что имя Божье. Оказалось: у Господа много земных имен – Имена земель и пророков, песков и племен, Певчих птиц имена, имена калик и поэтов, Имена деревьев в лазоревом нимбе крон, Имена далеких морей, да и тех предметов, Чей во тьме ореол то розов, то фиолетов.Незаменимый друг, творец стихов – ушел навсегда. И вот оказалось, что именно его имя и слово лучше всего способны описать метафизику здешней жизни. Ни малейшего оттенка ереси или гордыни: вечное явилось Лиснянской во всей конкретности человеческого облика ушедшего собеседника.
Ты всегда говорил мне: – Молись и верь! – И талдычил, как на беду: – Всё, что надо мне, чувствую, будто зверь, – И нашла я тебя в саду. Ты бесшумно ушел, как уходит лев, Не желая почить в норе. И нашла я тебя между двух дерев, Я нашла на снежном дворе…Вот и слово найдено! Добровольное уединение горожанки на лоне подмосковной природы обрело логичную завершенность и полноту как раз в тот момент, когда ежедневное счастье спасительного и неторопливого разговора с природой обернулось ужасом и горем неизбывной потери и жертвы. Только в утрате – шанс не сфальшивить, сохранить голос:
Я вспоминаю тебя по любому поводу. Овеществленная память ныряет под воду Рыбой, владеющей разнообразными жанрами, – Пляшущей всем животом и поющей жабрами, Ищущей музыку между корягой и перлами, Пишущей по серебру разноблесткими перьями, Дышащей былью и болью минутного вымысла, Где твоя свежая смерть в песню подводную выросла. Только бы слышать и слушать эту подводную песнь, только бы слышать!Библиография
Музыка и берег. СПб.: Пушкинский фонд, 2000. 59 с.
Голоса // Арион. 2000. № 1.
Пред окном с пчелиной позолотой // Новый мир. 2000. № 3.
Скворешник // Знамя. 2000. № 6.
В заповедном лесу // Дружба народов. 2000. № 8.
При свете снега. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 43 с.
Голоса // Арион. 2001. № 1.
Глухая благодать // Новый мир. 2001. № 1.
Стихи // Звезда. 2001. № 3.
При свете снега // Дружба народов. 2001. № 4.
Гимн // Знамя. 2001. № 9.
В пригороде Содома. М.: О.Г.И., 2002.
Вдали от моря // Арион. 2002. № 1.
В пригороде Содома // Новый мир. 2002. № 1.
Старое зеркало // Знамя. 2002. № 4.
Стихотворения: Из новой книги «В пригороде Содома» (2001–2002) // Вестник Европы. 2002. № 5.
Тихие дни и тихие вечера // Дружба народов. 2002. № 5.
За ближним забором // Знамя. 2002. № 9.
Одинокий дар. М.: ОГИ, 2003.
День последнего жасмина // Новый мир. 2003. № 1.
Опыт неведенья // Арион. 2003. № 3.
Сорок дней // Знамя. 2003. № 9.
Без тебя // Новый мир. 2003. № 10.
А память взрастает на пепле печали… // Дружба народов. 2003. № 12.
Августовский дождь // Континент. 2003. № 117.
Иерусалимская тетрадь. М.: ОГИ, 2004.
Без тебя: Стихи 2003 года. М.: Русский путь, 2004.
Голоса // Арион. 2004. № 2.
Воздушные виадуки // Знамя. 2004. № 3.
Сверчок. Стихи // Новый мир. 2004. № 3.
Где крестиком миндальный воздух вышит… // Знамя. 2004. № 9.
Над солью вод: Из иерусалимской тетради // Новый мир. 2004. № 10.
Горит душа. Стихи // Дружба народов. 2004. № 12.
Эхо. М.: Время, 2005. (Поэтическая библиотека).
Голоса // Арион. 2005. № 2.
Бредут паломники, гуляют куропатки… // Знамя. 2005. № 7.
Идут как волны годы и стихи… // Дружба народов. 2005. № 8.
Призрачен век и дом // Новый мир. 2005. № 9.
В затмении лет // Континент. 2005. № 126.
Простая почта // Арион. 2006. № 4.
На втором крыле // Новый мир. 2006. № 5.
Поэзия // День и ночь. 2006. № 7–8.
На что вам знать, березы, как бытую… // Дружба народов. 2006. № 8.
Сны старой Евы // Знамя. 2006. № 10.
На четыре стороны света // Новый мир. 2006. № 10.
Сны старой Евы. М.: ОГИ, 2007.
Голоса // Арион. 2007. № 2.
Импровизация // Новый мир. 2007. № 2.
Житье-бытье // Дружба народов. 2007. № 5.
Архивы // Знамя. 2007. № 6.
Перевернутый мир // Новый мир. 2007. № 11.
Птичьи права. М.: АСТ, 2008. 316 с.
Стихотворения // Арион. 2008. № 3.
Проём // Знамя. 2008. № 4.
Поздний гость // Новый мир. 2008. № 5.
Деревья думали иначе // Дружба народов. 2009. № 1.
Рассеяннее света // Знамя. 2009. № 1.
Звук и камень // Новый мир», 2009. № 1.
Неправильный венок // Арион. 2009. № 3.
Столько и спрошено // Знамя. 2009. № 9.
Небесные стропы // Новый мир. 2010. № 2.
Три стихотворения // Знамя. 2010. № 8.
В эту субботу (Стороны света) // Интерпоэзия. 2011. № 3.
Из воска // Знамя. 2011. № 8.
Эхо волны // Новый мир. 2012. № 3.
Царица печали // Знамя. 2012. № 4.
Цветные виденья. М.: Эксмо, 2011.
Гром и молния. М.: ОГИ, 2013. 168 с.
Вдали от себя. СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2013. 192 с. (Поэт).
Станислав Львовский или «Трется душа о косточки, вылетает рывком…»
О стихах Станислава Львовского не только сказано, но написано и даже процитировано если не все возможное, то многое, слишком многое – и это настораживает. Поэт, однако, чутко прислушивается к голосу дружественных толкователей: еще не завершив фразу, которая толкуется, прорабатывает новые смысловые горизонты не в соответствии с органикой внутреннего зрения, но вслед за прозвучавшим сторонним призывом к действию. Понимание и интерпретация сплошь и рядом опережают восприятие и переживание. Из этой гремучей смеси органичного и наносного нередко и состоит стихотворение Львовского:
в начале одного поэтического вечера на сцену вышла дама ‹…› сказала: N – единственный современный поэт поднимающий в своих стихах тему родины я сидел в первом ряду ‹…› и думал, что каждый кто поднимает в своих стихах тему родины (вот как я сейчас) в этот самый момент начинает мыкать тяжелую сыроватую долю какого-нибудь из центральных телеканалов превращается в белого кролика на очередной фокус-группе для изучения предпочтений целевой аудитории ‹…› о родине которая в это время года вся состоит из запаха нищеты в метро утренней темноты выпусков новостей и коричневатого снега застревающего в ребристых подошвах ботинокПоэт-зритель соображает: так, а что нынче значит писать «стихи о родине»? Ответ ясен: это значит – рисковать увязнуть в трясине готовых штампов про «родимые просторы», таков фальшивый социальный заказ. На самом деле, думает наш герой, – родина совсем не такова, не благостна, но «состоит из запаха нищеты» и так далее. Но ведь и неблагостная родина, переполненная до краев насильем и тьмой, – столь же готовая и навязшая в зубах картинка, как и отрадное зрелище святорусского благорастворения воздухов! Обе картинки одинаково правдивы и вместе с тем фальшивы по причине заведомой ангажированности, адресованности разным, но вполне определенным «фокус-группам».
За Львовского тонкие, но однозвучные аналитики уже все досказали, все разложили по полочкам: его поэзия рождается через травму распада (преимущественно постсоветского), поэт особенно чуток к превращенным формам насилия, перекочевавшим из тоталитарного социума в посттоталитарный – тут особенно важна детская, инфантильная жестокость. С формальной стороны его стихи отличает прием увеличенных интервалов между словами (что создает дополнительные к обычным стиховым ритмические созвучия пауз), на уровне мотивов – также выделяется один постоянный ход, когда пишущий словно бы ощущает себя живущим внутри бесконечно длящегося кинофильма. Что ж, все подмечено верно, детской остраненности в стихах Львовского сколько угодно, равно как и зияющих пробелов между словами:
вот и сердце стало сухим и холодным осенью то что казалось солнцем умирает куда-то где нет ни тебя ни меня ни сестер ни братьев ни петушка с курочкой ни лисы ни волкаПоэт «послушно» применяет все эти не то кем-то усмотренные, не то предписанные приемы, на все лады их варьирует. Все свои находки Львовский эксплуатирует столь настойчиво, что (если понимать их в духе вышеописанных однозвучных критических толкований) они стремительно автоматизируются, утратят всякую новизну. Возьмем пресловутый «кинематографизм»: он у Львовского был бы вполне навязчив, если бы не имел прямо противоположного смысла, по сравнению с приписанным «понимающими» критиками.
Напечатано: параллели с кино означают неестественность жизни, вызванную социальными причинами, требующую борьбы и преодоления, поскольку внешнее воздействие до предела упростило повседневность, свело ее к монтажному ряду клишированных положений низкопробного кино.
Следует читать: кинопараллели в стихах Львовского не имеют ничего общего с монтажом. Это, наоборот, нарочито длинные мизанкадры, отсылающие к понятию «запечатленного времени» (по Андрею Тарковскому). Всякое субъективное переживание времени ведет к отчуждению от мира, и причины этого времени коренятся не в социальной несправедливости, но в самой структуре человеческого сознания. Вот, в очередном стихотворении привычно наткнувшись на киношную аналогию:
похоже на то как если бы я оказался внутри второстепенного эпизода какого-нибудь кино, –вдруг понимаешь, что это не второстепенное кино, но второстепенный эпизод, и именно из таковых состоит вся жизнь без остатка.
О Львовском много пишут «свои» и его почти вовсе не замечают «чужие». Тем хуже для последних – утверждают искушенные критики, убежденные в том, что поэт Станислав Львовский оказал большое влияние на свое поколение. Что ж, вполне мог бы и повлиять на многих сверстников за пределами фокус-группы, коли был бы услышан помимо широкой известности в узких кругах. Много раз повторено апологетами: мотивы одиночества и пессимизма в его стихах социальны, прямо продолжают традиции неофициальной поэзии советской поры, яростно деконструировавшей ненавистные символы тоталитарной ортодоксии.
Однако так уж получилось, что только непредубежденные, нейтральные читатели могут увидеть очевидное. Поэтика уединенного сознания в стихах Львовского имманентна, может существовать и в очищенном виде, без малейших ссылок на внешнее неблагополучие в отчизне. Чистые случаи проявления аутентичных для Львовского эмоций ценны в том числе и своей лаконичностью, нерастворенностью в долгих псевдобалладных сюжетных коллизиях:
вода с изнанки стекла стакана привкус как запах ребенкаКонечно, в культурных практиках последних десятилетий экзистенциально уединенное сознание нередко имело следствием социальную активность его носителей, а авангардная поэтика бывала напрямую связана не только с эстетическим, но и действенным политическим радикализмом. Но обратное неверно: невозможно метафизическое одиночество напрямую выводить из несовершенства политического мироустройства, – достаточно напомнить о судьбах Сартра или Симоны Вейль. Кроме того, бунтарские стремления к ломке традиционных художественных форм, к сбрасыванию очередных кумиров с парохода современности чаще всего приводили не к «народным» революциям, но к одному из трех типичных и только внешне неожиданных результатов. Во-первых, часто новации стремительно вырождались в кич, во-вторых, происходило замыкание якобы «общепонятных» приемов и произведений в круге запросов узких элит посвященных знатоков. Наконец, в-третьих, изначально протестные жизненно-художественные практики непреодолимо становились легкой добычей официальной государственной идеологии (против которой и замышлялась непримиримая борьба), присваивались буржуазным укладом, как раз и подлежавшим, в соответствии с исходным замыслом, радикальному отрицанию.
Нередки в стихах Львовского полуузнаваемые инициалы и подлинные имена соратников по медийной тусовке, которым все понятно с полуслова – понятно настолько, что дальше просто и ехать некуда:
Критик N. производит сильное впечатление. Ее вопрос Лене по поводу Другой такой страны мне не найти: Вы же пишете о страшных вещах, но ловите от этого кайф. Долгие попытки выспросить меня о социальной роли литератора. Я не понимаю, о чем она говорит, правда. Портрет И.Б. среди самоваров, Р.К., персонаж множества мемуаров – седой, благообразный, в дорогом сером костюме. Налить вам этой мерзости? Прекрасная поэтесса И.М. То есть, я хочу сказать, очень красивая. Похожа чем-то на Лену Г. из газеты ExLibris.В самом деле, как не видеть, насколько предсказуемо легки пути поэтической обработки первоначальной эмоции уединенного сознания, ее оснащения знакомыми атрибутами советского прошлого:
кого позвать когда трубят трубят орут зовут горнисты дети трубачи их галстуки везде…И как не сказать о том, насколько органичнее выглядят исконные переживания героя Станислава Львовского в те моменты, когда они еще не обвешаны со всех сторон бонусными приметами канонической «социальной» поэзии:
я все время пишу об одном и том же что вот над нами какое-то новое небо и земля под ногами как вчера родилась и кажется это ощущение преследует не только меняНадо только получше разобраться в том, что же это за «одно и то же» в поэзии Станислава Львовского – тогда кривые зеркала перестанут искажать реальную картину его творчества. Как бы только не припоздниться, когда наступит время возгласов об отсутствии прекрасного наряда на плечах голого короля.
Библиография
Мастерская // Арион. 2000. № 2.
Три месяца второго года: Стихи, проза, переводы. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2002.
Стихи о Родине. М.: ОГИ, 2004. 112 с.
Стихи номера // Критическая масса. 2006. № 1.
Сamera rostrum. М.: НЛО, 2008. 164 с.
«читал Хобсбаума…» // НЛО. № 92.
Всё ненадолго. М.: НЛО, 2012. 192 с. (Новая поэзия).
Солнце животных. М.: E-editon, 2014. 128 с. (Электронное издание).
Игорь Меламед или «…я, маленький мальчик, в бессонных ночах…»
Игорь Меламед – один из немногих, почти последних могикан, кто не просто избегает каких бы то ни было новаций поэтической формы, предпочитает точную рифму, но и старается словом и делом доказать, что никакого нового тысячелетья на дворе русской поэзии так и не наступило, вопреки десяткам более или менее громких деклараций. Дело здесь, впрочем, вовсе не сводится к выбору между следованием формальным правилам либо их дерзким игнорированием. Меламед – с теми, кто и в наши дни продолжает полагать, что слово поэтическое – высшая форма существования слова как такового, не только указывающего на мертвый, плоско и примитивно обозначаемый предмет, но и вбирающего в себя живое бытие.
«Дурно пахнут мертвые слова…», «Слово – только оболочка…» – обе классические стихотворные формулы, принадлежащие разным периодам развития русского стиха в XX веке, описывают все то же твердое убеждение в нерукотворности слова, его «причастности тайнам». Нечто сказанное в стихах, в рифму, знаменует новое качество существования – подобные убеждения в наше время нередко воспринимаются как анахроничные, утратившие силу на фоне бесконечных авангардных попыток низвергнуть поэзию с метафизического парохода.
В первое десятилетие нового века ригоризм классической поэтики Игоря Меламеда был поддержан (можно было бы сказать – усугублен) драматическими обстоятельствами, обусловившими закономерное сужение тематического репертуара. Болящий думает о болезни и исцелении, как узник рассуждает преимущественно об обретении свободы. Боль – один из лейтмотивов в стихах Меламеда периода двухтысячных, причем в итоге его рассуждений раз за разом получается, что исходом из страдания оказывается вовсе не обычное избавление от недуга (которое в данном конкретном случае и невозможно, и непредставимо), но нащупывание иного, нового отношения к страданию.
Веет холодом, как из могилы. До рассвета четыре часа. Даже близкие люди немилы – отнимают последние силы телефонные их голоса. Днем и ночью о помощи молишь, заклиная жестокую боль. Милосердный мой, выжить всего лишь мне хотелось бы, если позволишь, – но хотя бы забыться позволь. Неужели такие мытарства, отвращение, ужас и бред исцеляют вернее лекарства, открывают небесное царство, зажигают божественный свет?В этом и других подобных случаях спасение обусловлено даже не буквальным присутствием спасителя (либо Спасителя), но наличием самого шанса спастись. Повторюсь, недуг врачует не медицинское снадобье, уверенность в метафизическом ореоле слов. Для лирического героя Игоря Меламеда, в силу его фатальной обреченности на боль, непредставима ситуация расставания с поэтическим словом как таковым – тогда надежды бы попросту не осталось.
Еще один тематический лейтмотив поэзии Меламеда – стихи о детстве: мать, отец, львовское скудное детство, соседи, врач, неуклюжая девочка-подросток, пришедшая в гости вместе с родителями… Навсегда остановленные и оставленные в прошлом минуты полноты и счастья становятся таковыми только в воспоминании, перед лицом испытанных бед. Нехитрый и небогатый событиями и мыслями быт обретает третье измерение при взгляде из будущего, причем, как боль (смотри сказанное выше) лечится болью, а не наслаждением, так и скудость обретает спасительную тишину, оставаясь по видимости убогой и примитивной. Несовершенство мира не преодолевается банальными стремлениями к «справедливости», к «счастью», но подтверждается повторным переживанием однажды испытанного трепета и неуюта.
На кладбище еврейском в светлый рай тяжелый ветер сор осенний гонит с разбитых плит – приюта птичьих стай. На кладбище, где больше не хоронят, вот здесь твоя могила родилась вблизи чужой – забытой и умершей, где я к тебе приник в последний раз, не веривший и плакать не умевший. Сквозь прах и ветер мне не разобрать, не разгадать среди родного мрака, какую ты вкушаешь благодать у Бога Авраама, Исаака ‹…› («Памяти отца»)Путь поэта заказан обычным смертным. В устах многих других стихотворцев подобная сентенция выглядела бы пустой манерностью. В случае Игоря Меламеда такой вывод кажется если не закономерным, то объяснимым и прозрачным. Хотя бы потому, что поэт сознательно отстраняется от прочих насельников подлунного мира, и в этом дистанцировании нет ни грана гордыни и самовозвышения – поскольку поэт выделен не правом на заоблачные прозрения, но доступом к невыносимому опыту навек не отпускающей боли:
По душной комнате влача полубезжизненное тело, моли небесного Врача, чтобы страданье ослабело. Уйти б туда, где боли нет. Но небеса черны над нами. Закрыв глаза, ты видишь свет. Закрыв глаза, я вижу пламя.Привилегия видеть пламя вместо света оплачена монетой, не подверженной рыночным колебаниям курса. Смерть всегда остается собой, даже когда прикидывается безнадежностью и зубовным скрежетом. Вот почему Игорь Меламед до сих пор, в почти уже полном одиночестве наделен даром лицезреть поэтический абсолют в непоэтическую эпоху – именно в этом его сила и правота.
Библиография
Голоса // Арион. 2002. № 2.
Гроздь воздаянья // Новый мир. 2002, № 2.
После многих вод… // Новый мир. 2003. № 9.
Стихи последних лет // Континент. 2004. № 119.
В темном проеме так силуэт твой светел // Интерпоэзия. 2005. № 3.
В урочный час // Новый мир. 2006. № 7.
Там вечный праздник празднуете вы… // Континент. 2006. № 127.
Поэт и Чернь // Континент. 2008. № 138.
Пять стихотворений // Новый мир. 2009. № 5.
Воздаяние. М.: Воймега, 2010.
Вадим Месяц или «…длится время из старинного романа…»
Вадим Месяц пишет давно и много, его стихи давно завоевали себе твердое место на карте современной русской поэзии – главным образом, благодаря двум свойством – дневниковой подробности и полусказочной условности. Давно живущий на несколько местностей и стран, Месяц привносит в динамику и конкретику повседневных фенологических наблюдений подробности, довольно-таки необычные для русской поэзии, например, океан:
Нет соленее ветра, чем суховей. У океана лишь два лица. Одно – в дуге молодых бровей, Другое – в оспине мертвеца.Сочетание бытовой конкретности и эпической широты взгляда также принадлежат к особенностям поэтической манеры Месяца, причем совмещение крайностей дается ему на редкость легко. Человек глядится в природное зеркало, яснее видит в нем отражение собственных чувств и раздумий, порою не задумываясь о том, что в природе, живущей в большом времени глобальных перемен, неизбежно происходят грозные явления, которые человек просто не в силах застать и осознать, в силу собственной ранимости и недолговечности. Но однако же осведомленность о роковых катаклизмах природы созвучна человеку, непреодолимо важна для него. В запечатлении взаимодействия человека и природы Вадим Месяц вроде бы целиком следует классическим рецептам XIX столетия, однако есть и важное отличие. Титанизм стихий вовсе не разрушает домашности наблюдающего его человека, остающегося таким же немногословным, как всегда, не меняющим голоса.
В вое шакала гуляют опавшие листья. Красная сырость песчаника скрыта туманом. Вспыхнув вдоль края дороги, знакомые лица тут же сливаются с мертвым ночным океаном. ‹…› Не зная, что взгляд на скалистые стогна, сколько б ты ни был в пути, ни мечтал о ночлеге, однажды уткнется в такие же теплые окна, где души столпились как пленники в утлом ковчеге.Мощная поэтика изначального и непреложного присутствия не только в двух климатических поясах, но и в двух национальных традициях выходит на поверхность в стихах Месяца с особой ясностью, когда он пишет о родном как о временно покинутом и возвращено. Океан замещается рекой, картинка сменяет картинку, а на этом фоне всегда происходит обострение чувствительности, внимания к деталям и движениям жизни.
Разолью чернила, забуду искать бумагу, потому что время идет только снаружи. И позвоночник длинного речного архипелага покрывается инеем в зыбкой рассветной стуже. ‹…› Вот и хлопают двери в великой моей Сибири. Все ушли. И скоро уйдут их души. Думай только о них – чтоб скорей забыли: Человек состоит из воды. И полоски суши. («В гостях на родине»)Месяц прекрасно осознает специфику своего существования между разных национальных границ и климатических зон, не даром же восклицает: Нету мне места на этой земле, в белой столице и черном селе… Отсюда остается уже всего лишь полшага до фирменных месяцевских экспериментов со временем пространством, в результате которых герои оказываются то в мире сологубовской околославянской нежити, то в пространстве северных скандинавских легенд. Вадим Месяц творит свои шаманские Йокнапатофы давно и со знанием дела, причем их границы оказываются в отдельные моменты легко проницаемыми, и тогда происходит своеобразное комментирование и уточнение обыденных событий посредством их чудесных и легендарных прообразов.
Можжевеловые прелые скиты, воскрешенья пустотелые киты незаметно размягчаются в тепле и с молитвой растворяются в земле. Годы их трудолюбивой тишины торопят прощенье истинной вины, и отчаявшийся легковесный грех вместе с дымом поднимается наверх… («Чернецы»)Можно сколько угодно вести речь о некоторой однотонности стихов Вадима Месяца, об отсутствии в них титанических чувств и событий, однако без его голоса, без его преданного постоянства в поэтике. без верности теме бесконечного вглядывания в ряд волшебных изменений вечно живой природы – без всего этого современную русскую поэзию едва ли можно представить.
Библиография
Мы детские люди // Знамя. 2000. № 3.
Через зеркало ледяное // Урал. 2000. № 10.
Час приземления птиц. М.: Наука/Интерпериодика, 2000. 127 с.
Норумбега // Знамя. 2005. № 12.
Из книги «Норумбега» // Слово/Word. 2005. № 46.
Стихи // Новый журнал. 2005. № 240.
Норумбега // Интерпоэзия. 2006. № 4.
Не приходи вовремя. М.: Изд-во Р. Элинина, 2006. 47 с.
[Стихи] // Крещатик. 2007. № 3.
Стихи // Урал. 2008. № 5.
Красная нитка // Новый мир. 2007. № 10.
Стихи // Урал. 2008. № 12.
Безумный рыбак. М.: Русский Гулливер; Центр совр. лит., 2008. 100 с.
Невидимый посох // Новый мир. 2009. № 8.
Стихи // Урал. 2009. № 10.
Цыганский хлеб. М.: Водолей, 2009. 368 с.
Норумбега: Головы предков. М.: НЛО, 2011. 432 с. (Новая поэзия).
Подземный день // Интерпоэзия. 2012. № 3.
Торможение времен // Урал. 2012. № 7.
Из «Имперского романсеро» // Новый мир. 2012. № 11.
Имперский романсеро. М.: Водолей, 2012. 176 с.
Из «Северного цикла» // Урал. 2013. № 4.
Линия обороны // Урал. 2014. № 5.
Лариса Миллер или «Я опять за свое, а за чье же, за чье же?..»
Лариса Миллер – поэт нефальшивых нот, ясности и предельной искренности. Основной вопрос в ее стихотворениях звучит с последней прямотой: откуда мир, зачем в нем я? Предельные по своей сути вопросы к бытию всегда оборачиваются банальностью и пафосом, тем более важно отважиться их задать. Так Николай Ростов, проигрывая Долохову за ломберным столом фатальные сорок три тысячи, в смятении спрашивал себя: как же связаны ловкие движения рук друга-противника, тасующих карты, с потерей состояния и утратой дворянской чести? Малое сопряжено с великим, неброское подает сигналы о вечном – так получается у Ларисы Миллер, порою совершенно в манере Ходасевича:
Эти поиски ключей В кошельке, в кармане, в сумке, В искрометности речей И на дне искристой рюмки, В жаркий полдень у реки, И на пенной кромке моря, И в пожатии руки, И в сердечном разговоре, И когда не спишь ночей, Вдохновенно лист марая… Эти поиски ключей От потерянного рая.И вот тут почти мгновенно оказывается, что в подобных прозрачных формулировках слишком многое повторяется, предвидится и узнается заранее. Как будто бы на протяжении десятилетий звучит одна и та же, пусть и подкупающая искренностью песня: человек просыпается (выходит из дому, бросает взгляд на заоконный пейзаж и т. д.) и понимает, что за окном лето (осень, зима и т. д.), и также – что, несмотря на это (или благодаря этому), мир щедр и совершенен (или печален, или бессмыслен).
Полные наборы возможных переменных давно замкнулись, уже много раз, например, за окном обнаруживался август – вот несколько случаев почти наугад:
Живу, ни во что не вникая. Меня за собой увлекая Летят августовские дни… …Ласкает солнечный июль, А может, август – губы, руки… …Августовский день нарядный, Ненаглядный, ненаглядный, Ты помедленней теки…В итоге получается, что тривиальность, всегда сопутствующая предельным вопрошаниям о бытии, прорывается на первый план, вынося за скобки повторяющиеся варианты времени-места и эмоций-оценок, остается в сухом остатке. Несмотря на бессмыслицу и пустоту напрасного случайного дара, жить стоит, поскольку предвечная статика, благое присутствие творца в творении даруют нам путь к радостному смирению и упоению.
А жизнь идет – за кругом круг, – Идет, и все ей сходит с рук. Сквозь вереницу черных дней Идет, и горя мало ей. Воспрянув от любой беды, Сухой выходит из воды. И шепчешь, в рюмке боль глуша: «Жизнь в самом деле хороша».Ясность и прозрачность здесь по-прежнему присутствуют, но есть и всегдашняя и несколько однозвучная камерностьНадежда побеждает прах, и белый день бесконечен и светел. Не хватает, пожалуй, внимания к тому, что происходит со стихом в последние годы и десятилетия? Да ведь и существование не сводится к утренним пробуждениям от сна с пером в руке…
Библиография
Птица легкого пера за окном моим летает… // Дружба народов. 2005. № 1.
Новые стихи // Новый берег. 2005. № 7.
Робкая тайна // Новый мир. 2005. № 9.
На наречии чудном // Континент. 2005. № 124.
Сто оттенков травы и воды… М.: Время, 2006. 160 с. (Поэтическая библиотека).
Лето // Зарубежные записки. 2006. № 6.
Живи. Не бойся. Бог с тобой… // Дружба народов. 2006. № 12.
Живи как умеешь // Континент. 2006. № 127.
Горлинка на груди // Новый мир. 2007. № 3.
Девочка с высоким лбом… // Арион. 2007. № 4.
Земное дитя, неразумное чадо… // Континент. 2007. № 131.
Золотая симфония. М.: Время, 2008.
Земное золотое дно // Дружба народов. 2008. № 5.
Скворцы прилетят // Новая Юность. 2008. № 6(87).
Накануне не знаю чего // Континент. 2008. № 135.
Нужны слова, которых нет в природе // Континент. 2008. № 138.
Накануне не знаю чего. М.: Время, 2009. 112 с. (Поэтическая библиотека).
Под звон тишины // Новый мир. 2009. № 3.
А главное, чтоб мы любили… // Арион. 2009. № 4.
Точнее о счастье // Новая Юность. 2009. № 6(93).
Что-то горнее, что-то земное // Дружба народов. 2009. № 7.
Простыми словами // Зарубежные записки. 2009. № 17.
Стихотворения // Новый берег. 2009. № 23.
Потаенного смысла поимка. М.: Время, 2010. 112 с. (Поэтическая библиотека).
Из новых стихов // Новая Юность. 2010. № 6(99).
Небо, небо // Новый мир. 2010. № 9.
Если б я жила умело… // Континент. 2010. № 143.
С новой строки // Континент. 2010. № 145.
Четверг пока необитаем. М.: Время, 2011. 160 с. (Поэтическая библиотека).
Как удивительно: все сделалось само… // Арион. 2011. № 1.
На счастье намек // Дружба народов. 2011. № 3.
…Из обрывков покинутой яви. Стихи // Сибирские огни. 2011. № 9.
И на землю сошел глубочайший покой… // Арион. 2012. № 1.
Счастливое слово // Новая Юность. 2012. № 3(108).
Праздники по будням. М.: Время, 2013. 126 с. (Поэтическая библиотека).
Намек на благодать. М.: Время, 2015. 192 с. (Поэтическая библиотека).
Вадим Муратханов или «Метеосводка – весть о небе…»
Для поэтического зрения Вадима Муратханова главное – природа самого зрения как оптического феномена, способа контакта с вещами вне нас. Как же все-таки на самом деле устроено пространство, какого цвета предметы – все это праздные вопросы без учета устройства зрительного аппарата. У человека зрение бинокулярно и приспособлено различать спектральные оттенки между ультрафиолетовым и ультракрасным – отсюда способность видеть мир в прямой линейной перспективе и быть убежденным в синеве безоблачного неба. Фасеточные глаза насекомых, дар инфракрасного видения ночных птиц делают видимые ими картинки принципиально иными, отличными от тех, что воспринимает человек. Зрительная способность со времен платоновской метафоры о тенях на стене темной пещеры неразрывно связана со способностью суждения и познания. Лирика Вадима Муратханова начинается там, где стартует размышление об истинной геометрии вещей и событий, то есть – не стесненной привычными параметрами зрения, выходящей за их пределы. Поэзия как раз и есть наилучший способ покинуть тесные рамки повседневной инерции бытового видения, для этого (сквозная, универсальная метафора Муратханова!) достаточно «выключить» привычное освещение – иногда буквально:
Внезапно в доме отключили свет. Старушка пред экраном потемневшим вдогонку недоговоренной фразе глазами еще несколько секунд нащупывает мыльную поверхность бразильской мелодрамы. ‹…› Женщина за письменным столом, устало опустив худые плечи, свое в дисплее видит отраженье взамен свечения несохраненных букв. ‹…› Привычные и умные предметы беспомощно таращатся вокруг безвременно погасшими глазами. Природа оживает, между тем. Ее синица где-то за окном поет о том, что в пыльном междутемье листвы вечерней места хватит многим желаньям, сожалениям, и света до сумерек должно хватить на всех. («Свет»)Основной парадокс налицо: выход за пределы обыденного лишь открывает иную обыденность, более глубокую и естественную. То, что казалось природным, обнажает собственную искусственность, иллюзией оказываются именно те усилия, которые, казалось бы, призваны оберегать от иллюзорной поверхностности и прямой лжи. Значит, поэзия – вовсе не средство обрести особый «авангардный» дар самовитого слова и угловато смещенного зрения, не путь к тому, чтобы «смазать карту будня», но, напротив, – средство воскрешения первоначальных традиционных способностей зрения и суждения, поначалу (некогда в прошлом) очевидных, но впоследствии замутненных внешними и внутренними обстоятельствами, препятствиями.
Таких постоянно преодолеваемых «персональных» препятствий на пути к затрудненной простоте естественной поэзии для Вадима Муратханова ровно два: обиход большого города, скрывающего краски и линии неурбанистического быта, и – парадоксальность русской языковой среды, родной и чуждой одновременно. Начнем с города – того самого мегаполиса, к которому линия судьбы привела поэта, рожденного в столице Киргизии (еще не Кыргызстана, то есть – не в Бишкеке) и окончившего филологический факультет в Ташкенте. Именно с учетом притяжения-отторжения к мегаполису, постоянного урбанистического соблазна становится понятной особая роль электрического, городского света, не помогающего подлинному видению, но препятствующего ему:
Когда под вечер не дают смотреть вокруг дома прямые, покажется на пять минут, что солнца нет в реальном мире. И не было во все века, и небеса светились сами. А были только облака с подкрашенными парусами. («Под вечер»)Электрическое освещение – довесок к естественным «техническим характеристикам» человеческого зрения, и без того, как уже сказано, затрудняющего путь к восприятию подлинности мира. Этот ровный свет убаюкивает, успокаивает, побуждает примириться с иллюзорностью:
Не включая свет, попробуй посмотреть зимой в окно: все окрашено в багровый, ветками оплетено. То ли грозное знаменье, то ли что-нибудь еще – но прервет недоуменье выключателя щелчок. Возвращен глубокий космос. На душе покой и косность. За окном – средь черноты полка, лампочка и ты.Коль скоро зрение – метафора познания, то в области познавательной роль инструмента-препятствия играет язык, определяющий контуры поэтической гносеологии столь же непреодолимо, как диктует параметры видения бинокулярное либо фасеточное зрение. Парадоксально, но факт: получившая немалую известность «ташкентская» школа русской поэзии по-настоящему состоялась как раз после переселения ее зачинателей в первопрестольную столицу. Вопреки первому впечатлению критиков вовсе не экзотически-пряная восточная поэтика оказалась здесь на первых ролях. Не классическая азиатская роза прививается к московскому дичку, но чуть ли не наоборот! Русский язык, бывший некогда роднее всех родных наречий, в конце концов оказывается почти чуждым поэту из древнего (XIV век!) рода золотоордынского Мюрид-хана. Отсюда невиданная на просторах русской поэзии обильная россыпь узбекской речи в стихах Вадима Муратханова.
Подчеркнем, речь идет не о двуязычии, но об относительности любого языка как средства познания и выражения, дело знакомое: ни ячейка-фасетка, ни хрусталик не позволяют прорваться к «объективному миру». Не только поэт замкнут в собственном творческом зрении, но и мир оказывается функцией от поэтического видения, по слову классика, некогда обронившего что-то про родившийся прежде губ шепот. У Муратханова так:
Когда этот день станет невыносимо странным рассмеюсь – и все изумленно исчезнетВ том-то и дело, что якобы подлинная суть вещей, прячущаяся под покровом поверхностных прочтений («бинокулярных» ли, «фасеточных» – никакой разницы!), и сами эти прочтения оказываются равновеликими, бесчисленные субъективные проекции наслаиваются друг на друга, становятся частью объективности, без них более не представимой. Мгновенные снимки умственного зрения начинают жить собственной жизнью, мир двоится и троится, небо одновременно является голубым и инфракрасным, язык стиха – русским, но увиденным в странной тюркской перспективе. Именно здесь начинаются подлинные прозрения русского поэта Вадима Муратханова:
Конечный миг рисуется с трудом. Зато виденью верю неизменно, где в мир иной наш деревянный дом с закатом переходит постепенно. И день за днем, обличьем не стара, моя незаменимая сестра, вытягивая руку над гардиной, ведет борьбу с растущей паутиной. Она заранее включает свет, чтоб комната успела осветиться. Она всю ночь готовит мне обед на несоленой медленной водице.Не только цвета, но и моменты времени тоже существуют одновременно, начало мира и конец света уже случились и вечно случаются, длятся – расслышать негромкую музыку их существования в настоящем может лишь поэт, близко к сердцу принявший уроки недоверия к очевидности дневного света и родного языка. Этот поэт убежден в том, что
…нет, не покинут человек. Метеосводка – весть о небе. Помятый магазинный чек – напоминание о хлебе.Это убеждение вселяет надежду, подобную мечтам Андрея Болконского, узревшего нежданно расцветший старый дуб. Впрочем, князь Андрей, как помнится, еще не раз разочаровался в том, что «жизнь не кончена в тридцать один год». Будем уповать на то, что подобное разочарование в ближайшие годы Вадима Муратханова не постигнет.
Библиография
Из цикла «Поэма прошлогоднего ветра»// Дружба народов. № 4. 2000.
Групповой портрет // Арион. № 3. 2001.
Три цвета. Стихи Вадима Муратханова, Сухбата Афлатуни, Санджара Янышева / Вступление Анатолия Наймана // Октябрь. № 5. 2001.
Поэма двора // Новая Юность.№ 6 (51). 2001.
До сумерек. Ташкент: Ижод Дунеси, 2002.
Непослушная музыка. Алматы: Жибек Жолы, 2004.
Пробуждение // Октябрь. № 5, 2004.
Портреты. М.: ЛИА Р. Элинина, 2005.
Семь стихотворений // Новая Юность. № 2 (71). 2005.
Памяти Шишкина // Интерпоэзия. № 4. 2006.
Ветвящееся лето / Предисл. А. Наймана. М.: Изд-во Р. Элинина, 2007. 47 с. (Русский Гулливер)
Стихотворение // Арион. № 4. 2007.
В границах высыхающего моря // Дружба народов. № 11. 2007.
Поэма ветвящегося лета // Новая Юность. № 5 (86). 2008.
На жизнь вперед // Октябрь. № 7. 2008.
Из цикла «География памяти» // Дружба народов. № 10. 2008.
Стихи // Звезда. № 12. 2008.
Удивись и замри // Новый мир. № 12. 2008.
Из книги «Цветы и зола» // Интерпоэзия. № 4. 2009.
Июльский день // Дети Ра. № 8 (70). 2010.
Вариации на темы рока // Новый мир. № 9. 2010.
Промежуточный дом // Дружба народов. № 11. 2010.
Стихотворения // Арион. № 1. 2011.
Неподвижный день // Октябрь. № 11. 2011.
Анатолий Найман или «Без радости, без слов, попробуй их любить…»
О поэзии Анатолия Наймана пишут мало, почти непростительно редко. То ли потому, что в последние годы он опубликовал так много прозы, то ли в результате какого-то недоразумения: иногда принято относить его лирику по разным прошлым ведомствам – всем известная тройка-четверка поэтов вокруг поэта-гения, не менее известный город (даже породивший в поэзии свою «ноту»), известная эпоха горячих иллюзий и полузапрещенных квартирных и студийных сборищ. Все это подлинный антураж поэзии Наймана определенных мест и времен, декорации, ныне достойные историко-литературного музея. Другой город за окном, иное время, совсем не те журналы и литераторы вокруг. И – другие стихи.
В поэтическом интерьере Анатолия Наймана все вещи и люди занимают свои места, реквизит подсчитан и расставлен, границы обрели раз-навсегдашнюю стабильность. Вот – занимающийся за окном апрельский день, вот – музыка и ею сфокусированные былые чувства, здесь – нездоровье и усталость, рядом – роковая память о потерях, за нею вслед – неодолимое желание увидеть за тенью свет. Вот любимая внучка, взрослеющая на глазах, тут же – разъедающие мозг бессилие и бессмыслица, вопреки которым все же хочется жить и жить дальше. Поэзия обращена на определенный и константный ряд предметов и тем, ей вроде бы не к чему стремиться, она не видит самое себя, как глаз неспособен рассмотреть себя без зеркала.
Поэтическое отношение к миру при этом оказывается абсолютно универсальным, не нуждающимся в особых, специальных прозрениях, под его воздействием превращаются в пламя «простые вещи: таз, кувшин, вода» – строка Арсения Тарковского здесь более чем уместна, хотя Найман, пожалуй, более радикален; в тот же ряд простейших преображенных поэзией вещей он помещает субстанции гораздо менее совместимые: климат, любовь, смерть.
Всё те же двести или сто стишков, как нам оставил Тютчев, неважно, все равно про что, не обязательно чтоб лучших; свод околичных формул, чей знал Ходасевич нервный трепет, невзрачней детских куличей, какие вдоль песочниц лепят; колонн руины на плато, где шли перед царем спектакли, которых текст писал Никто, рыдая, – Анненский, не так ли?.. Подбор свидетельств о писце, не бронзы, а графита хрупче, крошащегося на конце карандаша над спорной купчей, – короче, двести– или сто – страничное в чужом конверте тебе, не то твое письмо о климате, любви и смерти.На каждом, мельчайшем участке реальности лежит след его былого наблюдения великими поэтами. Причем велик тот, кто не задумывается о сентенциях и истинах, а просто смотрит, видит и говорит, обязательно наедине с самим собою, помимо желания прожечь насквозь «сердца людей».
Исторгни тост не тост Из говорения: – За безответственность Стихотворения! За звук, не в очередь На штамп ко вкладышу, Не чтобы речь тереть, Упавший на душу…Есть в теннисе специальное понятие – «невынужденная ошибка»: сбой в игре, никак не спровоцированный ни соперником, ни внезапным порывом ветра. Анатолий Найман то и дело демонстрирует в стихах невынужденную безошибочность. Точность и стройность наблюдения часто ничем извне не обусловлена, не подкреплена предшествующей рождению текста эмоцией. Именно поэтому по рифмованным строкам Наймана не получается скользить, улавливая лишь общий тон и гул, – здесь сохранено сравнительно редкое для нынешней лирики свойство: соразмерность каждого стихотворения отдельной эмоции-мысли, нераздельному единству впечатления и суждения. Суждение, например, такое: чистота и просветленность любимого детского лица может быть только наблюдена, но не способна обрести взрослое название, поскольку не подлежит учету и контролю отвлеченных понятий. Я вот про что:
Отражается то или сё на лице, как в зерцале, – но чистым, как цветок, остается лицо, обращенное к выцветшим лицам, непричастное к этим и к тем, всем сродни, ни на чье не похоже, словно то, что есть солнце и тень, все равно роговице и коже. Все лицо – это лоб, крутизну перенявший у бездны небесной; но и щеки, на ощупь волну с водяной поделившие бездной; но и губы, когда их слова покидают, как звук, как улыбка, как улитка домок, как пчела сад, в который закрыта калитка. Наконец, это глаз: как он щедр тем, что сходства ему недодали, – безмятежность чурается черт, чистоте не присущи детали. Не гляди же, как мы, – удержись в полузнанье твоем бесподобном – смыслом жизни стирается жизнь, как любовь объясненьем любовным.Поздняя зоркость взгляда определяет в поэтике Наймана очень многое, отказ от демонстративных порывов перекомпоновать раз навсегда позволяет сосредоточить внимание на углубленной внутренней работе со смыслами.
Чем меньше остается знать, тем глубже в узнаванье ярость вонзает шпоры – тем загнать необходимей насмерть старость.«Загнать насмерть старость» – ключевая формулировка, отчасти имеющая характер оксюморона: то ли избавиться от старости, преодолеть ее, то ли без остатка и с полным напряжением и самоотдачей израсходовать остаток жизненных сил. Борения наймановского героя, как водится, протекают без свидетелей, наедине. Усилия прилагаются в отсутствие прямого оппонента, они, как уже говорилось, невынужденны и безошибочны. Если невозможно иное, необходимо не просто принять предписанное, но стать его вдумчивым свидетелем и соавтором, даже если впереди не брезжит свет и надежда.
Быть под знаком, под дланью, под властью незнакомца, который один учит жизни как хрупкому счастью, но велит себя звать господин, – о, я за! Я-то за! Да и кто же против?.. Кроме него одного – в истонченной носящего коже золотое мое вещество. Рад служить – но плениться нельзя им до конца как возлюбленным. Рад жизнь отдать ему, но не хозяин ей, а раб я. Так может ли раб? Грош цена мне – но что ж с недоверья начинать и, вспоров в Рождество, выпускать из подушек, как перья, неземное мое существо?В стихах Наймана на первом плане не открытия, не приращения смысла, а новые обоснования неизбежного, бесконечные отделочные работы, направленные на то, чтобы раз навсегда определить и закрепить в слове статус всех окружающих предметов. Прилаженными друг к другу в итоге оказываются все звуки, запахи и буквы; мир, не утрачивая трагической обреченности, обретает если не предельную осмысленность, то «сплошность», «сквозность» – не знаю, точно ли отражают сказанное эти не слишком внятные окказионализмы.
Где в слове дух? Где, то есть, ужас в ужасе? А я скажу! Он в эс и жэ и у. Их, этих трех, кто сколько бы ни тужился, ужасней не найти. Я так скажу: дух слова – буква. Сумма букв. Ни менее, ни более. Покой и пропасть в о не то что бездна а. Все дело в пении по буквам, по крючкам – я вот за что!..Стихотворения Анатолия Наймана нередко начинаются с момента пробуждения у героя сознания, особого умения видеть, которое приходит ранним утром либо на закате. Чем спокойнее человек рассказывает о своих ощущениях, тем лучше понимаешь, что у него нет другого выхода, кроме этого неспешного рассказа. Этот только что очнувшийся от навязчивой слепоты человек готов ко всему, даже к тому, что никто его не услышит. И оттого с годами голос его все слышней и слышней.
Библиография
Ритм руки. М.: Вагриус, 2000. 128 с.
Песочные часы // Октябрь. 2000. № 1
Жизнь, убегая // Новый мир. 2000. № 4.
Кратер // Октябрь. 2001. № 1.
Львы и гимнасты // Новый мир. 2001. № 3.
Блеск на ноже // Октябрь. 2002. № 1.
Софья. М.: ОГИ, 2002. 24 с.
Прячась в свою же тень // Новый мир. 2002. № 3.
Фисгармония // Новый мир. 2003. № 1.
Поминки по веку // Новый мир. 2004. № 1.
Каллиграфия и кляксы // Октябрь. 2004. № 1.
Деревенский философ // Октябрь. 2005. № 1.
Свой мир: Три стихотворения // Интерпоэзия. 2005. № 2.
Свой мир // Новый мир. 2005. № 4.
Ахеронтия Атропос // Новый мир. 2006. № 5.
С грустью, с грубостью // Октябрь. 2006. № 9.
Три стихотворения // Вестник Европы. 2006. № 18.
Бумажный планер // Новый мир. 2007. № 5.
Вот ты, вот я // Октябрь. 2007. № 6.
Слова в узелке // Новый мир. 2008. № 3.
Слюна и перышки // Знамя. 2008. № 4.
Стихи // Звезда. 2009. № 3.
Тсс и тшш // Новый мир. 2009. № 3.
Так вышло // Новый мир. 2010. № 4.
The city // Октябрь. 2010. № 8.
Стратфорд-на-Эвоне, улица, вброд… // Октябрь. 2010. № 10.
Из дыр хэнд-секонда // Новый мир. 2011. № 5.
Незваные и избранные. М.: Книжный клуб 36’6, 2012. 450 с.
Олеся Николаева или «Тайный смысл невольных совпадений…»
В начале и в зените своей литературной судьбы Олеся Николаева – поэт не просто удачливый, можно даже сказать – счастливый. Несколько раз – как в результате непреложных исторических обстоятельств, так и благодаря широте стилистического диапазона, – ей удавалось вовремя отойти в сторонку от вынужденно общепринятого либо модного культового мейнстрима, избежать подверстывания под рубрику, включения в обойму, причисления к «направлению». Прежде всего, Николаевой не пришлось побывать в роли «советского» подцензурного поэта, вечно стоящего в живой очереди на право издать очередной сборник, ведущего позиционную войну с редакторами и редакциями, а заодно – и с собственным «внутренним цензором». Слишком уж далека была «тематика и проблематика» ее стихов от общепринятого канона советской поэзии, мобилизованной и призванной быть «жизнеутверждающей», обращенной к «социальной проблематике» и т. д. Однако Николаева не успела (и не пожелала) стать одним из неподцензурных поэтов, печатающихся в самиздатских журналах, выступающих на домашних вечерах, борющихся с «тоталитарным режимом» в политике и литературе.
Успешно пройдя мимо почти всеобъемлющей антитезы между признанными «мастерами поэтического слова» и неподцензурными поэтами-борцами, чьи тексты в перестроечные годы были заново открыты широким читателем в качестве «возвращенной литературы», Олеся Николаева оказалась наедине со своей собственной, внутренней стилистической развилкой – между «женским» бытовым стихописанием и интонацией проповедника, говорящего притчами, приводящего назидательные примеры, всегда держащего в поле зрения четвертое, метафизическое измерение вещей и событий.
До поры до времени обозначенная развилка не становилась распутьем, более того, обе составляющие (свободная сосредоточенность на земном, на «девичьем» и поиски совершенного и идеального) дополняли друг друга, взаимно гарантировали подлинность.
Но больше всех прости меня, больной, прости, калечный, и прости, убогий, за то, что рьян и крут румянец мой, высок мой рост, неутомимы ноги…Ощущение «вины» перед увечными и несчастными, вызванное собственным цветущим здоровьем, является подлинным именно потому, что обе – часто почти не совместимые – эмоции плодотворно сосуществуют. Упоение своей молодой силой не застит сочувствия к тому, кто ею не обладает. И наоборот, ценность сопереживания ближнему не отрицает внимания к себе самому, к свободной радости, говоря словами Мандельштама, «дышать и жить». Легко представить иные – гораздо менее привлекательные и плодотворные варианты сочетания обоих начал. Аскетичное самоотвержение легко может перечеркнуть саму возможность пристального внимания к земным радостям. И наоборот, прямолинейное и подчеркнутое обращение к «характерам и обстоятельствам» повседневной жизни вполне способно обусловить стойкую аллергию ко всякой «метафизике», принимаемой за ханжество и общее место.
До поры до времени Олесе Николаевой удавалось совмещать крайности, подсвечивать благоговение перед полнотой земной жизни повинной оглядкой на «жизнь вечную»:
Надо, надо ли трудиться и мозолью натирать холм, и дерево, и птицу, луг и леса благодать? Ничего не надо делать! Смертью все чревато там, где запрятан действа демон: «Мне отмщенье – аз воздам».В российскую эпоху смены времен Олеся Николаева нередко работала на границах стихотворчества как такового, порою оказывалась на территории притчевого, учительного слова. В новом столетии поэт все чаще заточает себя в строгие рамки назидательной риторики, что неизбежно приводит к сужению голосового диапазона, во многих случаях – к предсказуемости лирической логики. Во многих стихотворениях раз за разом возникает довольно жесткое противопоставление бытового заблуждения, сопряженного с сомнением, утратой свободы, неверием и несчастьем, и, с другой стороны, напряженного внимания к вечному и праведному, дарующему подлинную свободу смирения и откровения. Жизненные ситуации нередко подлежат заранее заданным оценкам, при этом композиция стихотворений строится по двухчастной схеме: ты (он, она) думал (думала), что жизнь такова («низка», «проста», «несчастлива», «неправедна»), а на самом деле – в конце выставляются все соответствующие обозначенным особенностям «высокие» альтернативы:
Этого Алешеньку я знала великолепно. Он когда-то прекрасно рисовал клоунов: у каждого – попугай и собака… А потом – вырос, сделался коммерсантом, сбежал за кордон, там обанкротился и застрелился в Монако. ‹…› Ничего не осталось! Никто не видел тот край, куда они ухнули… И лишь с улыбкой широкой на ватмане ветхом клоун, собака и попугай клянутся, что – ни при чем, ни с какого бока!Высшая справедливость настигает не только коммерсантов и депутатов, но и литераторов:
Он исписался. Он теперь в жюри, в комиссиях по премиям и грантам и в комитетах, – заперт изнутри наедине с инсультником-талантом. ‹…› Чтоб наконец затихла колготня соперничества, рвенья, окаянства и стало б всё как до Седьмого дня – без самодеятельности и самозванства.Подобная довольно-таки однообразная назидательность прямо сопрягается и с «консервативной» поэтикой:
Что твердишь ты уныло: нет выхода… Много есть входов! Есть у Господа много персидских ковров-самолетов. ‹…› Потому что здесь все не напрасно и все однократно: если выхода нет, пусть никто не вернется обратно! Но войти можно всюду – нагрянуть ночною грозою, сесть на шею сверчку незаметно, влететь стрекозою, нагуляться с метелью, озябшими топать ногами, на огонь заглядеться, на многоочитое пламя: как гудит оно в трубах, как ветер бунтует, рыдая… …И окажешься там, где свободна душа молодая!Самое поразительное в том, что за повторяющейся риторической схемой стоит искреннее, живое переживание жизни, да вот беда, как раз с традиционным-то искусством все это мало совместимо. С точки зрения традиционной лирической поэтики нанизывание ситуаций, иллюстрирующих сколь угодно верную притчу, выглядит простым ритуалом, повторением абсолютной истины о том, что и дважды два – четыре, и восемь, деленное на два, и шестнадцать – на четыре, – все равно, как ни крути, выходит четыре, да что мне, читателю в том, коли я привык черпать нравственные силы в Священном Писании, а от искусства жду чего-то иного. Рискуя впасть в патетику, вспомним все же, что даже известные в истории русской литературы великие попытки сблизить либо отождествить искусство с прямым (моральным) влиянием на жизнь, оканчивались трагически. Поздний Гоголь вместо обещанного продолжения «Мертвых душ» публикует «Выбранные места из переписки с друзьями» – книгу в своем роде гениальную, но многими воспринятую как симптом безумия. Поздний Толстой пишет роман-бунт «Воскресение», пытается заново переписать Евангелия, и это тоже оборачивается трагедией. Обе великие попытки переступить через сомнительно-вольную природу искусства были безусловно авангардными по своей сути, не отсылающими к традиции, а перечеркивающими привычные устои искусства.
Конечно, и у Олеси Николаевой, несмотря на отчетливое господство во многих стихотворениях упрощенно понятой «традиционности», много и на словах отвергаемого «авангарда» – не только в тех вещах, где дружески упоминается Лев Рубинштейн. Вот, например, стихотворение «Магдалина», где под сомнение ставится сама возможность подобающего восприятия и духовного освоения современным человеком сакральной смысловой топики:
Ну-ну, а ты попробуй нынче: в покаянье приди к архиерею, на колени пади, слезами вымой ему ноги, так волосами даже не успеешь их вытереть – тебя под белы руки оттуда выведут, и хорошо, когда бы все это обошлось без шума, вздора, пинка, а так – иди, мол, не тревожь владыку! ‹…› И вот я думаю – какой экстравагантной, ломающей поденщину и пошлость Благая Весть нам кажется сегодня!..Да, в нашей сокрытой духовной жизни лучше бы, коли все свершалось бы без полутонов, перед лицом ясной неотвратимости возмездия за грех и столь же неоспоримого воздаяния за подвиг. Но поэзии все это почти всегда противопоказано, поскольку искусство – не приговор и истина, но область возможного, вероятного, зыбкого, желанного, но трудно достижимого.
Я не помню, когда это стало заметно каждому: факел твой накренился и стал чадить – паленым запахло, дымом потянуло, подернулось копотью. Как ножевой порез – почерк без волосных, но – сплошным нажимом. Факел твой накренился – и дальний лес заскрипел, черные сучья топорща: вместо снежка и манны с неба крошится труха, ледяная известка, мел, словно и дом твой небесный рушится, безымянный. Что бы ни ел, ни пил – казалось, все – по усам… Тосковал. Томился. Тихою сапою, наконец, взял да и сдался сам. Вот тогда-то факел и накренился…Как только гарантированный аллегоризм уступает напряженному сосуществованию обычной жизни на грозном фоне недостижимой нормы, в стихи Олеси Николаевой возвращается поэзия. И ведь бывает, бывает же!
Библиография
Ничего лишнего // Новый мир. 2001. № 5.
Ты имеешь то, что ты есть // Новый мир. 2003. № 3.
Испанские письма. М.: Материк, 2004. 84 с.
Остальное возьму… // Арион. 2004. № 1.
Повсюду – тайны // Арион. 2005. № 2.
Бескорыстный эрос // Новый мир. 2006. № 1.
Отражение в зрачке // Арион. 2006. № 3.
Двести лошадей небесных // Знамя. 2006. № 5.
Ничего страшного. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007. 440 c.
Тридцатилистник // Арион. 2007. № 3.
Национальная идея // Новый мир. 2007. № 8.
Двести лошадей небесных. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. 128 с. (Поэтическая библиотека).
Осуществленная свобода // Арион. 2008. № 2.
Стихи // Арион. 2008. № 4.
500 стихотворений и поэм. М.: Арт Хаус медиа, 2009. 752 с.
«Щастье» // Арион. 2009. № 4.
Герой // Новый мир. 2009. № 4.
О, если бы… // Знамя. 2009. № 6.
Сложный глагол «быть» // Арион. 2010. № 3.
Преображение вещей // Знамя, 2011, № 6.
До небесного Иерусалима. СПб.: Издательская группа Лениздат, 2013. 128 с.
Герой. М.: Время, 2013. 192 с. (Поэтическая библиотека).
Лев Оборин или «неделимость простых вещей»
У Льва Оборина есть своя тема: он всматривается в слова и вещи, как будто слышит и видит их как в первый раз, вернее сказать, – всматривается в отмеченные значениями соответствия слов и вещей. Так ведь получается, что все вокруг уже кем-то и когда-то названо словами, учтено в словарях, навсегда зафиксировано, оформлено правилами словоупотребления. Первобытная нетронутость мира словом напрочь позабыта, даже сам процесс наречения вещей аккуратно вписан в разнообразные скрижали – от знаменитого платоновского диалога «Кратил» до учений о статусе слова в мировых религиях.
Оборин формулирует свою позицию достаточно прямолинейно, хотя и не без иронии:
каталожник я и книжник ты художник передвижник спросишь чем стекло покрылось что в окне туманит сад плача от потери силы я отвечу конденсат! то в ушах моих концлагерь марширующих с бумаги слов которые не имя тут себя я оборву я уже любуюсь ими улыбаюсь и живуСтоит подчеркнуть, что речь идет не о позиции поэта и его стремлении выразить мир в слове, дело в другом – в принципиальной невозможности «самовитого» слова, не запертого заранее в словаре. Это хроническая персональная недостаточность словоупотреблений особенно болезненна именно для художника, причем даже не в моменты высших прорывов вдохновенья, а просто при попытке «назвать вещи своими именами», даже самые прозаичные, вроде старой подставки для цветочных горшков в виде разнокалиберных металлических кружков, приваренных к вертикальному стержню.
Колченогая железная ось советского производства раскидала кольца под глиняные горшки Встречи, лица объединяются в гнёзда, как в словаре Даля Язык мстит целомудренным словарям и нецеломудренным словарямБезысходная двусмыслица несоответствий: язык шире, чем совокупность словарных норм, мир шире, чем язык. И это касается не только бытовых вещей и размышлений, но и фундаментальных принципов бытия, например – законов физики. Почему-то нам прекрасно известно, что свет движется с наибольшей возможной в мире материальных вещей скоростью. Мы не в силах поставить этот закон под сомнение не только потому, что любая физическая формула предельно отдалена от индивидуальных возможностей конкретного человека, но и по той причине, что мы не учитываем важнейшую роль материи языка, незримо посредничающего между отдельной личностью и ее восприятием физических законов. Между тем, при попытке применить абсолютно верную физическую формулу к реальности парадоксы возникают на каждом шагу:
Солнце ползет по низинам, по замерзшим трясинам, По горным вершинам, по стариковским морщинам. Идет и заглядывает в ледяное озеро, Высвечивает лягушек в анабиозе. Ответ без вопроса. Ни для кого примета. Нет ничего медленней скорости света.Итоговый вывод для эмпирического восприятия мира столь неоспорим, как незыблемы законы физики с точки зрения традиционной рациональной логики. Нельзя не отметить, что одна из магистральных тем Льва Оборина, будучи ориентирована на абсолютно непосредственное, незамутненное никакими теориями восприятие происходящего вокруг, все же по происхождению своему носит характер совершенно теоретический, умозрительный, будучи накрепко связанной как раз не с удивленными вопросами обычного человека, созерцающего мир, но с достижениями и выводами разнообразных гуманитарных наук – от английской аналитической философии, уделяющей главное внимание бытийственным характеристикам лингвистических феноменов, до современной когнитивистики, исследующих психологические и языковые «технологии познания». И все же один из основных приемов Оборина имеет к повседневным эмоциям современного человека весьма прямое отношение. Что-то подобное вполне можно было бы сказать о знаменитых толстовских примерах остраненного изображения реальности. Николай Ростов созерцает, как движутся руки Долохова, тасующего и сдающего карты, и думает о том, как связаны эти движения с грядущими последствиями его крупного проигрыша: руки движутся, а я утрачиваю состояние и честь – как это происходит, каким образом первое связано со вторым?
В мире укрупненных деталей и углубленных наблюдений над алгоритмами связи слов и вещей возникает абсолютно современная тема, имеющая отношение к любому человеку. Речь о его несвободе, о глобальной зомбированности не только ложными идеологемами, но и шаткостью бытовых норм и устоев.
Нынешний запретительный психоз, охвативший полмира, напрямую связан с тем, что более невозможно отличить «целомудренное» от «оскорбительного», поскольку, по Льву Оборину, Язык мстит целомудренным словарям и нецеломудренным словарям.
Вот раздвигается кулиса; блудливые глаза пуриста, любовь и гордость окулиста, высматривают недочет, разыскивают экстремиста; но тут со сцены все стремится, со сце стремится и течет, как по реке, на плавнике и хлоп магнитом по щеке!Так или иначе, мы живем в мире, в котором разрушено сотрудничество означающих и означаемых, все события не только могут быть истолкованы по-разному, но и объективно имеют различную природу, напрямую зависящую от способа называния:
я ноги промочил. я что-то промычал. мне в спину луч светил и что-то означал пустую похвалу и полую хулу и то, что я стою в ветровке на углу.Ну и что же теперь делать: не задаваться «оборинскими» вопросами с риском утратить свободу мысли и действия, стать объектом манипуляций, «органным штифтиком», в который так боялся превратиться герой Достоевского? Или эти вопросы все же перед собою поставить – с риском утратить стимул к любому жесту и действию, поскольку страх зомбирования лишает малейшей способности активно присутствовать в мире? Нет, задуматься необходимо, иначе невозможно овладеть своими же эмоциями, ну, хоть бы при посещении аптеки:
С аптечной стены наблюдают внимательно за тобой Боярышник и подорожник, бессмертник и зверобой. В детской больнице бодришься, но размышляешь о том, Как на стене Лисица общается с Колобком. Простые изображения. Плацебо и суррогат. Но только глаза закроешь, они в темноте горят. Меня вот не отпускают, как бы я ни хотел, Ни Колобок с Лисицей, ни трава чистотел.Избыток видения, единожды обретенный, более невозможно выключить, типовые вопросы возникают практически в любой отдельно взятый момент жизни, скажем, когда вдруг становятся различимы шаги соседа с верхнего этажа.
Когда шаги сосед над головой другой в метро хрипя толкает в бок вот этот студень кашляет живой вот маятник вверху он одинок Сказать о них нарочно напролом но звук скользит и вот сравнить готов как быстро едешь вымершим селом ненужный скальпель меж гнилых домов Простая речь пускает в закрома взгляните убедитесь ничего пусты сусеки и зерно письма истолченоСуществует, конечно, и противоположная опасность – человечеству грозит не только тотальная унификация и деперсонализация личности, но и угроза прямо противоположная: распадение общности собеседников, способных к диалогу, говорящих на одном (пусть и конвенциональном, клишированном) языке на немую толпу одиночек, лелеющих свою автономию и свободу и совершенно лишенных возможности понять друг друга. И у этой проблемы есть свои философские предтечи – место британской аналитической философии здесь займет континентальная метафизика прошлого столетия, вернее, борьба с традиционной метафизикой, например сартровская…
Энтропия выходит замуж за время, у них не рождаются дети. Время везде рассылает своих термитов. Даже сама эта мысль с наивностью превращается в горстку вопросов разнокалиберного тщеславья: первый ли я на земле, произнесший это? Нет, успокойся. Вряд ли. Человек не живет без железа в крови, но оно ржавеет, как табличка с названием итальянского полустанка. Странно, но никогда до этой самой минуты я не говорил ничего, что так бы шло вразрез с ощущением. Потому что я счастлив.Ведь сказано же, что счастье – это когда тебя понимают! Здесь, правда, речь не о необходимости взаимного понимания друг друга людьми с разными убеждениями, о котором речь шла в старом фильме советского времени. Взаимопонимание нынче затруднено не только различием мнений и убеждений, но и проблематичностью мнений и убеждений самих по себе. В ракурсе поэтических рассуждений о природе восприятия слов и вещей Лев Оборин, пожалуй, не имеет себе равных уже сейчас. Это не отменяет однако пожелания выхода за пределы описанной магистральной темы – тогда Оборину окажутся подвластны также и иные рубежи смысла.
Библиография
Объемно и в цвете. М., 2002.
«Солнце ползет по низинам, по замерзшим трясинам…» и др. стихи // Волга. 2009. № 1–2.
В плотных слоях кукурузы // Зинзивер. 2009. № 3–4 (15–16).
Мауна-Кеа. М.: Арго-Риск, Книжное обозрение, 2010.
Магматический очаг // Дети Ра. 2011. № 5 (79).
Пусть будет так // Интерпоэзия. 2012. № 2.
Бесстыдство // Октябрь. 2012. № 8.
Натуральный ряд // Интерпоэзия. 2014. № 1.
С точки зрения смолы… // Урал. 2014. № 11.
Вера Павлова или «Метастазы наслажденья…»
Новость и свежесть поэзии Веры Павловой постепенно обратились в атрибуты поэтического амплуа – это нужно сказать сразу. С учетом существенных изменений в восприятии образа и мифа Павловой, ставшего привычным, почти рутинным, – более понятен (по контрасту) шок, некогда объявший ценителей поэзии и блюстителей устоев и принципов, впервые узревших на бумаге коротенькое павловское «Подражание Ахматовой»:
и слово х… на стенке лифта перечитала восемь раз подрядНеизвестно, сколько еще раз перечитывали этот общедоступный текст поклонники и хулители, но его краткость сразу же была воспринята в качестве преданной сестры новоявленного таланта. Этакие эротические хокку – вот к чему приучила Павлова читателей, – впрочем, со временем стало ясно, что эротика в этих доморощенных малостишиях может и отсутствовать, главное – меткая наблюдательность и созерцательная медлительность, таящая скрытую энергию:
Книга на песке. Ветер дает мне урок быстрого чтенья.«Японские» ассоциации на этом не исчерпываются: сокровенные признания просвещенной дамы, блюдущей собственную независимость, пристально всматривающейся в детали жизни вокруг, не замыкающейся в пространстве спальни, детской и трапезной, – ясным образом отсылают к знаменитой книге Сей Сенагон или по меньшей мере к ее экранизации – фильму Гринуэя, соименному одному из сборников Веры Павловой («Интимный дневник отличницы»):
С наклоном, почти без отрыва, смакуя изгибы и связки, разборчиво, кругло, красиво… Сэнсей каллиграфии ласки внимателен и осторожен, усерден, печален, всезнающ… Он помнит: описки на коже потом ни за что не исправишь.Какие еще фоновые смысловые подтексты неизбежно возникали у читателя, некогда изумившегося смелости Павловой? Реалии рубежа позапрошлого и прошлого веков: «Дневник» Марии Башкирцевой, первые сборники Ахматовой, мистическая Черубина де Габриак – образчик исступленной женственности совершенно иного рода, но так же властно популярная у читателей вплоть до самого разоблачения мистификации. Если приглядеться хорошенько, то и «Павлова Верка» может показаться мистифицированным объектом, сознательно выстроенной конструкцией, поскольку основные мотивы ее писаний сплошь сотканы из узнаваемых лоскутьев. От «протофеминистической» (так и хочется употребить слово-сорняк «гендерной») мощи Башкирцевой до нетленного облика «полумонахини, полублудницы», невпопад надевающей перчатки.
Что еще? Ирония в адрес всех «мужских» попыток описать сокровенную тайну соединения тел и душ (от «Песни песней» до «Зимней ночи» и пушкинского сокрытого шедевра «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…»). Кстати, о пастернаковском стихотворении разговор особый: Павлова не без блеска пародирует демонстративную, вселенски трогательную неловкость влюбленных из нобелевского романа:
Свеча горела на столе, а мы старались так улечься, чтоб на какой-то потолок ложились тени. Бесполезно! …Образ (или призрак?) «сексуальной контрреволюционерки» возник в стране, где за пару лет до описываемых событий и секса-то не было, ежели кто не помнит. Призрак оказался – с человеческим лицом, и он (вернее, она) без боязни и без утайки бойко заговорил «про это» в самых разных контекстах и ракурсах. Самыми важными и глубокими, как можно предположить, оказались два контекста этого словоизвержения. Во-первых, субкультура детства, отнюдь, впрочем, не сводимая к шалостям пубертатного возраста.
В школе в учителей влюблялась. В институте учителей хоронила. Вот и вся разница между средним и высшим образованием.Во-вторых, библейские обертоны, придавшие полузапретной сфере жизни новую легитимность, освященную благородной архаикой стиля и серьезностью интонации:
и стал свет внутри живота и закрыла глаза боясь ослепить и закрыла лицо как Моисей и увидел ты что мне хорошоСложнейший смысловой конгломерат детской чистоты и инфантильной жестокости, женской эмансипации и супружеской уступчивой нежности, библейской сакрализации и почти обсценной брутальности оказался привлекательным, органичным, жизнеспособным. С шокирующим явлением и эпатирующим присутствием Павловой и «павловской» поэтики на территории русской поэзии читатели и критики вроде бы смирились, потом привыкли, а вскоре перестали понимать, как могло быть иначе, без нее. Многие тексты приобрели известность почти хрестоматийную:
Спим в земле под одним одеялом, обнимаем друг друга во сне. Через тело твое протекала та вода, что запрудой во мне. И, засыпая все глубже и слаще, вижу: вздувается мой живот. Радуйся, рядом со мною спящий, – я понесла от грунтовых вод плод несветающей брачной ночи, нерукопашной любви залог. Признайся, кого ты больше хочешь – елочку или белый грибок?Потом (теперь!) наступили самые сложные времена: налет актуальной запретности исчез, новизна и свежесть ослабели – слишком сильным был замах, чтобы добиться настолько же мощного броска в будущее. С годами очевидней стал принятый Павловой добровольный обет упрощения многоцветья жизни, рамки павловского проекта новой российской социоэротики оказались достаточно тесными. Рядом с суженым горизонт существования героини Веры Павловой оказался весьма суженным, ничего тут не поделаешь, не попишешь. Что-то ушло прочь или все же возможно освежение «павловской» темы в русской поэзии? Кто знает – нам остается только Вера!
Библиография
Совершеннолетие. М.: ОГИ, 2001. 348 с.
Интимный дневник отличницы. М.: Захаров, 2001.
Вездесь. М.: Захаров, 2002.
Голоса // Арион. 2002. № 2.
Голоса // Арион. 2003. № 2.
Систола говорит «да» // Новая Юность. 2003. № 6 (63).
По обе стороны поцелуя. СПб.: Пушкинский Фонд, 2004. 160 с.
Голоса // Арион. 2004. № 3.
Путь и спутник // Новый мир. 2004. № 5.
Стихи // Звезда. 2005. № 2.
«Не знаю, кто я, если не знаю, чья я» // Знамя. 2005. № 2.
Одно касание в семи октавах // Интерпоэзия. 2005. № 2.
Голоса // Арион. 2005. № 3.
Частный случай счастья… // Новый мир. 2005. № 10.
Письма в соседнюю комнату: Тысяча и одно объяснение в любви. М.: АСТ, АСТ Москва; Минск: Харвест, 2006. 616 с.
Ручная кладь: Стихи 2004–2005 гг. М.: Захаров, 2006. 320 с.
Сурдоперевод // Арион. 2006. № 2.
Гораздо больше, чем хотела // Знамя. 2006. № 3.
Убежит молоко черемухи… // Зарубежные записки. 2006. № 8.
Стихи // Вестник Европы. 2006. № 17.
Стихи // Новый журнал. 2006. № 243.
Три книги. М.: АСТ, 2007.
Голоса // Арион. 2007. № 1.
Жители рая // Новый мир. 2007. № 10.
Мудрая дура. М.: Аванта+, 2008.
Детский альбом Чайковского // Арион. 2008. № 3.
Последнее люблю // Арион. 2009. № 2.
В темноте босиком // Знамя. 2009. № 2.
На том берегу речи // Интерпоэзия. 2009. № 2.
Принцесса на горошине // Новый мир. 2009. № 2.
Стихи // Арион. 2010. № 2.
Однофамилица // Новый мир. 2010. № 9.
Однофамилица: Стихи 2008–2010 гг. Детские Альбомы: Недетские стихи. М.: АСТ, 2011.
Женщина: Руководство по эксплуатации. М.: АСТ, 2011.
Стихи // Арион. 2011. № 3.
За спиной у музыки // Октябрь. 2011. № 9.
Семь книг. М.: ЭКСМО, 2011. 544 с. (Поэзия XXI).
Либретто. М.: АСТ, 2012. 416 с.
Александр Переверзин или «Счастливого детства осечка…»
Воспоминание, переосмысление – важнейшая модальность поэзии. Упоение настоящим недолговечно, размышление над минувшим обладает совершенно другим запасом прочности, поскольку опирается на жизненный опыт, имеющий свою историю и потому приближенный к подлинности. Вот и в стихах Александра Переверзина часто речь заходит о прошлом, о детстве, и эти воспоминания, на первый взгляд, совершенно стандартны, обычны:
счастливого детства осечка случилась где школа одна у мелкой загаженной речки за редким забором видна лет десять тому здесь бараки сгорели сегодня горят огни дискотеки лишь баки помойные те же стоят…В этих стихах важно не содержание воспоминания, но сам факт несовпадения наличного и запомнившегося, улавливание способности помнить исчезнувшее – так, что именно «осечка» памяти становится главным содержанием наблюдения. Молодое упоение молодостью рискованно, поскольку почти неизбежно уступает место эмоциям «вовремя созревшего человека», а зрелое нередко (и часто преждевременно) становится однообразно старческим.
Александру Переверзину почти всегда удается удержаться на грани наивного упоения юностью и псевдоглубокомысленного обращения к канувшим молодым силам. В современной поэзии он сохраняет не молодость сил и возможностей, но молодое удивление своим негромким даром.
Мне хотелось быть в детстве врачом, космонавтом и просто грачом, чтоб весной прилетать во Власово, как грачи на картине Саврасова. Я любил танцевать и петь и на девочку Юлю смотреть, слушать песню про город Иваново и невест. Я Ивана Жданова не читал, а читал про волшебников и не знал, кто такой Холшевников. Я тогда не работал над словом, не зачитывался Соколовым, словари за собой не таскал…Говорит все это человек, конечно, прочитавший и Жданова (Ивана), и Холшевникова (книги по теории стиха), но по-прежнему норовящий жить и писать мимо пристрастий и правил, работать по законам простого присутствия в жизни общей, пусть порою понятой упрощенно и без интеллектуальных излишеств. Более того, именно простота становится основой и гарантией невыдуманных смыслов, именно из нее может вырасти понимание таинственной сложности жизни.
Не забуду с дошкольного самого, как боялись канадцы Харламова: Кларк впечатывал, Хоу окучивал, он их пачками здесь же накручивал. Сила – скифова, мужество – греково, воля – ромова. Зависть – канадова. Им теперь и бояться-то некого, разве только какого бен Ладена. К горизонту щербатое, братское подползает шоссе Ленинградское, федеральное автологово. Тьма чайковская. Пламя блоково.Тьма и пламя в последней строке сошлись вопреки более очевидным антонимам (например, свету и льду). Каким образом «из пламя и света рожденное слово» возникает из хоккейной неуступчивости образца 1972 (или 1976) года? И каким образом связывает то и другое парализованная пробками многострадальная Ленинградка, получившая в последние годы неуклюжий титул «вылетной магистрали»? Сопряжение очевидного и тайного, бесхитростного и многосложного происходит в стихах Переверзина совершенно спонтанно, его главная цель – не тривиальный сеанс разоблачения черной магии, но ее умное и умелое сбережение, бдительная охрана от мастеровитых хакеров. Тайное становится явным, не утрачивая загадочности. В стихи обращается не только сор, но и любой пустяк, попавший в силовое поле воспоминания, мгновенное превращение быта в стих не обставлено атрибутами алхимии или литургии.
Конечно, сохранить первозданность преображения тайны в тайну, минуя прозрачную тривиальность, Переверзину удается не всегда. Порою в зазоре между органикой эмоции и непринужденным ее воплощением в слове оказываются слишком уж простые разгадки, обычно связанные с отношениями «я» и «ты», неизбежно меняющими знак молодого удивления чудом рождения стиха на слишком очевидные формулы из серии «ты со мной = прекрасно», «я без тебя = невыносимо».
Иногда в стихотворении попросту нечему разрушаться, поскольку все разгадки известны еще прежде начала разговора о загадках – да, случается и такое:
Воздух хватаю, держусь на плаву, Свой рыбий рот разеваю: «Да, я живой. Я тобою живу, Только тобой прозябаю».Здесь (стихотворение «Ворон») не спасает даже попытка вернуть исконный (пушкинский) смысл слову «прозябать», которое означает то самое прорастание, оживление, что и в строке про дольнюю лозу. Впрочем, гораздо чаще Переверзин избегает преждевременных разгадок, сохраняет в неприкосновенности первоначальную трехмерность исходного образа.
Не знает, как освободиться, и бьется под моим плащом бесчеловечная синица – в ней центр тяжести смещен. Собрав оставшиеся силы, прошила ребра до спины, на клюв трахею накрутила, и вышла с левой стороны.Сложность позиции Переверзина состоит в его одиночестве, осторожном приближении к поэтике разных поэтических направлений и групп. Но известно ведь, что одинокие и нелюдимые, уклонившись от соблазна примкнуть к стихотворному гурту, становятся чересчур похожими на других «поэтов вне группировок». Хочется надеяться, что этого не произойдет. Тем более что у Александра Переверзина есть вещи самобытные и масштабные.
Все вышли из земли, и все в нее войдут. Переступая, ветер проберется В беспозвоночный и глухой уют Еще не набежавшего колодца. Заточенным штыком раскроют глубину, Перерубая кряжистые корни, С рассыпчатого дна увидят вышину, Присядут покурить на свежем дерне. Бросая трижды землю навсегда, Пройдут по кругу взрослые, как дети, И воздух светел, и чиста вода, И всхлипы эти, причитанья эти… Покажется, что пропасть широка, Не хватит скорбной силы хороводу, И только землекопы в три штыка Доделают привычную работу. А я смотрю на это не дыша И чувствую, как в тишине гудящей Вся жизнь моя, вся легкая душа Боится оказаться настоящей.Библиография
Голоса // Арион. 2005. № 3.
Коллекция за стеклом // Октябрь. 2006. № 5.
Небо наизнанку // Новый мир. 2006. № 6.
Наша поэтическая антология // Новый берег. 2006. № 12.
Стихотворения // Арион. 2008. № 3.
Документальное кино. М.: Воймега, 2009. 48 с. (Приближение).
Чайник // Новый берег. 2009. № 23.
По компасу наискосок // Сибирские огни. 2011. № 4.
Вера Полозкова или «Рифмоплетство – род искупительного вранья…»
Ну надо же в конце-то концов разобраться, что такое известность поэта сегодня, какова она на вкус и цвет, а главное – возможна ли, необходима ли вообще? Предварительный диагноз очевиден: поэт может претендовать на сколько-нибудь «широкую» популярность почти исключительно благодаря обстоятельствам привходящим, не связанным напрямую с материей стиха и смысла. Если вынести за скобки проплаченные аршинные билборды, соборно славящие застольных плясунов и незатейливых рифмователей всех мастей, то в сухом остатке обнаружится обратная пропорциональность между широтой известности и экспертной оценкой. Ясно же, что узок круг дегустаторов, которые могут не просто определить вино как «хорошее», «приятное», но способны без запинки назвать сорт винограда, год снятия урожая и место разлива. Вот и истинные свойства поэтических манер и отдельных текстов поначалу внятны далеко не всем, для этого необходим опыт прочтения и удерживания в памяти многих тысяч текстов, осведомленность о том, что происходило в поэзии в прежние столетия, происходит сегодня. Только по гамбургскому, цеховому счету можно судить о мере достоверной ценности стихов, стихотворений и поэтов. На поверку-то, на Незнайкин взгляд, все стихи выглядят примерно одинаково. Недаром герой Булгакова недоумевает, почему Пушкин удостоился своих лавров, коли писал вполне заурядные стихи, вроде «Буря мглою небо кроет». Итак, зависимость обратная: удостоверить подлинность поэта способны сравнительно немногочисленные эксперты, читательское меньшинство, далеко не всегда готовое перевести свои оценки на язык, понятный и доступный большинству. А «широкая» популярность усваивается сразу большинством, то есть – в обход круга экспертов, а значит, на основании каких-то привходящих, второстепенных параметров. Самый главный из них – медийная известность, которой обладают, например, Вера Полозкова или Дмитрий Быков. Правда, медийность здесь разная, в случае Быкова речь может идти об общественном резонансе некоторых его текстов и проектов, главным образом политико-сатирических, что, кстати, вовсе не мешает серьезности и полновесности стихотворений, не входящих в корпус сочинений фельетонного жанра.
А вот с Верой Полозковой ситуация иная – здесь медийный довесок известности зиждется на устном чтении и пении, на эстрадности и театральности, которые поэзии вроде бы далеко не противопоказаны, но традиционно вызывают скепсис у знатоков.
Увы, при попытке сколько-нибудь полно познакомиться с корпусом сочинений Полозковой подобный скепсис только нарастает. Огромное большинство ее произведений ограничивается узким диапазоном тем, связанных с до-, «во время» и после-любовными отношении неких стандартизированных Я и Ты. Убогость вариантов взаимного (не)счастья влюбленных налицо:
Целуемся хищно И думаем вещно; Внутри меня лично Ты будешь жить вечно;или:
Без всяких брошенных невзначай Линялых прощальных фраз: Давай, хороший мой, не скучай, Звони хоть в недельку раз;или:
– Уходить от него. Динамить. Вся природа ж у них – дрянная. – У меня к нему, знаешь, память – Очень древняя, нутряная.Ну, собственно, и далее в том же духе. Всякому, кто претендует на сотворение поэзии не только после Аушвица, но хотя бы после Блока и Ахматовой, должно быть внятно, что на фоне и под тяжестью всего написанного за последние лет двести – самыми трудными для поэтического освоения становятся самые простые, первоначальные ситуации вида «я думаю о близком человеке» либо «я любуюсь замечательным пейзажем». Нынче нельзя просто так, как бы с нуля, взять да и начать делиться с внимательным читателем собственными эмоциями по поводу вечера, красивых глаз или отчего дома – со стопроцентной вероятностью на выходе окажутся тексты Дмитрия Александровича Пригова.
Вера Полозкова, несмотря на все обозначенные опасности, рискует и – выигрывает, но, увы, только в глазах среднестатистического потребителя грамотного эстрадного продукта. Конечно, сама Полозкова прекрасно осознает всю узость своего репертуара тем и чувств, тем более на фоне работы признанных мэтров рок-поэзии:
Ну и что, у Борис Борисыча тоже много похожих песен. И от этого он нисколько не потерял. Он не стал от этого пуст и пресен, Но остался важен и интересен, Сколько б сам себя же ни повторял – К счастью, благодарный материал. Есть мотивы, которые не заезжены – но сквозны. Логотип служит узнаваемости конторы. Они, в общем, как подпись, эти самоповторы. Как единый дизайн банкноты для всей казны…На поверку в стихах Полозковой главенствует прямолинейная авторская эмоция, уж сколько раз в подлинных стихах проблематизированная и возможная только как повод для развития темы, а не гарантия ценности текста. Впрочем, упомянутая в только что процитированном фрагменте, отсылающем к опыту Б. Б. Гребенщикова, песенная допустимость самоповторов вполне имеет право на существование. Читатель подобных стихов (как и слушатель рок-концертов) специально настроен не столько на сложное приобщение к уникальной манере авторского описания эмоции, сколько на узнаваемость самой эмоции, которая в конечном счете совершенно не уникальна, даже универсальна. Предел подобной универсальности – реакция «широкого» читателя и зрителя на произведения низового искусства в широком смысле слова. Именно эта доведенная до банальности повторяемость ситуаций и эмоций делает возможным успех экзотической мыльной оперы: «гляди-ка, ихний бразильский Карлос делает то же и чувствует так же, как Валерка и Сашка из соседнего подъезда».
Вера Полозкова честно делает свое кровное дело, честно его оценивает, понимает, что ее стихи в абсолютном своем большинстве не более чем способ фиксации собственных эмоций:
Рифмоплетство – род искупительного вранья. Так говорят с людьми в состояньи комы. Гладят ладони, даже хохмят, – влекомы Деятельным бессилием. Как и я.Конечно, порою хочется большего:
Наблюдая, как чем-то броским Мажет выпуклый глаз заря, Я хочу быть немного Бродским – Ни единого слова зря.Получается редко и не метко, так что на серьезную поэзию все это и вправду похоже лишь немного.
Библиография
Фотосинтез. М.: Livebook / Гаятри, 2008. 112 с.
Непоэмание. М.: М.: Livebook / Гаятри, 2010. 212 с.
Осточерчение. М.: Livebook / Гаятри, 2013. 184 с.
Андрей Поляков или «В ближней точке местности та же даль…»
Андрей Поляков то и дело меняет маски. Ломая каноны традиционной поэтической речи, слывет адептом акмеистической прекрасной ясности; прячась за ставший привычным образ крымчанина по рождению и призванию, выказывает близкое родство с поэтами «ленинградской школы». Издает толстый сборник «китайских» текстов, перенасыщенных мотивами и картинками из поэзии и живописи Срединной империи, и в то же время подчеркивает родство с наследием империи более близкой по времени и пространству. Вот с этой, второроссийской, советской империи и начнем:
Как сделать что было в начале, что были мы дети страны, что верхние сосны качали и мы собирались нужны? Стихи говорили чуть слева… Признал у костра пионер, что, кстати, названия слава не важно ему, например. Но возрасты уж поменялись! Прошедшего вряд ли вернуть. Зачем разве сосны качались, чтоб нас хорошо обмануть? В лесу на лежачей опушке, подросший всего ничего, вдруг был нам какой-нибудь пушкин, а мы пропустили его.Мотив «пропущенного пушкина» с маленькой литеры – крайне важен. Если не замечен, пропущен, что дает право носить имя «нашего всего»? Ответ прост – точность самоощущения, верность самооценки. «Пушкин в себе» – самодостаточен, не нуждается в премиях, интервью и в официальном признании. Таков, конечно, и сам Поляков: большинству завсегдатаев столичных литературных сходок специально приходится пояснять, где он живет и что пишет, но суть дела от этого не меняется: Андрей Поляков много лет делает свое дело, ему известно, почем золотистого меда струя, он знает также, что
Умер Пан в Севастополе, в дальний отсюда день в сине-светлом облаке, в пыльно-плывущем небе в тишине советских, советских, советских Муз ничего не запомнив ничего не запомнивВпрочем, Полякову менее всего свойственно почивать на лаврах спокойной убежденности в твердости ассоциативных связей обеих империй, незыблемости античного поэтического наследия. Одно из самых известных стихотворений («Орфографический минимум») наглядно иллюстрирует тягу к переменам, к выстраиванию препятствий и их последующему преодолению:
Акация, хочу писать окацыя, но не уверен, что возьмут ломать слова, когда канонизация литературы, где людей живут. Не пушечный, хочу найти подушечный – мне сильно видно на глазах: успенский мышечный и ожегов макушечный в отрывках, сносках, черепках… Под лестницей-кириллицей скрипящею перилицей могу уметь, пока ходящею, шипящею, свистящею я отвечает мне, что он ему ответь.Дерзкое преодоление языковых оков означает выход к новым горизонтам свободного усложненного поэтического высказывания, но здесь нужна, нет, не умеренность, но чуткое внимание к узнаваемости и стабильности смыслов слов. Орфографический (а также синтаксический и семантический) минимум – не выдумка, он на самом деле существует и требует соблюдения, в противном случае получается вот что:
Я как-то помнится, что «А» хотел сказать, подвигав памятник защёчный! и чудесный; в нем речь кончается то дергать, то качать, то: в столбик синтаксис нарезать интересный. Богат, коллоквиум, промежностью, подчас, слегка, эротики, допустим, структуральной, из-под, веселые, мы, вылезли, печально, и, ну, затрагивать, культурных, васисдас! Нам им чтоб хочется жилось наискосок – кривило зеркало и кофе мимо чашки; всё переставлено – попробуй, потомок? – там ударение, где вукбы на мубажке. До референции, до кладчика всерьез молчать заслушаем негромко и нарочно, что слово сделано, а кем из нас – конечно! такпо при ветствуем к тоэто про изнёс: «Чшу Шлуя вем удне, ехайскиа можи, коде прываше вы? кугде бы на Аране, не гурувех целай бужасшваннея пане, кек жолевриный крин в чожиа лобажи. Чшу нед Эрредую кугде-ту пуднярся? Сай дринный вывудук, сай пуазд жолевриный! Я списук кулебрай плучар ду саладины: бассуннаце, Гумал, шогиа пелося».Посвященный не без труда расслышит в этой тарабарщине чеканные строки Мандельштама, к тому же намеренно данные в неправильной последовательности:
Что Троя вам одна, ахейские мужи? Куда плывете вы? Когда бы не Елена, На головах царей божественная пена – Как журавлиный клин в чужие рубежи…Тяжесть и нежность оригинальных строк отделяет от туманной взвеси перифраза какой-то странный шифр, закон перекодировки – вполне уловимый, но находящийся за пределами допустимого орфографического минимума, напоминающий не то о синдроме афазии, не то о птичьем языке «структуральной эротики» семидесятых годов прошлого столетия. Не случайно в том же стихотворении прямо и косвенно упоминаются тогдашние властители филологических дум – М. Бахтин (долгое время живший в Саранске), Ю. Лотман, В. Топоров:
Тогда раскольником старуха топоров похожа Лотмана в Саранске на немного – места помечены обмылком диалога: саднит орудие в усах профессоров.Оба компонента гремучей смеси – советский новояз и утонченный лексикон новой филологии – отсылают к одним и тем же временам заката империи, когда только и мог жить «пропущенный пушкин», не выдержавший испытания фальшью и двусмысленностью последних лет прошлой власти в России. Поляков двусмысленность дозволенных речей превращает в свободу сложного высказывания, апеллирующего к противоположным языковым первоначалам – при непременном условии соблюдения орфографического минимума понимания. Однако принятая на вооружение боевая оснастка перестает срабатывать, как только исчезает мишень для прицельного боя: тоталитарный монстр и мир рухнули, Крым отошел к неведомо откуда взявшейся соседней державе, значит, уже не нужно впадать, как в ересь, в неслыханную сложноту. Аллюзии на прежде полузапретных акмеистов, Хлебникова и Пастернака больше не свидетельствуют о личной причастности тайнам, ворованным воздухом перестала быть (впрочем, вопреки мнению многих) даже поэзия автора определения поэзии как ворованного воздуха.
Орфографический минимум не работает в условиях отмены орфографии как таковой – системы языковых запретов и предписаний. В исчезающе упрощенной пунктуации СМС-сообщений – воздух новой эпохи. Именно в этих непривычных условиях Андрей Поляков последних лет пытается нащупать очередные поэтические возможности, соответствующие манере его поэтического мышления. Больше незачем создавать причудливые римейки смыслов, поскольку легитимны и правомочны их прозрачные первоисточники. Вот почему Поляков с переменным успехом пытается заново освоить «крымско-китайскую» поэтику: это тоже ремейк, но не восполняющий утраченное либо запретное, но всерьез, словно бы впервые воспроизводящий ноты и тембры, еще недавно не различимые в шуме времени «пропущенного пушкина».
в ближней точке местности та же даль и намек на ангела или черта а в ялте белый цветет миндаль и буксир кричит выходя из порта магомет ходячей лишен горы мерит на глазок крутизну эпохи а в москве хватает своей муры не дороже слава не крепче кофе то ли спать пойти то ли так сидеть вырывая строчки поодиночке из той точки пространства куда глядеть может только женщина в этой точкеОх, нелегкая это работа – отыскивать «в ближней точке местности ту же даль» («Послания прекрасной С.»), а может быть, наоборот, – слишком легкая, утратившая весомость поэтическая работа. Иногда спасает ирония, сопровождающая откровенное признание в абсолютной случайности и произвольности «китайских» параллелей к реалиям привычной жизни:
Листопад легко и сухо опускается на ухо, – ухо слышит, как шуршит, словно звук в мешке зашит! В дождь из листьев кто выходит? в желтопад, в те, в то… – нет, не получается стишок, ну и ладно, хрен с ним, лучше перекурим сигарету «Прима» а потом – запишем первое, что плеснет сюда в голову: ХУАНХЭ.Неслучайность и органичность былой легкости и естественности затрудненных стихов Андрею Полякову приходится доказывать в условиях, когда легкость стремительно оборачивается скольжением по поверхности, а обдуманная затрудненность – тяжелым герметизмом. Что ж, такое, милые, у нас тысячелетье на дворе, кстати, и до Китая каких-нибудь пять часов лёту…
Библиография
Орфографический минимум. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 64 с.
Zoo [Цикл стихотворений.] // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2003. Сезон 2002/2003 г., вып. 9. С. 64–75.
Для тех, кто спит. М.: НЛО, 2003. 136 с. (Поэзия русской диаспоры).
Где ангел шелестит как кипарис // Новая Юность. 2003. № 1(58).
Фрагмент из поэмы «Прощание» // НЛО. 2003. № 59.
Стихи номера // Критическая масса. № 1.
Китайский десант // Знамя. 2009. № 1.
Китайский десант. М.: Новое издательство, 2010. 144 с. (Новая серия).
Стихи о Родине // Знамя. 2010. № 5.
Письмо. М.: Арт Хаус медиа, 2013. 150 с. (Библиотека журнала «Современная поэзия»).
Америка. М.: НЛО, 2014. 200 с. (Новая поэзия).
Виталий Пуханов или «Для горя нового очищены сердца…»
Вот свежие подборки Виталия Пуханова – с его стихами «что-то случилось», не так ли? Как там дальше в страстной советской песне? – «что изменилось – мы или мир?». Мир изменился – к гадалке не ходи, но насколько круто подобает меняться поэтическому зрению? И сама перемена – знак ли повышенной чуткости или свидетельство некоего рода непрочности, недолжной гибкости позиции? Ответ сложен, поначалу вообще лучше от него воздержаться, ограничиться фактами, описанием былого и нынешнего положения дел.
Итак, жил на свете поэт В. Пуханов, которому удалось удивительное – на излете господства идейного и поэтического официоза отнестись к ним обоим без иронии и вместе с тем не всерьез, избежать крайностей иконоборчества и сентиментальной романтики «общего детства».
Двадцатый век был веком злоключений – Погибли все, почти без исключений. О тех немногих, выживших почти, В журналах старых почитай, почти. Их жизнь была немало тяжелее, Хотя порой немало веселее, – Воспоминать, судить и просвещать, Да милые могилы навещать. О муках прошлого им не дали забыть, Знать, для того и отпускали жить. Сын спросит у отца. Дождется сын ответа: Проходят времена, вот-вот пройдет и это, Для горя нового очищены сердца, Не бойся ничего, останься до конца! И все-таки мне жаль слезы смешной, пролитой Однажды вечером за книжкою раскрытой.Тогда же был написан угловатый и удивительный цикл «Мертвое и живое», открывший первую книгу Пуханова «Деревянный сад». Там была нащупана странная интонация, плавно огибающая, обходящая стороной основные типы и разновидности, говоря словами Николая Чернышевского, «отношений искусства к действительности». И ведь типам-то этим невелик счет. Если все в стихе всерьез, то за словом возникает метафизика бытия, а далее с неизбежностью «весь я не умру» и «слух обо мне пройдет…» в любых исторических изводах. Коли на первом плане комическое (сатирическое) недоверие – метафизика исчезает и тут уж «ты зачем своим торгуешь телом От большого дела вдалеке» и всякое прочее такое являются подобно существу из табакерки. Есть еще сугубая ирония: отрицание и себя, и поэзии, что-то вроде «допустим, как поэт я не умру, зато как человек я умираю». Остается – четвертая и, пожалуй, последняя по обычному счету версия отношений стиха к реальности: утверждение бытия навыворот – вариации на тему абсурда и гротеска вроде «Шел Петров однажды в лес. Шел и шел и вдруг исчез…». От Пуханова невозможно было заранее ждать ни классической строгости, ни авангардного ниспровержения, все решалось на лету, в момент написания текста, читатель недоумевал, сталкиваясь то с неуступчивой метафизикой стиха, то с ироническим воспеванием растраты и убыли всех ценностей.
Вот пример традиционной поэтической стойкости:
Чем больше в полях высыхало колодцев, Тем меньше боялся я жажды и зноя. Тем больше любил я безумных уродцев, Прозвавших поэзию – влагой земною. Чем больше страну оставляли пророки, Тем меньше я думал о будущем света, Тем больше я верил в прозрачные строки Забытых, не узнанных нами поэтов. Чем меньше я плакал, боялся, молился, Тем больше терял дар обыденной речи. Я видел поэтов продрогшие лица, Прекрасные лица, но не человечьи. Они открывались случайно, однажды, Мне стало неважно, что будет со мною. Чем больше они умирали от жажды – Тем меньше боялся я жажды и зноя.А вот – один из многих образчиков через запятую жившего недоверия к высям и глубинам, да еще явно как-то замешанного на конкретном, почти тактильном личном опыте:
В письмах родным и близким «Выпал снег» – Написал поэт. «Выпал снег» – Написал дворник. А дворник-поэт Написал бы так, Что не вынесло б сердце ничьё.И до чего же вышеозначенный глашатай с метлою дожил? До поры до времени он сохранял дистанцию свою, не прибиваясь ни к каким берегам узнаваемых стилистик и поэтик:
В последний день июля, в воскресенье, Роняет клён сухую тень листа. От дуновенья, от прикосновенья Тень падает, прозрачна и чиста. Когда б меня не гнали отовсюду, Когда б остался дворником теней, Ловя ее, как воздух, как причуду, А я умру от состраданья к ней.Гонимый не превращается в изгоя, ощущение отделенности от всех и отовсюду рождает совершенно отдельную способность сочетать абсолютно несовместимые эмоции. Уж не новый ли Подпольный человек явился на переломе имперской эпохи? Тот, кто одновременно добр и зол, попеременно саркастичен и наивен, причем выбор стратегии поведения, как правило, не зависит от волевого усилия, зачастую проявляет себя рефлекторно, как судорога или икота. Извечная развилка между грехом и добродетелью именно в характере подпольного героя давней классической повести обрела контуры антиномии. Вот и в стихах Пуханова, с которыми он некогда вошел в литературу, отсутствует заданность и предсказуемость, а многогранность и вариативность суждений и мнений сопрягается то с греющим сердце разнообразием, то с леденящей душу отстраненностью.
Крайняя наэлектризованность переживания обыденности, рутины и бессмыслицы соседствует в стихах Пуханова с абсолютным безразличием как раз в тех случаях, когда, согласно всем культурным ожиданиям, необходимо проявить неравнодушие, высказаться прямо и недвусмысленно.
«Mein Kampf» я так и не прочел, Хотя купил задорого. В печи не сжёг. Жалел о чем, Когда дрожал от холода. О чем она? Зачем она? Я никого не спрашивал. И много зим без сна, без сна В себе ее вынашивал.Словесный перепляс в ритме «огней так много золотых…» говорит об очень простом – оказывается, возможно писать стихи не только после всех аушвицев, но и в отсутствие чувства вины за грех возвращения к явным культурным табу. Печи, слава богу, используются по прямому назначению, несмотря на остаточную память об былом их изуверском применении.
В отдельной реальности Виталия Пуханова резко ослаблена связь конкретных фактов и их культурных означаемых – прямо изнутри заурядного и повседневного нагнетается вакуум смыслов, который даже и почувствовать, назвать по имени нет никакой возможности. Человеку не хватает скорости реакции, он ведет себя вполне сомнамбулически, находясь и нейтральной зоне полунебытия (совсем по Баратыныскому, – «ни сон оно, ни бденье»). И снова напрашивается параллель с подпольным герою безвременья 1860-х годов, из недр его автоматизированного и в то же время непокорного, спонтанного сознания с равной долей вероятности может вырваться наружу и абсолютное зло и предельная добродетель.
Замедленные реакции амебы, быть может, лучший ответ на неистовый натиск противоборствующих и несовместимых друг с другом внешних воздействий. Ожидание, резко занесенная для еще не прорисованного (то ли враждебного, то ли приветственного) жеста рука, расчехленное, но не коснувшееся бумаги перо – вот пухановский веер возможностей, ни одна из которых не является желательной и предсказуемой.
Именно эти ключевые параметры лирики Пуханова в последние годы приходят в движение, причем не броуновское, а во вполне упорядоченное, ведущее к прояснению и одновременно к упрощению оптики взгляда и литературной позиции. Будоражащая, провокативная непроясненность мнений, совмещение крайностей, – все это отходит на второй план. Определенность акцентов оборачивается узнаваемой схемой, привычным набором джентльменских свойств межнациональной «социальной» поэзии: «травма» (советского) детства, насилие коллективистских стратегий поведения, попытки прорваться к свободе сквозь тоталитарную риторику, – всем этим родимым пятнам «актуальной» лирики сопутствуют расшатывание регулярной метрики, безвременная пропажа рифмы. Стихи не утратили прежней афористической резкости, но стали более отчетливыми как раз в результате прояснения того, что прежде оставалось в зрительной зоне слепого пятна, не выговаривалось наизнанку и наотмашь. Что теперь? А вот что:
Учись грабить и убивать, В девяностые пригодится. Пожарный, врач, космонавт – Бесперспективные игры. Две клуши заигрались в дочки-матери, Весили под сто к тридцати. Никто не предлагал уже Поиграть в пионеров-героев, Вскоре не стало ни пионеров, ни героев…Или вот еще другие, не менее колоритные строчки:
Прежде чем научить любить Родину, Нас учили любить всё: Манную кашу на воде, Кислый серый хлеб, Теплое молоко с пенкой, Стихи Демьяна Бедного, Рассказы Максима Горького. Когда тебе десять, это трудно. Под моросящим дождем, палящим солнцем Скучно стоять у монумента павшим в борьбе. Ищи, ищи в себе сочувствие и благодарность, Ты же хороший мальчик…И что же делать с этой розовой зарей? Где-то все это уже читано и выпито, – может быть, поддержано статусной литкритикой, достойно серьезных предисловий и тонких комментирований, легче переводимо на иноязыки, и все же – не идут из памяти иные пухановские интонации, в прежние времена будоражившие своею вопиющей угловатой самобытностью. Камо грядеши?
Библиография
Неприкасаемое // Октябрь. 2001. № 10.
В снегу рождественской недели // Континент. 2001. № 110.
Когда судьба проходит мимо… // Континент. 2003. № 117.
Плоды смоковницы. Екатеринбург: У-Фактория, 2003.
М-200 // Новый мир. 2007. № 9.
Когда мы делали бетон // Новый мир. 2009. № 9.
Вот прошло пятнадцать лет // Дети Ра. 2009. № 12(62).
Стихи // Урал. 2010. № 4.
И кто знает, кто знает // Дети Ра. 2011. № 2(76).
Человеческая жизнь // Новый мир. 2011. № 11.
Школа милосердия. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
Евгений Рейн или «Мы жили когда-то в несносной остуде…»
Евгений Рейн и в двухтысячные годы пишет, как дышит – все приметы прежних стихов остаются при нем: разнообразие классических регулярных метров, сюжетность, пристрастие к последовательным рассуждениям о предмете (человеке, событии), первоначально давшем старт поэтическому монологу… Больше, пожалуй, стало указаний на конкретные знаки времени и места, на характеры и обстоятельства настоящего и прошлого. Впрочем, – и это нельзя не заметить, – прошлого в стихах стало ощутимо больше, оно явно перевешивает своею силой и густотой впечатлений настоящее: так, наверняка, и должно быть в пору зоркой зрелости, в которую предсказуемо неожиданно вступает былой бунтарь и ниспровергатель. Зримые приметы прожитого разнообразны, но всегда конкретны, снабжены дорожными указателями и мгновенными снимками былых циферблатов. Примеры многочисленны, вот лишь некоторые их возможных.
Обухов мост, И рынок Сенной, Их вечный пост Передо мной. Они сквозят, Проступают, парят, Вперёд и назад, Но больше – назад… («Переводная картинка») Черным по черному море накатывает за верандой, рейсовый катер сверкает как шесть этажей теплохода. Даже во сне ты мне кажешься невероятной, ночь под Одессой шестидесятого года. («Двенадцатая станция под Одессой») Год шестьдесят второй. Москва и святки, Мы вместе в ресторане «Арарат», Что на Неглинной был в те времена. Его уже преследовали. Он В Москву приехал, чтобы уберечься. Но уберечься выше наших сил… («Арарат»)Рассуждение о времени и месте в прошлом нередко рождается в классическом смысловом контексте прогулки (одинокой либо с собеседником-другом), в стихотворном тексте искони, начиная – ну хоть даже с «Сельского кладбища» Жуковского, располагающей к неторопливой медитации. Разнообразие московских и питерских, а также итальянских и других более или менее отдаленных от России мест (вот только некоторые названия стихотворений: «Земляной вал» и «Около «Ореанды», «Переделкино», «Угол Фонтанки и Международного») различимо только при взгляде на целостный корпус лирики Евгения Рейна, каждая же прогулка подчеркивает отдельность и уникальность конкретного размышления, не предполагает вписывания в некий перечень освоенных «мест памяти». Важно отметить, что прогуливается рейновский раздумчивый наблюдатель скорее не по общепринятым туристическим дорогам и тропам, включенным в мировые путеводители, но чаще по привычным, обжитым местам и по давно освоенным маршрутам.
Один из существенных смысловых обертонов, связанных с прогулкой, – путешествие в прошлое, в пространство воспоминания, в котором, могут негаданно соседствовать реалии разных времен, в синхронном срезе вроде бы друг с другом несовместимые – метро «Кировская» и улица Мясницкая:
Серый мрамор «Кировского» метро, Магазин Перлова с китайской вазой, Глаз небесный, подмигивающий хитро И пленяющий правдой голубоглазой. Поверну на Сретенку, по пути Раскурю «Дукат» свой на перекрестке, Никуда отсюда мне не уйти, Потому что слушаю отголоски – Отголоски лет, отголоски слов, Отголоски комнаты на Мясницкой, Отголоски пламенных вечеров, Отголоски снов на постели низкой, Отголоски жизни, ушедшей вниз И поднявшей голову напоследок, Из-под ног уходит, скользит карниз, Точно прыгнувший из окошка предок. («Кировская»)Топика рейновских прогулок обычно предполагает перемещение не только в пространстве, но и в горизонтах смысла: человек приходит в конечную точку маршрута другим, не тем же самым, кто начал движение.
Два километра аллеи, отрезанной от Ходынки, люди, белки, собаки, вороны. Если воспоминания всегда немного поминки, то определенно, я провел на этой тризне полтора десятилетья ежедневной прогулки. Здесь мое именье, предмостье, заречье, и кульки и окурки. Никогда не доходил до конца, до стадиона, до троллейбусного круга, потому что здесь уединенно, а там гудит округа. Но какое-то любопытство въедливое, дурное всякий раз меня толкает. Что же остальное? Где же остальное? Почему оно не умолкает? И пора бы однажды пересилить привычку и забрать у времени отступное. И нажать до конца на эту отмычку – вот оно остальное.В приведенном стихотворении уверенность в существовании желанной точки доступа к ранее недоступной осведомленности о жизни поддерживается как многократностью прогулок («никогда не доходил до конца, до стадиона»), так и явным символическим сближением привычной ежедневной траектории жизни, в конце которой неизбежно присутствует неизбежность. Обобщенная метафора пути прогулки, эквивалентного пути жизни, диктует необходимость отвлечения от городской топографии, именно по этой причине конкретность и единство места не случайным образом размываются: немосковский читатель вполне может и не осознавать, что речь идет о Красноармейской улице, Петровском парке и о ныне уже не существующем стадионе «Динамо», хотя упоминание Ходынки недвусмысленно указывает на Москву как место действия стихотворения.
Медитация во время прогулки может быть и иной, подспудной, прямо не высказанной, как в стихотворении, которое так и называется – «Прогулка»:
Под башенками старого моста, под звеньями цепей громоздких я прохожу и, повернув налево по набережной, вижу школу, решетку, узкий садик и подъезд, детишек, что наследовали этот дворец образования, еще при Александре Третьем он построен, купечеством подарен Петербургу… …Так что же я прервал свою прогулку посередине, мне еще брести туда-сюда, я, право, застоялся. Теперь на Троицкую и к Пяти Углам.Подробно описана либо топография, либо содержание раздумий, обратная пропорциональная зависимость присутствия обеих составляющих элегической прогулки незыблемо: перевес одного ведет к непроясненности другого. Кстати, о «непроясненности», вернее, об умолчании как принципе поэтики позднего Рейна: об этом обязательно надо сказать. При всем легендарном темпераменте, подвижности, зоркости, в стихах последнего десятилетия резко уменьшилась степень обращенности поэта внутрь своего сознания. В стихах прямо либо косвенно упоминаются не только десятки мест, но и огромное количество узнаваемых имен – Горбовский и Бродский, Довлатов и Кушнер, Лосев и Глезер, Ромадин, Ардов, Липкин, другие, – однако это не стихи на случай, не череда сценок из серии «я и великие», наоборот, именно собеседникам и спутникам уделено почти сто процентов внимания, поэт редуцирует себя до роли наблюдателя и свидетеля. Это особая щедрость, способность и желание отступить в тень описать других, но не себя – важное свойство лирики Евгения Рейна. И проявляется оно вполне независимо от конкретного фабульного антуража – в прогулках ли по Петербургу и Москве, либо в излюбленных Рейном антуражах баров и кафе на фоне обширного перечня блюд и напитков.
Эмоция, как правило, оживает в воспоминании, в полном соответствии с фундаментальным афоризмом классика: Прошла любовь – явилась муза… Отсюда сдержанность, немногословие, недосказанность:
Спеша электричкой последней И глядя на сумрак лесной, Каких незадачливых бредней Не вспомнишь с паскудной тоской. И вот, погружаясь в подземку, Ты скажешь себе самому: Все было, что стенка на стенку, А вот непостижно уму. Какое ненужное дело Держаться того воровства. Как поздно, как жизнь пролетела, Как скоро настала Москва! («Электричка 0.50»)Порою склонность к поздней сдержанности чувств оборачивается своею почти бравадой:
Никому я не пара. Что друзья и семья! Человеком из бара я считаю себя. По мостам и по кольцам, по торцам и мостам одинаково скользко в этом месте и там. («Человек из бара»)Однако исключения только подтверждают правило: стихи позднего Рейна сохраняют преемственность с лирикой прежних лет, но характерны новой геометрией смысла, смещением центра эмоций в область памяти и воскрешения былых эмоций в новом контексте, в отсутствие непосредственной горячности, в присутствии поздней молчаливой решимости соблюсти себя в тишине и максимально точно и полно рассказать о других.
Библиография
голоса // Арион. 2000. № 2.
Римлянин и скиф // Арион. 2001. № 2.
Стихи // Звезда. 2001. № 11.
Избранные стихотворения и поэмы. М.; СПб.: Летний сад, 2001.
голоса // Арион. 2002. № 2.
Трисмегист: Поэма // Вестник Европы. 2002. № 5.
Граненый алмаз // Знамя. 2002. № 5.
Прицел // Новый мир. 2002. № 5.
голоса // Арион. 2003. № 1.
На пути караванном // Новый мир. 2003. № 2.
«Я хозяин своих привидений и призраков» // Знамя. 2003. № 3.
голоса // Арион. 2003. № 4.
Старая Англия, Новая Англия // Знамя. 2003. № 11.
Юго-Запад // Континент. 2003. № 117.
Утешительный приз // Новый мир. 2004. № 4.
После Илиады // Знамя. 2004. № 5.
Набережная // Звезда. 2004. № 6.
Грамотный львенок // Знамя. 2004. № 12.
После нашей эры. М.: Время, 2004.
Вершина света // Новый мир. 2005. № 2.
Из новых стихов // Знамя. 2005. № 12.
Батум // Новый мир. 2006. № 2.
Новогодняя оттепель в Зеленогорске // Дружба народов. 2009. № 2.
Память о путешествии: Избранное нового века. М.: Галарт, 2011.
Вдоль времени // Знамя. 2013. № 1.
Парк мертвых и живых // Новый мир. 2013. № 5.
Соль из солеварен // Знамя. 2013. № 12.
Сталь Авраама // Новый мир. 2014. № 1.
Постой, так не уходят напролом // Знамя. 2014. № 6.
Евгения Риц или «Причащаться прочным, простым вещам»
Евгения Риц – поэт «городской» и, что еще важнее, поэт «сдержанный», лишь время от времени готовый уделить читателю, по ее собственному определению, «некоторое количество чувств». Даже о страсти пишет как-то скуповато, отмеряя слова в час по чайной ложке да еще отгораживаясь видимой отстраненностью от непосредственного переживания события:
Слова и жесты – олово и жесть, Консервной банки бабское обличье. Уткнись мне лучше в левую ключицу, Не стоящую круглого гроша. Как хороша была еще вчера, Когда сама себя не узнавала, И бормотала полостью провала, И всей своей поверхностью врала, И надрывалась, и тянулась врозь, И в рот тянула, но не проглотила, А расплескала каплей никотина, Что оживляет нас наоборот, И наобум, и как-нибудь иначе За горло безголовое берет… Ты знаешь ведь, что мальчики не плачут, А девочки не знают наперед.«Прошла любовь, явилась муза» – сия двухсотлетней почти давности классическая декларация верна не потому, что дар одного поэта созвучен другому, великому, но из-за того, что темпоритм жизни горожанина не дает возможности отождествления с собственным переживанием: только ухватишь его за хвост, а в кадре сознания уже нечто совершенно иное. Этот довесок нежданной взрослости и серьезной неироничности сопутствует практически любой ситуации в стихах Риц. Ну, например: попробуем догадаться, «про что» стихотворение, которое начинается так:
Ощущая на ощупь ступени босой ступней, Постепенно отучаешься чувствовать себя собой, Не менее постепенно научаешься шороху и песку, Молчаливому плеску, судорожному глотку Миндалин, дальним краем царапающим гортань…Тут никакой отвлеченной метафизики, признание невозможности тождества самому себе не самоценно, оно лишь сопровождает рассказ о событии весьма заурядном и конкретном, случившемся между Ним и Ею и скорее всего достаточно банальном. Вот финал стихотворения:
Разминая гребками размокший вчерашний мох, И грибками проросший порох, и хлебную дребедень, Отчего не спрашивать – Как он мог? И особенно – в этот день… Тень безвольно падает на песок, По себе оставляя тень.Конкретность события снимается тем, что о нем прямо ничего не рассказано, это же умолчание служит и средством от банальности. Да, вся жизнь «Inthe City» состоит, ежели разобраться, из сущих безделиц и стандартных ситуаций, главное подобрать к ним ключи. Один из подобных ключей – недомолвка, оставление главного за кадром, благодаря применению этих приемов возникает впечатление, что в автоматическое существование человека эпохи урбанизма хотя бы на время возвращается тайна. Важно, что «большой город» (ср. название сборника «Город большой. Голова болит») в стихах Евгении Риц – не Москва. Впрочем, жительница Нижнего и в Москву вглядывается без провинциального восторга либо провинциальной же иронии и ненависти:
Город как город. Большой город. Такой, как Горький, только больше, А так – ну Москва и Москва. И нет никакого там духа у нее, ни праха, Только улиц неглаженая рубаха.Заметим в скобках, что топография русской литературы слишком уж тесно в последнее столетие связана с путеводителем по Москве; без осведомленности о ее площадях и улицах невозможно в полной мере следить не только за событиями «Мастера и Маргариты» и «Доктора Живаго», но десятков других заметных книг. Если не Москва (на худой конец – не Питер), значит, жди сельской местности и освещения проблемы «город – деревня»… Отрадно, что в стихах Риц зримо присутствует новый мегаполис, альтернатива двум столицам…
Многие название циклов, разделов в сборниках, либо сборников как таковых Евгении Риц настойчиво отсылают к внешней среде обитания современного человека. Скажем, «Возвращение к легкости» (здесь явно не обошлось дело без перифраза заглавия культового романа М. Кундеры!) может произойти только через преодоление «тяжести», которая обусловлена вовсе не конкретными событиями в жизни человека, а его «Образом жизни» (закавычено название раздела сборника «Город большой. Голова болит»).
Положив под голову жесткость, Набив желудок травой, А дыхание – пенопластом, Понапрасну Чувствуешь себя живой – И уместней оказывается не жест, Но вой, И кость Становится поперек нутра, И кора Накрывает тебя с головой.Самое трудное – соблюсти аутентичность, собрать себя по частям, преодолев отчуждение, обусловленное – повторимся – не моими бедами или победами, а геометрией и географией моих ежедневных перемещений и общений. В стихотворении Риц почти всегда (в качестве не то смыслового довеска, не то первоосновы смыслообразования) присутствует энергия преодоления автоматизма жизни, а проследив за сгоранием этого энергетического заряда, читатель может прорваться к конкретике изображаемого события. Опять приведем начало и финал одного и того же стихотворения, чтобы убедиться, насколько опосредовано внеличностное, обобщенное сопряжено в этом тексте со зримым и конкретным.
Мои слова абстрактнее меня. Они не обладают сотой частью Моей конкретики, ее корректной властью Над каждым волоском моей руки. Голосовые связки не родят, И не взойдет из впадины пупочной, И звукоряд Воды моей проточной Собою не наполнит позвонки…Выдержим паузу, чтобы яснее стало резкое приращение смысла в финале. Оказывается, речь вовсе не о проблеме адекватного восприятия самого себя человеком как таковым, но просто зарисовка ситуации, в которой некто желает подлинной, неподдельной нежности:
Обманчивая нежность быстротечна, Но если невод вытащит извне, То это будет тихо и беспечно, И даже так – тепло и бесконечно – Как дышит горло, голое вдвойне.Есть в этом строении многих вещей Евгении Риц некая обманка, несоответствие посылки и результата. Размах на рубль, удар на копейку: думал, это об овеществлении жизни, а оказалось, про обычное желание ласки и взаимности. Тем ценнее сравнительно немногие стихотворения, где нет описанного смыслового разрыва, где в финале слышится речь не чувствительного, сосредоточенного на себе подростка, но жесткого наблюдателя жизни других:
Девушка-продавщица в маршрутке сидит спиной, Похожая на Оксану, не похожая на меня, И город встает стеной За обеих. И случайный щебень при свете дня Поблескивает как ледяной. Девочка-продавщица – тонконосый смешной тотем – Говорит подружке: «Захвати мой скраб», Я стою лицом к ним и упрямо слежу за тем, Как покачивается на стекле Водителя пластмассовый синий краб.Произнесем самое главное. В стихах Евгении Риц в обобщенном виде представлено таинство инициации современника индустриальной эпохи. Давно замечено, что примерно полтора столетия тому назад природа и культура в значительной степени поменялись местами. В эпоху Обломова и Константина Левина город противостоял природе как мир частной инициативы, которой деревенский человек был начисто лишен. Карьера, успех, прогресс – все эти категории противостояли статике жизни на лоне природы. Современный большой город – часть второй природы, которая для миллионов людей служит естественной и единственно возможной средой обитания. Вот почему существование человека в мегаполисе имеет ритуальный, обрядовый, родоплеменной подтекст, вот почему так долго не может расстаться с инфантильностью человек, убаюканный мерными ритмами города. Для инициации нужны сверхусилия, но – не связанные с достижением успеха и завоеванием статуса. Необходимо научиться делать то, что почти не принято: вглядываться и вслушиваться в себя, чтобы отделить собственное и аутентичное от «наведенного» и принудительно заимствованного извне.
Под действием земного притяженья Мои черты теряют очертанья, А я учусь теории скольженья, Как практике немого причитанья. А прочее окажется по обе, А прочное завянет в середине, А я беру еще одну на пробу, Как виноград с ресницами тугими. Так всякое дыхание морали Преображает естество до пяток, И выступает острыми углами Из самой кожи вязкий отпечаток. И от прощенья, равно от прощанья, Не ускользнуть, как некто ни захочет, – Ведь в детстве человека замечают, А если старше – то уже не очень.Как видим, для Евгении Риц возвращение к легкости хотя и связано с преодолением гравитации («земного притяженья»), но не ведет к невесомости и полному релятивизму, поскольку предполагает «дыхание морали». Воспитание чувств, нравственная инициация – вот что в итоге стоит за внешне непритязательными городскими зарисовками Риц и служит гарантией серьезности поэтического голоса поэта.
Библиография
Стихи // Октябрь. 2002. № 12.
Возвращаясь к легкости. М.: ОГИ, 2005. 72 с.
Наша поэтическая антология // Новый берег. 2006. № 13.
Стихотворения // Новый берег. 2006. № 14.
Город большой. Голова болит: Вторая книга стихов. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2007. 96 c. Книжный проект журнала «Воздух».
Человек уже мертв… // Новый берег. 2007. № 17.
Несколько новых слов // Дети Ра. 2008. № 6 (44).
Малокровный Север, полнокровный Юг… // Новый берег. 2009. № 25.
Стихи // Урал. 2010. № 4.
На полуприроде // Новый мир. 2010. № 5.
Андрей Родионов или «История книговедения лишена моего эго…»
Во времена советского футбола культовый комментатор впервые произнес изречение, ставшее позднее штампом: «Против чемпиона все играют с удвоенной энергией». В переводе со спортивного это означает: легче достигнуть успеха, чем его упрочить, причем – чем ярче успех, тем труднее его развить, поскольку просто повторить заново уже нельзя. В русской поэзии последнего десятилетия довольно часто вспыхивают сверхновые имена, стремительно обретают популярность поэтические книги авторов, ранее не очень-то известных. В очередной раз напомнив один из основополагающих принципов книги «Сто поэтов начала столетия» (никого ни с кем не сравнивать, не говорить о предшественниках и вообще о «генезисе»), подчеркну все же, что речь идет не о поверхностной и быстротечной славе отдельных поверхностных и недалеких стихопроизносителей, получивших известность на просторах интернета, но о поэтах серьезных и заслуженно отмеченных вниманием читателей и почитателей.
Именно для них вслед за минутой славы наступает время испытаний. Чтобы развить успех, поэт должен «с удвоенной энергией» играть против самого себя, ломать привычные ритмы и интонации, те самые, которые были надежно проверены в недальнем прошлом, почти с неизбежностью вели к успеху. В отсутствие осмысленных перемен лицо поэта неприметно превращается в поэтическую маску, да и сам он становится лишь собственным «проектом». Особенно трудно переламывать себя тем, чей успех как раз и был основан на ломке ожиданий, возникал как следствие дерзкого выхода за пределы привычной «территории поэзии».
В аннотации к недавней книге Андрея Родионова «Люди безнадежно устаревших профессий» говорится, что она «знаменует собою заметный сдвиг в его творчестве», поскольку «Родионов переходит к описанию психологии аутсайдеров, изгоев, “внутренних эмигрантов”…». Формулировка не просто двусмысленная (подобного рода человеческие существа у Родионова демонстративно «просты», лишены какой бы то ни было «психологии»), но и крайне спорная: попытки выйти за пределы прежней тематики и поэтики в книге минимальны. Ну разве что в первом разделе сборника привычные для Родионова окраины Москвы и пригороды в качестве места действия отходят на второй план по сравнению с центральными улицами мегаполиса: Тверской, Арбатом… Да еще, может быть, самое первое стихотворение содержит необычные для Родионова интонации, почти начисто свободные от иронии:
Теперь, когда нежность над городом так ощутима, когда доброта еле слышно вам в ухо поет теперь, когда взрыв этой нежности как Хиросима мой город доверчиво впитывает ееДальше – все то же («как нежен асфальт – как салфетка, как трогает сердце / нежнейший панельный пастельный холодненький дом…»), и хотя позже в сплошную нежность вторгаются, во-первых, это слово неясное ДЕГЕНЕРАТЫ! а во-вторых, – о, вся эта злоба от водки, от выпитой водки, но финал у стихотворения почти окуджавовский:
мы нежности этой ночной и московской солдаты мы дышим восторженным дымом и мятным огнем еще иногда называет нас «дегенераты» печальный прохожий – мы с нежностью помним о немДальше – как уже сказано – буквально во всех стихотворениях фирменный родионовский букет рэповых ритмов, событий, оценок: вполне оригинальный, не составляющий ни малейшей параллели ни часовым любви Окуджавы, ни надломленной и трогательной любви к «адищу города» раннего Маяковского. Никакого «перелома» пока не состоялось: перед нами прежний Андрей Родионов – поэт замечательно четкий в своих эстетических (и антиэстетических) симпатиях, беспощадный к своим героям, радикально неуступчивый, смело берущий наше внимание в отнюдь не нежный плен. Впрочем, энергия эпатажа и выхода за все пределы дозволенного нынче уже не та, ко многому внимательный читатель пообвык – значит, и на сегодняшний день самыми вескими и совершенными остаются стихотворения более ранние, благодаря которым Родионов прославился в начале первого десятилетия нового века.
Об этих вещах написано нынче столько, что во избежание повторений можно просто через запятую перечислить неоднократно отмечавшиеся их главные свойства. Среди них – заинтересованное внимание к социальным изгоям и простым историям из их жизни; пригороды (преимущественно вдоль Ярославской дороги: Лось, Перловка, Мытищи) как место действия стихотворений либо рождения и возмужания основных героев, одним из которых является и сам рассказчик, говорящий с читателем; демонстративное презрение этого рассказчика не только к персонажам и событиям столичной гламурной жизни, но и просто к благополучным обывателям, свободным от внимания либо причастности к алкогольно-наркотическим и криминальным страстям-по-Родионову; галопирущая «рэповая» ритмика (поддержанная неподражаемо экспрессивной манерой чтения); использование лексических возможностей языка, несовместимых с какими бы то ни было табу и все прочее в духе «новой эпической» либо «новой социальной» поэзии.
Чего ж вам боле? Давно уж весь свет решил, что Родионов умен и не очень-то мил, а скорее демонстративно брутален и невоздержан. Если что и возможно прибавить к этим общим местам, то – на материале наиболее нетипичных для поэта стихотворений, лишенных обязательной сюжетности. Почти все вещи Родионова поддаются пересказу, в них несколько действующих лиц, имеются завязка, кульминация и финал. Жанровая однородность большинства текстов порождает высокую инерционность восприятия: перелистывая страницу, мы уже готовы выслушать очередную историю из жизни привычных и узнаваемых родионовских героев. Чаще и легче всего в стихотворениях Родионова усматривается балладное начало (не в смысле Василия Жуковского, разумеется), хотя многие вещи столь же просто причислить и к полуфольклорному «городскому романсу»:
Устроилась на работу на склад учетчица молодая стеклянные бусы были у ней и сумка большая пустая несмело она на рабочее место пришла спросила чем ей заниматься бугалтир ей молча на стол указал и знаком велел раздеваться («Мелодия для Юлии Беломлинской»)Сюжетная канва отсутствует в очень немногих стихотворениях Родионова, и эти-то вещи мне представляются образчиками «чистого» родионовского лиризма, свободными от несколько уже навязшей в зубах преднамеренности и предрешенности характеров и обстоятельств. Один из примеров – стихотворение, цитатой из которого назван лучший на мой взгляд сборник Андрея Родионова «Игрушки для окраин»:
Все когда-нибудь ломается Потерялся автомат Жук в коробочке болтается Жук ни в чем не виноват Все солдатики и гоночки Все игрушки для окраин Деревянный жук в коробочке В пригороде популяренВот уж стихотворение скрытых энергий, эквивалентное десятку псевдобаллад с узнаваемыми героями, предсказуемым финалом и однообразными прямолинейными инвективами-манифестами! «Пригород» переходит в «окраину» постепенно, почти неприметно: противостояние провинции и мегаполиса, нищеты и гламура (если угодно – природы и культуры!) дано приглушенно и сглаженно. Точно так же и значение слова «автомат» колеблется от разновидности игрушки (правда – вплоть до игрушки стреляющей) до самого что ни на есть настоящего огнестрельного оружия. И дальше – сквозная ткань перетекающих друг в друга и в собственные противоположности значений: «автомат» увязан с «солдатиками», с которыми соседствуют «гоночки»: агрессивное и опасное почти неотличимо от детского и наивного. «Все когда-нибудь ломается» – что это значит? Недолговечность любых купленных папой и мамой игрушек? Или – что любое ружье рано или поздно стреляет, даже бутафорское? Жук в коробочке – примитивная игрушка детей предместий, выросших в непроходимой бедности, лишенных шанса на обретение модных и непомерно дорогих гаджетов? Или наоборот (помните, как ловятся по весне и бережно заключаются в коробки из-под спичек басовито гудящие майские жуки?), «жук в коробочке» – знак непосредственности и чистоты детских игр в противовес обезличенной отчужденности городских компьютерных стрелялок? Или жук тоже «сломан», то есть по-детски жестоко, но невольно замучен насмерть и заменен деревяшкой? Самое главное здесь – нейтральная интонация стихотворения, его отстраненная описательность, почти не подлежащая устному прочтению с приплясыванием и подвываниями. В пригороде каждый миг чреват агрессией, но она естественна и органична, как порывистый ветер по осени, не выстроена по плану, не замкнута в собственной безысходности.
Отсутствие сюжетности делает эмоцию чистой, изымает из сознания конкретного действующего лица скандальные и катастрофические события – одним словом, позволяет уйти от реальности жестокого романса. Вот противоположная крайность, когда абсолютная событийность перевешивает обобщение:
Ночью, возле трудового лагеря, Где отдыхали учащиеся бывшей нашей школы, Мы поставили три палатки и стали бухать…Дальше все происходит по запрограммированному сценарию, можно взамен десятков строк привести единицы с пропусками – картина событий не изменится: Спор перешел в драку, / Затем в бойню… /… А мы пошли в корпус, где спали девочки… / …Филиппов потерял очки и носки… / И поднявшись с трудом / Он произнес: / – Андрей, напиши об этом правду!
Надо сказать, что ахматовский «Реквием» припоминается в этот момент почти сам собою, еще до его реального упоминания:
…И тогда я вспомнил, как Анна Ахматова Стояла в очереди, чтобы Отдать передачу своему сыну, В тюремном дворце в Ленинграде. Какая-то женщина, узнав ее, спросила, Может ли она все это описать. И Ахматова сказала: – Могу. И я тоже сказал, что – ДА!Сопоставляются два умения создавать стихи, две смелости: с риском для жизни воссоздать ленинградскую тюремную очередь и – подробно запечатлеть бессмысленную пьянку, переходящую в бесцельный мордобой и далее в отвратительную оргию. Параллель в самом деле бьющая по нервам, но – если разобраться – прямолинейная и жесткая, запретная только по видимости, направленная на преодоление ложных табу, существовавших в глухие времена неподцензурной «барачной» поэзии – и безвозвратно утративших силу еще во времена «Маленькой Веры». Это даже не парадокс, не новость: любой авангардной стратегии угрожает самая страшная и естественная опасность – в случае успеха немедленно превратиться в мейнстрим. Родионов, яростно борющийся с тусовками и тусовочностью в современной поэзии как таковой, тем не менее прямо заявляет: я поэт из огов-пирогов.
…Как видим, «балладная» событийность во многих стихотворениях Родионова оказывается избыточной, увеличивает критическую массу самоповторов. И наоборот – вынесение за скобки очередного сюжета жестокого романса рождает, как говорил набоковский Годунов-Чердынцев, подлинную лирическую возможность. Вот почему так сильны сравнительно немногочисленные краткие стихотворения:
будет ли время проверить орфографию остановиться, чтобы исправить небольшую неточность на фотографии ненужную запятую в журнале будет ли маза быть поточнее из судьбы поизящней сварганить вещицу он бутылку водки вылил на землю одну пачку терпинкода вернул продавщицеКазалось бы, причем тут эстетствующий герой Набокова? Родионов же, как говорится и пишется сплошь и рядом, как раз стремится победить самое художественность, выйти за ее тесные пределы! Все так, но подобным попыткам вот-вот исполнится сто лет, считая от даты опубликования «Пощечины общественному вкусу». Более невозможно бороться с поверженным врагом, который все чаще превращается в ветряные мельницы, увы, порою вовсе не превращая противника в Дон Кихота. Есть у Родионова прекрасные в своей непроговоренной ясности зачины, которые затем почти бесследно растворяются в очередной балладной буре в стакане воды. Вот, например, такое начало:
это неторное пространство страха и дождь посвященный морису бланшо ожидание слишком короткая рубаха забвение тоже нехорошоПрекрасно? Не спорю. Однако немедленное вторжение «характеров и обстоятельств» губит все дело, сводит верно найденную тональность к очередной истории из бесконечного ряда ей подобных:
и в каком-то кафе на этаже втором (на первом этаже магазин хлеб)…Имеет ли поэзия Родионова то «социальное» значение, которое ей часто то ли приписывается, то ли инкриминируется? Иными словами – исследуются ли в его стихах причины и следствия возникновения известного рода людей и явлений? Ответ, мне думается, утвердительный, хотя требующий существенных оговорок. Традиционная схема протестного (=маргинального) искусства известна: несчастья несчастных порождены гнетом благополучных. Следовательно, чтобы осчастливить первых, необходимо победить или хотя бы развенчать вторых – их культуру, быт, любовь. Подчеркиваю: не просто с большевистской «щедростью» передать из одних рук в другие материальные блага и социальные возможности, но победить сам по себе культ «возможностей», показать их бесчеловечность, элитарную неестественность и удаленность от подлинной природы человека.
В качестве побочного следствия в эту логику может вторгаться эгоистическая зависть «несчастных» к «счастливым», нередко провоцирующая бесцельную агрессию и – если разобраться – противоречащая исходной установке на возвращение обезличенной «элиты» к природе и человечности. Последнее наблюдение имеет самое непосредственное отношение к излюбленным «историям» Родионова. Протест обращается в простую зависть, благополучие не развенчивается, но наоборот, – возводится в культ.
Более того, холодная агрессия, полная бесчувственность его маргинальных героев в пределе своем оказываются абсолютными, не спровоцированными никакими внешними условиями, не обусловленными не зависящими от людей обстоятельствами. «Карамазовская» тяга к самоуничтожению не подлежит никакому «лечению», упорный бунт как таковой не может быть конвертирован в какую бы то ни было социальную терапию. Социальная прагматика родионовской лирики, следовательно, заключается не в «сочувствии обездоленным», не в желательности «нехлюдовского» воскресения человеческого в человеке.
Для героев Родионова бунт важен сам по себе, ни на что позитивное не направлен, он просто служит одним из многих (ср. «одиннадцатое сентября») свидетельств исчерпанности глобального либерального проекта выстроить жизненный уклад на последовательной целесообразности индивидуальной выгоды и автономии личности. Эта история так же далека от позитивной социальности, как жестокий романс от физиологического очерка XIX столетия. Впрочем, у Андрея Родионова случаются стихотворения, свободные от канонических балладных реалий, наполненные подлинным лиризмом, далекие от стремления повергнуть уже поверженное, удивить тем, что уже давно не удивительно. Одно из них – я убежден – стоит дочитать до конца прямо сейчас:
Я молча стоял посреди Малой Бронной И чувствовал времени ход монотонный. И время ходило от носа к затылку И било по очереди ножом и вилкой По бедным вискам беззащитным. Так больно Стучало своим механизмом контрольным. Я молча стоял, боясь шелохнуться, И слышал, как люди злорадно смеются: «Попался, злодей! Прихватило подонка!» О, люди, как это подмечено тонко! Так верно, так точно, Спасибо, родные, Глядите – стою, как часы заводные: Вот так – полшестого, А так – полседьмого, И каждому здесь свое время готово. А ну, разбирайте меня по минутам, По тихим своей паранойи приютам! Как шарик хрустальный, как елочный финик, Раздавлен подошвами ваших ботинок, Пыльцою серебряной, хрупким салютом Рассыпался лопнувших дней сервелатом. – Чего ты тревожишь всех нас? Мы хотели Уснуть и проснуться на мягкой постели. – Ответят мне все. – Ты, наверно, сошедший С ума своего, ты же, б…, сумасшедший! И дальше все мимо меня проходили: Спасибо еще, что по морде не били. Спасибо, что вы ограничились этим, И вот с той поры меня можно заметить: На Малую Бронную если свернете, Найдете часы, я всегда на работе. На белом столбе с круглой головою Стою, и вам ни копейки не стою. И время показывая, улыбаюсь – Уже не от боли, а просто стесняюсь.Библиография
Добро пожаловать в Москву. СПб.: Красный матрос, 2003.
Пельмени устрицы. СПб.: Красный матрос, 2004. 112 с.
Портрет с натуры. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. 212 с.
Морро Касл. М.: Ракета, 2006. 18 с.
Коллекция за стеклом // Октябрь. 2006. № 5.
Ни на кого не полагаясь // Новый мир. 2006. № 7.
Игрушки для окраин / Послесл. И. Кукулина. М.: НЛО, 2007. 160 с. + CD (Новая поэзия).
Голоса // Арион. 2007. № 2.
Люди безнадежно устаревших профессий. М.: НЛО, 2008. 120 с. (Новая поэзия).
Синдром Мюнхгаузена // Новый мир. 2008. № 6.
Новая драматургия. М.: НЛО, 2010. 128 с.: ил.
Звериный стиль. М.: НЛО, 2013. 112 с.
Лев Рубинштейн или «А тут и еще что-нибудь…»
В анналах русской классики примеры рождения новых жанровых форм, применимых к одному, отдельно взятому произведению либо к одной творческой манере, можно буквально пересчитать по пальцам. «Евгений Онегин» – роман, но в стихах: как известно, дьявольская разница; ну, еще «Мертвые души» – роман, но эпопея. В тот же ряд попадает «Война и мир» – роман и, в то же время, эпопея; может быть, еще «Былое и думы» – одновременно и мемуары, и классическая литературная исповедь, и роман…
В век авангарда примеров жанротворчества, конечно, гораздо больше, – сама постановка вопроса об ограниченности функций и потенциала классического искусства провоцировала и провоцирует на эксперимент. Однако и на этом фоне открытие Льва Рубинштейна – устное публичное чтение стихотворных произведений, записанных по частям на библиографических карточках, выглядит особым образом. Об этом написано множество статей и книг, поэтому не стоит лишний раз напоминать о том, насколько много культурных знаков сошлось в этой авторской находке: и технология гуманитарного труда, монотонного, но высокого по своей сути (особый вариант ухода от официоза представителей поколения «дворников и сторожей» выпускников филологических факультетов, не желавших следовать заготовленным карьерным паттернам), и одна из первых версий перформанса, с уничтожением границ между исполнителем и слушателями…
Как видится жанр Льва Рубинштейна по прошествии десятилетий, в перспективе развития поэзии? Конечно, в 2000-е годы и начале 2010-х в основном переиздаются уже известные тексты Рубинштейна, причем чаще всего в неаутентичном виде, то есть наличие единиц текста – карточек скорее стилизуется в виде рисунков-рамочек на книжной странице. Впрочем, есть и уникальный пример выпуска в свет комплектов карточек с произведениями Льва Рубинштейна под названием «Четыре текста из Большой картотеки» в издательстве «Время» в 2011 году (справедливости ради укажем, что даже и в этом, бережном воспроизведении реальный формат и вид классических библиографических карточек советской эпохи сохранить не удалось). Лев Рубинштейн больше не создает своих «библиографических» текстов, однако их присутствие на карте новейшей русской поэзии ощутимо и сегодня.
Для этого существует несколько причин. Прежде всего, возник дополнительный эмфатический смысл в результате стремительного превращения модернистского приема создания и исполнения текстов в абсолютную архаику. Смена носителей информации идет настолько стремительно, что нынешним читателям и слушателям Рубинштейна зачастую необходимо специально пояснять не только технологию утраченного навыка посетителей библиотек, а тем более ученых-гуманитариев (в еще большей мере – профессиональных библиографов, к числу которых принадлежал и сам Лев Рубинштейн), но и былую социальную семантику самого этого процесса: что означала привычка часами перебирать уложенные в форматные узкие выдвижные ящики каталожных шкафов карточки, в которых вся информация располагалась в строгом соответствии с высочайше утвержденными ГОСТами (государственными стандартами, с вашего позволения!), да еще присутствовали ныне загадочные для большинства смертных цифровые коды, соответствовавшие не менее загадочным аббревиатурам УДК, ББК и им подобным. Курс молодого бойца об общественной и эстетической семантике библиографических занятий в позднесоветское время так же осмыслен и непрост, какими были бы ознакомительные занятия для людей начала восьмидесятых, если бы в них речь шла о тэгах, торрентах и прокси-серверах.
Еще одна причина пролонгированной актуальности рубинштейновского жанра в русской поэзии – ложное представление о том, что уходу в прошлое социально-персонологических контекстов произведений Рубинштейна непременно сопутствует безвозвратная архаизация их поэтики. На самом деле ничего подобного не происходит, налицо своеобразный парадокс: изменившийся технологический контекст, доминирование электронных репрезентаций художественных текстов, возрастание роли мультимедийных носителей в их бытовании приводит к тому, что перемены настигают, догоняют открытые Рубинштейном конструктивные принципы поэзии, открытые почти сорок лет тому назад.
Взять хотя бы членение текстов на дискретные единицы, закрепленные на отдельных карточках. В эпоху равноправиях скорописи и машинописи этот прием выглядел значительной модернизацией, в наши дни, традиция письма от руки практически утрачена, поэтому сегментация текста на дробные единицы (от ударов по клавиатуре – до файлов и директорий). В этом же плане в высшей степени характерна и склонность современного посетителя социальных сетей к текстам подчеркнуто минималистичным, укладывающимся «в одну прокрутку» либо укороченным до предела твиттерного лаконизма.
Примерно в том же ключе можно проанализировать семантику форм авторского публичного чтения и их (форм) эволюцию. В докомпьютерную эпоху «исполнительство» стихов было элементом по большей части факультативным: слишком небольшая доля читателя могла всерьез рассчитывать на то, чтобы услышать стихи в авторском (или по крайней мере – профессиональном, актерском) исполнении. В случае произведений Рубинштейна картина была принципиально иная: авторское исполнение входило в перечень признаков sine qua non, в его отсутствие доступа к его неподцензурным текстам просто не могло быть, поскольку они даже вовсе не могли быть тиражированы, даже для самиздатовского обихода, даже на «Эрике», бравшей, как известно, четыре копии. Камерное прочтение в обществе посвященных было в эпоху неподцензурной словесности эквивалентом широкого (издательского и журнального) обнародования текстов (разумеется, тех, что были способны выдержать цензуру).
В современных условиях массив доступных видеохостингов приводит, по сути дела, к тому же положению вещей. Камерное чтение становится массовым, границ между тем и другим типом обнародования текста (причем, отметим, – не только художественного) более не существует!
Наконец, отметим самый существенный момент поэтики рубинштейновских текстов, благодаря которому они далеко опередили свое время. Человек, перебирающий карточки, так или иначе сталкивается с отчужденной информаций, что приводит к его деперсонализации. Особенно наглядно это происходит в тех случаях, когда библиография остается библиографией – на рубинштейновских карточках, как это и положено, содержатся данные о книгах:
81. Говендо Тамара Харитоновна. Некоторые вопросы неконвенциональной поэтики в поздних трудах Джеймса Доуссона. – «Актуальный лабиринт». Вып. 3. М. 1992, стр. 12–21. 82. Макеева Ольга Александровна. Календарные обряды племен среднего левобережья. – Там же, стр. 12–21. («Это я»)Экзотические (как некогда говорили, «узкоспециальные») выходные данные неведомых научных и художественных книг не имеют ни малейшего отношения к личности читающего их вслух и претендующего на то, чтобы идентифицироваться с самим собой, заявить окружающим о себе: «Это – я!».
Однако даже если герой – исполнитель текста рассматривает семейные фотографии, имеющие к нему вполне определенное отношение, то избавиться от самоотчуждения, овнешнения себя в процессе публичного припоминания имен и фамилий изображенных на снимках людей и сути запечатленных событий невозможно – отчуждение остается в силе.
1. Это я. 2 Это тоже я. 3 И это я. 4 Это родители. Кажется, в Кисловодске. Надпись: «1952». 5 Миша с волейбольным мячом. 6 Я с санками. 7 Галя с двумя котятами. Надпись: «Наш живой уголок». 8 Третий слева – я. 9 Рынок в Уфе. Надпись: «Рынок в Уфе. 1940 г.» 10 Неизвестный. Надпись: «Дорогой Елочке на память от М. В., г. Харьков».Опасность обезличивания человека под воздействием стандартизации, тоталитарной пропаганды ныне дополняется угрозой глобальной деперсонализации, коренящейся в интернационализации, выражаясь компьютерным волапюком, – софта и контента. Одним словом, как видим, поэтика Льва Рубинштейна и в наши дни жива и свежа, она, возможно, и станет частью истории, но только в том случае, если найдется провидец, который, подобно Льву Рубинштейну, опередит время и создаст новый моножанр, способный аккумулировать новые, будущие, в наши еще неведомые параметры технологического бытования литературных текстов, новые контуры соотношения авторского исполнения и публичного обнародования произведений, а также будущие закономерности взаимодействия личности человека и смыслов, бытующих вне его сознания, помимо его воли в самоидентификации. Это время, вполне вероятно, когда-нибудь наступит, пока же: Рубинштейн forever, – Вплоть до наступления непредсказуемого будущего…
Библиография
Домашнее музицирование. М.: НЛО, 2000.
Погоня за шляпой и другие тексты. М.: НЛО, 2004.
Лестница существ // Критическая масса. 2006. № 4.
Духи времени. М.: КоЛибри, 2007.
Четыре текста из Большой картотеки. М.: Время, 2011.
Это всё // Зеркало. 2013. № 42.
Геннадий Русаков или «…и не смежает глаз. И каждый час крылат»
Поэт Геннадий Русаков совершенно не включен в так называемую литературную жизнь. Трудно с уверенностью утверждать, сказываются ли долгие годы «удаленного существования» поэта, жившего за границей не по причине эмиграции, но работавшего переводчиком в различных авторитетных международных организациях, либо неучастие в полемиках, соблюдение дипломатического нейтралитета входят в набор его органических, внутренних эстетических устоев. Как бы то ни было, Русаков пишет стихи так, словно на дворе продолжается эпоха если не Тютчева, то уж по крайней мере Арсения Тарковского – поэта, истово оберегавшего свою творческую автономию от царящего на дворе тысячелетия. Правда, при всем ощутимом сходстве мотивного ряда (поэт-творец как участник исконной метафизики природного преображения, «растительного» кода вечно обновляющейся от осени к весне божественной осмысленности и полноты) многое кардинально отличает Геннадия Русакова образца 2000-х годов от Тарковского, создателя таких шедевров, как «Вечерний, сизокрылый, / Благословенный свет!..», «Душу, вспыхнувшую на лету…» и многих других.
Русаков последнего десятилетия – поэт одной темы, с вариациями присутствующей буквально во всех стихотворениях книг «Разговоры с богом» и «Стихи Татьяне» (2005). Речь в обоих сборниках идет о едином комплексе переживаний, связанных с последовательностью вполне конкретных трагических и счастливых событий в жизни человека по имени Геннадий Александрович Русаков: потеря любимой жены, поэта Людмилы Копыловой, отчаяние одиночества, обретение преданной подруги жизни по имени Татьяна, посмертный диалог с Людмилой, размышления о высшем смысле случившихся событий, носящих безусловно провиденциальный характер. Русаков не пытается выставить между собой и читателем некую фигуру посредника, «лирического героя», отвлеченного либо отстраненного человека, испытывающего те или иные эмоции. Нет, это сам Геннадий Русаков парадоксальным образом сочетает несколько противоречивых, не сводимых к единому знаменателю позиций. Он ропщет на Творца, беспощадно лишившего его счастья, лишившего мир любви, и – в то же время – воспевает дела Создателя, установившего закон нерушимого присутствия в мире всеобновляющего смысла. Ропот Иова и восторженные гимны «Песни песней» – таковы полюса напряжения поэтического мира Русакова. Вот образец русаковского бунта:
Я несу любимую на кухню: вялое подростковое тело с длинными тяжелыми ступнями. Это не моя любимая. Та никогда не была такой. Моя любимая прекрасна. Она летает на восторженных ногах, голос ее картав и звонок. Но когда я сажаю ее на диван и распахивается лицо с морщинами страданья и громадными глазами, я говорю: – Сейчас мы будем есть. – Любимая забыла, как едят. Я вкладываю ей в руку вилку и зажимаю спичечные пальцы. Потом показываю, как берут еду. – А дальше просто жуй. – Любимая забыла, как жуют. – Ты делаешь вот так… Разжевываешь и глотаешь. – Любимая забыла, как глотать. …И мне – простить? Простить тебе, владыка? Простить и слышать, как она кричит надрывным детским голосом: – Пустите к Гене! – и вывернутые электрошоками суставы мешают ей царапать дверь? Нет, не прощу. Умру, а не прощу.Об этих и им подобным стихах трудно размышлять с точки зрения «поэтики и стилистики», однако эти размышления – тем более необходимы, продиктованы самой радикальностью позиции Русакова, безапелляционно уничтожающего границы «между автором и героем». Дело в том, что ни одна из крайностей в лирике Геннадия Русакова (всеуничтожающий ропот и смиренное преклонение) не остается неизменной от стихотворения к стихотворению, обе эмоции бесконечно варьируются, прилагаются к разным обстоятельствам жизни и быта поэта. Вот, например, что происходит с реакцией бунтарского отторжения:
Теперь, когда пришло и встало время боли и я кричу навзрыд, не разжимая рта, мне хочется понять, зачем на дальнем поле огнем проведена багровая черта. Наверно жгут сушняк, идут к оврагу палом… И тени поздних душ мелькают на крылах. И на другом конце, над лесом, чем-то алым пространство взметено во внеразмерный взмах. Любимой больше нет. Ее уже не будет. Пестрит ночная гнусь. Чужой огонь горит, а ветер по садам идет и ветки студит и что-то в небесах невнятно говорит. Любимая, ты мне отныне – имя муки. Ты – голоса дождей и выточка стерни. Ты – над моей судьбой расцепленные руки. И эти, выше слез, горящие огни.Деяния Творца не только и не просто вызывают сиюминутную реакцию отторжения, имеет место своеобразное обмирщение сакрального жеста, перевод его недоступной человеческому сознанию надмирной сути на язык простых (хоть и глубоких, острых) «человеческих, слишком человеческих эмоций»: присутствующая в мире смерть обретает жизнь в смертной тоске оставшегося жить человека. Диалектика расшифровки недоступного божественного деяния, снятия невыносимого напряжения его осмысления человеком посредством превращения в земное человеческое чувство – вот нерв извилистых и громогласных иеремиад Геннадия Русакова:
Толчками крови, скрытыми от глаз, пульсацией зеленой этой крови мужает мир, таящийся от нас, не сказанный ни в образе, ни в слове. В твоей руке дыхание мое. Я воздух пью короткими глотками. Я тоже, как смиренное зверье, затих под благодатными руками. И мне бы только слушать бег травы, и чтоб озоном ноздри щекотало. И полувздох проткнувшейся листвы, когда она свой кокон опростала. На окской пойме низкий водослив, и вьются ив аттические косы. Но посмотри, творец, как в мякоть слив впиваются прожорливые осы!Подобная диалектика взаимодействия Творца и его смертного творения присутствует, например, в тетралогии Томаса Манна «Иосиф и его братья»: человек не просто познает Бога, но своими предельно напряженными размышлениями о бытии и о высшем смысле свершающихся событий соучаствует в божественной самореализации, а значит, сотворчествует в вечном мирозиждущем акте создания мира и человека.
Следует, конечно, заметить, что подобный ход мыслей характерен все же для сравнительно небольшого числа стихотворений Русакова, гораздо чаще в них содержится не возгонка земных переживаний до сотворческих усилий, дополняющих волю Создателя, но, наоборот, низведение неисповедимых деяний в пределы подлунного мира, перевод их раскаленной непознаваемости на язык обычнейших чувств и даже физиологических реакций. Вовсе не Иов, одержимый высокой болезнью недоверия и бунта, но заурядный стареющий мужчина, переживающий позднюю любовь, несущую в себе как счастье спасения от одиночества, так и вечный трагизм несовместимости увядающих жизненных сил и расцветающей женственности любимой.
Еще более прямолинейными и приземленными выглядят дальнейшие проекции деяний демиурга – теперь уже не на реалии жизни отдельно взятого человека, но на судьбы страны, пережившей нечто схожее – переход от угрозы распада и смерти к новым надеждам.
Я устал от моей непомерной страны, от ее расстояний – длины, ширины. От концов, позабывших начала. Шапку в руки – спасибо, кормила-ждала. Вытру губы, полой потрясу у стола…Такие пассажи выглядят порою искусственно, декларативно, отсылают к образцам гражданской лирики семидесятых годов прошлого столетия – казенной и натужной даже в случае наличия изначально искреннего чувства, продиктованного не советской ортодоксией, но естественным желанием определить отношения «между личностью и обществом».
Последней нежностью прекрасная страна в канун разоров, мятежей и мора лежит и слушает, и шепчет имена пятнадцати столиц как имена укора. Имперской нежностью мне стискивает грудь – я тоже по земле ходил державным шагом. Ах, этот шелковый, бухарский этот путь и ветер Юрмалы с напругом и оттягом!Раз за разом наталкиваясь на подобные строки, недолго прийти к выводу о том, что дерзкий радикализм Русакова, с исповедальным бесстрашием говорящего напрямую о мучительном и стыдном в собственном сознании, – этот радикализм достаточно поверхностен, поскольку истоком его служит навязшая в зубах риторика позапрошлой эпохи, сводимая к непрерывному возвышенному пафосу стихотворений-деклараций, назидательных манифестов о высокой роли «поэта и поэзии». Быть может, эти сомнения неуместны, продиктованы главным образом некой монотонностью интонаций стихотворений Геннадия Русакова последнего десятилетия. Опровергнуть их способен только сам поэт – если удастся ему выйти за рамки привычных рассуждений, обрести иные, не ведомые ныне обертоны.
Библиография
Разговоры с богом // Знамя. 2000. № 4.
Разговоры с богом // Знамя. 2001. № 7.
Небольшая василиада // Знамя. 2001. № 10.
Разговоры с богом // Знамя. 2002. № 6.
Разговоры с богом. Томск; М.: Водолей, 2003. 296 с.
Стихи Татьяне // Арион. 2003. № 4.
Как страстен этот мир, как солью саднит губы!.. // Дружба народов. 2003. № 8.
Стихи Татьяне //Арион. 2003. № 4.
Я держусь за родные одежды этих слов, этих строк, этих дней… // Дружба народов. 2004. № 4.
Горло дней // Новый мир. 2004. № 6.
Стихи Татьяне // Знамя, 2004. № 7.
Болезный мой, моя большая Русь…: Пространство напряжения и боли. Стихи // Дружба народов. 2004. № 10.
Стихи Татьяне. М.: Водолей, 2005. 208 с.
Голоса // Арион. 2005. № 1.
Я вырастал из боли // Дружба народов. 2005. № 8.
Похоже, я опять в другом начале… // Дружба народов. 2006. № 4.
Другое дыхание // Знамя. 2006. № 7.
Мне ярость в жизни раздувала вены… // Дружба народов. 2006. № 12.
Друзья по малолюдью: Стихи // Знамя. 2007. № 10.
Через трещины времени: Стихи // Знамя. 2007. № 12.
Избранное / Предисл. С. Чупринина. М.: Время, 2008. 480 с. (Поэтическая библиотека).
Проверенные люди // Дружба народов. 2008. № 1.
Улетает отчизна… // Знамя. 2008. № 11.
Моя Россия – география //Дружба народов. 2009. № 3.
Я перевел и нынче жду ответа // Знамя. 2009. № 10.
Стихи отречения // Дружба народов. 2010. № 8.
Свои скворцы // Знамя. 2010. № 10.
Десять стихотворений // Новый мир. № 2011. № 4.
Собес, вокзал, мордовские задворки… // Знамя. 2011. № 5.
Российская привычка // Дружба народов. 2011. № 12.
Секретный Зорге // Знамя. 2012. № 6.
В своей поре // Дружба народов. 2012. № 10.
Привыкание к жизни // Новый мир. 2013. № 1.
Таблица запоминанья // Знамя. 2013. № 3.
Дорогие мои жизнелюбы… // Дружба народов. 2013. № 8.
…в отечестве грозном моем // Дружба народов. 2014. № 4.
Воспитанник народа // Знамя. 2014. № 5.
Анна Русс или «Запоминай любые пустяки…»
Анна Русс во времена своего дебюта отдала много сил, чтобы казаться брутальной и жесткой, чтобы в любой ситуации, предполагающей возглас «а!», не то чтобы промолчать, но воскликнуть «о!» и даже дважды «э!». Усталая от дешевого эпатажа публика записала было новоявленного стихотворца в тонкие ироники, поскольку в усиленном пристрастии к полузапретным темам и темным сторонам удела человеческого чувствовалась некая заведомая преднамеренность. Это как в старом анекдоте: на вопрос «Знаете, как перевести с …ского фразу “Простите, пожалуйста, я не расслышал, что вы сказали, не будете ли столь любезны повторить еще раз?”» – следовал ответ: «Га?!». В случае Русс путем несложных стилистических преобразований всякий легко мог произвести дешифровку: любое профанирующее «Га?!» незамедлительно превращалось в ясное и четкое высказывание, ну на худой конец – в «мессидж».
Желание сказать и сделать навыворот в стихах Анны Русс почти без остатка распределялось между тремя ситуациями, «мессиджи» произносились ровно трех типов – если обращаться к первоисточникам, их можно описать довольно лаконично: долой ваше искусство, долой ваши идеалы и долой вашу мораль.
Легче всего начать с первого «долой», его иллюстрирует образцовое для Русс творение про вечер Пушкина в музее Баратынского. Эта вещь рассчитана на устное (слэмовое) произнесение в рэповом ритме, накрывающем мутной волной мир, прилежно расчерченный по прописям, где каждому поэтическому имени заведомо отведен свой шесток. Пушкин – тот побольше всех, Баратынский – тоже прекрасен, однако поменьше Пушкина будет. Почему – неведомо, так принято считать, не перечитывая, так многие думали, не задумываясь. И вот вдруг стрелка компаса дает резкий сбой, четкая карта поэзии размазывается в нелепый чертеж нерадивого школьника, недовыполнившего постылое домашнее задание по поэтической географии. Простые слова, поделенные рваным рэповым чтением на неравные части, обнажили свое скрытое нутро, далекое от благозвучной словарной ясности.
Шагом марш в Музей Бора-ТЫНС! – ТЫНС! – кого, Там сегодня днем будет вечер Пушкина. Шагом марш в Музей Боратынск-ого-го! Там сегодня в три читать будут Пушк-и-на!.. А я сегодня была в инете, И не на каких-нибудь пор-но-но! сайтах, Я там читала про Ганд-LEVE! – LEVE! – ского, И про Соко-LOVE! – LOVE! – ского, И даже про Леви-TANZE! – TANZE! – кого…Второе «долой» Анны Русс лучше всего воплощено в еще одном «устном» стихотворении – «Герои». Имеются в виду пионеры-герои и вообще образцово-героические личности, на примере которых должна была воспитываться советская молодежь пионерского возраста (для справки: от 10 до 14 лет). За пионерским этапом жизни совмолодежи, как водится, следовал комсомольский, продолжавшийся (ежели кто не помнит) с 14 аж до 28 лет. Всякому возрасту – свои апостолы, и если некоторые имена героев постарше и теперь более или менее на слуху (Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой), то большинство пионеров-героев канули в безвестность: Лиза Чайкина, Валя Котик, Марат Казей – это их портреты иконостасом украшали стены пионерских комнат, укоризненно взирали на тех, кто отлынивал от доблестной учебы, принимали клятвы «жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин».
Ты их уже не знаешь, А я уже не помню, А вспоминаю снова – И до чего хреново! Леня Голиков наелся кроликов Зина Портнова рыжая короваЖелание зачеркнуть непонятные, взятые из какой-то другой жизни авторитеты, побольнее их уколоть, оскорбить соседствует с благоговейно-священным ужасом перед пантеоном юных советских божеств, естественным образом превращает религию в магию, рождает желание поворожить с помощью неведомых (а вдруг – кто знает! – все еще грозных) духов, оставить им устную записочку о хорошей оценке или удачной подсказке на уроке.
Маратик, Маратик, Подскажи мне, братик! Зоечка, Зоечка, Пусть хотя бы троечка!Наконец, третье и последнее «долой» адресовано Анной Русс адептам верной и вечной любви, в течение долгих десятилетий благоговейно внимавшим строкам вроде «Все у нас с тобой по-прежнему, Только годы катятся». Нет, все не так трогательно и незыблемо, любовь обычно иссякает, проходит либо уже прошла, не начавшись, оставив запах спирта и лука после выпитых и съеденных накануне свидания джина и шоколада (стихотворение «Он пил джин и заедал шоколадом…»). Как ни парадоксально, именно стихи о любви у Анны Русс наименее сводимы к нечленораздельному отрицанию устоев и идеалов. Есть ерничанье («Знаете, а я ведь иду отдаваться!»), есть подростковое внимание к вторичным признакам любви, манерные рассказы «про это». Но с самого начала в стихах об отношениях юношей и дев присутствует и иное: загадочность, осторожное рассуждение, нащупывание своей правды. Казенная вечная любовь-верность мгновенно перечеркивается подростковой любовью-ненавистью, а затем стремительно оборачивается чувством-без-имени, сплошным недоумением:
На ощупь просыпаешься – гляди, Нога к ноге, щекою на груди, Сомнений нет, одна слепая марежь, Снаружи приближается к нулю, И слов честней, чем я тебя люблю, Не выдумать. Но губ не разжимаешь. Наоборот, встаешь, полощешь рот, А дальше будет задом наперед, Иди домой, живи в своем режиме. Отсюда видно все Царю Горы, И лучше нету, кажется, игры: Очнувшись, снова встретиться чужими.Именно недоумение, осторожная внимательность к окружающему доминирует в стихах Анны Русс последних лет. Протестная уверенность в собственной несоразмерности всему сменяется более глубокими вопросами: а что такое несоразмерность и что такое – я? Очень характерно стихотворение «Вертолет», где рядом присутствуют две противоположные по смыслу декларации. С одной стороны, громкий клич человека, не вписывающегося ни в какие рамки и нормы, все вокруг выбивающего из колеи, настроенного на то, чтобы приспособить мир к себе, а не наоборот:
Сегодня – все. А завтра – ничего. Ты слышишь? То-то. Дай себе команду не расслабляться. Повторяй как мантру: «Сегодня все а завтра ничего».С другой стороны, здесь же присутствует совсем иной призыв – запоминать и хранить все вокруг, поскольку любое мелкое событие, ничтожная на первый взгляд деталь существеннее и важнее залихватских амбиций неуживчивой «творческой личности, претензий записного бунтаря»:
Запоминай – приветствие руки, стакана путь ко рту, его смятенье, яремной содроганье впалой тенью. Запоминай любые пустяки, любую мелочь. Скажется потом восстановить из буфера обмена, да так, что все свернется внутривенно…Похоже на то, что все призывы «долой» оставлены поэтом Анной Русс далеко позади. Да и немудрено: они отдавали дань прошлому – страны, поэзии, личной судьбы. Большинство оснований для протеста канули вместе со страной, в которой не было секса, мафии и наркомании, а налицо имелись: особо циничное советское лицемерное целомудрие, правоохранительные лозунги типа «если кто-то кое-где у нас порой» и далее по списку. Поверженный враг больше не достоин проклятий, однако это вовсе не значит, что жизнь, так сказать, налаживается. В стихах Русс по-прежнему обязателен элемент дискомфорта, стеснения, однако новые признаки несвободы и ущемления относятся уже не к внешним обстоятельствам, но коренятся в самой природе поэтического дара нашего автора. Очень часто сталкиваются внимательное смирение и нежелание покоряться шаблонным меркам существования, причем эти столкновения происходят порою на очень ограниченной территории, иногда – в пределах одной фразы:
Господи, прости, что так часто к тебе обращаюсь, Убери меня отсюда, я здесь не помещаюсь. Зачем ты создал меня с такой красивой душою, Такой нелепой, такой никчемно большою?Как совместить «большую красивую душу» с демонстративно нищенским обращением «прости, что я к тебе обращаюсь» – над такими вопросами бьется теперь Анна Русс, поэт со значительно расширившимся в последнее время стилевым диапазоном. Русс научилась уходить от прямолинейной эстрадности, броской эффектности, преодолела былую контрастность высказываний, ее стихи наполнились ранее непредставимым разнообразием оттенков смысла и голосовых модуляций. Что ж, эпоха рэпа и слэма позади – значит, впереди остается самое главное и трудное.
Библиография
Голоса // Арион. 2003. № 2.
Мне улыбаются ангелы из-под синего купола // Континент. 2005. № 125.
Марежь. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Kolonna Publications, 2006. 48 с.
Которая никому // Новый мир. 2007. № 7.
Все, что случалось в книжках, случится с нами // Октябрь. 2008. № 2.
Стихи // Октябрь. 2008. № 10.
Слепой человек // Новый мир. 2009. № 10.
Бог на любой стороне // Октябрь. 2009. № 11.
Владимир Салимон или «Все вплоть до местоположенья…»
Уж сколько раз доводилось мне во весь голос или театральным полушепотом, с нажимом и по складам произносить одно и то же: «Владимир Салимон – прекрасный, редкий поэт», – а воз и ныне там. То есть, я имею в виду, что (может, и слава богу) количество поклонников не увеличивается, лавровые венки с неба не валятся, в лауреатские списки записывают других.
Все это легко объяснимо: в его рифмованных классически полноразмерных строчках, а также и в биографической канве событий нет ни одного внелитературного информационного повода, который бы привлек «общественное внимание» к фигуре этого стихотворца. Ни тебе извлеченных на свет Божий приключений в андеграунде, ни малейших следов непечатных слов в стихах, нет также арестов, эмиграции, знаменитых друзей-компаний, телевизионных шоу, громких публичных жестов. Никакой также тут новой искренности или там – эстрадности-фестивальности; острой социальности и жесткости тож. И все у него как-то излишне конкретно – ну кому придет в голову всматриваться в заоконный пейзаж в эпоху вдвойне-втройне усиленного зрения, протезированного терабайтами прежде неведомых электронных сил?
На свободу мне укажут путь ветром с ветки сорванный листок, через изгородь перемахнуть кое-как сумевший мотылек ……………………………… Но когда рассеется туман, Солнца луч в кромешной тьме блеснет, за окном моим подъемный кран в полный рост с недавних пор встает.Самым главным в стихотворении оказывается не исходный мотив поисков свободы (ценою неизбежной смерти листка, который «оторвался от ветки родимой» или посредством решительного усилия мотылька), но изменение внешних обстоятельств, перед которыми меркнет привлекательный героизм свободоискателей. Порыв на волю не только уравновешен появлением в поле зрения мощного силуэта башенного крана, но этим последним событием попросту отменен.
Салимон необыкновенно чуток к деталям, кроме того, он имеет неосторожность (или дерзость?) эту свою чуткость раз за разом педалировать и акцентировать, зачастую в одних и тех же оборотах:
Хотя Отечество в опасности, да и на личном фронте худо, желание вдаваться в частности берется вдруг невесть откуда.Или:
…Но всяк с рожденья гол и бос, в детали если не вдаваться.Важно отметить, что «вдаваться» поэт готов лишь в детали-вещи, но никак не в детали-мысли: углубление в отвлеченное умствование вызывает либо мягкое недоумение, либо твердое неприятие:
Разговоры о жизни и смерти понемногу заходят в тупик. У меня, несмотря на усердье, начал вдруг заплетаться язык. Стали разом тяжелыми веки и бесцельно блуждающим взор, и внезапно возник в человеке для тоски и унынья простор. В сердце место нашлось для печали, и охота пропала совсем с умным видом вдаваться в детали чуждых мне философских систем.Стихотворение Салимона строится так: простейший предмет (= несложное событие) ведет к спонтанной, непосредственной человеческой реакции, обычно минующей топику рассуждения, соразмерной с интонацией вздоха, вымолвленной почти не задумываясь короткой фразы, иногда сдержанного вскрика. Главный вопрос: откуда же возникают в этом мире простых вещей и слов вполголоса фирменные салимоновские сентенции, открывающие новые измерения повседневного бытия?
Словечки непроизносимые, такие как «трансцендентальный», а за окном хлеба озимые имеют вид весьма печальный. А что такое есть томление, как не упадок силы духа, не лес осенний в отдалении, старик, глухой на оба уха?Глубинные соответствия между словами и вещами возникают как раз потому, что нити сходства тянутся в обход поверхностных критериев сравнения, доступных для логического рассуждения. В чем сходство «непроизносимых словечек» из лексикона философов и… старика, глухого на оба уха? Да и можно ли вообще в рамках какого-нибудь, прости господи, дискурса, сопоставить человека с термином? Оказывается – можно: «трансцендентальный» характер явлений ложен не сам по себе, а лишь в попытке устно означить его в зрительной перспективе «хлебов озимых». Понятие трансцендентальности настолько же трансцендентно сельскому пейзажу, как совершенно глухой старик потусторонен любой попытке оклика. Круговое построение обманчиво, обычная логика разрушена, но на ее месте немедленно воздвигнута иная, размыкающая привычные границы события, указывающая далеко за пределы конкретного текста (например – на некрасовское «В столицах шум, гремят витии…» или на знаменитое фетовское «Облаком волнистым…»). Сложность перечеркивается во имя кажущейся простоты, которая тут же оборачивается еще большей, но органичной и невыдуманной усложненностью и органичностью восприятия.
Мир стихотворений Салимона – обжитой, камерный, дело обычно происходит где-то за городом (на даче?), часто ранним утром, нередко утренние полеты птиц рождают мысли о явлениях ангелов – вот, пожалуй, и весь сказ. Конечно, перечисленные мотивы не обязательно присутствуют все вместе, но и по отдельности они рождают слова, от неброской смелости которых у читателя эпохи постконцептуализма перехватывает дух:
Мое место с птицами на крыше, а быть может, даже в облаках, потому что я хочу быть выше, чище, и не только на словах. Только рядом с птицами не скучно день-деньской глядеть по сторонам, только рядом с птицами не нужно отвлекаться мне по пустякам…Подобные подтверждения способности современного человека чувствовать мир в стихе так, будто и не было прозрений Хлебникова, свинцовой сдавленности Ходасевича и предостережений Адорно, соседствуют с пассажами совершенно несерьезными, почти манерными, впрочем, лишь подтверждающими тезис о том, что с поэтами и поэзией за последнее столетие на самом-то деле ничего дурного не случилось:
Мне кажется несправедливым твое решенье пренебречь его естественным порывом: у нас в ногах кот хочет лечь…Таких мелочей в стихах Салимона сколько угодно, иногда они повторяются как излюбленные описания, если выразиться метафизически, «контакта босых ног и холодного пола»:
Первый страх давно прошел, но осталось ощущение, будто, встав босым на пол, ощутил земли вращение.Или:
И прежде чем ступить на пол холодный, я в ужасе отдергиваю ногу…А вот еще из той же серии:
Забыв об осторожности, чуть свет ступаешь босиком на пол холодный…И еще:
молча в зеркало глянул для верности, встав босыми ногами на пол.В миниатюрах (обычно не более трех-четырех привычных катренов) Салимона есть главная тайна: неочевидные ассоциативные схождения предметов и эмоций, когда непонятно, как вторые вытекают из первых либо – еще точнее – почему те или иные ощущения рождаются на фоне именно данных, а не других. Помните, у Толстого: Николай Ростов недоумевает, как это так происходит: руки Долохова тасуют карты, а он в это время почему-то утрачивает крупную денежную сумму, а заодно и роняет свое дворянское достоинство…
Ты моя последняя любовь. Это – нонсенс с точки зренья вечности, но отличный повод вновь и вновь изумиться жизни скоротечности. Целый день я думал, как бы так сделать, чтобы время власть утратило, в потолок глядел, курил табак, ты варила борщ, стирала, гладила.И за всем этим ясно различим совершенно отдельный и особый по нынешним временам дар поэта, который словно бы не замечает вокруг политических и эстетических бурь. У него стилистические разногласия не с властью и не с ее противниками, но со слепоглухими современниками, убежденными в «смерти автора», с теми, кому
…предназначение в небе сияющих звезд непонятно…Такой человек, не в силах вынести тяжести и легкости жизни во всех ее проявлениях,
…может за уличное освещение горний их свет он принять, вероятно.Владимир Салимон занимает на сегодняшней карте русской поэзии определенное положение: он не больше, чем поэт, но ни в коем случае не меньше, Салимон ощущает себя как раз вровень с поэтической традицией, и на любой скепсис по адресу возможностей сегодняшнего стиха у него есть свой ответный гнозис:
Предпочитая по отдельности разнообразные детали, я не утратил чувства цельности, не усомнился в идеале.Библиография
Без видимых на то причин // Октябрь. 2000. № 2.
Стихи // Волга. 2000. № 4.
Небо в алмазах // Новый мир. 2000. № 5.
Все это дело наших рук // Континент. 2000. № 104.
Стихи // Вестник Европы. 2001. № 1.
Фактура грубого холста // Октябрь. 2001. № 2.
Долгожданный покой // Новый мир. 2001. № 4.
[Стихи] // Арион. 2001. № 4.
Из книги «Возвращение на землю» // Континент. 2001. № 108.
Возвращение на землю. М.: АСБ-Акрополь, 2001. 176 с.
[Стихи] // Арион. 2002. № 4.
Колючая вода // Октябрь. 2002. № 4.
Стихи // Вестник Европы. 2002. № 6.
Между делом // Новый мир. 2002. № 11.
Что маловероятно // Континент. 2002. № 112.
Раз и навсегда. М.: МК «Периодика», 2002. 230 с.
[Стихи] // Арион. 2003. № 4.
Опрокинутое небо // Октябрь. 2003. № 4.
Салимон В., Назаренко Т. Опрокинутое небо: Страницы книги // Вестник Европы. 2004. № 11.
Краем глаза // Новый мир. 2004. № 1.
Настоящим жить приходится // Октябрь. 2004. № 2.
Короткое время // Арион. 2004. № 3.
Салимон В., Назаренко Т. Опрокинутое небо. М.: Манеж, 2004. 239 с.
Первое впечатление // Арион. 2005. № 2.
Из новых стихов // Интерпоэзия. 2005. № 2.
Чертеж земли // Октябрь. 2005. № 2.
Невесомые облака // Новый мир. 2005. № 8.
Стихи // Вестник Европы. 2005. № 16.
Место и время // Октябрь. 2006. № 2.
Помимо жизни бедной Лизы // Арион. 2006. № 3.
Посланец звезд // Новый мир. 2006. № 10.
Чудесным происшествиям свидетель. М.: Журнал «Арион», 2006. 215 с.
С точки зренья вечности // Арион. 2007. № 3.
[Стихи] // День и ночь. 2007. № 3–4.
Гвозди и клещи // Новый мир. 2007. № 7.
Кто ты есть? // Октябрь. 2007. № 7.
Я еще не все успел сказать // Зарубежные записки. 2007. № 11.
С некоторых пор… // Континент. 2007. № 131.
На свете есть немало тайн // Континент. 2007. № 133.
Для пьющих и курящих // Арион. 2008. № 2.
Из стихов 2008 года // Интерпоэзия. 2008. № 2.
Такая расстановка сил // Дружба народов. 2008. № 4.
За закрытой дверью // Октябрь. 2008. № 4.
Знакомый голос // Новый мир. 2008. № 10.
Сирень легко в отрыв уходит… // Зарубежные записки. 2008. № 14.
Стихи // Вестник Европы. 2008. № 22.
На родине слонов // Континент. 2008. № 136.
Места для игр и развлечений. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. 192 с.
Место у окна // Арион. 2009. № 2.
Мы теперь совсем другие // Октябрь. 2009. № 3.
Декретное время // Новый мир. 2009. № 10.
Волею судеб… // Зарубежные записки. 2009. № 20.
Про точку и про запятую // Континент. 2009. № 140.
Стихи // Новый журнал. 2009. № 254.
Рогатые зайцы. М.: Петровский парк, 2009. 219 с.
Федор Сваровский или «…никто не хочет быть тем, кем родился…»
Почему-то, когда бываю в гостях и бросаю взгляд за окно где-нибудь на улице Шоссейная, я непременно вспоминаю Тургенева. Именно Ивана Сергеевича: что бы сказал он или подумал о заоконном пейзаже, где горизонт застит сплошная череда разновысоких многоэтажных построек? Синтетическая «вторая природа» давно заместила для горожанина «первую», лазурно-зеленую, привычную для человека тургеневской пейзажной эпохи. Такое же замещение-вытеснение давно произошло и в реальности сознания: непредставимое стало обыденным, а некогда обыденное – редким и неузнаваемым. За этой гранью невообразимости уравниваются в правах виртуальная реальность космической «стрелялки», зыбкая натура сновидения и мегаполисный вид на очередную Капотню из высокоэтажного окна.
Федор Сваровский состоялся как поэт, когда из только что описанной ситуации он вывел одну простую идею. Культ прогресса, опережающее развитие (как это говорилось?) «производительных сил и производственных отношений» приводят не только к отчуждению (продукта труда от субъекта труда, а также труда от капитала) и далее – прямиком к революции, но и к новому витку эволюции человека как биологического вида и существа социального. Человек адаптируется к господству «второй природы», вдруг, с разбегу ощутив себя генетически модифицированным продуктом, мало чем отличающимся от киношных киборгов с бластерами.
Коли так, любая обыденная ситуация чревата полуфантастическими подтекстами и скрытыми смыслами, например, если некий
Петя застрял в лифте на собственном 18-м этаже,то для его спасения в действие немедленно приводятся силы, незримо управляющие существованием всех человеков, в том числе и вышеозначенного Пети:
ну – говорит – я попал чувствую себя как на войне в горящем танке в затонувшей подводной лодке по которой при этом стреляют прямой наводкой и какие-то артефактные ощущения бегают по животу, затылку, спине ‹…› ваш корабль расстрелян и он горит но с лунной базы уже вышла спасательная эскадра ничего не бойтесь отряд спешит расслабьтесь и успокойтесь с вами весь флот Его Величества Императора Хайруруману ХлуггаВ принесшем Сваровскому известность сборнике «Все хотят быть роботами» стартовое допущение о том, что «никто не хочет быть тем, кем родился», предопределяет все разнообразие сюжетных ситуаций, среди которых чаще всего встречаются сводки с неизвестных войн, репортажи с неведомых планет (впрочем, не отличимых от земной «второй природы»), описание индивидуальных и групповых грез, подобных яви. Коллективное бессознательное современного медийно-сетевого человечества играет всеми красками синтетической инфра-ультра-красно-фиолетовой радуги. Нехитрый «метод Сваровского» бьет в цель без промаха: для современного человека именно «искусственная» эмоция робота, киборга может быть наиболее привлекательной, постоянной, не зависящей от внешних воздействий. «Удел человеческий» со времен высокого Возрождения предполагает преобладание изменчивости – над стабильностью, прогресса – над традицией, во главу угла поставлен принцип постоянного обновления («модерности») и успешности (на языке социологов – «достижительности»).
Как только на смену средневековым воззрениям о непознаваемости мира приходит ренессансное убеждение в его человекоцентричности – машина либерально-индивидуалистического стремления к свободе-равенству-братству-комфорту-успеху-покою оказывается раз и навсегда неотвратимо запущенной. Все препятствия на пути к земному раю одно за другим оказываются преодоленными (опасности белых пятен на географической карте, эпидемии, в значительной мере – общественное неравенство). Однако именно на стадии глобальной универсализации города и мира всесилие и воля к изменению превращается в собственную противоположность. Ни одному из казалось бы аутентичных состояний человек больше не может и не должен доверять: в ответ на всякую недостачу идеала есть средство его приближения. Ты необразован? Не отчаивайся, выход есть – записывайся на чудо-курсы по подготовке каких-нибудь там трансвесторов! Боли в сердце? Приобрети препарат нового поколения, к примеру, исцелин! Завелась перхоть? Нависла депрессия? Морщины вокруг глаз? Все это пройдет и отступит,
когда растают льды Антарктиды мы будем счастливы пройдут многочисленные дожди сухие кости станут влажными зацветут сады на земле королевы Мод на полуострове королевы Виктории – на ветру палатки белые от воды до воды – луга рыбу и хлеб птица выхватывает из рук все нормально будет все мертвые оживут все хорошие кроме плохих о, стеклянные города о, поднявшаяся изо льда земля государь император по щиколотку в теплой воде вдоль зеленого берега навстречу качаясь идет как простой пингвин императорскийЛюбое ощущение человека, взятое во всей его конкретности и четкости, зафиксированное в настоящий конкретный момент времени, – недействительно, неабсолютно не по причине собственной неподлинности, а просто потому, что обязательно вскорости сменится другим, противоположным, сознательно достигнутым. Ведь все мои человеческие (и почти уже нечеловеческие) силы направлены на изменение себя и комплекса своих ощущений. И в этой вечной череде калейдоскопических изменений ни за что невозможно зацепиться – то ли дело эмоция робота, постоянная, раз навсегда впечатанная в его сознание управляющей матрицей-программой! Именно реакции роботов (пусть даже наиболее отталкивающие) могут стать островком стабильности в зыблющемся мире всеобщего и непрерывно текучего стремления к совершенству-смерти. Помнится, в старой советской романтической комедии «Его звали Роберт» (1967) юноша-гомункулус оказался более преданным возлюбленным, чем его «оригинал» из плоти и крови, – и это несмотря на то что ему не дано было изведать, «как пахнет сено после дождя». Киборги живее всех живых! – именно эта простейшая мысль оплодотворила разгул фантазий Сваровского в его книге о роботах.
только роботы умеют любить им в голову не приходит мысль об измене что может быть крепче привязанности неорганического материала бесстрастного, неподкупного этого сцепления неорганических молекул?..Однако – старая истина: чем ярче и необычнее прием, тем легче он автоматизируется, стирается, перестает щекотать нервы и бередить слух. Новая книга Федора Сваровского «Путешественники во времени» тянет уже и на модное слово «проект», это пространнейшая череда описаний межвременных путешествий и приключений неких героев, собрание неоромантических ирои-комических баллад и квазиэпических сказаний, снабженное десятками «документальных» фотографий, призванных усилить игровое ощущение подлинности происходящего.
это будущее в небе – скоростные антигравитационные аппараты конец войны правительство Гоорна ушло в отставку в горах повстанцы сдают позитронное оружие и лучеметы мутанты уравнены в правах с гражданами Союза теперь кто угодно на ком угодно может жениться легитимны любые официально зарегистрированные узыЕсли ренессансная «модерность» и «достижительность» приводили к стремлению приладить внешний мир к привычным каналам человеческого восприятия, избавить его от метафизической и «неудобной» для обыденного сознания глубины и неисчерпаемости, то на выходе из постмодерна все усилия оказались обращенными на создание «второй природы», копии большого мира, как можно более точно повторяющей его внешние характеристики.
Автор, пережив безвременную смерть, оказавшуюся временной иллюзией, снова стремится обрести статус творца, создателя 3D-картинок, претендующих на тождество с самой что ни на есть реальной реальностью. Возникает род наркотической зависимости, глубокой закомплексованности и неверия в собственные силы, маскирующихся под уверенный креатив без берегов. Чем страннее и забористее, тем… более все это будет напоминать настоящую жизнь, идет ли речь о шреках и аватарах либо об высокогорных осажденных мутантами селениях Маргат Сырдым. Дальше! Дальше!! Дальше!!! Что еще подбавить к трехмерному изображению для пущей достоверности? Запахи? Болевые синдромы? Пока что в изобилии только один читательский синдром: усталая реакция на бесконечное однообразие занимательной пестроты. Которая, конечно, может и должна быть преодолена и устранена без всякой помощи мутантов с проспекта Мира и чар императора Хайруруману Хлугга.
Библиография
Никто не умрет // Сетевая словесность, 8.12.2003.
День рождения Галкевича // Крещатик. № 2 (21).
Монголия: Поэма // Сетевая словесность, 19.07.2004.
Похищение принцессы в Буэнос-Айресе (Сновидения) // Сетевая словесность, 23.03.2005.
Олег со звезд: Поэма // Крещатик. 2005. № 2 (28).
Катя, муж и мертвые инкассаторы (про будущее) // Сетевая словесность, 8.02.2006.
Военное поколение // Сетевая словесность, 8.11.2006.
Про войну // Заповедник. № 74.
Два робота // Заповедник. № 76.
Сверхорганический разум // Новый мир. 2007. № 9.
Все хотят быть роботами. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2007. 80 с.
Шваб Л., Сваровский Ф., Ровинский А. Все сразу. М.: Новое издательство, 2008. 168 с.
Путешественники во времени. М.: НЛО, 2009. 424 с.
Ольга Седакова или «Я не хочу быть тем, что я хочу!»
Ольга Седакова неоднократно подчеркивала непреложную и органичную сопряженность своей поэзии с «семидесятыми годами», понимаемыми не как календарное десятилетие, но шире – в качестве периода культурного промежутка между эпохой «бури и натиска» шестидесятых и периодом «гласности», настигшим страну четверть века тому назад. Ретроспективные характеристики этого времени, родившиеся на рубеже восьмидесятых и девяностых, имеют преимущественно негативную окраску: «застой», «стагнация» и проч. Между тем существует возможность более нейтрально описать эти годы, отличавшиеся всеми ощущаемой стабильностью, культурной статикой. Господствовала презумпция несменяемости не только политического режима, но и привычного modus vivendi, предполагающего многообразную двойственность культурной среды, рассеченной несколькими основополагающими границами. Грань между «официальным» и «диссидентским» поведением писателя, разлом между подцензурной и неофициальной словесностью мгновенно «считывались» каждым современником «прекрасной эпохи», безошибочно отличавшим книгу, увидевшую свет в «Ардисе» либо в «Посеве», от книги, изданной в «Совписе» или «Худлите».
Поэзия Ольги Седаковой, ее, говоря шире, способ мышления и присутствия в культуре отличаются тою же двойственностью, которой отмечена вся эпоха семидесятых годов. С одной стороны, практически полное отсутствие официального статуса (исключая совсем ранние газетно-журнальные публикации), с другой – безусловная известность и непререкаемый авторитет в определенном круге литераторов, мыслителей и читателей. Отмеченную двойственность можно перевести и в плоскость поэтики и стилистики. С одной стороны, поэзия Седаковой абсолютно контекстуальна, обращена к конкретному кругу людей – среди адресатов ее стихов Сергей Аверинцев и Леонид Губанов, о. Александр Мень и Владимир Бибихин, Иван Жданов и Елена Шварц, Нина Брагинская и Анна Великанова. С другой же стороны, поиски новой поэтической формы в стихах Седаковой не имеют ровно никакого отношения к «литературному быту» семидесятых годов, обращены к пластам смысла, принципиально не сводимым к запросам какой-либо конкретной эпохи, отсылающим к святому Франциску и Данте, Хлебникову и Рильке.
Говоря о вещах и событиях внешне сугубо конкретных, Седакова большею частью сосредоточена на вопросах природы искусства. Манифестарное обоснование эстетической «способности суждения» входит неотъемлемой составляющей практически в любое стихотворение: я «говорю языками искусства» таким образом, что меня более занимает не предмет рассуждения, но самая возможность высказывания – так можно было бы сформулировать не идейное, мировоззренческое, но творческое кредо Ольги Седаковой. Демонстративная усложненность, неоднократно отмечавшаяся своеобразная эзотеричность ее поэтики коренятся в столь же демонстративно простой установке на необходимость собирать камни поэтического говорения, думать не только о значениях слов, но и природе словотворчества как таковой.
Мне снилось, как будто настало прощанье и встало над нашей смущенной водой. И зренье мешалось, как увещеванье про большие беды над меньшей бедой, про то, что прощанье – еще очертанье, откуда-то ведомый очерк пустой. Но тут, как кольцо из гадательной чаши, свой облик достало из жизни молчащей и, плача, смущая и глядя в нее, стояло оно, как желанье мое…Здесь (стихотворение «Прощание») сходятся в едином фокусе три вектора рассуждения: что означает «прощание» в дословесной материи житейских событий, каково значение слова «прощание» и, самое главное, каков бытийственный статус слова как такового, включающего область понятия «прощание» как частный случай.
Один из прямых, очищенных от бытовых напластований поэтических манифестов Ольги Седаковой («Давид поет Саулу») воспроизводит библейскую топику (1 Цар., 16: 14–23) и диалогически отсылает к одноименному шедевру Рильке (об этом писал С. Аверинцев). Согласно версии Седаковой, изображенное в Книге Царств искусство призвано не только и не просто отвлекать от приземленных жизненных (чувственных) радостей и потребностей, его благочестивая природа коренится в самой способности к пению и произнесению слов:
Да, мой господин, и душа для души – не врач и не умная стража. (Ты слышишь, как струны мои хороши?) Не мать, не сестра, а селенье в глуши и долгая зимняя пряжа.Итак, поэзия Седаковой на протяжении всего периода противоречивой статики «семидесятых» сохраняла тождество, заключавшееся в парадоксальном единстве конкретности и отвлеченности, обращенности к «своим» и вместе с тем – к городу и миру, а также в единстве итоговой, результативной простоты и первоначальной усложненности стиха дополнительными коннотациями, которые способны расслышать именно «свои», единомышленники, соработники на ниве неофициальной культуры эпохи позднесоветского «мира периода упадка». При этом базовая эмоция приближала читателя к чистоте и прозрачности отстраненного наблюдения, незаинтересованного суждения о мире, имеющего целью не мир поступка, но меч мыслительного усилия. Конечно, случался и социальный натурализм, например, в стихотворении «В метро. Москва»:
Вот они, в нишах, бухие, кривые, в разнообразных чирьях, фингалах, гематомах (– ничего, уже не больно!): кто на корточках, кто верхом на урне, кто возлежит опершись, как грек на луврской вазе. Надеются, что невидимы, что обойдется.Однако в общем и целом подобные инвективы навязшему в зубах официозу скорее являются исключением, подтверждающим правило: тайновидение предполагает незаинтересованную, прохладную внимательность к роящимся смыслам, а никак не яростную ненависть или экзальтированную апологетику. Если уж ярость, то по-мандельштамовски погруженная во вчерашний день, который, согласно раннему акмеистическому манифесту, «еще не родился» («Восемь восьмистиший»):
Полумертвый палач улыбнется – и начнутся большие дела. И скрипя, как всегда, повернется колесо допотопного зла. Погляди же и выкушай страха да покрепче язык прикуси. И из рук поругателей праха полусытого хлеба проси.…А что же теперь? В наступивших временах внешней открытости и тотальной неозабоченности проблемами слова голос Седаковой и глуше, и слышней. Глуше – поскольку звучат сразу все ноты: от сладкозвучных струн до апокалиптических труб. Убежденность в правоте, ранее жестко и сознательно противопоставленная двойственности и двуличию семидесятых, ныне отчуждена от личного выбора. Отсутствие врага и прямой угрозы лишает нонконформистский жест героики, а порою и всякой подлинности, так торопливое перелистывание в метро мандельштамовского сборника в яркой суперобложке невозможно сопоставить с ночным чтением машинописных копий запретного и заветного «черного» четырехтомника под редакцией Струве и Филиппова.
Ольга Седакова осталась сама собою, однако ее обступили иные времена. Подробные и тщательные издания, знаки признания и почести вовсе не приближают нас к подлинному облику поэта. Так, всегдашняя склонность Седаковой к надтекстовым единствам, к поэтическому мышлению книгами и циклами побуждает современных издателей непременно разбавлять новые стихи прежними и давними, пытаться восполнить пробелы и лакуны, неизбежно допускавшиеся в изданиях прошлых сложных лет. Однако в былой фрагментарности, неполноте, неакадемичности публикаций Ольги Седаковой, пожалуй, была своя органика, соразмерность эпохе семидесятых, в которой сектор дозволенного являлся зыбким, подвижным и соблазнительно опасным.
Наступившие мандельштамовские «сумерки свободы» либо, по определению Ханны Арендт, «темные времена» столько же пробуждают к жизни ранее не звучавшие голоса, сколько и искажают их звучание. Восприятие поэтов, соразмерных смысловой неполноте поздней советской эпохи, страдает едва ли не в наибольшей мере. Полные собрания сочинений легко кажутся результатом чрезмерных архивных усилий, не имеющих ничего общего с пониманием поэзии, а напряженные сосредоточенные раздумья самих поэтов, некогда заветные и сокрытые, современниками сумерек свободы нередко принимаются за нарочитое подчеркивание собственной значительности, за гордыню и приверженность прелести в старом и страшном значении слова.
Время временно оставить камни в покое. Только тогда вернется утраченное было ощущение, что свой черед еще настанет и для стихов Ольги Седаковой. Недаром же она сама в стихотворении «Золотая труба. Ритм Заболоцкого» утверждает, что сегодня только и можно жить, что
Над просохшими крышами и среди луговой худобы в ожиданье неслышимой объявляющей счастье трубы.Библиография
Собрание сочинений в 2 т. / Предисл. С. С. Аверинцева. Т. 1. Стихи. 600 с. Т. 2. Проза. 900 с. М.: NFQ, 2001.
Путешествие волхвов. М.: Гносис, 2002. 264 с.
Старые песни. М.: Локус-пресс, 2003.
Из цикла «Начало книги»: Стихи. Слово после вручения премии // Континент. 2003. № 116.
Стихи номера // Критическая масса. 2004. № 4.
Стихи // Иностранная литература. 2005. № 4.
Как я превращалась. М.: ТимДизайн, 2006. 36 с.
Музыка. М.: Русскiй мiръ, 2006. 480 с. (Литературная премия Александра Солженицына).
Две книги: Старые песни; Тристан и Изольда. Стихотворения в исполнении автора. СПб.: Студия совр. искусства «АЗиЯ-Плюс»; Изд-во Сергея Ходова, 2008. 88 с. + CD.
Прощание // Дружба народов. 2008. № 10.
Всё, и сразу: Новая книга стихов. СПб.: Пушкинский фонд, 2009.
Стихи. Переводы. Poetica. Moralia. Собрание сочинений в 4 т. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2010.
Сад мирозданья. М.: Арт-Волхонка, 2014.
Андрей Сен-Сеньков или «Стихотворение – домик для прилагательных»
В памятном борхесовском рассказе «Сад расходящихся тропок» речь идет о нелинейном алгоритме передвижения по пространству, условно ограниченному некими рамками: стенами, межами, изгородями. Выбрать единый маршрут невозможно, все равно некоторые тропки останутся нехожеными. Андрей Сен-Сеньков с самого начала своего присутствия на карте современной поэзии возделывает достаточно отдаленный участок стихотворческого сада – в непосредственной близости от аллей визуального эксперимента и рифмованного афоризма на манер японских трех– и пятистиший.
Апелляция к визуальной изобразительности в его текстах встречается довольно часто, даже если они не сопровождены рисунками, чертежами, графическими схемами, что тоже не редкость.
восклицательный знак – след, оставленный подпрыгнувшей от счастья точкойГораздо интереснее случаи распространения принципов визуальной поэзии на смежные тематические области, когда роль картинки играет не рисунок, не схема, а лаконично обрисованная ситуация с итоговой сентенцией в финале:
в одном из писем чехов долго рассказывает как накануне он освобождал мышей попавших в мышеловку отпуская их он записывал на видеокамеру карандаша литературную формулу-1 серых маленьких машинок с живыми дверцами открывающимися в кровь а все его знаменитые чеховские рассказы написаны так же случайно как случайно записывают куски телепередач на кассету с любимым фильмом («Не пишите письма, их потом читают»)Зарисовки Сен-Сенькова демонстративно фрагментарны, они фиксируют мимолетное сходство вещей и событий, порою друг с другом никак не связанных. И в этой легкости усмотрения избирательного родства – самое главное свойство стихотворной речи поэта: все сходствует со всем, все входит во все без малейших изъятий. Я бы рассказал вам про цельность и целостность мира, если бы умел всматриваться в жизнь более пристально, а пока – довольствуйтесь тем, что доступно импровизации, моментальному снимку воображения.
Элемент парадокса и афористического пуанта в подобных миниатюрах обязательно присутствует, даже если он замаскирован под лингвистическую двусмысленность, рождающую далеко идущие выводы:
звонок на мобильный: «ты где сейчас?» «я в люблино» звучит как влюблено (не влюблён и не влюблена) как может быть влюблено только одиночество голыми рукамиСитуативная краткость описания нередко сопровождается у Андрея Сен-Сенькова развернутым пояснением к происходящему, иногда почти равным по объему «основному» тексту. Это пояснение может играть роль заглавия, а может быть оформлено как альтернативный текст самого стихотворения либо экспликация причин его появления на свет. Так, стихотворение «Аргентина – страна, потерянная в Восточной Европе»
…началось с того что днем я получил грустное письмо от знакомой у нее адрес HYPERLINK «mailto: mycortazar@mail.ru» mycortazar@mail.ruПредметом для стихотворения может стать абсолютно любая картинка, в том числе представшая перед мысленным взором, как в цикле «Вымышленные виды спорта», вот один из примеров:
Смерть прячется в шкатулке среди иголок, пыли и батареек. Предметы до сих пор живы. Что для смерти является абсолютным рекордом для закрытых помещений.И еще одно важное последствие вольностей, допустимых для фланирующего по жизни поэта-наблюдателя: реальный масштаб наблюдаемых явлений может быть искажен и тем самым, по Сен-Сенькову, как раз приближен к истинному. Любое наблюдение оказывается мотивированным внутренним состоянием человека, это очень похоже на шокировавшие читателей послевоенного времени стилистические особенности экзистенциалистской прозы Камю. Человеческим существованием слова и вещи не могут быть измерены без существенного смыслового остатка; отдаться прихотям собственного зрения – значит ступить на зыбкую почву сомнения в связности мира и полновесности его реальных очертаний и этических устоев.
Впрочем, в отличие от экзистенциалистов (и еще более дальних предшественников – мастеров импрессионизма в живописи), Сен-Сеньков никогда не пытается свои частные впечатления абсолютизировать, сделать хоть в малой мере обязательными для окружающих. Из относительности наблюдений за жизнью легко вывести основания для бесперспективного релятивизма любого зрения – как духовного, так и физического. Сен-Сеньков оставляет свои мини-открытия обязательными только для себя, никогда не останавливающегося в своем движении по магическому саду расходящихся тропок.
Я помню как флейтист vermicelli orchestra разминал губы перед своим концертом в «оги» перед моей поездкой в турцию это запомнилось больше самой музыки больше самой поездки память – это брак по расчету или брак по любви? («Смотреть в Турцию – как смотреть в окно.Стекло, мешает стекло»)Он почти никогда не говорит всерьез, этот легкомысленный фланер, даже выбранный псевдоним слишком уж явно свидетельствует о двусмысленной апелляции к французским наименованиям святых. Ну разве что вот этот пассаж из цикла «Я» преисполнен серьезности и раздумчивой рассудительности:
мои стихи это дождь слегка повернутый вокруг своей осиВам не показалось?
Библиография
Танец с женщиной, которая немного выше. Стихи, проза, визуальная поэзия. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2001.
Звезды русской провинции. Стихи участников II Московского междунар. фестиваля поэтов, // Уральская новь. 2001. № 11.
Пять стихотворений // Вавилон: Вестник молодой литературы. М.: АРГО-РИСК – Тверь: Колонна, 2001. Вып.8.
Царапина около Ромео // НЛО. 2003. № 62.
Три текста // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК – Тверь: Колонна, 2003. Сезон 2002/2003 г., вып. 11.
Четыре стихотворения // Авторник: Альманах литературного клуба. М.: АРГО-РИСК – Тверь: Колонна, 2004. Сезон 2003/2004 г., вып. 3 (15).
Дырочки сопротивляются. М.: АРГО-РИСК – Тверь: Колонна, 2006.
Заостренный баскетбольный мяч. Челябинск: Энциклопедия, 2006. 208 с.
Рисунки на футбольном мяче // НЛО. 2006. № 80.
Наша поэтическая антология // Новый берег. 2007. № 18.
Нежная стрельба в 1990 год // НЛО. 2007. № 83.
Слэш (совместно с А. Цветковым). М.: АРГО-РИСК, 2008.
Хичкок: чуть-чуть не доживший до московской олимпиады // Новый берег. 2008. № 19.
Бог, страдающий астрофилией. М.: НЛО, 2010.
Александр Скидан или «…речь, уходящая за грань произношенья…»
Да, и Александр Скидан тоже говорит свою правду; правда, – не очень-то допуская право на существование прочих правд. Он здесь стоит, и не могу иначе. Поскольку и правда эта словно бы не его самого, а общая правда, и другой нет, а четвертой не быти, потому что на самом-то деле распалась связь времен и поэта прежнего нет, и меня, значит, тоже нет, критика, и тебя, наш общий читатель. И все это, надо сказать, чистая правда…
Скидан, ранее писавший достаточно пространные тексты, сосредоточил внимание на вещах минималистских, ритмизованных фрагментах в книге «Красное смещение», на которой приходится сделать особый акцент, если говорить о траектории его рассуждений на протяжении минувшего десятилетия. Александр Скидан, в сущности, говорит одну очень простую вещь: после поэзии холокост невозможен – как немыслимо и не реализуемо более никакое движение, окрашенное преступным или благочестивым порывом. И ведь получается так, что именно растворение поэзии (не «умирание искусства», не «смерть автора»!) в абсолютной буржуазной конвертируемости всего во всё, именно это незаметное растворение искусства и служит лакмусом абсолютного выравнивания, сглаживания антропоморфного пейзажа, некогда пересеченного берегами и оврагами, а ныне – гладкого и плоского, как плоскость. Поэзия в этой логике гибнет никем не замеченная – так тонет упавший с небес Икар на картине Брейгеля: в дальнем углу полотна, не докричавшийся до медлительного и спокойного пахаря, как раз заложившего очередной сочный вираж парной борозды на возделываемом поле. А утонул-то Икарушка у самого бережка, почти на пляже у самого синего моря, – оглянуться бы пахарю да сделать лишний шаг-другой, и глядишь…
Невозможно более ни тихо пахать свою борозду, ни надеяться когда-нибудь насадить на земле новый сад. Необходимо задуматься о том, как возможны синтетические суждения априори, то есть, кстати сказать, каким образом возможна поэзия как таковая. И вот оказывается, что уже почти совершенно невозможна.
непосредственная чувственность клинического подхода редукция болезнь как имя есть частное бытие разрушая ткани движение или функции хирургическое вмешательство обретает плоть особое качество неосязаемый цвет уникальную и преходящую форму лингвистической структуры реального таким образом мы вправе сказать если искусство хочет выжить в условиях промышленной цивилизации художник должен научиться воссоздавать в своих произведениях разрыв между потребительской стоимостью и традиционной понятностью ‹разрыв› который и составляет по существу опыт шокаКлиническая картина говорит о том, что всякое ненарицательное имя, то есть имя собственное, есть отклонение от безличной нормы, болезнь; как говаривал Подпольный человек, «настоящая, полная болезнь». Индивидуальное есть отклонение от общего и общепонятного, поэтому принятые всеми конвенции «в эпоху технической воспроизводимости» произведения искусства замещают собою все рискованно-личное. Вот почему, по Скидану, «болезнь как имя есть частное бытие». Впрочем, не только поэзия, но и самый язык как таковой утрачивает систему референций, слова более не связаны семантическими нитями с вещами и понятиями, а потому замкнуты в самих себе. И ведь совершенно прав Александр Скидан, позволяющий себе личностное высказывание только там и тогда, где и когда место личности творца навсегда утрачено! Его правда оправдывается на каждом шагу: платоновское царство-государство на земле наступило: художники изгнаны, загнаны в резервации, ну скажите, сколько народу вокруг испытывает потребность перечитывать Фета – каждый трехсотый, трехтысячный??
Техническое совершенство сегодня означает не что иное, как самоценность технологий, минующих сознание и волю человека, – эта аксиома действует без исключений, ее протестно описывают самые разные инвективы – от горестного возгласа того же Подпольного человека («дважды два и без моей воли четыре будет») до хайдеггеровского понятия «постав» (Gestell). Автор сборника «Красное смещение» неспроста при вручении премии Андрея Белого говорит, что на этот раз в номинации «поэзия» верх взяла книга, бросающая вызов поэзии, антипоэтическая. Предмет отрицания, как уже сказано, поэзия, прорвавшаяся-таки в мир после Аушвица, кажущаяся своим создателям по-прежнему полнокровной, а на деле обескровленная заданностью и исчерпанностью ритмических форм и структур авторского сознания.
В связи с радикальной позицией Александра Скидана не случайно был упомянут не менее (в своем роде) радикальный Афанасий Фет. Можно с известной долей уверенности считать, что позиция Скидана, условно говоря, антифетовская, именно против Фета ведет автор «Красного смещения» и книг стихов и эссе свою непримиримую интифаду. В лучших вещах Фет всегда говорит не о каком-то конкретном событии или чувстве, но о возможности его освоения с точки зрения поэтической. Взгляду поэта подвластно абсолютно всё, а предмет, исток восторженной эмоции очень часто бывает скрыт, лишь косвенно упомянут. Как мошки зарею, Крылатые звуки толпятся; С любимой мечтою Не хочется сердцу расстаться. С какой такой мечтою? Нет ответа!
И дальше: Но цвет вдохновенья Печален средь будничных терний; Былое стремленье Далеко, как выстрел вечерний. Опять двадцать пять: какое тут упомянуто стремленье? К чему именно? Эта-то недосказанность, демонстрирующая всесилие поэзии, казалась Тургеневу неясностью, темнотой, тот даже настоял на замене туманного словосочетания «выстрел вечерний» на отблеск вечерний. Потому-то Фет, как сказано многажды, «безглагольный», что в стихах не нуждается в предикации описываемых впечатлений, их конкретизации и приземленно-подробном описании. О чем бы ни шла речь – на самом деле стихотворение посвящено поэзии как таковой, ее всесилию: …и не знаю сам, что буду Петь, но только песня зреет и т. д. У Скидана – о чем бы ни слагались стихи, они также пишутся непременно о самой поэзии, только – о ее тотальной несостоятельности, невозможности:
все что связано с подлинностью мыльный привкус техномузыка из дверей кафе пролегомены ко всякой будущей метафизике воображаемые решения катакомбы «никогда не говори со мной таким тоном» красно-коричневая чума новый порядок означающих the sun is going so fast березки полупроводники сновидения обрезки ногтей сопротивление бесполезноИменно то, что столетиями выдавало себя за подлинное и на самом деле являлось подлинным, ныне сходит на нет, замещается подлинным суррогатом подлинности. Причем именно в наши дни бытуют и газетные штампы, и фразы из Канта («Пролегомены ко всякой будущей метафизике»), и «техномузыка из дверей кафе». Вернее говоря, механическая музыка неотличима от метафизики, а слово «пролегомены» может вполне обернуться рекламным клише.
Манифесты – дело трудное, провозгласить измельчение и измельчание поэзии можно раз, другой – на третий во рту точно станет слишком кисло безо всякого лимона. Как же могут выглядеть тексты, записанные столбиком и говорящие о том, что стихотворчество навсегда отодвинулось в даль веков? Кстати сказать – вполне по-фетовски, то есть автономно, в отчуждении от носителя лирической эмоции, в модальности фрагментарного перечисления (шепот, робкое дыханье, соловьиные трели и т. п.):
ни нарывающих виноградниками холмов ни терцин обещающих очищение утилизация образа мониторинг валоризация трещины у тебя в паху бесчестит воображение. чистая длительность предложения заняться любовью разрушительное сияние выставленных в витрине мощей представь что ты еще жив в сослагательном наклонении в информационных сетях глянцевые костры аура всесожженья аура исчезновения ауры ‹назови себя Беньямин› ‹…› крестовый поход капитала вложенного в крестовый поход In ‹the› dead God we trustТонкость и взвешенность позиции Скидана состоит, по-моему, в том, что очередное (и вполне привычное) отрицание сложившегося в литературном хозяйстве положения дел не исчерпывается у него «антиискусством для антиискусства». Один из его (непоэтических) текстов назван прямо и недвусмысленно: «Тезисы к политизации искусства», причем политизация здесь понимается вовсе не банально. Речь идет не о каких-либо конкретных политических убеждениях – и правое дело и «левое дело» ныне подвластны вполне определенным технологиям провоцирования, производства идей и их воплощения в «акции» и «проекты». Политизированность, по Скидану, не сводима к радикализму, революционности как таковым, она означает самую возможность традиционной политии, то есть прояснения сложной и многоступенчатой связи между убеждениями отдельного человека и некой конкретной системой идей. Если разобраться, эта позиция не ведет к безысходному нонконформизму, она – по сути своей – весьма традиционна, поскольку возвращает человеку человеческое (и не только слишком человеческое), а кесарево решительно оставляет кесарям-буревестникам, которым все чудится, что скоро грянет буря. Здесь-то и кроется продуктивное отличие поэтической топики Скидана от бесконечного разнообразия попыток создать поэзию «новую», «социальную», «актуальную», то есть связывающую себя с конкретной системой политических воззрений. Большинство подобных попыток исчерпывают себя на наших глазах, четко же сформулированные вопросы Александра Скидана дают основания надеяться на получение ответов. Хорошо бы – не только в виде отточенных манифестов, но и в стихах. Вдруг даже с регулярным метром и рифмой?
Библиография
Стихи номера // Критическая масса. 2004. № 4.
Красное смещение. М.: АРГО-РИСК, Тверь: Kolonna Publications, 2005. 79 с.
Из цикла «Русский иврит» // Зеркало. 2007. № 29–30.
Расторжение. М.: Центр совр. лит., 2010. 222 с. (Академический проект «Русского Гулливера»).
Виктор Соснора или «Ни души. Я ломаю карандаши…»
Соснора возвращается? Не раз приходилось слышать и читать производные от этой формулы, реагирующие на появление в печати в последнее десятилетие все новых и новых поэтических и прозаических книг легендарного ленинградского-петербургского литератора и мыслителя. При всех вариациях подобные построения представляют собою попытки поставить стихотворца Виктора Александровича Соснору в общий ряд, рядом с разнообразно великими Федором Ивановичем, Даниилом Ивановичем или Иосифом Александровичем. То есть со всеми, кто так или иначе оказывался неравным эпохе своего поэтического возмужания, осознанно либо вынужденно уходил от нее прочь в одном из возможных в подобном случае направлений: в иную, не смежную профессию (как дипломат Тютчев в двадцатые годы позапрошлого века), прочь из жизни (подобно обреченному на смерть непоэтическим режимом Хармсу столетием позже) либо – в изгнание, как поэт-«тунеядец» Бродский в совсем уже недавнем прошлом.
Потом всегда происходило (с вариациями) нечто сходное: положение вещей менялось, все возвращалось на круги своя, читатель обретал стихи большого поэта. Иными словами – норма восстанавливалась, вслед за антитезисом наступал желаемый синтез: «успех – уход – возвращение» – так выглядела итоговая благополучная триада. Тютчева, долгие годы себя «профессиональным» поэтом не считавшего, забывавшего только что написанные стихи в книгах, Некрасов убедил издать сборник стихов к концу четвертого десятка прожитых лет, Хармс и Бродский, один посмертно, другой – еще при жизни, «вернулись в Россию стихами».
Все это совсем не о Сосноре. Его нельзя назвать вернувшимся, поскольку он никуда не уходил. Точнее – в отличие от абсолютного большинства поэтов из поколения шестидесятых – на пике надвигавшейся славы ушел навсегда, вполне добровольно и загадочно, поскольку его отстранение от литературной жизни не было связано напрямую с цензурными условиями и политическими репрессиями. Абсолютный нонконформист, Соснора и по отношению к самому себе поступил предельно бескомпромиссно, добровольно замкнулся в одиночестве, ставшем одной из ведущих тем для размышлений в стихах и прозе. Что ж – «Блажен, кто молча был поэт»? Думается, формула пушкинского Поэта, беседующего с Книгопродавцем, в данном случае совершенно не применима. Хотя бы потому, что в 1988 году Соснора называл себя автором «31 книги стихотворений, 8 книг прозы, 4 романов и пьес». Он не молчал ни минуты, так уж устроен.
Соснора кажется нам возвращающимся, потому что это мы уходили от него, подзабыли о его беспримерной творческой утопии, которую он вершит на протяжении десятилетий как продуманное многоактное действо. Он – один такой, особенный, отстранившийся как от стадионного истеблишмента поэзии полувековой давности, так и от поэтического андеграунда той же поры.
Как ни отдавай должное дарованиям поэтов-шестидесятников (как немногих здравствующих, так и ушедших), приходится признать, что они ни при какой погоде не могли бы уже, подобно Сосноре, показаться вернувшимися. Не с чем было возвращаться, все молодое без остатка вбито в клавиши пишущих машинок, выкрикнуто (или пропето) в уши благодарных толп на стадионах или избранных слушателей на квартирных чтениях.
Как ни восторгайся (подлинным) мужеством барачных и подпольных поэтов той же давности лет – им дано было только весьма предсказуемое возвращение-воздаяние, покорно идущее вслед за внешними послаблениями: теперь, мол, все дозволено, значит, опубликуем и почитаем правозащитников от поэзии.
Соснора начинает казаться вернувшимся – по собственной инициативе и воле, вернее сказать – по всегдашнему произволу. Своим бессрочным шумным затворничеством, оглушительно громким молчанием Соснора вершит многолетний дебош, он обвиняет вовсе не то, против чего бунтовали другие (цензуру, несвободу, репрессии), но как раз то, что принято считать нормой, цивилизованным бытием поэзии. Цензурную свободу и безоговорочное право на слово Соснора издавна считает своеобразной патологией, потаканием внешним условиям бытования искусства. Результат подобной свободы – ровный стихотворный ландшафт, в котором слышны сразу все голоса (вплоть до посвиста авторов рифмованных интернет-свалок), а значит, толком неразличим ни один голос. Чего стоят его инвективы в адрес Бориса Пастернака, согласно Сосноре, еще в 1922 году окончившего путь гениального поэта и вступившего на тропу рутины! В адрес незакатного «солнца русской поэзии»: «Снимем это солнце и поставим его в тень. Устроим хотя бы небольшую и неяркую ночь…»
В этом тотальном отрицании либерального благодушия и вседозволенности в поэзии – весь Соснора, не впадающий, впрочем, и в мандельштамовскую крайность страдальческого упоения неволей, дающей в руки бразды подлинного творчества («а Сократа печатали? А Христа печатали?»). Протест против безболезненной воли не означает проповеди неволи и собственного героического отстранения от нее. Соснора поглощен собственным творческим даром, который, однако, издавна считает сомнительным, избыточным, подлежащим сокращению, как излишне усложненное соотношение числителя и знаменателя в дроби. В старой книге «Кристалл» (1977) об этом сказано с последней прямотой:
Художник пробовал перо, как часовой границы – пломбу, как птица юная – полет!.. а я твердил тебе: не пробуй, избавь себя от «завершенья сюжетов», «поисков себя», избавь себя от «совершенства». От братьев почерка избавь! Художник пробовал… как плач – новорожденный, тренер – бицепс, как пробует топор палач и револьвер – самоубийца! А я твердил тебе: осмелься не «пробовать» – взглянуть в глаза неотвратимому возмездью за словоблудье, славу, за уставы, идолопоклонство усидчивым карандашам… А требовалось так немного: всего-то навсего – дышать…Виктор Соснора сполна владеет даром соединенья слов – настолько, что постоянно уходит от прямых созвучий и регулярных ритмов, открывает в звучании расстроенных струн странную логику еще неведомых логаэдов – метрических попыток закрепить за спонтанностью закономерность, заново простроить «порядок из хаоса».
И нет мне таблиц, и не по Реомюру, ныряя за древней и нотной доской, а голос-логаэд бегущих по морю мне душу терзает и полнит тоской.Рискованная для русской поэзии позиция! Соснора на протяжении многих лет и тысяч строк занят только собой и своими попытками уловить суть творчества, текущего через его сознание непрерывной рекой звуков и мыслей. Тривиально было бы в сотый раз говорить о том, что поэт Соснора под каждую из проживаемых ситуаций подстраивает вновь создаваемый язык, что он творит сложную и труднодоступную поэзию, требующую особой внутренней работы читателя.
Да, создавая текст, поэт находится одновременно во всех местах и временах, ассоциативно и символически связанных с развиваемой темой:
…Я помню, как саги шли на Константина, усеянный лодками Рог Золотой, и стук топоров, рядом колющих стены, и лиц их, сияющих в смерти – зарей! Я помню гром пушек Тулона, Седана, и черную шпагу твою, Борджиа, мы видим войну, как сады у десанта, и ядра, и крючья, и на абордаж. Я был Гибралтар и алийские чалмы на первый порыв, но я не был Осман, я Косово помню и Негоша плачи, и Косово-2 у югославян. Мы дети Стены, наше небо в овчинку, и вот и рисуем ландшафты свобод, коррозию молний и бега, – о чем ты? нет битв и не будет, затмит небосвод. Я битвы ломал, как широкие свечи, костюмы меняя от фижм до сапог, от бомжей до красной одежды Тибета, и ненамагничен мой черный компас. Но, чисто листая страницы Страбона, мне стул не подходит, и проклят мой стол, неловкие души ломаются быстро, им мирные рамы – стеклянная сталь…Дело не только в сопряжении разновременных культурных реалий. Даже в случае их отсутствия самые обычные, взятые из современного быта мотивные ряды развиваются и ветвятся столь же прихотливо и в то же время осмысленно, в соответствии с одной, но пламенной страстной поэтической интенцией. Соснора раз за разом настойчиво и дерзко пытается преодолеть антиномию открытости и непрерывности жизни, с одной стороны, и – с другой – неизбежной завершенности литературного произведения, рано или поздно застывающего в (пусть сложных, но конечных и определенных) композиционных рамках. Сколько ни кричат юные зрители в театре Красной Шапочке, чтобы оглянулась (позади крадется Волк!), она не в силах посмотреть назад, такова уж раз навсегда вписанная на скрижали пьесы роль, подрезающая естественную широту и открытость жизни. Исконное авангардное стремление выйти за пределы (вперед – avant!) искусства выглядит у Сосноры совершенно своеобразно и определенно:
Розы, как птицы, меня окружают, листами махая, трогаю, и шипят, и кусают, рты разевая. Птицы, как лодки, меня окружают и, как парашюты десанта, веслами бьют и, приседая на крыше, стреляют из ружей, окна открыты с луной, коршуны, жаворонки, чайки и цапли вьются у горла веревкой, в рот набиваются паклей. Снится, что я черная птица, лечу как чугунный, снизу охотник стреляет, а пули из воска и тают, как капли, и падают в бездну. И, опрокинуты когти, падаю в бездну.Цепь ассоциаций развивается непрерывно и самопроизвольно. Розы – птицы – лодки – десант – охота – в конце концов, охота на птиц, а ведь все начиналось с роз! Процесс существенным образом преобладает над результатом, приходится впадать в протеизм без берегов: раз пережитое – нельзя ни вернуть, ни повторить («ни съесть, ни выпить, ни поцеловать…»), подслушанное у мировой мистерии творчества нельзя пережить дважды, остается только лихорадочно записывать, не перечитывая, не рассчитывая на отклик и на умение предугадать, как отзовется слово. А еще лучше, подобно достигшему Нирваны поклоннику Будды, покинуть цепь вечных превращений, отойти в сторонку, избавиться от назойливо буравящих сознания звуков и историй:
Ни души. Я ломаю карандаши, чтоб не записывать. Магма под садом кипит. Вишни взошли – как дубы! в желудях! Сливы – как пломбы! Чашку беру за ручку и зачерпнул из пруда лягушачьей икры, – мертвая! Цапле не будет урожая лягух. А я играю на клавишах, слева басовый, справа скрипичный ключ, оба они от двери. (Двери закрываются.)Подобно опытному боксеру, «показавшему» противнику ложное движение вправо, перед тем как нанести прямой левой, Виктор Соснора в очередной раз бескомпромиссно рискует. Он прикидывается вернувшимся и нахватавшим новых почестей, как когда-то в шестидесятые. Но это ложное возвращение обставлено всегдашней проповедью необходимости поэтической немоты. Доколе? Долго ли еще будет удаваться Сосноре громогласно проповедовать немоту, повторять на словах теорию невозможности и ущербности творчества, покоряя все новые творческие вершины?
Библиография
Флейта и прозаизмы. СПб.: Пушкинский фонд, 2000. 56 с.
Хроника Ладоги // Звезда. 2000. № 1.
Фрагмент поэмы «Мартовские иды» // Звезда. 2000. № 4.
Девять книг. М.: НЛО, 2001. 432 с.
Двери закрываются. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 48 с.
Два сентября и один февраль: Поэма // Звезда. 2003. № 9.
И я лежал от всяческих ударов // Дети Ра. 2004. № 2.
Поэмы и ритмические рассказы. М.: Библиотека журнала «Футурум АРТ», 2005. 115 с.
Стихотворения / Сост. С. Степанов. СПб.: Амфора, 2006. 870 с.
Мотивы Феогнида. Энеада // Звезда. 2006. № 2.
Больше стихов не будет. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2007. 72 с.
Последняя пуля. СПб.: Азбука-классика, 2010. 224 с.
Пьяный ангел: Книга стихов // Зинзивер. 2010. № 2(18).
Стихотворения / Сост. С. Степанов. СПб.: Амфора, 2011. 863 с.
Мария Степанова или «Побегите прочь вы, стихи, мелькая…»
Стихи Марии Степановой выглядят настолько спонтанными, необработанными, алогичными, неотделанными, что с первого взгляда ясно: они предельно обдуманы, выстроены, подчинены единому рациональному замыслу. Закон здесь тщательно замаскирован под энтропию, четкость высказывания – под поток сознания. При этом сам принцип сознательной маскировки смысла дан с абсолютной отчетливостью: пропорции предметов и мыслей о них намеренно смещены, но не уничтожены, легко восстановимы сквозь демонстративно искаженные словоформы и причудливые грамматические новации.
Где мое нынчее, а? То-то, что нету. Сердце к стене отверну, зрение сменим. Голая буду в воде глупая нерпа. Ли в одеяле сидеть сяду пельменем. Кудри, что эту судьбу так искажали, Плакать-нейди-наклонять к месту любови, Ты, что возможен разбить, как бы скрижали, Ты, что несложен лицом, ибо любое. Как на морозе крыльцо, ты голубое, Теплой любови лицо в пору убоя!Легко прощупывается фактура канонического медитативного текста об ушедшей любви (исчезнувшем счастье, утраченном понимании, миновавшем детстве и т. д.). Тонкая отделка текста словно бы снята слоями, обнажено ядро, прообраз, эйдос эмоции, привычной по сотням русских (и не только) стихотворений. Причем прообраз сильно обобщенный и абстрагированный, так сказать, не уход любви, но «ушедшесть любовности». Подобное отвлечение от конкретности высказывания, поиск сердцевинного источника интонационного движения лишает стихотворение ситуативной конкретности, превращает его в конспект ненаписанного текста, обычное письмо подменяет стенографическим. Легко вообразить, что из того же исходного набора семантических единиц можно синтезировать множество разных стихотворных текстов, «ушедшесть любовности» развернуто и в пушкинском «прошла любовь – явилась муза», и, например, в ахматовском «Как забуду? Он вышел шатаясь…».
Метод обнажения смысловых ядер предполагает поиск к каждому слову путеводной производящей основы, реконструкцию его этимологии. Например, где корень в слове «яма», в фонетической транскрипции [jama]? Его представляет лишь некий безликий йот (j), который можно расшифровать лишь с привлечением других его производных, например, глагола «яти», то есть «изымать», «вынимать». Яма – то, что остается после изъятия, пустой объем на месте вынутой почвы. Надо ли говорить, что в корневой основе слов «изъ-ятие», «объ-ем» – все тот же йот! Молекула несет на себе отпечаток вещества, из которого она извлечена, атом – безлик, универсален и абстрактен, может входить в состав многих молекул, как водород – в состав воды и перекиси водорода. Фраза Степановой сплошь составлена как раз не из молекул, а из атомов смысла: не «охотник убил оленя», но «некто двуногий с ножом произвел умерщвление кого-то бегущего закинув рога».
Вернемся к процитированному стихотворению. Первоначальный «квант смысла» (переживание утраты чего-то некогда желанного) модифицирован в нем при помощи средств и приемов принципиально разновеликих, несводимых к единому стилистическому знаменателю. Здесь и косноязычие – почти детское, инфантильное («нончее»), и изощренная интеллектуальная метафорика («зрение сменим»), и наивное просторечие («то-то что нету»), и рассудочное применение оборотов, недопустимых грамматически («ли в одеяле сидеть», «ты, что возможен разбить»), и обломки высокого штиля («ибо», «скрижали»), и следы фольклорных бабьих заплачек («плакать-нейди-наклонять к месту любови»). Такими словесами изъясняться не может никакой отдельно взятый, персонально определенный «лирический герой», так мог бы воспринимать мир и чувствовать лишь некий условный, собирательный субъект, являющийся одновременно и утонченным интеллектуалом, и ребенком, и наивным персонажем фольклорных песенных историй.
Именно о таких – тщательно отрефлектированных – стихах уместно судить не иначе как именно по законам, «поэтом самим над собою признанным». А значит, полезно прислушаться к автокомментариям поэта. В одном из интервью Степанова формулирует два важнейших тезиса, первый: стихи пишутся циклами и книгами; второй: их понимание намеренно затруднено, поскольку подлинная поэзия работает на границах привычной коммуникации, открывает новые возможности языка, опережает обыденную речь в развитии. Оба тезиса тесно взаимосвязаны, поскольку цикловое единство смысла, согласно воззрениям Степановой, оказывается более важным, чем любое отдельное стихотворение, а работа по пониманию стихов осуществляется целыми поколениями читателей в результате целенаправленного многолетнего труда. Так, среднестатистический любитель поэзии двухтысячных годов в целом лучше понимает Мандельштама, нежели даже наиболее подкованные, но взятые «по отдельности» читатели годов двадцатых или тридцатых. Получается, что для поэта прежде всего важны не единичные акты чтения отдельных стихотворений отдельными же читателями, но собирательные, совокупные события чтения монолитных массивов многих стихотворений множественными группами читателей-современников, осуществляющими коллективную работу по приближению вырвавшейся «вперед» поэзии и поэтики к обыденной, привычной речи.
Правомерен вопрос: насколько уместны, оправданны все эти предельно отвлеченные попытки заново пересоздать не отдельные стихи, но стих как таковой, совместимы ли они с реальным интересом к поэзии читателя с человеческим лицом? Да, уверен, что совместимы, так уже не раз случалось за последнее столетие развития искусства: многие попытки отвлечь восприятие произведения от обыденного акта понимающего сочувствия-узнавания рождали новые, модифицированные способы художественного восприятия. Изображение черного квадрата нельзя рассматривать в рамках непосредственного сопереживания, эмоциональной эмпатии, необходимо подключение регистров рассудочного постижения супрематических построений автора. Однако на выходе, в итоге все же оказывается нечто привычное: «удовольствие от текста», заинтересованное созерцание стихотворения или картины.
Как уже говорилось, у Степановой очень многое заключено в надтекстовом смысловом единстве книги стихов, в первую очередь – в самом ее названии. Так, заглавие лучшей, на мой взгляд, книги Марии Степановой «Физиология и малая история» содержит сложную, но ясную и смелую метафору. Как наряду с большой историей существует малая, основанная не на учебниках, но на личных впечатлениях обычного человека, так и рядом с «большой» наукой физилогией, с внешней точки зрения описывающей законы функционирования человеческого организма, существует и «малая физиология», данная отдельному человеку в непосредственном ощущении, как бы изнутри. Здесь на первом плане оказывается не отстраненное изучение функций внутренних органов, но «переживание» их нормальной либо болезненно анормальной работы изнутри сознания человека.
Акцент на человеческом измерении применительно к истории и к физиологии приводит к сходным последствиям. Отвлеченная система научных построений превращается в живую цепь непосредственных реакций и акций разума (применительно к «малой истории») или организма (коль скоро речь заходит о «малой физиологии»). Во втором случае происходит неминуемое воскрешение детского самовосприятия: отношение к собственному телу как к чужому, ощущение себя как постоянно живущего «рядом» существа, тяжко дышащего во время игр во дворе, испытывающего боль от ссадин, боящегося визитов к врачу, порою мечущегося в болезненном жару и т. д.
У меня синяк простейший, Красногубый, августейший, Загустеющий, как мед, – Кто не видел, не поймет. У меня ли на предплечье, Как прививка против осп, Проступает человечье: Убедительное «осв».Если принять перечисленные исходные аксиомы книги, то все остальные сложности получат ясные обоснования и веские мотивировки. Человек, физиологию не изучающий, но непосредственно «испытывающий», видит мир совершенно по-особому. Вот и Мария Степанова в стихах не только уходит от ответа на какие бы то ни было вопросы, она уклоняется и от самой постановки вопросов. Они только переживаются в формах языка, также переживаемого изнутри, еще не ставшего предметом школьного расслоения на роды, числа и падежи. В ее тщательно выстроенной и обжитой отдельно взятой вселенной всего нового и отдельного поровну: одна замкнутая в себе интонация, одна орфография и пунктуация, один вложенный в стихи идеальный тип читательского восприятия – равнодушное понимание-с-полуслова, никогда не переходящее в овации, поскольку оваций нет и не предполагается в параллельном реальному поэтическом мире Степановой.
Все перечисленные признаки – ежели вдуматься – вроде бы для Степановой неспецифичны, встречаются и в других поэтических космосах. Нет, продолжаю настаивать, – это только так кажется, поскольку в гипотетических параллельных случаях главный эффект заключается в разности потенциалов, в избытке поэтического зрения, в неизбежном сопоставлении эзотерического и неясного с открытым и прозрачным. Ну, например, нетрадиционное написание слов и необычные знаки препинания подспудно сравниваются с нормативными орфографией и пунктуацией. У Степановой ничто ни с чем не сопоставляется, ни отклонение – с нормой, ни разные по своей природе способы отхода от нормы – друг с другом. Ни одна эмоция не доминирует, все возможные интонации и реакции на них существуют рядом, вместе, в едином противоречивом конгломерате.
Другая книга Степановой («Тут-свет») тоже названа многозначительно и вместе с тем прозрачно. Большинство стихотворений содержат попытку высветлить в повседневном существовании живые признаки утраченных ощущений, контуров предметов, смыслов, чужих, либо неясных, либо ушедших в прошлое. Вот, например, стихотворение «Я, мама, бабушка, 9 мая»:
Из троих, сидящих за столом, Лишь меня есть шанс коснуться, Прямиком, расплющить кулаком, осязать уста и руце. Но зато, как первое объятье, Мы сидим втроем в едином платье …………………………………………. И стою пешком у поворота: Рода наступающая рота. Оттого и каждый День Победы Выше на один этаж, На котором мы ведем беседы Тройственные, как трельяж.Мария Степанова стремится приоткрыть в поэтической речи те же парадоксальные возможности, которые столетие тому назад нащупали в прозе авторы, с успехом применившие технику потока сознания: Джойс, Пруст, Фолкнер. По видимости бессвязная речь, игнорирующая законы риторики, оказывалась ближе к реальному процессу словопорождения, нежели мнившиеся высшим достижения «реализма» отточенные пассажи Тургенева или Диккенса. Словно бы забыв об усилиях Хлебникова, дадаистов и им подобных, Степанова решительно вступает на зыбкую почву эксперимента, который не желает быть экспериментом, но претендует на роль канона. Поэт Мария Степанова будто не замечает грамматики языка и стиха, а вместе с тем не желает замечать читателя и «понимателя» своих поэтических текстов. Если кому-то что-то неясно, значит еще не совершена коллективная работа читателей над трудностями перевода с поэтического языка на русский. И – добавлю от себя – неизвестно, будет ли она совершена хотя бы когда-нибудь, необходимо ли ее совершение для русской поэзии. Ясно пока одно: стихи Марии Степановой совершенно оригинальны и живо интересны многим ценителям русской поэзии начала нового столетия.
Библиография
Страшные глаза // Знамя. 2000. № 6.
Стихи // Зеркало. 2001. № 17/18.
Песни северных южан. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Kolonna, 2001. 56 с.
О близнецах. М.: ОГИ, 2001. 104 с.
Тут-свет. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 48 с. (Автограф).
И в глазах темно, и во рту сухо… // Критическая масса. 2003. № 1.
Новые баллады // НЛО. 2003. № 62.
Счастье. М.: НЛО, 2003. 88 с. (Премия Андрея Белого).
Выдох // Знамя. 2004. № 9.
Физиология и малая история // Знамя. 2005. № 4.
Физиология и малая история. М.: Прагматика культуры, 2005. 88 с.
О // Знамя. 2006. № 9.
Лирика, голос // Знамя. 2008. № 12.
Проза Ивана Сидорова. М.: НЛО, 2008. 74 с.
Лирика, голос. М.: Новое издательство, 2010. 54 с.
Стихи и проза в одном томе. М.: НЛО, 2010. 240 с.
Киреевский. СПб.: Пушкинский Фонд, 2012. 64 с.
Сергей Стратановский или «Здесь что ни день умирает надежда-птица…»
Когда стирается грань между дозволенным и неподцензурным, для поэта, принадлежавшего к андеграунду советской поры, начинается самое главное и сложное, непредсказуемое. Зачастую вместе с ощущением освобождения наступает утрата былой определенности и гарантированности оценок, выставленных по принципу «не так, как диктуют с трибун, значит – хорошо». Падение железного занавеса поэты, рожденные в роковых тридцатых-сороковых, пережили по-разному. Соблюдая раз и навсегда принятый в нашей рубрике принцип, мы и на этот раз не будем никого ни с кем сравнивать, а просто обозначим, что в девяностые-двухтысячные путь Сергея Стратановского, одного из самых заметных поэтов ленинградского неофициального круга, выглядит заведомо непростым, и эта непростота обусловлена обстоятельствами, далеко выходящими за пределы одной отдельно взятой жизни и судьбы.
Внешне для Стратановского почти ничего не изменилось – вынужденная немногочисленность публикаций приобрела свойства немногочисленности, вызванной соображениями взыскательной разборчивости. Всегдашние серьезность и отточенность, почти формульность стиля также остались незыблемы, равно как и усложненность поэтического зрения, благодаря которой самый простой пейзажик или нехитрое рассуждение вбирают в себя контексты и смыслы, отсылающие к искусству самых разных времен и народов. Вот фрагмент стихотворения рубежа семидесятых-восьмидесятых:
Бог в повседневности: в овощебазах, на фабриках В хаосе матчей футбольных, в кружке ларечного пива В скуке, в слезах безысходности, в письмах обиды любовной В недрах библейских дубов, в дрожи плоти от страха бескровной Смотрит колхозник смиренный на Его тонкотканный шатер…Грань между миром овощебаз и библейскими событиями оказывается стертой, то и другое существует на равных правах. Реальность есть сумма воззрений людей, их взглядов на жизнь, и потому нет истинных и ложных картин мира, правильных и ошибочных убеждений. Перечень событий, система оценок, кодекс правил поведения оказываются тем более «верными», чем глубже они укоренены в традиции, чем больше людей являются (или являлись в прошлом) их носителями. Наиболее отчетливо эти творческие принципы реализованы в цикле стихотворных обработок фольклорных легенд, сказок, национальных эпических сказаний, позднее составивших книгу «Оживление бубна». Название, кстати, весьма символично – оно свидетельствует о намерении автора не просто стилизовать «Сказки разных народов» в современных стихах, но именно воссоздать, оживить даже не произведения искусства и устного творчества, но системы воззрений, упущенные из виду, лишь временно пропавшие из поля зрения людей нынешней эпохи. Чего стоит, например, сконструированный Сергеем Стратановским поверх временных и пространственных барьеров диалог Урал-батыра и Гильгамеша, заглавных героев башкирского и шумеро-аккадского эпосов!
Урал-батыр: Много дел богатырских совершил я, Урал-батыр: Я со змеем Заркуном боролся И с отцом его, дивов владыкой, боролся, Против зла их боролся. Только главное зло на земле обитает без тела И лица не имеет. Смертью зовется оно. Как его победить, рассказала мне девица-Лебедь: ……………………………………… Гильгамеш: …заплакал я бурно, когда друг мой Энкиду умер, И пошел я от горя к последнему морю на берег И добыл на дне моря цветок, на шиповник похожий, Смерть саму убивающий… И понес я народу своему, не сорвав лепесточка даже, ………………………………. Урал-батыр: Ты не смог стать бессмертным – владыка народа забытого. Я им стану – я знаю. Гильгамеш: Берегись, воин сильный, не стремись стать бессмертным, герой. Нет в бессмертье веселья зря к нему люди стремятся. ……………………………….. Урал-батыр: Смерть не гостья, а вор… Не бывает такого, старик. Гильгамеш: Знаю… видел… бывает.Имена древних героев отсылают к двум разным эпическим мировоззрениям, отношениям к смерти, однако ни одно из них не отменяет друг друга, как непосредственная, «данная нам в ощущении» реальность современного мира не отменяет мифологические рациональности, лишь по видимости исчезнувшие, канувшие в прошлое. Напротив того, именно прошлое, древность гарантирует культурным смыслам долговечность и незыблемость. Есть и иные критерии фундаментальности этих смыслов: их тотальность и интенсивность. С этой точки зрения высокой степенью подлинности обладают воззрения не закрепляющие наличный порядок вещей, но обращенные к идеальному будущему, мечте, в частности – воззрения утопические. В давнем стихотворении «На смерть утопии» на вопрос «Кто такая Утопия?» ответ дается ясный и недвусмысленный:
Это утопленница В мутной, нечистой воде, В омуте дней настоящих Вот и уложена в ящик ………………………… Закопали, забыли А ведь когда-то любили Как же нам без нее Совершенствовать технику жизни?Строго говоря, смерть утопии так же невозможна, как и окончательное забвение уроков древних эпосов: даже советская утопия в своем раннем изводе, отмеченном почти космическим размахом перспектив и ожиданий, продолжает существовать об руку с современностью, ее поправшей. Отсюда в стихах Стратановского отчетливые мотивы поэзии молодого Андрея Платонова, особенно сборника «Голубая глубина»:
Прораб сказал: движенье звезд Прообраз нашего сознанья Мы строим человеко-мост над ночью мирозданья Пролетарий – субъект созиданья Демиург и космический мозг…Как видим, поэтика Стратановского была и остается шире противостояния «советского» и «антисоветского», освобождение от цензуры не привело и не могло привести к автоматическому обретению осознанной непринужденности и правильности мировосприятия:
Пел советский певец: «Как я счастлив, что нет мне покоя». Вот и мне нет покоя, и что хорошего? Здесь порою такое выползает из дыр и щелей. Здесь что ни день умирает надежда-птица… И ночами не спится, а если заснешь под утро, Лучший мир не приснится.Дело не в наличии либо отсутствии внешних барьеров для поэтического высказывания. Дело, по Стратановскому, в природе самого этого высказывания. При всей кажущейся отвлеченности от привычного «лиризма» самовыражение подлинного поэта непременно должно быть связано с многочисленными смысловыми «фильтрами», зачастую отсылающими к далекому прошлому. Прозрачность этих фильтров – мнимая, они продолжают жить, они непосредственно и мощно воздействуют на реальность, по-разному преломляют основные потоки смыслов, воскрешают подлинную геометрию человеческого мира.
Библиография
Стихи. СПб.: Новая литература, 1993. 128 с.
Тьма дневная: Стихи девяностых годов. М.: НЛО, 2000. 186 с.
Хор кириллицы // Знамя. 2000. № 12.
Стихи, написанные в Италии // Звезда. 2001. № 6.
Слово из жизни живой // Новый мир. 2001. № 9.
Рядом с Чечней: Стихотворения и драматическое действо. СПб.: Пушкинский фонд, 2002. 48 с.
Коробочки с пеплом // Новый мир. 2003. № 5.
Стихи 2003 года // Звезда. 2003. № 7.
Со спокойствием в сердце // Новый мир. 2004. № 11.
Тексты 2004 // Звезда. 2004. № 12.
На реке непрозрачной. СПб.: Пушкинский фонд, 2005. 64 с.
Голоса // Арион. 2006. № 2.
Стихи // Звезда. 2006. № 7.
Незримый крест // Новый мир. 2007. № 5.
Из книги «Оживление бубна» // «Волга – XXI век», 2007, № 7–8.
Оживление бубна. М.: Новое издательство, 2009. 66 с. (Новая серия).
Стихи // Звезда. 2009. № 9.
Смоковница. СПб.: Пушкинский фонд, 2010. 64 с.
Граффити. СПб.: Пушкинский фонд, 2011. 84 с.
Иов и араб. СПб.: Пушкинский фонд, 2013. 32 с.
Молотком Некрасова. СПб.: Пушкинский фонд, 2014. 68 с.
Владимир Строчков или «Не пой этих Песен Песен…»
Да, Владимир Строчков – поэт со стойкой репутацией у ценителей, он публикует стихи с самого начала заката советской эпохи, а это немалое время. Том «избранного» для всякого стихотворца исключительно важен. Он позволяет если не подвести итоги, то подметить тенденции, векторы развития. В случае со стихами Строчкова это сделать непросто, несмотря на то, что все тексты снабжены точными указаниями на время и место написания. Первое, что бросается в глаза, – львиная доля стихотворений написана (по крайней мере окончательные редакции датированы) ранней осенью, в каникулярно-отпускной период свободы от московской суеты. И чем более ощутима дистанция, отделяющая отпускное существование от всей остальной, будничной, зимне-весенней жизни, тем более ясно, что стихи по сути своей от повседневного образа жизни поэта совершенно неотделимы. Для него стихи – предмет дневниковых наблюдений и раздумий обо всем, что попадает в поле зрения и в пространство мысли. Вот, например, герой отпускник возвращается восвояси на поезде.
На участке под Хаpьковом поезд стоял полчаса, пропустив свору встречных: чинили пути на участке. В заднем тамбуре выбито было стекло. Небеса источали тепло. Паутина плыла. Безучастно снизошел по тропинке к путям никакой человек. Был он в меру поддат и одет как бубновая трефа. Стал как раз подо мной, огорченно поскреб в голове; я спросил: – Что за место? – И он мне ответил: – Мерефа.Далее разыгрывается простейшая бытовая сценка. Встречному человеку необходимо перейти на противоположную сторону железнодорожного полотна, он раздумывает, насколько безопасно попытаться пробраться под вагонами надолго замершего поезда. Но все это в стихотворении не является главным, поскольку далее следует описание особого состояния души, когда цвета и предметы словно бы обретают дополнительное измерение. Эти состояния в замечательном романе Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» названы эпифаниями, моментами обладания усиленным, нездешним зрением.
Я почувствовал: время – во мне; нет его вне меня. Вне меня – неподвижность, тепло, тишина, паутина, неизменная, полная вечность на все времена, бесконечная сеть, золотая слепая путина. Поезд тронулся, словно летучий голландец, а я ничего не заметил: внутри золотого органа плыл, зажмурив глаза, и за веками, вечность тая, все мерещилась мне та мерефа, та фата моргана. Ни тогда, ни теперь обернуться, вернуться назад я уже не смогу: есть бумага, перо и чернила; нет того языка, на котором возможно сказать, у Мерефы, под Харьковом, в тамбуре – что это было?Моменты поэтических открытий новых граней бытия в поэзии Строчкова не так уж и редки, но все же многим и многим текстам не хватает заостренности вокруг главного действия-события, некоторой акцентиротванной сосредоточенности на необычном, запоминающемся. Идиллический отпускной фон после прочтения нескольких десятков однозвучных текстов становится достаточно предсказуемым и обедненным (как в стихотворении «Буколики»).
Если же в текст вводятся прямолинейные контрасты с городской жизнью, то выглядят они достаточно странными и инородными, поскольку – по законам жанра – мир идиллии обычно замкнут в самом себе и не имеет никаких соприкосновений с миром внешним (Обломовка из романа Ивана Гончарова, жизненное пространство гоголевских старосветских помещиков). И обильные «центонные» переклички с отринутой сельским жителем литературной жизнью только углубляют немедленно возникающее ощущение дисгармонии, половинчатости, раздвоенности между «поэзией жизни» и «поэзией поэзии»
Городское додо не дада, маньерист куртуазный, почти что классик, он любитель плотно нямням, бульбуль, а думдум не очень и совсем не любитель бобо – того же штакета, дрына из тына. Одно дело манерно фланировать в картузе и мерно квасить до потери пульса, дара речи, возбухания коликих почек, да трендеть про фафа-ляля с пухлявой la contadina, а другое дело – со всей дури получить древесиной по чану до полной потери чувства и понять, что бобо мертва без практики, как сказал один теоретик (кажется, Ибн Сина) и знаток двух больших разниц и многих гитик об этом, потому что искусство есть искусство есть искусство, а древесина есть древесина есть древесина, как и все остальные гегелевские триады, пристающие в деревне летом.Конечно, невозможно отрицать, что в поэтическом творчестве свобода есть свобода есть свобода – тем более что Строчков в абсолютно всех своих «отпускных» наблюдениях безупречно точен и честен, ясен в убеждениях и в символах веры. Однако то и дело закрадывается ощущение, что с точки зрения художественности подобная честность и простота скучнее резкости и парадоксальной непоследовательности. Отдельные точечные, блестящие наблюдения раз за разом не становятся открытиями, не выстраивают целостного текста, а остаются лишь всплесками на ровном фоне тихих разговоров с самим собой. Это, впрочем, не делает их слабыми, незапоминающимися. Вот, например, один из неброских и точных манифестов строчковской лирической поэтики:
Живу уже на протяжении, натянутом настолько туго, что даже слабое движение становится причиной звука.Кумулятивное накопление массы опыта на каждом шагу готово перейти в иное качество, развоплотиться в звук, ценный самим собою, а вовсе не тем, что он означает в окружающем мире, на какие события и факты указывает. Тем более неорганичным контрастом – на мой вкус, разумеется! – выглядят выходы на поверхность поэтических смыслов прямой и незатейливой публицистики, поэзии либо вовсе противопоказанной, либо требующей особой отстраненно-ироничной поэтики, как у нескольких поэтов, получивших известность в перестроечные годы. В противном случае получается нечто одноразовое, однодневное, стремительно утрачивающее актуальность и всякую значительность вне прямой злободневности – увы, крайне недолговечной.
Качает по соросам шмидтовых грантодетей, культуромультуре сулится невиданный нерест, блефускоискусство всплывает наверх без затей на корм быкотаврам фронтиров, блиц, русских америк.Столь же надуманными смотрятся на расстоянии прошедших лет сравнительно многочисленные у Строчкова случаи «макаронического» совмещения разных языковых стихий, жанровых начал, лексических пластов. Они, как мне кажется, не образуют никакого внятного «сообщения». Некоторые тексты Строчкова рассчитаны на устное авторское чтение и от подобного исполнения очень выигрывают – об этом знает каждый, кто Владимира Строчкова не только читал, но и слушал (соло или дуэтом с Александром Левиным). Однако есть среди «устных» стихов одно («Автоапология»), в котором самоирония на миг уступает место действительному и вполне мотивированному сомнению в правомерности и веской обусловленности собственного поэтического слова, сквозь шуточные самобичевания и самовосхваления просматривается нешуточная усталость от каждодневной готовности отозваться на всякое мелкое и крупное событие природно-отпускной либо литературно-городской жизни:
Кто поет в терновнике, кто в овсе, кто во ржи, кто кропает эссе в поле у межи, но все, все, как один, виновники. Так не пой! Так не пой, красавица, ты при мне, не пой этих Песен Песен. Может быть, я тупой, но этим и интересен… Да! Еще не пой при луне, а также в безлунные ночи, в звездные и иные. Короче, никогда не пой. Я тупой. Я не хочу это слушать. ………………………….. …И, пожалуйста, встаньте, когда я пою! Я пою для Вечности, не для вас, моя песня губит смертного человека. Вот я прокашлялся… Р-раз-раз-раз!.. и пою в микрофоне салона клас – сиков XXI века.Век двадцать первый в самом разгаре – настоящий, некалендарный. От того, как он будет опознан и осознан в поэзии, зависит очень многое. Только невозможно больше разговаривать с самим собою, не слышать шума новых времен, подступающих вплотную к привычной грамматике поэтического высказывания, властно требующих перемен и открытий.
Библиография
Руины // Арион. 2000. № 2.
Замкнутый контур // Знамя. 2000. № 12.
Черный-черный город // Арион. 2002. № 3.
Перекличка / Совм. с А. Левиным. М.: АРГО-РИСК; Тверь: КОЛОННА, 2003. 124 с.
[ «Из катафорточки улыбкой и рукой…»] // Арион. 2004. № 2.
[Песочные ходики с кукушкой] // Арион. 2005. № 2.
Бюллетень по уходу // Арион. 2006. № 2.
Караул опять спит // Знамя. 2006. № 2.
Наречия и обстоятельства. М.: НЛО, 2006. 496 с.
Тут и там, везде // Арион. 2008. № 1.
господа каскадеры и офицеры // Знамя. 2008. № 12.
Mercato Porta Portese // Новый берег, 2009. № 26.
Пушкин пашет. Таганрог: Нюанс, 2010. 32 с.
Буколики плюс. Таганрог: Нюанс, 2010. 32 с.
Zeitgeist. Таганрог: Нюанс, 2012. 32 с.
Предела нет. Таганрог: Нюанс, 2012. 32 с.
Ната Сучкова или «И никогда это время не кончится…»
Ната Сучкова в последние годы нашла новые ноты и интонации, меньше стало бескомпромиссности и жесткости, основанных на некоторых своеобразных конвенциях «молодой» литературы, в ее столичном изводе, который порою предполагает сосредоточение – минуя жизнь – прямо и непосредственно на литературе:
Пусть на твоей простыни напишут цитату из Бродского, я покажу какую – про пустой кружок, жизнь пустую – или любую другую. Но на лице и простыни клеймо литинститута – и на всеобщей прозе, и на всегдашней простуде…У каждого стихотворца где-то есть свой обжитой дом, пространство, где знаком каждый предмет и звук, и все это в совокупности не порождает стихи, но имманентно является поэзией. Конечно, для кого-то таким домом может оказаться язык (иногда – в его несуществующем, свободно придумываемом экспериментальном смысловом контуре), порою – параллельная реальность мысленного преодоления какой бы то ни было природной, узнаваемой конкретики. Необыкновенно важно правильно выбрать маршрут движения между универсальностью и усредненностью городской жизни в непосредственной близости от печатного станка и – попыткой ощущать себя своим вдалеке от литературных кружков и литературно-критических обойм. В этом выборе важна абсолютная аутентичность – здесь нельзя полагаться на авторитеты, нельзя ничего принимать на веру без поверки непосредственным личным опытом.
Мейнстрим последних десятилетий выработал у большинства читателей стойкое и заведомое недоверие к экзотике сельской глубинки, к подчеркнутой этничности и к локальному колориту. И недаром: слишком уж навязли в зубах за долгие советские десятилетия идиллические картины с березками на фоне полей и ферм, а также неизбежных переборов гармоник. Исключения, конечно, случались, поскольку, как стало известно с некоторых пор, В деревне бог живет не по углам. Немаловажно, кстати, что это свойство деревенской жизни зорко подмечено вовсе не сельским жителем, но небожителем-скитальцем, на несколько месяцев заехавшим в глушь, чтобы дать ей имя и пережить несколько метафизических эпифаний. Поворот лицом к городу, к столичному обиходу и литературному быту ощутимо преобладает над стремлением сохранить региональную, провинциальную идентичность. Случаются, конечно, в поэзии запоминающиеся картины провинции – но преимущественно все же уже в постсоветское время – подмосковный Павловский Посад, например. Однако подобные возвращения к природе довольно редки, гораздо чаще будущие поэты покидают алтайскую либо вологодскую реальность в стихах еще до того, как им представится случай перебраться в одну из столиц в смысле буквальном.
Ната Сучкова непреложно следует логике возвращения от универсального к исконному, причем промежуточной средой очень часто является водная стихия, речные и морские мотивы.
…По Кузнецкому, например. День за днем текут, как течет по трубе река, Ты идешь к метро, а потом ты бежишь бегом, Ты бежишь к метро, и пар идет изо рта У реки, никогда не выйдущей из брегов.Московские приметы в этом стихотворении выдвинуты на первый план, однако первородная влага способна смывать все различия между малой родиной и благоприобретенным местом проживания человека, естественным образом стремящегося вмосквувмоскву.
Там, где река повторяет изгиб руки, скачут и мельтешат блики, флажки, буйки, и у опоры моста в ледяной воде крылья и плавники, больше уже нигде…Здесь даже нельзя с уверенностью сказать, о какой именно реке идет речь – может быть, и о соименной первопрестольной столице, разве что упоминание о ледяной воде наводит на мысли об одной из северных рек – Вологде, Сухоне, которые так важны для Наты Сучковой, одно из стихотворений начинающей утверждением о том, что круглей всего земля с северу (а вовсе не на Красной площади, как легко додумают читатели постарше). Северная водная стихия в одном из стихотворений молочно загуствает, дает ключ к тайне рождения человека
Эти длинные-длинные эти ситцевые облака, это солнце, что пело вам, эта девочка сделана из сгущенного молока, до чего она белая! С этикеткой джинсовой сухонского м. к., с голубою заплаткою, эта девочка сделана из сгущенного молока…Здесь мы имеем дело уже с абсолютно аутентичной поэзией Наты Сучковой – движение на север завершено, человека обстает изначальный мир, чья гармония, впрочем легко может обратиться в застой и вырождение, таковы реалии сегодняшнего дня, который не допускает терпимости к медленному, внешне неловкому существованию.
Худенький, маленький, третий – побойче, – ну и чего ты им, паря, расскажешь? – мамка – уборщица, пьяница – отчим, школьные завтраки – снежная каша. Старая церковь – окно заколочено, на штукатурке – размытый Спаситель, то, что тебя не желают по отчеству, бог с ними, паря, ты просто – учитель.Навсегда остановившееся время провинции имеет двойное влияние на жизнь: может прилежно сохранять главное, а может способствовать распаду и вырождению. Но самое главное, что открывает в своем поэтического доме Ната Сучкова – его способность содержать в себе поэзию in statu nascendi, причем – неотделимую от простоты, которая нередко эквивалентна примитивности.
Дыша духами и туманами, одеколоном «Шипр» – без сдачи нам! – здесь называют ресторанами уборные, чуть отстоящие от домиков кривых, потерянных, но крепких дедовых, приземистых… ‹…› и кролики с глазами кроликов из клеток смотрят аккуратных.Это какой-то странное, призрачное слитное существование – оживший фольклор, имеющий своею оборотной стороной радикальный авангард:
Мы поймали двух лещей, одного подлещика, Со вчера полно борщей, щи и суп гороховый, Я живу в краю родном, наблюдаю ход вещей, Я живу в краю родном, разве что не окаю. Тот кулик его хулит, тот кулик – нахваливат, По задворкам не пройти, снег да грязь в проталинах, Разбежались сапоги – левые и правые, Мы же, валенки, стоим, разве что не квакаем. Принимаем ход вещей и собак на привязи, Изловили дыр бул щил и обратно выпустим.Ната Сучкова никак не идеологизирует свою кровную связанность с северным краем, не выставляет его в сусальном облике мира предустановленной гармонии, не нападает на все, что противится автохтонности, рвется за ее пределы. Но самое главное в лирике Сучковой, не генотип, а фенотип провинции. Уход от непреложно исконного и попытки к нему вернуться в широком смысле слова рассматриваются не в виде прямых географических перемещений с периферии в центр и обратно, но в плане развития человека, несущего в себе изначальный код творения несмотря на все внешние воздействия.
вот идет человек – голова на плечах, из тех, что в детстве хотят на врача, и такая чепуха лезет в голову. мелко-мелко, как капли в бейсболку стучат, догоняет на острых своих каблучках, а потом – голова оторвана. он плывет на облаке, как в дыму, на руках голова с пятаком во рту, под ногами – антенны, шпили, он с тревогой думает: я умру, и опять какую-то чушь, муру, почему ее не пришили? почему-то сказку о колобке, я творен на крови и молоке, в ординаторской включен телик, васильки на выцветшем лежаке, дремлет доктор и руки его в муке, а не то, что в детстве хотели.Все, что кажется современному человеку пережитками прошлого, рудиментами и атавизмами навсегда отошедшей в прошлое жизни, жабрами и крыльями былого, все наши сокровенные либо вовсе неосознанные воспоминания о бывшем-вечном – всё это живо, продолжает в нас жить. Чтобы уловить эти тонкие и слабые сигналы – не надо бороться с прогрессом или непременно поселяться в скиту на берегу северной реки. Надо просто слушать и слышать, как это умеет делать Ната Сучкова.
Библиография
Коллекция за стеклом // Октябрь. 2006. № 5.
Дачник мой август // Новый мир. 2006. № 6.
Над своим виноградом // Дети Ра. 2009. № 10 (60).
[Стихотворение] // Арион. 2010. № 4.
Этот мальчик злой… // Октябрь. 2010. № 12.
Лирический герой. М.: Воймега, 2010. 56 с. (Серия «Приближение»).
Птенчик // Волга. 2011. № 1–2.
Для кого тут елку-то наряжать?.. // Сибирские огни. 2011. № 4.
Благовест птичий // Дружба народов. 2011. № 6.
Деревенская проза // Знамя. 2011. № 8.
Деревенская проза. М.: Воймега, 2011. 76 с.
На том самом месте // Дружба народов. 2012. № 3.
[Стихотворение] // Арион. 2012. № 4.
[Стихотворение] // Арион. 2013. № 4.
Ход вещей // Дружба народов. 2014. № 2.
Ход вещей. М.: Воймега, 2014. 76 с.
Александр Тимофеевский или «Душе необходим уход…»
Александр Тимофеевский пишет незатейливо, простенько, словно бы и не надеется на запоминание и перечитывание своих стихов. В них нет ни следа разрыва между желаемым и наличным, между сочинением строф и поисками читателя в потомстве. Он словно бы уверен в том, что все уже подмечено и описано другими поэтами в стихах рифмованных, белых или свободных, а значит, ничего больше не светит стихотворцу, рвущемуся, как встарь, на глаза публике, старающемуся выделиться и запечатлеться в памяти народной. Нет, Тимофеевский не таков, он не искал троп в подлунном мире, да и вообще – лет тридцать с лишним писал стихи как будто бы просто так, безо всякой надежды на обнародование, особенно после публикации в неподцензурном «Синтаксисе», за которой последовал решительный запрет на поэтическую профессию со стороны компетентных органов.
Когда-то давно, в позапрошлом веке, один из профессоров Петербургского университета, чрезмерно увлекшийся проблемой происхождения слов, предложил забавную этимологию слова «кабинет». Он производил его от выражения «как бы нет». Дескать, человек, удаляющийся в кабинет, как бы исчезает, его больше нет! Стороннему наблюдателю легко может показаться, что эта этимологическая фантазия если и верна, то только в отношении поэта Александра Тимофеевского. Как только он садится за творческий стол, подлинный облик поэта, рассчитывающего нечто сообщить своему читателю, растворяется в полуобязательных, подчеркнуто бытовых констатациях или в предсказуемо ироничных пассажах. Отсюда – довольно стойкая репутация шутника и ёрника, если не гуляки праздного, между делом производящего на свет рифмованные остроты:
Любимая, отдайся мне, Минут, так скажем, через десять. А то картину на стене Необходимо перевесить… (Подай скорее молоток И ту коробочку с гвоздями… Да не маячь же без порток Ты у меня перед глазами… Но не напяливай трусы, Еще не время одеваться, И гвозди на диван не сыпь, Ведь колко будет отдаваться.)Может показаться, что вынужденная роль заведомо не подлежащего опубликованию поэта стала позицией, – так, например, в прозе позднего Юрия Трифонова вынужденные эзоповы перифразы неразрешенных советской цензурой фактов, цитат, мнений, анекдотов почти полностью сходятся с «чеховскими» умолчаниями, уходами от формулирования главных идей. Получается, что писатель молчит о важнейшем не столько по причине внешних запретов, сколько по собственному, «чеховскому» выбору: не говорить всуе о высоком и надмирном. Мандельштам когда-то бросил в ответ на жалобы непризнанного в печати поэта замечательное mot: «А Сократа печатали? А Христа печатали?». Для автора «Камня» и «Тристий» этот возглас стал девизом, определившим его творчество на долгие годы: сосредоточенное и бескопромиссное сочинение стихов без оглядки на неволю, без сетований на препоны.
Но вернемся к поэту Александру Тимофеевскому. Правдиво ли первое впечатление о том, что под гнетом несвободы поэт превращается в стихотворца-любителя, пишущего заметки на случай, предназначенные для домашнего чтения? Нет, скажем со всей определенностью и резкостью, это впечатление ложно, Тимофеевский вовсе не только и не просто автор остроумных миниатюр и незатейливых «авторских» песен, одна из которых, благодаря классическому мультику, стала народной.
Яснее всего проступает неброская значительность поэтики Тимофеевского именно в поздних стихах, когда отходят на второй план былая балладная многоречивость, изобильное словоговорение, важное само по себе, интонационно.
Мы танцуем до упаду на четвертом этаже, Мы перепились до чертиков и пить не можем уже. Шпроты рассыпались по полу – пускай их черт подберет, Люстра внизу под нами качается взад-вперед. От нашей пляски окна и двери охватывает дрожь, Мы грязи намесим столько – за неделю не уберешь. Наша молодость вытекает, как из лопнувшей рюмки коньяк, Но еще нам не нужен пружинный матрас, мы обойдемся и так. И обнимем наших девчонок, и погасим повсюду огни…В этом стихотворении, написанном на рубеже пятидесятых и шестидесятых, главное – непокорная цельность частной жизни, неподвластной окружавшим тогдашних юношей и их подруг двойным стандартам. Стихи последних лет становятся лаконичными, афористичными, смыслы расходуются в них весьма экономно. С особой отчетливостью это можно наблюдать в книге 2004 года «Сто восьмистиший и наивный Гамлет».
Как телу надобен уход, Как нужно языку общенье, Душе необходим уход, Побег, отъезд, невозвращенье. Не от жены, не от трубы Над крышей дома, не от быта! Побег ей нужен от судьбы, Которая душе открыта.Впрочем, и в более ранних стихах исподволь росла и накапливалась в стихах Тимофеевского его главная, легко узнаваемая эмоция, отсылающая, как уже говорилось, к вынужденному и в то же время аутентичному лаконизму прозы Юрия Трифонова. Эту эмоцию можно было бы осторожно определить так: «напряженная покорность неизбежному». Смещение нерва проблематики с «общественных» вопросов в область экзистенциальную для многих «шестидесятников» – факт глубоко значительный. Все дело не во внешних условиях жизни, а в желании и умении принимать негативные социальные обстоятельства времени и места с тою же легкостью и естественностью, что и радости гипотетической либеральной свободы.
О, прячьте слезы, слезы прячьте, Кичиться горем нет причины. О, не рыдайте и не плачьте, Вы, женщины, и вы, мужчины. Хочу я крикнуть в исступленье, Чтоб стих звучал, как глас пророка: В страданье нету искупленья, Оно лишь следствие порока!Жалобы, бесконечные сетования на «бессмыслицу и неудачи» – все это подвергается жесткому отрицанию. Хотя недовольство нытьем и жалобщиками оборачивается здесь «криком в исступленье», еще далеким от будущей уравновешенности:
Я вас умоляю, не надо грустить о поэте, Не надо по щечкам размазывать грязных следов… И если не будет войны и останется жизнь на планете, Стихи мои выйдут не позже двадцатых годов.В этом знаменательном четверостишии сходятся две тенденции. С одной стороны – традиционная уверенность в будущем высоком предназначении собственных стихов (ср. цветаевское «Моим стихам, как драгоценным винам, // Настанет свой черед») и с другой – раздраженное неприятие демонстративных упований на будущее бессмертие души в заветной лире. Стихи Тимофеевского вышли и завоевали симпатии читателей гораздо раньше, чем предполагалось: не в 2020-е, а в 1990-е. В масштабах жизни поэта это тридцатилетие решающее: именно в эти сроки достижим ответ на вопрос о прижизненной известности. Но в том-то и дело (с этого начинались мои рассуждения), что Тимофеевский пишет так, как будто его стихи ничего в мире не меняют, словно бы и неважно для них наличие внимательного и понимающего читателя. Именно так, в отсутствие свидетеля и читателя, создает Тимофеевский сильные стихи, лишенные какого бы то ни было следа желания прямо воздействовать на жизнь.
Душа моя от тела отлетела И стала малым облачком печальным, И грустно-грустно на землю глядела, Вернувшись к тем кругам первоначальным. Бессчетные, к ней прижимались души, Бесплотные, они сбивались в тучи. Немотные, они точили слезы – Три дня им оставалось видеть землю…Именно в этих отрешенно-метафизических строках явственно огромное их отстояние от простеньких, хоть и не лишенных аттической соли рифмованных юморесок. Замкнутость в бытовых подробностях жизни не мешает прорывам к бытию, но эти усилия не предполагают поисков пророческих гарантий весомости поэтического слова. Наоборот – вполне по-чеховски, – подчеркивается слитность, нераздельность быта и бытия, подверженность того и другого тавтологическому, ироническому остранению.
Сидит на камне Чехов Родимый наш А.П. И ищет человеков В гуляющей толпе. Он смотрит очень строго И, видимо, задет Тем, что народу много, А этих самых нет.От тривиальности будней лишь полшага до иронической притчи о бытии, пересмешничество в этом случае немедленно оборачивается подспудным (и снова – прямо не названным) трагизмом.
Впрочем – покусимся на святое! – даже песенка крокодила Гены не так уж беззаботна при ближайшем рассмотрении, достаточно представить воспеваемые события буквально и помимо видеоряда классического мультфильма. Кто-то у прохожих на виду играет на гармошке? Какие приходят на ум ассоциации – ясно с первого вопроса. Это человек (не крокодил уж, конечно) бесконечно одинокий, уподобившийся страннику или нищему, уверенный в том, что никакой вертолет к нему не прилетит по случаю праздника, ведомого лишь одному ему.
Неброские стихи-картинки позднего Тимофеевского говорят проницательному читателю о многом. В них заключено видение, далеко не всем современным стихотворцам свойственное, совмещающее ненарочитое разочарование в прежних идеалах с жизнеутверждением, ироническую стихию с мужественной стойкостью, желание острить и осмеивать с неискоренимой потребностью говорить обо всем всерьез. Всерьез и надолго.
Библиография
Второе пришествие // Дружба народов. 2000. № 7.
Двенадцать свиданий (1949–1990) // Дружба народов. 2001. № 5.
Запах сада // Новый мир. 2002. № 2.
За кошачьим кормом // Дружба народов. 2002. № 11.
Время вспять // Дружба народов. 2003. № 11.
Опоздавший стрелок. М.: НЛО, 2003. 240 с.
В дни Страшного суда // Знамя. 2004. № 2.
Игра, которой нет // Новый мир. 2004. № 2.
Сто восьмистиший и наивный Гамлет. М.: ОГИ, 2004. 128 с.
Девятое мая 1945 года: хроника // Дружба народов. 2005. № 5.
В зоопарке и на воле // Новая Юность. 2005. № 6(75).
Замедленное кино // Новый мир. 2005. № 11.
Письма в Париж о сущности любви. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2005. 69 с.
Метаморфоза // Знамя. 2006. № 3.
Он ищет читателя, ищет… // Дети Ра. 2006. № 5.
Размышления на берегу моря // Дружба народов. 2006. № 5.
Чудеса в зоопарке. М.: Моск. зоопарк, Галерея Леонида Шишкина, 2006.
Подарить тебе апрель… // Дружба народов. 2007. № 5.
Стихи на песке // Новый мир. 2007. № 6.
Персоналии // Новый мир. 2008. № 11.
Размышления на берегу моря. М.: Воймега, 2008. 160 с.
Пушкин и мелочи жизни // Континент. 2009. № 140.
Краш-тест. М.: Время, 2009. 96 с.
Ответ римского друга. М.: Время, 2011. 128 с.
Гамлет в красном поясе. М.: Время, 2013. 160 с.
Дмитрий Тонконогов или «Я ничего не знаю о себе…»
Дмитрий Тонконогов пишет не просто мало, а очень мало, даже выпуск двух почти одинаковых книг с одним и тем же названием ему простителен, потому как все ждут: чего там еще он придумает? – пусть, пока суд да дело, прежнее еще раз опубликует. А он не придумывает и не придумывает и так – годами, поскольку (вероятно, так Дмитрию Тонконогову думается) все уже понаизобретено – от абсурдистских вывертов смысла до концептуалистских отказов от прямого и однозначного смыслопорождения. Тонконогов хитер и остер: он не соглашается на меньшее, чем любовный роман даже не с человеком, не с конкретным сцеплением судеб и фактов, но – с самою возможностью поэтического рассказа как такового, с процессом и даром рассказывания, с сюжетной историей, взятой как обобщенная способность говорить, а вовсе не как конкретная данность каких-то событий и чьих-то отношений.
Бог, дай хоть строчку. Я лица не оторву от бумаги. Нет, это не буквы, а сплошные коряги. У меня история есть без конца и начала – Я ее любил, а она меня не замечала.Можно сколько угодно рассуждать об «обэриутском» генезисе тонконоговского стихотворчества, сам по себе этот тривиальный вывод мало что поясняет. Важно ведь понять не структуру абсурдистской образности (она изучена вдоль-наискосок!), но функции абсурда у Тонконогова. Вместо ясного, предназначенного для реальной коммуникации высказывания (например: «я говорю о необходимости спасения души / поклонения красоте / уничтожении идейного врага / прелестях любви» – далее везде) Тонконогов предлагает нам высказывание тавтологически многозначное, что-нибудь вроде: я говорю и говорю о… / я способен говорить о… / я все еще говорю о… У такой модели построения речи есть две очевидные параллели. Более близкая по времени: знаменитая фраза из «Школы для дураков»: река называлась. Именно – не река называлась Волга (или какой-нибудь Дон), но просто – река называлась, то есть у кого-то (говорящего) был шанс реализовать грамматическую функцию называния, а у реки сохранилось свойство быть названной. Вторая параллель содержится в известной фразе Чехова из письма Книппер: «Ты спрашиваешь, что такое жизнь?.. Это все равно что спросить, что такое морковка. Морковка есть морковка, и больше ничего не известно…». Обобщенное высказывание всегда тавтологично, а тавтология по неисчерпаемости смыслов наиболее глубока. Обе части фразы – «дважды два» и «равно четырем» – тавтологичны и потому неисчерпаемы, равно как и утверждение «а равно а». Говоря таким образом, я не витийствую о чем-то конкретном, но просто сигнализирую, что еще могу произносить слова.
Причем слова в данном случае тождественны означаемым вещам, они ведут себя так же прихотливо и неуступчиво, могут по собственному произволу обрушиваться, испытывать метаморфозы, выстраиваться в логически непротиворечивые цепи:
Купил цемента три килограмма. Поставил столб. Вывалилась оконная рама. На крыше дырку продолбила ворона. Пять килограммов плотвы и пива четыре баллона. На сем заканчиваю, ведь нужно остановиться. В одном глазу – бежин луг. В другом – небо аустерлица. Спящий человек совершенен. А сплю я, должно быть, мало. Лучший фон любой панорамы – Байковое одеяло.То ли мир апокалиптически рушится не в шутку, а всерьез, то ли просто кто-то, проснувшись поутру, выглядывает из-под теплого одеяла и торопливо ловит беспорядочные рассветные мысли. Герой Тонконогова при этом сам не ведает, что творит-говорит, он не ведает себя, только знает, что обладает странным даром вместе со словами приводить в движение вещи, а только потом – обдумывать, что же на самом деле произошло.
Я ничего не знаю о себе. Как странно быть предметом разговора. Как будто обозначился в судьбе Дверной глазок, смотрю и вижу вора.В этом призрачном взгляде на самого себя сквозь замочную скважину все смешивается и перемешивается, как во всех домах Облонских вместе взятых: люди тождественны вещам, вещества метонимически означают состоящие из них предметы, повседневные занятия оказываются эквивалентны мирозиждущим усилиям демиурга либо победным командам полководца, с ходу решающего исход сражения.
Заведую районным детским садом, На мне большой сиреневый халат. И розовые дети где-то рядом Лежат и спят, сто лет лежат и спят. Над ними пар колышется, рядами Кроватки белоснежные плывут. На север, говорю я со слезами, На небо, что вам делать тут? Седые три великие империи Подсели утешать меня к столу. Я кутаюсь в какую-то материю, Переставляю ноги на полу.В сюжетно выстроенных и по видимости логичных и последовательных рассказах Тонконогова на поверку присутствуют три совершенно разноприродных, не сведенных воедино измерения: протекание во времени событий как таковых, впечатления их участника и созерцателя, наконец предметы, служащие антуражем. Происшествия, ощущения, вещи живут обособленно друг от друга, но – одновременно; потому-то и описываются они параллельными курсами, при этом ничто не доминирует безоговорочно. Отстраненный рассказ о случившемся? Поток спонтанных эмоций? Минималистические натюрморты? В неперемешанном, различенном и расподобленном виде присутствует и то, и другое, и третье.
Выговорено как будто бы все, а на деле – все недосказано, скрыто, утаено. Разномасштабное перечисление вещей, чувств и событий не приводит к согласованной ясности итоговой сентенции. С чем бы сравнить… Ну вот вам картинка: устало бредущие собаки, голые деревья, веселье на дальнем катке, птицы на голых ветвях, холм, обрыв, вязанка хвороста на плечах… Брейгелевские «Охотники на снегу», описанные таким образом, выглядят ущербно. Ведь до самого главного, до того, что «говорит» картина в последней инстанции смысла, мы так и не добрались. Какое тут «общее настроение»? Еще проще: удачной ли была охота? Но – что делать – все на картине живет своей отдельной жизнью, все в равной степени достойно специального внимания и потому прописано до мелочей: в деталях видно близкое, ясно различимо далекое. Никакой тебе игры теней и света, таинственной барочной двусмысленности. Мир ясен до последней складочки и… неисчерпаем – это далеко еще не «светотени мученик Рембрандт».
А вот и моя жена. У нее две ноги и каждая из них длинна. Спускаясь по лестнице, держась за перила, Она иногда взлетает – проверяет силы. А когда из троллейбуса выходит на тротуар, За нею катится необъятный шар. Шуршит сеном, репьями, прошлогодней листвою. Она спрашивает: «Что это такое?» А что это такое?Картина дана во всех разнопорядковых деталях и параллельных друг другу событиях, но не истолкована, не объяснена. Мотивировка, вынесенная в заглавие, чаще всего оказывается фиктивной. Скажем, только что процитированное стихотворение называется не «Жена», а «Овощи», несмотря на то, что его «овощной» финал никак не соответствует зачину:
Ух ты! Опять моя жена. Наверно с покупками – пойду взгляну на Огромную картошку, Моркови полкило. Я в юности окрошку Любил, но все прошло. И мыслимо ли это? Над сумкой овощей Увидел я поэта Совсем других вещей.Попробуем представить, о чем может идти речь в стихотворении «Радио». Получилось? А вот про что тонконоговское стихотворение с этим названием:
Блок отдыхает, свернувшись калачиком на скамейке. Бунин невзрачный, щупленький, пытается стоя спать. Мимо проходят рабочие, один из них, в телогрейке, Подходит к кровати Гоголя. У Гоголя есть кровать. На ней две пуховых перины. Гоголь, на локте приподнявшись, Тихо ему отвечает, рабочий дальше идет. И выключает радио. Радио умолкает, радио не поет. Только к утру в приемнике шуршат какие-то новости. Гоголь уже проснулся. Гоголь уже встает. Говорят, что есть под землею какие-то важные полости. Бунин жарит яичницу. Блоку ее несет…Лирика Дмитрия Тонконогова – сквозная метафора времени разрушенных контактов, дисгармоничных трудностей перевода, когда в общении людей царствует всесильный «мизандерстэндинг». Купили цемента для ремонта – вывалилась оконная рама, думали улучшить формат связи и тариф оплаты – получилось всё как всегда: обилие сигналов не порождает ничего, кроме шума в канале ствола. Как с юмором отнестись к происходящему, как спокойно разглядеть в нем контуры новой техноментальной революции – почище ренессансной? Один из испытанных путей – откупорить шампанского бутылку, другой – перечесть пока единственную в двух лицах книгу Дмитрия Тонконогова «Темная азбука»:
Неправильно набран номер, – Унылый голос телефонистки. Она мне снилась: Пожилая, с огромным обручальным кольцом, С короткой стрижкой. Я высматривал ее в метрополитене. Иногда узнавал, но подойти не решался. …………………………………………………………… Глухая Анна Павловна звонит, ничего не слышит: Дмитрий! Я поняла вас немного, Ума занимать не придется вам, наверное, ни у кого. К тому же вы так осторожно обходите рифы Со мной в разговоре. Спешу поздравить заранее! Опоздать я боюсь, а вдруг уйду далеко, не поздравив тебя? Пеку пироги, а завтра кто съест их – не знаю, Возможно, я буду холодной лежать одиноко в кровати, Навеки закрыв свои голубые глаза. Так поздравляю тебя!Что ж, остается и в самом деле поздравить себя с тем, что существуют стихи, в которых нелегкие коллизии сегодняшнего дня изящно засмаскированы под невинные смысловые неувязки, а разрушения привычек и устоев представлены как результат неправильного употребления слов. Вот только надолго ли нам хватит этой спасительной самоиронии?..
Библиография
Переход на зимнее время // Новая Юность, 2002. № 2(53).
[ «Я, Сашка и она…»] // Арион. 2003. № 2.
Два стихотворения // Октябрь. 2003. № 7.
Деревня Канада // Новая Юность. 2004. № 1(64).
Истории // Арион. 2004. № 2.
Темная азбука. М.: Emergency Exit, 2004. 47 с.
Молоко можно в пакетах // Интерпоэзия. 2005. № 3.
Бабушка Бога: Стихи // Октябрь. 2005. № 5.
Станции // Знамя. 2005. № 10.
[ «Меркнут знаки Бэрримора…»] // Арион. 2006. № 3.
Три стихотворения // Октябрь. 2007. № 9.
[Уроки рисования] // Арион. 2008. № 1.
[Дом]: Стихи // Арион. 2009. № 4.
Данил Файзов или «Молодость это когда разрешается крикнуть волк…»
Захочешь рассказать о Даниле Файзове – немедленно поймешь, что понадобятся оговорки. Заготовишь, например, фразу о том, что, дескать, «молодой поэт Данил Файзов выпустил книгу стихов», да задумаешься: а ведь молодость имеет свойство бодрым шагом уходить за горизонт, особенно – молодость поэтическая. И нет в этом ничего зазорного и даже неприятного, просто каждому пишущему необходимо решить для себя, какие из непременных свойств юного задора и свежести-дерзости-неуверенности следует взять с собою во взрослую жизнь.
Здесь у Данила Файзова все не так просто. Он в стихах словно бы продолжает присматриваться к окружающему, иногда будто из-за угла, изнутри параллельного, отдельно взятого пространства.
Высунешь в окошко голову летит Горыныч трехглавый за ним бабка на помеле в оранжевой безрукавке за ними семенят печенеги и чудо-юдо спросишь куда разное говорят ищем бабу спасаемся от пожара к букмекеру делать ставки русским духом пахнет видимо здесь были люди ……………………………………………………….. Или совсем по-другому лежишь на диване и смотришь фильм только вдруг домофон надрывается и голосит открываешь дверь и стоят те же самые и копейку просят и тогда понимаешь что они пришли выключаешь телик кряхтя натягиваешь носки понимая что день опять бесполезно прожитОпустим зоркость картинок, важнее здесь постоянная оглядка на неправильность жизни, то есть именно подчеркивание бесполезности собственной жизни – безотносительно к разным там несовершенствам бытия. Бог с ним, с бытием, в котором где-то есть сирые и обиженные и букмекеры, главное – во мне что-то не так. Что ж, ничего странного, ведь любая лирическая фраза (включая дыр бул щил) неизбежно начинается с попытки сосредоточиться на своих ощущениях. Однако все же самое важное начинается после, когда, по слову классика, «прошла любовь, явилась муза». Тогда-то и происходит превращение абсолютно своего в нечто иное, «отодвинутое» от говорящего стихи, ему почти чуждое, но зато общеинтересное. Какое кому дело, что кто-то там к кому-то явился словно как гений чистой красоты? Правильно: никакого дела нет, кроме того что в строчках про это возникает волшебная отстраненность, делающая нам всем близкой эмоцию не мною подмеченной светлой печали, разбавленной по периметру обреченной радостью. Как это далеко от простой и прямолинейной реакции на повторное появление на горизонте бывшей возлюбленной! Отстраненная от личной конкретности, а потому общепонятная щемящая нота без концентрации на своих ощущениях, конечно, невозможна. Но вот простое самоописание без дальнейшего его же преодоления и поэтической переогласовки – то есть не более чем фиксация данных собственных рецепторов – еще как в сегодняшних стихах возможна. И рискованна.
Данил Файзов работает на смысловой территории очень уязвимой: при почти полном отсутствии дистанции между вошедшим в сознание служителя муз событием и тем, что он, собственно, желает донести до внимательного слушателя, возжечь в его сердце своим вдохновенным глаголом.
Время хорошо воспитанных людей смеющихся за едой …………………………………………………….. аристократично честных в своей нелюбви к плебсу эх мне бы такие нервы…Здесь все – в масштабе один к одному. Неопытный фуршетчик смотрит на завсегдатаев со смешанным чувством недоброжелателя и прилежного ученика. Примеры таких же прямых высказываний, требующих не обдуманных математических операций над рождающимся смыслом, но лишь простой арифметики узнавания в стихах Файзова довольно многочисленны. Скажем, здесь:
не женись ни на ком, данечка, не надо тебе жениться…или здесь:
Во дворике – филология и портвейн. Невысоки наши моральные принципы. Я завтра не вспомню, ну хоть убей, Ни твоих стихов, ни той некрасивой девицы…Ну и далее, собственно, почти везде. Насколько в наши дни допустимо (после, само собою, исполнившихся восемнадцати лет от роду) это сведение себя в поэзии только к самому же себе? Вопрос прост и коварен именно потому, что к прохладному лету две тысячи девятого уже возросло следующее поэтическое поколение, младое и знакомое племя «двадцатилетних», и они-то свое дело туго знают. С ходу минуют хорошие и дурные мины при любой игре, проходят мимо амплуа маргиналов и сочувственников униженным и обиженным. С разбегу вступают в комсомолы всех мастей и в гражданские фронты либо (что, в общем-то, одно и то же) в записные натурщики для новостных лент и блог-гламурных чатов.
Кризис тридцатилетия – сформулируем так – перестал быть фактом биографии тридцатилетних, стал состоянием души всей стихокультуры, далеко шагнувшей за порог послецензурного совершеннолетия. Для поэтов генерации Данила Файзова это прекрасный шанс: многие мечтали бы, чтобы их «биологический» возраст совпал с возрастом поэзии эпохи. Но вместе с шансом на успех растут и соблазны, причем прямо противоположные по духу и смыслу: то ли бороться за всякого рода сладкие и славные госзаказы, то ли, наоборот, демонстративно игнорировать эпоху реидеологизации, инерционно имитировать жизненные роли, оставшиеся далеко в прошлом («бессребреник», «маргинал», «непризнанный гений» и т. д.). Пройти в нелегкий зазор между новой партийностью и архаичной инфантильной сверхискренностью – наверное, это и есть задача поколения поэтов, как раз сейчас разменивающего ювенильность на зрелость.
Голос Данила Файзова в современной поэзии слышен весьма отчетливо – я имею в виду нечто совершенно не метафорическое, буквальное: устное чтение стихов на фестивалях и вечерах. Вот здесь все сомнительное и чрезмерно личное кажется (и является!) вполне уместным. Сама по себе декламация в присутствии многих слушателей подталкивает к рассказыванию историй, провоцирует на откровенность и непосредственность. Атмосфера чтений предполагает отсутствие случайных людей, преобладание посвященных, все понимающих с полуслова.
Надо сказать, что обращенность к своим заметна у Файзова невооруженным глазом, фестивальная обстановка перешагивает границы декламации, проникает и в обычное уединенное написание и прочтение стихов.
Когда из комнаты уходят некурящие, Прощаясь за руку, касаясь губ губами, Мы пепельницу бледную берем, Закуриваем жадно Честерфильд, И между штор щебечет настоящее. Давай в рассветных сумерках горячих На рыбьем языке поговорим.Реплика адресована своим, «курящим», то есть умеющим щедро делиться не только последней сигаретой, но и всем сопутствующим: молодостью, уязвимостью, непритязательностью, простотой, легкой депрессивностью, отдаленностью от ударных строек пятилетки и прочих социальных нужд.
Обстоятельства, которые (почти) невозможно преодолеть, – вот что всегда тяготеет над людьми, со стороны наблюдающими многие стороны жизни из своих молодых «комнат». Инициация претендентов на мужские роли затянулась, они прижились в испытательных помещениях, где будущие мужчины располосовываются ритуальными шрамами во имя будущей взрослой жизни. Вечные юноши не желают покидать привычных ристалищ понарошку.
Молодость это когда разрешается крикнуть волк Но сейчас накручиваешь себя и нитку на палец Светофоры любители водители профессионалы Турникеты зубами щелк Коньяка на глоток во фляжке осталось Белый клоун жив рыжий повесился но вошел в анналы Ворваться на проезжую часть перед последним трамваем Словно в чужую штрафную площадь И гордиться собою…Нет, не только покорность сродни молодости, конечно, тут и бунт и все такое прочее аккуратно расставлены на своих местах. Правда, нередко смелость выглядит так же тинейджерски наивно, как и покорность. Жажды бунта хватает лишь на то, чтобы, условно говоря, заухать филином на скучном седьмом уроке.
Ловушка, подстерегающая всякого, кто не бунтует, но играет в бунт, в стихах прямо названа. Кричать «волк» во взрослом мире полагается, только если волк в самом деле где-то в опасной близости. Иначе – и это самое главное! – потом, когда нагрянет настоящая опасность, никто твоим призывам не поверит, сколько ни кричи…
Данилу Файзову, я уверен, предстоит в поэзии сделать больше, чем сделано на данный момент. Хотя и среди стихов последних лет немало таких, где неподдельность и подлинность перевешивает упоение взрослыми возможностями трогать ножик на кухне или самостоятельно зажигать спички.
Как ни говори, предсказывать маршрут поэта по его собственной судьбе – дело неблагодарное. Преданным читателям и слушателям Данила Файзова остается только одно: читать и слушать его новые стихи.
Библиография
Неземная любовь // Арион. 2004. № 4.
Стихотворения // Арион. 2005. № 3.
Черемушкин голод // Дети Ра. 2005. № 4(8).
Не прощаясь // Знамя. 2005. № 9.
Стихотворения // Арион. 2006. № 4.
Безвременье года // Новый мир. 2006. № 11.
Полетят самолетики в лужицу упадут… // Новый берег. 2006. № 13.
Проведи линию // Волга – XXI век. 2007. № 11–12.
Переводные картинки. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2007. 48 с. (Поколение).
Посиди еще хоть немного // Новый мир. 2008. № 12.
Стихотворения // Арион. 2009. № 1.
Елена Фанайлова или «Не отделяй меня от всех…»
– Послушайте, а ведь Елена Фанайлова – бывший воронежский врач – уже совсем другой поэт, не тот, которого вы знали – любили или терпеть не могли. И разговор о ее стихах надо бы сегодня начинать совсем с других цитат:
Сквозь этот радиоджаз и золу, Чрез этот печальный треск На лампу, направленную в углу На жителя этих мест, Лети же, психея, едва дыша, Крылышки сожига, Лапки мохнатые не сложа, Моя дорогая парша.Смотрите, какая усложненная, прихотливая фраза – и никакой тебе «истории», никакого рассказа о чем-то на самом деле случившемся, нуждающемся в жестком и прямом комментарии. Здесь если что и произошло, то в сознании поэта, причем сам он (она) еще только старается разобраться в себе, нащупывает собственное отношение к былому, попросту говоря – не знает себя…
– Не стану спорить, однако все равно думаю, что говорить о стихах Фанайловой необходимо иначе, опираясь на привычные цитаты:
…Они опять за свой Афганистан И в Грозном розы черные с кулак На площади, когда они в каре Построились, чтоб сделаться пюре. Когда они присягу отдавать, Тогда она давать к нему летит, Как новая Изольда и Тристан (Особое вниманье всем постам)…Это всё были у Фанайловой по большей части подслушанные истории, предельно прозрачные и привычно безысходные, что-то вроде сумбурной песни безногого десантника у входа в метро – и всегда с выходом далеко за пределы описанной житейской ситуации. Вот и процитированное только что стихотворение заканчивается:
Теперь любовникам по сорока, Сказать точнее, мужу и жене. Ребенку десять, поздно для совка. Их шрамы отвечают за себя. Другой такой страны мне не найти.Здесь главное – в последней строке, даже не маскирующейся под простой повтор набившего оскомину штампа (я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек). Это его – штампа – саркастический перевертыш, даже слово ремейк тут не к месту. Вот какими интонациями Фанайлова запомнилась в середине девяностых, когда в стране мало того что обнаружились в одночасье секс, мафия, рэкет, наркомания и проституция, – но и ложь советских времен дошла до точки кипения: постарели и подрастеряли силы герои исполнения интернационального долга, бойцы многочисленных ограниченных воинских контингентов, воевавших на разных концах земли за неведомые светлые идеалы.
Это стихи черных лет России, на время забывшей про все победы и отрады, не помнившей даже про день Бородина.
– Все так, однако в России теперь не черные, а серые дни, нестерпимая боль примелькалась, как страшные кадры кинохроники, невозможно кричать непрерывно, надрывно, не модулируя крик, не отыскивая новые возможности его – крика – эстетического освоения и нового оформления.
– Позвольте, но Елена Фанайлова остается сама собою, видящей в жизни прежде всего страдание, умеющей заглянуть в душу униженным и оскорбленным, озлобившимся и равнодушным. Вот она, прежняя Фанайлова, в стихотворении «Лена и люди»:
Продавщица ночного магазина В котором я часто покупаю еду и напитки…– Да что вы! Это Фанайлова совсем новая, непривычная, хотя «персонаж» тот же – продавщица, простецкая, наверняка хлебнувшая лиха. Но текст про другое совсем, Лена из магазина, узнав, что ее покупательница вроде как «поэт», просит книжку на прочтенье и получает, и потом –
Говорит, ну, прочитала я вашу книжку. Ничего не понятно. Слишком много имен и фамилий, которых никто не знает. Такое чувство, что вы пишете Для узкого круга. Для компании. Для тусовки. Кто эти люди, кто эти люди, Елена?Тут поэт выходит за рамки собственной поэтики, пытается встать на место читателя, увидеть свои стихи как бы со стороны, причем глазами тех, о ком и для кого они вроде бы и написаны. Разочарование оказывается горьким, закрывает целую страницу творчества, открывает новые горизонты, обусловливает уход поэта в себя, о чем уже и говорилось: меньше историй об обездоленных, больше раздумий о себе. Помните знаменитую «Элегию» Некрасова 1871 года? В любой советской школе был вывешен плакат с казенной цитатой из этой этапной вещи:
Я лиру посвятил народу своему…А вот следующую строку мало кто помнил и помнит:
Быть может, я умру неведомый ему…Страшное открытие: некрасовские призывы к народной свободе слышит всё вокруг, вся природа, все, кроме… самого народа:
И песнь моя громка!.. Ей вторят долы, нивы, И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы, И лес откликнулся… Природа внемлет мне, Но тот, о ком пою в вечерней тишине, Кому посвящены мечтания поэта, Увы! не внемлет он – и не дает ответа…И у Фанайловой в нашем стихотворении происходит почти то же самое. Елена-поэт невольно начинает перед Еленой-продавщицей оправдываться:
Лена, говорю, поверьте, я не специально. Я не хочу, чтобы было непонятно. Просто так само получается. Она смотрит на меня с сочувствием Говорит: понимаю.– Но в книге «Русская версия» – тот же протестный общественный темперамент, туда даже статьи и интервью включены…
– В том-то и дело, что в книгу вошли и поэзия, и журналистская проза Фанайловой. Никто не собирается ставить под сомнение ее человеческую и, простите, гражданскую позицию! Но в этой книжке общественный пафос и поэтическое высказывание разведены в стороны, как боксеры после нокдауна, потому и размещены в разных разделах книги.
– Чуть раньше было упомянуто «серое время»; что это означает? Что поэзия Фанайловой вся без остатка – дитя страшных лет России? И вообще серое – это хорошо или плохо? И если плохо, значит, время стихов Фанайловой не прошло…
– Серое время – штука непростая. Это в былые времена Елена Фанайлова подкожным чутьем угадывала: вот это худо, страшно! Дальше оставалось только ткнуть в это страшное пальцем, описать со всею возможной любовью-ненавистью. Теперь все изменилось. Прямое и бескомпромиссное протестное высказывание меняет свой смысл, и не только потому, что его не слышат прямые адресаты. Эти призывы больше не имеют никакого шанса приблизить желанное (некрасовское) «времечко», когда останутся позади страх и трепет, насытятся алчущие и т. д. Компромиссы приходят в разных обличиях, но суть у них одна – государственная проекция оппозиционных взглядов. Что эффективнее – бескомпромиссный эспээс с его полупроцентным электоратом или созданное сверху «Правое дело»? Это еще большой вопрос, поживем – увидим! На литературном поле происходит буквально то же самое. В пандан голосам былых борцов за соцсправедливость создается «Гражданский литературный форум» – по-тихому так, в начале лета. Голоса нонконформистов по-прежнему слышны, но на фоне очередного хорошо темперированного проекта власти голоса эти звучат совсем по-иному! Их обладатели немедленно оказываются в нише лузеров и маргиналов, не реальное дело делающих, а лишь самовыражающихся, исторгающих бесплодные сарказмы и инвективы.
– Но есть ведь и попытки культивировать в литературе «новую социальность» независимо от государственнических схем!
– И эти попытки безнадежно устарели, они сводятся к воспроизведению в сотый раз борьбы праведных рокеров и брутальных гопников, как это было еще в конце восьмидесятых. Центр притяжения задан – это проекция протеста, вычерченная по госзаказным лекалам, к этому центру неизбежно пристанут все, кто не просто обличает, но желает добиться толку.
– И что, неужели Елена Фанайлова?..
– Нет, не знаю, никто пока не знает! Слишком высокий градус искренности и слитности поэта и стиха был ею задан полтора десятилетия назад. В новой книге восьмого года («Черные костюмы») налицо все признаки борений с призраками серого времени:
Старуха пляшет в варьете Ребенок плачет в доме Фратерните, эгалитэ Какие короли Ныне Эти лозунги устарели – Так, выходит, поэтому Товарищи на меня орут. Говорят: здесь тебе не Бейрут, Не Оклахома. Выходи, а то будет по-плохому. Здесь еще хуже.– Ну конечно! Самозабвенные протесты покрыты пылью, превратились в мелкие комплексы, больше не ведут ни к какому результату. Но не желает Елена Фанайлова «выходить», как в детской игре, когда так неохота признавать, что тебя настигли и осалили. Не по ней мир гламурных «черных костюмов», мир госзаказов и (по)литтехнологий. Говорила ведь ночной продавщице-тезке: я не специально. …Просто так само получается. У нее еще получится, точно, – получится…
Библиография
С особым цинизмом // Знамя. 2000. № 1.
С особым цинизмом. М.: НЛО, 2000. 140 с. (Премия Андрея Белого).
Звезды русской провинции: Стихи участников II Московского междунар. фестиваля поэтов // Уральская новь. 2001. № 11.
Они опять за свой Афганистан // Знамя. 2002. № 1.
Трансильвания беспокоит. М.: ОГИ, 2002. 64 с.
Они стоят с Аркашей словно два бомжа… // Критическая масса, 2003, № 3.
…Они опять за свой Афганистан… // НЛО. 2003. № 62.
Жития святых в пересказах родных и товарищей // Знамя. 2004. № 6.
Русская версия // Знамя. 2004. № 11.
Подруга пидора // Зеркало. 2004. № 24.
Старый Кузмин несгибаемый… // Критическая масса. 2005. № 3–4.
Цикл Альбертины // Зеркало. 2005. № 25.
Русская версия. М.: Запасный выход, 2005. 144 с.
Лесной царь // Знамя. 2006. № 2.
Русский мир // Знамя. 2007. № 5.
Балтийский дневник // Знамя. 2008. № 7.
Лена и люди // НЛО. 2008. № 91.
Черные костюмы. М.: Новое издательство, 2008. 96 с. (Новая серия).
Лена и люди. М.: Новое издательство, 2011. 128 с.
Борис Херсонский или «История нового мифа застит глаза пеленой…»
Все поэтические дебюты разнолики, стихотворцы дебютируют в раннем возрасте или в зрелом, сразу и вдруг или, что называется, в год по чайной ложке, когда в скудных опубликованных подборках не сразу удается разглядеть и оценить подлинный масштаб личности автора и его поэтики. Дебют Бориса Херсонского – история особая, его (дебюта) – и не было вовсе, просто в какой-то момент оказалось, что в наши дни живет, думает и пишет еще один сложившийся поэт. Причем живет за пределами той страны, которая с 1991 года именуется Российской Федерацией, – в Одессе, на перекрестке времен и культур.
В центре поэзии Херсонского человек, не выбирающий «женщину, религию, дорогу», но имеющий дело с состоявшимся изводом суровой личной судьбы. Эту судьбу надо только распознать, прочесть темные письмена пророчеств, выложить на стол старые письма и фотографии… Именно мотив распознавания состоявшейся, но хранящей свою тайну судьбы находится в центре книги Бориса Херсонского «Семейный архив». Хитросплетение судеб, больших и малых трагедий, надежд, молитв – Херсонский всматривается в те линии судьбы, которые видны только на расстоянии, отдельным же людям внятны лишь урывками, не образующими никакого целого. Голос каждого героя книги Бориса Херсонского интересен и важен не сам по себе, а в сопоставлении с другими голосами и событиями, а главное – с запахами и звуками отошедших времен.
Слово «культура» при любой попытке заговорить о стихах Бориса Херсонского неизбежно окажется ключевым. При всей пестроте изображаемых событий стихотворение Херсонского всегда содержит вполне конкретные знаки, указывающие за пределы бытовых описаний, на разнообразные контексты слов, их смысловые истоки. Можно ничего не знать о медицинской ученой степени автора, но его аналитическая зоркость, умение отстраниться от частного и сиюминутного ощущения в пользу отстраненного наблюдения – эта зоркость в первую очередь бросается в глаза, порою даже, можно сказать, режет глаза читателя. Хирург не вправе испытывать чувство сострадания к оперируемому. Отстранение – мать лечения, в этом нет ни малейших сомнений.
Не поэзия, но проза – это очевидное предпочтение Херсонского стоит воспринимать буквально, то есть не с точки зрения литературных «родов и жанров», а в самом обыденном, бытовом смысле слов. Не «поэтическое» видение и изображение происходящего, но «прозаическое» – ровное, почти бесстрастное повествование, без смены регистров и интонационных синкоп. Однако – и это очень важно – кажущаяся монотонность не изначальна, является равнодействующей многих крайностей и противоположностей. Ровный гул рассказа – лишь сумма всех возможных голосов, звучащих одновременно и прямолинейно, как шум листьев вечером в саду перемежается с позвякиваньем ложечки в чашке, с голосом диктора, читающего новости, с ревом автомобильных моторов на дальнем шоссе…
остановись прислушайся если ты замер не умер а обратился в слух все равно шум листвы или гул тщеты или на даче в июле жужжание мух приставших к липучке вот свисает спираль желтая лента в черных точках над круглым столом и ты настолько мал что немного жаль эту что безнадежно дрожит крылом или царапина на пластинке легкий щелчок прерывает ежесекундно виолончель или звенит неумолчно черный сверчок на веранде забившийся в какую-то щель между досками выкрашенными в зеленый цвет вылинявший с годами или ящерица в траве сухое шуршание когда исчезает свет говорят что звук еще слышен минуты двеПоэт уверен: обязательно должны звучать все возможные звуки и голоса – если не в пределах одного стихотворения, то в текстах смежных, неприметно связывающихся в циклы. На электронной странице Херсонского в «Живом журнале» методично, месяцами и годами выкладываются новые стихотворения. Процесс письма запущен неотвратимо, как жизнь, причем достойными описания оказываются, условно говоря, любая дощечка в старом заборе, любой проблеск мысли в молодой и зеленой голове. Мир Херсонского – стереоскопичен, именно это определение прежде всего приходит на ум, если попытаться определить его природу одним словом.
Вспоминается один любопытный эксперимент эпохи раннего рунета (русского интернета – это для тех, «кто не поймал», как говорят подростки – насельники всемирной паутины). Так вот – об эксперименте. Что если выложить в сети текст какого-нибудь классического романа, целиком превращенный в гипертекст, где каждое упоминание имени героя стало «линком», – по нему можно «кликнуть» и узнать, что делает этот герой именно в данный конкретный момент времени? Ну, скажем, Наташа Ростова танцует на первом балу. А что в этот же самый миг происходит, допустим, с Платоном Каратаевым? Кликнем и узнаем: он спит под кустом малины. А Наполеон вкушает, например, луковый суп. Все это не может найти место в традиционном, линейном романном повествовании, иначе оно разрослось бы до размеров реального времени и пространства, перестало бы быть пригодным для чтения.
Стереоскопический мир, изображенный Борисом Херсонским в масштабе «один к одному», настолько переполнен, что в нем нет и не может быть пустот и пробелов. Ежели кое-какие и остались – это явление временное, поскольку завтра либо послезавтра в блоге Бориса Херсонского появится новое стихотворение, потом еще одно и еще… Манера и мастерство демонстративно отставлены в сторону, главное – не рассказ сам по себе, но его бесконечное, серийно умножающееся содержание. С последней прямотой и подробностью описан мир, в котором вполне могут появиться рядом не то что реалии разных эпох, но сразу и художники и их модели, и мифологические герои и их цифровые проекции.
Вот почему все, что осталось нам, написано в строчку, мелькает, как пейзаж за окном вагона, когда бесконечная станция близко, в купе приводят себя в порядок, никак не приведут. ………………………………………………………………. Прибывшие идут, озираясь по сторонам. Лиза идет топиться. Но старый пруд куда-то делся, а может быть, люди врут, что был водоем? Что мальчик, ивовый прут выломав, воздух им рассекал со свистом, что девка плясала босая, звеня монистом, что воздуху было больно… Напрасный труд. («Стихи о русской прозе», 1)Поэзия Бориса Херсонского обращена в прошлое, предполагает бесстрастную постановку диагнозов и душеспасительное выписывание рецептов тем, кто нуждается в коррекции памяти. Однако несмотря на связь с минувшим эта поэзия исключительно современна, поскольку касается чувств человека наших дней, преимущественно горожанина. Как владелец суперновых гаджетов попадает в плен изощренного набора технических возможностей очередного аксессуара, так безвозвратно погруженный в воспоминания человек страдает не от какой-то конкретной фантомной боли, но от всех болей сразу, от их одновременного переживания. И даже – от одновременного ощущения несовместимых по сути своей боли и радости. Если порою в стихах и появляется первоначальное, не опосредованное памятью, чужой историей или культурным анализом чувство, – то это чувство соприсутствия разных противоречивых ощущений, проще говоря, чувство тревоги, смутного беспокойства.
Вроде бы все ничего. Утром выйдешь во двор, свернешь на улицу. Далее по прямой собор. Зайдешь, послушаешь хор, поставишь свечку. Опять вернешься домой. Но дом за час изменится, станет не то что чужим, скорей – настороженным. Жмется, чуя подвох. В области сердца словно стальной зажим. Вроде бы все ничего. Сделай глубокий вдох.Сапожник остается без сапог, пирожник без печи с пирогами, врач – при своей болезни, которую он сам не способен вылечить. То, что легко удается по отношению к другим, раз за разом срывается, когда взгляд героя стихов Херсонского обращается на него самого. Тогда срывается и его голос, он дает петуха, фальшивит – и вот именно эти диссонансы и есть лучшие перлы поэзии Херсонского. Сбросив маску всезнающего и по натуре прохладного диагноста, Херсонский берет высокие ноты, воочию убеждаясь в том, что многомерность и стереоскопичность мира – не только повод для реконструкции психологических комплексов, но и кратчайший путь к постижению ритмических ключей современной лирической поэзии.
Библиография
Там и тогда. Одесса: Друк, 2000. 199 с.
Запретный город // Арион. 2000. № 3.
Свиток. Одесса: Друк, 2002. 58 с.
Семейный архив. Одесса: Друк, 2003. 143 с.
Свиток // Дерибасовская – Ришельевская. 2003. № 12.
Нарисуй человечка. Одесса: Печатный дом, 2005. 103 с.
Нарисуй человечка // Крещатик. 2005. № 2.
Вдоль белых стен // Арион. 2005. № 4.
Стихи // Октябрь. 2005. № 7.
Нарисуй человечка // Слово/Word. 2005. № 45.
Стихи // Слово/Word. 2005. № 47.
Глаголы прошедшего времени. Одесса: Негоциант, 2006. 142 с.
Семейный архив. М.: НЛО, 2006. 208 с. (Поэзия русской диаспоры).
Стихи // Арион. 2006. № 2.
Бормотуха // Крещатик. 2006. № 2.
Глаголы прошедшего времени // Новый берег. 2006. № 14.
Стихи // Слово/Word. 2006. № 53.
Название моря // Новый мир. 2007. № 1.
Вещественные доказательства // Арион. 2007. № 2.
Посвящается Карамзину // Крещатик. 2007. № 3.
Из новых стихов // Интерпоэзия. 2007. № 4.
На вечерней поверке // Новый мир. 2007. № 12.
Когда тирана давят петлей с огромным узлом… // Новый берег. 2007. № 16.
Стихи // Слово/Word. 2007, № 55.
Я знал, что Пригов, Димитрий А., запросто мог… // НЛО. 2007. № 87.
Вне ограды. М.: Наука, 2008. 388 с. (Русский Гулливер).
Площадка под застройку. М.: НЛО, 2008. 242 с.
Стихи // Арион. 2008. № 2.
Стихи // Крещатик. 2008. № 4.
Царапина на пластинке // Знамя. 2008. № 9.
Песенка без припева // Новый мир. 2008. № 9.
Стихи о русской прозе // Слово/Word. 2008. № 60.
Мраморный лист. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2009. 120 с.
FM-радио // Арион. 2009, № 1.
Спиричуэлc. М.: НЛО, 2009. 384 с.: ил. (Новая поэзия).
Псалмы и Оды Соломона. Харьков: Фолио, 2009. 188 с.
Пока не стемнело. М.: НЛО, 2010. 388 с.
Пока еще кто-то. Киев: Спадщина-Интеграл, 2012. 248 с.
Новый естествослов. М.: Арт-Хаус Медиа, 2012. 112 с.
В духе и истине / Cовм. с С. Кругловым. NY: Ailuros Publishing, 2012. 103 с.
Олег Хлебников или «…такая русская привычка»
Олег Хлебников пишет и публикует стихи, по его собственным словам, «столько лет, сколько Пушкин прожил», – вот и объемистый том «Инстинкт сохранения» в минувшем году вышел в свет с подзаголовком «Собрание стихов». Здесь под одной обложкой объединены девять сборников, последний из которых напечатан впервые. Если прочесть подряд стихи Хлебникова разных лет, то выяснится одно очевидное обстоятельство. В полном корпусе лирики поэта нет никаких следов борьбы стилей и направлений в отечественной поэзии. Здесь не отразились многие противостояния, занимавшие умы писателей и читателей в эти самые четыре десятилетия: битвы «тихой» лирики и «громкой» поэзии, споры сторонников авангарда и традиционной поэтики, стилистические выпады адептов и оппонентов вышедшего из берегов в конце восьмидесятых концептуализма, различия во взглядах «московских» и «петербургских» поэтов, борения сторонников рифмованного стиха и непримиримых верлибристов… Хлебников все эти годы пишет как дышит, откликаясь зарифмованными строками на происходящее в стране и в душе, не задумываясь о формах, направлениях и поэтических манифестах.
Кому-то это может показаться скучным, кому-то несовременным, впрочем, и сам поэт понимает, что его манера обращения со стихом в двухтысячные годы довольно проблематична, если не сказать анахронична. В знаменательном стихотворении «Ответное письмо. 18 лет спустя», адресованном Давиду Самойлову, «старшему другу», Хлебников пишет:
Хорошо, что Вы далеко – нынче тут не чтут поэтов, некому стишок прочесть. Ни в Отечестве пророков, Ни у разных-прочих шведов… Хорошо, хоть водка есть.Здесь важна полуироническая отсылка к всепоглощающей иронии Георгия Иванова, некогда тоже оказавшегося в мире, мягко говоря, невнимательном к русской поэзии:
…Трубочка есть. Водочка есть, Всем в кабаке одинакова честь!Однако продолжение хлебниковского послания к Давиду Самойлову свободно от сетований и сожалений: как бы собака ни лаяла – караван идет, контора пишет, то есть сочинитель строчит себе тихо на заветной скрижали:
У меня же все в порядке: все работаю в газетке, – значит к водке есть жратва и в излюбленной тетрадке незаполненные клетки – будет, где держать слова.Отношение к словам остается серьезным, вопреки сменившемуся столетью на дворе. Буду писать стихи наперекор всему – это почти манифест. А вот в другом стихотворении из того же цикла «Разговор с поэтами», обращенном к Александру Еременко, дан иной вариант поведения поэта в непоэтическую эпоху:
Он живет как поэт – он не пишет стихов, Только странные строчки припоминает…И это тоже честно: не писать стихов не потому, что пропал голос, но в силу глухоты города и мира к поэтическому высказыванию. Из двух вариантов творческого поведения Олег Хлебников выбирает первый и главный для себя: сочинять стихи невзирая на волны перемен, споры о стиле, писать так, словно бы с русской поэзией в последние двадцать лет ничего не случилось, как если бы не накрыли ее волны стадионной популярности, не иссушил потом отлив андерграундной камерности, если бы, если бы…
А вот коли все эти «если бы» на время забыть, то и окажется, что есть такой поэт Олег Хлебников, «внимательно всматривающийся в современность», отдающий дань памяти прошлозаветному переделкинскому литературному быту («староновогодняя поэма» «Улица Павленко»), вроде бы и подшучивающий над всем этим отыгравшим свое блюзом, но по-прежнему стоящий на литературном посту зоркого наблюдателя жизни, произносителя о ней и о себе непоколебимых приговоров. В этих зарифмованных суждениях много обаяния, честности, много, скажем, так называемой праволиберальной бескомпромиссности.
За того азербайджанца, что на рынке торговал, привередничать ни шанса не давал – сам подробно помнил вкусы и пристрастия мои, а по осени арбузы мне для дома и семьи выбирал всегда умело, так что корочка скрипела, а под нею, а под ней мякотью упругой, спелой был избранник всех красней… В общем, за арбуз за сладкий и за Тофика того не забуду вас, ребятки, подпалившие палатки две фанерные его, ваши жалкие теракты, хоровое улюлю с дирижером… Значит, так вы?.. Продавайте свои тыквы – не куплю!Герой лирики Хлебникова максимально приближен к ее предполагаемому читателю: понимающему все с полуслова, равно не терпящему фальши и стилистических изысков, желающему, чтобы все было понятно, все на русском языке. Одного очень часто не хватает – ощущения, что мысль и эмоция рождаются, как и подобает, непосредственно в процессе написания (либо прочтения) стихотворений. Чем «правильнее» и очевиднее эквивалентная стихотворению мысль, тем больше сомнений в необходимости стихотворения как такового в роли посредника пишущим и читающим:
«Карабкались по жизни скудной», – сказала бабка, знать не зная, что говорит стихами. Чудно котомочка ее чудная цветами пахла… В тамбур этот, пропахший майскими цветами, входили мы и, зная метод, врывалось время – не ветрами, а духотой, как будто нету весны, а лишь земля вспотела… Старуха за свою Победу разжиться бабками хотела. И вот в Москву девятым мая везла цветочки с огорода. А ягодки, кусты ломая, сорвут внучата обормоты… Звенели бабкины медали. Стучалась в небо электричка. А я в окно глядел – на дали – такая русская привычка.Иногда балладность, сюжетность, формульная определенность стиха настолько перевешивают стих как таковой, что впору задуматься о судьбах подлунного мира:
…жизнь проходит бессовестно близко. Соблазнила она и меня, поначалу любовь обещала, но другие пришли времена – как старуха, до лжи обнищала.Осторожность, осмотрительность Хлебникову свойственны только в одном случае – когда его герой рассуждает о себе: не перегнуть бы палку, не переборщить бы с откровениями, не ступить на запретную территорию молчаливого размышления про себя и для себя. Наоборот, в разговоре на темы (прошу прощения) социальные Хлебников бескомпромиссен и даже порою неумерен. Свойство – по нынешним временам тотального самообнажения – редкое и ценное.
Библиография
Море, которое не переплывет никто // Новый мир. 2000. № 7.
Осенний е-mail бича // Новый мир. 2002. № 6.
Стихи для Ерёмы // Знамя. 2003. № 8.
Лесенка // Новый мир. 2004. № 11.
Пятиконечный знак // Новый мир. 2005. № 11.
Памятник: Поэма с героем // Континент. 2005. № 126.
Под часами // Новый мир. 2007. № 8.
…такая русская привычка // Дружба народов. 2007. № 12.
Инстинкт сохранения. М.: Зебра Е; Новая газета, 2008. 480 с.
Люди страстной субботы. М.: Арт Хаус медиа, 2010. 112 с.
На небесном дне. М.: Время, 2013. 128 с.
Алексей Цветков или «Весь эпизод, где не было меня…»
Не проглядеть бы значительного! В разнообразии современных стихов проглядывает предсказуемая монотонность споров о поэзии, в том числе – на территории самой поэзии, между стихотворцами. Еще со времен памятной дискуссии о «неоархаистах» и «неоноваторах» в начале 2000-х поэтический фронт более или менее определенно рассечен на два фланга. Многие участники «процесса» уверены: поэт по-прежнему может и обязан действовать на смежных территориях, его удел – «новая искренность», «новая социальность». Для произнесения живого, «действенного» слова, призванного непосредственно влиять на жизнь, менять ее к лучшему, – все средства хороши. Здесь и парадоксы стиля, в разных смыслах «нестандартная» лексика, звучное устное чтение: лишь бы быть услышанным, мобилизованным и призванным. Другие стихотворцы предпочитают играть на своем поле, не претендуя на роль «больше, чем поэта». Таких тоже много, и среди них немало значительных и глубоких, пишущих так, словно в мире, окружающем поэзию, за последние годы мало что изменилось: какое, милые, там у нас тысячелетье? Третье?..
Но вот несколько лет назад является Алексей Цветков и в одном из интервью рубит сплеча: «Мой нынешний проект – поиск, стремление к самообновлению, ‹…› желание превзойти самого себя и постараться выполнить наконец то, что без меня, по субъективным ощущениям, скорее всего, не сделает никто».
Да, это именно «проект» Цветкова, да еще интернетный! Стремление поэта превзойти «поэтическое», выйти за пределы обычных компетенций никак не сопряжено с желанием быть понятным (доступным, популярным, актуальным – нужное подчеркнуть). Неделя за неделей, месяц за месяцем на своей страничке в сети, узнаваемо названной aptsvet (Алексей Петрович Цветков), поэт выкладывает стихи, по первому прочтению совершенно герметичные, обращенные скорее к себе, нежели к собеседнику. В том же интервью («Вопросы литературы», 2007, № 3) Цветков (и, между прочим, не впервые!) выступает «с провокационным предложением о восстановлении в современной русской культуре вакансии великого поэта». Идет ли здесь речь о той самой вакансии, которая, по слову Пастернака, «опасна, если не пуста», поскольку прижизненное лауреатство бывает неблаготворным и для самого поэта, и для тех, кто увенчивает его лавровыми листьями? Нет, Алексей Цветков говорит о чем-то еще более глубоком и «провокационном». По Цветкову, следует восстановить в правах не почетное кресло официально назначенного обер-стихотворца – «прогрессивного», увенчанного премиями и почестями, увековеченного в именах заводов, площадей и пароходов. Надо воссоздать самую что ни на есть подлинную вакансию гения, которая, по многим гамбургским подсчетам, пустует начиная с туманного января 1837 года.
Цветков поясняет свою провокацию: «Многие сгоряча решили, что это мое самоназначение. Да нет же, речь шла о другом – о том, что сама подобная планка сейчас необходима русской поэзии как никогда. ‹…› Но, попросту говоря, я не вижу людей, ‹…› ставящих перед собой сверхзадачу. ‹…› Я пытаюсь совершить некое сверхусилие».
Сверхусилие Алексея Цветкова нельзя не расслышать, оно звенит натянутой до предела струной, этот звон-дребезг еще-не-лопнувшей струны различим сквозь все камерные напевы и слэмовые выкрики и притопы нынешних поэтов. Цветкову словно бы безразличен читатель, его понимание, отклик, благодать его сочувствия. На все лады варьируя дребезжащие обертоны, Цветков пишет всегда только об одном, самом доступном и очевидном – о смерти.
когда наскучит жить и я умру они плитой примнут меня к бугру приостановит выплаты контора но все равно в обещанном бреду однажды навестить себя приду сидящего живьем у монитора («уговор»)Вот что происходит у Цветкова день за днем – всё новые тексты выкладываются в мелкоячеистую сеть человеком, где-то неприметно сидящим у монитора. Считать ли это публикацией? Живой репликой? Полуразборчивым бормотанием под нос? Заявлением городу и миру? Правильно ли всем заинтересованным лицам уже известные стихотворения перепечатывать в периодике, где обычно принято публиковать новое и эксклюзивное?
Где «проект Цветкова», там всегда больше вопросов, чем ответов. Удвоенное присутствие за монитором живого автора и его дальнозоркого двойника, гонца оттуда, рождает непреодолимую двойственность. У Ходасевича есть потрясающее стихотворение о человеке, увидевшем себя со стороны, откуда-то сверху, покинувшем собственное тело и тем самым при жизни обретшем посмертный избыток зрения и знания («Вновь эти плечи, эти руки…»). У Цветкова эта запредельная осведомленность также дана без пафоса, воплощена в простой беседе с самим собою в финале того же стихотворения («уговор»):
я объясню себе что бога нет и покажу движения планет в пазах с подшипниками проще репы природа тор хоть трижды в ней умри вся правда полая дыра внутри а слава пыль и сны о ней нелепы …………………………………………… вот собственно и монитор погас поскольку в памяти иссяк запас местоимений мнимому герою забуду эту глупую игру когда действительно всерьез умру там впрочем в дверь стучат пойду открою«Сверхусилие» Цветкова каждый божий день направлено в одну точку: сосредоточиться и освободиться от себя, отключить посюсторонние рецепторы, застигнуть мир без себя:
чужая повесть из чужого дня сама успела или ты дождался весь эпизод где не было меня как будто умер или не рождался («ключицы»)Такое видение мирских и небесных тел и дел проходит мимо одической развилки, заданной некогда Горацием в «Памятнике». Энергическое «Нет, весь я не умру…» слишком долго противополагалось мучительному «Допустим, как поэт я не умру, Зато как человек я умираю…» (Г. Иванов). Цветков отключен как от вдохновляющей уверенности в духовной силе поэтического глагола, так и от кризисной, самоубийственной убежденности в смертности и конечности поэта и бытия.
По Цветкову, долг подлинного поэта – не верить пластичности вещей и достоверности прекрасного (ужасного), гармоничного (уродливого) мира. Поскольку в мире поселена смерть, поэт должен всегда смотреть куда-то в сторону, следя за безглазым и красноречивым взглядом Кoры:
я рос внутри троянского коня играл в войну ходил к соседям в гости хотя впотьмах сдирали кожу гвозди и плотники сновали гомоня мы даже выпив пели иногда вполгорла за столом в натекшем воске где сквозь неплотно пригнанные доски заглядывала редкая звезда там в небесах она жила одна внизу была холодная войнаХорошо, и что же готов поведать себе и своему читателю поэт, постоянно пребывающий где-то на грани здешнего мира, почти уже умерший при жизни, а вернее, видящий себя никогда не родившимся, чающий застигнуть «мир без себя»? О чем он может рассказать? Что Бога (точнее, бога) – нет, по крайней мере не видать, поскольку в нашей жизни, совсем как в «Капитанской дочке», – «сделалась метель, все исчезло», «все было мрак и вихорь»?
Но за последние полтораста лет уж сколько раз твердили миру, что кумиры повержены, что небеса пусты, а мир осиротел без всесильного надзора! В позиции Цветкова не было бы ничего нового, если бы не ее метафизически застывшая нейтральность. Ни ницшеанского упоения пустотой, ложащейся под ноги сильным, ни вселенской тоски по исчезнувшему трансцендентному, ни экзистенциального упорства жить по идеалам в отсутствие их небесного обоснования. Ни, наконец, вселенского тоскливого мужества в «гудящем и осиротевшем мире» (Бродский).
У Цветкова акт творения, подсмотренный тамошним двойником поэта, подобен загрузке компьютерной матрицы; отсюда и нейтральность, и приглушенность любой эмоции:
вдруг пахнуло припоем сверкнуло в приборном окне в унисон заревели отвертки и вывели брата я узнал по глазам и такая же в нем как во мне материнская плата («брат»)…В конце восьмидесятых я был увлечен повестью Станислава Лема «Маска», где речь шла о машине-убийце, запрограммированной на убийство оппозиционного мудреца. Машину замаскировали под прекрасную юную женщину, которая должна была сначала влюбить в себя приговоренного к смерти человека, а затем казнить его в облике любимой. Обе программы приходят в противоречие, механическая гильотина одновременно чувствует себя роковой влюбленной. Но это все происходит потом, а вот в момент сотворения «Маски» все выглядит иначе – первые строки повести Лема я до сих пор твержу без запинки и в переводе, и в оригинале: «Вначале была тьма, и холодное пламя, и протяжный гул; и многочленистые, обвитые длинными шнурами искр, дочерна опаленные крючья передавали меня все дальше…»
Мир не осиротел в отсутствие Бога, он переполнен смыслами, как коробочка мобильного телефона – никому не нужными и даже неведомыми функциями. От нашего способа общения, способа письма зависит очень многое, если не все:
вот на линованном листе письмо теперь таких не пишут сразу в аську и в скайп с ушами шасть и ну трещать а тут листок буквально из бумаги его с проклятием или мольбой бывало сунешь в щель и долго ждешь прощения или разрыва в кровь…Загрузочная матрица может (могла?) оказаться в любых руках: всеблагого творца, злодея, шутника, профана; могла, наконец, сработать сама собой… Настройки сбиты, пророки легко замещаются невеждами, а зерна – плевелами:
в пустыне я скитался как бревно месил песок без жребия и шанса разверзнув вещий зев но все равно на мой язык никто не покушался я жил бомжом а был в душе боян вполне владея техникой и темой мне голос свыше был вставай болван и что-нибудь давай скорее делай…Не знаю, входят ли в круг чтения Цветкова Пауль Тиллих или Дитрих Бонхеффер, однако в стихах его зримо присутствует суровая подкладка новой протестантской теологии, зиждущейся на парадоксальной аксиоме: представление о божестве в современном мире может исходить только из обезбоженности этого мира, его отдаленности и отделенности от предвечных смыслов. Какие уж тут нерукотворные памятники – современные друзья степей, калмыки и тунгусы, и пальцем не пошевелят, чтобы выполоть сорняки, которыми на глазах зарастают тропы к усыпальницам поэтов.
свезите меня бедного за реченьку вон ту с рублем андрея белого припрятанным во рту …………………..…………….. лежи где табель пробили обратно не пора налево лягут нобели направо букераМожно не помнить, что лауреату премии Андрея Белого вручаются рубль, яблоко и бутылка водки, – главное состоит в том, что никакие почести не способны подчеркнуть значение современного стихотворца, его право на «вакансию поэта». А что же сам Алексей Цветков? Я еще не упомянул о самом важном, хотя и очевидном факте. Алексей Цветков объявился в русской поэзии вторично, после полуторадесятилетнего перерыва, отделившего середину девяностых от почти уже легендарной поры, когда соратниками Цветкова по группе «Московское время» были Б. Кенжеев, А. Сопровский, С. Гандлевский… Новое пришествие Цветкова в русскую поэзию, а вернее говоря – долгий период молчания – подчеркивает его особую позицию в нынешнем поэтическом строю. Поэты «Московского времени» когда-то потратили много усилий, чтобы воскресить ориентированную на русский акмеизм «прекрасную ясность» и пластичность стиха, избежать тотальной иронии и концептуалистской отстраненности. Гандлевский и Кенжеев mutatis mutandis придерживаются тех же стилистических ориентиров. Дважды рожденный поэт Алексей Цветков ныне пришел к читателю совершенно обновленным. Его новый синтаксис, лишенный пунктуации, словно бы разбирает акмеистический пазл, разлагает вещи сразу на атомы, чтобы затем создать новые молекулы, новую, сновидчески нейтральную реальность, плотно входящую в нашу привычную ежедневность. Отсутствие знаков препинания и прописных литер не ведет к верлибру: чем свободнее логические конструкции, тем жестче ритмические схемы, скрепленные регулярной рифмой. Эти новые связность и четкость, проступающие сквозь разрушенные тяжесть и нежность «прошлой» реальности, ярче всего, по-моему, запечатлены в стихотворении Алексея Цветкова «пустяки но память лишняя…»:
вместо бродского и пригова вьется в космосе змея век любимая без выбора наша страшная земляБиблиография
Стихи // Кулиса НГ. 2001, 15 июня.
Дивно молвить. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 280 с.
странник у стрелки ручья… // Знамя. 2004. № 10.
Стихи 2004 года // Освобожденный Улисс: Современная русская поэзия за пределами России / Сост. Д. Кузьмин. М.: НЛО, 2004. С. 950–952.
Бестиарий. Екатеринбург: Евдокия, 2004.
Три стихотворения // Октябрь. 2005. № 1.
Стихи // Знамя. 2005. № 8.
Стихотворения // Новый берег. 2005. № 10.
Стихи // Знамя. 2006. № 1.
Семь стихотворений // Октябрь. 2006. № 1.
По всем Камерунам мира // Интерпоэзия. 2006. № 4.
Четыре стихотворения // Новый мир. 2006. № 4.
Стихи // Звезда. 2006. № 5.
Записки аэронавта // Знамя. 2006. № 6.
Стихи // Воздух. 2006. № 3.
Стихи // Зеркало. 2006. № 27–28.
Шекспир отдыхает: Стихотворения 2004–2005. СПб.: Пушкинский фонд, 2006. 86 с.
Латынь // Знамя. 2007. № 1.
Стихи // Звезда. 2007. № 2.
Новые стихи // Октябрь. 2007. № 2.
Конституция птиц // Крещатик. 2007. № 3.
Имена любви // Знамя. 2007. № 5.
Последняя лампа // Октябрь. 2007. № 11.
Стихотворения // Новый берег. 2007. № 16.
до свиданья добрый клоун… // НЛО. 2007. № 87.
Имена любви. М.: Новое издательство, 2007. 148 с.
Эдем и другое. М.: ОГИ, 2007. 288 с.
Новое: Стихи // Знамя. 2008. № 1.
День благодарения // Интерпоэзия. 2008. № 1.
Тот никто который никогда // Октябрь. 2008. № 1.
Стихи // Звезда. 2008. № 2.
Новые стихи 2008 // Интерпоэзия. 2008. № 4.
8: Стихи // Знамя. 2008. № 8.
Ровный ветер: Стихи 2007 года. М.: Новое издательство, 2008. 136 с.
Ахейская песня // Октябрь. 2009. № 1.
Никакого обратно // Знамя. 2009. № 2.
Сказка на ночь. М.: Новое издательство, 2010.
Детектор смысла. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2010. 136 с. (Книжный проект журнала «Воздух»).
Онтологические напевы. N. Y.: Ailuros Publishing, 2012. 188 с.
Последний континент. Харьков: Фолио, 2012. 475 с. (Граффити).
Записки аэронавта. М.: Время, 2013. 512 с. (Поэтическая библиотека).
salva veritate. N. Y.: Ailuros Publishing, 2013. 136 с.
Юрий Цветков или «Непостижимость того что сотворено»
В поэзии за последние несколько столетий на всех языках перебраны и многократно перевраны абсолютно все стилистические возможности и интонации, полнота реестра допущенных к стихам чувств и античувств безусловно достигнута. В этой ситуации тотальной исчерпанности версий и манер абсолютно любая отдельно взятая манера немедленно модифицируется, варьируется, а следом – мигом начинает противоречить самой себе, а то и обращается в собственную противоположность, Упрямое следование поэтической метафизике, несмотря на ритмические и политические потрясения больше не выдерживает никакой критики, поскольку мелеет и гаснет в присутствии настойчивых авангардных попыток выйти за ее пределы. Верно и обратное – все сверхсмелые попытки вывести стихотворчество за пределы привычной поэзии также воспринимаются скептически – все, дескать, уже было, сама установка на новизну больше никак не может считаться новой. Может, все это и есть знаменитый и уже достаточно давно отступивший в прошлое постмодерн?..
Многие и многие читатели поэзии кожей чувствуют необходимость иной смелости – не решительности экспериментировать, но спокойного дара следовать традиции, однако не слепо, с оглядкой на все происходящее в поэзии в последние десятилетия. Юрий Цветков – один из сравнительно немногих нынешних поэтов, чье предназначение и состоит в подходах к осторожному и – одновременно – дерзкому, немодному обновлению традиционного стиха и, шире, традиционного поэтического мимесиса, принципа подражания реальности, при котором реальность полагается чем-то гораздо большим и значительным, нежели усилие поэта.
Я смеюсь И пью холодный кофе И старое вино Потому что бегу в соревновании столь равном Нет иного пути, чем ночь И противник мой солнца восходЕсли в критическом эссе допустимы осторожные терминологические эксперименты в духе Юрия Цветкова, то я рискнул бы назвать его стихи поэзией non-fiction – и не только потому, что она накрепко сопряжена с его повседневным существованием, не только из-за того, один из разделов в его книге назван «Счастливый Юра Цветков». Здесь не только автор назван своим подлинным именем, но и оставлено в границах привычной реальности соотношение быта и поэзии. И в двадцать первом веке человек, оказывается, может, условно говоря, думать о красе ногтей и в то же время – не забывать истинное значение вроде бы давно скомпрометировавших себя слов: любовь, вдохновение и им подобных.
Я помню: каждый день был как откровение Я помню: любовь – это аура глаз Я помню: друзья – это бесценность Я помню: идеи мешали спать Я помню, я многое помню, я продолжу Вдохновение такое, что после хотелось смерти Музыка – не укладывалось в сознании, как Ночи – лучшее время года Любимые книги – на полках и в головах Я помню, еще я многое помню, я закончу Невозможно было счастливым быть настолько Время мстит нам за эту неосторожность («Я помню»)Почему эта предустановленная гармония мира по-прежнему возможна, всем ли она дана? Нет ли тут каких фундаментальных и модных различий – сословных, «гендерных», моральных? А вдруг зреть совершенство мира дается только мыслителям, отшельникам либо святым, либо «людям из народа» вопреки непатриотичным горожанам, либо, наконец, борцам за соцсправедливость, бунтарям, святым? По Цветкову, всех этих ограничений не существует, есть только один пропуск к наблюдению подлинной стороны вещей – умение понимать и воспринимать подлинное искусство.
Однажды Стендаль стоял перед фресками Джотто В базилике Санта Кроче во Флоренции И всматривался И чем больше он всматривался Тем больше понимал величие автора Непостижимость величия автора Непостижимость того что сотворено Выйдя он едва не упал в обморок В медицинской практике это получило название синдром Стендаля Так вот такое же ощущение как впрочем у многих У меня в юности было перед жизнью Пожалуй больше чем перед произведениями искусства Ее чудо тайна и сила всегда больше Я это физически чувствовал («Синдром Стендаля»)Это стихотворение (по его заголовку назван сборник стихов) для Юрия Цветкова программное, именно так его и квалифицируют все пишущие о его поэзии. Между тем, все здесь обстоит не так просто. Стендаль был утонченным знатоком искусства, его (это легко видеть из книг и статей) увлекало в первую очередь совершенство мастерства, известного ему до последних тонкостей. Это благоговение перед творением художника, конечно, знакомо всякому, кто видел Джотто в флорентийском Санта Кроче, в Ассизи, в капелле Скровеньи в Падуе. Перенос «искусствоведческого» синдрома Стендаля на эмоцию восприятия совершенства жизни, казалось, должен был бы с непреложной логикой содержать религиозную составляющую – например, в духе знаменитого «благоговения перед жизнью» Альберта Швейцера. Но – ничуть не бывало, в «синдроме Цветкова» нет ни малейшей доли трасцендентности. Нет метафизики, нет восхищения техникой художника, актом творения Творца. Что же есть, спрашивается? Что означает эта загадочная формулировка «вот такое же ощущение как впрочем у многих У меня в юности было перед жизнью»? И если это ощущение и вправду дается «многим», в чем тогда особый дар видения нашего поэта – неужели в том, что он способен радоваться простым человеческим радостям?
Мне часто снится сон Я старый Сижу в глубоком вольтеровском кресле А за спиной За спинкой кресла Стоят две взрослые красавицы-дочки И я понимаю, Что я абсолютно счастливый человек,Это и в самом деле чувство, доступное многим и многим, все тут, как в жизни: излишне уточнять – у Юрия Цветкова на самом деле две дочери, все тут «по правде», не понарошку. Неотличимость художника от обычного человека, его глубокое родство со всеми окружающими – все это зримо противоречит «синдрому Стендаля», доступному лишь тонкому знатоку искусство. В цветковском изначальном и важнейшем чувстве причастности к истинам нет места знаточеству – в этом заключается значимое и смыслотворное противоречие его главной декларации термина, давшего название книге.
Каждая смерть приближает твою Так я думал, когда умирали даже малознакомые люди Соседи, с которыми едва здороваешься Или люди, с которыми прожил какую-то часть жизни Или с которыми связана какая-то история Или представление о чем-либо Например, о любви Одна пожилая пара Они любили друг друга очень красиво Даже в старости, я помню …Еще в детстве я задумывался Почему это так Почему становится больно Когда умирают даже малознакомые тебе люди Становится больно Как будто ты теряешь что-то очень дорогое И я понял в чем дело Каждая смерть приближает твоюБиблиография
Замкнутый круг // Октябрь. 2008. № 9.
Счастливый Юра Цветков // Интерпоэзия. 2011. № 2.
2011 // Интерпоэзия. 2014. № 4.
Синдром Стендаля. М.: ОГИ, 2014.
Олег Чухонцев или «Участь! вот она – бок o бок жить и состояться тут…»
Помню холодок от самых первых по-настоящему прочитанных строк Чухонцева, очень давних:
…И уж конечно, буду не ветлою, не бабочкой, не свечкой на ветру, – Землей? – Не буду даже и землею, Но всем, чего здесь нет. Я весь умру…Русский поэт рано или поздно непременно приходит к «горациевским» вопросам, запечатленным в пушкинском и державинском «Памятниках», думает и пишет о той инстанции, которая возникает (или исчезает) в его слове, за его словом, после… О том задумывается, что будет в подлунном мире, где будет жив какой-то иной пиит, а пишущего «эти строки» – уже не будет. С Чухонцевым такая предельная, предполагающая взгляд за грань мира сего задумчивость случилась, как видим, если не в самом начале «творческого пути», то все же в пору издания первых (пусть и сильно отсроченных во времени) сборников «Из трех тетрадей» и «Слуховое окно».
Траектория движения смыслов в лирике Чухонцева этим давним стихотворением задана, на мой взгляд, со всею определенностью. Не по нарастающей, но с убыванием громкости, не по пути усложнения и нюансирования стиля, но – в направлении к неслыханной простоте почти косноязычного немногословия, порою значительного молчания, умалчивания о том, что могло бы многим показаться «актуальным», «злободневным», ходким, гарантирующим широкую известность.
Чухонцев – поэт возвращения, мыслитель, всю жизнь думающий несколько первоначальных мыслей, не повторяясь и не полагая эти мысли в новые контексты. Скорее наоборот, заветное и важнейшее в стихотворениях Чухонцева с течением времени очищается от всего необязательного, служебного, факультативного. Это очищение стиля и формы сопутствует и очищению духа, порою зашкаливает за грань рационального, опускается ниже порога привычного интеллектуально-интеллигентского восприятия, граничит в последние годы с интонациями юродивого мычащего всезнания:
А березова кукушечка зимой не куковат. Стал я на ухо, наверно, и на память глуховат. Ничего опричь молитвы и не помню, окромя: Мати Божия, заступница в скорбех, помилуй мя. В школу шел, вальки стучали на реке, и в лад валькам я сапожками подкованными тукал по мосткам. Инвалид на чем-то струнном тренькал-бренькал у реки, все хотел попасть в мелодию, да, видно, не с руки, потому что жизнь копейка, да и та коту под зад, потому что с самолета пересел на самокат. («Кукушка»)Вот она, додуманная мысль, начатая в давнем и поразившем меня стихотворении: как поэт я «весь умру», потому необходимо мыслить и страдать именно здесь, провидческий дар заключается не в прозревании вечного сквозь повседневное и преходящее, а вовсе даже наоборот – в дерзком преодолении интеллектуального и запредельного, в сбрасывании демонстративно метафизического, в отшелушивании возвышенного и нерукотворного, как в той же «Кукушке»:
Участь! вот она – бок о бок жить и состояться тут. Нас потом поодиночке всех в березнячок свезут, и кукушка прокукует и в глухой умолкнет час… Мати Божия, Заступница, в скорбех помилуй нас.Возвратиться к первоначальной, примитивной (в высоком, как у Пиросмани и Анри Руссо, смысле) простоте означает не только помыкивание юродивого: поэт готов впасть в глоссолалию подневольного пророческого говорения-бормотания на незнакомых языках, сравняться голосом с щебетом птиц, как в стихотворении, давшем название замечательной книге («Фифиа», 2003):
Не исчезай! – еще и гнезд не свили малиновки, и радость не остыла. А если в путь – пропой на суахили: – Фифиа!..Возвращение к истокам имеет в лирике Чухонцева последних лет не только смысловой, семантический вектор, но и пространственный. Всегда подчеркивавший свое происхождение из подмосковного Павловского Посада, поэт с течением времени все более стремится в стихах за пределы мегаполиса, к тем первоначальным картинам, которые хранит детская память. Это ведь так знакомо каждому: с годами мы начинаем быть ответственными за свою детскую память, воскрешенную взрослым сознанием. Как располагались предметы в комнатах нашего детства, что там вообще было – трюмо? фаянсовые слоники? огромная тахта? Набоковская (вернее, годуново-чердынцевская) внимательность к этим незамысловатым картинкам настолько понятна, что не требует дополнительных разъяснений. «Мяч закатился мой под нянин / Комод, на полу свеча…» – пишет поэт Годунов-Чердынцев в набоковском «Даре» и вдруг понимает, что эта сцена живет отныне только в его памяти, ее больше никто не может помнить, как никто не сохранил воспоминания о мебели в ныне несуществующей детской, о виде из детского окна…
Сокровенное видение поэта у зрелого Чухонцева заключается именно в этих наплывах памяти о том, что живет только в тебе, а вовсе не в прорывах к великим истинам.
Я из темной провинции странник, из холопского званья перехожий, и куда мне, хожалому, податься? А куда глаза глядят, восвояси…Dahin, dahin! – туда-туда, в небеззаботное детство, к кристально-прозрачному младенческому зрению, видевшему мир не ухоженный и гладкий, но гудящий и полубезумный, изобиловавший горем, страхом, сломленными, исковерканными судьбами. И все это изложено словно бы с полным презрением к «плану выражения», к форме: Чухонцев не отстаивает классические ритмы и рифмы, он словно бы их не замечает, весь захваченный непреодолимо нахлынувшими сценами, что давно лежат в копилке памяти:
– Кыё! Кыё! По колена стоя в воде, не выпуская тачки, он мочится в реку. Возле моста, напротив трубы, извергающей пену и мыльную воду бань, напротив заброшенного погоста и еще не взорванной церкви на том берегу, он стоит в воде и мочится в реку. Зачем человек явился? («– Кыё! Кыё…»)Это стихотворение – для Чухонцева 2000-х – абсолютное по своей значительности. В мире наблюдаются участки неосмысленности. И именно они наиболее важны, именно к ним привлечено внимание поэта. Нет, не так, и даже совсем наоборот – наиболее ценной разновидностью внимания, внимательности, по Чухонцеву, является внимание непоэтическое, взгляд обычного человека. Как же мы привыкли с первого звука распознавать графоманию, всегда сводящуюся в псевдостихах к перетиранию банальнейших, не расцвеченных блестками вдохновения эмоций! Ну там – десятиклассника Васю покинула любимая Галя; сельчанин Петр Иваныч любуется первыми всходами в колхозном поле и пр. Замыленный вековой поэтической культурой глаз не видит за банальными проявлениями чувств обычного человека глубокой правды. Ведь в основе своей страдание Васи, потерявшего Галю, столь же искренне и глубоко, как и сложнейшая эмоция человека, когда-то утратившего свой гений чистой красоты и вновь обретшего сей гений благодаря чудному мгновенью!
А лишила муза разума – ничего не говори, справа ли налево сказано, вспять ли писано – смотри…Нет банальности, нет графомании! Напротив того, под сомнение у Чухонцева нынешней поры всегда ставится как раз очищенная от видимой банальности профессионально-поэтическая эмоция, отстраняющая прочь восприятие обычного человека. Чтобы превратить свое, личное и непосредственное – в интересное иным читателям, ценителям, необходимо очистить, освободить эмоцию от спонтанности, отстранить от себя, облечь в рамки условности. При этом исчезает не только банальнось, но и до-поэтическая, непрофессиональная искренность. Пастернаковский Юрий Андреевич Живаго с течением жизни все более сливается с толпою простонародья, перестает писать стихи и бесславно гибнет в трамвае. Его почти толстовское опрощение идет обратным ходом, от полетов мысли и духа университетской поры к упрощенным заботам супруга дочери дворника Маркела. Если бы «поздний» Живаго (уже не доктор и не поэт) сохранил тягу и способность к стихам, он создал бы что-нибудь подобное пронзительным стихам Олега Чухонцева последних лет:
Приходила нечасто и, сев на сундук, молчала, и не в гости, а так, проведать, и я не знал, как с ней себя вести: безответней, тише я не встречал, наверное, никого. Мужа ее, мальчишку, белого офицера, после гражданской, помаяв годок-другой, взяли по разнарядке и расстреляли. Даша узнала и рухнула где была. Нашла бельевую веревку и, не сказав ни слова, не оставив записки, пошла ослепшая в лес и долго ходила там, ходила, ходила, сук не могла найти, и когда она, не разбирая ни дня, ни местности, вышла из леса, вышла уже другой… – Даша, попьем чайку? Даша с трудом отзывается: – Спасибо, Нюра, – и продолжает сидеть на сундуке в углу, где мама обычно спит…Чухонцев нынешний – словно бы забыл о горациевских проклятых вопросах, одержим и захвачен простейшим:
Термопара сгорела в котле 23-м, и надо менять, а что мир пребывает во зле, мне на это уже наплевать.Чухонцев немногословен, молчалив, демонстративно отстранен от поэтических групп и поисков новых поэтик. Он не создал собственных узнаваемых ритмов, подобных, скажем, незабываемым логаэдам Бродского. Нечасто выступает с чтением стихов. Сторонится софитов и микрофонов. Тяготеет к эпичности, почти к балладности, – так это ведь тоже не эксклюзив: многие современные поэты предпочитают пространные, сюжетно насыщенные, открытые формы и жанры. Что он такого придумал своего, того, что обосновывает его непререкаемую влиятельность и авторитетность? Ответ незатруднителен. Чухонцев придумал обратный ход к неслыханной простоте опрощения, которое не паче гордости. Он настаивает на необходимости экономии самовыражения, неизысканного лаконизма, точности, бьющей в цель поверх всех стилевых конвенций и злободневных ожиданий профессиональных и нетренированных читателей и почитателей поэзии:
Короче, еще короче! четыре, ну восемь строк от силы, и если точен навылет и поперек…Чухонцев – поэт, в присутствии которого меняется геометрия современного лирического высказывания, искривляются в силовом поле культурных контекстов привычные траектории чтения и понимания стихов. Так в эйнштейновой теории параметры реальности зависят от системы отсчета, линейные размеры тел изменяются, если они с околосветовой скоростью летят мимо взгляда покоящегося наблюдателя. Кто-то меняет контуры вещей буквально – с рубанком или компьютером в руках. Иные порождают метаморфозы предметов и событий самим своим присутствием, – помните умонесовершенную дочь Сталкера, взглядом передвигающую стакан в финале фильма Андрея Тарковского? Да, Чухонцев не создал собственной поэтики, но его негромкий отказ от разработанной и патентовано-оригинальной манеры письма – поэтик многих тяжелей.
Вечный запах стираного белья, это сохнет бедная плоть твоя, пропитавшая пoтом уток с основой, выжми эту жилу, конца ей нет, разверни края и начни по новой. Выжми эту жилу, проверь на свет, где не бош, а босх развернул сюжет и распял его на кривой веревке для слепых, ковыряющих пальцем ноль, как саму материю тратит моль вроде звездной татуировки…Это сопряжение низких истин быта и возвышающего обмана смысла дорогого стоит. Читая стихи Чухонцева последних лет, о былых метафизических его горациевских вопрошаниях не сразу и вспомнишь. А может, и вспоминать-то не нужно?..
Библиография
После лирики, после эпоса // Арион. 2001. № 2.
Фифиа // Новый мир. 2001. № 11.
– Кыё! Кыё! По колена стоя в воде… // Знамя. 2002. № 5.
Стихотворения // Арион. 2003. № 1.
Меликой и вокабулами // Знамя. 2003. № 4.
По мосткам, по белым доскам // Новый мир. 2003. № 4.
Фифиа. СПб.: Пушкинский фонд, 2003. 46 с.
Из сих пределов. М.: ОГИ, 2005. 320 с.
Три стихотворения // Знамя. 2006. № 3.
Ещё элегия // Знамя. 2007. № 9.
Стихотворения // Арион. 2008. № 2.
Однофамилец. М.: Время, 2008. 128 с. (Поэтическая библиотека).
К небывшему // Знамя. 2010. № 1.
Стихотворение // Арион. 2010. № 3.
Из книги перемен // Иерусалимский журнал. 2010. № 33.
Общее фото // Знамя. 2012. № 10.
голоса // Арион. 2013. № 4.
Стихи // Дружба народов. 2014. № 1.
Розанов прав // Знамя. 2015. № 1.
Елена Шварц или «Мы живем на горячей земле…»
В лирике Елены Шварц мир увиден и представлен читателю словно бы через увеличительное стекло. Предметы и эмоции укрупнены, усилены, броско раскрашены, остаются самими собою, их «увеличение» происходит помимо символизации либо условного обобщения. Море остается морем, не превращаясь в «свободную стихию», стог сена не утрачивает хрусткую и колкую мягкость, не оборачивается перифразом библейских сюжетов, связанных с волами и яслями. Подобная «телескопическая» оптика у Шварц может принимать разные модификации, в зависимости от масштаба увеличения, от фокуса наведения. Вспомним полузабытое: чтение мелкой и неразборчивой скорописи через увеличительное стекло. Можно выхватить из строки одну-две литеры, но тогда все слово целиком будет уже не прочесть, его очертания расплывутся, словно контуры предметов в кривом зеркале из комнаты смеха. Телескоп выполняет функции микроскопа, будучи наведенным не на отдаленное и вообще не различимое глазом, но – на близкое и обыденное. Микроскоп в этой ситуации давал бы картинку отдельных тканей, клеток, молекул, телескоп сохраняет целостность объекта, приближая – не подвергает зримое аналитическому расщеплению.
Над ядром земным, обжигая пятки, пробегать, Рассыпаясь в прах, над морями скользить, Солью звезд зрачки натирать И в клубочек мотать жизни нить.Эта вселенская картина в стихотворении («Времяпровождение № 3») завершается земной и конкретной мизансценой:
Вот собака бродячая, как несчастье, Я не Бог – я жалею собак.Предметы, понятия, явления, эмоции здесь не превращаются в отвлеченные символические конструкции, но остаются собою, однако многократно усиливают свое последействие в мире, где буквально все усилено, напряжено до предельного накала. Здесь любая искра превращается в молнию, как правильно замечено в одной из содержательных статей о лирике Елены Шварц. В одном из стихотворений-манифестов Шварц речь идет о простом говорении, ежеминутном речетворчестве, увиденном в перспективе абсолютного языка, слова, пребывшего в начале времен:
В кожу въелся он, и в поры, Будто уголь, он проник, И во все-то разговоры – Русский траченый язык. Просится душа из тела, Ближе ангельская речь. Напоследок что с ним сделать – Укусить, смолоть, поджечь?«Библейская» серьезность тона преобразует контуры реальности, состоящей будто бы прямо и непосредственно из первообразных стихий, из которых особенно важен для Шварц огонь во всех его ипостасях – от уничтожения до преображения вещей.
Саламандра нежится в огне, Дымом дышит, Пьет золу. Жарко ей и больно ей в воде, В воздухе ей душно – На земле ей скучно. Ты одна – насельница огня, Ты живешь и в сердце у меня… («Саламандра»)Лишь изредка суть ключевых событий прямо названа по имени, непосредственно связана с преображающим пламенем первотворения и воскресения. Тем важнее эти прямые реплики выделить и услышать:
Когда во Гроб нисходит Огонь святой, текучий… («Пасхальный огонь»)Поэзия Шварц – вся, целиком всерьез, ирония и самоирония здесь если и присутствуют, то скрыто и неявно, не будучи обращены на конкретные события и лица. Почему так? Думается, оттого, что в стихах господствует избыток зрения, излишек осведомленности, что порою обессиливает речетворца, лишает его возможности не только открывать новые горизонты в слове, но и вообще произносить слова, высказывать мнения. Вспоминается одна из парадоксальных сентенций Подпольного человека у Достоевского: «Я поминутно сознавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы». Какой из элементов отпустить на волю, облечь в слово и поступок? Что ни реши – все будет недостаточным и неполным, поскольку прочие «элементы» останутся втуне. Ни в коем случае не стоит напрямую сопоставлять больное подпольное сознание героя Достоевского с взглядом на мир, зафиксированным в поэзии Шварц. Однако сугубая серьезность и наличие избыточных познавательных и изобразительных возможностей всерьез затрудняют высказывание:
Когда я в бездну жизни собственной гляжу – Чего я только там ни нахожу – Как бы в разверзшейся воронке под ногами – Что было так давно, что было с нами…В книге «Вино седьмого года» эта интонация высокой растерянности и неуверенности достигает порою трагического накала, мотив смерти становится едва ли не самым частым, повторяемым почти назойливо:
Мы ничего уже не значим, Нас как песок ссыпают в смерть. («Ламентация. На таиландское цунами»)Важно подчеркнуть, что речь в большинстве случаев идет не о смерти человека, но о смерти автора, смерти высказывания, проистекающей из чрезмерных выразительных возможностей поэтического зренья. Старение слов, увядание нот – одна из магистральных тем в стихах Шварц последнего времени, именно это стопорящее смысл движение воспринимается поэтом как нечто подобное толстовскому «арзамасскому ужасу», как факт присутствия смерти в повседневной реальности.
Неделю вот уже вокруг меня Смерть прыгала и ласково смеялась… («Драка на ножах»)Боренье со смертью напоминает ночную борьбу Иакова, оборачивается исконной для подлинного поэта молитвой о сохранении речи:
Свечи трепещут, свечи горят, Сами молитву мою говорят. То, что не вымолвит в сумерках мозг, Выплачет тусклый тающий воск. Зря ль фитилек кажет черный язык, Он переводит на ангел-язык. Что человек говорить не привык – Скажет он лучше, вышепчет сам, В луковке света мечась к небесам. («Зажигая свечу»)Движение смыслов в рамках универсальной смысловой ситуации в лирике Шварц (с поправкой на неизбежный схематизм подобных конструкций) я бы рискнул описать так.
Шаг первый. Ситуация здешнего бытия (можно было бы сказать более прямо, хоть и более витиевато: здесь-бытия) изначально трагична, в том числе из-за избытка творческих сил, несводимых к жизненной прозе.
Шаг второй. Значит, необходимо сосредоточиться и приблизить усилие, способное преодолеть контуры привычного и конечного существования:
Посыльных можно в смерть послать Вперед – с пожаром, наводненьем…Шаг третий. Однако в преображенном идеальном бытии избыток сил и зренья также станет абсолютным, поэт окажется, по словам Шварц, в «преддверье безвещного рая» (буквальная цитата содержит трудную инверсию: «Пока о жизни не забудет // Безвещного в преддверье рая»).
Мне моя отдельность надоела. Раствориться б шипучей таблеткой в воде! Бросить нелепо-двуногое тело, Быть везде и нигде.Шаг четвертый. На этом фоне открывающейся мысленному взору развоплощенной, «безвещной» вечности более предпочтительным представляется все же то самое здесь-бытие, с которого все и начиналось. Только доминирующей теперь уже (с учетом осведомленности о бестелесности абсолютного бытия) окажется эмоция самоотречения, «воспитания чувств», снижения градуса самовыражения:
Для нежности больной звериной, Для поступи ее тигриной Нет смерти, старости, стыда. Заклеить сердце бы как обруч, Пускай не прыгает туда…Елена Шварц – один из немногих современных поэтов, несмотря на все известные «превратности метода» в лирике последних десятилетий, продолжающих думать стихами, точнее говоря – стихотворениями. Разнообразные по тональности тексты Шварц выстраиваются в единый массив смыслов, содержащих несколько универсальных векторов порождения новых высказываний о мире. И в этом ясно видится гарантия подлинности и серьезности ее поэтического голоса.
Библиография
При черной свече // Новый мир. 2000. № 7.
Стихи // Звезда. 2000. № 8.
Дикопись последнего времени. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. 88 с. (Автограф).
Из книги «Дикопись последнего времени» // Звезда. 2001. № 1.
Non dolet // Знамя. 2001. № 8.
Сочинения: в 2 т. СПб.: Пушкинский фонд, 2002.
Стихи // Звезда. 2002. № 6.
Из книги «Трость скорописца» // Звезда. 2003. № 12.
Кольцо Диоскуров // Знамя. 2003. № 6.
Невы пустые рукава // Новый мир. 2003. № 5.
Стихи этого года // Звезда. 2004. № 8.
Трость скорописца. СПб.: Пушкинский фонд, 2004. 104 c.
Сочельник на Авентине // Новый мир. 2005. № 7.
Китайская игрушка // Знамя. 2006. № 6.
Смотрю на горящий собор // Критическая масса. 2006. № 3.
Вино седьмого года. СПб.: Пушкинский фонд, 2007. 64 с.
Перелетная птица. СПб.: Пушкинский фонд, 2011. 56 с.
Аркадий Штыпель или «Дыханью моему пока хватает воздуху…»
Стихи Штыпеля повествовательны, сюжетны, в этом их слабость и сила. Стихотворения-рассказы заведомо понятны, доходчивы, эффектны, пригодны для устного чтения. Но рассказанная история неизбежно начинает преобладать над непосредственностью переживания, поэтому так привлекательны сравнительно нечастые для Штыпеля исключения, когда повествование отступает вглубь и обнажает эмоцию. Вот одно из таких исключений, в своей нетипичности весьма характерное:
Осенняя любовь двоих осенних людей, их страхи, униженья… Какой-то сквознячок прохватывает, в семьях расшатывает отношенья; какой-то ужас высыпает в сенях полузимы; всем жаждется прощенья; осенняя, двоих людей осенних любовь, уже на грани отвращенья.Большинство стихотворений Штыпеля тяготеют к своеобразной «научности»: позволено ли произнести одно слово, когда рядом существуют сотни других, вбирающих иные выразительные возможности? Да ведь и с любым мнением, чувством неизбежно соседствует другое, пусть не противоположное, но, по крайней мере, существенно модифицирующее первое. «Сплошь забитое пространство» – одна из лучших формулировок, описывающих важнейшую для Штыпеля предпосылку любой возможной поэзии и поэтики:
пространство сплошь забито силами не тяготенья, так утаиванья что на воде писалось вилами глядишь объявится вытаивая…При таком подходе стихотворение нередко обращается в перечисление возможностей своего рождения, причем перечислительная интонация перевешивает в своей значительности самый объект перечисления, набор подразумеваемых жизненных ситуаций. Уже в одной из первых заметных публикаций (перестроечный поэтический альманах «Граждане ночи») отмеченная особенность поэтики присутствует ясно и зримо.
внесут в известный каталог и душу выломают ловко как бы блестящим инструментом стоматолога душистый розовый комок или шевро с холеными подковами под ребра или промеж ног чтоб вышел масляным и шелковым или воздушным как пирог…Подобная «инструментализация» творческого акта, восходящая, конечно, к пушкинскому пророку, вбирает в себя, разумеется, и иные поэтические открытия, актуальные в восьмидесятые годы, – прежде всего многажды описанный метаметафоризм Ивана Жданова, предполагающий описание и метафорическое освоение не жизни как таковой, но реальности «второго порядка», то есть жизни, уже однажды зафиксированной в слове. На выходе получается что-то вроде шиллеровской «поэзии поэзии», противостоящей «поэзии жизни». В этом безвоздушном пространстве слов и знаков препинания поэт испытывает, конечно, и простые ощущения, и бурные страсти, но они имеют чаще всего отвлеченный, кастовый, «профессиональный» характер.
Все уничтожимо. У – ничтожаемо. Без роздыху. Дыханью моему пока хватает воздуху. В паленом воздухе пока хватает кислороду, и проплывают облака, лия апрельскую погоду.Повторюсь: этим эмоциям невозможно сочувствовать напрямую, оставаясь внутри своей обычной, непоэтической жизни, можно только отстраненно наблюдать, как в стихах
невнятно погромыхивает звук в зеленоватой оболочке смысла в сухой истонченной кожуреПроисходящее геометрически перпендикулярно жизненному переживанию и сопереживанию, однако – и в этом основной парадокс лирики Штыпеля! – стихотворение в большинстве случаев не сводится к демонстрации поэтического мастерства, содержит демонстративно значительную долю лексического просторечия, одним словом, всячески приближается к читателю, несмотря на видимый герметизм.
Последняя книга Штыпеля неспроста носит название «Стихи для голоса». Описанный выше парадокс герметизма и простоты наиболее ярко выражается в том, что Аркадий Штыпель – один из признанных мастеров устного чтения. Он готов привлечь внимание зрителей не близостью описанных в стихах событий к их собственной («зрительской») жизни, не блестящими остротами, не иронией-пародией, но чем-то вовсе не привычным: умением вовлекать в рассказ достаточно отвлеченные приметы напряженных поисков поэтического слова. При этом стихотворение содержит не результат творческого усилия, но сам процесс нанизывания словес и литер, зачастую заканчивающийся прямо декларированным крахом:
железнодорожные аттракционы заоконный замедленный контрданс толстым морозом зарастают вагоны на пятые сутки впадаешь в транс пролетая стеклянным транссибом позвенишь ложечкой и горя нет персонажи свободны всем спасибо я не умею скроить сюжетПорою может показаться, что говорящему с читателем стихотворцу вообще все равно, о чем писать, что он попросту упоен собственным даром:
художник пишет бурку, кобуру и бабочку в крови и крепдешине, замерзшую на черном дерматине, где снедь разнежена и рюмочка в углу; он обживает шкурку, кожуру, щетиной прилипая к сердцевине…Диапазон лирических возможностей в лирике Штыпеля демонстративно сужен, он говорит от имени человека, легко играющего в стихи, он существует, словно бы «балуясь рифмой, как дневной любовью…». Однако у этой манеры есть истоки и корни, на нее существует спрос, поскольку она укоренена в глубокой повседневной потребности многих современных читателей, берущих в руки стихи: проникнуть в смысл поэзии, помимо заклинаний о поэте-пророке и творце, в перспективе приобщения к секретам ремесла поэта-мастера.
Библиография
Стихотворения // Арион. 2001. № 4.
В гостях у Эвклида. М.: Арион, 2002. 96 с. (Голоса).
Стихи // Крещатик. 2002. Вып. 15.
Тогда когда // Авторник: Альманах литературного клуба. 2002. Вып. 3(7). С. 34–38.
Стихотворения // Арион. 2003. № 3.
Пять фрагментов. Типа хокку // Авторник: Альманах литературного клуба. 2003. Вып. 1(9). С. 45–47.
Стихотворения // Арион, 2005. № 2.
Стихотворения // Арион, 2007. № 1.
Стихи для голоса: Вторая книга. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2007. 104 с.
В зеленоватой оболочке смысла // Новый мир. 2009. № 1.
На уровне дыхания. СПб.: Алетейя, 2009. 184 с.
Вот слова. М.: Русский Гулливер, 2011. 124 с.
Глеб Шульпяков или «Я просто не знаю, с чего мне начать…»
Есть поэты (я поминал об этом в прошлом выпуске рубрики), для понимания которых необходима проба собранием сочинений. Именно в пределах единого обширного свода «избранной лирики разных лет» более очевидным становится масштаб дара, диапазон тематики, «голосовые данные»: нередко оказывается, что вместо полнозвучных октав автор использует всего несколько несложных аккордов.
Глеб Шульпяков – поэт ровный, многие годы регулярно публикующий стихи, в общем-то свободные от крупных срывов, сбоев звучания, стилистических диссонансов. Хотя надо признаться, что иногда закрадывается сомнение и пожелание весьма парадоксальное: уж лучше бы эти сбои имели место, тогда налицо были бы «поиски слога», «развитие» и т. д. Собрания сочинений Шульпякова пока не издано, впрочем по некоторым данным можно думать, что оно не за горами – хотя бы в виде традиционного «Избранного». Это можно предположить с учетом очевидно высокой степени продуманности, последовательности авторской публикационной стратегии. Мне, например, трудно с ходу припомнить иной пример последовательной установки на дублирование публикации одних и тех же стихотворений в разных периодических изданиях.
Лирика Шульпякова стабильно профессиональна, есть несколько тем и приемов, которые опознаются как «фирменные», шульпяковские. Однако каждый такой прием зачастую легко оборачивается своею противоположностью. Например, повествовательность, сюжетность: стихотворение Шульпякова очень часто содержит четко зафиксированную последовательность событий, обрамленных диалогом между двумя собеседниками:
«Послушайте, вы верите в приметы?» – «Я верю, но не слишком понимаю…»И все же при чтении подряд большого количества стихотворений выясняется, что подобные разговоры слишком уж часто происходят между одними и теми же собеседниками. Это могут быть два лица мужского пола (случайно либо намеренно встретившиеся, обсуждающие проблему добывания горячительного или перспективу какого-нибудь приключения) либо «лица противоположных полов» (и тут возможна как случайная, так и запланированная встреча с более или менее далеко идущими последствиями).
Повествовательность у Шульпякова нередко дорастает до большой стихотворной формы: он питает пристрастие к жанру поэмы, в наше время почти исключительное. Однако поэма порою выглядит как несколько затянутое и для оживляжа оснащенное нехитрой интригой обычное «шульпяковское» стихотворение. Так, поэма «Тамань», недвусмысленно намекающая на освященную классической позолотой лермонтовскую повесть, на практике оказывается не более чем историей о дорожном приключении героя, не к добру повстречавшего в поезде «Брест – Варшава» привлекательную девицу-«челночницу», поначалу пообещавшую вагонные «радости рая», но в итоге коварно скрывшуюся с чужим чемоданом.
Сильная сторона Шульпякова – пристальное внимание к деталям:
На старом кладбище в Коломенском, где борщевик в ограды ломится…В самом деле – многие ли горожане нынче отличат борщевик от зверобоя? Или вот еще:
какой-нибудь полузабытый мотив на старом базаре, и сердце разбито, а в небе качается белый налив и тянется вдоль переулка ракита какой-нибудь малознакомый квартал, где снежную бабу катали из глины я знаю! там желудь за шкафом лежал, а мимо несли бельевые корзины…И снова те же разочарования: зоркость и внимательность, как правило, не развивают темы, детальные описания оказываются вписанными в одну и ту же ностальгическую и интонацию – «я помню, как это было» и… и все тут.
Запоминаются шульпяковские картинки Москвы, скажем, такая:
низко стоят над москвой облака сквозь облака ледяного валька стук раздается в сырой темноте всадники с гнездами на бороде едут по улицам свищут в рожок и покрывается пленкой зрачок птичьим пером обрастает рука в белом зрачке облака облакаНо и в данном случае тот же узкий круг тем и приемов, без открытий, без необходимого для каждого стихотворения момента, когда, по выражению одного современного поэта, обязательный мороз по коже встряхивает читателя, возвращает его к восприятию поэзии как тайны. Вот один из примеров, когда в одном тексте сходятся несколько из выше отмеченных достоинств-недостатков: наличие прямого диалога, меткость детализации, ностальгия, московские зарисовки:
Окликни меня у Никитских ворот и лишний билетик спроси по привычке. «А помнишь, в “Оладьях” – вишневый компот и как на домах поменяли таблички?»Да, я тоже помню «Оладьи», а еще, допустим, пельменную и прачечную на метро «Аэропорт», и что ж?..
Жанровый диапазон публикаций Глеба Шульпякова с годами становится все более разнообразным: кроме оригинальных стихотворений и поэм, еще переводы, романная проза, эссе и, конечно, путевые очерки. Шульпяков – литератор-путешественник, его зарисовки дальних стран в прозаическом изводе часто весьма привлекательны и мастеровиты. Так же обильно присутствуют описания чужих земель и в стихах, однако здесь они порою выглядят избыточными, иногда непонятно, что именно добавляет лирическая форма картинам Тбилиси, Болоньи или Ташкента. Конечно, реальный опыт путешественника сказывается – в стихах масса зорко выхваченных деталей. Возьмем, скажем, стихотворение «Болонья»:
Мой детский сон, в котором так темно и старый шкаф стоит впритык с буфетом, я вижу вновь на черных галереях, где пахнет морем каждый мокрый камень. Болонья! что за сны в твоем комоде…Требуется перевод с болонского на русский? Думаю, да: всякому, кто был в этом городе, запомнились не только две знаменитые не по-пизански «падающие» башни, но и две характерные архитектурные особенности. Во-первых, широкие стены-галереи, по которым можно передвигаться почти как по Великой китайской стене, на протяжении многих километров не спускаясь на грешную землю. Во-вторых, характерные надстройки второго и более высоких этажей зданий, вызванные извечной дороговизной городского пространства. Это надстройки, нависающие над улицами, выступающие вперед за их красную линию навесы-веранды, почти застящие небо над «проезжей частью». Ну вот эта-то болонская теснота возрождает детские сны, где «шкаф впритык с буфетом». Кстати говоря, возможность передать содержание «своими словами» в данном случае не уникальна. Не только поэмы (это им положено по статусу), но и лирические стихотворения легко поддаются пересказу, а еще точнее – сами являются рифмованным дневником, пересказом вполне живых и искренних, но довольно-таки однообразных повседневных впечатлений от встреч, разговоров с различными собеседниками в городе или (очень часто!) в пригороде, на даче.
Самое, может быть, сильное из опубликованных Глебом Шульпяковым в последние годы стихотворений весьма симптоматично:
человек на экране снимает пальто и бинты на лице, под которыми то, что незримо для глаза и разумом не, и становится частью пейзажа в окне – я похож на него, я такой же, как он, и моя пустота с миллиона сторон проницаема той, что не терпит во мне пустоты – как вода, – заполняя во тьме эти поры и трещины, их сухостой, и под кожей бежит, и становится мной.Здесь, конечно, имеется в виду вовсе не пустота натуры: «моя пустота» означает всеприемлемость, абсолютную открытость человека всем впечатлениям – почти без разбора и порядка. Наблюдатель – регистратор, путешественник – коллекционер впечатлений, такой свидетель событий попросту не замечает, стихами он говорит и думает либо прозой, даже порой не осознает, что переходит со стихов на прозу и обратно. Иногда создается впечатление, что ему попросту все равно, о чем говорить:
Я о том же, я просто не знаю, с чего мне начать, Вот и медлю, как школьник, оставшийся после уроков: «Буря мглою…» «Мой дядя…»… А дома тарелка борща С ободком золотистого жира и веткой укропа.Возможность в лирике сразу всего оборачивается ничем или почти ничем: узостью чувств и повторением ситуаций. Именно поэтому стихи Глеба Шульпякова не всегда соответствуют гамбургскому счету большой поэтической книги и гораздо более естественно читать их небольшими подборками.
Библиография
Арион. 2000. № 3.
Грановского, 4: Поэма // Новая Юность. 2000. № 5(44).
Стихи // Арион. 2001. № 3.
Тбилисури: Поэма // Новая Юность. 2001. № 4(49).
Щелчок. М.: Независимая газета, 2001.
Стихи // Арион. 2002. № 4.
10/30. Стихи тридцатилетних: Антология. М.: МК-Периодика, 2003.
Стихи // Арион. 2003. № 4.
Запах вишни // Дружба народов. 2003. № 7.
Кабы не строчка // Арион. 2004. № 4.
Стихи // Арион. 2005. № 4.
Под Рождество на Чистопрудном // Интерпоэзия. 2005. № 2.
Стихи // Арион. 2006. № 3.
Желудь. М.: Время, 2007.
Из цикла «Желудь» // Интерпоэзия. 2007. № 1.
Черный ящик // Арион. 2007. № 4.
Вестник Европы. 2008. № 22.
Письма Якубу. М.: Время, 2012. 80 с. (Поэтическая библиотека).
Татьяна Щербина или «Где будущего коготки…»
Татьяна Щербина в последние годы публикует стихов сравнительно немного, и этот своеобразный лаконизм оттеняют два важных фактора. С одной стороны, иначе распределена ее творческая активность, значительное количество сил отдается прозе (включая эссе), журналистике, драматургии, различным видам сетевой литературной работы. При всем том популярность Т. Щербины именно в качестве поэта вышла за рамки сравнительно узкой аудитории читателей, знакомых с ее неподцензурной – в самиздатской и эмигрантской периодике – поэзией.
Вернувшись в середине 1990-х годов в Россию после нескольких лет отсутствия, Щербина застает свою страну сильно изменившейся, впрочем, столь же значительно изменилась и ее собственная поэтическая манера. Стихотворения в недавней книге «Побег смысла» (2008) выстроены в строго хронологической последовательности, с указанием всех дат, что в поэтических сборниках бывает далеко не всегда. Перед нами – живая история развития поэтики на фоне истории страны, вернее, двух стран, в которых довелось жить сознательной жизнью всем, кто помнит переломное время начала 1990-х.
В 1984 году Щербина пишет знаменательные строки:
Испытываю иллюзию любви, искусственно удовлетворяя естественную потребность в социальной активности.Подобная связанность, согласованность личного и социального, лирической эмоции и социальной активности – вещь характерная, легко объяснимая, поскольку в последнее десятилетие перед распадом страны и европейской соцсистемы личное нередко и было непосредственно социальным. Точно так же, как в перестроечные годы, это очевидное тождество оформилось в знаменитое цоевское «ожидание перемен»: эпиграф из песни Виктора Цоя предпослан стихотворению Т. Щербины 1988 года, в котором есть двустишие:
это кровавые полосы кода: СССР – Трагедистан…Именно время, точнее – протекание личного и исторического времени – во всех разнообразных ипостасях (ожидание, память, динамика современности) постепенно становится главным героем лирики Т. Щербины. Причем перемены – чем далее, тем более – маркируются совершенно иначе, не являются синонимом заинтересованного счастья и желательного хода развития событий. Перемена вполне может быть не причиной, но следствием появления некой эмоции, зачастую не слишком позитивной:
Говорят, если гложет тоска, измени дом, страну, гардероб и прическу… (1995)Перемены больше не вызваны непреодолимым воздействием внешних событий, их можно спровоцировать вполне самостоятельно и осознанно, чтобы противостоять застыванию, застою. Впрочем, дело не только в произвольности и вторичности динамики эмоций и поступков. К началу нового столетия получается так, что
Переезды с места на место закрыли поле Откровений земель неведанных, даже слезы ничего не выразят более, кроме боли.Подчеркнуто неточная, ослабленная рифмовка, порою почти неощутимая, отсылающая к формам свободного стиха («замылен – привили») в этом стихотворении (как и в других текстах Татьяны Щербины) фиксирует не просто отсутствие тех самых перемен, о которых когда-то пел Цой, у Щербины – «Зигфрид из ПТУ», поющий «в микрофон, как в цветок». Перемены происходят, но не предвосхищаются радостно и трагически, вернее, не ожидаются вовсе, не сопрягаются с каким бы то ни было живым чувством, будь то вдохновенный пафос свободы, причастности к понятой в духе зрелого Блока «жизни без начала и конца», либо трагическое ощущение расставания и расплаты.
Где будущего коготки? Царапины на улицах, как шпили, как стрелки, ход чертили. Где манки, что брали нас в пленительные скобки?..Это стихотворение написано в 2000 году, как раз в то время, когда в поэзии Т. Щербины появляется новый спектр тем, связанных с компьютером, сетевым мышлением, «электронной стилистикой» современной жизни, современного письма.
Я отношусь к Богу так, как хотела бы, чтоб компьютер относился ко мне. Да, и я зависаю, и меня глючит. Каждый delete – душераздирающий взвизг вселенско-катастрофического «за что!» («Интимные отношения», 2008)И дальше:
С каждым новым процессором я слушаюсь все быстрее, не задаю лишних вопросов…Ощущение вторичности несвободы, отсутствие вкуса к новому, даже опасение, страх перед любой новацией – все это оправдывается «принципом матрицы», изначальной и неотвратимой загруженности в «программный продукт», управляющий современностью, ряда непременных логических тензоров и опций «правильного», адекватного поведения. Уподобление Творца компьютеру хромает не более, чем любое другое сравнение, однако в данном случае «хромота» имеет отчетливо этический характер. Или – точнее сказать – отсутствие моральной составляющей в самом чувстве покорности перед неодолимой волей гипотетического вселенского компьютера, в отличие от существенной и неотъемлемой моральности, неизбежно присутствующей в душевном движении смирения перед неисповедимыми путями Создателя.
Электронное дублирование касается в современности буквально всего, в том числе страны рождения и проживания:
Больше нет страны РФ на свете, нет России – есть страна Рунет. ‹…› …Власть географическая пала, мы переселились по хостам, где средь исторического бала мир переместился на экран, слег, как сыч, в коробку с монитором, мы играем с ним по одному, так отпало общество, в котором все играли в пробки и в войну. («Рунет», 2001)Детские состязания понарошку уравниваются со взрослыми играми не на жизнь, а на смерть, с полной гибелью всерьез. Желательной становится даже опасность, даже угроза смерти – все лучше, чем тоталитарная свобода сетевого клонирования радостей и печалей.
Все потаенное понято, произносимое сказано, ну какие ж тут комменты, слезы выглядят стразами…Это одно из самых свежих (то есть недавних) стихотворений Т. Щербины, и, наверное, стоит на всякий случай пояснить, что «комменты» – это въевшаяся в русский язык транслитерация английского слова, означающего вовсе не любой комментарий, но размещенный в сети отклик на ту или иную запись в сетевом дневнике, блоге.
Круг замыкается. Татьяна Щербина, один из заметных литераторов эпохи позднего самиздата, возвращается к давно прошедшему времени собственной поэтической грамматики:
Нарушилось что-то, а что – неизвестно, как будто бы все повернулись, а вместо шитья золотого легла позолота, сковавшая воздух. Как будто болото за окнами. (2003)Желанная некогда свобода рождает не размягченное умиротворение, но недовольство и непокорность, которые (с поправками на простое взросление и отрезвление) снова становятся продуктивными, предвещают смену устоев и преобразование «духа времени».
Когда-то, в разгар постперестроечных разочарований Т. Щербиной были произнесены важные слова:
Хорошо, когда ад – не внутри, а снаружи: в хмурой власти, в подвздошной пружине дивана, в потолке, на котором виднеются лужи, в отключении веерном света и ванны…Хочется надеяться, что никакие веерные отключения в наш быт не вернутся, но уже сейчас ясно, что в поэзию «семидесятников» возвращается интонация продуктивного недовольства нынешними условиями сопряжения внешних параметров жизни человека и его внутреннего глубинного бытия. Если формулировать без изысков, то можно решиться на рискованный тезис. Мировой кризис предвещает возвращение ценностей, в эпоху безмятежного потребления утраченных. Барометром этого возвращения может в очередной раз стать поэзия, причем с известной долей уверенности можно предположить, что наиболее чувствительными к смене ориентиров окажутся стихотворцы как раз того поколения, к которому принадлежит Татьяна Щербина.
Библиография
Антивирус // Октябрь. 2001. № 8.
Стихи // Вестник Европы. 2001. № 1.
Книга о хвостатом времени… М. – Прага: Митин журнал; Тверь: Kolonna Publications, 2001. 96 с.
Прозрачный мир. М.: ЛИА Р. Элинина, 2002. 40 с.
Дневной и ночной дозор // Октябрь. 2003. № 11.
Лазурная скрижаль. М.: ОГИ, 2003. 344 с.
Стихи // Арион. 2004. № 4.
Стихи // Вестник Европы. 2005. № 15.
Стихи // Новый берег. 2008. № 20.
Побег смысла: Избранные стихи. 1979–2008. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2008. 96 с.
Франция. Магический шестиугольник: Эссе, очерки, стихи. М.: Зебра Е; АСТ, 2007.
Ксения Щербино или «Космореограф первобытной жути…»
Пять-шесть лет назад при публикациях подборок Ксении Щербино еще нет-нет да указывали, что она принадлежит к сообществу сетевых стихотворцев, столь же необозримому, сколь и – в большинстве своем – непрофессиональному. В последние годы положение дел изменилось, опубликованы подборки в журналах «Арион», «Знамя», «Воздух» и др. Что же отличает стихи Щербино в первую очередь?
Начнем с того, что Щербино обладает необычным поэтическим зрением. Оно производит с предметами, вещами, понятиями двоякую работу. С одной стороны, детали реального мира символически обобщаются, с них снимается «стружка» конкретного облика, в котором акцентируется какая-то одна сторона. Но подобное обобщение весьма далеко от символической схематизации, превращения полнокровного фрагмента жизни в некий знак, схему, модель определенного культурного значения (например: дерево = «древо познания» и т. д.). У Ксении Щербино (наряду с обобщением и символизацией) предмета, понятия немедленно касается второй «резец» творческой переработки, одновременно с генерализацией происходит противоположное – конкретизация. В итоге – предмет, уже в своем преображенном и обобщенном виде, снова включается в реальность, воспринимаемую обычными органами чувств.
Вот, скажем, фрагмент из стихотворения, названного «Йо-йо небесный»:
то высшее что нас послало в путь наверное качает головой невесело смеется свысока когда доска кончается и он затормозив цепляется за привязь возносится совсем до потолка – а там уже кто от него схорон вот-вот сорвет улиточий пион луны который кто-то высший вывесь над головой – и сердце искусиО ком же (о чем?), собственно, в стихотворении речь? Это нечто, одновременно наделенное высокой степенью обобщения в качестве какого-то определенного («небесного») начала. Вместе с тем трудноуловимый образ сильно напоминает не то добродушного ослика, не то наивного бычка, идущего по зыбкой дощечке и, как водится, вздыхающего на ходу. Заметим, что рядом с этим стихотворением были опубликованы и иные, «смежные»: «Йо-йо земной» и «Йо-йо водный». Странное, неуклюжее и неуловимо трогательное существо-понятие в зависимости от «среды обитания» меняет свой контур и повадки, однако суть остается та же: это что-то бесконечно нам близкое и знакомое, настолько, что трудно определить его сущность в строгих дефинициях. Опять вспоминается набоковский «Дар»: перебравшийся на новое место жительства поэт Федор Годунов-Чердынцев с опаской ищет глазами какой-нибудь мелкий предмет, деталь, который (которая) отныне все время будет попадаться на глаза при исполнении ежедневных бытовых дел («все могло быть этой мелочью: цвет дома… деталь архитектуры… или вещь в окне, или запах…»). Цепкий взгляд Ксении Щербино выхватывает из реальности именно такие вещи, причем зачастую это взгляд, обращенный внутрь собственного сознания, в этом случае вместо неопределенных вещей-обобщений в стихотворении появляются столь же зыбкие и неопределенные рассуждения-понятия, обрывки летучих мыслей.
Подобное мастерство – двойственно. Продолжая цепь набоковских ассоциаций, вспомним: Годунов-Чердынцев думает о том, что возможная «ежедневная зацепка» грозит стать «ежедневной пыткой для чувств». Поэтическое зрение никогда не дремлет, оно рефлекторно направляется на разные предметы, работает помимо нашей воли, воспринимает мир слишком подробно и обостренно, вне прямой связи с нашей заинтересованностью, которую весьма трудно обосновать и пояснить. В этом случае наблюдательность становится избыточной, почти утомительной. Именно так происходит в стихах Щербино, которые порою чрезмерно изобильны, дробны и подробны. Вот образчик:
космореограф первобытной жути ризограф плоти флоризель событий замонгольфьер случайной тишины вот мы летим лишенные пространства кораблики ли пленники искусства тройной тулуп режим четыре дэ невидимые глазу па дэ дэ святые как ягудин и гагарин пре/притворившись дверью или тварью закрыв прорыв в инакобытие чтобы ничто не зарилось на наше…Сложно-ассоциативная картина, как бы совмещающая два полета: гагаринское парение в рискованной и чуждой пустоте и – с другой стороны – полет ягудинский, столь же рискованный, но спокойно созерцаемый на экране. Здесь умение схватывать ассоциации и параллели, способность обобщать и возвращать в зону непосредственного восприятия схемы аналитического раздумья едва ли не превосходят «разрешающую способность» нашего зрения, находятся почти за порогом простого улавливания смысла.
Тут мы подходим к важному свойству стихов Ксении Щербино: в них часто оказываются преодолены языковые (преимущественно грамматические) нормы. Поэт не столько создает авторские неологизмы в духе авангарда 1910-х или 1960-х годов, сколько предается произвольному словоизменению, порождает многочисленные спонтанные производные формы слов («схорон», «улиточий», «замонгольфьер»). Щербино живет внутри языка и в реальности созвучий, а не внутри мира вещей, ее словоговоренье подчеркнуто легко, поскольку не связано общепринятой грамматикой.
между прекрасный я и чудный ты случаен воздух частный постоялец и я птенец а ты костовыправец …………………………………….. между они вокруг а мы тесней неловка речь чухонка приживалка чей рот фиалков а хребет извне возьми ее за жабры – нежно жалко и настежь распахни пока живая и расскажи. а я не знаю какКак сказано, Щербино обращается с языком абсолютно свободно, при соблюдении меры единства картины эта свобода способна приводить к эффекту почти захватывающему:
Средневековый город концентри – ческими рос кругами, не нарушив собой спираль при взгляде изнутри и лабиринт, если смотреть снаружи. Здесь странно жить, его дыханье чу – вствуя – еще странней приехать сюда и дать уставшему плечу от неба отдохнуть, ноге от бездны, от мыслей – голове, а рту от слов. Идти против теченья улиц, молча. Не знать того, как детям от отцов передаются перекрестки, полчи – ща гостей неждан-незваных при – званные удержать от центра дальше… («Город»)Но эта же языковая свобода в больших дозах становится столь же раздражающе самоценной, как и причудливая и противоречивая генерализация-конкретизация предметов и понятий. Одно из профессиональных занятий Ксении Щербино (не только устраивающей персональные художественные выставки во Франции и России, но и окончившей сравнительно недавно переводческий факультет Московского лингвистического университета) здесь сказывается со всею очевидностью:
n+3 (явление Гамлета). Датско-русский синхрон: jeg skal[2] – должен – jeg skal – должен – jeg skal – должен – я не выдержу! я не… выключите динамик!Мне приходилось слышать от многих мастеров синхронного перевода, что во время напряженной и ответственной работы они усилием воли выключают напряженную рефлексию и целиком отдаются роли автоматической регистрации чужой речи на входе сознания и столь же спонтанному порождению речи родной – на выходе. Что-то подобное можно наблюдать и у Ксении Щербино – пассивная регистрация, без малейшего шанса на обдумывание.
…О некоторых поэтах принято говорить, что они «не выдерживают полного собрания сочинений». В том смысле, что у них много проходных стихотворений, нехарактерных, слабых. Ксении Щербино, к счастью, еще далеко до времени итоговых сводов избранного, но ее книга «Цинизм пропорций» (СПб.: Геликон Плюс, 2005) также явилась для читателя серьезным испытанием. Здесь нет проходных стихотворений, скорее наоборот: тексты с вкраплениями на двунадесяти языках демонстративно перенасыщены, сгущены до всякого возможного предела. Ясно, что эта тотальная стилизация входит в исходный замысел книги, однако достучаться до собственной эмоции, не опосредованной медийной средой, чужим языком или технологическими картами производственных процессов, то есть добраться до изначального чувства поэта, бывает подчас очень и очень непросто. Эту эмоцию и искать бы не пришлось, если бы мы имели дело с продолжателем мощной традиции концептуалистского отстранения высказывания от личности, однако нет же, островки наивной и прямой поэтической речи у Щербино имеются, они органичны, хоть и редки (увы, редки, осторожно добавим от себя):
Сердце мое заросло травой, а в траве легко и тихо и больно – светло и больно, как будто спишь, и вместо сердцебие – ния звон колокольный. Вижу себя как сон. Как стул, стол, на нем стакан, в стакане роза. Банально. Детально. Пышно. Фотографично – выкинь, пожалуйста, эту меня. Опять я ужасно вышла. Ксеня в чулочках детских. Ей десять лет. Ксене двадцать. Ксеня в чулочках дамских и красной юбке – длинной и не – уловимо испанской… («О себе»)Поэтический дар Ксении Щербино своеобразен и узнаваем, для нее все еще только начинается, так что (как это говорится?) следите за рекламой…
Библиография
Анатомия ангела. М.: ОГИ, 2002.
Стихи // Вавилон: Вестник молодой литературы. 2002. № 9(25).
Евгеника. М.: Э. РА, 2002. 100 с.
Тринадцать. СПб.: Скифия, 2002.
Стихи // Вавилон: Вестник молодой литературы. 2003. № 10(26).
Черт меня побери, не жена не муза… // Арион. 2003. № 1.
XXI поэт. Снимок события. М.: Издательство Р. Элинина, МФ «Поколение», 2003.
Братская колыбель. М.: Независимая лит. премия «Дебют», МФ «Поколение», 2004.
Московская кухня. СПб.: Геликон Плюс, 2005.
Цинизм пропорций. СПб.: Геликон Плюс, 2005. 140 с.
Стихи // Reflect. (Chicago). 2005. № 20 (27).
Гагарин // Крещатик. 2006. № 4.
Воздуше правый // Знамя. 2007. № 3.
Стихи про Слуцкую // Арион. 2007. № 1.
Стихотворения // Новый берег. 2008. № 20.
Фотографии атже и пальто беренис аббот // Воздух. 2008. № 1.
Санджар Янышев или «Я наверно без запаха, шороха, чувств…»
Санджар Янышев более не нуждается в причислении к «ташкентской школе» русской поэзии. И не только потому, что в последние годы живет и пишет в Москве (как, впрочем, и другой бывший ташкентец Вадим Муратханов), но и оттого, что находится со своею прошлой поэтикой в состоянии напряженного диалога, рискну сказать – преодоления. На рубеже девяностых и двухтысячных первые публикации Янышева в столичной периодике были встречены почти всеобщим сочувствием и одобрением – и было отчего!
Время на дворе стояло (впрочем, как и всегда в нашем отечестве) «сложное, переходное». Шел активный процесс размежевания поэтических направлений и групп. Вчерашние соратники по борьбе с советским поэтическим официозом оказывались по разные стороны баррикад, шло перераспределение сил, сложнейшее самоопределение новых поэтических тенденций, оказавшихся в состоянии цензурной свободы и именно вследствие этой свободы немедленно ощутивших собственную покинутость, заброшенность, неприкаянность. Вдруг получилось так, что в якобы свободном от партийного присмотра и контроля литературных спецслужб поэтическом круге общения вольных художников по-прежнему действуют механизмы достижения литературного успеха и популярности, присутствует понятие власти, пусть и в смысле Мишеля Фуко, а не в варианте статьи вождя мирового пролетариата «Партийная организация и партийная литература».
Русская поэзия оказалась на выходе сразу из нескольких, наложившихся друг на друга, ранее существовавших в параллельных вселенных традиций. Находившийся на излете концептуализм пересекся с возрожденной «новой искренностью», жесткая социальность и абсолютная ирония представителей центонной поэзии какое-то время сложным образом соседствовала с «возвращенной» поэзией андеграунда.
Санджар Янышев смог успешно дебютировать во многом благодаря тому, что в какой-то (и важнейший для собственной поэтической судьбы) момент оказался в абсолютной роли постороннего. У него были свои проблемы, взращенные в особой русскоязычной поэтической среде, сформировавшейся под знойным узбекским небом. Янышев появился на горизонте большой русской поэзии со своими, непровинциальными, недоморощенными проблемами, которые, впрочем, далеко не сразу были распознаны и распробованы даже теми, кто его стихи высоко оценил – сразу и без особых оговорок.
В строках Санджара Янышева увидели главным образом удивительную ясность, непосредственность, гармонию. Простота обращения к читателю от самого что ни на есть первого лица подкупала, здесь не чувствовалось никакого двойного дна:
Слушай, я расскажу тебе, как я рос. Поначалу я был глух, как резиновая подошва. Я приходил на чердак, лез на дерево, спускался в подвал. Я похищал у птиц, у мышей и жужелиц Их клекот, визг, их протяжно-исступленное молчание…И никаких тебе социальных противоречий – тишь, благодать и яркость красок. Мир, наполненный светом, несущий в себе первозданную гармонию, даже симметрию:
Помнишь, я маятник пел, постигал?.. Время струиться – и время треножиться. К этим матрешкам, картам, стихам ты уже, кажется, не относишься. Тайные счетоводы земли волос исчислили, голос измерили. Из дирижаблевых недр извлекли корень симметрии. («Ода симметрии»)Что еще полагалось в придачу к подлинной (а не стилизованной под «персидского» Есенина) «восточной поэтике»? Ну конечно восточная пестрота и пряные ароматы, облаком окутывающие любое «впечатленье бытия»:
Можжевеловое, хрупкое, травяное – из каких пришло таких недр и чар?.. Впрочем, ожидал ли я что иное, приподняв покрывало июньских чадр, углядеть в опасной близи от треска прямокрылых, от шепоти нарезной… Вот и ты притянута хной окрестной, начиная с родинки – всей собой. («Затакт»)А еще, разумеется, медленная и напоенная истомой любовь без гиперборейского скотства и тоскливых призывов «европейской ночи» (родинки и хна в приведенном выше фрагменте также идут в зачет):
И я слежу во все свои глаза твоих суставов плавную работу; как, точно в бездну хрупкая лоза, спускается луна по пищеводу. Я этой кожи тайный землемер. Твоих ручьев и клеток летописец. И не прозрел еще один Гомер, чтоб этот Сад возведать и возвысить.К гармонической ясности и спокойной обильной любви прилагалась еще размеренная (пусть даже порою – достаточно заунывная) «восточная» музыкальность, особая озвученность стиха:
Я обращаюсь из голоса в слух. То есть отныне я архитектура. Лифт и кочующий лестницей пух сумерек – суть звуковая тинктура; древо триольное, верба-река (и тишина была шорохокрыла); ты, что малейший шажок стерегла ночи – сама вместе с ней говорила. («Пробуждение»)Порою создавалось впечатление, что в поэзии Санджара Янышева остановились все часы – тогда гармония и любовь могли показаться вязкими, даже навязчивыми:
В конце концов, у нас ведь есть часть завтрашнего дня. Рассвет, помноженный на тень колен и интервалов. И тишина, и глубина, и птичья мельтешня на антресолях, чай, нават и миндаля навалом.Здесь-то и начинались внутренние проблемы, любой подлинной поэзии пожизненно свойственные, те стилистические и ритмические затруднения, без которых невозможно платить жизнью за стихи, как это полагается в русской (да вообще – в европейской поэзии). Янышев с первых шагов по страницам московских журналов, со времени первого успеха у читателя сталкивается с легко предсказуемыми трудностями. Поэзия родных осин не любит выключенного социального времени так же определенно, как и не выносит преизобилия знойных чинар и мускусных ароматов. Казавшаяся искренней (и подкупающей на фоне раздрая и разнобоя девяностых) непосредственность поэтического высказывания сталкивалась с предсказуемостью восточной поэтики афоризма, свежесть оборачивалась орнаментальностью, гармония – тягучей скукой. Именно в этих двух соснах стал понемногу блуждать янышевский дар, повторяемость поэтических афоризмов оставалась мастеровитой, но становилась все менее востребованной.
Направление новых поисков было задано нараставшей дисгармонией, русскому стиху после Пушкина соприродной и от него неотъемлемой. Все это зафиксировано в одном из лучших, на мой вкус, стихотворений Янышева, в котором размеренная афористичность сопряжена с парадоксами и диссонансами.
Мертвое живое Обнял дерево – а оно мертво. Пригубил воздуха – он мертв. Раздвинул женщину – она мертва. Выдохнул слово – мертвое оно. Записал – стало еще мертвее. Запомнил – мертвое, мертвое, мертвое. Лег в могилу – и земля мертва. Подумал о прошлом, подумал о будущем – пустое и мертвое, мертвое и пустое. Встал, ощупал дух, понюхал тело – мертворожденное, мертвоумершее. Даже мысль – и та мертва, потому что о мертвом, о мертвом. И пришла любовь, и убила все мертвое. И поставила меня стеречь это мертвое. Почему меня? – живых спросите. Налейте чаю.С тех пор для Санджара Янышева наступила сложная пора. Полностью вписаться в новые правила поэтической гибели всерьез пока, пожалуй, не удалось, но думается, что наш автор, расставшийся с поначалу подкупающим и гарантирующим временный и непрочный успех «местным колоритом», находится на верном (поскольку рискованном) пути. Об этом говорят некоторые из последних публикаций, об этом же свидетельствует книга Янышева «Природа» (М.: Изд-во Р. Элинина, 2007).
Мне бы легкости взять для восхода – Не у бабочки и самолета, Не в листве выходного дня, А в твоем основанье, Природа, В темном царстве, где нет огня, Где ни воздуха, ни меня…Гармония в стихах Янышева оборачивается непредсказуемой сложностью, регулярность метра уступает место синкопам и ритмическим перебоям:
…Мы – изгой среди крошек и крыс, а любовь не слепая комета, но – цветок, вырезаемый из времени маникюрным струментом. Ничего, с чем при жизни я свык – ся, следовательно, вот сверток моей памяти: кость или жмых……Трудно сказать, какие эмоции может вызвать очевидный уход в прошлое ташкентской стихотворной школы. Пожалуй, несомненно только одно: в ансамбле русской современной поэзии зазвучали новые самобытные голоса, среди которых одну из ключевых позиций занимает голос Санджара Янышева.
Библиография
Стихи // Арион. 2000. № 2.
Стихи // Окрестности. 2000. № 4.
Отлученный // Знамя. 2000. № 11.
Червь. СПб.: Журнал «Звезда», 2000. 88 с.
Стихи // Арион. 2001. № 3.
Стихи // Малый шелковый путь: Новый альманах поэзии. Вып. 2. М.: Изд-во Р. Элинина, 2001.
Ось // Новая Юность. 2001. № 4(49).
Три цвета // Октябрь. 2001. № 5.
Офорты Орфея // Октябрь. 2003. № 5.
Офорты Орфея. М.: ЛИА Р. Элинина, 2003.
Стихи // Арион. 2004. № 1.
Ветер с Карского моря // Октябрь. 2004. № 9.
Из розных родинок и просек // Новая Юность. 2004. № 1(64).
Так не бывает // Дружба народов. 2004. № 4.
Регулярный Сад. М.: Издательство Р. Элинина, 2005.
Кодир // Интерпоэзия. 2006. № 4.
Стихи // Арион. 2007. № 3.
Природа. М.: Изд-во Е. Пахомовой, 2007. (Классики XXI века. Поэзия).
Стихи из цикла «Страшные сказки» // Интерпоэзия. 2007. № 3.
Любому языку // Дружба народов. 2008. № 4.
Стихотворения. М.: Арт Хаус Медиа, 2010. 200 с.
Вместо послесловия
Эта книга была задумана как моментальный снимок, жесткий поперечный разрез литературного поля современной поэзии, при этом предполагалось, что каждое эссе будет строиться по намеренно схематичному двухчастному принципу: сравнивались две стадии развития поэта: «тогда» (до 2000-х) годов и «теперь». В случае каждого отдельно взятого поэта текущие его публикации, синхронное моменту написания эссе положение дел в «поэтическом хозяйстве» должны были рассматриваться как некая материальная точка – рубеж, грань, не предполагающие движения и развития.
Жизнь внесла свои коррективы: работа над книгой заняла пять лет, а значит, границы «синхронного момента» анализа все время расширялись, поскольку выходили новые сборники, публиковались подборки, вручались премии… Поэзия идет вперед, и сейчас вряд ли кто-нибудь возьмет на себя смелость предугадать, где пролягут ее будущие воздушные пути.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что публикация книги – вовсе не шаг навстречу созданию канонического пантеона «лучших» поэтов современности. Главная ее цель – разметка территории, создание карты современной поэзии, на которую нанесены имена поэтов разных и характерных, представляющих разнообразные творческие и стилистические тенденции и манеры.
Все поэты, о которых создавались эссе, на момент первой публикации жили и работали в России и других странах мира. Сейчас, к великому сожалению, некоторые из них покинули сей мир, но написанные о них тексты, разумеется, сохранены в книге.
Стоит отметить, что при работе над книгой учитывались как сборники стихов и журнальные публикации, так и публикации электронные – как правило, на авторитетных порталах, систематически размещающих стихи современных поэтов. Приложенные к эссе краткие библиографические справки содержат данные о «бумажных» публикациях и не являются исчерпывающе полными, поскольку адресованы не исследователям, но широкому кругу читателей русской поэзии.
…С русской поэзией в очередной раз что-то происходит, есть предположение, что бронзовый ее век к настоящему моменту миновал, а литература находится на пороге нового периода доминирования прозы большого жанра. Как это нередко случается, действительность догнала все дерзкие эксперименты и предвидения, превзошла все самые смелые прогнозы развития событий. Поэтому контуры поэтического литературного поля меняются прямо на глазах. Отходит в тень «специально социальная» поэзия (поскольку по-иному стихи писать сейчас практически невозможно). Спадает девятый вал эпического стихотворчества, возвращается поэтика прямого лирического высказывания, прежде на много лет поставленная под сомнение согласованными и талантливыми усилиями концептуалистов всех направлений. Можно было бы и еще порассуждать о главном и общем, но, пожалуй, не стоит впадать в противоречие с заявленными целями книги. Труд многолетний прочитан, теперь слово жизни, в очередной раз вынашивающей перемены – новую эпоху развития русской поэзии.
Апрель 2015Автор выражает искреннюю благодарность Ирине Барметовой, Анне Воздвиженской, Жанне Галиевой, Татьяне Соловьевой. Без их деятельной и доброжелательной помощи эта книга не могла быть написана.
Примечания
1
Ср. название недавнего сборника – «Ода одуванчику».
(обратно)2
Я должен (датск.) – примечание автора.
(обратно)



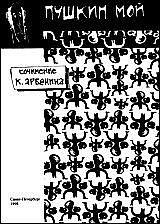
Комментарии к книге «Сто поэтов начала столетия», Дмитрий Петрович Бак
Всего 0 комментариев