ДМИТРИЙ КЕДРИН
ДМИТРИЙ КЕДРИН Вступительная статья
Дм. Б. Кедрин. Фотография 1941 г.
С именем Дмитрия Кедрина связаны прежде всего мастерски написанные картины русской истории в ее острые, драматические моменты, скульптурные, словно высеченные резцом ваятеля, фигуры героев, строгая ритмическая организация стиха и глубокий интерес к точному русскому слову. Произведения Кедрина, повествующие о событиях далекого прошлого, неизменно находят живой отклик у современников. Секрет популярности его поэзии не только в своеобразии художественной формы, в присутствии своей поэтической темы, но и в страстной убежденности, «что поэзия требует полной обнаженности сердца, что, скрывая от всех свое главное, невозможно стать поэтом, даже виртуозно овладев поэтической техникой. Поэзия — это полнота сердца, это убежденность»[1].
Кедрин не успел до конца рассказать о «своем главном», он рано ушел из жизни, но его творчество оставило заметный след в истории советской поэзии. Как у всякого истинного художника, у него был свой особый поэтический мир, свое образное ви́дение, своя интонация. Главное начало кедринской поэзии — в живописности, осязаемости поэтического образа. «Что такое художественные средства поэта? Это луч, идущий от проекционного фонаря к экрану. Если этот луч необходимой силы и яркости, изображение будет отчетливым»[2], — писал Кедрин в своих заметках «О психологии творчества».
В свете этого луча он развернул перед читателем страницы отечественной истории, воскресил мир народных легенд и преданий.
В работах о Кедрине[3] неизменно и справедливо отмечалось искусство проникновения поэта в отдаленные периоды национальной истории, знание языка и быта, достоверность целого и деталей в художественном изображении далекого прошлого. «Среди прозаиков есть немало исторических романистов, но среди поэтов Дмитрий Кедрин, пожалуй, единственный (по преимуществу) поэт-историк, знаток русского языка различных эпох»[4], — справедливо говорил Степан Щипачев в своем выступлении на Втором Всесоюзном съезде писателей.
Историзм был живой душой всей поэзии Кедрина. Он пронизывает не только его эпические произведения, но и лирические миниатюры, рожденные в бурной, творческой атмосфере социалистического строительства. У тихого книжника в очках, каким иногда казался скромный литературный консультант из издательства «Молодая гвардия», живущий под Москвой в поселке Черкизово, была, как мы можем сказать сегодня словами другого русского поэта, «самая жгучая, самая смертная связь» [5] со своим временем, с эпохой и ее литературой. Заметим, что проблема историзма вообще весьма существенна в развитии молодой советской литературы, в формировании творческих почерков и поэтических характеров. К поэзии социалистического реализма большой художник всегда шел своим индивидуальным путем, но неизменно через ощущение себя во времени. Крылатая формула Маяковского «о времени и о себе» стала завоеванием всей советской поэзии, но родилась не сразу. К ней вел отнюдь не гладкий путь постижения эпохи, ощущения своей слитности с ней. Лишь эстетически освоив главные закономерности своего небывалого времени, ощутив его гуманистический пафос, Кедрин вырос в самобытного художника, обрел свободу проникновения в конфликты эпох и характеров, отдаленных от него многими поколениями. Гордость современностью помогла ему увидеть и выделить в историческом прошлом истоки настоящего — героизм, талантливость и нравственную чистоту народной души.
* * *
Дмитрий Борисович Кедрин родился 4 февраля 1907 года в Донбассе, на руднике Богодуховском (ныне Донецк). До 1913 года жил в городе Балта Подольской губернии, затем с семьей переехал в Екатеринослав (с 1926 года — Днепропетровск). Рано осиротел. Мальчика растили тетка Людмила Ивановна, родная сестра его матери, и бабушка Неонила Васильевна, сыгравшие значительную роль в нравственном воспитании подростка. Дмитрий Кедрин учился в коммерческом училище, а затем в техникуме путей сообщения. В 1924 году, не окончив техникума и, по-видимому, не испытывая склонности к профессии путейца, он поступил на работу в редакцию комсомольской екатеринославской газеты «Грядущая смена». С этого времени в екатеринославской, а затем и в центральной прессе появляются стихи начинающего поэта.
Первые стихи Кедрина появились в «Грядущей смене», когда его земляки и старшие товарищи — комсомольские поэты Михаил Светлов, Михаил Голодный, Александр Ясный — уже вышли на всесоюзную арену, образовав в Москве при журнале «Молодая гвардия» ядро поэтической группы того же названия. В декабре 1922 года была опубликована декларация «Молодой гвардии», обращенная «ко всем комсомольским поэтам и писателям»: «Мы — комсомольцы, мы работаем, учимся творить и творим в гуще заводской и фабричной молодежи. Вот что нас объединяет и дает спайку нашим рядам, вот для чего мы зовем вас связаться с нами»[6]. Этим призывом было в известной мере стимулировано возникновение в Екатеринославе литературной группы «Молодая кузница», отражавшей потребности и запросы юнкоровского движения и местной поэтической молодежи.
Екатеринославские «младокузнецы» восприняли из поэзии своих столичных собратьев пафос великих революционных свершений, идейной сплоченности масс и пролетарского интернационализма. От первых «кузнецов» — В. Т. Кириллова, М. П. Герасимова, В. Д. Александровского — пришли в стихи молодого Кедрина и характерные для их поэзии изобразительные средства: романтическая риторика, торжественная лексика, архаическая образность, традиционное для пролетарской поэзии воспевание завода как «священной обители» освобожденного труда. От комсомольской поэзии — молодой задор, стремление воспеть романтику повседневности, уверенность в своих неисчерпаемых силах и возможностях.
В своих ранних стихах, написанных, собственно, еще с чужого голоса, носящих явные следы самых разных литературных влиянии, Кедрин овладевает арсеналом поэтических средств, добытых в опыте его старших товарищей. В одном из первых опубликованных в «Грядущей смене» стихотворений — «Моя любовь» — он пишет:
Я полюбил головку в алом С стальными звездами очей, Я полюбил кипенье сплавов И гулы доменных печей. Я полюбил мою обитель — Всесозидающий завод, Где человек, где победитель К победе с радостью идет… …И по утрам морозец колкий, И снег, с стоцветами свечей, И маленькую комсомолку С стальными звездами очей.Сквозь эти несамостоятельные строки проглядывала, однако, подкупающая искренность чувства и непосредственное ощущение действительности, делающее их фактом творческой и личной биографии поэта.
Рабочий Екатеринослав с его крупными промышленными предприятиями внушал молодому сотруднику «Грядущей смены» мысль о всемогуществе «Его величества Труда». Жизненность героя Кедрина тех лет — в слитности с коллективом, в общности личной судьбы с судьбами всей молодой страны, в характерной для революционной поэзии устремленности в будущее. Ощущая себя частицей «несметных, грозных легионов труда», он весь в ожидании грядущих «мировых пожаров» и восстаний.
Чтобы руки рванули винчестер Над морями, над звонами трав, Над смятенным берлинским предместьем И в дыму орлеанских застав.Так писал комсомольский поэт Виссарион Саянов в стихотворении «Современники». В той же уверенности, что уже завтра «стальная нога Октября по ступеням миров прогрохочет», жил и Дмитрий Кедрин, со всей страстью отдавая себя газетной и литературно-просветительской работе в «Грядущей смене» и в литературных кружках, выступая на митингах и в литературных аудиториях:
И, я знаю, в приливе волны Послом эсэсэровских хижин, Пионером всемирной весны Буду завтра в Париже. («Стихи о весне»)Ощущение революции как «всемирной весны» — образ, схваченный Кедриным в вихревом ритме времени, — было одним из основных для всей советской поэзии. У Маяковского это «весна человечества», у Эдуарда Багрицкого — «молодость», которая водила поколение «в сабельный поход», у Владимира Луговского — «бессмертная юность» нового мира, рожденного Октябрьской революцией.
Кедрин прожил в Днепропетровске до 1931 года. С середины 20-х годов имя его появляется на страницах центральной периодической прессы. Его печатает «Комсомольская правда», журнал «Прожектор». Годы эти отмечены настойчивыми поисками своего поэтического голоса, своей темы, которая пришла к поэту не сразу. Все это время Кедрин напряженно работает. Его внимание привлекают события недавнего прошлого. В некоторых произведениях этого времени отразились раздумья поэта о гибельности и исторической обреченности белогвардейского движения, о трагических судьбах людей, оказавшихся орудием в руках контрреволюции и лишившихся родины («Нищенка», 1928; «Гибель Балабоя», 1931).
В период становления поэтической индивидуальности еще не окрепший голос поэта воспринимает то тревожные ритмы Блока, то романтический напор Багрицкого, то политическую обнаженность стихов Маяковского. Его герои этой поры — романтические бунтари, рвущиеся туда, где опасность и смерть, где полыхает гнев народного возмущения.
Литературные мотивы, образы русского и мирового искусства всегда играли особую роль в художественном мироощущении Кедрина. В зрелую пору творчества весь мир истории и многовековой культуры был для него источником вдохновения, опорой в индивидуальных поисках и открытиях. Глубокий интерес к культуре прошлого наметился уже в таких стихах, как «Кремль» (1928), «Афродита» (1931). Кедрин стремится постичь гуманистическое содержание культурных ценностей, его волнует демократическая основа искусства. В стихотворении «Афродита» его привлекает мысль о глубоко человечном начале в искусстве древних. Вместе с тем еще по-юношески неумело, с полемическими издержками судит он великих мастеров прошлого. Со всем пылом комсомольско-рабфаковской непримиримости отрицаются им религиозные сюжеты, еще остается непонятым гуманистическое содержание картин Джотто, Дюрера, Гойи. Герой стихотворения «Афродита» напоминает нам своих сверстников из поэмы Ярослава Смелякова «Строгая любовь», столь же бескомпромиссных и категоричных в суждениях и поступках.
В дальнейшем освоение нового жизненного материала расширяет и обогащает строфику, лексический и ритмико-интонационный строй кедринского стиха. Поэт обращается, в частности, к сказовому, стилизованному языку, разрабатывает форму баллады, народного лубка, пробует себя в жанре политической лирики.
* * *
В 1931 году Кедрин с семьей переезжает в Москву и начинает сотрудничать в многотиражке Мытищинского вагонного завода. С 1933-го по 1941 годы он состоит литературным консультантом в издательстве «Молодая гвардия» и упорно продолжает свою поэтическую деятельность. В первые же годы московского периода Кедриным подготовлена к печати книга стихов — «Свидетели», на которую сохранилась доброжелательная рецензия Эдуарда Багрицкого, в те годы литературного консультанта и редактора издательства «Федерация». Поэтов связывала определенная творческая близость, и Багрицкий с интересом следил за развитием Кедрина, предвидя в нем подлинного писателя. Багрицкий с его безошибочным поэтическим чутьем отметил некоторые черты, проявившиеся в поэзии Кедрина тех лет и получившие развитие в его последующем творчестве. «Для Кедрина характерны точность образа, стройная метрическая система и ирония, которую поэт вводит в стихи не как основной тонус, а как некий штрих, подчеркивающий ход его мышления»[7], — писал Багрицкий в отзыве, датированном 1933 годом, и указывал на необходимость дальнейшей работы над рукописью. Багрицкий предполагал выступить редактором книги, однако смерть, последовавшая 16 февраля 1934 года, в день, когда была назначена его очередная рабочая встреча с Кедриным, прервала их совместную работу. «Свидетели» увидели свет лишь в 1940 году. Кедрин уже был автором многих новых вещей, не включенных в книгу, опубликовал драму «Рембрандт», с успехом работал в области поэтического перевода. Состав и композиция книги в значительной мере отличны от ее первоначального варианта. И хотя туда вошли такие первоклассные произведения, как «Кукла» (1932) и «Зодчие» (1938), Кедрин не был удовлетворен сборником в целом, как художник он уже не вмещался в его рамки, что было отмечено в свое время и критикой. Однако и эта первая книга стихов отразила в себе творческое своеобразие, проявившееся еще более отчетливо в зрелой поэзии Кедрина. Это прежде всего — органическое сочетание различных жанровых и стилевых форм. Его мироощущение, восприятие жизни было единым как в лирике, так и в эпосе.
Своеобразие таланта Кедрина зрелой поры определяет прежде всего широта поэтического диапазона. Эту особенность хорошо почувствовал Илья Сельвинский: «Дмитрий Кедрин представляет собой тот редкий тип поэта, который почти исчез в предреволюционной литературе и стал возрождаться только после Октября, — я имею в виду творчество, охватывающее все жанры стиха, гармоническое развитие поэтического организма. Одни писатели владеют стихом только в лирике; другие умеют создавать и эпические поэмы, но пьесы в стихах им уже не даются; третьи, напротив, научились писать пьесы, но поэмы и лирические стихотворения не входят в круг их мастерства. Дмитрий Кедрин умел все, как умели все наши классики от Пушкина до А. К. Толстого. Наряду с лирикой вы найдете у него эпос „Конь“, „Дорош Молибога“, рядом с балладами и песнями — трагедию „Рембрандт“. Да и сама лирика у Кедрина необычайно разнообразна: от гневной антифашистской инвективы до записочки другу с приглашением на дачу»[8]. Сельвинский, как видим, подчеркивает, что для Кедрина характерно не просто творческое многообразие, а «гармоническое развитие поэтического организма». И это было главным в творческом облике, в поэтическом характере Кедрина, который сам ощущал суть гармоничности, заложенной в основе его поэтического «я». «Почему стихи делят на две категории? — задавал он вопрос. — Разве лирика предполагает в поэте какой-то особый, отличный от остального его творчества уголок, где он может говорить то, что ему нравится, в то время как в остальных стихах он отдает должное другим требованиям мира?»[9].
В книге «Свидетели» лирика и эпос, современность и история сведены воедино поэтической мыслью автора. Эта маленькая книжка дает представление о поэте, о направлении его творческих поисков, о пристальном внимании к нравственному аспекту революционных завоеваний. Стихи Кедрина воскрешают неповторимую атмосферу свершении, героических будней первых пятилеток. Они населены живыми, конкретными героями, имена которых были в ту пору на устах у всех — от мала до велика: спасение челюскинцев и первый перелет советских летчиков через Северный полюс в Америку, покорение Арктики экспедициями Шмидта и Папанина. Стихи его действительно «свидетели живые» того неповторимого времени, и сам поэт — участник великих преобразований, происходивших в мире.
Послушай-ка, дорогая! Над нами шумит эпоха, И разве не наше сердце — Арена ее борьбы? («Поединок», 1933)Гордость настоящим возвращала поэта к истокам — к революции, освободившей человека от векового гнета, и вела далее — к постижению духовной, нравственной сути характера, сформированного новой советской действительностью.
Слитность эпического и лирического начал в произведениях, наиболее характерных для творческой манеры Кедрина, объясняется самой художественной структурой его стихов малой формы. В этом смысле почти каждая из его поэтических миниатюр содержит в себе эстетический материал, насыщенный таким драматизмом, которого хватило бы на целую поэму или трагедию.
В ноябре 1932 года в жизни Дмитрия Кедрина произошло значительное событие. В Москве, на Малой Никитской, на квартире у Алексея Максимовича Горького состоялась встреча писателей с членами правительства, произошел большой разговор об идейно-художественных принципах советской литературы, о ее творческом методе. Кедрин на встрече не присутствовал, и далеко не всем собравшимся было известно имя поэта, чьи стихи Горький попросил прочесть Владимира Луговского. По-видимому, Алексей Максимович познакомился с этим стихотворением Кедрина в редакционной папке журнала «Красная новь» и запомнил его. «Я никогда не забуду, как Алексей Максимович Горький заставил меня перед руководителями партии и правительства прочитать стихотворение тогда совсем еще неизвестного, да и сейчас, к сожалению, малоизвестного поэта Дмитрия Кедрина „Кукла“. Он мне сунул в руку напечатанные на машинке листки и сказал: „Читайте, да получше!“ И люди, руководящие страной, внимательно, с уважением слушали стихи безвестного поэта»[10], — говорил Владимир Луговской с трибуны Второго Всесоюзного съезда советских писателей. Позднее, на вечере, посвященном пятидесятилетию со дня рождения Дмитрия Кедрина в марте 1957 года, он продолжил свой рассказ: «…Горький рукой подчеркивал ритм, решительно взмахивал рукой, когда я читал эти строки:
Для того ли, скажи, Чтобы в ужасе, С черствою коркой Ты бежала в чулан Под хмельную отцовскую дичь, — Надрывался Дзержинский, Выкашливал легкие Горький, Десять жизней людских Отработал Владимир Ильич?И мне показалось тогда, что он (Горький) как бы просил читать стихотворение, посвященное ему. И только потом, когда я стал более взрослым, я сообразил, что в нем-то и есть основной краеугольный камень творчества Дмитрия Кедрина, что он соединил самые простые явления жизни, быта с самыми большими историческими событиями и, наоборот, самые большие исторические события подаются с простейшими деталями природы, человеческих чувств. И Горький хотел подчеркнуть, что для этой девочки, которую бьет отец, совершались большие наши исторические события, работали, жили, творили люди. И не зря тогда эта „Кукла“ начала свой путь через время и через умы наших читателей»[11].
Кедринская «Кукла», по-видимому, так глубоко взволновала Алексея Максимовича еще и тем, что показала столкновение двух миров, двух эпох — старой, навсегда уходящей, и новой, открывающей светлые пути в истории страны и всего человечества. Сама тема женской доли, затронутая в стихотворении, особой болью отозвалась в сердце Горького, лучше других знавшего потемки старого мира, особенно страшно уродовавшего женские и детские судьбы. Кедрин написал о судьбе девочки из предместья, родившейся уже после Октября 1917 года, но живущей в одной из лагун старого проклятого быта, среди разврата и пьянства. Подарить куклу девочке — в метафорической системе кедринского стихотворения означает возвратить ребенку его естественное состояние, детство.
Образ маленькой девочки из стихотворения Кедрина многими нитями связан с женскими образами классической русской поэзии и продолжает новую традицию художественного осмысления и развития этой темы, открытую советской литературой.
Неужели и ты Погрузишься в попойку и в драку, По намекам поймешь, Что любовь твоя — Ходкий товар, Углем вычернишь брови, Нацепишь на шею — собаку, Красный зонтик возьмешь И пойдешь на Покровский бульвар? Нет, моя дорогая! Прекрасная нежность во взорах Той великой страны, Что качала твою колыбель! След труда и борьбы — На руке ее известь и порох, И под этой рукой Этой доли — Бояться тебе ль?«Кукла» Дмитрия Кедрина и поэма Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки» писались одновременно и были опубликованы в одном году в журнале «Красная новь». Багрицкий присутствовал на встрече у Горького при чтении Луговским стихотворения Кедрина и не мог не ощутить близости судеб героини «Куклы» и своей Валентины из «Смерти пионерки». В обоих произведениях центром оказывается образ девочки, выросшей в новых социалистических условиях и противостоящей косному миру отчего дома. В поэме Багрицкого «Человек предместья» на пути отца-стяжателя встает дочь — «стриженая, в угластом пионерском галстуке», та самая, которая через некоторое время, в свой смертный час оттолкнет материнскую руку с крестильным крестиком. В ушах умирающей девочки звучат пионерские горны, ее последнее видение — марш пионерии, вьющееся в небе алое знамя. Девочка-подросток — в одной из поэм Владимира Луговского в книге «Жизнь» — обличает отца, основавшего на мельнице «образцовое» кулацкое хозяйство. Героиня кедринской «Куклы» — младшая сестренка этих девочек, сестра не по крови, а по иному, высшему родству. Поэты, каждый своим путем, приходят к общей теме, поскольку она была одной из самых существенных для их времени или, говоря словами Владимира Луговского, «краеугольной». Речь шла о проникновении нового во все уголки человеческого бытия, об очистительной силе революции, об утверждении социалистических отношений в быту и в его главной ячейке — семье. Вот почему в рассказе Кедрина о судьбе девочки нет безысходных трагических интонаций, а его лирически проникновенные ноты постепенно обогащаются гражданственным пафосом.
Как темно в этом доме! Ворвись в эту нору сырую Ты, о время мое! Размечи этот нищий уют!Обращение к современности особенно характерно для поэзии рубежа 20–30-х годов, когда завершался сложный процесс постижения художником эпохи, единения с нею. «О времени и о себе» — начинает свой знаменитый разговор о назначении и роли поэзии Маяковский. У Багрицкого время, пришедшее с тем, чтобы провозгласить конец «Человека предместья», обнаруживает черты сходства с самим поэтом:
И в блеск половиц, в промытую содой И щелоком горницу, в плеск мытья Оно врывается непогодой, Такое ж сутуловатое, как я, Такое ж, как я, презревшее отдых, И, вдохновеньем потрясено, Глаза, промытые в сорока водах, Медленно поднимает оно…Как примета обновляющегося мира, новой действительности, в советской поэзии возникает романтический образ юности, рожденный этим небывалым временем. В стихотворении Кедрина — это веселая пионерия, в ряды которой обязательно придет девочка, впервые увидевшая куклу в окне поэта.
Лишь однажды я видел: Блистали в такой же заботе Эти синие очи, Когда у соседских ворот Говорил с тобой мальчик, Что в каменном доме напротив Красный галстучек носит, Задорные песни поет.В «Кукле», обратившись к судьбе ребенка, Кедрин повел серьезный разговор о нравственном аспекте революционных завоеваний, назвав одного из опаснейших врагов в жизни советского общества переходного периода — цепкий, уродливый быт, искалечивший столько жизней, оставленный нам в наследство проклятым прошлым. В стихотворении «Кровинка» (1933), снова возвращаясь к женской доле, поэт с глубокой сердечной горечью расскажет о старой матери:
Убогая! Где твоя прежняя сила? Какою дорогой в могилу слегла? Влюблялась, кисейные платья носила, Читала Некрасова, смуглой была. Растоптана зверем, чье прозвище — рынок, Раздавлена грузом матрасов и соф, Сгорела на пламени всех керосинок, Пылающих в недрах кухонных Голгоф.В борьбе за существование не только утрачены молодость, женственность, красота, — произошел распад личности. Кедрин говорит об этом с суровой беспощадностью. Страшно, когда «мышиное существование» становится этической нормой человеческого бытия. А ведь мать даже дорожит сложившимся привычным укладом быта, став «властительницей сковород», уже и не помышляет о праве быть «хозяйкой жизни».
Она умоляет: «Родимый, потише! Живи не спеша, не волнуйся, дитя! Давай проживем, как подпольные мыши, Что ночью глубокой в подвалах свистят!»Как не вспомнить те же наставления, звучащие в другой тональности в поэме Багрицкого «Происхождение». Юноша Багрицкого безжалостно разрывает узы кровного родства, один уходит в романтический «мир, открытый настежь бешенству ветров». Тему разрыва с традиционным, косным во имя нового, рождающегося братства счастливых и свободных людей Кедрин здесь решает по-иному. Его герой не может и не хочет оставлять в этом убогом мире мать. Напротив, он ощущает в себе возможности и силы спасти «родную кровинку». «Мою угловатую непримиримость К мышиной судьбе я, как знамя, несу», — заявляет герой. Им владеет столь свойственный тому времени пафос «перестройки», «перековки человечьего материала».
Борьбе с мещанско-обывательской, индивидуалистической психологией, с тем, что, по выражению Маяковского, «в нас ушедшим, рабьим вбито», советская литература всегда уделяла большое внимание. Маяковский в поэме «Про это», написанной, как он замечал, «по личным мотивам об общем быте», первым смело повел своего героя трудным путем преодоления личных слабостей и противоречий в мир бескомпромиссных и гармонических отношений с близкими, с любимой, с человечеством. В атмосфере строгой самокритичности, в сложном «перешагивании» через себя герой иногда сталкивался со своим «двойником», освобождался от этой «двойственности» в своем продвижении в мир будущего. Мотивы «самоочищения», преодоления личных слабостей, с тем «чтобы плыть в революцию дальше», встречаются и у Асеева, Багрицкого, Луговского, свойственны поэзии целого исторического периода, в опосредованной форме отражая процессы, происходившие в общественной жизни, когда решался вопрос о победе нового в сфере нравственной, духовной. Кедрин включается в эту полемику стихотворением «Двойник» (1934), написанным от имени человека, осознавшего нравственную победу над своим духовным «двойником». В стихотворении смело сочетается «высокое» и «низкое», романтическая лексика и нарочитые прозаизмы, свойственные манере Кедрина тонкая самоирония и романтический пафос. Поэтическая мысль развивается в русле романтической традиции Багрицкого, славившего «трехгранную откровенность штыка», которым утверждались завоевания революции. Принятие вынужденной жестокости своей «переходной» эпохи, «за косы поднимающей землю», озарено и смягчено у Кедрина лирико-романтической интонацией, проникновенным пониманием гуманистического содержания великих преобразований. Классическая форма стиха и приподнято-романтические ноты, символика и метафоричность определяют эмоционально-эстетическое воздействие этого стихотворения. Перед нами мастер, верящий в себя, смело идущий на обнажение противоречий:
Два месяца в небе, два сердца в груди, Орел позади, и звезда впереди. Я поровну слышу и клекот орлиный, И вижу звезду над родимой долиной: Во мне перемешаны темень и свет, Мне Недоросль — прадед, и Пушкин — мой дед.Сведя воедино столь противоречивые истоки, поэт утверждает окончательную победу пушкинского, светлого начала в самой сокровенной области — в духовном мире своего лирического героя, своего современника, признаваясь, что победа над собой лично ему далась не легко и не сразу:
К эпохе моей, к человечества маю Себя я за шиворот приподымаю. Пусть больно от этого мне самому, Пускай тяжело, — я себя подыму! И если мой голос бывает печален, Я знаю: в нем фальшь никогда не жила!.. Огромная совесть стоит за плечами, Огромная жизнь расправляет крыла!С этих нравственных высот и начинается разговор о том главном, что составило содержание поэтических раздумий Дмитрия Кедрина. В его творчестве второй половины 30-х годов крупным планом возникают две темы: Родина Россия и искусство, слившиеся в процессе их развития в одну великую, выстраданную поэтом любовь.
* * *
Середина 30-х годов отмечена в советской литературе пристальным вниманием к отечественной истории. Успехи в построении нового общества, расцвет науки и искусства, беспримерный массовый героизм советских людей вызвали пристальный интерес к истокам, к исследованию исторического прошлого народов России. Обращение к истории объяснялось и приближением второй мировой войны, угроза которой становилась все более очевидной. «Судьба человеческая, судьба народная» оказалась в поле пристального внимания литературы. Эпохальные события и исторические фигуры становятся предметом поэтических раздумий.
Историческая тема была близка Кедрину с его постоянным интересом к истории вообще и к русской истории в особенности. Он был хорошо знаком с трудами Карамзина, Ключевского, Сергея Соловьева, читал Костомарова, собирал материалы для нескольких произведений на исторические темы. Среди намеченных им работ были поэма о Ломоносове, хроника Семилетней войны, сцены из Петровской эпохи.
Обращение поэта к далекому прошлому не ограничивается описанием великих событий и прославленных героев. Он стремится понять суть движения народного сознания, постичь деяния народа в творческом труде и в ратном подвиге. Крупнейшие исторические события, описанные в летописных источниках и легендах, становятся материалом для раскрытия народной души, лучших черт национального характера. Перед нами как бы отдельные поэтические фрагменты русской истории, но фрагменты, объединенные единой концепцией, выражающей отношение к отечественной истории русского поэта и патриота Дмитрия Кедрина.
Развитие исторической темы в творчестве Кедрина отчетливо делится на два периода, рубежом которых явилось начало войны — 22 июня 1941 года. До войны были написаны «Зодчие» (1938) и «Песня про Алену-Старицу» (1938), повесть в стихах «Конь» (1940), увидевшая свет уже в посмертном сборнике его сочинений. В этих произведениях развертываются страницы нашей отечественной истории, столь знаменитой удивительными судьбами и недюжинными характерами, воскрешается мир народных легенд и преданий. Как живые предстают выписанные Кедриным «безвестные зодчие», знаменитый русский градостроитель, инженерных дел мастер Федор Конь, возводивший Белый город в Москве и крепостные стены Смоленска, Алена-Старица — легендарная сподвижница Степана Разина, жестокий и самовластный Иван IV, радеющий о пользе Русского государства и вершащий свой неправый суд над человеческими жизнями.
Крупным планом показывает он в «Зодчих» чудо русского искусства, церковь Василия Блаженного. Это прежде всего памятник национального зодчества, который вырастает в поэме в символ нетленной красоты, творимой руками человеческими. В поэме, в основу которой положена одна из легенд о строительстве храма, читатель становится соучастником таинства искусства, раскрытого поэтом как процесс труда.
Мастера заплетали Узоры из каменных кружев, Выводили столбы И, работой своею горды, Купол золотом жгли, Скаты крыли лазурью снаружи И в свинцовые рамы Вставляли чешуйки слюды.Тем горше щемящее чувство боли за поруганную честь двух «безвестных владимирских зодчих». «Диковинный храм» возвышается над окружающим его «срамом» — миром растоптанного человеческого достоинства:
А над всем этим срамом Та церковь была — Как невеста! И с рогожкой своей, С бирюзовым колечком во рту — Непотребная девка Стояла у Лобного места И, дивясь, Как на сказку, Глядела на ту красоту…Сравнение с невестой, излюбленное и популярное в народной поэзии, неизменно обозначало красоту, близкую народному чувству. После ослепления мастеров по велению Грозного красавица церковь — творение их рук, «соколиных очей», сердца и разума — обретает в духе песенно-народной традиции черты существа одушевленного, как бы воспринявшего нравственные качества ее создателей:
И стояла их церковь Такая, Что словно приснилась. И звонила она, Будто их отпевала навзрыд, И запретную песню Про страшную царскую милость Пели в тайных местах По широкой Руси Гусляры.В колокольных звонах слышится отнюдь не церковный благовест, освящавший столь часто неправые дела «отцов» государства, а призыв к активному выражению протеста. Между ее «рыданиями» и «запретными песнями» гусляров легко устанавливается прямая связь. Не случайно с жестокостью, равной содеянному над строителями храма, карали скоморохов, варварски ломали их «гусли звончатые», а самих певцов колесовали и подымали на дыбу.
Следующее произведение Кедрина из русской истории — «Песню про Алену-Старицу» — можно рассматривать как одну из таких «запретных песен» о легендарной сподвижнице Степана Разина, водившей, по преданию, два полка. «Те два полка, Что два волка, Дружину грызли царскую», — с гордостью и достоинством признается старица в своем диалоге с пытающим ее дьяком. Да это и не диалог в обычном смысле. Ответы ее представляют собой вдохновенный монолог перед казнью. Кедрин показал героический характер этой, как назвал ее Луговской, «железной старухи», не дрогнувшей перед нечеловеческими муками. Язык песни метафоричен и вместе с тем удивительно точен. Автор исполнен одновременно сочувствия и гордости, в его изображении сама природа, как это обычно бывает в народных песнях, выступает в тесном союзе с героиней. Природа не фон, не свидетель, а соучастник событий:
Смола в застенке варится, Опарой всходит сдобною, Ведут Алену-Старицу Стрельцы на место Лобное. В Зарядье над осокою Блестит зарница дальняя, Горит звезда высокая… Терпи, многострадальная! А тучи, словно лошади, Бегут над Красной площадью.Пейзаж, сопровождающий «железную старуху» в ее последний путь, напоминает об иной поре, когда полыхали зарницы пожаров и горели высокие звезды над вольным полем; и тучи над Красной площадью уподобляются коням.
Народно-песенная основа органично вошла в произведения Кедрина, придавая им особую поэтичность и непосредственность очарования народных песен и «дум». Кедрин охотно обращается к народнопоэтическим источникам, к «бродячим сюжетам». Так появляются остро-драматические баллады «Сердце» (1935) и «Две песни про пана» (1936), а в дни войны — стихотворение «Мать» (первоначальное заглавие «Сказка», 1944) о силе материнской любви, победившей в поединке с самой Смертью.
В ряду литературных предшественников Дмитрия Кедрина нельзя не вспомнить Некрасова, в произведениях которого фольклорное начало обретало новую жизнь. Кедрин свободно вводит в поэтический текст фольклорный материал, так сказать, в его чистом виде, достигая искомой гармонии чувства и слова. Стремясь донести всю глубину тоски по России Федора Коня, бежавшего в «фряжскую страну» от государева произвола, Кедрин приводит в своей стихотворной повести отрывки из подлинных народных песен:
И бабы пели в избах тесных, Скорей похожую на стон, Одну томительную песню, Что с колыбели помнил он: «И в середу — Дождь, дождь, И в четверток — Дождь, дождь, А соседи бранятся, Топорами грозятся…»В снах Федьки Коня, мужицкого сына, раскрывается мир души русского человека той далекой поры, заброшенного на чужбину, его тяга к милой родине. Возникает столь любимый Кедриным пейзаж средней полосы России — ее бескрайние поля, реки и озера, леса и подлески, солнечные поляны и сырая глухомань, моросящий дождик и очистительные ливни, снежные метели и весенние распутицы. Этот лирический пейзаж освещен светлым романтическим чувством в лучших довоенных стихах Кедрина, таких, как «Подмосковная осень» (1937), «Зимнее» (1938), «Осенняя песня» (1941). И как итог рождается крылатая строка: «Неярких снов России милой еще никто не забывал!»
Федор Савельевич Конь — фигура историческая, подробные сведения о нем сохранились в летописях, но Кедрин дает свою гипотезу жизни знаменитого русского строителя. Судьба его, описанная в повести Кедрина, столь же трагична, как судьбы «двух безвестных владимирских зодчих», возводивших церковь Василия Блаженного. Строитель-умелец, прозванный Конем за необычную силу и неуемный нрав, «прибив» оскорбившего его опричника-немчина Штадена, бежит в чужие земли. Проходит инженерную науку у флорентийских мастеров, поражая их своим зодческим талантом, обретает признание и достаток, но, снедаемый тоской по родине, возвращается в Россию, бьет челом и получает прощение умирающего царя. Сбываются сны Федора Коня, мучившие его в далеких землях тоской по России, — этому посвящены поэтичнейшие страницы повести в стихах. Новый царь Федор поручает ему строительство стен и башен московского Белого города. Однако царская милость и благодарность за труд вскоре обернулись позорным наказанием и заключением в Соловецкий монастырь, откуда Конь бежал и кончил свою жизнь в беспамятстве и пьянстве «Иваном, не помнящим родства».
Как и в поэме «Зодчие», Кедрин обращается к теме конфликта между искусством и самодержавием, художником и государством. Заметим, что в исследовании этой глубоко волновавшей поэта проблемы он движется в русле поисков, начатых по инициативе А. М. Горького, призывавшего литераторов обратиться к трагическим судьбам народных талантов, воскресить забытые страницы истории демократической культуры России. Чрезвычайно интересна переписка Горького с молодой очеркисткой Верой Жаковой, написавшей, по наставлениям великого писателя, серию очерков на эту тему. Был написан ею и рассказ «О черном человеке Федоре Коне», опубликованный в 1934 году в альманахе «Год XVII», редактировавшемся Горьким. В своем повествовании о жизни русского мастера Федора Коня Кедрин в значительной мере следует фактам из рассказа Веры Жаковой, который конечно же был ему известен и — более того — послужил одним из источников при создании повести. Произведения эти, как справедливо считают исследователи, «едины в трактовке образа „российского мастера“ Федора Коня»[12].
Новейшие исследования о выдающемся инженере и архитекторе Федоре Савельевиче Коне не подтверждают трагической трактовки его биографии[13]. Однако Кедрин не случайно утверждал в своих заметках «право художника на историческую неточность во имя точности внутренней»[14]. В созданном им образе талантливого мастера из народа, гонимого и загубленного тиранической силой самовластия, поэт опирался не на исторические факты, а на народное творчество, создавшее множество легенд на эту тему[15]. Поэта привлекает в них проблема выражения художником дум и чаяний народа, прогрессивных тенденций своего времени.
Кедрин судит о прошлом, имея за плечами «огромную совесть» своей эпохи. В стихотворении «Грибоедов» (1936) он обращается к трагедии русского просвещенного дворянства от гибели Чаадаева и декабристов до «почетной» ссылки автора «Горя от ума». Знаменателен эпизод горестной встречи Пушкина с арбой, в которой везли в Тифлис останки российского посла «Грибоеда». В юбилейный год, когда отмечалось столетие со дня смерти А. С. Пушкина, Кедриным была начата повесть в стихах о судьбе великого русского поэта, одна из глав которой была написана, но опубликована лишь посмертно под заглавием «Сводня».
В своих размышлениях о высокой и бескомпромиссной правде искусства, о свободе творчества и судьбах великих мастеров прошлого Кедрин выходит за пределы отечественной истории. В проникнутом восточным изяществом и изысканной иронией «Приданом» (1935) он обращается к одной из легенд о «звезде поэтов», «ослепительном Фердуси», не дождавшемся даров от падишаха и умершем в нищете. Обыгрывая условный, стилизованный сюжет, Кедрин показывает тщетность и бесплодность надежд на благодарную память правителя. Караван с богатыми подарками пришел в час смерти поэта, а дочь певца к тому времени постарела и лишилась рассудка, так и не дождавшись женихов.
Стон верблюдов горбоносых У ворот восточных где-то, А из западных выносят Тело старого поэта. Бормоча и приседая, Как рассохшаяся бочка, Караван встречать — седая — На крыльцо выходит дочка.Речь «невесты», обращенная к шахским послам, «окольцована» по-восточному учтивым и горьким афоризмом: «Ах, медлительные люди! Вы немножко опоздали…»
* * *
Продолжением поэтических раздумий Кедрина о судьбах искусства в обществе социальной несправедливости, о типе художника, свободного в своем творческом волеизъявлении, явилась драма в стихах «Рембрандт» (1938), написанная как бы на едином дыхании за два месяца напряженной работы[16]. Кедрина восхищали творческая смелость и глубокий психологизм мастера светотени, непримиримость и стойкость характера художника, отчетливо проявлявшегося в его полотнах. В творческом воображении поэта вырастала могучая фигура мастера, свободного в своих поисках, противостоящего внешним обстоятельствам, сумевшего до конца остаться верным себе и искусству. Образ художника был дорог и близок Кедрину еще и потому, что его собственные лучшие поэтические образы всегда живописны по самой своей природе. Кедрин воспринимает мир как бы глазами мастера кисти и резца. Отсюда удивительная пластичность поэтического образа, его скульптурность. Именно поэтому зрительное восприятие живописи Рембрандта столь естественно и органично переведено на язык поэзии, а психологизм творчества великого голландца определил и обусловил глубокий психологизм его характера в драме Кедрина.
Рембрандт раскрывается как героическая личность, положительный герой, утверждающий правду неподкупного искусства. Обращение к личности Рембрандта, сына свободолюбивой Фландрии, неотделимо в восприятии Кедрина от борьбы народа Фландрии за свою свободу и независимость. В «Рембрандте» поэту дорог мятежный дух доброго, веселого и бесстрашного фламандского народа, героико-романтический образ легендарного Уленшпигеля, через увлечение которым прошли старшие современники Кедрина — Эдуард Багрицкий, Владимир Луговской. Романтический пафос первой книги Багрицкого «Юго-Запад» неотделим от его восприятия Нидерландской революции, которая была по своей сути народным движением. В том же романтическом ключе воспринимал Кедрин революционное и культурное наследие героического прошлого Нидерландов, адресуя себе лирические строки из «Двойника»:
Под знаменем гезов, суровых и босых, Вперед заношу мой скитальческий посох.Потомком гезов, а то и прямо «старым гезом» с гордостью называет себя Рембрандт в пьесе Кедрина, противопоставляя тем самым героическое прошлое фламандцев современной ему буржуазной действительности. Талант Рембрандта возвысился и развернулся как выражение самосознания свободных Нидерландов, сбросивших в многовековой борьбе испанское владычество. Именно этой народной основой особенно дорог Кедрину образ голландского художника. Однако завоевания Нидерландской революции, которая была прежде всего народной войной за национальную независимость, очень скоро пришли в противоречие с дальнейшими интересами и целями национальной буржуазии. Буржуазия Нидерландов нуждалась в живописце, который бы прославил и утвердил ее куцые идеалы в пышных декоративных полотнах. Национальному гению Рембрандта, шедшему путем поисков и открытий, выраставшему из глубин народных, чужды эти стремления. Его конфликт с амстердамским бюргерством развивается в пьесе Кедрина по этой линии. «Живописцем нищих» называет себя Рембрандт и, с присущей его характеру прямотой определяя свои симпатии, делает свой выбор. Трагический конфликт свободолюбия и отваги гезов с корыстным миром наживы и ханжества реализован Кедриным в сложной фигуре художника.
Героический характер Рембрандта, воссозданный в пьесе, вызывает представление о человеке, умудренном суровым жизненным опытом, превыше всего ставящем свободу. В понимании Рембрандта искусство всегда национально и неотделимо от питающей его родной почвы. Он бескомпромиссен и потому одинок в обществе бюргеров, смело идет на обнажение противоречий, которые приобретают классовый характер. Даже сама Саския, истинное дитя своей социальной среды, объективно противостоит Рембрандту в пьесе Кедрина.
Стремясь раскрыть характер героя во взаимодействии с жизненными обстоятельствами, Кедрин сдвигает события, компонуя их таким образом, чтобы с предельной отчетливостью и неоспоримой убедительностью обнажить самую сущность натуры художника.
Разорившийся, оставленный друзьями, Рембрандт хорошо осознает меру и цену утраченного и обретенного. Он художник во всем, с первого появления на сцене и до своего смертного часа, когда отстраняет поднесенное к его губам распятие. Последние слова умирающего, обращенные к исповеднику — «Как плохо нарисован этот бог…» А несколько ранее, в сцене изъятия у разорившегося Рембрандта ценностей и антикварных вещей, с любовью собранных еще при жизни Саскии, он произносит фразу, выразившую убеждение подлинного мастера в том, что никто не властен отнять у него дарованное ему талантом: «Не бархат мне, а синь его нужна, не золото, а блеск его тревожный».
«Жил человек в земле восточной Уц, и было имя человеку — Иов», — диктует Рембрандт писцу, составляющему бумагу о его банкротстве. Однако герой Кедрина отнюдь не библейский страстотерпец, покорный божьей воле и за то вознагражденный сторицею. Рембрандт — борец, восставший против косности и сытости амстердамского бюргерства, против устаревших канонов искусства, против ханжества церковной морали, наконец против самой смерти. Он знает, что ему суждено бессмертие. В наиболее драматический момент пьесы, когда все утрачено героем и близится трагический финал, возникает удивительно светлый поэтический мотив «памятника», утверждающий нетленность подлинного искусства и его творца. Мысль о вечности искусства — одна из главных поэтических тем Кедрина. Из глубин истории восходит в мир будущего выстраданная правда гения — его эстафета потомкам. «А все же я сильней, чем даже смерть», — раздумчиво роняет художник, вспоминая в лирическом монологе похороны Саскии, день, когда Амстердам прощался со своей именитой горожанкой. Но с ним его живая Саския, запечатленная на стольких полотнах, ушедшая не в небытие, а в будущее.
Я Саскию нанес на полотно, И пусть, сбирая урожай обильный, Смерть скосит десять поколений, но Она зубами лязгает бессильно. Не раз минует чистый образ тот, То полотно, что, как письмо в конверте, К потомкам отдаленнейшим дойдет И тронет их. Да, я сильнее смерти!Драма в стихах, как назвал свою пьесу Кедрин, или трагедия, как ее определил Илья Сельвинский, продолжение раздумий поэта о судьбах искусства, о его нетленности и силе.
Для Кедрина главным и определяющим в Рембрандте оказывается его глубинная связь с народом. «Рембрандт писал мадонну в виде нидерландской крестьянки»[17], — замечал Карл Маркс, подчеркивая народную, национальную сущность творчества этого художника. По глубокой убежденности Кедрина, только на взлете народного самосознания являются миру подлинные таланты.
* * *
В годы Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков, когда на полях России решались судьбы человечества и мировой цивилизации, Кедрин по-новому взглянул на отечественную историю, сквозь великие события увидел больше и дальше того нравственно-этического, творческого начала, которое преобладало в 30-е годы в его осмыслении народного характера. В эти годы Кедрин с особой остротой ощутил преемственность традиций в отечественной истории и культуре.
В годы войны Дмитрий Кедрин вырос в поэта, видящего «далеко окрест», ответственного не только за сегодняшнее, настоящее, не только за будущее, но и за героическое прошлое, хорошо знающего цену добытого в борьбе многих поколений.
Остались главы из недописанной им поэмы «Семья» (1945), где поэт предполагал изобразить жизнь целой рабочей династии, провести своих героев от первой мировой войны к Отечественной.
В обычно спокойном голосе Кедрина-повествователя возникает властная, ораторская интонация, поэт обращается к народу, говорит от имени отчизны, сливая свой голос, свое «я» с многомиллионным «мы».
Ты, что хлеб свой любовно выращивал, Пел, рыбачил, глядел на зарю. Голосами седых твоих пращуров Я, Россия, с тобой говорю. («1941»)За плечами поэта все прошлое его родины, все прошлое его поэзии — и зодчие, и Алена-Старица, Разин и Пугачев, Пушкин и декабристы, «деды в андреевских звездах, в высоких, седых париках». Он проходит через главные этапы отечественной истории от «первого гвоздя», заколоченного в «первый сруб Москвы», к ратным победам русского оружия, к добытым в боях и поверженным вражеским знаменам, пылящимся в русских музеях. В самое сердце нацелены слова, призывающие отстоять завоевания многих поколений:
Для того ль сеял дождик холодненький, Точно слезы родимой земли, На этап бритолобых колодников, Что по горькой Владимирке шли; Для того ли под ленинским знаменем Неусыпным тяжелым трудом Перестроили мы в белокаменный Наш когда-то бревенчатый дом.Настроения Кедрина этой поры ярче всего выражены и его «Думе о России» (1942). Обратившись к историческому прошлому, поэт нашел для «Думы» песенно-поэтическую, сказовую форму. Сама русская земля, вся природа участвует в битве не на жизнь, а на смерть:
Ястреб нам крылом врага укажет, Шелестом трава о нем расскажет, Даль заманит, выдаст конский топот. Русская река его утопит… …Чтоб, как встарь, стояла величаво Мать Россия, наша жизнь и слава!Сила убежденности наполняет это программное стихотворение лирической публицистичностью, столь свойственной всей советской поэзии военной поры.
Дальнейшее развитие Кедриным поэтической темы России шло по линии углубления лирического начала, нарастания многослойной поэтической образности. Возник замысел книги «Русские стихи», куда вошли его лучшие лирические стихотворения. В тревожном 1942 году, когда отброшенные от Москвы немцы рвались к Волге, держали в кольце блокады Ленинград, были написаны «Красота», «Аленушка», «Родина», «Я не знаю, что на свете проще?..», «Россия! Мы любим неяркий свет…».
По прошествии многих лет, на вечере, посвященном памяти поэта, Владимир Луговской первым обратил внимание на своеобразие этих лирических стихов, на их особое место в поэзии Отечественной войны. «Я специально обращаю ваше внимание, — говорил Луговской, — на стихи о войне Дмитрия Кедрина. Они не совсем похожи на обычную фронтовую лирику. Читаешь стихотворения 1942–1944 годов, а войны как будто нет. Но она там есть, там говорится о России, о свойствах русской души, и не забыты характерные для русской природы детали. Он как-то скромно, в застенчивой манере подает все эти события, стальные щиты, в которых родина оборонялась от гитлеровских полчищ. Это лирика удивительная, заставляющая о многом задуматься»[18].
Из «Русских стихов» Кедрина вырастает пленительный, пронизанный щемящей любовью образ Родины-матери. Светлый мир пушкинской поэзии, некрасовская муза «мести и печали», выстраданная Блоком любовь к России сопровождали Кедрина в его поэтическом поиске, сопутствуя его собственным поэтическим открытиям. «Хочешь знать, что такое Россия, — Наша первая в жизни любовь?» — обращается поэт к современникам и раскрывает в «Русских стихах» образ Родины — отечества декабристов, Пушкина, Некрасова, Ленина, историю той демократической культуры, которую имел в виду В. И. Ленин, когда говорил о двух культурах в каждой национальной культуре.
Началом сентября 1942 года датировано стихотворение «Красота», отличающееся пластичностью зрительных образов, гармонией светлого поэтического чувства, определившего и замедленный ритм, и строгую четкость метрики. Глубоко-национальное и общечеловеческое сливаются воедино, воплотив изначальное стремление кедринской поэзии к утверждению Красоты как этической нормы человеческого бытия. Чувством национального и гражданского достоинства исполнены строки, может быть, самые совершенные из написанных Кедриным:
Эти гордые лбы винчианских мадонн Я встречал не однажды у русских крестьянок, У рязанских молодок, согбенных трудом, На току молотивших снопы спозаранок. У вихрастых мальчишек, что ловят грачей И несут в рукаве полушубка отцова, Я видал эти синие звезды очей, Что глядят с вдохновенных картин Васнецова. С большака перешли на отрезок холста Бурлаков этих репинских ноги босые.. Я теперь понимаю, что вся красота — Только луч того солнца, чье имя — Россия!Таков итог долгих размышлений поэта о сущности красоты, ее поисков, прошедших от ранних стихотворений «Кремль» и «Афродита» к «Зодчим» и «Рембрандту» и завершившихся в лирике военных лет.
Снова и снова поэт черпает вдохновение в творчестве великих живописцев. Чистота, естественность, духовность леонардовских мадонн подчеркивает одухотворенность и очарование женского образа «российской крестьянки», сложную гармоничность народного характера, с такой силой проявившегося в годы войны.
Историческая живопись Васнецова, запечатлевшая героико-романтический и сказочный мир далекого прошлого, оказывается в годы Великой Отечественной войны особенно близкой и созвучной настроениям поэзии Дмитрия Кедрина. Родина видится ему то в образе царевны Несмеяны, то васнецовской Аленушки, поющей свою тихую песню, ту самую, что когда-то и над ним «певала мать». Илья Муромец для поэта просто «Муромец Илюша», без которого будто бы и немыслим пейзаж заброшенной далекой глухомани. Или еще:
Капельки осеннего тумана По стволам текут ручьями слез. Серый волк царевича Ивана По таким местам, видать, и вез… («Я не знаю, что на свете проще?..», 1942)Знакомый с детства сказочный образ, запечатленный большим русским художником, возникает в стихотворении, написанном в то время, когда над родиной, над «всем этим милым навеки» нависла смертельная опасность, и каждому была близка мысль, выраженная в концовке стихотворения:
Отчего ж нам этот край дороже Всех заморских сказочных земель?Существенно отметить принципиально новое эмоциональное качество пейзажной лирики Кедрина военных лет. Когда-то в таких стихах, как «Соловей» (1936), «Глухарь» (1938), «Клетка», «Зяблик» (1939), гармония покоя и красоты природы нарушалась вторжением в ее красочный, веселый мир, по-багрицкому «синий и зеленый», бессмысленной жестокости духовно убогого человека. Охотник в упор убивает токующего красавца глухаря, утратившего в своем экстазе инстинкт самосохранения. Свободные дети неба — щегол и чиж принуждены жить и петь в неволе. Эти и некоторые другие его лирические стихотворения несут в себе диссонирующее начало, в них нет того гармонического слияния с миром красоты, которое пришло в трагические годы войны, когда он ощутил себя горячей кровинкой России, и все мелкое, второстепенное, личные обиды и неудачи, которых было немало в жизни поэта, — все это отодвинулось далеко на второй план. «В те дни решалась общая судьба: моя судьба, твоя судьба, Россия!» — сказано в стихотворении «16 октября», написанном в один из наиболее трагических месяцев 1941 года.
Сегодня мы можем с полной объективностью назвать «Русские стихи» одной из волнующих страниц советской поэзии периода Великой Отечественной войны.
Лирическое восприятие и осмысление войны, ее первого периода шло у Кедрина сложными и трудными путями. Пытаясь понять грозные события осени 1941 года через отдельные детали и частности, поэт шел путем мучительных поисков, находя и утрачивая соотнесенность своего личного восприятия с общенародным. В первые месяцы войны были созданы исполненные не только боли и горечи, но и растерянности стихотворения «История», «16 октября», «Ночь в убежище», «Плач» и другие. В этих стихах порой утрачивается чувство исторической перспективы, обычно столь органично присущее его поэтическому сознанию.
В трагических стихах Кедрина того времени раскрыто кровоточащее сердце поэта, готового до конца разделить судьбу России. Всенародное бедствие сопровождалось в жизни Кедрина личной трагедией. По состоянию здоровья он не был годен к службе в армии. Издательства и литературные организации, с которыми поэт был связан творчески, эвакуировались в глубокий тыл. Кедрин оказался вне коллектива, без друзей, в подмосковном поселке, вблизи от линии фронта. Попытка эвакуироваться оказалась неудачной. «Я с семьей сутки с лишним просидел на вокзале — там было невесело»[19], — писал Кедрин в письме к одному из друзей. В эти сутки в сутолоке вокзала был потерян весь архив поэта[20]. Впоследствии по памяти была восстановлена лишь часть его поэтического наследия.
«Как я прошел через войну? — читаем на одной из страничек записной книжки. — Был момент отчаяния, когда немцы были у Москвы, было озлобление, что бросили, была растерянность… Ужаснее всего было одиночество в чужой среде. Тогда я понял, что смерть красна на миру. Для меня самый ужасный момент войны была не бомбежка, не фронт, а именно этот короткий, но страшный момент растерянности и одиночества. Дурной сон»[21]. Эти настроения получили свое лирическое развитие и поэтическую конкретизацию в стихотворных этюдах к незавершенной книге «День гнева», «лирического дневника войны», как называл ее сам поэт.
По свидетельству Л. И. Кедриной, Дмитрий Борисович предполагал в будущем создать поэму о войне на основании некоторых лирических этюдов, зарисовок и эскизов «Дня гнева». В его блокноте сохранилась запись, относящаяся к 1945 году: «Лирическая поэма. Тема: дни от 16 октября до 7 декабря 1941 года[22], — о самом тяжелом и трудном периоде в обороне Москвы. По-видимому, поэма выросла бы в скорбную и гневную лирическую симфонию войны. Поэт всем своим существом слушал эту трагическую симфонию, хорошо понимая, что различает далеко не все ее ноты. Именно это сознание заставило его написать стихотворение „Глухота“:
Война бетховенским пером Чудовищные ноты пишет. Ее октав железный гром Мертвец в гробу — и тот услышит! Но что за уши мне даны? Оглохший в громе этих схваток, Из всей симфонии войны Я слышу только плач солдаток.Не всякий поэт тех лет решился бы сказать такое о себе с беспощадной откровенностью, в которой не только заключено понимание избирательной ограниченности своего восприятия событий, но угадывается желание и стремление преодолеть эту избирательность, ощутить всю многокрасочность палитры времени, все его многоголосие. Тогда же, в окруженном кольцом блокады Ленинграде, Дмитрий Шостакович писал знаменитую Седьмую симфонию, вобравшую в себя героику и трагедийность великой войны, всю гордость непобедимого города Ленина. Поэтическая симфония Кедрина осталась незавершенной. Но в ней есть отдельные фрагменты, созвучные и Ленинградской симфонии. Когда читаешь поэтический рефрен: „„Дранг нах Остен! Дранг нах Остен!“ — выкликает барабан“, — словно слышишь механически-бездушную, назойливую, размеренную дробь фашистского марша, не раз возникающего в симфонии Шостаковича.
Сохранившиеся наброски и фрагменты к поэме свидетельствуют о том, что в трудном пути поиска поэта нередко подстерегали творческие неудачи. По-видимому, этим и объясняется тот факт, что как при жизни поэта, так и после его смерти „лирический дневник“ не был опубликован полностью. Теперь, через три десятилетия после того грозного, героического времени, нам легче понять смысл исканий поэта, его боль и скорбь, мягкость и незащищенность его души.
Эпиграф „После мрака надеюсь на свет“, предпосланный рукописи книги „День гнева“, определяет ее основную тональность, появление в некоторых ее стихотворениях тех светлых, жизнеутверждающих мотивов, которые в полный голос зазвучали в „Русских стихах“, явившихся дальнейшим осмыслением темы Великой Отечественной войны.
В мае 1943 года Кедрину удалось добиться направления на Северо-Западный фронт в распоряжение газеты Шестой воздушной армии „Сокол Родины“, где он проработал около года. В месяцы, проведенные на войне, он познал счастье фронтового товарищества в коллективе, сплоченном единой великой целью. „Живу в лесу, в землянке, умываюсь у родника. Дни стоят золотые, чувствую себя очень хорошо. Сейчас вечереет. Несмотря на близость опасности и на трудную большую работу, люди, которые меня окружают, играют сейчас в волейбол и весело хохочут. Через полчаса они переоденутся и пойдут на выполнение опасных боевых задач. Это особый, очень спокойный и очень героический народ…“[23] — писал он в письме к жене 26 июня 1943 года.
Кедрин внес свою „каплю меда“ в дело победы своей службой в армейской газете. Это было время напряженного труда, когда на помощь поэту пришел его опыт журналиста, сотрудника екатеринославской „Грядущей смены“ и мытищинской заводской многотиражки. Кедрин становится одним из основных работников армейской редакции, не только ведет литературный отдел, но зачастую „делает“ всю газету от передовой до отдела сатиры.
Первым произведением, заявившим о Кедрине на страницах „Сокола Родины“, было стихотворение „Россия! Мы любим неяркий свет…“, строки которого звучали как клятва тысяч бойцов:
На грозный бой, на последний бой, Россия, благослови.Почти в каждом номере печатаются его публицистические и сатирические стихи, в отделе сатиры появляется смекалистый и неунывающий Вася Гашеткин, откликающийся на все события фронтовой жизни. В те дни, как хлеб и воздух, нужны были и бодрящая шутка, и злая ирония, и политический памфлет. Кедрин-Гашеткин изо дня в день выполнял эту поэтическую работу.
Стихи Кедрина периода работы в „Соколе Родины“ стали его поэтической летописью жизни фронта. Так родилась „Баллада об Анке“, „Присяга“, „Побратимы“, „Летчики играют в волейбол“, „Английский орден“ и десятки других стихотворений. Листая пожелтевшие листы старой фронтовой газеты, реально ощущаешь большой гражданский вклад поэта в каждодневный труд сражающегося народа.
Стихи, печатавшиеся в „Соколе Родины“, честно выполнили свой солдатский долг, к значительной их части может быть отнесено предельно искреннее и суровое суждение Маяковского: „Умри, мой стих, умри как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши!“
Не все впечатления, накопленные в тот незабываемый и необходимый для утверждения его собственного гражданского самосознания фронтовой год, поэт успел реализовать при жизни. Но многие заметки из его фронтового блокнота легли в основу стихотворений, получивших впоследствии заслуженную известность.
Так, поводом к созданию стихотворения „Цыганка“ (1944), казалось бы, обращенного в прошлое, явилось освобождение советскими войсками Севастополя. В нем Кедрин по-своему продолжает традиции любимой им „гусарской лирики“, занимавшей столь значительное место в русской классической поэзии, связано оно и с „Синими гусарами“ Николая Асеева. В этом стихотворении есть волнующие строки о другой, далекой, первой обороне Севастополя, которые связывают, как всегда это бывает у Кедрина, „историю и современность“, возвращаясь к истокам патриотизма и гражданской чести:
Под гул севастопольской пушки Вручал старшина Пантелей Барчонку от смуглой старушки Иконку и триста рублей… …А сыну глядела Россия, Ночная метель и гроза В немного шальные, косые, С цыганским отливом глаза!..„Художественное произведение в конечном счете ценно тем, что оно дополняет в представлении читателя тот или иной исторический момент новыми чертами, углубляет и конкретизирует его“[24] — это суждение Кедрина возникло на основе личного поэтического опыта и помогает постичь процесс художественного мышления поэта, движение и развитие его поэтической мысли.
В том же 1944 году им написано стихотворение „Солдатка“, обращенное к дорогому для всей поэзии периода Великой Отечественной войны образу русской женщины, с особой проникновенностью запечатленному в стихотворении Михаила Исаковского „Русской женщине“. Великолепные стихи Исаковского остались гордой и горькой памятью войны, своеобразным поэтическим мемориалом „Родине-матери“. „Солдатка“ Дмитрия Кедрина своим лирическим и гражданственным пафосом устремлена в будущее. Кедрин написал о судьбе русской женщины, родившей сына уже после того, как погиб на первой мировой войне ее „работящий мужик“, хозяин и кормилец, о горькой вдовьей доле, о трудном детстве мальчика, о радости матери от его нехитрого подарка с первой получки, о появлении в доме помощницы, молодой сноровистой снохи, и о гибели на кровавых полях второй мировой войны солдата, так и не узнавшего, что станет отцом. Взволнованный голос поэта сливается с голосами погибших, тех, что не дождались встречи с близкими, кому не довелось повидать своих первенцев.
Гуманистическая направленность произведений Кедрина военной поры, вера в человека и боль за него созвучны раздумьям современной литературы, ее стремлению спасти планету для жизни и счастья людей. Стихи Кедрина, и те, что были напечатаны при жизни, и те, что пришли к читателю после его смерти, составили своеобычную страницу нашей поэзии. Развиваясь в контексте современной ему литературы, Кедрин был связан с классической традицией. Вместе с тем его светлое, гуманистическое дарование обращено к людям будущего, неизменно вызывая в сердцах „чувства добрые“. Художественный опыт Кедрина сопутствует поискам поэтов разных поколений и индивидуальностей. Кедринское начало ощущается в поэтическом освоении темы отечественной истории Сергеем Наровчатовым, Андреем Вознесенским, в видении русской природы Николаем Рыленковым, Михаилом Дудиным, Николаем Рубцовым и другими.
* * *
Творческий портрет Кедрина, характеристика его многообразного дарования не будут полны, если не сказать о его деятельности поэта-переводчика. Кедрин много и успешно работал в области художественного перевода и при жизни был известен главным образом как переводчик.
Сегодня, когда известность Кедрина-поэта утвердилась и продолжает расти, не следует забывать и об этом его вкладе в советскую поэзию и ее переводческую школу, тем более что в последние годы жизни художественный перевод составлял главное содержание работы Кедрина. „Он многое сделал для братства культур народов, для их взаимного обогащения как переводчик. И в этом ему не только я должен выразить свою признательность, — вспоминает Кайсын Кулиев. — Он был мудрым, доброжелательным, взыскательным и требовательным советчиком, неутомимым учителем молодых поэтов. Я хорошо помню, сколько их ходило к нему. В оценке произведений любого автора Кедрин был так же честен и откровенен, как и во всем, что он делал“[25].
В области художественного перевода раскрылась еще одна сторона дарования Дмитрия Кедрина, заложенная, по-видимому, в самой природе его поэтического таланта. Дар проникновения в отдаленные эпохи не только своей отечественной истории, но и в сокровищницу других народов и культур, постижение самых основ национального духа в таких произведениях, как „Приданое“, „Рембрандт“, „Певец“, уже свидетельствовали о потенциальных возможностях Кедрина как переводчика.
Переводческая деятельность Кедрина, начатая еще в 30-е годы, необычайно возросла в пору Отечественной войны, когда с такой отчетливостью проявилась историческая общность народов Советского Союза, поднявшихся на защиту не только своей государственности, но и национальной самобытности. „Работы у меня колоссальное количество. Меня совершенно завалили переводами. Я не солгу, если скажу, что за этот год перевел не менее 300 с лишним стихотворений. Написал две книги своих оригинальных стихов: одну о бомбежках, другую о России. Выйдет она или нет — еще не знаю“[26], — писал Кедрин одному из друзей в письме от 7 декабря 1942 года. По этому личному признанию можно судить о степени творческой активности Кедрина в военные годы. Упомянутые книги, как нетрудно догадаться, — это „День гнева“, которую поэт тогда не готовил к печати, и „Русские стихи“, представленные им в издательство „Советский писатель“ в конце того же года, но так и не увидевшие света.
Кедринские переводы из Гамзата Цадасы, Кайсына Кулиева, Мустая Карима, Мусы Джалиля, Андрея Малышко, Максима Танка, Владимира Сосюры, Саломеи Нерис, Йоханнеса Барбаруса открывали всесоюзному читателю сокровенный мир души сражающегося народа, духовный склад различных национальных характеров. По глубине проникновения в национальную стихию, по верности мысли и чувству подлинника при строгом соответствии существу и форме оригинала работа Кедрина представляет собой значительное явление школы советского поэтического перевода. Неоценимым качеством переводов Кедрина является проявленный им в этой области удивительный поэтический такт, идущий, по-видимому, от того исключительного душевного такта, которым, по воспоминаниям современников, был наделен поэт. А. А. Фадеев, отмечая в своей записной книжке недостатки в работе советских переводчиков того времени, выделил „очень хорошие“ переводы Кедрина[27].
Глубоко погружаясь в стихию подлинника, Кедрин постигает душу поэтического произведения, оставаясь в русле национальной традиции, строго охраняя оригинал от субъективистского произвола. Нередко талантливый поэт, с ярко выраженной индивидуальностью и неповторимым голосом, привносит эти свои достоинства в художественный перевод, не являющийся „вольным“, подавляет другую индивидуальность, лишая тем самым стихотворение его художественной самобытности. В современных переводах из национальных поэтов нередко безошибочно угадывается голос того или иного русского поэта, его интонация, его музыкальная тема. Кедрин умел передавать не только смысл, но и неповторимый дух оригинала, будь то перевод с польского, из Адама Мицкевича, или с татарского, из Мажита Гафури.
Записи Кедрина о психологии творчества, сохранившиеся в его блокноте, отражают и большой опыт переводческой работы. Его суждения о том, что „в поэзии нет места субъективности“, не только возводят истинного поэта в ранг объективного судии, но и адресуются мастерам художественного перевода.
Жизнь Кедрина трагически оборвалась на тридцать девятом году. Он погиб 18 сентября 1945 года при возвращении из Москвы домой, в Черкизово, не завершив многих творческих замыслов.
* * *
Кедрин был поэтом, ощущающим свое кровное единение с Россией, с народом, со всей Советской родиной. Он многого не успел, были у него, как у всякого мастера, свои взлеты и свои неудачи, но то, что он создал, позволяет судить о нем как об оригинальном и самобытном поэте.
„Я, как часы, заведен на сто лет“ — находим запись Кедрина в его рабочем блокноте 1944–1945 годов, содержащем богатейшую россыпь заготовок, планов, поэтических набросков к будущим, так и не родившимся произведениям. Здесь и обширные исторические справки о Семилетней войне, заметки о Ломоносове и Андрее Рублеве, об Афанасии Никитине. „Очередная работа: Повесть о войне, Папесса Иоанна, Графиня (о Параше Жемчуговой), о Лопухиной, смешной роман, Воспоминания, Любовь, Выигрышный билет, Рассказы, Стихи, Поэма, Семья“». В другом месте: «„Заметки к истории русской авиации“, книга „О психологии творчества“, „Розы Маяковского“». Его поэтические размышления об историческом прошлом, как и о современности, всегда содержат в себе развивающееся нравственное начало. В набросках к книге «О психологии творчества» Кедрин записывает: «Писать… любые стишки вообще — это слепое, бесперспективное занятие. Искусство и каждое его произведение в отдельности освещает и живет только чувством перспективы, завтрашнего дня, который как бы опрокидывается в него и зажигает его своим светом. Только при наличии перспективы все становится на свое место»[28]. Ярослав Смеляков, размышляя об исторических судьбах русской поэзии, о ее гуманистическом и интернациональном пафосе, о движении того лучшего, что создано советской классикой, в «коммунистическое далеко», к людям будущего, сказал о стихах Дмитрия Кедрина: «Думаю, что со временем их значение будет возрастать»[29].
Поэзии Дмитрия Борисовича Кедрина суждена долгая жизнь, и не только в сознании его соотечественников. Лучшие из его произведений переведены на иностранные языки, его знают и любят в Чехословакии, Венгрии, Югославии, Франции и многих других странах. По-видимому, этот процесс счастливого узнавания будет продолжаться.
С. А. Коваленко
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
1932–1945
1. КУКЛА («Как темно в этом доме!..»)
Как темно в этом доме! Тут царствует грузчик багровый, Под нетрезвую руку Тебя колотивший не раз… На окне моем — кукла. От этой красотки безбровой Как тебе оторвать Васильки загоревшихся глаз? Что ж! Прильни к моим стеклам И красные пальчики высунь… Пес мой куклу изгрыз, На подстилке ее теребя. Кукле — много недель! Кукла стала курносой и лысой. Но не всё ли равно? Как она взволновала тебя! Лишь однажды я видел: Блистали в такой же заботе Эти синие очи, Когда у соседских ворот Говорил с тобой мальчик, Что в каменном доме напротив Красный галстучек носит, Задорные песни поет. Как темно в этом доме! Ворвись в эту нору сырую Ты, о время мое! Размечи этот нищий уют! Тут дерутся мужчины, Тут женщины тряпки воруют, Сквернословят, судачат, Юродствуют, плачут и пьют. Дорогая моя! Что же будет с тобой? Неужели И тебе между них Суждена эта горькая часть? Неужели и ты В этой доле, что смерти тяжеле, В девять — пить, В десять — врать И в двенадцать — Научишься красть? Неужели и ты Погрузишься в попойку и в драку, По намекам поймешь, Что любовь твоя — Ходкий товар, Углем вычернишь брови, Нацепишь на шею — собаку, Красный зонтик возьмешь И пойдешь на Покровский бульвар? Нет, моя дорогая! Прекрасная нежность во взорах Той великой страны, Что качала твою колыбель! След труда и борьбы — На руке ее известь и порох, И под этой рукой Этой доли — Бояться тебе ль? Для того ли, скажи, Чтобы в ужасе, С черствою коркой Ты бежала в чулан Под хмельную отцовскую дичь, — Надрывался Дзержинский, Выкашливал легкие Горький, Десять жизней людских Отработал Владимир Ильич? И когда сквозь дремоту Опять я услышу, что начат Полуночный содом, Что орет забулдыга отец, Что валится посуда, Что голос твой тоненький плачет,— О терпенье мое! Оборвешься же ты наконец! И придут комсомольцы, И пьяного грузчика свяжут И нагрянут в чулан, Где ты дремлешь, свернувшись в калач, И оденут тебя, И возьмут твои вещи, И скажут: «Дорогая! Пойдем, Мы дадим тебе куклу. Не плачь!» 19322. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
Западные экспрессы Летят по нашим дорогам. Смычки баюкают душу, Высвистывая любовь. Знатные иностранцы С челюстями бульдогов Держат черные трубки Меж платиновых зубов. Днем мы торгуем с ними Лесом и керосином, Видим их в наших трестах В сутолоке деловой. Вечером они бродят По золотым Торгсинам, Ночью им простирает Светлую сень «Савой». Их горла укрыты в пледы От нашей дурной погоды, Желта шагрень чемоданов В трупных печатях виз. Скромны и любопытны — Кто из них счетоводы Солидной торговой фирмы «Интеллидженс сервис»? И ласковым счетоводам, Прошедшим море и сушу, Случается по дешевке За шубу или сервиз Купить иногда в рассрочку Широкую «русскую душу» Для старой солидной фирмы «Интеллидженс сервис». Он щупает нас рентгеном, Наметанный глаз шпиона, Считает наши прорехи, Шарит в белье… И вот Работу снарядных цехов И стрельбища полигона Короткий английский палец Разнес по костяшкам счет. Блудливая обезьяна, Стащившая горсть орехов! Хитрец, под великий камень Подкладывающий огонь… Союз — это семь огромных, Семь орудийных цехов, Республика — беспредельный Рокочущий полигон! Искусны у них отмычки, Рука работает чисто, А всё же шестую мира Украсть они не вольны. Поглядывающий в темень, Бессонный дозор чекистов, Глухо перекликаясь, Ходит вокруг стены. И мы говорим: «Джентльмены! Кто будет у вас защитник? И вот вам Киплинг для чтенья, Вполне подходящий слог. Друзья ваши рядом с вами, Не вздумайте шуб стащить с них. Прощайте! Да будет добр к вам Ваш либеральный бог». Шакалы газетных джунглей Их сравнивают с распятым, Но с низкой судебной черной Скамьи, для них роковой, Встает перед углекопом, Литейщиком и солдатом Лишь желтая старость мира, Трясущая головой. <1933>3. ПОЕДИНОК
К нам в гости приходит мальчик Со сросшимися бровями, Пунцовый густой румянец На смуглых его щеках. Когда вы садитесь рядом, Я чувствую, что меж вами Я скучный, немножко лишний, Педант в роговых очках. Глаза твои лгать не могут. Как много огня теперь в них! А как они были тусклы… Откуда же он воскрес? Ах, этот румяный мальчик! Итак, это мой соперник, Итак, это мой Мартынов, Итак, это мой Дантес! Ну что ж! Нас рассудит пара Стволов роковых Лепажа На дальней глухой полянке, Под Мамонтовкой, в лесу. Два вежливых секунданта, Под горкой — два экипажа, Да седенький доктор в черном, С очками на злом носу. Послушай-ка, дорогая! Над нами шумит эпоха, И разве не наше сердце — Арена ее борьбы? Виновен ли этот мальчик В проклятых палочках Коха, Что ставило нездоровье В колеса моей судьбы? Наверно, он физкультурник, Из тех, чья лихая стайка Забила на стадионе Испании два гола. Как мягко и как свободно Его голубая майка Тугие гибкие плечи Стянула и облегла! А знаешь, мы не подымем Стволов роковых Лепажа На дальней глухой полянке, Под Мамонтовкой, в лесу. Я лучше приду к вам в гости И, если позволишь, даже Игрушку из Мосторгина Дешевую принесу. Твой сын, твой малыш безбровый Покоится в колыбели. Он важно пускает слюни, Вполне довольный собой. Тебя ли мне ненавидеть И ревновать к тебе ли, Когда я так опечален Твоей морщинкой любой? Ему покажу я рожки, Спрошу: «Как дела, Егорыч?» И, мирно напившись чаю, Пешком побреду домой. И лишь закурю дорогой, Почуяв на сердце горечь, Что наша любовь не вышла, Что этот малыш — не мой. 19334. ДОБРО
Потерт сыромятный его тулуп, Ушастая шапка его, как склеп, Он вытер слюну с шепелявых губ И шепотом попросил на хлеб. С пути сучковатой клюкой нужда Не сразу спихнула его, поди: Широкая медная борода Иконой лежит на его груди! Уже, замедляя шаги на миг, В пальто я нащупывал серебро: Недаром премудрость церковных книг Учила меня сотворять добро. Но вдруг я подумал: к чему он тут, И бабы ему медяки дают В рабочей стране, где станок и плуг, Томясь, ожидают умелых рук? Тогда я почуял, что это — враг, Навел на него в упор очки, Поймал его взгляд и увидел, как Хитро шевельнулись его зрачки. Мутна голубень беспокойных глаз И, тягостный, лицемерен вздох! Купчина, державший мучной лабаз? Кулак, подпаливший колхозный стог? Бродя по Москве, он от злобы слеп, Ленивый и яростный паразит, Он клянчит пятак у меня на хлеб, А хлебным вином от него разит! Такому не жалко ни мук, ни слез, Он спящего ахает колуном, Живого закапывает в навоз И рот набивает ему зерном. Хитрец изворотливый и скупой, Он купит за рубль, а продаст за пять. Он смазчиком проползет в депо, И буксы вагонов начнут пылать. И если, по грошику наскоблив, Он выживет, этот рыжий лис, — Рокочущий поезд моей земли Придет с опозданием в социализм. Я холодно опустил в карман Зажатую горсточку серебра И в льющийся меж фонарей туман Направился, не сотворив добра. 19335. КРОВИНКА
Родная кровинка течет в ее жилах, И больно — пусть век мою слабость простит — От глаз ее жалких, от рук ее милых Отречься и память со счетов скостить. Выветриваясь, по куску выпадая, Душа искрошилась, как зуб, до корня. Шли годы, и эта ли полуседая, Тщедушная женщина — мать у меня? Убогая! Где твоя прежняя сила? Какою дорогой в могилу слегла? Влюблялась, кисейные платья носила, Читала Некрасова, смуглой была. Растоптана зверем, чье прозвище — рынок, Раздавлена грузом матрасов и соф, Сгорела на пламени всех керосинок, Пылающих в недрах кухонных Голгоф. И вот они — вечная песенка жалоб, Сонливость, да втертый в морщины желток, Да косо, по-волчьи свисающий на лоб, Скупой, грязноватый, седой завиток. Так попусту, так бесполезно и глупо Дотла допылала твоя красота! Дымящимся паром кипящего супа Весь мир от тебя заслонила плита! В истрепанных туфлях, потертых и рыжих, С кошелкой, в пальто, что не греет души́, Привыкла блуждать между рыночных выжиг, Торгуясь, клянясь, скопидомя гроши. Трудна эта доля, и жребий несладок: Пугаться трамваев, бояться людей, Толкаться в хвостах продуктовых палаток, Среди завсегдатаев очередей. Но желчи не слышно в ее укоризне, Очаг не наскучил ей, наоборот: Ей быть и не снилось хозяйкою жизни, Но только властительницей сковород. Она умоляет: «Родимый, потише! Живи не спеша, не волнуйся, дитя! Давай проживем, как подпольные мыши, Что ночью глубокой в подвалах свистят!» Затем, что она исповедует примус, Затем, что она меж людьми как в лесу, — Мою угловатую непримиримость К мышиной судьбе я, как знамя, несу. Мне хочется расколдовать ее морок, Взять под руку мать, как слепое дитя, От противней чадных, от жирных конфорок Увесть ее на берег мира, хотя Я знаю: он будет ей чуден и жуток, Тот солнечный берег житейской реки… Слепую от шор, охромевшую в путах, Я всё ж поведу ее, ей вопреки! 19336. ДВОЙНИК
Два месяца в небе, два сердца в груди, Орел позади, и звезда впереди. Я поровну слышу и клекот орлиный, И вижу звезду над родимой долиной: Во мне перемешаны темень и свет, Мне Недоросль — прадед, и Пушкин — мой дед. Со мной заодно с колченогой кровати Утрами встает молодой обыватель, Он бродит, раздет, и немыт, и небрит, Дымит папиросой и плоско острит. На сад, что напротив, на дачу, что рядом, Глядит мой двойник издевательским взглядом, Равно неприязненный всем и всему, — Он в жизнь в эту входит, как узник в тюрьму. А я человек переходной эпохи… Хоть в той же постели грызут меня блохи, Хоть в те же очки я гляжу на зарю И тех же сортов папиросы курю, Но славлю жестокость, которая в мире Клопов выжигает, как в затхлой квартире, Которая за косы землю берет, С которой сегодня и я в свой черед Под знаменем гезов, суровых и босых, Вперед заношу мой скитальческий посох… Что ж рядом плетется, смешок затая, Двойник мой, проклятая косность моя? Так, пробуя легкими воздух студеный, Сперва задыхается новорожденный, Он мерзнет, и свет ему режет глаза, И тянет его воротиться назад, В привычную ночь материнской утробы; Так золото мучат кислотною пробой, Так все мы в глаза двойника своего Глядим и решаем вопрос: кто кого? Мы вместе живем, мы неплохо знакомы, И сильно не ладим с моим двойником мы: То он меня ломит, то я его мну, И, чуть отдохнув, продолжаем войну. К эпохе моей, к человечества маю Себя я за шиворот приподымаю. Пусть больно от этого мне самому, Пускай тяжело, — я себя подыму! И если мой голос бывает печален, Я знаю: в нем фальшь никогда не жила!.. Огромная совесть стоит за плечами, Огромная жизнь расправляет крыла! <1934>7. БРОДЯГА
Есть у каждого бродяги Сундучок воспоминаний. Пусть не верует бродяга И ни в птичий грай, ни в чох,— Ни на призраки богатства В тихом обмороке сна, ни На вино не променяет Он заветный сундучок. Там за дружбою слежалой, Под враждою закоптелой, Между чувств, что стали трухлой Связкой высохших грибов, — Перевязана тесемкой И в газете пожелтелой, Как мышонок, притаилась Неуклюжая любовь. Если якорь брига выбран, В кабачке распита брага, Ставни синие забиты Навсегда в родном дому,— Уплывая, всё раздарит Собутыльникам бродяга, Только этот желтый сверток Не покажет никому… Будет день: в борты, как в щеки, Оплеухи волн забьют — и «Все наверх! — засвищет боцман. — К нам идет девятый вал!» Перед тем как твердо выйти В шторм из маленькой каюты, Развернет бродяга сверток, Мокрый ворот разорвав. И когда вода раздавит В трюме крепкие бочонки, Он увидит, погружаясь В атлантическую тьму: Тонколицая колдунья, Большеглазая девчонка С фотографии грошовой Улыбается ему. 19348. ДОРОШ МОЛИБОГА
Своротя в лесок немного С тракта в город Хмельник, Упирается дорога В запущенный пчельник. У плетня прохожих сторож Окликает строго. Нелюдим безногий Дорош, Старый Молибога. В курене его лежанку Подпирают колья. На стене висит берданка, Заряжена солью. Зелены его медали И мундир заштопан, Очи старые видали Бранный Севастополь. Только лучше не касаться Им виданных видов. Ушел писаным красавцем, Пришел — инвалидом. Скрипит его деревяшка, Свистят ему дети. Ой, как важко, ой, как тяжко Прожить век на свете! Сорок лет он ставит ульи, Вшей в рубахе ищет. А носатая зозуля На яворе свищет. Жена его лежит мертвой, Сыны бородаты,— Свищет семьдесят четвертый, Девяносто пятый. Лишь от дочери Глафиры С ним остался внучек. Дорош хлопчика цифири, Писанию учит. Раз в году уходит старый На село в сочельник. Покушает кутьи-взвара — И опять на пчельник. Да еще на пасху к храму В деревню, где вырос, Прибредет и станет прямо С певчими на клирос, Слепцу кинет медяк в чашку, Что самому дали. Скрипит его деревяшка, На груди — медали. Что с людьми стряслось в столице — Не поймет он дел их. Только стал народ делиться На красных и белых. Да от тех словес ученых, От мирской гордыни Станут ли медвяней пчелы, Сахарнее дыни? Никакого от них прока. Ни сыро ни сухо… Сие — речено в пророках — Томление духа. Жарок был дождем умытый Тот солнечный ранок. Пахло медом духовитым От черемух пьяных. У Дороша ж, хоть и жарко, Ломит поясницу, Прикорнул он на лежанку. Быль сивому снится. Сон голову к доскам клонит, Как дыню-качанку… Несут вороные кони На пчельник тачанку. В ней сидят, хмельны без меры, Шумны без причины, Удалые офицеры, Пышные мужчины. У седых смушковых шапок Бархатные тульи. Сапогами они набок Покидали ульи. Стали, лаючись погано, Лакомиться медом, Стали сдуру из наганов Стрелять по колодам, По белочке-баловнице, Взлетевшей на тополь. Дорошу ж с пальбы той снится Бранный Севастополь. Закоперщик и заводчик Всех делов греховных, Выдается середь прочих Усатый полковник. Зубы у него — как сахар, Усы — как у турка, Волохатая папаха, Косматая бурка. И бежит — случись тут случай — На тот самый часик С речки Молибогин внучек, Маленький Ивасик. Он бегом бежит оттуда, Напуган стрельбою, Тащит синюю посуду С зеленой водою. Увидал его и топчет Ногами начальник, Кричит ему: «Поставь, хлопчик, На голову чайник! Не могу промазать мимо, Попаду не целя. Разыграем пантомиму Из „Вильгельма Телля“!» Он платочком ствол граненый Обтирает белым, Подымает вороненый Черный парабеллум. Покачнулся цвет черемух, Звезды глав церковных. Друзья кричат: «Промах! Промах, Господин полковник!» Видно, в очи хмель ударил И замутил мушку. Погиб парень, пропал парень, А ни за понюшку! Выковылял на пасеку Старый Молибога. «Проснись, проснись, Ивасику, Усмехнись немного!» Брось, чудак! Пустяк затеял! Пуля бьется хлестко. Ручки внуковы желтее Церковного воска. Скрипит его деревяшка, На труп солнце светит… Ой, как важко, ой, как тяжко Жить с людьми на свете! С того памятного ранку Дорош стал сутулей. Он забил свою берданку Не солью, а пулей. А до города дорога — Три версты, не дале. Надел мундир Молибога, Нацепил медали… За то дело за правое И совесть не взыщет! В пути ему на яворе Зозуленька свищет. Насвистала сто четыре. Чтой-то больно много… На полковницкой квартире Стоит Молибога. Свербит стертая водянка, И ноги устали. На плече его — берданка, На груди — медали. Денщик угри обзирает В зеркальце стеклянном, Русый волос натирает Маслом конопляным. Сапоги — игрушки с виду, Чай, ходить легко в них… «Спытай, друже: к инвалиду Не выйдет полковник?» Лебедем из кухни статный Денщик выплывает, Ворочается обратно, Молвит: «Почивают». В мундир въелся, как обида, Колючий терновник… «Так не выйдет к инвалиду Говорить полковник?» И опять из кухни статный Денщик выплывает. Ворочается обратно, Молвит: «Выпивают». Подали во двор карету, И вышел из спальни Малость выпивший до свету Румяный начальник. Зубы у него — как сахар, Усы — как у турка, Волохатая папаха, Косматая бурка. Стоит в кухне Молибога На той деревяшке, Блестят на груди убого Круглые медяшки. Так и виден Севастополь В воинской осанке. Весь мундир его заштопан, На плече — берданка. «Что тут ходят за герои Крымской обороны? Ну, в чем дело? Что такое? Говори, ворона!» Дорош заложил патроны, Отвечает строго: «Я не знаю, кто ворона, А я — Молибога. Я судьбу твою открою, Как сонник-толковник. С севастопольским героем Говоришь, полковник! Я с дитятей не проказил, По садкам не лажу, А коли уж ты промазал, Так я не промажу!» Побежал на полуслове Полковник к карете. Грянь, берданка! Нехай злое Не живет на свете! Валится полковник в дверцы Срубленной ольхою, Он хватается за сердце Белою рукою, Никнет головой кудрявой И смертельно дышит… За то дело за правое И совесть не взыщет!.. Наставили в Молибогу Кадеты наганы, Повесили Молибогу До горы ногами. Торчит его деревяшка, Борода — как знамя… Ой, как важко, ой, как тяжко Страдать за панами! Большевики Молибогу Отнесли на пчельник, Бежит мимо путь-дорога В березняк и ельник. Он закопан между ульев, Дынных корневищей, Где носатая зозуля На яворе свищет. 19349. ПРИДАНОЕ
В тростниках просохли кочки, Зацвели каштаны в Тусе, Плачет розовая дочка Благородного Фердуси: «Больше куклы мне не снятся, Женихи густой толпою У дверей моих теснятся, Как бараны к водопою. Вы, надеюсь, мне дадите Одного назвать желанным. Уважаемый родитель! Как дела с моим приданым?» Отвечает пылкой дочке Добродетельный Фердуси: «На деревьях взбухли почки. В облаках курлычут гуси. В вашем сердце полной чашей Ходит паводок весенний, Но, увы: к несчастью, ваши Справедливы опасенья. В нашей бочке — мерка риса, Да и то еще едва ли. Мы куда бедней, чем крыса, Что живет у нас в подвале. Но уймите, дочь, досаду, Не горюйте слишком рано: Завтра утром я засяду За сказания Ирана, За богов и за героев, За сраженья и победы И, старания утроив, Их окончу до обеда, Чтобы вился стих чудесный Легким золотом по черни, Чтобы шах прекрасной песней Насладился в час вечерний. Шах прочтет и караваном Круглых войлочных верблюдов Нам пришлет цветные ткани И серебряные блюда, Шелк и бисерные нити, И мускат с инбирем пряным, И тогда, кого хотите, Назовете вы желанным». В тростниках размокли кочки, Отцвели каштаны в Тусе, И опять стучится дочка К благодушному Фердуси: «Третий месяц вы не спите За своим занятьем странным. Уважаемый родитель! Как дела с моим приданым? Поглядевши, как пылает Огонек у вас ночами, Все соседи пожимают Угловатыми плечами». Отвечает пылкой дочке Рассудительный Фердуси: «На деревьях мерзнут почки, В облаках умолкли гуси, Труд — глубокая криница, Зачерпнул я влаги мало, И алмазов на страницах Лишь немного заблистало. Не волнуйтесь, подождите, Год я буду неустанным, И тогда, кого хотите, Назовете вы желанным». Через год просохли кочки, Зацвели каштаны в Тусе, И опять стучится дочка К терпеливому Фердуси: «Где же бисерные нити И мускат с инбирем пряным? Уважаемый родитель! Как дела с моим приданым? Женихов толпа устала Ожиданием томиться. Иль опять алмазов мало Заблистало на страницах?» Отвечает гневной дочке Опечаленный Фердуси: «Поглядите в эти строчки, Я за труд взялся не труся, Но должны еще чудесней Быть завязки приключений, Чтобы шах прекрасной песней Насладился в час вечерний. Не волнуйтесь, подождите, Разве каплет над Ираном? Будет день, кого хотите, Назовете вы желанным». Баня старая закрылась, И открылся новый рынок. На макушке засветилась Тюбетейка из сединок. Чуть ползет перо поэта И поскрипывает тише. Чередой проходят лета, Дочка ждет, Фердуси пишет. В тростниках размокли кочки, Отцвели каштаны в Тусе. Вновь стучится злая дочка К одряхлелому Фердуси: «Жизнь прошла, а вы сидите Над писаньем окаянным. Уважаемый родитель! Как дела с моим приданым? Вы, как заяц, поседели, Стали злым и желтоносым, Вы над песней просидели Двадцать зим и двадцать весен. Двадцать раз любили гуси, Двадцать раз взбухали почки. Вы оставили, Фердуси, В старых девах вашу дочку». — «Будут груши, будут фиги, И халаты, и рубахи. Я вчера окончил книгу И с купцом отправил к шаху. Холм песчаный не остынет За дорожным поворотом — Тридцать странников пустыни Подойдут к моим воротам». Посреди придворных близких Шах сидел в своем серале. С ним лежали одалиски, И скопцы ему играли. Шах глядел, как пляшут триста Юных дев, и бровью двигал. Переписанную чисто Звездочет приносит книгу: «Шаху прислан дар поэтом, Стихотворцем поседелым…» Шах сказал: «Но разве это — Государственное дело? Я пришел к моим невестам, Я сижу в моем гареме. Тут читать совсем не место И писать совсем не время. Я потом прочту записки, Небольшая в том утрата». Улыбнулись одалиски, Захихикали кастраты. В тростниках просохли кочки, Зацвели каштаны в Тусе. Кличет сгорбленную дочку Добродетельный Фердуси: «Сослужите службу ныне Старику, что видит худо: Не идут ли по долине Тридцать войлочных верблюдов?» «Не бегут к дороге дети, Колокольцы не бренчали, В поле только легкий ветер Разметает прах песчаный». На деревьях мерзнут почки, В облаках умолкли гуси, И опять взывает к дочке Опечаленный Фердуси: «Я сквозь бельма, старец древний, Вижу мир, как рыба в тине. Не стоят ли у деревни Тридцать странников пустыни?» «Не бегут к дороге дети, Колокольцы не бренчали. В поле только легкий ветер Разметает прах песчаный». Вот посол, пестро одетый, Все дворы обходит в Тусе: «Где живет звезда поэтов — Ослепительный Фердуси? Вьется стих его чудесный Легким золотом по черни, Падишах прекрасной песней Насладился в час вечерний. Шах в дворце своем — и ныне Он прислал певцу оттуда Тридцать странников пустыни, Тридцать войлочных верблюдов, Ткани солнечного цвета, Полосатые бурнусы… Где живет звезда поэтов — Ослепительный Фердуси?» Стон верблюдов горбоносых У ворот восточных где-то, А из западных выносят Тело старого поэта. Бормоча и приседая, Как рассохшаяся бочка, Караван встречать — седая — На крыльцо выходит дочка: «Ах, медлительные люди! Вы немножко опоздали. Мой отец носить не будет Ни халатов, ни сандалий. Если шитые иголкой Платья нашивал он прежде, То теперь он носит только Деревянные одежды. Если раньше в жажде горькой Из ручья черпал рукою, То теперь он любит только Воду вечного покоя. Мой жених крылами чертит Страшный след на поле бранном. Джина близкой-близкой смерти Я зову моим желанным. Он просить за мной не будет Ни халатов, ни сандалий… Ах, медлительные люди! Вы немножко опоздали». Встал над Тусом вечер синий, И гуськом идут оттуда Тридцать странников пустыни, Тридцать войлочных верблюдов. 193510. СЕРДЦЕ (Бродячий сюжет)
Девчину пытает казак у плетня: «Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня? Я саблей добуду для крали своей И светлых цехинов, и звонких рублей!» Девчина в ответ, заплетая косу: «Про то мне ворожка гадала в лесу. Пророчит она: мне полюбится тот, Кто матери сердце мне в дар принесет. Не надо цехинов, не надо рублей, Дай сердце мне матери старой твоей. Я пепел его настою на хмелю, Настоя напьюсь — и тебя полюблю!» Казак с того дня замолчал, захмурел, Борща не хлебал, саламаты не ел. Клинком разрубил он у матери грудь И с ношей заветной отправился в путь: Он сердце ее на цветном рушнике Коханой приносит в косматой руке. В пути у него помутилось в глазах, Всходя на крылечко, споткнулся казак. И матери сердце, упав на порог, Спросило его: «Не ушибся, сынок?» 193511. ПЕВЕЦ
Тачанки, и пулеметы, И пушки в серых чехлах. Походным порядком роты Вступают в мирный кишлак. Вечерний шелковый воздух, Оранжевые костры, Хивы золотые звезды И синие — Бухары. За ними бегут ребята, Таща кувшины воды, На мокром песке рябят их Маленькие следы. Ребята гудят, как мухи, Жужжат, как пчелы во ржи, Их гонят в дома старухи, Не снявшие паранджи. Они их берут за спину И тащат на голове. Учитель, глотая хину, Справляется: что в Москве? И вот дымится и тухнет Сырой кизяк, запылав. В круглой походной кухне Варится жирный пилав. У нас, в комнатенке тесной, Слышно, как там, в ночи, Поют гортанные песни Пленные басмачи. Уже сухую солому Настлали на ночь в углы, Но входит хозяин дома Таджик Магомет-оглы. Он нам, как единоверцам, Отвешивает поклон, Рукою ко лбу и сердцу Легко касается он, Мы смотрим с немым вопросом, С невольной дрожью в душе: Ему не хватает носа, Недостает ушей. И он невнятно бормочет, И речь его как туман. Тогда встает переводчик Селим-ага-Сулейман. Не говоря ни слова, Он стелет на пол кошму, Приносит манерку плова И чай подает ему. «Гостеприимства ради, Друзья, мы не будем злы К наследнику шейха Сади — Певцу Магомет-оглы. Слова его — нить жемчужин, Трубы драгоценный звон, И усладить наш ужин Песней желает он». Ночь. Мы сидим раздеты, С трубками, по углам, И пеструю речь поэта Селим переводит нам. «Я жил пастухом у бая, Когда в гнезде у орла Азия голубая Наложницею спала. Пахал чужие опушки Я на чужих волах, Под щеку вместо подушки Подкладывал я кулак. Котомка — и вот он весь я, — Котомка, посох и пот! И, может быть, только песня В котомку ту не войдет — О том, что мор в Тегеране, Восток бездомен и сир, Но, словно курдюк бараний, Налился жиром эмир. Я правду пел, а не блеял, И песня была горька, Она бывала кислее Кобыльего молока. Когда я слагал рубаи, Колючие, как мечи, „Молчи!“ — говорили баи, Шипели муллы: „Молчи!“ Но след у неправды топок, С ней нечем делиться мне, Стихи, как цветущий хлопок, Летели по всей стране. Народ умирал в печали, Я пел, а время текло, И четверо постучали Нагайками мне в стекло, Меня повалили на пол, В мешок впихнули меня, Заткнули мне горло кляпом И кинули на коня. Два дня мы неслись. На третий В лучах рассветной игры Зареяли минареты Игрушечной Бухары. В тюрьму принесли мне к ночи Шашлык и сладкий инжир, Тогда я узнал, что хочет Беседы со мной эмир. Закат окровавил горы, Когда, перстнями звеня, На коврике из Ангоры Властитель принял меня. Заря пылала и тухла, Обуглившись по краям, В руке веснушчатой, пухлой Дымился длинный кальян. „Не преклоняй колена, Отри утомленья пот! — (Он сладок был, как измена, И ласков, как тот, кто лжет.) Не каждый имеет право Певцу подвести коня! Твоя прекрасная слава Домчалась и до меня. Недаром в свои тетради Переписал я сам Слова, что промолвил Сади И обронил Хаям. Догадки меня загрызли: Откуда берете вы Такие слова — из жизни Иль просто из головы?“ Я видел: он врет, лисица! Он льстит, но прячет глаза! И, вынув обрывки ситца, Я вытерся и сказал: „Эмир! Это дело тонко! Возьмешь ли из головы Кривые ножки ребенка, Скупые слезы вдовы? Нет! Песня приходит в уши, Когда, быка заколов, Ты лучшую четверть туши Казне относишь в налог, Когда в богатых амбарах Тебе не дают зерна. В кофейнях и на базарах Весь день толчется она И видит, как, прежде сонный, Народ теряет покой Под щедрой, под благословенной, Под мудрой твоей рукой. Она проходит сквозь сердце, Скисая в нем и бродя, Чтоб сделаться крепче перца, Живительнее дождя, Став черного кофе гуще, Коль совесть твоя чиста, Могущественной, влекущей Она выходит в уста!“ Эмира дряблые щеки Бурели, как кирпичи, Смешным голоском девчонки Эмир завопил: „Молчи!“ Он кинул в меня кинжальчик, Но, словно ветку в цвету, Широкобедрый мальчик Поймал его на лету. „Мудрец печется о пчелах, Но истребляет ос! Дурак! Не слишком ли долог Твой вездесущий нос? Тобой развращен, сорока, Народ начинает клясть Коран и знамя пророка, Мою священную власть! Чтоб проучить невежу, Запру я песню твою: И нос я этот отрежу, И рот я этот зашью! Дабы доносился глуше К тебе неутешный плач, Саблей отрубит уши Завтра тебе палач! Палач души твоей дверцы Захлопнет, как птичью клеть!“ — „Но если он вырвет сердце, То что же будет болеть?“ — „Не бойся! Его клещами Не вытащат палачи! Помни меня в печали: Живи, томись, молчи!“ Погибель душе эмира! Я стал после трех ночей Круглее головки сыра По милости палачей. Из лап их в смертном поте Ушел Магомет-оглы. Вглядитесь — и вы найдете У губ моих след иглы. Скитаясь, подобно тени, Я дожил до дня, когда Нам справедливый Ленин Дал пастбища и стада, Пять ярких лучей свободы Горели в звезде Москвы! Я прожил долгие годы, Но жизнь мне открыли вы. Я стар, но с каждым дыханьем Ненависть горячей! Стихи! Их поют дехкане, Бьющие басмачей. Поэтом и страстотерпцем — Так я покину мир. Эмир оставил мне сердце, И он ошибся, эмир!» Разгладив полы халата, Вздохнул умолкший старик, Мы слышим, как, мчась куда-то, Бормочет пьяный арык. Мы слышим в комнате тесной, Как рядом с нами в ночи Поют гортанные песни Пленные басмачи. Матов рассветный воздух, Стали не так остры Хивы золотые звезды И синие — Бухары. Но зоркий прожектор косо Ползет по темным полям… Выходит наш гость безносый И дню говорит: «Селям!» <1936>12. ГРИБОЕДОВ
Помыкает Паскевич, Клевещет опальный Ермолов… Что ж осталось ему? Честолюбие, холод и злость. От чиновных старух, От язвительных светских уколов Он в кибитке катит, Опершись подбородком на трость. На груди его орден. Но, почестями опечален, В спину ткнув ямщика, Подбородок он прячет в фуляр. Полно в прятки играть. Чацкий он или только Молчалин — Сей воитель в очках, Прожектер, Литератор, Фигляр? Прокляв а́нглийский клоб, Нарядился в халат Чаадаев, В сумасшедший колпак И в моленной сидит, в бороде. Дождик выровнял холмики На островке Голодае, Спят в земле декабристы, И их отпевает… Фаддей! От мечты о раве́нстве, От фраз о свободе натуры, Узник Главного штаба, Российским послом состоя, Он катит к азиятам Взимать с Тегерана куруры, Туркменчайским трактатом Вколачивать ум в персиян. Лишь упрятанный в ящик, Всю горечь земную изведав, Он вернется в Тифлис. И, коня осадивший в грязи, Некто спросит с коня: «Что везете, друзья?» — «Грибоеда. Грибоеда везем!» — Пробормочет лениво грузин. Кто же в ящике этом? Ужели сей желчный скиталец? Это тело смердит, И торчит, указуя во тьму, На нелепой дуэли Нелепо простреленный палец Длани, коей писалась Комедия «Горе уму». И покуда всклокоченный, В сальной на вороте ризе, Поп армянский кадит Над разбитой его головой, Большеглазая девочка Ждет его в дальнем Тебризе, Тяжко носит дитя И не знает, Что стала вдовой. <1936>13–14. ДВЕ ПЕСНИ ПРО ПАНА
1. «Настегала дочку мать крапивой…»
Настегала дочку мать крапивой: «Не расти большой, расти красивой, Сладкой ягодкой, речной осокой, Чтоб в тебя влюбился пан высокий, Ясноглазый, статный, черноусый, Чтоб дарил тебе цветные бусы, Золотые кольца и белила. Вот тогда ты будешь, дочь, счастливой». Дочка выросла, как мать велела: Сладкой ягодкою, королевой, Белой лебедью, речной осокой, И в нее влюбился пан высокий, Черноусый, статный, ясноглазый, Подарил он ей кольцо с алмазом, Пояс драгоценный, ленту в косы… Наигрался ею пан — и бросил! Юность коротка, как песня птичья, Быстро вянет красота девичья, Иссеклися косы золотые, Ясный взор слезинки замутили. Ничего-то девушка не помнит, Помнит лишь одну дорогу в омут, Только тише, чем кутенок в сенцах, Шевельнулась дочь у ней под сердцем. Дочка в пана родилась — красивой. Настегала дочку мать крапивой: «Не расти большой, расти здоровой, Крепкотелой, дерзкой, чернобровой, Озорной, спесивой, языкатой, Чтоб тебя не тронул пан проклятый. А придет он, потный, вислоусый, Да начнет сулить цветные бусы, Пояс драгоценный, ленту в косы, — Отпихни его ногою босой, Зашипи на пана, дочь, гусыней, Выдери его глаза косые!»2. «Белый цвет вишневый отряхая…»
Белый цвет вишневый отряхая, Стал Петро перед плетнем коханой. Он промолвил ей, кусая губы: «Любый я тебе или не любый? Прогулял я трубку-носогрейку, Проиграл я бритву-самобрейку. Что ж! В корчме поставлю шапку на кон И в леса подамся к гайдамакам!» «Уходи, мужик, — сказала Ганна.— Я кохаю не тебя, а пана.— И шепнула, сладко улыбаясь: — Кровь у пана в жилах — голубая!» Два денька гулял казак. На третий У криницы ночью пана встретил И широкий нож по рукоятку Засадил он пану под лопатку. Белый цвет вишневый отряхая, Стал Петро перед плетнем коханой. А у Ганны взор слеза туманит, Ганна руки тонкие ломает. «Ты скажи, казак, — пытает Ганна,— Не встречал ли ты дорогой пана?» Острый нож в чехле кавказском светел. Отвечает ей казак: «Не встретил». Нож остер, как горькая обида. Отвечает ей казак: «Не видел». Рукоятка у ножа резная. Отвечает ей казак: «Не знаю. Только ты пустое толковала, Будто кровь у пана — голубая!» 193615. «Когда кислородных подушек…»
Когда кислородных подушек Уж станет ненадобно мне — Жена моя свечку потушит, И легче вздохнется жене. Она меня ландышем сбрызнет, Что в жизни не жаловал я, И, как подобает на тризне, Не очень напьются друзья. Чахоточный критик, от сплетен Которого я изнемог, В публичной «Вечерней газете» Уронит слезу в некролог. Потом будет мартовский дождик В сосновую крышку стучать И мрачный подпивший извозчик На чахлую клячу кричать. Потом, перед вечным жилищем Простясь и покончив со мной, Друзья мои прямо с кладбища Зайдут освежиться в пивной. Покойника словом надгробным Почтят и припомнят, что он Был малость педант, но способный, Слегка скучноват, но умен. А между крестами погоста, Перчаткой зажавшая рот, Одета печально и просто, Высокая дама пройдет. И в мартовских сумерках длинных, Слегка задохнувшись от слез, Положит на мокрый суглинок Весенние зарева роз. 193616. КОФЕЙНЯ
«…Имеющий в кармане мускус не кричит об этом на улицах. Запах мускуса говорит за него».
Саади У поэтов есть такой обычай — В круг сойдясь, оплевывать друг друга. Магомет, в Омара пальцем тыча, Лил ушатом на беднягу ругань. Он в сердцах порвал на нем сорочку И визжал в лицо, от злобы пьяный: «Ты украл пятнадцатую строчку, Низкий вор, из моего „Дивана“! За твоими подлыми следами Кто пойдет из думающих здраво?» Старики кивали бородами, Молодые говорили: «Браво!» А Омар плевал в него с порога И шипел: «Презренная бездарность! Да минет тебя любовь пророка Или падишаха благодарность! Ты бесплоден! Ты молчишь годами! Быть певцом ты не имеешь права!» Старики кивали бородами, Молодые говорили: «Браво!» Только некто пил свой кофе молча, А потом сказал: «Аллаха ради! Для чего пролито столько желчи?» Это был блистательный Саади. И минуло время. Их обоих Завалил холодный снег забвенья. Стал Саади золотой трубою, И Саади слушала кофейня. Как ароматические травы, Слово пахло медом и плодами, Юноши не говорили: «Браво!» Старцы не кивали бородами. Он заворожил их песней птичьей, Песней жаворонка в росах луга… У поэтов есть такой обычай — В круг сойдясь, оплевывать друг друга. 193617. ЛЮБОВЬ («Щекотка губ и холодок зубов…»)
Щекотка губ и холодок зубов, Огонь, блуждающий в потемках тела, Пот меж грудей… и это есть — любовь? И это всё, чего ты так хотела? Да! Страсть такая, что в глазах темно! Но ночь минует, легкая, как птица… А я-то думал, что любовь — вино, Которым можно навсегда упиться! 193618. СОЛОВЕЙ
Несчастный, больной и порочный По мокрому саду бреду. Свистит соловей полуночный Под низким окошком в саду. Свистит соловей окаянный В саду под окошком избы. «Несчастный, порочный и пьяный, Какой тебе надо судьбы? Рябиной горчит и брусникой Тридцатая осень в крови. Ты сам свое горе накликал, Милуйся же с ним и живи. А помнишь, как в лунные ночи, Один между звезд и дубов, Я щелкал тебе и пророчил Удачу твою и любовь?..» Молчи, одичалая птица! Мрачна твоя горькая власть. Сильнее нельзя опуститься, Страшней невозможно упасть! Рябиной и горькой брусникой Тропинки пропахли в бору. Я сам свое горе накликал И сам с этим горем умру. Но в час, когда комья с лопаты Повалятся в яму, звеня, Ты вороном станешь, проклятый, За то, что морочил меня! 193619. БЕСЕДА
На улице пляшет дождик. Там тихо, темно и сыро. Присядем у нашей печки и мирно поговорим. Конечно, с ребенком трудно. Конечно, мала квартира. Конечно, будущим летом ты вряд ли поедешь в Крым. Еще тошноты и пятен даже в помине нету, Твой пояс, как прежде, узок, хоть в зеркало посмотри! Но ты по неуловимым, по тайным женским приметам Испуганно догадалась, что́ у тебя внутри. Не скоро будить он станет тебя своим плачем тонким И розовый круглый ротик испачкает молоком. Нет, глубоко под сердцем, в твоих золотых потемках Не жизнь, а лишь завязь жизни завязана узелком. И вот ты бежишь в тревоге прямо к гомеопату. Он лыс, как головка сыра, и нос у него в угрях, Глаза у него навыкат и борода лопатой, Он очень ученый дядя — и все-таки он дурак! Как он самодовольно пророчит тебе победу! Пятнадцать прозрачных капель он в склянку твою нальет. «Пять капель перед обедом, пять капель после обеда — И всё как рукой снимает! Пляшите опять фокстрот!» Так, значит, сын не увидит, как флаг над Советом вьется? Как в школе Первого мая ребята пляшут гурьбой? Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт, Этот не живший мальчик, вытравленный тобой? Послушай, а если ночью вдруг он тебе приснится, Приснится и так заплачет, что вся захолонешь ты, Что жалко взмахнут в испуге подкрашенные ресницы И волосы разовьются, старательно завиты, Что хлынут горькие слезы и начисто смоют краску, Хорошую, прочную краску с темных твоих ресниц?.. Помнишь, ведь мы читали, как в старой английской сказке К охотнику приходили души убитых птиц. А вдруг, несмотря на капли мудрых гомеопатов, Непрошеной новой жизни не оборвется нить! Как ты его поцелуешь? Забудешь ли, что когда-то Этою же рукою старалась его убить? Кудрявых волос, как прежде, туман золотой клубится, Глазок исподлобья смотрит лукавый и голубой. Пускай за это не судят, но тот, кто убил, — убийца. Скажу тебе правду: ночью мне страшно вдвоем с тобой! 193720. СКАЗКА ПРО БЕЛУЮ ВЕДМЕДЬ И ПРО ШМИДТОВУ БОРОДУ
Дочке Светлане
То не странник идет, не гроза гремит, Не поземка пылит в глаза ему,— То приехал в Кремль бородатый Шмидт К самому Большому Хозяину. И сказал ему тот: «Снарядить вели Самолет, коль саньми не едется. Полетай ты на Север, на пуп земли, Там живет госпожа ведмедица. Перед нею костер изо льда горит, Пролетают снежки, как голуби. В колдовском котелке она дождь варит И туман пущает из проруби. Оттого где не надо идут дожди, А где надобен дождь, там засуха. Ты к ведмедице той долети-дойди И котел этот спрячь за пазуху». Возле пупа земли на плавучий лед Опускался с неба туманного Краснокрылый конь — гидросамолет Михаила свет Водопьянова. Выползал на снега голубой песец, Говорил человечьим голосом: «Не довольно ли вам в облаках висеть? Не зазорно ль шуметь над полюсом? Подобру говорю: убирайтесь прочь! — Лаял, злобно наморщив усики. — Напущу я на вас на полгода ночь, Поглядим тогда, как вы струсите!» Отвечал Водопьянов: «Уймись, дружок! На полгода ночь? Эка невидаль! — На борту самолета фонарь зажег: — Вишь, мы солнце поймали неводом». Выплывал тогда из моря кит-кашалот, Говорил человечьим голосом: «Это кто в окиян опускает лот, Колет льдину киркой над полюсом? Полно в море вымеривать глубину! Я незваных гостей не жалую, Я хвостом махну — целый дом сомну, А не то вашу льдину малую!» Тут, картечною пулей заряжено, Громыхнуло ружье Папанина. Охнул кит-кашалот и ушел на дно, Меткой пулей под сердце раненный. И пошли они, и пришли они На огонь, что в сугробах светится. Под скалой ледяной в голубой тени Там сидит госпожа ведмедица. Перед нею костер изо льда горит, Пролетают снежки, как голуби, В колдовском котелке она дождь варит И туман пущает из проруби. Увидала людей госпожа ведмедь, Говорит человечьим голосом: «Понапрасну вы вздумали володеть Моей вотчиной — белым полюсом. Я хозяйка тут ровно тыщу лет. Против белых стуж вам не выстоять: У вас шерсти нет, у вас реву нет, У вас нет в ногах бегу быстрого. Чтоб никто из вас мне попенять не мог, По угодьям моим немереным Вы поспорьте-ка быстротою ног С моей лошадью — ветром северным. Как стрелу, я спущу его с тетивы, С золотого лука-оружия, И назавтра в железную дверь Москвы Он задует дождем и стужею». «Коли после его хоть на миг придешь — Признавай тогда мою волю сам, А скорее его добежишь — ну-к што ж! — Володей тогда белым полюсом!» Не окончила старая похвальбы, Ан глядит: через миг без малого Над плавучею льдиною из Москвы Загудела машина Чкалова. «Это кто же над полюсом в аккурат Пролетел, не причалив к берегу?» Отвечает Папанин: «Молодший брат Погулять полетел в Америку». «Снимем, — просит ведмедь, — мой заклад с коня, А давай-ка поспорим голосом: Коли ежели крикнешь громчей меня, Володей тогда белым полюсом!» Пасть раскрыла ведмедица, как жерло… Тут, не знаю — с небес, со стенки ли, Точно гром, раскатилось: «Алло! Алло!» То Москва вызывала Кренкеля. «Это кто же такой великан большой, Да и где он у вас хоронится?» — «Из кремлевской палаты мой брат старшой Запросил об моем здоровьице». «Ну, — сказала ведмедица, — голос — да! А давай же поспорим волосом: У кого повальяжнее борода, Так тому володеть и полюсом!» Тут на лед из палатки выходит Шмидт. Что ведмежий мех? Так, безделица. Борода у него на ветру дымит, Развороченным флагом стелется! Взял в кулак свою крепкую седину, Осрамил ведмедицу белую: «Вот сейчас, — говорит, — бородой тряхну, Так такую ль бурю изделаю! Что ты есть? — говорит. — Ничего! Ведмедь! Так тебе ль верховодить полюсом? Не умеешь ни бегать, а ни реветь, Ни умом не вышла, ни волосом! Уходи-ка, убогая, от греха. Ведь игра-то велась по правилам?..» И ушла ведмедь. Даже впопыхах Колдовской котелок оставила. А на льдине плавучей маяк зажгли, Засиял он звездою белою. Там Папанин сидит на пупу земли, Он сидит и погоду делает. Перед ним костер изо льда горит, Пролетают снежки, как голуби. Он и вёдро варит, и дожди варит, И туман пущает из проруби. Если тучу сварит — путевой листок Нацепляет на брюхо сразу ей: «Полетай, мол, ты, облако, на Восток, Покропи над Середней Азией». Если сварится вёдро — Папанин рад. Направляет он светлым донышком На далекий на город на Ленинград Золотое красное солнышко. И пылает маяк на пупу земли, Будто острый алмаз отточенный, И плывут на огонь его корабли По морям нашей вольной вотчины! 193721. ГОРБУН И ПОП
В честном храме опосля обедни, Каждый день твердя одно и то ж, Распинался толстый проповедник: До чего, мол, божий мир хорош! Хорошо, мол, бедным и богатым, Рыбкам, птичкам в небе голубом!.. Тут и подошел к нему горбатый Высохший урод с плешивым лбом. Он сказал ему как можно кротче: «Полно, батя! Далеко зашел! Ты, мол, на меня взглянувши, отче, Молви: всё ли в мире хорошо? Я-де в нем из самых из последних. Жизнь моя пропала ни за грош!» — «Не ропщи! — ответил проповедник. — Для горбатого и ты хорош». 193722. ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ
В Перово пришла подмосковная осень С грибами, с рябиной, с ремонтами дач. Ты больше, пиджак парусиновый сбросив, Не ловишь ракеткою теннисный мяч. Березки прозрачны, скворечники немы, Утрами морозец хрустит по садам: И дачница в город везет хризантемы, И дачник увязывает чемодан. На мокрых лугах зажелтелась морошка. Охотник в прозрачном и шумном лесу, По топкому дерну шагая сторожко, Несет в ягдташе золотую лису. Бутылка вина кисловата, как дрожжи. Закурим, нальем и послушаем, как Шумит элегический пушкинский дождик И шаткую свечку колеблет сквозняк. 193723. СВОДНЯ
Подобно старой развратнице, вы сторожили жену мою во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного, или так называемого сына, и, когда, больной венерической болезнью, он оставался дома, вы говорили, что он умирал от любви к ней, вы ей бормотали: «Возвратите мне сына».
Из письма Пушкина к Геккерену «Не правда ли, мадам, как весел Летний сад, Как прихотлив узор сих кованых оград. Опертых на лощеные граниты? Феб, обойдя Петрополь знаменитый, Последние лучи дарит его садам И золотит Неву… Но вы грустны, мадам?» К жемчужному ушку под шалью лебединой Склоняются душистые седины. Красавица, косящая слегка, Плывет, облокотясь на руку старика, И держит веер страусовых перьев. «Мадам, я вас молю иметь ко мне доверье! Я говорю не как придворный льстец, — Как нежный брат, как любящий отец. Поверьте мне причину тайной грусти: Вас нынче в Петергоф на праздник муж не пустит? А в Петергофе двор, фонтаны, маскарад! Клянусь, мне жалко вас. Клянусь, что Жорж бы рад Вас на руках носить, Сикстинская мадонна! Сие — не комплимент пустого селадона, Но истина, прелестное дитя. Жорж ищет встретить вас. Жорж любит не шутя. Ваш муж не стоит вас ни видом, ни манерой, Позвольте вас сравнить с Волканом и Венерой. Он желчен и ревнив. Простите мой пример, Но мужу вашему в плену его химер Не всё ль одно, что царский двор, что выгон? Он может в некий день зарезать вас, как цыган. В салонах говорят, что он уж обнажал Однажды святотатственный кинжал На вас, дитя! Мой бог, какая низость!.. А как бы оценил святую вашу близость Мой сын, мой бедный Жорж! Он болен от любви! Мадам, я трепещу. Я с холодом в крови, Сударыня, гляжу на будущее ваше. Зачем вам бог судил столь горестную чашу? Вы рано замуж шли. Любовь в шестнадцать лет Еще молчит. Не говорите „нет“! Вам роскошь надобна, как паруса фрегату, Вам надобно блистать. А вы… вы небогаты, И ваше серебро заложено жидам. Вы видите? Я знаю всё, мадам: И мужа странный труд, вам скушный и печальный, И ваши слезы в одинокой спальной, И хладное молчание его. Сознайтесь: что еще меж вами? Ничего! К тому ж известно мне, меж нами говоря, Недоброе внимание царя К супругу вашему. Ему ль ходить по струнке? Фрондер и афеист, — какой он камер-юнкер? Он зрелый муж. Он скоро будет сед, А камер-юнкерство дают в осьмнадцать лет, Когда его дают всерьез, а не в насмешку. Царь памятлив, мадам. Царь не забыл орешка, Раскушенного им в восстанье декабря. Смиреньем показным не провести царя! Он помнит, чьи стихи в бумагах декабристов Фатально находил почти что каждый пристав. Грядущее неясно нам. Как знать: Тот пагубный нарыв не зреет ли опять? Ваш муж умен, и злоба в нем клубится, Не вдохновит ли он цареубийцу, Не спрячет ли он сам кинжала под полу? В тот день, мадам, на Кронверкском валу Он может быть шестым иль в рудники Сибири Пойдет греметь к ноге прикованною гирей. Не тронется семьей ваш пасмурный чудак! А вас тогда что ждет? Чердак, мадам, чердак! А между тем… когда б вы пожелали, — Вы были б счастливы! Вы б лавры пожинали! Мой сын богат. В конце концов, мадам, Мой бедный Жорж не неприятен вам. Когда б склонились вы его любить нежнее — Вы разорвали б цепи Гименея, Соединившись с ним для страстных нег. Мне было бы легко устроить ваш побег. Вы б вырвались из мрачного капкана В край фресок Тьеполо, в край лоджий Ватикана, К утесам меловым, где важный Альбион Жемчужным облаком тумана окружен. Вы б мимолетный взор рассеянно бросали Кладбищам Генуи и цветникам Версаля, Блаженствуя в полуденной стране… Мадам, мадам, верните сына мне! Вы думаете — муж. Сударыня, поэты — Лишь дайте им перо да свежий лист газеты — В тот самый миг забудут о родне. Искусство их дарит забвением вполне. А будет он страдать, — обогатится лира: Она ржавеет в душном счастье мира, Ей нужны бури — и на лире той Звук самый горестный есть самый золотой! Но вот идет ваш муж. В лице его — досада…» «Мой друг, я битый час ищу тебя по саду. Барон, вы в грот ее напрасно завели. Домой пора — поедем, Натали!» Красавица ушла, покинув дипломата. Он вынул кружевной платочек аккуратный, Поставил трость меж подагричных ног, В ладошку табаку насыпал сколько мог, Раскрыв табачницу с эмалькой Ганимеда, И сладко чхнул… «Ну, кажется, победа!» 193724. СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО КЛАССИКА
Всегда ты на людях, Как слон в зверинце, Как муха в стакане, Как гусь на блюде… Они появляются из провинций, Способные молодые люди. «У вас одна комната? Ах, как мало! Погодка стоит — Не придумать плоше!» Ты хмуришься И отвечаешь вяло: «Снимайте, снимайте свои калоши!» Ты грустно оглядываешь знакомых И думаешь: «Ну, добивайте сразу!» Куда там! Они извлекают томы Любовных стихов, Бытовых рассказов. «Быть может, укажете недостаток? Родной! Уделите одну минуту! Вы заняты? Я буду очень краток: В поэмке — Всего восемнадцать футов!» Мелькают листы. Вдохновенье бурно. Чтецы невменяемы, — Бей их, режь ли… Ты слушаешь. Ты говоришь: «Недурно!» — И — лжешь. Ибо ты от природы вежлив. На ходиках без десяти двенадцать, Ты громко подтягиваешь бечевку, Но гости твои говорят: «Признаться, У вас так уютно! Мы к вам с ночевкой». Ты громко вздыхаешь: «Ложитесь с миром!» И думаешь День ото дня плачевней: Во что превратилась твоя квартира? В ночлежку? В родильный приют? В харчевню? А ночью под сердцем Тихонько плачет Утопленный в пресной дневной водице Твой стих, Что был вовсе неплохо начат, Но помер в тебе, Не успев родиться. И, стиснувши, как рукоять кинжала, Мундштук безобиднейший, В нервной дрожи Ты думаешь: «Муза уже сбежала. Жена собирается сделать то же…» А утром, Когда постучит знакомый, Ты снова в себе не найдешь сноровки Ему на докучный вопрос: «Вы дома?» — Раздельно ответить: «В командировке». 193725. ПЕСНЯ ПРО СОЛДАТА
Шилом бреется солдат, Дымом греется… Шли в побывку Из Карпат Два армейца. Одному приснилось: Мать Стала гневаться, А другой шел Повидать Красну девицу. Под ракитой Небольшой, Под зеленою, Он ту девицу Нашел Застрелённую. А чумак Уху варит При конце реки. «Шли тут нынче, — Говорит,— Офицерики. Извели они, Видать, Девку гарную!..» И подался Тот солдат В Красну Армию. <1938>26. ЗОДЧИЕ
Как побил государь Золотую орду под Казанью, Указал на подворье свое Приходить мастерам. И велел благодетель,— Гласит летописца сказанье,— В память оной победы Да выстроят каменный храм. И к нему привели Флорентинцев, И немцев, И прочих Иноземных мужей, Пивших чару вина в один дых. И пришли к нему двое Безвестных владимирских зодчих, Двое русских строителей, Русых, Босых, Молодых. Лился свет в слюдяное оконце. Дух тяжкий и спертый. Изразцовая печка. Божница. Угар и жара. И в посконных рубахах Перед Иоанном Четвертым, Крепко за руки взявшись, Стояли сии мастера. «Смерды! Можете ль церкву сложить Иноземных пригожей? Чтоб была благолепней Заморских церквей, говорю?» И, тряхнув волосами, Ответили зодчие: «Можем! Прикажи, государь!» И ударились в ноги царю. Государь приказал. И в субботу на вербной неделе, Покрестясь на восход, Ремешками схватив волоса, Государевы зодчие Фартуки наспех надели, На широких плечах Кирпичи понесли на леса. Мастера заплетали Узоры из каменных кружев, Выводили столбы И, работой своею горды, Купол золотом жгли, Скаты крыли лазурью снаружи И в свинцовые рамы Вставляли чешуйки слюды. И уже потянулись Стрельчатые башенки кверху. Переходы, Балкончики, Луковки да купола. И дивились ученые люди, Зане эта церковь Краше вилл италийских И пагод индийских была. Был диковинный храм Богомазами весь размалеван, В алтаре И при входах, И в царском притворе самом. Живописной артелью Монаха Андрея Рублева Изукрашен зело Византийским суровым письмом… А в ногах у постройки Торговая площадь жужжала, Торовато кричала купцам: «Покажи, чем живешь!» Ночью подлый народ До креста пропивался в кружалах, А утрами истошно вопил, Становясь на правеж. Тать, засеченный плетью, У плахи лежал бездыханно, Прямо в небо уставя Очесок седой бороды, И в московской неволе Томились татарские ханы, Посланцы Золотой, Переметчики Черной орды. А над всем этим срамом Та церковь была — Как невеста! И с рогожкой своей, С бирюзовым колечком во рту — Непотребная девка Стояла у Лобного места И, дивясь, Как на сказку, Глядела на ту красоту… А как храм освятили, То с посохом, В шапке монашьей, Обошел его царь — От подвалов и служб До креста. И, окинувши взором Его узорчатые башни, «Лепота!» — молвил царь. И ответили все: «Лепота!» И спросил благодетель: «А можете ль сделать пригожей, Благолепнее этого храма Другой, говорю?» И, тряхнув волосами, Ответили зодчие: «Можем! Прикажи, государь!» И ударились в ноги царю. И тогда государь Повелел ослепить этих зодчих, Чтоб в земле его Церковь Стояла одна такова, Чтобы в суздальских землях И в землях рязанских И прочих Не поставили лучшего храма, Чем храм Покрова! Соколиные очи Кололи им шилом железным, Дабы белого света Увидеть они не могли, Их клеймили клеймом, Их секли батогами, болезных, И кидали их, Темных, На стылое лоно земли. И в Обжорном ряду, Там, где заваль кабацкая пела, Где сивухой разило, Где было от пару темно, Где кричали дьяки «Государево слово и дело!» — Мастера Христа ради Просили на хлеб и вино. И стояла их церковь, Такая, Что словно приснилась, И звонила она, Будто их отпевала навзрыд, И запретную песню Про страшную царскую милость Пели в тайных местах По широкой Руси Гусляры. 193827. ЗИМНЕЕ
Экой снег какой глубокий! Лошадь дышит горячо. Светит месяц одинокий Через левое плечо. Пруд окован крепкой бронью, И уходят от воды Вправо — крестики вороньи, Влево — заячьи следы. Гнется кустик на опушке, Блещут звезды, мерзнет лес. Тут снимал перчатки Пушкин И усы крутил Дантес. Раздается на полянках Волчьих свадеб дальний вой. Мы летим в ковровых санках По дорожке столбовой. Ускакали с черноокой — И одни… Чего ж еще? Светит месяц одинокий Через левое плечо. Неужели на гулянку С колокольцем под дугой Понесется в тех же санках Завтра кто-нибудь другой? И усы ладонью тронет, И увидит у воды Те же крестики вороньи, Те же заячьи следы, На березах грачьи гнезда Да сорочьи терема… Те же волки, те же звезды, Та же русская зима… На кладбище мельком глянет, Где ограды да кусты, Мельком глянет, Нас помянет: Жили-были я да ты!.. И прижмется к черноокой, И задышит горячо. Глянет месяц одинокий Через левое плечо. 193828. ПЕСНЯ ПРО АЛЕНУ-СТАРИЦУ
Что не пройдет — Останется, А что пройдет — Забудется… Сидит Алена-Старица В Москве, на Вшивой улице. Зипун, простоволосая, На голову набросила, А ноги в кровь изрезаны Тяжелыми железами. Бегут ребята — дразнятся, Кипит в застенке варево… Покажут ноне разницам Острастку судьи царевы! Расспросят, в землю метлами Брады уставя долгие, Как соколы залетные Гуляли Доном-Волгою, Как под Азовом ладили Челны с высоким застругом, Как шарили да грабили Торговый город Астрахань! Палач-собака скалится, Лиса-приказный хмурится. Сидит Алена-Старица В Москве, на Вшивой улице. Судья в кафтане до полу В лицо ей светит свечечкой: «Немало, ведьма, попила Ты крови человеческой, Покуда плахе-матушке Челом ты не ударила!» Пытают в раз остаточный Бояре государевы: «Обедню черту правила ль, Сквозь сито землю сеяла ль В погибель роду цареву, Здоровью Алексееву?» «Смолой приправлен жидкою, Мне солон царский хлебушек! А ты, боярин, пыткою Стращал бы красных девушек! Хотите — жгите заживо, А я царя не сглазила. Мне жребий выпал — важивать Полки Степана Разина. В моих ушах без умолка Поет стрела татарская… Те два полка, Что два волка, Дружину грызли царскую! Нам, смердам, двери заперты Повсюду, кроме паперти. На паперти слепцы поют, Попросишь — грош купцы дают. Судьба меня возвысила! Я бар, как семя, щелкала, Ходила в кике бисерной, В зеленой кофте шелковой. На Волге — что оконницы — Пруды с зеленой ряскою, В них раки нынче кормятся Свежинкою дворянскою. Боярский суд не жаловал Ни старого, ни малого, Так вас любить, Так вас жалеть — Себя губить, Душе болеть!.. Горят огни-пожарища, Дымы кругом постелены. Мои друзья-товарищи Порубаны, постреляны, Им глазыньки до донышка Ночной стервятник выклевал, Их греет волчье солнышко, Они к нему привыкнули. И мне топор, знать, выточен У ката в башне пыточной, Да помни, дьяк, Не ровен час: Сегодня — нас, А завтра — вас! Мне б после смерти галкой стать, Летать под низкой тучею, Ночей не спать, — Царя пугать Бедою неминучею!..» ………………………… Смола в застенке варится, Опарой всходит сдобною, Ведут Алену-Старицу Стрельцы на место Лобное. В Зарядье над осокою Блестит зарница дальняя. Горит звезда высокая… Терпи, многострадальная! А тучи, словно лошади, Бегут над Красной площадью. Все звери спят. Все люди спят, Одни дьяки Людей казнят. 193829. БЕССМЕРТИЕ
Кем я был? Могильною травою? Хрупкой галькою береговою? Круглобоким облачком над бездной? Ноздреватою рудой железной? Та трава могильная сначала Ветерок дыханием встречала, Тучка плакала слезою длинной, Пролетая над родной долиной. И когда я говорю стихами — От кого в них голос и дыханье? Этот голос — от прабабки-тучи, Эти вздохи — от травы горючей! Кем я буду? Комом серой глины? Белым камнем посреди долины? Струйкой, что не устает катиться? Перышком в крыле у певчей птицы? Кем бы я ни стал и кем бы ни был — Вечен мир под этим вечным небом: Если стану я водой зеленой — Зазвенит она одушевленно, Если буду я густой травою — Побежит она волной живою. В мире всё бессмертно: даже гнилость. Отчего же людям смерть приснилась? 193830. ГЛУХАРЬ
Выдь на зорьке и ступай на север По болотам, камушкам и мхам. Распустив хвоста колючий веер, На сосне красуется глухарь. Тонкий дух весенней благодати, Свет звезды — как первая слеза… И глухарь, кудесник бородатый, Закрывает желтые глаза. Из дремотных облаков исторгла Яркий блеск холодная заря, И звенит, чумная от восторга, Зоревая песня глухаря. Счастлив тем, что чувствует и дышит, Красотой восхода упоен,— Ничего не видит и не слышит, Ничего не замечает он! Он поет листву купав болотных, Паутинку, белку и зарю, И в упор подкравшийся охотник Из берданки бьет по глухарю… Может, так же в счастья день желанный, В час, когда я буду петь, горя, И в меня ударит смерть нежданно, Как его дробинка — в глухаря. 193831. «Прощай, прощай, моя юность…»
Прощай, прощай, моя юность, Звезда моя, жизнь, улыбка! Стала рукой мужчины Мальчишеская рука. Ты прозвенела, юность, Как дорогая скрипка Под легким прикосновеньем Уверенного смычка. Ты промелькнула, юность, Как золотая рыбка, Что канула в сине море Из сети у старика! 193832 ОСТАНОВКА У АРБАТА
Профиль юности бессмертной Промелькнул в окне трамвая. М. Голодный Я стоял у поворота Рельс, бегущих от Арбата, Из трамвая глянул кто-то Красногубый и чубатый. Как лицо его похоже На мое — сухое ныне!.. Только чуточку моложе, Веселее и невинней. А трамвай — как сдунет ветром, Он качнулся, уплывая. Профиль юности бессмертной Промелькнул в окне трамвая. Минут годы. Подойдет он — Мой двойник — к углу Арбата. Из трамвая глянет кто-то Красногубый и чубатый, Как и он, в костюме синем, С полевою сумкой тоже, Только чуточку невинней, Веселее и моложе. А трамвай — как сдунет ветром, Он промчится, завывая… Профиль юности бессмертной Промелькнет в окне трамвая. На висках у нас, как искры, Блещут первые сединки, Старость нам готовит выстрел На последнем поединке. Даже маленькие дети Станут седы и горбаты, Но останется на свете Остановка у Арбата, Где, ни разу не померкнув, Непрестанно оживая, Профиль юности бессмертной Промелькнет в окне трамвая! <1939>33. СЕМЬ БОГАТЫРЕЙ
Крестьяне встали рано И к лагерю пришли, Крестьяне капитана У берега нашли. Вдоль берега над Збручем Разбит советский стан. Задумчиво по круче Шагает капитан. Легки стальные кони, Да враг-то, вишь, не прост: Спасаясь от погони, Взорвала шляхта мост. Приветливы и русы, Пригожи и ловки Семь рослых белорусов — Народ-здоровяки. Знакомились без страха, По форме стали в ряд. Оправили рубахи И хором говорят: «Ступай в свою палатку Да малость отдохни, А мы положим кладку Через речные пни». «Хоть танк не шел ни разу По этаким мостам, Обижу их отказом! — Подумал капитан. — Не вычерпать колодца При помощи ковша, Но пусть построят хлопцы Мосток из камыша. Поставлю для опоры Я за рекой редут, А к ночи и саперы, Пожалуй, подойдут!» В походах отдых краток: Вздохнул — и вновь бросок! Отряд в тени палаток Улегся на часок. Холщовые онучи, Худые лапотки. Берут ломы получше, Покрепче молотки. В кустах краснеет осень, А семеро ребят Срубают мачты сосен Да дерево долбят. Строгают неустанно Пахучую кору, И будят капитана Ребята ввечеру: «Вставай с шинели быстро, Товарищ капитан! Веди своих танкистов За шляхтой за пятам! Коня загонишь в мыле, Коль шляхта кажет хвост! А мы уже срубили, Какой сумели, мост». И веря и не веря Диковинным вестям, С крестьянами на берег Выходит капитан: Холщовые онучи, Худые лапотки. Забили в днище Збруча Саженные быки. Построенный по нитке, Лежит широкий мост, Гремят по нем зенитки, Поднявшись в полный рост. Бегут по мосту танки, Бегут — не отстают. Бойцовские тальянки Без умолку поют!.. Приветливы и русы, Столпились у реки Семь рослых белорусов — Народ-здоровяки. Цветут ромашки в жите У шляха на краю… «Товарищи! Скажите Фамилию свою!» Товарищи без страха По форме стали в ряд, Оправили рубахи И хором говорят: «Служить советской рати Готовы и вперед! Мы все — родные братья, А имя нам — народ». 193934. БАЛЛАДА О СТАРОМ ЗАМКЕ
В денек Золотой и нежаркий Мы в панскую Польшу вошли И в старом Помещичьем парке Охотничий замок нашли. Округу С готических башен Его петушки сторожат. Убогие шахматы пашен Вкруг панского замка лежат. Тот замок Из самых старинных. О нем хоть балладу пиши! И только В мужицких чупринах От горя Заводятся вши… Мы входим туда Без доклада, Мы входим без спросу туда — По праву Штыка и приклада, По праву Борьбы и труда. Проходим Молельнею древней Среди деревянных святых И вместе с собой Из деревни Ведем четырех понятых. Почти с поцелуем воздушным, Условности света поправ, В своем кабинете Радушно Встречает нас Ласковый граф. Неряшливо Графское платье: У графа — Супруга больна. На бархатном Графском халате Кофейные пятна вина. Избегнем Ненужных вопросов! Сам граф Не введет нас в обман: Он только — Эстет и философ, Коллекционер, Меломан. И он, Чтоб не вышло ошибок, Сдает нам Собранье монет. Есть в замке Коллекция скрипок И только оружия — Нет. Граф любит Оттенки кармина На шапках Сентябрьских осин. О, сладость часов У камина, Когда говорит Клавесин! Крестьяне? Он знает их нужды! Он сам надрывался, Как вол! Ему органически чужды Насилие И произвол! И граф поправляет, Помешкав, Одно из колец золотых… Зачем же Играет усмешка На синих губах Понятых? Они околдованы пеньем Наяд В соловьиных садах!.. По шатким Скрипучим ступеням Мы всходим На графский чердак. Здесь всё — Как при дедушке было: Лежит голубиный помет… Подняв добродушное рыло, Стоит в уголку Пулемет! Так вот что Философ шляхетский Скрывал В своем старом дворце! Улыбка Наивности детской Сияет на графском лице. Да! Граф позабыл пулеметы! Но все подтвердят нам Окрест: Они — лишь для псовой охоты Да вместо трещоток — В оркестр!.. Как пляшут Иголочки света В брильянте на графской руке! Крестьяне Философа в Лету Увозят на грузовике. «Слезайте С лебяжьей перины! Понежились! Выспались всласть! Балладу О замке старинном Допишет Советская власть». 193935. ДУМА
Батька сыну говорит: «Не мешкай! Навостри поди кривую шашку!..» Сын на батьку поглядел с усмешкой, Выпил И на стол поставил чашку. «Обойдется! — отвечал он хрипло.— Стар ты, батька, так и празднуй труса! Ну, а я еще горелки выпью, Сала съем и рушником утруся». Всю субботу на страстной неделе До рассвета хлопцы пировали, Пиво пили, саламату ели, Утирали губы рукавами. Утром псы завыли без причины, Крик «Алла!» повис над берегами, Выползали на берег турчины, В их зубах — кривые ятаганы. Не видать конца турецкой силе: Черной тучей лезут янычары! Женщины в селе заголосили, Маленькие дети закричали! А у тех османов Суд короткий: Женскою не тронулись слезою, Заковали пахарей в колодки И ведут невольников к Азову. Да и сам казак недолго пожил, Что отцу ответил гордым словом: Снял паша С хмельного хлопца кожу И набил ее сухой половой. Посадил его, беднягу, на кол, — Не поспел казак опохмелиться!.. Шапку снял и горестно заплакал Над покойным батька смуглолицый: «Не пришлось мне малых внуков нянчить Под твоею крышей, сыну милый! Я стою, седой, как одуванчик, Над твоею раннею могилой. Знать, глаза тебе песком задуло, Что без пользы сгинул ты, задаром. Я возьму казацкую бандуру И пойду с бандурой по базарам. Подниму свои слепые очи И скажу такое слово храбрым: Кто в цепях в Стамбул идти не хочет — Не снимай руки С турецкой сабли!..» 193936. ЗЯБЛИК
Весной в саду я зяблика поймал. Его лучок захлопнул пастью волчьей. Лесной певец, он был пуглив и мал, Но, как герой, неволю встретил молча. Он петь привык лесное торжество Под светлым солнышком на клейкой ветке. Нет! Золотая песенка его Не прозвучит в убогой этой клетке! Упрямец! Он не походил на нас, Больных людей, уступчивых и дряблых: Нахохлившись, он молчаливо гас, Невольник мой, мой горделивый зяблик. Горсть муравьиных лакомых яиц Не вызвала его счастливой трели. В глаза ручных моих домашних птиц Его глаза презрительно смотрели. Он всё глядел на поле за окном Сквозь частых проволок густую сетку, Но я задернул грубым полотном Его слегка качавшуюся клетку. И, чувствуя, как за его тюрьмой Весна цветет всё чище, всё чудесней, — Он засвистал!.. Что делать, милый мой? В неволе остается только песня! 193937. КЛЕТКА
Пасмурный щегол и шустрый чижик Зерна щелкают, водою брызжут — И никак не уживутся вместе В тесной клетке на одном насесте. Много перьев красных и зеленых Потеряли чижик и щегленок, Так и норовят пустые птицы За хохлы друг другу ухватиться. Глупые пичуги! Неужели Не одно зерно вы в клетке ели, Не в одной кормушке воду пили?.. Что ж неволю вы не поделили? 193938. ПЛАСТИНКА
Л.К.
Когда я уйду, Я оставлю мой голос На черном кружке. Заведи патефон, И вот Под иголочкой, Тонкой, как волос, От гибкой пластинки Отделится он. Немножко глухой И немножко картавый, Мой голос тебе Прочитает стихи, Окликнет по имени, Спросит: «Устала?», Наскажет Немало смешной чепухи. И сколько бы ни было Злого, дурного, Печалей, Обид,— Ты забудешь о них. Тебе померещится, Будто бы снова Мы ходим в кино, Разбиваем цветник. Лицо твое Тронет волненья румянец. Забывшись, Ты тихо шепнешь: «Покажись!..» Пластинка хрипнёт И окончит свой танец — Короткий, Такой же недолгий, Как жизнь. 193939. ЦВЕТОК
Я рожден для того, чтобы старый поэт Обо мне говорил золотыми стихами, Чтобы Дафнис и Хлоя в четырнадцать лет Надо мною впервые смешали дыханье, Чтоб невеста, лицо погружая в меня, Скрыла нежный румянец в минуту помолвки. Я рожден, чтоб в сиянии майского дня Трепетать в золотистых кудрях комсомолки. Одинаково вхож во дворец и в избу, Я зарей позолочен и выкупан в росах… Если смерть проезжает в стандартном гробу, Торопливая, на неуклюжих колесах, То друзья и на гроб возлагают венок,— Чтоб и в тленье мои лепестки трепетали. Тот, кто умер, в могиле не так одинок И несчастен, покуда там пахнет цветами. Украшая постельку, где плачет дитя, И могильной ограды высокие жерди, Я рожден утешать вас, равно золотя И восторги любви и терзания смерти. 193940. СВАДЬБА
Царь Дакии, Господень бич, Аттила, — Предшественник Железного Хромца, Рожденного седым, С кровавым сгустком В ладони детской, — Поводырь убийц, Кормивший смертью с острия меча Растерзанный и падший мир, Работник, Оравший твердь копьем, Дикарь, С петель Сорвавший дверь Европы, — Был уродец. Большеголовый, Щуплый, как дитя, Он походил на карлика, И копоть Изрубленной мечами смуглоты На шишковатом лбу его лежала. Жег взгляд его, как греческий огонь, Рыжели волосы его, как ворох Изломанных орлиных перьев. Мир В его ладони детской был — как птица, Как воробей, Которого вольна, Играя, задушить рука ребенка. Водоворот его орды крутил Тьму человечьих щеп, Всю сволочь мира: Германец — увалень, Проныра — беглый раб, Грек — ренегат, порочный и лукавый, Косой монгол и вороватый скиф Кладь громоздили на ее телеги. Костры шипели. Женщины бранились. В навозе дети пачкали зады. Ослы рыдали. На горбах верблюжьих, Бродя, скисало в бурдюках вино. Косматые лошадки в тороках Едва тащили, оступаясь, всю Монастырей разграбленную святость. Вонючий мул в оческах гривы нес Бесценные закладки папских библий, И по пути колол ему бока Украденным клейнодом — Царским скиптром — Хромой дикарь, Свою дурную хворь Одетым в рубища патрицианкам Даривший снисходительно… Орда Шла в золоте, На кладах почивала! Один Аттила — голову во сне Покоил на простой луке седельной, Был целомудр, Пил только воду, Ел Отвар ячменный в деревянной чаше. Он лишь один — диковинный урод — Не понимал, как хмель врачует сердце, Как мучит женская любовь, Как страсть Сухим морозом тело сотрясает. Косматый волхв славянский говорил, Что, глядя в зеркало меча, Аттила Провидит будущее, Тайный смысл Безмерного течения на Запад Азийских толп… И впрямь Аттила знал Судьбу свою — водителя народов. Зажавший плоть в железном кулаке, В поту ходивший с лейкою кровавой Над пажитью костей и черепов, Садовник бед, он жил для урожая, Собрать который внукам суждено! Кто знает — где Аттила повстречал Прелестную парфянскую царевну? Неведомо! Кто знает — какова Она была? Бог весть! Но посетило Аттилу чувство, И свила любовь Свое гнездо в его дремучем сердце. В бревенчатом дубовом терему Играли свадьбу. На столах дубовых Дымилась снедь. Дубовых скамей ряд Под грузом ляжек каменных ломился. Пыланьем факелов, Мерцаньем плошек Был озарен тот сумрачный чертог. Свет ударял в сарматские щиты, Блуждал в мечах, перекрестивших стены, Лизал ножи… Кабанья голова, На пир ощерясь мертвыми клыками, Венчала стол, И голуби в меду Дразнили нежностью неизреченной! Уже скамейки рушились, Уже Ребрастый пес, пинаемый ногами, Лизал блевоту с деревянных ртов Давно бесчувственных, как бревна, пьяниц, Сброд пировал. Тут колотил шута Воловьей костью варвар низколобый, Там хохотал, зажмурив очи, гунн, Багроволикий и рыжебородый, Блаженно запустивший пятерню В копну волос свалявшихся и вшивых. Звучала брань. Гудели днища бубнов, Стонали домбры. Детским альтом пел Седой кастрат, бежавший из капеллы. И длился пир… А над бесчинством пира, Над дикой свадьбой, Очумев в дыму, Меж закопченных стен чертога Летал, на цепь посаженный, орел — Полуслепой, встревоженный, тяжелый. Он факелы горящие сшибал Отяжелевшими в плену крылами, И в лужах гасли уголья, шипя, И бражников огарки обжигали, И сброд рычал, И тень орлиных крыл, Как тень беды, носилась по чертогу!.. Средь буйства сборища На грубом троне Звездой сиял чудовищный жених. Впервые в жизни сбросив плащ верблюжий С широких плеч солдата, он надел И бронзовые серьги, и железный Венец царя. Впервые в жизни он У смуглой кисти застегнул широкий Серебряный браслет, И в первый раз Застежек золоченые жуки Его хитон пурпуровый пятнали. Он кубками вливал в себя вино И мясо жирное терзал руками. Был потен лоб его. С блестящих губ Вдоль подбородка жир бараний стылый, Белея, тек на бороду его. Как у совы полночной, Округлились Его вином налитые глаза. Его икота била. Молотками Гвоздил его железные виски Всесильный хмель. В текучих смерчах — черных И пламенных — Плыл перед ним чертог. Сквозь черноту и пламя проступали В глазах подобья шаткие вещей И рушились в бездонные провалы! Хмель клал его плашмя, Хмель наливал Железом руки, Темнотой — глазницы, Но с каменным упрямством дикаря, Которым он создал себя, Которым Он в долгих битвах изводил врагов, Дикарь борол и в этом ратоборстве: Поверженный, Он поднимался вновь, Пил, хохотал, и ел, и сквернословил! Так веселился он. Казалось, весь Он хочет выплеснуть себя, как чашу. Казалось, что единым духом — всю Он хочет выпить жизнь свою. Казалось, Всю мощь души, Всю тела чистоту Аттила хочет расточить в разгуле! Когда ж, шатаясь, Весь побагровев, Весь потрясаем диким вожделеньем, Ступил Аттила на ночной порог Невесты сокровенного покоя, — Не кончив песни, замолчал кастрат, Утихли домбры, Смолкли крики пира, И тот порог посыпали пшеном… Любовь! Ты дверь, куда мы все стучим, Путь в то гнездо, где девять кратких лун Мы, прислонив колени к подбородку, Блаженно ощущаем бытие, Еще не отягченное сознаньем!.. Ночь шла. Как вдруг Из брачного чертога К пирующим донесся женский вопль… Валя столы, Гудя пчелиным роем, Толпою свадьба ринулась туда, Взломала дверь и замерла у входа: Мерцал ночник, У ложа на ковре, Закинув голову, лежал Аттила. Он умирал. Икая и хрипя, Он скреб ковер и поводил ногами, Как бы отталкивая смерть. Зрачки Остекленевшие свои уставя На ком-то зримом одному ему, Он коченел, мертвел и ужасался. И если бы все полчища его, Звеня мечами, кинулись на помощь К нему, И плотно б сдвинули щиты, И копьями б его загородили,— Раздвинув копья, Разведя мечи, Прошел бы среди них его противник, За шиворот поднял бы дикаря, Поставил бы на страшный поединок И поборол бы вновь… Так он лежал, Весь расточенный, Весь опустошенный И двигал шеей, Как бы удивлен, Что руки смерти Крепче рук Аттилы. Так сердца взрывчатая полнота Разорвала воловью оболочку — И он погиб, И женщина была В его пути тем камнем, о который Споткнулась жизнь его на всем скаку! Мерцал ночник, И девушка в углу, Стуча зубами, молча содрогалась. Как спирт и сахар, тек в окно рассвет, Кричал петух. И выпитая чаша У ног вождя валялась на полу, И сам он был — как выпитая чаша. Тогда была отведена река, Кремнистое и гальчатое русло Обнажено лопатами, — И в нем Была рабами вырыта могила. Волы в ярмах, украшенных цветами, Торжественно везли один в другом — Гроб золотой, серебряный и медный. И в третьем — Самом маленьком гробу — Уродливый, Немой, Большеголовый, Покоился невиданный мертвец. Сыграли тризну, и вождя зарыли. Разравнивая холм, Над ним прошли Бесчисленные полчища азийцев, Реку вернули в прежнее русло, Рабов зарезали И скрылись в степи. И черная Властительная ночь, В оправе грубых северных созвездий, Осела крепким Угольным пластом, Крылом совы простерлась над могилой. 1933, 194041. КОНЬ (Повесть в стихах)
1
Уже снежок февральский плакал, Трава пробилась кое-где, И был посол московский на кол Посажен крымцами в Орде. Орел-могильник, в небе рея, Видал сквозь тучек синеву — Внизу мурзы Давлет-Гирея Вели ордынцев на Москву. И вышел царь, чтоб встретить с лаской Гостей от града вдалеке, Но воевода князь Мстиславский Им выдал броды на Оке. И били в било на Пожаре, Собраться ратникам веля, И старцы с женами бежали Сидеть за стенами Кремля. А Кремль стоял, одетый в камень, На невысоком берегу И золотыми кулаками Грозил старинному врагу. И бысть валы его толстенны, Со стрельнями в любом зубце. Поставил зодчий эти стены На твороге и на яйце. Отвага ханская иссякла У огороженного рва, Но тучу стрел с горящей паклей Метнула в город татарва. И самой грозной башни выше, Краснее лисьего хвоста — Пошел огонь гулять по крышам, И загорелась теснота. А смерть всегда с огнем в союзе. «И не осталось в граде пня, — Писал ливонец Элерт Крузе, — Чтоб привязать к нему коня». Не диво тех в капусту высечь, Кому в огне сидеть невмочь. И было их двенадцать тысяч — Людей, убитых в эту ночь. На мостовых московских тряских Над ними стлался черный дым. Лишь воронье в монашьих рясках Поминки справило по ним! А царь глядел в степные дали, Разбив под Серпуховом стан… Мирзы татарские не ждали, Когда воротится Иван. Забрав заложников по праву Дамасской сабли и петли, На человечий рынок в Кафу Добычу крымцы увели. Пусть выбит хлеб и братья пали, — Что делать? Надо жить в избе! И снова смерды покупали Складные домы на Трубе, Рубили вновь проемы окон И под веселый скрежет пил Опять Москву одели в кокон Сырых некрашеных стропил. Еще пышней, и необъятней И величавей, чем сперва, Как золотая голубятня, На пепле выросла Москва!2
Устав от плотницкой работы, Поднял шершавую ладонь И тряпкой вытер капли пота На красной шее Федька Конь. Он был Конем за силу прозван: Мощь жеребца играла в нем! Сам царь Иван Васильич Грозный Детину окрестил Конем. И впрямь похожа, хоть нельстива Была та кличка иль ругня. Его взлохмаченная грива Точь-в-точь вилась, как у коня, А кто, Конем в кружале битый, С его замашкой был знаком, Тот клялся, что смешно копыто Равнять с Коневым кулаком! Его хозяин Генрих Штаден Царю служил, как верный пес, И был ему за службу даден Надел земли и добрый тес. Был Генрих Штаден тонкий немец. Как в пору казней и опал Лукавый этот иноземец К царю в опричники попал? Стыдясь постройку всякой клети Тащить на собственном горбу, На рынке Штаден Федьку встретил И подрядил срубить избу. И Конь за труд взялся с охотой, Зане́ работник добрый был. Он сплошь немецкие ворота Резными птицами покрыл, Чтоб из ворот легко езжалось Хозяйским санкам в добрый путь. И, утомясь работой малость, Присел на бревна отдохнуть. Из вновь отстроенной светлицы, Рукой в перчатке подбочась. Длинноголовый, узколицый, Хозяин вышел в этот час. Он, вязь узорную заметив На тонких досточках ольхи, Сердито молвил: «Доннерветтер![30] Работник! Что за петухи?» А Конь глядел с улыбкой детской, И Штаден крикнул: «Глупый хам! Не место на избе немецкой Каким-то русским петухам!» Он взял арапник и, грозя им, Полез свирепо на Коня. Но тот сказал: «Уймись, хозяин! — Лицо рукою заслоня.— Ты, знать, с утра опился водкой…» И только это он сказал, Как разъяренный немец плеткой Его ударил по глазам. Конь осерчал. Его обиду Видали девки на юру, И он легонечко, для виду, По шее треснул немчуру. Хозяин в грязь зарылся носом, Потом поднялся кое-как… А Конь с досадой фартук сбросил И, осерчав, пошел в кабак.3
Оправив сбрую, на которой Блестел набор из серебра, Немчин кобылу тронул шпорой И важно съехал со двора. Он наблюдал враждебным взглядом, Как просыпается Москва. На чепраке с метлою рядом Болталась песья голова. Еще и пену из корыта Никто не выплеснул пока, И лишь одна была открыта Дверь у «Царева кабака». Над ней виднелся штоф в оправе Да елок жидкие верхи. У заведения в канаве Валялись с ночи питухи. И девка там валялась тоже, Прикрыв передником лицо, Что было в рябинах похоже На воробьиное яйцо. Под просветлевшими крестами Ударили колокола. Упряжка с лисьими хвостами В собор боярыню везла. Дымком куриться стали домы, И гам послышался вдали. И на Варварку божедомы Уже подкидышей несли, Купцы ругались. Бранью хлесткой Москву попробуй, удиви! У каменной стены кремлевской Стояли церкви на крови. Уже тащила сочни баба, Из кузниц несся дальний гул. Уже казенной песней: «Грабят!» Был потревожен караул. А сочней дух, и свеж и сытен, Дразня, летел во все концы. Орали сбитенщики: «Сбитень!» Псалом гундосили слепцы, Просил колодник бога ради: «Подайте мне! Увечен аз!» На Лобном месте из тетради Дьячок вычитывал указ, Уже в возке заморском тряском Мелькнул посол среди толпы И чередой на мостик Спасский Прошли безместные попы, Они кричат, полунагие, Прихлопнув черным ногтем вшу: «Кому отправить литургию? Не то просфоркой закушу!» Уже и вовсе заблистали Церквей румяные верхи, Уже тузить друг друга стали, Совсем проснувшись, питухи. А он на них, начавших драться, На бестолочь и кутерьму Глядел с презреньем иностранца, Равно враждебного всему!4
Он скромно шел через палаты, Усердно ноги вытирал, Иван с Басмановым в шахма́ты В особой горенке играл. Он, опершись брадою длинной На жилистые кулаки, Уставил в доску нос орлиный И оловянные очки. В прихожей комнате соседней, Как и обычно по утрам, Ждал патриарх, чтобы к обедне Идти с царем в господень храм. Тому ж и дела было мало, Что на молитву стать пора: Зело кормильца занимала Сия персидская игра! Тут, опечален и нескладен, Надев повязку под шелом, Вошел в палату Генрих Штаден И государю бил челом. Он, притворясь дитятей сирым, Промолвил: «Император мой! Прошу тебя: позволь мне с миром Отъехать за море, домой». И царь спросил: «Ты, может, болен?» — «Здоров, надежа, как и встарь». — «Ты, может, службой недоволен?» — «Весьма доволен, государь!» — «Так что ж влечет тебя за море? Ответствуй правду, безо лжи». — «Увы! Меня постигло горе!» — «Какое горе? Расскажи». — «Противно рыцарской природе, В своем же доме, белым днем Вчера при всем честном народе Я был обижен…» — «Кем?» — «Конем». Царь пригляделся. Было видно, Что под орех разделан тот! И государь спросил ехидно: «Так, значит, русский немца бьет?» — «Бьет, государь! Опричных царских, Готовых за тебя на смерть, На радость прихвостней боярских Увечит худородный смерд!» Немчин придумал ход незряшный. Глаза Ивана стали злы: «Замкнуть Коня в Кутафью башню, Забить невежу в кандалы, Дабы не дрался неприлично, Как некий тать, засевший в яр!.. Заместо слуг моих опричных Пущай бы лучше бил бояр!» Царь поднялся и, мельком глянув На пешек сдвинутую рать, Сказал: «И нынче нам, Басманов, Игру не дали доиграть!» Переоделся в черный бархат И, сделав постное лицо, С Басмановым и патриархом Пошел на Красное крыльцо.5
В тот вечер, запалив лучину, Трудился Штаден до утра: Писал знакомому немчину, Дружку с Посольского двора: «Любезный герр! В известном месте Я вам оставил кое-что.. В поход готовьте пушек двести, Солдат примерно тысяч сто. Коль можно больше — шлите больше… Из шведов навербуйте рать. Неплохо б также в чванной Польше Отряд из ляхов подобрать. Всё это сделать надо вскоре, Чтоб, к лету армию послав, Ударить скопом с Бела моря На Вологду и Ярославль…» И, дописав (судьба превратна!), Письмо в подполье спрятал он — Благоразумный, аккуратный, Предусмотрительный шпион. А Федька Конь сбежал, прослышав О надвигавшейся беде. Он со двора задами вышел, Стащил коня бог знает где, Пихнул в суму — мужик бывалый — Ржаного хлеба каравай, Прибавил связку воблы вялой, Жене промолвил: «Прощевай! Ты долго ждать меня не будешь, По сердцу молодца найдешь. Коль будет лучше — позабудешь, Коль будет хуже — вспомянешь!» Степями тянется путина, Рысит конек, сердечный друг, Звенит заветная полтина, Женой зашитая в треух, Уже в Синоп, как турок черен, Пробрался дерзостный мужик. Там чайка плавает над морем И тучка в Турцию бежит. Вот наконец прилива ярость Фелюка режет острым лбом. Не день, не два бродяга-парус Блуждал в тумане голубом. И, с голубым туманом споря, В златой туман облачена, Из недр полуденного моря Явилась фряжская страна!6
Обидно клянчить бога ради Тому, кто жить привык трудом. И Федька чуял зависть, глядя, Как иноземцы строят дом. Он и в России, до опалы, Коль сам не приложил руки,— Любил хоть поглядеть, бывало, Как избы рубят мужики, Как стены их растут всё выше И как потом на них верхом Садится новенькая крыша Ширококрылым петухом. А тут плюгавые мужчины, Напружив жидкие горбы, Венерку голую тащили На крышу каменной избы. Была собой Венерка эта Зело смазлива и кругла, Простоволоса и раздета, Да, видно, больно тяжела! И думал Конь: «Народец слабый! Хоть тут не жизнь, а благодать, — Таким не с каменною бабой, А и с простой не совладать! Помочь им, что ли, в этом деле?..» И, засучивши рукава, Пошел к рабочим, что галдели И градом сыпали слова. Он крикнул им: «Ребята! Тише!» Силком Венерку поволок, Один втащил ее на крышу И там пристроил в уголок. Коня оставили в артели: Что стоят две таких руки! И покатились, полетели Его заморские деньки! Однажды слух прошел, что ныне Постройке сделает промер Сам Иннокентий Барбарини, Пизанский старый инженер. И вот, седой и желтоносый, Старик пронзительно глядит, Кидает быстрые вопросы И очень, кажется, сердит. Свою тетрадь перелистал он — Расчетов желтые листы: Его постройке не хватало Полета в небо. Высоты! Бородку, узкую, как редька, Худыми пальцами суча, Он не видал, что сзади Федька Глядит в тетрадь из-за плеча. Чтобы понятнее сказаться, Руками Федька сделал знак И знаменитому пизанцу По-русски молвил: «Слышь! Не так!» И ноготь Федькин, тверд и грязен, По чертежу провел черту, И Барбарини, старый фрязин, Узрел в постройке высоту! И он сказал, на зависть прочим, Что Конь — весьма способный скиф, Он может быть отличным зодчим, Секреты дела изучив. И передал ему изустно Своей науки тайны все, Свое прекрасное искусство В его расчетливой красе!7
И строил Конь. Кто виллы в Лукке Покрыл узорами резьбы? В Урбино чьи большие руки Собора вывели столбы? Чужому богу на потребу Кто, безыменен и велик, В Кастелламаре вскинул к небу Аркады светлых базилик? В Уффици ратуши громады Отшлифовала чья ладонь?.. На них повсюду выбить надо: «Российский мастер Федор Конь». Одни лишь сны его смущали, Вселяя в душу маету. Но сердце камнем ощущая, Он пробуждался весь в поту. Порою, взор его туманя Слезой непрошеной во сне, Ему курная снилась баня, Сорока на кривой сосне. И будто он походкой валкой Проходит в рощу по дрова, А там зима сидит за прялкой И сыплет снег из рукава, И словно он стоит в соборе И где-то певчие поют Псалом о странствующих в море, Блуждающих в чужом краю. И девки снились. Не отселе, А те, что выйдут на лужок И на подножку карусели Заносят красный сапожок. И, правду молвить, снилась тоже Жена, ревущая навзрыд, И двор, что звездами горожен, А сверху синим небом крыт. Но самый горький, самый страшный Ему такой видался сон: Всё, что он строит — стены, башни,— В Москве как будто строит он! И звал назад с могучей силой Ночного моря синий вал… Неярких снов России милой Еще никто не забывал! Конь не достроил дом, который Купило важное лицо, И, не вылазя из тратторий. Налег на крепкое винцо. О нем заботясь, как о сыне, «Что с вами сталось, милый мой?» — Спросил у Федьки Барбарини. И Конь сказал: «Хочу домой!» — «Останьтесь, друг мой! Что вам делать В снегах без края и конца, Там, где следы медведей белых Видны у каждого крыльца? Мне жалко вас! Я чувством отчим Готов поклясться в этот час: Вы станете великим зодчим, Живя в Италии у нас!» Но Федька сквозь хмельные слезы Ответил: «Где я тут найду Буран, и русские березы, И снег шесть месяцев в году?» — «Чудак! Зачем вам эти бури? Тут край весны!» — ответил тот. И Конь сказал: «Моей натуре Такой клима́т не подойдет!»8
Конь, воротившись издалече, Пришел за милостью к царю. В поко́е царском дым от свечек Пятнал вечернюю зарю. Царь умирал. Обрюзглый, праздный, Он слушал чтенье псалтыря. Незаживающие язвы Покрыли голову царя. Он высох и лежал в постели, Платком повязан по ушам, Но всё глаза его блестели И взор, как прежде, устрашал. Худой, как перст, как волос, длинный, Конь бил царю челом. И тот Промолвил: «Головы повинной Моя секира не сечет. А всё ж с немчином дал ты маху! — Сказал он, глянув на Коня.— Сбежал он, и за то на плаху Тащить бы не тебя — меня! Корысти не ища в боярстве, Служи мне, как служил вчера, Зане́ потребны в государстве Городовые мастера». И встретил Конь друзей веселых, Чей нрав и буен и широк, И услыхал в окрестных селах Певучий бабий говорок. В полях кузнечики трещали, На Клязьму крючник шел с багром, И, словно выстрел из пищали, В полях прокатывался гром. И ветерок свистел, как зяблик, И коршун в синем небе плыл, И перепел во ржах прозяблых, Присев на кочку, бил да бил. И два старинных верных друга, Что особливо чтят гостей Из-за моря, — метель да вьюга — Его пробрали до костей. И бабы пели в избах тесных, Скорей похожую на стон, Одну томительную песню, Что с колыбели помнил он: «И в середу — Дождь, дождь, И в четверток — Дождь, дождь, А соседи бранятся, Топорами грозятся…»9
Иван помре, послав на плаху Всех, с кем забыл расчесться встарь. Когда же бармы Мономаха Принял смиренный Федор-царь, Был приставами Конь за во́рот Приве́ден в Кремль: засыпав рвы, Царь вздумал строить Белый город — Кольцо из стен вокруг Москвы. В Кремле стояли рынды немо, Царь не снимал с креста руки. Сидели овамо и семо Седобородые дьяки. Бояре думные стояли, В углу дурак пускал кубарь… «Мне снился вещий сон, бояре!» — Неспешно начал государь. Но тут вразвалку, точно дома, Войдя в палату без чинов, Сказал, что Федька ждет приема, Старшой боярин, Годунов. И царь промолвил: «Малый дикий! Зашиб немчина белым днем. Ты, Борька, лучше погляди-ка: Ножа аль гирьки нет при нем?» Коня ввели. «Здорово, тезка! — Сказал кормилец, сев к столу, И — богородицына слезка — Лампадка вспыхнула в углу.— Сложи-ка стенку мне на месте, Где тын стоял. Чтоб та стена Держала пушек сто аль двести И чтоб собой была красна. Я б и не строил ту ограду: Расходы, знаешь… то и се… Да Борька говорит, что надо, А с ним не спорь, он знает всё!..» Тут, скорчив кислую гримасу, Царь служку кликнул: «Слышь! Сходи В подвал, милок, налей мне квасу Да тараканов отцеди. — И продолжал: — Работай с богом! Потрафишь — наградит казна. Да денег трать не больно много: Ведь и казна-то не без дна!» Он почесал мизинцем темя И крикнул: «Борька, слышь, юла! Потехе — час, а делу — время: Пошли звонить в колокола!» Тот с огоньком в очах раскосых Царю одеться подмогнул, Оправил шубу, подал посох И Федьке глазом подмигнул. И вышел Конь в ночную гнилость От счастья бледный, как чернец: Всё, что мечталось, всё, что снилось, Теперь сбывалось наконец!10
Конь строить начал. Трезвый, жесткий, Он всюду был, всё делал сам: Рыл котлован, гасил известку, Железо гнул, столбы тесал. Его натуре любо было, Когда согласно, заодно, Два великана на стропила Тащили толстое бревно. Тут в серой туче едкой пыли, Сушившей руки и лицо, Худые бабы камень били, Звучало крепкое словцо, Там козлы ставили, а дале — Кирпич возили на возу. Вверху кричали. «Раз-два, взяли!» «Полегче!» — ухали внизу. Конь не сводил с постройки глаза И, как ни бился он, никак Не удосужился ни разу Пойти ни в церковь, ни в кабак. Зато, сходиться начиная, Уже над городом видна Была сквозная, вырезная Пятисаженная стена. Конь башню кончил день вчерашний И отвалить велел леса. Резной конек Чертольской башни Уперся шпилем в небеса. Вся точно соткана из света, Она стояла так бела, Что всем казалось: башня эта Сама по воздуху плыла! А ночью Конь глядел на тучи И вдруг, уже сквозь полусон, Другую башню, много лучше, В обрывках туч увидел он. Чудесная, совсем простая, Нежданно, сквозь ночную тьму, Резными гранями блистая, Она привиделась ему… Придя с утра к Чертольской башне, Конь людям приказал: «Вали!» И те с охотою всегдашней, Кряхтя, на ломы налегли. Работа шла, но тут на стройку Явился государев дьяк. «Ты башню, вор, ломать постой-ка! — Честил он Федьку так и сяк. — Царь что сказал? „Ни в коем разе Сорить деньгами не моги!“ Ужо за то тебе в Приказе Пропишут, ирод, батоги!» И Федька Конь в Приказ разбойный, Стрельцами пьяными влеком, Неторопливо и спокойно Пошел за седеньким дьяком. Спускалась ночь. В застенке стылом Чадила сальная свеча. Конь посмотрел в кривое рыло Приземистого палача, Взглянул налево и направо, Снял шапку, в зубы взял ее, Спустил штаны, прилег на лавку — И засвистело батожье!.. Конь вышел… Черною стеною Стояла ночь. Но, как всегда, Вдали над фряжскою страною Горела низкая звезда, И на кремлевской огороже Стрельцы кричали каждый час: «Рабы твоя помилуй, боже! Спаси, святый Никола, нас!»11
Когда ж стена, совсем готова, Обстала всю Москву окрест — Царь повелел державным словом Коню опять явиться в Кремль. Сидел в палате царь Феодор, Жужжали мухи. Пахла гарь. «Долгонько ставил стенку, лодырь! — Сердито молвил государь. — И дорогонько! Помни, друже: Христьянству пышность не нужна. И подешевле и похуже — А всё стояла б, всё — стена! Конечно, много ль смыслит плотник? Мужик — и вся тут недолга! И всё ж ты богу был работник И государю был слуга. Чай, у тебя с одежёй тонко? Вот тут шубенка да парча. Хоть и хорьковая шубенка, Да с моего зато плеча! Совсем хорошая одежа, Один рукав побила моль… Ну, поцелуй мне ручку. Что же Молчишь ты? Недоволен, что ль?» — «Доволен, — Конь ответил грубо, — Хорек зело вонючий зверь!» Тут царь, запахивая шубу, Присел и шибко юркнул в дверь.12
И запил Конь. Сперва «Под пушкой», Потом в «Царевом кабаке» Валялся с медною полушкой, Зажатой в потном кулаке. Топя тоску в вине зеленом, «Вся жизнь, — решил он, — прах и тлен!» Простоволосая гулёна Не слазила с его колен. Он стал вожак кабацкой швали, Был во хмелю непобедим, Его пропойцы дядей звали И купно пьянствовали с ним. Когда, о стол ладонью треснув Так, что на нем виднелся знак, Конь запевал срамную песню,— Орал ту песню весь кабак! Ему проныра-целовальник Не поспевал винцо нести: «Гуляй, начальник! Пей, начальник! Шуми да денежки плати!» Конь сыпал медью, не считая: «Еще! За всё в ответе я!» И пенным зельем налитая, Ходила кру́гом сулея. Народ, сивухой обожженный, Буянил, и издалека Пропоиц матери и жены Глядели в окна кабака. У каждой муж пьет больно много! Как раз бы мера! Вот как раз! Но на дверях белеет строго Царем подписанный указ. И говорится в том указе, Что, дескать, мать или жена Звать питуха ни в коем разе Из заведенья не вольна. И докучать не смеет тоже Пьянчужке-мужу женка та, Доколе он сидит в одеже И не пропился до креста. Под вечер Федька из кружала, Шатаясь, вышел по нужде. Жена просила и дрожала: «Пойдем, соколик! Быть беде!» Но Конь ударил шапку о́ пол, Рванул рубаху на груди: «Я только пуговицы пропил От царской шубы! Погоди!» Опять в кабацком смраде кислом, Где пировала голытьба, Дым поднимался коромыслом И всё разгульней шла гульба, А жены в низкое оконце Глядели на слепой огонь… И вновь перед восходом солнца На воздух вышел Федька Конь. Кафтан его висел, распорот, Была разбита голова. «Жена! Уже я пропил ворот! Еще остались рукава!» На третье утро с Федькой рядом Уселся некий хлюст. Его Прозвали Кузькой Драным Задом. Тот Кузька не пил ничего, А всё пытал хмельного Федьку, Как тот разжился: «Федька! Ну, Чего таишься? Слышь! Ответь-ка! Небось набил себе мошну? Небось добра полны палаты? Жена в алмазах! Не как встарь! Небось и серебра и злата Тебе отсыпал государь? Чай, одарил немецким платьем?» Тут Конь, молчавший до поры, Сказал: «От каменного бати Дождись железной просфоры!» А Кузька побледнел немножко, К окну скорехонько шагнул, Быстрехонько открыл окошко И тонко крикнул: «Караул!» Потом, чтоб Федька не ударил, К стрельцам за спины стал в углу И произнес: «На государя Сей тать сказал сейчас хулу!» И дело Федькино умело Повел приказный стрикулист. Сам Годунов читал то дело И записал на первый лист: «Пустить на вольную дорогу Такого вора — не пустяк, Понеже знает больно много Сей вор о наших крепостях. На смуту нынешнюю глядя, Терпеть буянство не с руки: Сослать его, смиренья ради, На покаянье в Соловки!»13
Зосима — муж-вероучитель, Видавший бесы наяву, Построил честную обитель На одиноком острову. Невелика там братья, ибо Уставом строг тот божий дом, Монахи ловят в сети рыбу, Живя молитвой и трудом. Чтоб лучше храм украсить божий, Разбив подворья там и тут, Пенькою, солью, лесом, кожей В миру торговлишку ведут. Нырки летят на этот остров, Крылами солнце заслоня… В обитель ту на строгий постриг Москва отправила Коня. Дабы греховное веселье Не приходило в ум ему, Посажен Федька был не в келью, А в монастырскую тюрьму. Там вместо ложа — гроб короткий И густо переплетено Тройною ржавою решеткой Слепое узкое окно. Наутро ключник брат Паисий, С рассвета трезвый не вполне, В тюрьму просунув носик лисий, Спросил, что видел Конь во сне. И тот ответил: «В этой яме Без края длится ночь моя! Мне снилось нынче, что с друзьями До света в кости дулся я!» Отец Паисий взял подсвечник, И, плюнув, дверь захлопнул он: «Сиди в тюрьме, великий грешник! Твой сон — богопротивный сон». Монах не без душка хмельного Назавтра вновь пришел в тюрьму, И у Коня спросил он снова, Что нынче виделось ему. И Конь ответил: «Инок честный! Силен, должно быть, сатана. Мне снился ныне сон прелестный, Я похудел с такого сна: Смущая грешника красами, Румянощека и кругла, Жена, обильна телесами, В сие узилище вошла». Паисий молвил: «Я утешен: Твоя душа еще во тьме, Но этот сон не так уж грешен! Ты исправляешься в тюрьме». Когда ж в окне опять явилось Его опухшее лицо, Конь произнес: «Мне нынче снилось, Что мы с тобою пьем винцо, Притом винцо из самых лучших!..» Тут из-за двери: «Милый брат! — Коню ответил пьяный ключник. — Твой этот сон почти уж свят! Да мы и все безгрешны, что ли? Не верь, дружище! Плюнь! Слова! Надень армяк, пойдем на волю, Поможешь мне колоть дрова!» И вышел Конь. Серело море. Тянулся низкий бережок. С залетной тучкой слабо споря, Его неяркий полдень жег. Летали чайки в тусклом свете, Вились далекие дымки, На берегу сушились сети, Рядком стояли челноки, Паисий голосом нетрезвым Хмельную песенку тянул. Конь пнул его тычком железным И в сеть рыбачью завернул, Чтоб честный ключник, малый рослый, Легко распутаться не мог, Подрясник скинул, сел на весла И в море оттолкнул челнок.14
В Москве был голод этим летом, К зиме сожрали всех котят. Болтали, что перед рассветом Гробы по воздуху летят, Что вдруг откуда-то лисицы Понабежали в погреба, Что в эту ночь на Вражек Сивцев Падут три огненных столба. Недавно в Угличе Димитрий Средь бела дня зарезан был, Но от народа Шуйский хитрый Об этом деле правду скрыл, Сказав: «Зело прискорбный случай! На всё господня воля. Что ж Поделаешь, когда в падучей Наткнулось дитятко на нож?» Но всё же очевидцы были, И на базарах, с ихних слов, Сидельцы бабам говорили, Что промахнулся Годунов. И Годунову прямо в спину Шел слух, как ветер по траве, Что он убил попова сына, А Дмитрий прячется в Литве. И, взяв жезлы с орлом двуглавым, Надев значки на рукава, Вели ярыжек на облаву Людей гулящих пристава. С утра валило мокрым снегом, Шла ростепель. И у воды, В кустарнике, где заяц бегал, Остались частые следы. Снег оседал, глубок и тяжек, Глухой тропинкой к вечеру Брели стрельцы ловить бродяжек В густом Серебряном бору. Там, словно старая старушка, Укрывшись в древних сосен тень, Стояла ветхая избушка В платочке снежном набекрень. Она была полна народом, В ней шел негромкий разговор. Раздался стук — и задним ходом Сигнули в лес за вором вор. Стрельцы вошли, взломав окошко, Достали труту и кремня, Подули на руки немножко И быстро высекли огня. Всё было пусто. Скрылись гости. Но щи дымились в чашке — и Валялись брошенные кости У опрокинутой скамьи. Тараканье на бревнах старых Ускорило неспешный бег… Укрыт тряпьем, лежал на нарах В похмелье, мучась, человек. Он застонал и, спину гладя, Присел на лавку, гол и бос. К худым плечам свисали пряди Седых нечесаных волос. Его увидя в тусклом свете, «Ты кто?» — спросили пристава. И хриплый голос им ответил: «Иван, не помнящий родства!» 194042. ПИРАМИДА
Когда болезнь, как мускусная крыса, Что заползает ночью в камелек, Изъела грудь и чрево Сезостриса — Царь понял: День кончины недалек! Он продал дочь. Каменотесам выдал Запасы Меди, Леса, Янтаря, Чтоб те ему сложили пирамиду — Жилье, во всем достойное царя. Днем раскаляясь, Ночью холодея, Лежал Мемфис на ложе из парчи, И сотни тысяч пленных иудеев Тесали плиты, Клали кирпичи. Они пришли покорные, Без жалоб, В шатрах верблюжьих жили, Как пришлось; У огнеглазых иудеек на́ лоб Спадали кольца смоляных волос… Оторваны от прялки и орала, Палимы солнцем, Брошены во тьму,— Рабы царя… Их сотни умирало, Чтоб возвести могилу одному! И вырос конус царственной гробницы Сперва на четверть, А потом на треть. И, глядя вдаль сквозь длинные ресницы, Ждал Сезострис — И медлил умереть. Когда ж ушли от гроба сорок тысяч, Врубив орнамент на последний фриз, Велел писцам слова гордыни высечь Резцом на меди чванный Сезострис: «Я, Древний царь, Воздвигший камни эти, Сказал: Покрыть словами их бока, Чтоб тьмы людей, Живущие на свете, Хвалили труд мой Долгие века». Вчерашний мир Раздвинули скитальцы, Упали царства, Встали города. Текли столетья, Как песок сквозь пальцы, Как сквозь ведро дырявое Вода. Поникли сфинксы каменными лбами. Кружат орлы. В пустыне зной и тишь. А время Надпись Выгрызло зубами, Как ломтик сыра Выгрызает мышь. Слова, Что были выбиты, как проба, Молчат сегодня о его делах. И прах его, Украденный из гроба, В своей печи убогой Сжег феллах. Но, мир пугая каменным величьем, Среди сухих известняковых груд Стоит, Побелена пометом птичьим, Его могила — Безыменный труд. И путник, Ищущий воды и тени, Лицо от солнца шлемом заслоня, Пред ней, В песке сыпучем по колени, Осадит вдруг поджарого коня И скажет: «Царь! Забыты в сонме прочих Твои дела И помыслы твои, Но вечен труд Твоих безвестных зодчих, Трудолюбивых, Словно муравьи!» 194043. ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ
Улетают птицы за́ море, Миновало время жатв, На холодном сером мраморе Листья желтые лежат. Солнце спряталось за ситцевой Занавескою небес, Черно-бурою лисицею Под горой свернулся лес. По воздушной легкой лесенке Опустился и повис Над окном — ненастья вестником — Паучок-парашютист. В эту ночь по кровлям тесаным, В трубах песни заводя, Заскребутся духи осени, Стукнут пальчики дождя. В сад, покрытый ржавой влагою, Завтра утром выйдешь ты И увидишь — за ночь — наголо Облетевшие цветы. На листве рябин продрогнувших Заблестит холодный пот. Дождик, серый как воробышек, Их по ягодке склюет. 1937–194144. БАБКА МАРИУЛА
После ночи пьяного разгула Я пошел к Проклятому ручью, Чтоб цыганка бабка Мариула Мне вернула молодость мою. Бабка курит трубочку из глины, Над болотом вьются комары, А внизу горят среди долины Кочевого табора костры. Черный пес, мне под ноги бросаясь, Завизжал пронзительно и зло… Молвит бабка: «Знаю всё, красавец, Что тебя к старухе привело! Не скупись да рублик мне отщелкай, И, как пыль за ветром, за тобой Побежит красотка с рыжей челкой, С пятнышком родимым над губой!» Я ответил: «Толку в этом мало! Робок я, да и не те года…» В небесах качнулась и упала За лесок падучая звезда. «Я сидел, — сказал я, — на вокзалах, Ездил я в далекие края. Ни одна душа мне не сказала, Где упала молодость моя! Ты наводишь порчу жабьим зубом, Клады рыть указываешь путь. Может, юность, что идет на убыль, Как-нибудь поможешь мне вернуть?» Отвечала бабка Мариула: «Не возьмусь за это даже я! Где звезда падучая мелькнула, Там упала молодость твоя!» 1 июня 194145. «Когда-то в сердце молодом…»
Когда-то в сердце молодом Мечта о счастье пела звонко… Теперь душа моя — как дом, Откуда вынесли ребенка. А я земле мечту отдать Всё не решаюсь, всё бунтую… Так обезумевшая мать Качает колыбель пустую. 15 июня 194146. НОЧЬ В УБЕЖИЩЕ
Ложишься спать, когда в четыре Дадут по радио отбой. Умрешь — единственная в мире Всплакнет сирена над тобой. Где звезды, что тебе знакомы? Их нет, хотя стоит июль: В пространствах видят астрономы Следы трассирующих пуль. Как много тьмы, как света мало! Огни померкли, и одна Вне досяженья трибунала Мир демаскирует луна. …Твой голос в этом громе тише, Чем писк утопленных котят… Молчи! Опять над нашей крышей Бомбардировщики летят! 13 августа 194147. ПЛАЧ
В убежище плакал ребенок, И был нестерпимо высок, И был раздирающе звонок Подземный его голосок. Не треском смешных погремушек, Что нас забавляли, блестя,— Отрывистым грохотом пушек Земля повстречала дитя. Затем ли живет он? Затем ли На свет родила его мать, Чтоб в яму, в могилу, под землю Ребенка живым закопать? Ему не забыть этой были: Как выла сирена в ночи, Как небо наотмашь рубили Прожекторы, точно мечи. Седой, через долгие годы Он вспомнит: его увели От бомб, что неслись с небосвода, В глубокие недра земли. И если он выживет — где бы И как бы ни лег его путь, — Он всюду, боящийся неба, К земле будет голову гнуть. 17 августа 194148. ДОМ
Дом разнесло. Вода струями хлещет Наружу из водопроводных труб. На мостовую вывалены вещи, Разбитый дом похож на вскрытый труп. Чердак сгорел. Как занавес в театре, Вбок отошла передняя стена. По этажам разрезанная на три, Вся жизнь в квартирах с улицы видна. Их в доме много. Вот в одной из нижних Рояль в углу отлично виден мне. Обрывки нот свисают с полок книжных, Белеет маска Листа на стене. Площадкой ниже — вид другого рода: Обои размалеваны пестро, Свалился наземь самовар с комода… Там — сердце дома, тут — его нутро. А на вещах — старуха с мертвым взглядом И юноша, старухи не свежей. Они едва ли не впервые рядом Сидят, жильцы различных этажей! Теперь вся жизнь их, шедшая украдкой, Открыта людям. Виден каждый грех… Как ни суди, а бомба — демократка: Одной бедой она равняет всех! 18 августа 194149. ОСЕНЬ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА
Еще и солнце греет что есть силы, И бабочки трепещут на лету, И женщины взволнованно красивы, Как розы, постоявшие в спирту. Но мчатся дни. Проходит август краткий. И мне видны отчетливо до слез На лицах женщин пятна лихорадки — Отметки осени на листьях роз. Ах, осень, лета скаредный наследник! Она в кулак готова всё сгрести. Недаром солнце этих дней последних Спешит дожечь, и розы — доцвести. А женщины, что взглядом ласки просят, Не опуская обреченных глаз, — Предчувствуют, что, верно, эта осень Окажется последней и для нас! 19 августа 194150. ГЛУХОТА
Война бетховенским пером Чудовищные ноты пишет. Ее октав железный гром Мертвец в гробу — и тот услышит! Но что за уши мне даны? Оглохший в громе этих схваток, Из всей симфонии войны Я слышу только плач солдаток. 2 сентября 194151. ПОГОДА
Ни облачка! Томясь любовной мукой, Кричат лягушки, пахнет резеда. В такую ночь и самый близорукий Иглу отыщет без труда. А как луна посеребрила воду! Светло кругом, хоть по руке гадай… И мы ворчим: «Послал же черт погоду: В такую ночь бомбежки ожидай». 8 сентября 194152. ЖИЛЬЕ
Ты заскучал по дому? Что с тобою? Еще вчера, гуляка из гуляк, Ты проклинал дырявые обои И эти стены с музыкой в щелях! Здесь слышно всё, что делают соседи: Вот — грош упал, а вот скрипит диван. Здесь даже в самой искренней беседе Словца не скажешь — разве если пьян! Давно ль ты врал, что угол этот нищий Осточертел тебе до тошноты? Давно ль на это мрачное жилище Ты громы звал?.. А что, брат, скажешь ты, Когда, смешавшись с беженскою голью, Забыв и чин и звание свое, Ты вдруг с холодной бесприютной болью Припомнишь это бедное жилье? 23 сентября 194153. КУКЛА («Ни слова сквозь грохот не слышно!..»)
Ни слова сквозь грохот не слышно!.. Из дома, где мирно спала, В убежище девочка вышла И куклу с собой принесла. Летят смертоносные птицы, Ослепшие в прожекторах! У женщин бескровные лица, В глазах у них горе и страх. И в этой семье сиротливой, Что в щели отбоя ждала, По совести, самой счастливой Тряпичная кукла была! О чем горевать этой кукле? Ей тут безопаснее всех: Торчат ее рыжие букли, На толстых губах ее смех. «Ты в силах, — спросил я, — смеяться?» И, мнится, услышал слова: «Я кукла. Чего мне бояться? Меня не убьют. Я мертва». 24 сентября 194154. ДЕВОЧКА В ПРОТИВОГАЗЕ
Только глянула — и сразу Напрямик сказала твердо: «Не хочу противогаза — У него слоновья морда!» Дочь строптивую со вздохом Уговаривает мама: «Быть капризной — очень плохо! Отчего ты так упряма? Я прощу тебе проказы И куплю медовый пряник. Походи в противогазе! Привыкай к нему заране…» Мама делается строже, Дочка всхлипывает тихо: «Не хочу я быть похожа На противную слониху». Мать упрямице курносой Подарить сулила краски, И торчат льняные косы С двух сторон очкастой маски. Между стекол неподвижных Набок свис тяжелый хобот… Объясни-ка ей, что ближних Люди газом нынче гробят, Что живет она в эпоху, Где убийству служит разум… Быть слоном теперь неплохо: Кто его отравит газом? 1 октября 194155. БАБЬЕ ЛЕТО
Наступило Бабье лето — Дни прощального тепла. Поздним солнцем отогрета, В щелке муха ожила. Солнце! Что на свете слаже После зябкого денька?.. Паутинок легких пряжа Обвилась вокруг сучка. Завтра хлынет дождик быстрый, Тучей солнце заслоня. Паутинкам серебристым Жить осталось два-три дня. Сжалься, осень! Дай нам света! Защити от зимней тьмы! Пожалей нас, Бабье лето: Паутинки эти — мы. 4 октября 194156. УГОЛЕК
Минуют дни незаметно, Идут года не спеша… Как искра, ждущая ветра, Незримо тлеет душа. Когда налетевший ветер Раздует искру в пожар, Слепые люди заметят: Не зря уголек лежал! 23 октября 194157. В ПАРКЕ
Старинной купаленки шаткий настил, Бродя у пруда, я ногою потрогал. Под этими липами Пушкин грустил, На этой скамеечке сиживал Гоголь. У корней осин показались грибы, Сентябрьское солнышко греет нежарко. Далекий раскат орудийной стрельбы Доносится до подмосковного парка. Не смерть ли меня окликает, грозя Вот-вот навалиться на узкие плечи? Где близкие наши и наши друзья? Иных уже нет, а другие далече!.. Свистят снегири. Им еще незнаком Раскатистый гул, отдаленный и слабый. Наверно, им кажется, будто вальком Белье выбивают на озере бабы. Мы ж знаем, что жизнь нашу держит в руках Слепая судьба и что жребий наш выпал… Стареющий юноша в толстых очках Один загляделся на вечные липы. 3 ноября 194158. СЛЕДЫ ВОЙНЫ
Следы войны неизгладимы!.. Пускай окончится она, Нам не пройти спокойно мимо Незатемненного окна! Юнцы, видавшие не много, Начнут подтрунивать слегка, Когда нам вспомнится тревога При звуке мирного гудка. Счастливцы! Кто из них поверит, Что рев сирен кидает в дрожь, Что стук захлопнувшейся двери На выстрел пушечный похож? Вдолби-ка им — как трудно спичка Порой давалась москвичам И отчего у нас привычка Не раздеваться по ночам? Они, минувшего не поняв, Запишут в скряги старика, Что со стола ребром ладони Сметает крошки табака. 25 ноября 194159. МАТЬ («Война пройдет — и слава богу…»)
Война пройдет — и слава богу. Но долго будет детвора Играть в «воздушную тревогу» Среди широкого двора. А мужики, на бревнах сидя, Сочтут убитых и калек И, верно, вспомнят о «планиде», Под коей, дескать, человек. Старуха ж слова не проронит!.. Отворотясь, исподтишка Она глаза слепые тронет Каймою черного платка… 30 ноября 194160. АРХИМЕД
Нет, не всегда смешон и узок Мудрец, глухой к делам земли: Уже на рейде в Сиракузах Стояли римлян корабли. Над математиком курчавым Солдат занес короткий нож, А он на отмели песчаной Окружность вписывал в чертеж. Ах, если б смерть — лихую гостью — Мне так же встретить повезло, Как Архимед, чертивший тростью В минуту гибели — число! 5 декабря 194161. СОЛДАТ
Гусар, в перестрелки бросаясь, Стихи на биваках писал. В гостиных пленяя красавиц, Бывал декабристом гусар. А нынче завален по горло Военной работой солдат. Под стать пневматическим сверлам Тяжелый его автомат. Он в тряском товарном вагоне Сидит, разбирая чертеж, В замасленном комбинезоне На сварщика чем-то похож. Ну, что же! Подсчитывай, целься, Пали в механических птиц! Ты вышел из книги Уэльса — Не с ярких толстовских страниц. С гусарами схож ты не очень: Одет в меховые штаны, Ты просто поденный рабочий Завода страданий — войны. 22 декабря 194162. ВОРОН
В сизых тучках Солнце золотится — Точно рдеет Уголек в золе… Люди говорят, Что ворон-птица Сотни лет Кочует по земле. В зимний вечер В роще подмосковной, Неподвижен И как перст один, На зеленой Кровельке церковной Он сидит, Хохлатый нелюдим. Есть в его Насупленном покое Безразличье Долгого пути! В нем таится Что-то колдовское, Вечное, Бессмертное почти! «Отгадай-ка, — Молвит он, — Который Век на белом свете Я живу? Я видал, Как вел Стефан Баторий Гордое шляхетство На Москву. Города Лежали бездыханно На полях Поруганной земли… Я видал, Как орды Чингисхана Через этот бор С востока шли. В этот лес Французов Утром хмурым Завела Недобрая стезя, И глядел на них я, Сыто щуря Желтые Ленивые глаза. Я потом Из темной чащи слышал, Как они бежали второпях, И свивали полевые мыши Гнезда В их безглазых черепах. Тот же месяц Плыл над синим бором, И закат горел. Как ярый воск. И у всех у них, Столетний ворон, Из костей Выклевывал я мозг!» Так и немцы: Рвутся стаей хищной, А промчится год — Глядишь, Их нет… Черной птице Надо много пищи, Чтоб прожить на свете Сотни лет. Декабрь 194163. «Не дитятко над зыбкою…»
Не дитятко над зыбкою Укачивает мамушка — Струится речкой шибкою Людская кровь по камушкам. Сердца врагов не тронутся Кручиною великою.. Пусть сыч с высокой звонницы Беду на них накликает, Чтоб сделались им пыльными Пути-дороги узкие, Крестами надмогильными Березы стали русские. Пускай им ноги свяжутся В пути сухими травами, Ключи в лесу покажутся В горячий день — кровавыми. Костры горят холодными Негреющими искрами, В узилища подводные Утащат реки быстрые, Вся кровь по капле вытечет, Тупым ножом отворена, Пусть злые клювы выточат О черепа их вороны, Над головами ведьмою Завоет вьюга русская, Одни волки с медведями Глядят в их очи тусклые, Чертополох качается В степи над их курганами, Червяк — и тот гнушается Телами их погаными. 194164. 1941
Ты, что хлеб свой любовно выращивал, Пел, рыбачил, глядел на зарю. Голосами седых твоих пращуров Я, Россия, с тобой говорю. Для того ль новосел заколачивал В первый сруб на Москве первый гвоздь, Для того ль астраханцам не плачивал Дани гордый владимирский гость; Для того ль окрест города хитрые Выводились заслоны да рвы И палили мы пеплом Димитрия На четыре заставы Москвы; Для того ль Ермаковы охотники Белку били дробинкою в глаз; Для того ль пугачевские сотники Смердам чли Государев Указ; Для того ли, незнамы-неведомы, Мы в холодных могилах лежим, Для того ли тягались со шведами Ветераны Петровых дружин; Для того ли в годину суровую, Как пришел на Москву Бонапарт, Попалили людишки дворовые Огоньком его воинский фарт; Для того ль стыла изморозь хрусткая У пяти декабристов на лбу; Для того ль мы из бед землю Русскую На своем вывозили горбу; Для того ль сеял дождик холодненький, Точно слезы родимой земли, На этап бритолобых колодников, Что по горькой Владимирке шли; Для того ли под ленинским знаменем Неусыпным тяжелым трудом Перестроили мы в белокаменный Наш когда-то бревенчатый дом; И от ярого натиска вражьего Отстояли его для того ль,— Чтоб теперь истлевать тебе заживо В самой горькой из горьких неволь. Чтоб, тараща глаза оловянные, Муштровала ребят немчура, Чтобы ты позабыл, что славянами Мы с тобой назывались вчера. Бейся ж так, чтоб пришельцы поганые К нам ходить заказали другим. Неприятелям на поругание Не давай наших честных могил! Оглянись на леса и на пажити, Выдвигаясь с винтовкою в бой: Всё, что кровным трудом нашим нажито, За твоею спиной, за тобой! Чтоб добру тому не быть растащену, Чтоб отчизне цвести и сиять, Голосами седых твоих пращуров Я велю тебе насмерть стоять! Февраль 194265. НЕ ПЕЧАЛЬСЯ!
Не печалься! Скоро, очень скоро Возвратится мирное житье: Из Уфы вернутся паникеры И тотчас забудут про нее. Наводя на жизнь привычный глянец, Возвратят им старые права, Полноту, солидность и румянец Им вернет ожившая Москва. Засияют окна в каждом доме, Патефон послышится вдали… Не печалься: всё вернется — кроме Тех солдат, что в смертный бой пошли. 3 марта 194266. ХЛЕБ И ЖЕЛЕЗО
Хлеб зреет на земле, где солнце и прохлада, Где звонкие дожди и щебет птиц в кустах. А под землей, внизу, поближе к недрам ада Железо улеглось в заржавленных пластах. Благословляем хлеб! Он — наша жизнь и пища. Но как не проклинать ту сталь, что наповал Укладывает нас в подземные жилища?.. Пшеницу сеял бог. Железо черт ковал! 7 апреля 194267. НЕТ!
Вон та Недалекая роща, Вся в гнездах Крикливых грачей, И холм этот, Кашкой заросший,— Уж если не наш он, Так чей? Поди И на старом кладбище Родные могилы спроси: Ужель тебе Сирым и нищим Слоняться опять По Руси? Неужто Наш кряжистый прадед, Татарскую Смявший басму, Сказал бы: «Пусть судит и рядит Чужак В моем крепком дому»? Затем ли Ребячьим гримаскам Смеялась Румяная мать, Чтоб перед солдатом Германским Шапчонку Мальчишке ломать? К тому ли Наш край нами нажит, Чтоб им Поживился сосед?.. Спроси — И народ тебе скажет Мильоноголосое: Нет! 6 мая 194268. СТАРАЯ ГЕРМАНИЯ
Где он теперь, этот домик ветхий, Зяблик, поющий в плетеной клетке, Красный шиповник на свежей ветке И золотистые косы Гретхен? Пела гитара на старом Рейне, Бурши читали стихи в кофейне, Кутая горло платком пуховым, У клавикордов сидел Бетховен. Думал ли он, что под каждой крышей Немцами будут пугать детишек? 19 мая 194269. ПРИРОДА
Что делать? Присяду на камень, Послушаю иволги плач. Брожу у забитых досками, Жильцами покинутых дач. Еще не промчалось и года, Как смолкли шаги их вдали. Но, кажется, рада природа, Что люди отсюда ушли. Соседи в ночи незаметно Заборы снесли на дрова, На гладких площадках крокетных Растет, зеленея, трава. Забывши хозяев недавних, Весь дом одряхлел и заглох, На стенах, на крышах, на ставнях Уже пробивается мох. Да зеленью, вьющейся дико, К порогу забившей пути, Повсюду бушует клубника, Что встарь не хотела расти. И если, бывало, в скворечнях Скворцы приживались с трудом, То нынче от зябликов вешних В саду настоящий содом! Тут, кажется, с нашего века Прошли одичанья века… Как быстро следы человека Стирает природы рука! 28 июня 194270. БОГ
Скоро-скоро, в желтый час заката, Лишь погаснет неба бирюза, Я закрою жадные когда-то, А теперь — усталые глаза. И когда я стану перед богом, Я скажу без трепета ему: «Знаешь, боже, зла я делал много, А добра должно быть никому. Но смешно попасть мне к черту в руки, Чтобы он сварил меня в котле: Нет в аду такой кромешной муки, Чтоб не знал я горше — на земле!» 10 июля 194271. РОДИНА («Весь край этот, милый навеки…»)
Весь край этот, милый навеки, В стволах белокорых берез, И эти студеные реки, У плеса которых ты рос. И темная роща, где свищут Всю ночь напролет соловьи, И липы на старом кладбище, Где предки уснули твои. И синий ласкающий воздух, И крепкий загар на щеках, И деды в андреевских звездах, В высоких седых париках. И рожь на полях непочатых, И эта хлеб-соль средь стола, И псковских соборов стрельчатых Причудливые купола. И фрески Андрея Рублева На темной церковной стене, И звонкое русское слово, И в чарочке пенник на дне. И своды лабазов просторных, Где в сене — раздолье мышам, И эта — на ларчиках черных — Кудрявая вязь палешан. И дети, что мчатся, глазея, По следу солдатских колонн, И в старом полтавском музее Полотнища шведских знамен. И санки, чтоб вихрем летели! И волка опасливый шаг, И серьги вчерашней метели У зябких осинок в ушах. И ливни — такие косые, Что в поле не видно ни зги… Запомни: Всё это — Россия, Которую топчут враги. 16 августа 194272. КНЯЗЬ ВАСИЛЬКО РОСТОВСКИЙ
Ужель встречать в воротах С поклонами беду?.. На Сицкое болото Батый привел орду. От крови человечьей Подтаяла река, Кипит лихая сеча У княжья городка. Врагам на тын по доскам Взобраться нелегко: Отважен князь Ростовский, Кудрявый Василько. В округе все, кто живы, Под княжью руку встал. Громят его дружины Насильников татар. Но русским великанам Застлала очи мгла, И выбит князь арканом Из утлого седла. Шумят леса густые, От горя наклонясь… Стоит перед Батыем Плененный русский князь. Над ханом знамя наше, От кровушки черно, Хан из церковной чаши Пьет сладкое вино. Прихлебывая брагу, Он молвил толмачу: «Я князя за отвагу Помиловать хочу. Пусть вытрет ил болотный, С лица обмоет грязь: В моей охранной сотне Отныне служит князь!» В забвенье зла былого, Батый через слугу Подносит чашку плова Недавнему врагу. Но, духом тверд и светел, Спокойно и легко Насильникам ответил Отважный Василько: «Служить тебе не буду, С тобой не буду есть. Одно звучит повсюду Святое слово: месть! Под нашими ногами Струится кровь — она, Монгольский хан поганый, Тобой отворена! Лежат в снегу у храма Три мертвые жены. Твоими нукерами Они осквернены! В лесу огонь пожара Бураном размело. Твои, Батый, татары За лесом жгут село! Забудь я Русь хоть мало, Меня бы прокляла Жена, что целовала, И мать, что родила!..» Батый, привычный к лести, Нахмурился: «Добро! Возьмите и повесьте Упрямца за ребро!» Бьют кочеты на гумнах Крылами в полусне А князь на крюк чугунный Подвешен на сосне. Молчит земля сырая, Подмога далеко, И шепчет, умирая, Могучий Василько: «Не вымоюсь водою И тканью не утрусь, А нынешней бедою Сплотится наша Русь! Сплотится Русь и вынет Единый меч. Тогда, Подобно дыму, сгинет, Батый, твоя орда!..» И умер князь кудрявый, Но с той лихой поры Поют герою славу Седые гусляры. 26 августа 194273. КОЛОКОЛ
В колокол, мирно дремавший, Тяжелая бомба с размаха Грянула… А. К. Толстой В тот колокол, что звал народ на вече, Вися на башне у кривых перил, Попал снаряд, летевший издалече, И колокол, сердясь, заговорил. Услышав этот голос недовольный, Бас, потрясавший медное нутро, В могиле вздрогнул мастер колокольный, Смешавший в тигле медь и серебро. Он знал, что в дни, когда стада тучнели И закрома ломились от добра, У колокола в голосе звенели Малиновые ноты серебра. Когда ж врывались в Новгород соседи И был весь город пламенем объят, Тогда глубокий звон червонной меди Звучал, как ныне… Это был набат! Леса, речушки, избы и покосцы Виднелись с башни каменной вдали. По большакам сновали крестоносцы, Скот уводили и амбары жгли… И рухнули перил столбы косые, И колокол гудел над головой Так, словно то сама душа России Своих детей звала на смертный бой! 30 августа 194274. КРАСОТА
Эти гордые лбы винчианских мадонн Я встречал не однажды у русских крестьянок, У рязанских молодок, согбенных трудом, На току молотивших снопы спозаранок. У вихрастых мальчишек, что ловят грачей И несут в рукаве полушубка отцова, Я видал эти синие звезды очей, Что глядят с вдохновенных картин Васнецова. С большака перешли на отрезок холста Бурлаков этих репинских ноги босые… Я теперь понимаю, что вся красота — Только луч того солнца, чье имя — Россия! 5 сентября 194275. «Хочешь знать, что такое Россия…»
Да, и такой, моя Россия…
А. Блок Хочешь знать, что такое Россия — Наша первая в жизни любовь? Милый друг! Это ребра косые Полосатых шлагбаумных столбов. Это щебет в рябиннике горьком, Пар от резвых коней на бегу, Это желтая заячья зорька, След на сахарном синем снегу. Это пахарь в портах полотняных, Пес, что воет в ночи на луну, Это слезы псковских полонянок, Поседевших в татарском плену. Это горькие всхлипы гармоник, Свет далеких пожаров ночных, Это — кашка, татарка и донник На высоких могилах степных. Это — эхо от песни усталой, Облаков перелетных тоска, Это свист за далекой заставой Да лучина в окне кабака. Это хлеб в узелке новобранцев, Это туз, что нашит на плечо, Это дудка в руке Самозванца, Это клетка, где жил Пугачев… Да, страна наша не была раем: Нас к земле прибивало дождем. Но когда мы ее потеряем, Мы милей ничего не найдем! 18 сентября 194276. «Я не знаю, что на свете проще?..»
Я не знаю, что на свете проще? Глушь да топь, коряги да пеньки. Старая березовая роща, Редкий лес на берегу реки. Капельки осеннего тумана По стволам текут ручьями слез. Серый волк царевича Ивана По таким местам, видать, и вез. Ты родись тут Муромцем Илюшей, Ляг на мох и тридцать лет лежи. Песни пой, грибы ищи да слушай, Как в сухой траве шуршат ужи. На сто верст кругом одно и то же: Глушь да топь, чижи да дикий хмель… Отчего ж нам этот край дороже Всех заморских сказочных земель? 20 сентября 194277. «Скинуло кафтан зеленый лето…»
Скинуло кафтан зеленый лето, Отсвистели жаворонки всласть. Осень, в шубу желтую одета, По лесам с метелкою прошлась, Чтоб вошла рачительной хозяйкой В снежные лесные терема Щеголиха в белой разлетайке — Русская румяная зима! 1 октября 194278. КЛАДЫ
Смоленск и Тула, Киев и Воронеж Своей прошедшей славою горды. Где нашу землю посохом ни тронешь — Повсюду есть минувшего следы. Нас дарит кладами былое время Копни лопатой — и найдешь везде: Тут — в Данциге откованное стремя, А там — стрелу, каленную в Орде. Зарыли в землю много ржавой стали Все, кто у нас попировал в гостях! Как памятник стоит на пьедестале, Так встала Русь на вражеских костях. К нам, древней славы неусыпным стражам, Взывает наше прошлое, веля, Чтоб на заржавленном железе вражьем И впредь стояла русская земля! 3 октября 194279. АЛЕНУШКА
Стойбище осеннего тумана, Вотчина ночного соловья, Тихая царевна Несмеяна — Родина неяркая моя! Знаю, что не раз лихая сила У глухой околицы в лесу Ножичек сапожный заносила На твою нетленную красу. Только всё ты вынесла и снова За раздольем нив, где зреет рожь, На пеньке у омута лесного Песенку Аленушки поешь… Я бродил бы тридцать лет по свету, А к тебе вернулся б умирать, Потому что в детстве песню эту, Знать, и надо мной певала мать! 9 октября 194280. «Россия! Мы любим неяркий свет…»
Россия! Мы любим неяркий свет Твоих сиротливых звезд. Мы косим твой хлеб. Мы на склоне лет Ложимся на твой погост. Россия! Ты — быстрый лесной родник, Степной одинокий стог, Ты — первый ребячески звонкий вскрик, Глухой стариковский вздох. Россия! Мы все у тебя в долгу. Ты каждому — трижды мать. Так можем ли мы твоему врагу В служанки тебя отдать?.. На жизнь и на смерть пойдем за тобой В своей и чужой крови! На грозный бой, на последний бой, Россия, благослови! Декабрь 194281. ДУМА О РОССИИ
Широка раскинулась Россия, Много бед Россия выносила: На нее с востока налетали Огненной метелицей татары, С запада, затмив щитами солнце, Шли стеною на нее ливонцы. «Вот ужо, — они ее пугали, — Мы в песок сотрем тебя ногами! Погоди, мол: вырастет крапива, Где нога немецкая ступила…» Бил дозорный в било на Пожаре, К борзым коням ратники бежали, Выводил под русским небом синим Ополченье тороватый Минин, От неволи польской и татарской Вызволяли Русь Донской с Пожарским, Смуглая рука царя Ивана Крестоносцев по щекам бивала. И чертили по степным яругам Коршуны над ними круг за кругом, Их клевало на дорогах тряских Воронье в монашьих черных рясках, И вздымал над битой вражьей кликой Золотой кулак Иван Великий… Сеял рожь мужик в портах посконных, И Андрей Рублев писал иконы, Русичи с глазами голубыми На зверье с рогатиной ходили, Федька Конь, смиряя буйный норов, Строил чудотворный Белый город, Плошка тлела в слюдяном оконце, Девки шли холсты белить на солнце, Пели гусли вещего Баяна Славу прошлых битв, и Русь стояла, И Москва на пепле вырастала, Точно голубятня золотая… Нынче вновь кривые зубы точит Враг на русский край. Он снова хочет Выложить костьми нас в ратном поле, Волю отобрать у нас и долю, Чтобы мы не пели наших песен, Не владели ни землей, ни лесом, Чтоб влекла орда тевтонов пьяных Наших жен в шатры, как полонянок, Чтобы наши малые ребята От поклонов сделались горбаты, Чтоб лишь странники брели босые По местам, где встарь была Россия… Не бывать такому сраму, братцы! Грудью станем! Будем насмерть драться! Изведем врага! Штыком заколем! Пулею прошьем! Забьем дрекольем! В землю втопчем! Загрызем зубами, А не станем у него рабами! Ястреб нам крылом врага укажет, Шелестом трава о нем расскажет, Даль заманит, выдаст конский топот, Русская река его утопит… Не испить врагу шеломом Дона! Не погнутся русские знамена! Будем биться так, чтоб видно было: В мире нет сильнее русской силы! Чтоб остались от орды поганой Только безыменные курганы, Чтоб, как встарь, стояла величаво Мать Россия, наша жизнь и слава! 194282. БОРЬБА
Века прошли В борьбе жестокой: Врага стараясь превозмочь, Навстречу дню, Что шел с Востока, Шла с Запада Глухая ночь. Но как бы Над землею смутно Ее ни нависала тень,— Мир знал: Непобедимо Утро. С Востока Снова встанет день! 194283. ДЕТИ
Страшны еще Войны гримасы, Но мартовские дни — Ясны, И детвора Играет в «классы» — Всегдашнюю Игру весны. Среди двора Вокруг воронки Краснеют груды кирпича, А ребятишки Чуть в сторонке Толпятся, Весело крича. Во взгляде женщины Несмелом Видна печаль, А детвора Весь день рисует Клетки мелом Среди широкого двора. Железо, Свернутое в свиток, Напоминает О враге, А мальчуган На стеклах битых Танцует На одной ноге… Что ж, Если нас Враги принудят, Мы вроем надолбы В асфальт, Но дни пройдут — И так же будет Звенеть Беспечный Детский альт! Он — вечен! В смерть душа не верит: Жизнь не убьют, Не разбомбят!.. У них эмблема — Крест и череп. Мы — За бессмертный Смех Ребят. 194284. ДНЕПРОПЕТРОВСК
На двор выходит Школьница в матроске, Гудят над садом Первые шмели. Проходит май… У нас в Днепропетровске Уже, должно быть, Вишни зацвели. Да, зацвели. Но не как прошлым летом, Не белизной, Ласкающею глаз. Его сады Кроваво красным цветом Нерадостно Цветут на этот раз! И негде Соловьям перекликаться: У исполкома Парк Сожжен дотла, И на ветвях Раскидистых акаций Повешенных Качаются тела. Как страшно знать, Что на родных бульварах, Где заблудилась Молодость моя, Пугают женщин, От печали старых, Остроты Пьяного офицерья… Друзья мои! Я не могу забыть их. Я не прощу Их гибель палачам: Мне десять тысяч Земляков убитых Спать не дают И снятся по ночам! Я думаю: Где их враги убили? В Шевченковском, На берегу Днепра? У стен еврейского кладбища Или Вблизи казарм, Где сам я жил вчера? Днепропетровск! Ужель в твоих кварталах, Коль не сейчас, Так в будущем году, Из множества Друзей моих бывалых Я никого, Вернувшись, Не найду? Не может быть! Всему есть в жизни мера! Недаром же С пожарной каланчи На головы Немецких офицеров По вечерам Слетают кирпичи. Мои друзья, — Как их враги ни мучай, — Ведут борьбу, И твердо знаю я: Те, Кто не носит Свастики колючей, В Днепропетровске Все Мои друзья! 194285. ЗАВЕТ
В час испытаний Поклонись отчизне По-русски, В ноги, И скажи ей: «Мать! Ты жизнь моя! Ты мне дороже жизни! С тобою — жить, С тобою — умирать!» Будь верен ей. И, как бы ни был длинен И тяжек день военной маеты, — Коль пахарь ты, Отдай ей всё, как Минин, Будь ей Суворовым, Коль воин ты. Люби ее. Клянись, как наши деды, Горой стоять За жизнь ее и честь, Чтобы сказать В желанный час победы: «И моего Тут капля меда есть!» 194286. НАБЕГ
Хоть еще на Москве Не видать гололобых татар, А недаром грачи Раскричались в лесу над болотом И по рыхлым дорогам Посадский народ — Мал и стар — Потянулся со скарбом К железным кремлевским воротам. Кто-то бухает в колокол Не покладая руки, И сполох над столицей Несется, тревожен и звонок. Бабы тащат грудных, А за ними ведут мужики Лошаденок своих, Шелудивых своих коровенок. Увязавшись за всеми, Дворняги скулят на бегу, Меж ногами снуют И к хозяевам жмутся упорно. Над коровьим навозом На мартовском талом снегу Неуклюжие галки Дерутся за редкие зерна. Изнутри подпирают Тесинами створки ворот, В них стучат запоздалые, Просят впустить Христа ради. Верхоконный кричит, Наезжая конем на народ, Что лабазы с мукою Уж загорелись в Зарядье. Ничего не поймешь, Не рассмотришь в туманной дали: То ли слободы жжет Татарва, потерявшая жалость, То ль посадские сами Свое барахлишко зажгли, Чтоб оно хоть сгорело, Да только врагу не досталось! И в глухое предместье, Где в облаке дыма видны Вековечные сосны И низкие черные срубы, То и дело подолгу С высокой Кремлевской стены Молча смотрят бояре В заморские длинные трубы. Суетясь у костра, Мужичонка, раздет и разут, Подгребает золу Под котел, переполненный варом, И, довольны потехой, Мальцы на салазках везут Горки каменных ядер — Гостинцы готовят татарам! Катят дюжие ратники Бочки по талому льду Из глубоких подвалов, Где порох с картечью хранится. Тупорылая пушечка На деревянном ходу Вниз, на Красную площадь, Глядится из тесной бойницы. И над ревом животных, Над гулом смятенной толпы, Над котлами смолы, Над стрелецкой дружиною конной, — В золотом облаченье, Вздымая хоругви, попы На Кремлевские стены Идут с чудотворной иконой. А в усадьбе своей Хитроумный голландский купец Запирает калитку И, заступ отточенный вынув, Под сухою ветлой Зарывает железный ларец, Полный звонких дукатов И светлых тяжелых цехинов. Повисают замки На ларях мелочных торгашей, Лишь в кружалах пропойцы Дуют для храбрости брагу. Попадья норовит Вынуть серьги из нежных ушей И красавицу дочку В мужицкую рядит сермягу. Толстый дьяк отговеть Перед смертью решил. А пока Под шумок у народа Мучицу скупил за спасибо. Судьи в Тайном приказе Пытают весь день «языка»: То кидают на землю, То вновь поднимают на дыбу. А старухи толкуют, Что в поле у старых межей Ведьмы сеяли землю Вчерашнюю ночь на рассвете. И ревут молодайки: Они растеряли мужей, За подолы их, плача, Цепляются малые дети. И, к луке пригибаясь, Без милости лошадь гоня, Чистым полем да ельником, Скрытной лесною дорогой, В поводу за собою Ведя запасного коня, Поспешает гонец К Ярославлю За скорой подмогой. 194287. «Начинается ростепель марта…»
Начинается ростепель марта, И скворец запевает — он жив… Ты лежишь под гвардейским штандартом, Утомленные руки сложив. Ты устал до кровавого пота! Спи ж спокойно! Ты честно, родной, Отработал мужскую работу, Что в народе зовется — войной. Мы холодные губы целуем, — Шлем тебе наш прощальный салют, В том колхозе, что мы отвоюем, Твоим именем клуб назовут. Наши девушки будут в петлице Твой портрет в медальоне носить, О тебе тракторист смуглолицый Запоет, выйдя травы косить. Ты не даром на вражьи твердыни Шел за землю родимую в бой! Ты навеки становишься ныне Сам родимою нашей землей! Чисто гроба остругана крышка, Выступает смола на сосне, Синеглазый вихрастый мальчишка По ночам тебя видит во сне. Он к отцу на колени садится И его заряжает ружье… Спи, товарищ! Он будет гордиться, Что наследовал имя твое. 194288. ОКТЯБРЬСКАЯ БИТВА
Мы песком На чердаках гасили Пламя вражьих бомб В тревоги час. Фронтовые Белые автомобили В гости к смерти Увозили нас. Из друзей, Ушедших в эту осень, Не один Простился с головой, — Но остановили Двадцать восемь Вражеские танки Под Москвой. Нас босыми По снегу водили На допрос и пытку Из тюрьмы… Всё равно: Враги не победили! В этой битве Победили Мы! 194289. УБИТЫЙ МАЛЬЧИК
Над проселочной дорогой Пролетали самолеты… Мальчуган лежит у стога, Точно птенчик желторотый. Не успел малыш на крыльях Разглядеть кресты паучьи. Дали очередь — и взмыли Вражьи летчики за тучи… Всё равно от нашей мести Не уйдет бандит крылатый! Он погибнет, даже если В щель забьется от расплаты. В полдень, в жаркую погоду Он воды испить захочет, Но в источнике не воду — Кровь увидит вражий летчик. Слыша, как в печи горячей Завывает зимний ветер, Он решит, что это плачут Им расстрелянные дети. А когда, придя сторонкой, Сядет смерть к нему на ложе,— На убитого ребенка Будет эта смерть похожа! 194290. «Это смерть колотит костью…»
Это смерть колотит костью По разверзшимся гробам: «Дранг нах Остен! Дранг нах Остен!» — Выбивает барабан. Лезут немцы, и пойми ты: Где изъяны в их броне?.. «Мессершмитты», «Мессершмитты» Завывают в вышине. Шарит враг незваным гостем По домам и погребам… «Дранг нах Остен! Дранг нах Остен!» — Выбивает барабан. Толпы спят на полустанках, Пол соломой застеля. Где-то близко вражьи танки Пашут русские поля. Толстый унтер хлещет в злости Баб смоленских по зубам… «Дранг нах Остен! Дранг нах Остен!» — Выбивает барабан. Рвутся бомбы. Дети плачут. Первой крови горек вкус. Воет пьяный автоматчик: «Рус капут! Сдавайся, рус!..» 194291. ЯСЬ
Вышел Ясь Из ветхой избушки, На плетень оперся У сада. Видит он: Бежит к нему с опушки Его маленький сынок, Его отрада. Он в одной руке Несет веревку, А другою Сдерживает сердце: «Ох, отец! Нашу старую буренку Увели проклятые немцы!» Пожалел старик Свою скотину, Он избу стеречь Оставил бабу, Чмокнул На прощанье Сына И пошел К немецкому штабу. Криками и бранью Встретил Яся На крыльце Фашистский полковник: «Уходи, собачье мясо! Убирайся! Вот еще Нашелся Законник!» Старый Ясь Ни с чем Подходит к дому, Брызжет дождик Теплый и редкий… У села За стогом соломы Повстречали Яся Соседки. «Ясь! Покуда ты ходил за коровой — По селу Патруль немецкий рыскал. Ой, убит Твой сынок чернобровый, Нет в живых Твоей женки Марыськи!» До зари, Пока не спали певни, Ясь в ногах просидел У покойных. И пошел к попу На край деревни, Чтобы мертвых Погрести достойно. Он плетется В горькой обиде, Смотрит — Вьется дым синеватый. Пригляделся старый И видит: То горит Его бедная хата. Молвил Ясь: «Не будет с немцем толку! Стерпим — Бабы наплюют в глаза нам!..» Из навоза Выкопал винтовку И подался в пущу, К партизанам. Хороша У пущи той дорога, Да ходить по ней Врагам неловко: То из-за куста, То из-за стога Достает их Ясева винтовка! 194292. БАЛЛАДА О ПОБРАТИМАХ
Послушай, что у нас в полку Случилось как-то раз: Повадился на базу к нам Летать немецкий ас, Шнырял, как ворон, в небесах, За тучей кочевал. Он истребителям с земли Подняться не давал. А в эти дни в полку у нас Служили два дружка. Всю жизнь они прошли вдвоем — От парты до полка. Случалось в детстве им не раз Расквашивать носы. А в юности не спать ночей Из-за одной косы. Обоим выдал мотоклуб Шоферские права, Вдвоем приятели летать Учились на «У-2», Вдвоем дрались на ястребках С коричневым зверьем. И первый орден получать Отправились вдвоем… Мы побратимами за то Прозвали их шутя, Что старший младшего берег, Как малое дитя. В то утро, помню, старший был В полете боевом. Глядим, летит фашистский волк На наш аэродром. «Кто, — говорит нам командир,— Собьет его в бою?» И младший молвил, козырнув: «Позвольте, я собью!» Тот бой мы видели с земли И убедились — как Увертлив, опытен, хитер Матерый злобный враг: Шел на него товарищ наш И в лоб ему палил, А немец прятался, петлял, Пикировал, юлил. Потом он очередь, как вор, Пустил исподтишка, И загорелся, задымил Мотор у «ястребка»… Вернулся старший. Злую весть Он встретил по-мужски, Но крепко начали седеть С тех пор его виски. «Как отыскать мне в небесах, — Одно лишь он спросил, — Того врага, что моего Товарища убил?» Тогда, не помню, кто из нас, Ответил на вопрос: «Окрашен краской голубой Его машины нос». — «Так и моей машины нос Пусть будет голубой, Чтоб подлый враг меня узнал, Когда я кинусь в бой, Чтоб помнил он, что у меня Есть с ним кровавый счет, Чтоб знал, что от моей руки До смерти не уйдет, Что в воздухе, и на земле, И в море, и в аду, — Куда б ни скрылся он, — его Я всё равно найду!..» И был его машины нос Окрашен голубым, Он вылетел, как ветер быстр, Как смерть неуловим! Он двадцать «мессершмиттов» сжег На базах и в бою, Ища врага, чтобы над ним Исполнить месть свою! Но, глядя, как внизу дымил Фашистский самолет, «Не тот! — он мрачно говорил. — И в этот раз не тот!» И вот однажды, слышим мы — Вверху мотор шумит, Глядим — голубоносый к нам Несется «мессершмитт». Наш друг ракетою взлетел, Завидев над собой Машину старого врага,— И завязался бой! Фашисту, надобно сказать, Невесело пришлось: Наш друг шел в лобовой удар, А немец прятал нос, Вертелся в небе, как щенок, Лукавил, — да куда! Товарищ наш его забрал, Как лошадь в повода. Как ни увертлив был фашист, Как ни был он хитер, А все-таки наш друг всадил Снаряд в его мотор! «Ну, вот, — сказал он, под ногой Площадки чуя гладь,— В сырой земле мой побратим Спокойно может спать. Теперь моей машины нос Пусть перекрасят вновь…» И он с рассеченного лба Перчаткой вытер кровь. <1943>93. АНГЛИЙСКИЙ ОРДЕН
Среди резвящихся ребят Присядет старина — И, точно солнце, заблестят На сердце ордена. И спросит шустрый мальчуган, Племянников сынок: «Эй, дед Денис! За что те дан Вот этот орденок?» — «Который? Первый — за Сиваш, Второй — за Сталинград, А третий орден, брат, не наш — Английский орден, брат!.. Подраться с немцами в тот год Пришлось мне, старику. Попал я в пулеметный взвод В двенадцатом полку. Пришел. Живу среди братвы, Помалу фрицев бью. И вдруг бумага из Москвы Приходит в часть мою: Мол, есть у вас ефрейтор. Он — Особенным крестом За летный подвиг награжден Английским королем… Тут я в тупик, признаться, стал! За что награда мне? Уж если я когда летал, Так разве что во сне! Король про это мог не знать: К нему не близкий свет. Но мне-то можно ль орден брать, Что не заслужен?.. Нет! Пришел к начальству: „Так и так, — Комдиву говорю, — Конечно, за отличья знак Весьма благодарю! Да только как его мне взять?..“ И дальше речь свожу К тому, что надо б полетать, Авось и заслужу… „Срок нужен, — молвил генерал, — Чтоб практику пройти. Но раз уж в летчики попал — Давай тогда, лети!..“ На „ИЛе“, помню, в небеса Поднялся я в тот раз. Под нами — реки и леса Едва окинет глаз! Да только я не друг брехне: В то утро, веришь ты, И дела мало было мне До этой красоты! Прошу: „Не вывали меня! Полегче!..“ А пилот: „У моего, — кричит, — коня Такой уж бойкий ход!“ И повезло мне в этот час: Едва мы вышли в путь — Глядим, какой-то фриц от нас Спешит улепетнуть. Я летчику сказал: „Земляк! Прицелка, брат, плоха, Вишь, немец скачет в небесах, Как в рукаве блоха. К нему б ты ближе подъезжал, Чтоб пули тратить впрок…“ Он проскочил, и я нажал На спусковой крючок. Нажал — и „юнкерс“ рухнул вниз С огромной высоты! „Ну, — думаю, — добро, Денис, Что там сидел не ты!“ А случай слеп, да всё ж не глуп: Он что со мной сыграл? На „юнкерсе“ летел фон Шлюпп, Фашистский генерал… Комдив, усами шевеля, Смеялся: „Как? Живой? Ну, значит, орден короля Теперь по праву твой!“ Да, — скажет старый ветеран, Взглянув на ордена,— Не зря любой из них мне дан, Всем им — своя цена: Смотри — вот этот за Сиваш, Второй — за Сталинград, А третий орден, брат, не наш — Английский орден, брат!» <1943>94. ПРИСЯГА
Заветы славной боевой отваги От прадедов остались на Руси… Святое слово воинской присяги Торжественно, боец, произнеси! Не самому себе, а всей отчизне Ты говоришь в священный этот час: «Отдам всю кровь, не пожалею жизни, Чтобы исполнить Родины приказ!» Свирепый враг вперед стремится снова, Неся народу нашему беду. Встань на пути и вымолви сурово: «Я дал присягу! Я не отойду!» Когда ж взовьются радостные флаги И встретятся с тобой твои друзья,— Ты скажешь им: «Я верен был присяге! Победы нашей час приблизил я». <1943>95. В НОЧНОМ ПОЛЕТЕ
Замолк далекий отзвук грома, Звезда вечерняя зажглась. Со своего аэродрома Ночь тихо в воздух поднялась. Она летит — и вслед за нею Ты старта попросил: пора! Вот твой мотор чуть-чуть слышнее Ночного пенья комара. Поляны, что давно знакомы, Уже вдали не видишь ты… Жена теперь, наверно, дома, И на столе ее — цветы. А сын сквозь длинные ресницы Спросонок взглянет и вздохнет. Ему сейчас, быть может, снится Отца далекий самолет. Как тихо над передним краем! Нигде не разглядеть ни зги. Но знаешь ты, что тьма сырая Обманчива: внизу — враги! Чтоб в День победы в доме старом Обнять сынишку и жену, Сейчас ты бомбовым ударом Вспугнешь ночную тишину. Вокруг запляшут в это время Разрывов желтые мячи. Начнут рубить глухую темень Косых прожекторов мечи. Но, отбомбившись, ты под тучи Уйдешь — и канешь за рекой Незримым мстителем летучим За наш нарушенный покой! <1943>96. МОРОЗ НА СТЕКЛАХ
На окнах, сплошь заиндевелых, Февральский выписал мороз Сплетенье трав молочно-белых И серебристо-сонных роз. Пейзаж тропического лета Рисует стужа на окне. Зачем ей розы? Видно, это Зима тоскует о весне. 7 февраля 194397. НОЧНОЙ ПЛАЧ
На дворе — осенней ночи гнилость, Затрещал сверчок. Огонь погас. Мой хороший! Что тебе приснилось В этот самый сумеречный час? Твой мирок не то, что наш, громоздкий: Весь его рукой накрыть легко. В нем из розовой шершавой соски Теплое струится молочко. Отчего ж дрожат твои ресницы И дыханье стало тяжело? Что тебе печальное присниться, Страшное привидеться могло? Иль тоска рыданий безутешных, Грудь теснящих в этот поздний час, С кровью перешла к тебе от грешных, Слишком многое узнавших — нас? 20 февраля 194398. ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Итак, ты выжил. Кончились бомбежки. Солдаты возвращаются домой. И выполз ты, еще шальной немножко, Как муха, уцелевшая зимой. Ты медленно проходишь пестрым лугом, Где ветер клонит волны спелой ржи. Уже почти распаханные плугом, Еще кой-где чернеют блиндажи. И ты с улыбкой вспомнил, как, бывало, Осколки тут жужжали, как шмели. Теперь здесь тишь. И на дрова — завалы Колхозницы по щепке разнесли. В кустах ты видишь танков лом железный, На их броне растет зеленый мох… Как после долгой тягостной болезни, Ты делаешь счастливый полный вздох. «Теперь, — ты думаешь, — жизнь будет длинной! Спокойной будет старости пора». И вдруг у ног твоих взорвется мина, Саперами забытая вчера. 21 февраля 194399. «Вот и вечер жизни. Поздний вечер…»
Вот и вечер жизни. Поздний вечер. Холодно и нет огня в дому. Лампа догорела. Больше нечем Разогнать сгустившуюся тьму. Луч рассвета, глянь в мое оконце! Ангел ночи! Пощади меня: Я хочу еще раз видеть солнце — Солнце первой половины Дня! 30 апреля 1943100. КУКУШКА
Утомленные пушки В это утро молчали. Лился голос кукушки, Полный горькой печали. Но ее кукованье Не считал, как бывало, Тот, кому этой ранью Встарь она куковала. Взорван дот в три наката, Сбита ели макушка… Молодого солдата Обманула кукушка! Лето 1943101. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ
На полу игрушки. В доме тишь. Мама вяжет. Ты спокойно спишь. В темно-голубой квадрат окна Смотрит любопытная луна. Где-то в небе возникает вдруг Ровный-ровный, нежный-нежный звук, Словно деловитая пчела Песню над цветами завела. В ясном небе близ луны плывет Маленький отцовский самолет. «Спи, сынок! — гудят его винты. — Чтоб в саду играл спокойно ты, Чтоб лежали в домике в тылу Детские игрушки на полу, Каждый вечер ввысь взлетаю я, И со мной летят мои друзья! Вражьи „юнкерсы“ еще бомбят Беззащитных маленьких ребят. Их глаза незрячие пусты, Их игрушки кровью залиты! Чтоб добыть победу, чтоб принесть Детям счастье, а фашистам месть, — Чуть настанет вечер, над тобой Мы летим на Запад, в жаркий бой!..» В темно-голубой квадрат окна Смотрит любопытная луна. На полу игрушки, в доме тишь. Мама вяжет. Ты спокойно спишь. Над тобой отцовский самолет Песню колыбельную поет. 1943102. ДНЕПРОПЕТРОВСКУ
Здравствуй, город чугуна и стали, Выдержавший бой с лихим врагом! Варвары тебя не растоптали Кованым немецким сапогом. Молчаливый, опустевший, темный, Ты как воин, а не как слуга, Погасив пылающие домны, Встретил ненавистного врага! Жаждавший днепропетровской стали, Немец получал ее в ночи Только пулями, что залетали В дом, где пировали палачи! Вдоль проспектов новых и бульваров Враг поставил виселицы в ряд. Но сердца суровых сталеваров Крепче стали, что они варят! И в октябрьский день, уже нежаркий, В своего освобожденья час, Шумом лип Шевченковского парка Воскрешенный город встретил нас! Радость стариков и смех подростков, Всё, чем ты, победа, дорога, — Нам залог, что сталь Днепропетровска Скоро полетит в лицо врага! 1943103. «Оказалось, я не так уж молод…»
Оказалось, я не так уж молод; Юность отшумела. Жизнь прошла. До костей пронизывает холод, Сердце замирает от тепла. В час пирушки кажется хмельною Даже рюмка слабого вина, И коль шутит девушка со мною, Всё мне вспоминается жена. 1943104. КОТ
На тюфячке, покрытом пылью, Он припеваючи живет, Любимец третьей эскадрильи — Пушистый одноухий кот. Землянка — тесное жилище, Зато тепла землянка та… Комэск в селе на пепелище Нашел бездомного кота. Бывает — полночь фронтовая, Темно… По крыше дождь сечет… И вдруг, тихонько напевая, На стул комэска вспрыгнет кот. Снаружи ветер глухо воет, В окошке не видать ни зги… А кот потрется головою О фронтовые сапоги, И просветлеет взгляд комэска, Исчезнет складочка у рта. Как полон золотого блеска Давно забытый взгляд кота! И кажется, не так уж сыро И дождь в окно не так стучит. Уютной песенкою мира Кота мурлыканье звучит. И словно не в консервной банке Горит фитиль из волокна, И мнится, что в пустой землянке Вот-вот заговорит жена. 1943105. ДЕНЬ СУДА
За то, что, каскою рогатою увенчан И в шкуру облачен, ты был как гунн жесток, За пепел наших сел, за горе наших женщин, От милых сердцу мест ушедших на восток, За горькую тоску напевов похоронных Над павшими в огне кровопролитных сеч, За вбитые в глаза немецкие патроны, За головы детей, разбитые о печь, За наши города, за храмы наших зодчих, Повергнутые в прах разбойничьей пальбой, За наш покой, за то, что на могилах отчих Ругаются скоты, взращенные тобой, За хлеб, что ты украл с широких наших пашен, За бешенство твоих немецких Салтычих, За безутешный плач несчастных пленниц наших На каторге твоей и за бесчестье их, За всех, кто был убит в церквах, в подвалах, в ригах, Кто бился на кострах, от ужаса крича,— Исполнится написанное в книгах: «Поднявший меч погибнет от меча». Как бешеного пса, тебя в железной клетке На площадь привезут народу напоказ, И матери глаза закроют малолеткам, Чтоб не пугаться им твоих свирепых глаз. И грохот костылей раздастся на дорогах: Из недр своих калек извергнут города. Их тысячи — слепых, безруких и безногих На площадь приползут в день твоего суда. И, крови не омыв, не отирая пота, Не слыша ничего, не видя ничего, Чудовищной толпой, сойдясь у эшафота, Слепые завопят: «Отдайте нам его!» И призраки детей усядутся в канавах, И вдовы принесут в пустых глазах тоску… Куда тебе бежать от пальцев их костлявых, Что рвутся к твоему сухому кадыку? И встанут мертвецы. Их каждый холм, и пажить, И рощица отдаст в жестокий этот час. Их мертвые уста тебе невнятно скажут: «Ты всё еще живешь, злодей, убивший нас?» Тебя отвергнет друг, откажет мать в защите, Промолвив: «Пусть над ним исполнится закон! Мне этот зверь — не сын! На суд его тащите! Я проклинаю ночь, когда родился он!» Тогда впервые ты почуешь смертный ужас И, слыша, как твоя седеет голова, Завертишься ужом, уйти от кары тужась, И станешь лепетать о милости слова. Но проклят всеми ты! И милости не будет! Враги тебе — земля, и воздух, и вода… И если правда есть, и если подлость судят, То скоро для тебя наступит День Суда! 1943106. «Полянка зимняя бела…»
Полянка зимняя бела, В лесу — бурана вой. Ночная вьюга замела Окопчик под Москвой, На черных сучьях белый снег Причудлив и космат. Ничком лежат пять человек — Пять ленинских солдат. Лежат. Им вьюга дует в лоб, Их жжет мороз. И вот — На их заснеженный окоп Фашистский танк ползет. Ползет — и что-то жабье в нем. Он сквозь завал пролез И прет, губительным огнем Прочесывая лес. «Даешь!» — сказал сержант. «Даешь!» — Ответила братва. За ними, как железный еж, Щетинилась Москва. А черный танк всё лез и лез, Утаптывая снег Тогда ему наперерез Поднялся человек. Он был приземист, белокур, Курнос и синеок. Холодных глаз его прищур Был зорок и жесток. Он шел к машине головной И помнил, что лежат В котомке за его спиной Пять разрывных гранат. Он массой тела своего Ей путь загородил. Так на медведя дед его С рогатиной ходил. И танк, паля из всех стволов, Попятился, как зверь. Боец к нему, как зверолов, По насту полз теперь. Он прятался от пуль за жердь, За кочку, за хвою, Но отступающую смерть Преследовал свою! И черный танк, взрывая снег, Пустился наутек, А коренастый человек Под гусеницу лег. И, всё собою заслоня, Величиной в сосну, Не человек, а столб огня Поднялся в вышину! Сверкнул — и через миг померк Тот огненный кинжал… Как злая жаба, брюхом вверх, Разбитый танк лежал. 1943107. УЗЕЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Через лужок, наискосок От точки огневой, Шумит молоденький лесок, Одевшийся листвой. Он весь — как изумрудный дым, И радостно белы Весенним соком молодым Налитые стволы. Весь день на солнце знай лежи!.. А в роще полутьма. Там сходят пьяные чижи От радости с ума. Мне жар полдневный не с руки. Я встану и пойду Искать вдоль рощи васильки, Подсвистывать дрозду. Но поднимись не то что сам — Из ямы выставь жердь — И сразу к птичьим голосам Прибавит голос смерть. Откликнется без долгих слов Ее глухой басок Из-за березовых стволов, С которых каплет сок. Мне довелось немало жить, Чтоб у того узла Узнать, что гибель может быть Так призрачно бела! 1943108. ЦЫГАНКА
Устав от разводов и пьянок, Гостиных и карт по ночам, Гусары влюблялись в цыганок, И седенький поп их венчал. «Дворянки» в капотах широких Навагу едали с ножа, Но староста знал, что оброка Не даст воровать госпожа. И слушал майор в кабинете, Пуская дымок сквозь усы, Рассказ, как «мужицкие» дети Барчатам разбили носы!.. Он знал, что, когда он отдышит И сляжет и встретит свой час, — Цыганка поднимет мальчишек И в корпус кадетский отдаст. И вот уходил ее сверстник, Ее благодетель — во тьму, И пальцы в серебряных перстнях Глаза закрывали ему. Под гул севастопольской пушки Вручал старшина Пантелей Барчонку от смуглой старушки Иконку и триста рублей. Старушка в наколке нелепой По дому бродила с клюкой, И скоро в кладбищенском склепе Ложили ее на покой. А сыну глядела Россия, Ночная метель и гроза В немного шальные, косые, С цыганским отливом глаза… Доныне в усадебке старой Остались следы этих лет: С малиновым бантом гитара И в рамке овальной портрет. В цыганкиных правнуках слабых Тот пламень дотлел и погас, Лишь кровь наших диких прабабок Нам кинется в щеки подчас. 16 января 1944109. СОЛДАТКА
Ты всё спала. Всё кислого хотела. Всё плакала. И скоро поняла, Что и медлительна и полнотела Вдруг стала оттого, что — тяжела. Была война. Ты, трудно подбоченясь, Несла ведро. Шла огород копать. Твой бородатый ратник-ополченец Шагал по взгорьям ледяных Карпат. Как было тяжело и как несладко! Всё на тебя легло: топор, игла, Корыто, печь… Но ты была солдаткой, Великорусской женщиной была. Могучей, умной, терпеливой бабой С нечастыми сединками в косе… Родился мальчик. Он был теплый, слабый, Пискливый, красный, маленький, как все. Как было хорошо меж сонных губок Вложить ему коричневый сосок Набухшей груди, полной, словно кубок, На темени пригладить волосок, Прислушаться, как он сосет, перхая, Уставившись неведомо куда, И нянчиться с мальчишкой, отдыхая От женского нелегкого труда… А жизнь тебе готовила отместку: Из волостной управы понятой В осенний день принес в избу повестку. Дурная весть была в повестке той! В ней говорилось, что в снегах горбатых, Зарыт в могилу братскую, лежит, Германцами убитый на Карпатах, Твой работящий пожилой мужик. А время было трудное!.. Бывало, Стирала ты при свете ночника И что могла для сына отрывала От своего убогого пайка. Всем волновалась: ртом полуоткрытым, Горячим лбом, испариной во сне. А он хворал. Краснухой. Дифтеритом. С другими малышами наравне. Порою из рогатки бил окошки, И люди говорили: «Ох, бедов!» Порою с ходу прыгал на подножки Мимо идущих скорых поездов… Мальчишка вырос шустрый, словно чижик, Он в школу не ходил, а несся вскачь. Ах, эта радость первых детских книжек И горечь первых школьных неудач! А жизнь вперед катилась час за часом. И вот однажды, раннею весной, Ломающимся юношеским басом Заговорил парнишка озорной. И всё былое горе малой тучкой Представилось тебе, когда сынок Принес, богатый первою получкой, Тебе в подарок кубовый платок. Ты стала дряхлая, совсем седая… Тогда ухватами в твоей избе Загрохала невестка молодая. Вот и нашлась помощница тебе! А в уши всё нашептывает кто-то, Что краток день счастливой тишины: Есть материнства женская работа И есть мужской тяжелый труд войны. Недаром сердце ныло, беспокоясь: Она пришла, военная страда. Сынка призвали. Дымный красный поезд Увез его неведомо куда. В тот день в прощальной суете вокзала, Простоволоса и как мел бела, Твоя сноха заплакала, сказала, Что от него под сердцем понесла. А ты, очки связав суровой ниткой, Гадала: мертвый он или живой? И по́долгу сидела над открыткой С неясным штампом почты полевой. Но сын умолк. Он в воду канул будто! Что говорить? Беда приходит вдруг! Какой фашист перечеркнул в минуту Все двадцать лет твоих надежд и мук? Твой мертвый сын лежит в могиле братской, Весной ковыль начнет над ним расти. И внятный голос с хрипотцой солдатской Меня ночами просит: «Отомсти!» За то, что в землю ржавою лопатой Зарыта юность светлая моя, За старика, что умер на Карпатах От той же самой пули, что и я. За мать, что двадцать лет, себе на горе, Промаялась бесплодной маетой, За будущего мальчика, что вскоре На белый свет родится сиротой! Ей будет нелегко его баюкать: Она одна. Нет мужа. Сына нет… Разбойники! Они убьют и внука — Не через год, так через двадцать лет!.. И все орудья фронта, каждый воин, Все бессемеры тыла, как один, Солдату отвечают: «Будь спокоен! Мы отомстим! Он будет жить, твой сын!» Он будет жить! В его могучем теле Безоблачно продлится жизнь твоя. Ты пал, чтоб матери не сиротели И в землю не ложились сыновья! 16–19 февраля 1944110. ЕРМАК
Пирует с дружиной отважный Ермак В юрте у слепого Кучума. Средь пира на руку склонился казак, Грызет его черная дума. И, пенным вином наполняя стакан, Подручным своим говорит атаман: «Не мерена вдоль и не пройдена вширь, Покрыта тайгой непроезжей, У нас под ногой распростерлась Сибирь Косматою шкурой медвежьей. Пушнина в сибирских лесах хороша, И красная рыба в струях Иртыша! Мы можем землей этой тучной владеть, Ее разделивши по-братски. Мне в пору Кучумовы бармы надеть И сделаться князем остяцким… Бери их кто хочет, да только не я: Иная печаль меня гложет, друзья! С охотой отдал бы я что ни спроси, Будь то самопал иль уздечка, Чтоб только взглянуть, как у нас на Руси Горит перед образом свечка, Как бабы кудель выбивают и вьют, А красные девушки песню поют! Но всем нам дорога на Русь заперта Былым воровством бестолковым. Одни лишь для татя туда ворота — И те под замочком пеньковым. Нет спору, суров государев указ! Дьяки на Руси не помилуют нас… Богатства, добытые бранным трудом С заморских земель и окраин, Тогда лишь приносят корысть, если в дом Их сносит разумный хозяин. И я б этот край, коль дозволите вы, Отдал под высокую руку Москвы. Послать бы гонца — государю челом Ударить Кучумовым царством, Чтоб царь, позабыв о разбое былом, Казакам сказал: „Благодарствуй!“ Тогда б нам открылась дорога на Русь… Я только вот ехать туда не берусь. Глядел без опаски я смерти в лицо, А в царские очи не гляну!..» Ермак замолчал, а бесстрашный Кольцо Сказал своему атаману: «Дай я туда съезжу. Была не была! Не срубят головушку — будет цела! Хоть крут государь, да умел воровать, Умей не сробеть и в ответе! Конца не минуешь, а двум не бывать, Не жить и две жизни на свете! А коль помирать, то, кого ни спроси, Куда веселей помирать на Руси!..» Над хмурой Москвой не льется трезвон Со ста сорока колоколен: Ливонской войной государь удручен И тяжкою немочью болен. Главу опустив, он без ласковых слов В Кремле принимает нежданных послов. Стоят в Грановитой палате стрельцы, Бояре сидят на помосте, И царь вопрошает: «Вы кто, молодцы? Купцы аль заморские гости? Почто вы, ребята, ни свет ни заря Явились тревожить надежу-царя?..» И, глядя без страха Ивану в лицо, С открытой душой, по-простецки: «Царь! Мы русаки! — отвечает Кольцо. — И промысел наш — не купецкий. Молю: хоть опала на нас велика, Не гневайся, царь! Мы — послы Ермака. Мы, выйдя на Дон из Московской земли, Губили безвинные души. Но ты, государь, нас вязать не вели, А слово казачье послушай. Дай сердце излить, коль свидаться пришлось, Казнить нас и после успеешь небось! Чего натворила лихая рука, Маша кистенем на просторе, То знает широкая Волга-река, Хвалынское бурное море. Недаром горюют о нас до сих пор В Разбойном приказе петля да топор! Но знай: мы в Кучумову землю пошли Загладить бывалые вины. В Сибири, от белого света вдали, Мы бились с отвагою львиной. Там солнце глядит, как сквозь рыбий пузырь, Но мы, государь, одолели Сибирь! Нечасты в той дальней стране города, Но стылые недра богаты. Пластами в горах залегает руда, По руслам рассыпано злато. Весь край этот, взятый в жестокой борьбе, Мы в кованом шлеме подносим тебе! Немало высоких казацких могил Стоит вдоль дороженьки нашей, Но мы тебе бурную речку Тагил Подносим, как полную чашу. Прими эту русскую нашу хлеб-соль, А там хоть на дыбу послать нас изволь!» Иван поднялся и, лицом просветлев, Что тучею было затмилось, Промолвил: «Казаки! Отныне свой гнев Сменяю на царскую милость. Глаз вон, коли старое вам помяну! Вы ратным трудом искупили вину. Поедешь обратно, лихой есаул,— Свезешь атаману подарок… — И царь исподлобья глазами блеснул, Свой взгляд задержав на боярах: — Так вот как, бояре, бывает подчас! Казацкая доблесть — наука для вас. Казаки от царского гнева, как вы, У хана защиты не просят, Казаки в Литву не бегут из Москвы И сор из избы не выносят. Скажу не таясь, что пошло бы вам впрок, Когда б вы запомнили этот урок! А нынче быть пиру! Хилков, порадей, Чтоб сварены были пельмени. Во славу простых, немудрящих людей Сегодня мы чару запеним! Мы выпьем за тех, кто от трона вдали Печется о славе Российской земли!» В кремлевской палате накрыты столы И братины подняты до рту, Всю долгую ночь Ермаковы послы Пируют с Иваном Четвертым. Хмельная беседа идет вкруг стола, И стонут московские колокола. 19 марта 1944111. АННА
Эту женщину звали Анной. За плечом ее возникал Грохот музыки ресторанной, Гипнотический блеск зеркал. Повернется вполоборота, И казалось — звенит в ушах Свист японского коверкота И фокстрота собачий шаг. Эту женщину ни на волос Не смогла изменить война: Патефона растленный голос Всё звучал из ее окна. Всё по-прежнему был беспечен Нежный очерк румяных губ… Анна первой пришла на вечер В офицерский немецкий клуб, И за нею следил часами, Словно брал ее на прицел, Фат с нафабренными усами — Молодящийся офицер. Он курил, задыхаясь, трубку, Сыпал пепел на ордена… Ни в концлагерь, ни в душегубку Не хотела попасть она. И, совсем не грозя прикладом, Фат срывал поцелуи, груб, С перепачканных шоколадом, От ликера припухших губ. В светлых туфельках, немцем данных, Танцевавшая до утра, Знала ль ты, что пришла в Майданек В этих туфлях твоя сестра? Для чего же твой отдых сладкий Среди пудрой пропахшей мглы Омрачали глаза солдатки, Подметавшей в дому полы? Иль, попав в золотую клетку, Ты припомнить могла, что с ней Вместе кончила семилетку И дружила немало дней? Но послышалась канонада,— Автоматом вооружен, Ганс сказал, что уехать надо С эшелоном немецких жен. В этих сумерках серых, стылых Незаметно навел, жесток, Парабеллум тебе в затылок, В золотящийся завиток. Май 1944112. «Какое просторное небо! Взгляни-ка…»
Какое просторное небо! Взгляни-ка: У дальнего леса дорога пылит, На тихом погосте растет земляника, И козы пасутся у каменных плит. Как сонно на этом урочище мертвых! Кукушка гадает кому-то вдали, Кресты покосились, и надписи стерты, Тяжелым полетом летают шмели. И если болят твои старые кости, Усталое бедное сердце болит, — Иди и усни на забытом погосте Средь этих простых покосившихся плит. Коль есть за тобою вина или промах Такой, о котором до смерти грустят,— Тебе всё простят эти ветви черемух, Всё эти высокие сосны простят. И будут другие безумцы на свете Метаться в тенетах любви и тоски, И станут плести загорелые дети Над гробом твоим из ромашек венки. Присядут у ног твоих юноша с милой, И ты сквозь заката малиновый дым Услышишь слова над своею могилой, Которые сам говорил — молодым. 9 июля 1944113. ВРАГ
Я поседел, я стал сутулей В густом пороховом дыму. Железный крест, пробитый пулей, Привез мальчишке моему. Как гунн, топтал поля Европы Хозяин этого креста. Он лез на русские окопы С губной гармоникой у рта. Он грудью рыжей и косматой С быком — и то поспорить мог, Он нес обоймы автомата За голенищами сапог. Он рвался пьяный в гущу драки, Глаза от злости закатив, И выводил в пылу атаки Баварский сладенький мотив. Он целый мир — никак не меньше — Видал у ног своих во сне, Он прятал снимки голых женщин В телячий ранец на спине. «Иван! — кричал он. — Как ни бейся, Я всё равно твой дом взорву!..» И он глядел сквозь стекла цейса На недалекую Москву. Остроконечной пулей русской Солдат, входящий нынче в Брест, Навылет возле планки узкой Пробил его железный крест. И вот теперь под Старой Руссой Его червяк могильный ест, И сунул мой мальчишка русый В карман его железный крест. Он там лежит рядком с рогаткой, С крючком для удочки — и мать Зовет игрушку эту гадкой И норовит ее сломать. А кости немца пожелтели, Их моет дождь, их сушит зной. Давно земля набилась в щели Его гармоники губной. Среди траншей, бомбежкой взрытых, Лежит в конверте голубом Порнографических открыток Врагом потерянный альбом. Лишь фляга с гущею кофейной Осталась миру от него, И автомат его трофейный Висит на шее у того, Кто для заносчивых соседей Хребет на барщине не гнет, С ножом выходит на медведя И белку в глаз дробинкой бьет! 20 июля 1944114. ПЛЕННЫЕ
Шли пленные шагом усталым Без шапок. В поту и в пыли При всех орденах генералы В колонне их — первыми шли. О чем эти люди грустили? Сбывался их сон наяву: Без выстрела немцев пустили В столицу России — Москву. Здесь пленные летчики были. Искал их потупленный взгляд Домов, что они разбомбили Недавно — три года назад. Но кровель нагретые скаты Тянулись к июльским лучам, И пленных глаза — виновато Глядели в глаза москвичам. Теперь их смешок был угодлив: «Помиримся! Я не жесток! Я дьявольски рад, что сегодня Окончил поход на Восток!» Простить их? Напрасные грезы! Священная ярость — жива!.. Их слезы — те самые слезы, Которым не верит Москва! У девушки в серой шинели По милому сердце болит, Бредя по московской панели, Стучит костылем инвалид… Ведь если б Восток их не встретил Упорством своих контратак — По солнечным улицам этим Они проходили б не так! Тогда б под немецкою лапой Вот этот малыш умирал, В московском отделе гестапо Сидел бы вон тот генерал… Но, смяты военною бурей, Проварены в русском котле, Они лишь толпою понурой Прошли по московской земле. За ними катились машины, На камни струилась вода, И солнца лучи осушили Их пакостный след — навсегда. 22 июля 1944115. «О твоей ли, о моей ли доле…»
О твоей ли, о моей ли доле, Как ты всё снесла, как я стерпел,— На рассвете, на рассвете в поле, В чистом поле жаворонок пел? Что ж осталось, что же нам осталось? Потерпи хоть час, хоть полчаса… Иссеклась, поблекла, разметалась Та коса, заветная коса! Я не знаю, я и сам не знаю — Наша жизнь долга иль коротка? Дом ли строю, песню ль запеваю — Молкнет голос, падает рука! Скоро, друг мой нежный, друг мой милый, Голосистый жаворонок тот Над моею, над твоей могилой Песню, чудо-песню запоет. 24 июля 1944116. «Месяц однорогий…»
Месяц однорогий Выплыл, затуманясь. По степной дороге Проходил германец. С древнего кургана В полусвете слабом Скалилась нагая Каменная баба. Скиф ладонью грубой В синем Заднепровье Бабе мазал губы Вражескою кровью. Из куска гранита Высечены грубо, Дрогнули несыто Идоловы губы. Словно карауля Жертву среди ночи, На врага взглянули Каменные очи. Побежал германец По степной дороге, А за ним хромали Каменные ноги. Крикнул он, шатаясь, В ужасе и в муке, А его хватали Каменные руки… Зорька на востоке Стала заниматься. Волк нашел в осоке Мертвого германца. 2–3 октября 1944117. ПОБЕДА
Шло донское войско на султана, Табором в степи широкой стало, И казаки землю собирали — Кто мешком, кто шапкою бараньей. В холм ее, сырую, насыпали, Чтоб с кургана мать полуслепая Озирала степь из-под ладони: Не пылят ли где казачьи кони? И людей была такая сила, Столько шапок высыпано было, Что земля струей бежала, ширясь, И курган до звезд небесных вырос. Год на то возвышенное место Приходили жены и невесты, Только, как ни вглядывались в дали, Бунчуков казачьих не видали. Через три-четыре долгих года Воротилось войско из похода, Из жестоких сеч с ордой поганой, Чтобы возле прежнего кургана Шапками курган насыпать новый — Памятник годины той суровой. Сколько шапок рать ни насыпала, А казаков так осталось мало, Что второй курган не вырос выше Самой низкой камышовой крыши. А когда он встал со старым рядом, То казалось, если смерить взглядом, Что поднялся внук в ногах у деда… Но с него была видна победа. 14 ноября 1944118. «Был слеп Гомер, и глух Бетховен…»
Был слеп Гомер, и глух Бетховен, И Демосфен косноязык. Но кто поднялся с ними вровень, Кто к музам, как они, привык? Так что ж педант, насупясь, пишет, Что творчество лишь тем дано, Кто остро видит, тонко слышит, Умеет говорить красно? Иль им, не озаренным духом, Один закон всего знаком — Творить со слишком добрым слухом, Со слишком длинным языком? 1944119. ИНФАНТА
1
Шлейфы дам и перья франтов Не трепещут в блеске бала. Молчалив покой инфанты В глубине Эскуриала. Там замкнулась королева С королем, своим супругом. Дочь их тяжко заболела Изнурительным недугом. Зря епископ служит мессу, Лекарь бьется, маг ворожит,— Захворавшую принцессу Исцелить никто не может! Где он, взгляд живой и пылкий, Полный негою любовной? Еле-еле бьется жилка На руке ее бескровной. Говорит король в томленье: «Я бы дал врачу, как сыну, За инфанты исцеление Королевства половину!» «Если б снять недуг с инфанты, — Королева шепчет слабо, — Я бы все мои брильянты Иезуитам отдала бы!» Меж родных нашедший место, От сердечной скорби бледный, Наклонился над принцессой Португальский принц наследный. «Если б стала донья крепче — Я пошел бы, как скиталец, К божью гробу!» — жарко шепчет Безутешный португалец. И, своим владыкам силясь Пособить в беде их черной, Из угла тихонько вылез Бородатый шут придворный. «Мой король! — сказал он грустно. — Много раз встречал в беде я Врачевателей искусных Средь проклятых иудеев. Этот род достоин смеха, Обречен костру и шпаге, Но вчера в Мадрид приехал Рабби Симха из Гааги. Мертвецы встают из гроба, Если он прикажет: „Встаньте!“ Повелитель мой! Попробуй — Позови его к инфанте!»2
Королю поклон отвесив И томясь придворным блеском, Врач стоит перед принцессой В пышной спальне королевской. Тяготит его повязка С желтым знаком иудея!.. На щеках инфанты краска Выцветает, холодея. Не встает она с постели, Дышит слабо и неровно, Жилка бьется еле-еле На руке ее бескровной. А вокруг — безлюдны залы, Тишина в дворце просторном. «У принцессы крови мало! — Говорит еврей придворным.— Злой недуг ее погубит, Унесет или состарит. Кто инфанту больше любит, Тот ей кровь свою подарит!» При словах его, как дети, Царедворцы задрожали. «Кровь моя, — король ответил,— Это кровь моей державы!» Королева, хмуря брови, Отвечала: «Разве мало Я дала инфанте крови В день, когда ее рожала?» Принц глядел в окно куда-то, Теребя свои перчатки. Он сказал, что кровь солдату Лить прилично только в схватке… Врач, блестя холодным взглядом, Вынул скальпель и реторту: «Сам я крови сколько надо Дам инфанте полумертвой, Чтоб поверили в науку, Возвращающую силу!..» Обнажил худую руку И ножом надрезал жилу.3
Кровь инфанты стала жаркой, Хворь ее прошла бесследно. С ней гуляет в старом парке Португальский принц наследный. 1944120. МАТЬ
Любимого сына старуха в поход провожала, Винцо подносила, шелковое стремя держала. Он сел на коня и сказал, выезжая в ворота: «Что ж! Видно, такая уж наша казачья работа! Ты, мать, не помри без меня от докуки и горя: Останусь в живых — так домой ворочусь из-за моря. Жди в гости меня, как на север потянутся гуси!..» — «Ужо не помру! — отвечала старуха. — Дождуся!» Два года она простояла у тына. Два года На запад глядела: не едет ли сын из похода? На третьем году стала смерть у ее изголовья. «Пора! — говорит. — Собирайся на отдых, Прасковья!» Старуха сказала: «Я рада отдать тебе душу, Да как я свою материнскую клятву нарушу? Покуда из дома хлеб-соль я не вынесу сыну, Я смертное платье свое из укладки не выну!» Тут смерть поглядела в кувшин с ледяною водою. «Судьбина, — сказала, — грозит ему горькой бедою: В неведомом царстве, где небо горячее сине, Он, жаждой томясь, заблудился в безводной пустыне. Коль ты мне без спору отдашь свое старое тело, Пожалуй, велю я, чтоб тучка над ним пролетела!» И матери слезы упали на камень горючий, И солнце над сыном затмилось прохладною тучей. И к влаге студеной припал он сухими губами, И мать почему-то пришла удалому на память. А смерть закричала: «Ты что ж меня, баба, морочишь? Сынка упасла, а в могилу ложиться не хочешь?» И мать отвечала: «Любовь, знать, могилы сильнее! На что уж ты — сила, а что ты поделаешь с нею? Не гневайся, матушка. Сядь. Подожди, коли хочешь, Покуда домой из похода вернется сыночек!» Смерть глянула снова в кувшин с ледяною водою. «Судьбина, — сказала, — грозит ему новой бедою: Средь бурного моря сынок твой скитается ныне, Корабль его тонет, он гибнет в глубокой пучине. Коль ты мне без спору отдашь свою грешную душу, Пожалуй, велю я волне его кинуть на сушу!» И смерть замахнулась косой над ее сединою. И к берегу сына прибило могучей волною, И он заскучал по родному далекому дому И плетью своей постучал в подоконник знакомый. «Ну! — молвила смерть. — Я тут попусту времечко трачу! Тебе на роду написали, я вижу, удачу. Ты сыну, не мне, отдала свою душу и тело. Так вот он стучится. Милуйся же с ним, как хотела!» 1944121. «Такой ты мне привиделась когда-то…»
Такой ты мне привиделась когда-то: Молочный снег, яичная заря. Косые ребра будки полосатой, Чиновничья припрыжка снегиря. Я помню чай в кустодиевском блюдце, И санный путь, чуть вьюга улеглась, И капли слез, которые не льются Из светло-серых с поволокой глаз… Что ж! Прав и я: бродяга — дым становий, А полководец — жертвенную кровь Любил в тебе… Но множество любовей Слилось в одну великую любовь! 1944122. «Ты говоришь, что наш огонь погас…»
Ты говоришь, что наш огонь погас, Твердишь, что мы состарились с тобою, Взгляни ж, как блещет небо голубое! А ведь оно куда старее нас… 1944123. «Юность! Ты не знаешь власти детских ручек…»
Юность! Ты не знаешь власти детских ручек, Голоска, что весел, ломок и высок. Ты не понимаешь, что, как звонкий ключик, Сердце открывает этот голосок! 1944124. «Ночь поземкою частой…»
Кайсыну Кулиеву
Ночь поземкою частой Заметает поля. Я пишу тебе. Здравствуй! Офицер Шамиля. Вьюга зимнюю сказку Напевает в трубу. Я прижал по-кавказски Руку к сердцу и лбу. Искры святочной ваты В полутьме голубой… Верно, в дни Газавата Мы встречались с тобой. Смолкла ярость былая, Примириться веля, Я — гусар Николая, Ты — мюрид Шамиля. Но над нами есть выше, Есть нетленнее свет: Я не знаю, как пишут По-балкарски «поэт». Но не в песне ли сила, Что открыла для нас Кабардинцу — Россию, Славянину — Кавказ? Эта сила — не знак ли, Чтоб, скитаньем ведом, Заходил ты, как в саклю, В крепкий северный дом. И, как Байрон, хромая, Проходил к очагу… Пусть дорога прямая Тонет в рыхлом снегу,— В очаге, не померкнув, Пламя льнет к уголькам, И, как колокол в церкви, Звонок тонкий бокал. К утру пней налипнет На сосновых стенах… Мы за лирику выпьем И за дружбу, кунак! 10 февраля 1945125. ЗАДАЧА
Мальчик жаловался, горько плача: «В пять вопросов трудная задача! Мама, я решить ее не в силах, У меня и пальцы все в чернилах, И в тетради места больше нету, И число не сходится с ответом!» — «Не печалься! — мама отвечала.— Отдохни и всё начни сначала!» Жизнь поступит с мальчиком иначе: В тысячу вопросов даст задачу. Пусть хоть кровью сердце обольется — Всё равно решать ее придется. Если скажет он, что силы нету,— То ведь жизнь потребует ответа! Времени она оставит мало, Чтоб решать задачу ту сначала,— И покуда мальчик в гроб не ляжет, «Отдохни!» — никто ему не скажет. 1 марта 1945126. «В заштопанных косынках полотняных…»
В заштопанных косынках полотняных, Для праздника отмытых добела, Толпа освобожденных полонянок По городу готическому шла. А город был купеческий, старинный, Глухой, как погреб, прочный, как тюрьма. Склонявшийся над свечкой стеаринной, В нем Гофман медленно сходил с ума. В домах, за стеклами в стрельчатых рамах, Полночный, буйный факультетский пир Справляли бурши в синеватых шрамах — Следах тупых студенческих рапир. Морщинистой рукой котенка гладя, Поднявши чашечку в другой руке, Он пил свой кофе — в байковом халате, В пошитом из фланели колпаке. Румянец выступал на щечках дряблых, Виски желтели, как лежалый мел. В неволе ослепленный гарцский зяблик Над старичком в плетеной клетке пел. Апрель 1945127. КАК МУЖИК ОБИДЕЛСЯ
Никанор первопутком ходил в извоз, А к траве ворочался до дому. Почитай, и немного ночей пришлось Миловаться с женой за год ему! Ну, да он был старательный мужичок: Сходит в баньку, поест, побреется, Заберется к хозяюшке под бочок — И, глядишь, человек согреется. А Матрена рожать здорова была! То есть экая баба клятая: Муж на пасху воротится — тяжела. На крещенье придет — брюхатая! Никанор, огорченья не утая, Разговор с ней повел по-строгому: «Ты, Матрена, крольчиха, аль попадья? Снова носишь? Побойся бога, мол!» Тут уперла она кулаки в бока: «Спрячь глаза, — говорит, — бесстыжие! Аль в моих куличах не твоя мука? Все ребята в тебя. Все — рыжие!» Начала она зыбку качать ногой, А мужик лишь глазами хлопает: На коленях малец, у груди — другой, Да еще трое лазят по полу! Он, конечно, кормил их своим трудом, Но, однако же, не без жалобы: «Положительно, граждане, детский дом: На пять баб за глаза достало бы!» Постарел Никанор. Раз — глаза протер, Глядь-поглядь, а ребята взрослые. Стал Никита — шахтер, а Федот — монтер, Все — большие, ширококостые! Вот по горницам ходит старик, ворча: «Без ребят обернулся где бы я? Захвораю, так кличу сынка-врача, Лук сажу — агронома требую! Про сынов моих слава идет окрест, Что ни дочка — голубка сизая! А как сядут за стол на двенадцать мест, Так куда тебе полк — дивизия!..» Поседела Матренина голова: Уходилась с такою оравою. За труды порешила ее Москва Наградить «Материнской славою». Муж прослышал и с поля домой попер, В тот же вечер с хозяйкой свиделся. «Нынче я, — заявляет ей Никанор,— На Верховный Совет обиделся. Нету слов, — говорит, — хоть куда декрет: Наградить тебя — дело нужное, Да в декрете пустячной статейки нет: Про мои про заслуги, мужние! Наше дело, конешно, оно пустяк. Но меня забижают, вижу я: Тут, вертись не вертись, а ведь как-никак — Все ребята в меня. Все — рыжие! Девять парней — что соколы, и опять — Трое девок, и все — красавицы! Ты Калинычу, мать, не забудь сказать: Без опары пирог не ставится. Уж коли ему орден навесить жаль, Всё ж пускай обратит внимание И велит мужикам нацеплять медаль — Не за доблесть, так за старание. Коль поправку мою он внесет в декрет — Мы с тобой, моя лебедь белая, Поживем-поживем да под старость лет Октябренка, глядишь, и сделаем!» 4 мая 1945128. «Всё мне мерещится поле с гречихою…»
Всё мне мерещится поле с гречихою, В маленьком доме сирень на окне, Ясное-ясное, тихое-тихое Летнее утро мерещится мне. Мне вспоминается кляча чубарая, Аист на крыше, скирды на гумне, Темная-темная, старая-старая Церковка наша мерещится мне. Чудится мне, будто песню печальную Мать надо мною поет в полусне, Узкая-узкая, дальняя-дальняя В поле дорога мерещится мне. Где ж этот дом с оторвавшейся ставнею, Комната с пестрым ковром на стене? Милое-милое, давнее-давнее Детство мое вспоминается мне. 13 мая 1945129. МЫШОНОК
Что ты приходишь, горбатый мышонок, В комнату нашу в полуночный час? Сахарных крошек и фруктов сушеных Нет и в помине в буфете у нас. Бедный мышонок! Из кухонь соседних, Верно, тебя выгоняют коты. Знаешь ли? Мне, мой ночной собеседник, Кажешься слишком доверчивым ты! Нрав домработницы нашей — не кроткий: Что, коль незваных гостей не любя, Вдруг над тобой занесет она щетку Иль в мышеловку изловит тебя?.. Ты поглядел, словно вымолвить хочешь: «Жаль расставаться с обжитым углом!», Словно согреться от холода ночи Хочешь моим человечьим теплом. Чудится мне, одиночеством горьким Блещут чуть видные бусинки глаз. Не потому ли из маленькой норки Ты и выходишь в полуночный час?.. Что ж! Пока дремлется кошкам и людям И мышеловок не видно вокруг, — Мы с тобой все наши беды обсудим, Мой молчаливый, мой маленький друг! Я — не гляди, что большой и чубатый,— А у соседей, как ты, не в чести. Так приходи ж, мой мышонок горбатый, В комнату к нам — и подольше гости! 15 мая 1945130. «На кладбище возле домика…»
На кладбище возле домика Весна уже наступила: Разросшаяся черемуха, Стрекающая крапива. На плитах щербатых каменных Любовники ночью синей Опять возжигают пламенник Природы неугасимой. Так трется между жерновами Бессмертный помол столетий… Наверное, скоро новые В поселке заплачут дети. 2 июня 1945131. «Ой, на вербе в поле…»
Ой, на вербе в поле Черный ворон крячет, У врага в неволе Полонянка плачет. Смотрит, затуманясь, Как на тын высокий Вешает германец Проволоку с током… Барахля мотором, По щебенке хрупкой Мимо в крематорий Мчится душегубка. В ней — казак, с губами, Что краснее мака. В газовую баню Повезли казака. Больше полонянка Не обнимет парня… Встал на полустанке Порожняк товарный. В ноги Украине Поклонись, Ганнуся, С каторги доныне Разве кто вернулся?.. Язычище мокрый Вываливши жарко, На дивчину смотрит Рыжая овчарка. И на всю округу Тянет обгорелым Тошнотворным духом — Человечьим телом. Утро просыпаться Начало, мерцая, На постах в два пальца Свищут полицаи. Но над чьей засадой, В синеве купаясь, Вьется чернозадый, Красноногий аист? Почему, росою, Как слезами, полный, Встал среди фасоли Сломанный подсолнух? Видно, близко-близко У степных колодцев В автоматы диски Заложили хлопцы! 2 июня 1945132. Я
Много видевший, много знавший, Знавший ненависть и любовь, Всё имевший, всё потерявший И опять всё нашедший вновь. Вкус узнавший всего земного И до жизни жадный опять, Обладающий всем и снова Всё стремящийся потерять. Июнь 1945133. «Нам, по правде сказать, в этот вечер…»
Л. К.
Нам, по правде сказать, в этот вечер И развлечься-то словно бы нечем: Ведь пасьянс — это скучное дело, Книги нет, а лото надоело… Вьюга, знать, разгуляется к ночи: За окошком ненастье бормочет, Ветер что-то невнятное шепчет… Завари-ка ты чаю покрепче, Натурального чаю, с малиной: С ним и ночь не покажется длинной! Да зажги в этом сумраке хмуром Лампу, ту, что с большим абажуром. У огня на скамеечке низкой Мы усядемся тесно и близко И, чаек попивая из чашек, Дай-ка вспомним всю молодость нашу, Всю, от ветки персидской сирени (Положи-ка мне ложку варенья) До рассвета на узком диване (Ишь ведь как ты полно наливаешь!). Вспомню я, — мы теперь уже седы, — Как ты раз улыбнулась соседу, Вспомнишь ты, — что уж нынче за счеты, — Как пришел под хмельком я с работы, Вспомним ласково, по-стариковски, Нашей дочери русые коски, Вспомним глазки сынка голубые И решим, что мы счастливы были, Но и глупыми всё же бывали… Постели-ка ты мне на диване: Может, мне в эту ночь и приснится, Что ты стала опять озорницей! 5 июля 1945134. ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДАЧУ
…Итак, приезжайте к нам завтра, не позже! У нас васильки собирай хоть охапкой. Сегодня прошел замечательный дождик — Серебряный гвоздик с алмазною шляпкой. Он брызнул из маленькой-маленькой тучки И шел специально для дачного леса, Раскатистый гром — его верный попутчик — Над ним хохотал, как подпивший повеса. На Пушкино в девять идет электричка. Послушайте, вы отказаться не вправе: Кукушка снесла в нашей роще яичко, Чтоб вас с наступающим счастьем поздравить! Не будьте ленивы, не будьте упрямы. Пораньше проснитесь, не мешкая встаньте. В кокетливых шляпах, как модные дамы, В лесу мухоморы стоят на пуанте. Вам будет на сцене лесного театра Вся наша программа показана разом: Чудесный денек приготовлен на завтра, И гром обеспечен, и дождик заказан! 6 июля 1945135. УРАЛЬСКИЙ ЛИТЕЙЩИК
Литейщик был уральцем чистой крови Из своенравных русских стариков. Над стеклами его стальных очков Топорщились седеющие брови. Куда был непоседлив старичок! Таким июльский день и тот — короткий. Торчал из клинышка его бородки Прокуренный вишневый мундштучок. В сатиновой косоворотке черной Ходил литейщик, в ветхом пиджаке, По праздникам копался в цветнике Да чижику в кормушку сыпал зерна. Читал газету, морщась, выпивал Положенную чарку за обедом И, в шашки перекинувшись с соседом, Чуть вечер, беззастенчиво зевал. Зато землею формы набивать Он почитал не ремеслом, а счастьем. Литейных дел он был великий мастер И мог бы кружево отформовать. Как он доволен был, когда в дыму В цеху его ряды опок стояли!.. Художество — не в косном матерьяле, А только в отношении к нему. Литейщик сам трудился дотемна И тех шпынял, кто попусту толчется. Он вел свой честный род от пугачевцев, И от раскольников вела жена. Крутой литейный мастер в страхе божьем Держал свою рабочую семью, Жену, подругу верную свою, С которой он полвека мирно прожил. Хоть со старухой муж и не был груб, А только строг, — всё улыбались горько, По-стариковски собранные в сборку, Углы ее когда-то пухлых губ. Она вставала, чуть светал восток, И позже всех ложилась каждый вечер, Был накрест через узенькие плечи Накинут теплый шерстяной платок. И вся семья устойчиво лежала На этих хрупких сухоньких плечах. Та область жизни, где стоит очаг, Была ее старушечья держава. Без вот такой молчальницы покорной Семья — глядишь — и превратится в труп. Не так ли точно коренастый дуб Незримые поддерживают корни? Всё в домике блестело: и киот, Что от детей спасло ее старанье, И на окошке свежие герани, И маленький ореховый комод, Где семь слонов фарфоровых на счастье По росту кто-то выстроил рядком, Где подавал ей руку крендельком На старом фото моложавый мастер. И тот диван с расшитою подушкой, Где сладко муж похрапывал во сне, И мирно тикавшие на стене Часы с давно охрипшею кукушкой. Уже гражданских бурь прошла пора, А домик оставался неизменен. Лишь в зальце к литографии Петра Прибавился однажды утром — Ленин. Соседство взгляды вызвало косые Детей, не почитавших старину, Не знавших, как сливаются в одну Реку все русла разные России. Судьба ребят послала старикам, Чтоб им под старость не истосковаться. Литейщик отыскал для сына в святцах Диковинное имя — Африкан. И не один мальчишеский грешок Старуха терпеливо покрывала, И все-таки не раз гулял, бывало, По сыну жесткий батькин ремешок. Мальчишка рос веселый, озорной, Он был крикун, задира, голубятник. Зимою, выряжен в отцовский ватник, На лыжах бегал в школу, а весной В лес уходил с заржавленной двустволкой В болотных заскорузлых сапогах И сладко отсыпался на стогах, Мечтая встретить лося или волка. Старуха дочь назвала Анной — Анкой. Моложе брата на год в аккурат, Она была куда смирней, чем брат, Росла в семье задумчивой смуглянкой. Девчонка рукодельницей была. Отец теплел, когда она, бывало, Зимой у печки за шитьем певала Всё про Катюши сизого орла. «Клад, а не девка! — говорили все. — Красавицею будет, не иначе!» И девочку фотограф снял бродячий С цветущими ромашками в косе. Как водится, меж братом и сестрой Бывали часто маленькие драки, Но против уличного забияки Мальчишка за сестру вставал горой. Порою он, почесывая зад, Бежал к отцу, — но тот судил иначе: «Коль бьют — дерись! А если не дал сдачи — Не жалуйся: кто бит, тот виноват!» Как водится, любимицей отцовской Была задумчивая Анка, дочь. А мать ходила за сынком, точь-в-точь Как олениха за своим подсоском. А жизнь с собой несла событий короб. Был ход ее то горек, то смешон: Сестра переболела коклюшом, Брат ненароком провалился в прорубь. Потом отцовской бритвою усы Впервые сбрил мальчишка неумело. И вот однажды, глядя на часы, Старик сказал: «Пора тебе за дело! Не век тебе, — добавил он сурово,— По улицам таскаться день-деньской». И стал мальчишка в школе заводской Вникать помалу в ремесло отцово. И правда: детство тянется не век, Любовью материнскою согрето… Врачи худую девочку в то лето Подзагореть отправили в Артек. 19451924–1931
136. СТИХИ О ВЕСНЕ
Разве раньше бывала весна Для меня вот, кошмаром давимого?.. Для других — может быть… Для меня Были вечные серые зимы… Разве вспомнишь, что солнечный лак Золотит бугорки и опушки, Если голод, унылый чудак, В животе распевает частушки? Разве знаешь, что, радостью пьян, Лес зареял вершинами гордыми, Если вечно бастует карман И на каждом углу держиморда? Пусть в полях распустились цветы Над шатрами бездонно-лазурными, Что тебе, раз такими ж, как ты, Полны темные, душные тюрьмы? А сегодня мне всё нипочем, Сердцу вешняя радость знакома, Оттого что горит кумачом Красный флаг в синеве над райкомом. Тянет солнце горячим багром Стаю дней вереницею длинной, Потому что весна с Октябрем Разогнула согбенные спины. Плещет в душу весна, говоря, Что назавтра набат заклокочет И стальная нога Октября По ступеням миров прогрохочет. И, я знаю; в приливе волны Послом эсэсэровских хижин, Пионером всемирной весны Буду завтра в Париже. <1924>137. Я УШЕЛ (Из цикла «Тропы ржаные»)
Я ушел от родимой земли И туда никогда не вернусь, Где тропинками ветер в пыли Бороздит деревянную Русь. Пусть еще продолжает закат Кумачи над окраинами стлать, — Я ушел, чтоб, как все, рисовать Дней грядущих пурпурный плакат. И теперь, что ни день — мне милей Перезвон городских голосов, Всё чужее размахи полей И зеленые храмы лесов. Эх, я знаю, что в летней игре Будет поле цветами цвести И, прилегши на тихом бугре, Ночь не раз обо мне загрустит. Загрустит и заплачет о том, Чей чуб ветру уже не трепать!.. Что за дело?.. Мне болт за болтом Нужно скрепы для завтра клепать!.. <1924>138. БУДУЩЕМУ
Юным ленинцам
Если солнце рассыпалось искрами, Не должны ли мы нежность отдать Мальчугану с глазами лучистыми, Осветившему наши года? Если небо сегодня не прежнее, Мы поймем — это так оттого, Что дорога, как небо, безбрежная, К коммунизму его позовет. Пусть мы знали и боль, и потери, И душа наша гневом больна,— Для него не широкие двери — Мир громадный откроет весна. Он не вспомнит и ужас подвалов, Отравивших кошмарами нас, Он узнает, что жизнь улыбалась, Над его колыбелью склонясь. Он пойдет не тропинками горными Под осколками умерших лет, И не будет знаменами черными Ночь, над ним наклоняясь, шуметь. Он придет, молодой и упорный, Мир под новую форму гранить. Перед ним свои стяги узорные Солнце в золоте ласки склонит. И теперь, если вспыхнуло искрами Наше солнце, — Должны мы отдать Мальчугану с глазами лучистыми Нашу нежность и наши года!.. <1924>139. ОСЕНЬ («Эх ты осень, рожью золотая…»)
Эх ты осень, рожью золотая, Ржавь травы у синих глаз озер. Скоро, скоро листьями оттает Мой зеленый, мой дремучий бор. Заклубит на езженых дорогах Стон возов серебряную пыль. Ты придешь и ляжешь у порога И тоской позолотишь ковыль. Встанут вновь седых твоих туманов Над рекою серые гряды, Будто дым над чьим-то дальним станом, Над кочевьем Золотой Орды. Будешь ты шуметь у мутных окон, У озер, где грусть плакучих ив. Твой последний золотистый локон Расцветет над ширью тихих нив. Эх ты осень, рожью золотая, Ржавь травы у синих глаз озер!.. Скоро, скоро листьями оттает Мой дремучий, мой угрюмый бор. <1924>140. ЗАТИХШИЙ ГОРОД
Екатеринославу
Отгудели медью мятежи, Отгремели переулки гулкие. В голенища уползли ножи, Тишина ползет по переулкам. Отгудели медью мятежи, Неурочные гудки устали. Старый город тяжело лежит, Крепко опоясанный мостами. Бы, в упор расстрелянные дни, Ропот тех, с кем подружился порох… В облик прошлого мой взор проник Сквозь сегодняшний спокойный город. Не привык я в улицах встречать Шорох толп, по-праздничному белых, И глядеть, как раны кирпича Обрастают известковым телом. Странно мне, что свесилась к воде Твердь от пуль излеченного дома. Странно мне, что камни площадей С пулеметным ливнем не знакомы. Говорят: сегодня — не вчера. Говорят: вчерашнее угрюмо. Знаешь что: я буду до утра О тебе сегодня ночью думать. Отчего зажглися фонари У дверей рабочего жилища? И стоят у голубых витрин Слишком много восьмилетних нищих?.. Город мой, затихший великан, Ты расцвел мильонами загадок. Мне сказали: «Чтоб сломать века, Так, наверно, и сегодня надо». Может быть, сегодня нужен фарс, Чтобы завтра радость улыбалась?.. Знаешь что: седобородый Маркс Мне поможет толстым «Капиталом». <1924>141. ПОГОНЯ
Полон кровью рот мой черный, Давит глотку потный страх, Режет грудь мой конь упорный О колючки на буграх. А тропа — то ров, то кочка, То долина, то овраг… Ну и гонка, ну и ночка… Грянет выстрел — будет точка, Дремлет мир — не дремлет враг. На деревне у молодки Лебедь — белая кровать. Не любить, не пить мне водки На деревне у молодки, О плетень сапог не рвать И коней не воровать. Старый конь мой, конь мой верный, Ой, как громок топот мерный: В буераках гнут вдали Вражьи кони — ковыли. Как орел, летит братишка, Не гляди в глаза, луна. Грянет выстрел — будет крышка, Грянет выстрел — кончен Тришка. Ветер глух. Бледна луна. Кровь журчит о стремена. Дрогнул конь, и ветра рокот Тонет в травах на буграх. Конь упал, и громче топот, Мгла черней, и крепче страх. Ветер крутит елей кроны, Треплет черные стога, Эй, наган, верти патроны, Прямо в грудь гляди, наган. И летят на труп вороны, Как гуляки в балаган. <1925> Екатеринослав142. МОСТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА
Мой хмурый мост угрюмого Днепровья, Тебя я долго-долго не встречал. У города, опоенного кровью, Легла твоя гранитная печаль. Я не вернусь… А ты не передвинешь На этот север хмурые быки. Ты сторожишь в моей родной долине Глухую гладь моей большой реки. Я многое забыл. Но всё же память, Которая дрожит, как утренний туман,— Навеки уплыла над хмурыми домами На дальний юг, на голубой лиман. Я помню дни. Они легли, как глыбы, — Глухие дни у баррикад врага. И ты вздохнул. И этот вздох могли бы ль Не повторить родные берега? Звезда взошла и уплыла над далью, Волна журчит и плещет у борта. Но этот вздох, перезвучавший сталью, Еще дрожит у колоннад моста. Она легла, земная грусть гранита, Она легла и не могла не лечь На твой бетон, на каменные плиты, На сталь и ржавь твоих гранитных плеч. А глубь всплыла и прилегла сердито, К твоим быкам прильнула, как сестра. Прилег и ты, и ты умолк, забытый, Старел и стыл на черном дне Днепра. Прошли года, и города замолкли, Гремя и строясь в новые полки. А ты мечтал на грязном дне реки, Как ветеран, — тебе не в этот полк ли? И шаг времен тебя швырнул на знамя: «Тебя, мол, брат, недостает в борьбе!» И как во мне, в других воскресла память О дорогом, о каменном тебе. И вот пришли, перевернули трапы, Дымки горнов струили серебро, А ты напряг свои стальные лапы И вновь проплыл над голубым Днепром. Здорово, мост, калека Заднепровья!.. Тебе привет от заводских ребят… Прошли года. Но ты расцвел здоровьем, И живы те, кто выручил тебя. <1926>143. РАЗГОВОР
«В туманном поле долог путь И ноша не легка. Пора, приятель, отдохнуть В тепле, у камелька. Ваш благородный конь храпит, Едва жует зерно, В моих подвалах мирно спит Трехпробное вино». «Благодарю. Тепла земля, Прохладен мрак равнин, Дорога в город короля Свободна, гражданин?» «Мой молодой горячий друг, Река размыла грунт, В стране, на восемь миль вокруг, Идет голодный бунт. Но нам, приятель, всё равно: Народ бурлит — и пусть. Игра монахов в домино Рассеет нашу грусть». «Вы говорите, что народ Идет войной на трон? Пешком, на лодке или вброд Я буду там, где он. Прохладны мирные поля, В равнинах мгла и лень! Но этот день для короля, Пожалуй, судный день». «Но лодки, друг мой, у реки Лежат без якорей, И королевские стрелки Разбили бунтарей. Вы — храбрецы, но крепок трон, Бурливые умы. И так же громок крик ворон Над кровлями тюрьмы. Бродя во мгле, среди долин, На вас луна глядит, Войдите, и угрюмый сплин Малага победит». «Благодарю, но, право, мы — Питомцы двух дорог. Я выбираю дверь тюрьмы, Вам ближе — ваш порог. Судьбу мятежников деля, Я погоню коня… Надеюсь — плаха короля Готова для меня». <1926> Екатеринослав144. ИСПОВЕДЬ
«Смотри, дитя, в мои глаза, Не прячь в руках лица. Поверь, дитя: глазам ксендза Открыты все сердца. Твоя душа грехом полна, Сама в огонь летит. Пожертвуй церкви литр вина — И бог тебя простит». «Но я, греховный сок любя, Когда пришла зима — Грехи хранила для тебя, А ром пила сама. С любимым, лежа на боку, Мы полоскали рты…» «Так расскажи духовнику, В чем согрешила ты?» «Дебат у моего стола Религию шатал. Мои греховные дела Гремят на весь квартал». «Проступок первый не таков, Чтоб драть по десять шкур: У Рима много дураков И слишком много дур. Но сколько было и когда Любовников твоих? Как целовала и куда Ты целовала их?» «С тех пор как ты лишен стыда, Их было ровно сто. Я целовала их туда, Куда тебя — никто». «От поцелуев и вина До ада путь прямой. Послушай, панна, ты должна Прийти ко мне домой! Мы дома так поговорим, Что будет стул трещать, И помни, что Высокий Рим Мне дал права прощать». «Я помолюсь моим святым И мессу закажу, Назначу пост, но к холостым Мужчинам не хожу». «Тогда прощай. Я очень рад Молитвам и постам, Ведь ты стремишься прямо в ад И, верно, будешь там. Но я божницу уберу, Молясь, зажгу свечу…» «Пусти, старик, мою икру, Я, право, закричу!..» «Молчи, господь тебя прости Своим святым крестом!..» «Ты… прежде… губы отпусти, А уж грехи — потом!» <1926> Екатеринослав145. ПОСТРОЙКА
Разрушенный дом привлекает меня: Он так интересен, Но чуточку страшен: Мерцают, холодную важность храня, Пустые глаза недостроенных башен, Под старой подошвой — Рыдающий шлак, И эхо шагов приближается к стону. Покойной разрухи веселый кулак — Как в бубен — Стучал по глухому бетону. При ласковом ветре обои шуршат Губами старухи у мужьего гроба. Седых пауков и голодных мышат Пустых погребов приютила утроба. Недавно С похмелья идущая в суд Ночная шпана на углах продавала По тыще рублей за ржавеющий пуд — Железный костяк недобитого зала. Тут голод плясал карманьолу свою, А мы подпевали и плакали сами… Бревно за бревном — в деревянном строю У каменных изб обернулись лесами. И нынче, Я слышу, Стучат молотки В подвалах — В столице мышиного царства: Гранитный больной принимает глотки Открытого доктором нэпом лекарства. И если из каждой знакомой дыры Глядела печаль, Обагренная кровью, То в ведрах своих принесли маляры Румянец покраски в подарок здоровью. Пусть мертвые — нет, Но больные встают. Недаром сверкает пила, И теплее Работают руки, а губы поют О сделанном день изо дня веселее. Испачканный каменщик, Пой и стучи! Под песню работать — куда интересней, Давай-ка, пока подвезут кирпичи, Товарищей вместе побалуем песней. А завтра, быть может, и нас, пареньков, Припомнят в одном многотысячном счете: Тебя — за известку, что тверже веков, Меня — за стихи О хорошей работе. <1926>146. КРЫЛЕЧКО
Крылечко, клумбы, хмель густой И локоть в складках покрывала. «Постой, красавица, постой! Ведь ты меня поцеловала?» Крылечко спряталось в хмелю; Конек, узорные перила. «Поцеловала. Но „люблю“ Я никому не говорила». <1926>147. ПЕСНЯ О ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
Серы, прохладны и немы Воды глубокой реки. Тихо колышутся шлемы, Смутно мерцают штыки. Гнутся высокие травы, Пройденной былью шурша. Грезятся стены Варшавы И камыши Сиваша. Ваши седые курганы Спят над широкой рекой. Вы разрядили наганы И улеглись на покой. Тучи слегка серебристы В этот предутренний час, Тихо поют бандуристы Славные песни о вас. Слушают грохот крушенья Своды великой тюрьмы. Дело ее разрушенья Кончим, товарищи, мы. Наша священная ярость Миру порукой дана: Будет безоблачна старость, Молодость будет ясна. Гневно сквозь сжатые зубы Плюнь на дешевый уют. Наши походные трубы Скоро опять запоют. Музыкой ясной и строгой Нас повстречает война. Выйдем — и будут дорогой Ваши звучать имена. Твердо пойдем, побеждая, Крепко сумеем стоять. Память о вас молодая Будет над нами сиять. Жесткую выдержку вашу Гордо неся над собой, Выпьем тяжелую чашу, Выдержим холод и бой. Всё для того, чтобы каждый, Смертью дышавший в борьбе, Мог бы тихонько однажды В сердце сказать о себе: «Я создавал это племя, Миру несущее новь, Я подарил тебе, время, Молодость, слово и кровь». <1927>148. КРЕМЛЬ
В тот грозный день, который я люблю, Меня почтив случайным посещеньем, Ты говорил, я помню, с возмущеньем: «Большевики стреляют по Кремлю». Гора до пят взволнованного сала — Ты ужасался… Разве знает тля, Что ведь не кистью на стене Кремля Свои дела история писала. В тот год на землю опустилась тьма И пел свинец, кирпичный прах вздымая. Ты подметал его, не понимая, Что этот прах — история сама… Мы отдаём покойных власти тленья И лишний сор — течению воды, Но ценим вещь, раз есть на ней следы Ушедшего из мира поколенья, Раз вещь являет след людских страстей — Мы чтим ее и, с книгою равняя, От времени ревниво охраняя, По вещи учим опыту детей. А гибнет вещь — нам в ней горька утрата Ума врагов и смелости друзей. Так есть доска, попавшая в музей Лишь потому, что помнит кровь Марата. И часто капли трудового пота Стирает мать. Приводит в Тюильри Свое дитя и говорит: «Смотри — Сюда попала пуля санкюлота…» Пустой чудак, умерь свою спесивость, Мы лучше знаем цену красоты. Мы сводим в жизнь прекрасное, а ты? Привык любить сусальную красивость… Но ты решил, что дрогнула земля У грузных ног обстрелянного зданья. Так вслушайся: уже идут преданья О грозных башнях Красного Кремля. <1928>149. КАЗНЬ
Дохнул бензином легкий форд И замер у крыльца, Когда из дверцы вылез лорд, Старик с лицом скопца. У распахнувшихся дверей, Поникнув головой, Ждал дрессированный лакей В чулках и с булавой. И лорд, узнав, что света нет И почта не пришла, Прошел в угрюмый кабинет И в кресло у стола, Устав от треволнений дня, Присел, не сняв пальто. Дом без воды и без огня Угрюм и тих. Ничто Не потревожит мирный сон. Плывет огонь свечи, И беспокойный телефон Безмолвствует в ночи. Лорд задремал. Сырая мгла Легла в его кровать. А дрема вышла из угла И стала колдовать: Склонилась в свете голубом, Шепча ему, что он Под балдахином и гербом Вкушает мирный сон. Львы стерегут его крыльцо, Рыча в густую мглу, И дождик мокрое лицо Прижал к его стеклу. Но вот в спокойный шум дождя Вмешался чуждый звук, И, рукавами разведя, Привстал его сюртук. «Товарищи! Хау-ду-ю-ду?[31] — Сказал сюртук, пища. — Давайте общую беду Обсудим сообща. Кому терпение дано — Служите королю, А я, шотландское сукно, Достаточно терплю. Лорд сжал в кулак мои края, А я ему, врагу, Ношу часы? Да разве я Порваться не могу?» Тут шелковистый альт, звеня, Прервал: «Сюртук! Молчи! Недаром выткали меня Ирландские ткачи». «Вражда, как острая игла, Сидит в моем боку!» — Рубашка лорда подошла, Качаясь, к сюртуку. И, поглядев по сторонам, Башмак промолвил: «Так!» — «Друзья! Позвольте слово нам! — Сказал другой башмак.— Большевиками состоя, Мы против всякой тьмы. Прошу запомнить: брат и я — Из русской кожи мы». И проводам сказали: «Плиз![32] Пожалуйте сюда!» Тогда, качаясь, свисли вниз Худые провода: «Мы примыкаем сей же час! Подайте лишь свисток. Ведь рурский уголь гнал сквозь нас Почти московский ток». Вокруг поднялся писк и вой: «Довольно! Смерть врагам!» И голос шляпы пуховой Вмешался в общий гам: «И я могу друзьям помочь. Предметы, я была Забыта лордом в эту ночь На кресле у стола. Живя вблизи его идей, Я знаю: там — навоз. Лорд оскорбляет труд людей И шерсть свободных коз». А кресло толстое, черно, Когда умолк вокруг Нестройный шум, тогда оно Проговорило вдруг: «Я дрыхну в продолженье дня, Но общая беда Теперь заставила меня Приковылять сюда. Друзья предметы, лорд жесток, Хоть мал, и глуп, и слаб. Ведь мой мельчайший завиток — Колониальный раб! К чему бездействовать крича? Пора трубить борьбу! Покуда злоба горяча, Решим его судьбу!» — «Казнить!» — в жестоком сюртуке Вопит любая нить; И каждый шнур на башмаке Кричит: «Казнить! Казнить!» С опаской выглянув во двор, Приличны и черны, Читать джентльмену приговор Идут его штаны. «Сэр! — обращаются они. — Здесь шесть враждебных нас. Сдавайтесь, вы совсем одни В ночной беззвучный час. Звонок сбежал, закрылась дверь, Погас фонарь луны…» — «Я буду в Тоуэр взят теперь?» — «Мужайтесь! Казнены!» И лорд взмолился в тишине К судилищу шести: «Любезные! Позвольте мне Защитника найти». — «Вам не избегнуть наших рук, Защитник ни при чем. Но попытайтесь…» — И сюртук Пожал сухим плечом. Рука джентльмена набрела На Библию впотьмах, Но книга — нервная была, Она сказала: «Ах!» Дрожащий лорд обвел мельком Глазами кабинет, Но с металлическим смешком Шептали вещи: «Нет!» Сюртук хихикнул в стороне: «Все — против. Кто же за?» И лорд к портрету на стене Возвел свои глаза: «Джентльмен в огне и на воде,— Гласит хороший тон, — Поможет равному в беде. Вступитесь, Джордж Гордон, Во имя Англии святой, Начала всех начал!» Но Байрон в раме золотой Презрительно молчал. Обняв седины головы, Лорд завопил, стеня: «Поэт, поэт! Ужель и вы Осудите меня?» И, губы приоткрыв едва, Сказал ему портрет: «Увы, меж нами нет родства И дружбы тоже нет. Мою безнравственность кляня, У света за спиной Вы снова станете меня Травить моей женой. Начнете мне мораль читать, Потом в угоду ей У Шелли бедного опять Отнимете детей. Нет, лучше будемте мертвы, Пустой солильный чан, — За волю греков я, а вы За рабство англичан». Тут кресло скрипнуло, пока Черневшее вдали. Предметы взяли старика И в кресло повлекли. Не в кресло, а на страшный стул, Черневший впереди. Сюртук, нескладен и сутул, Толкнул его: «Сиди!» В борьбе с жестоким сюртуком Лорд потерял очки, А ноги тощие силком Обули башмаки, Джентльмен издал короткий стон: «Ужасен смертный плен!» А брюки скорчились, и он Не мог разжать колен. Охвачен страхом и тоской, Старик притих, и вот На лысом темени рукой Отер холодный пот, А шляпа вспрыгнула туда И завозилась там, И присосались провода К ее крутым полям. Тогда рубашка в провода Впустила острый ток… ……………………… Серея, в Темзе шла вода, Позеленел восток, И лорд, почти сойдя с ума, Рукой глаза протер… Над Лондоном клубилась тьма: Там бастовал шахтер. <1928>150. ПРОШЕНИЕ
Ваше благородие! Теперь косовица, Хлебушек сечется, снимать бы пора. Руки наложить? На шлее удавиться? Не обмолотить яровых без Петра. Всех у нас работников — сноха да внучек. Молвить по порядку, я врать не люблю, Вечером пришли господин поручик Вроде бы под мухой. Так, во хмелю. Начали, — понятное дело: пьяный, Хмель хотя и ласковый, а шаг до греха,— Бегать за хозяйкой Петра, Татьяной, Которая нам сноха. Ты из образованных? Дворянского рода? Так не хулигань, как последний тать. А то повалил посреди огорода, Принялся давить, почал хватать. Петр это наш, это — мирный житель: А ни воровать, ни гнать самогон. Только, ухватившись за ихний китель, Петр ненароком сорвал погон. Малый не такой, чтобы драться с пьяным, Тронул их слегка, приподнял с земли. Они же осерчали. Грозя наганом, Взяли и повели. Где твоя погибель — поди приметь-ка, Был я у полковника, и сам не рад. Говорит: «Расстреляем!» Потому как Петька Будто бы есть «большевистский гад». Ваше благородие! Прилагаю при этом Сдобных пирогов — напекла свекровь. Имей, благодетель, сочувствие к летам, Выпусти Петра, пожалей мою кровь. А мы с благодарностью — подводу, коня ли, Последнюю рубашку, куда ни шло… А если Петра уже разменяли — Просим отдать барахло. <1928> Днепропетровск151. СТРОИТЕЛЬ
Мы разбили под звездами табор И гвоздем прикололи к шесту Наш фонарик, раздвинувший слабо Гуталиновую черноту. На гранита шершавые плиты Аккуратно поставили мы Ватерпасы и теодолиты, Положили кирки и ломы. И покуда товарищи спорят, Я задумался с трубкой у рта: Завтра утром мы выстроим город, Назовем этот город — Мечта. В этом улье хрустальном не будет Комнатушек, похожих на клеть. В гулких залах веселые люди Будут редко грустить и болеть. Мы сады разобьем, и над ними Станет, словно комета хвостат, Неземными ветрами гонимый, Пролетать голубой стратостат. Благодарная память потомка! Ты поклонишься нам до земли. Мы в тяжелых походных котомках Для тебя это счастье несли! Не колеблясь ни влево, ни вправо, Мы работе смотрели в лицо, И вздымаются тучные травы Из сердец наших мертвых отцов… Тут, одетый в брезентовый китель, По рештовкам у каждой стены, Шел и я, безыменный строитель Удивительной этой страны. 1930152. КИТАЙСКАЯ ЛЮБОВЬ
Полезно заметить, Что с Фый Сянь ку Маруська сошлась, катаясь. Маруська пошла На Москва-реку, И к ней подошел китаец. Китаец был желт И черноволос, Сказал ей, что служит в тресте. Хоть он и скуласт И чуточку кос, А сели кататься вместе. Он выпалил сотню Любовных слов, Она ему отвечала. Итак, китайская эта любовь Имеет свое начало. Китаец влюбился, Как я, как все… В Таганке жила Маруська. Китаец пришел к ней. Ее сосед На нехристя пса науськал. Просвирни судачили из угла: «Гляди-ка! С кем она знается!» И Марья Ивановна предрекла: «Эй, девка! Родишь китайца!» «В какую ж он масть Пойдет, сирота?» — Гадали кумушки заново. «Полоска бела, полоска желта», — Решила Марья Ивановна. Она ошибалась. Дитя родилось — Гладкое, без полосок. Ребенок был желт И слегка раскос, Но — определенно — курносый! Две мощные крови В себе смешав, Лежал, Кулачки меж пеленок пряча, Сначала поплакал, Потом, не спеша, И улыбаться начал. Потом, Расширяя свои берега, Уверенно, прочно, прямо Пошел на коротких Кривых ногах И внятно промолвил: «Мама». Двух рас В себе сочетающий кровь, Не выродился, Не вымер, Но жил, но рос, Крутолоб и здоров, И звали его — Владимир! А мать и отец? Растили сынка И жили да поживали И, как утверждают наверняка, Китайца не линчевали. <1931>153. АФРОДИТА
Протирая лорнеты, Туристы блуждают, глазея На безруких богинь, На героев, поднявших щиты. Мы проходим втроем По античному залу музея: Я, пришедший взглянуть, Старичок завсегдатай И ты. Ты работала смену И прямо сюда от вальцовки. Ты домой не зашла, Приодеться тебе не пришлось. И глядит из-под фартука Краешек синей спецовки, Из-под красной косынки — Сверкающий клубень волос. Ты ступаешь чуть слышно, Ты смотришь, немножко робея, На собранье богов Под стволами коринфских колонн. Закатившая очи, Привычно скорбит Ниобея, Горделиво взглянувший, Пленяет тебя Аполлон. Завсегдатай шалеет. Его ослепляет Даная. Он молитвенно стих И лепечет, роняя пенсне: «О небесная прелесть! Ответь, красота неземная, Кто прозрел твои формы В ночном ослепительном сне?» Он не прочь бы пощупать Округлость божественных ляжек, Взгромоздившись к бессмертной На тесный ее пьедестал. И в большую тетрадь Вдохновенный его карандашик Те заносит восторги, Которые он испытал. «Молодой человек! — Поучительно, С желчным присвистом, Проповедует он,— Верьте мне, Я гожусь вам в отцы: Оскудело искусство! Покуда оно было чистым, Нас божественной радостью Щедро дарили творцы». Уходи, паралитик! Что знаешь ты, Нищий и серый? Может быть, для Мадонны Натурой служила швея. Поищи твое небо В склерозных распятьях Дюрера, В недоносках Джиото, В гнилых откровениях Гойя́. Дорогая, не верь! Если б эти кастраты, стеная, Создавали ее, Красота бы давно умерла. Красоту создает Трижды плотская, Трижды земная Пепелящая страсть, Раскаленное зренье орла. Посмотри: Все богини, Которые, больше не споря, Населяют Олимп, Очутившийся на Моховой, Родились в городках У лазурного теплого моря, И — спроси их — Любая Была в свое время живой. Хлопотали они Над кругами овечьего сыра, Пряли тонкую шерсть, Пели песни, Стелили постель… Это жен и любовниц В сварливых властительниц мира Превращает Скопас, Переделывает Пракситель. Красота не угасла! Гляди, как спокойно и прямо Выступал гладиатор, Как диск заносил Дискобол. Я встречал эти мускулы На стадионе «Динамо», Я в тебе, мое чудо, Мою Афродиту нашел. Оттого на тебя (Ты уже покосилась сердито) Неотвязно гляжу, Неотступно хожу по следам. Я тебя, моя радость, Живая моя Афродита, — Да простят меня боги! — За их красоту не отдам. Ты глядишь на них, милая, Трогаешь их, дорогая, Я гляжу тебе вслед И причудливой тешусь игрой: Ты, я думаю молча, На цоколе стройном, нагая, Рядом с пеннорожденной Казалась бы младшей сестрой, Так румянец твой жарок, Так губы свежи твои нынче, Лебединая шея Так снежно бела и стройна, Когда бы в Милане Тебя он увидел бы — Винчи, — Ты второй Джиокондой Сияла бы нам с полотна! Между тем ты не слепок, Ты — сверстница мне, Ты — живая. Ходишь в стоптанных туфлях. Я родинку видел твою. Что ж, сердись или нет, А тебя, проводив до трамвая, Я беру тебя в песню, Мечту из тебя создаю. Темнокудрый юнец По расплывчатым контурам линий Всю тебя воссоздаст И вздохнет о тебе горячо. Он полюбит твой профиль, И взор твой студеный и синий, И сквозь легкую ткань Золотое в загаре плечо. Вечен ток вдохновенья! И так, не смолкая, гудит он Острым творческим пламенем Тысячелетья, кажись. Так из солнечной пены Встает и встает Афродита, Пены вольного моря, Которому прозвище — Жизнь. 1931ДРАМА
154. РЕМБРАНДТ (Драма в стихах)
Действующие лица
Рембрандт ван Рейн, художник.
Саския ван Эйленбург, его жена.
Хендрике, по прозвищу Стоффельс, его служанка.
Фабрициус и Флинк, его ученики.
Людвиг Дирк, его маклер.
Магдалина ван Лоо, его невестка.
Сикс, бургомистр Амстердама, меценат, писатель.
Баннинг Кук, капитан корпорации стрелков.
Пастор.
Мортейра, ученый талмудист, учитель Спинозы.
Наследный принц Тосканы.
Доктор Тюльп тесть Сикса.
Продавец красок.
Бюргер, пушкарь, лейтенант, стрелки, судебный пристав, писец, стражники, горожане, кредитор, хозяин гостиницы, соседи.
Действие происходит в Амстердаме с 1635 по 1669 год.
КАРТИНА ПЕРВАЯ ПИР БЛУДНОГО СЫНА
1
Флинк и Фабрициус приготовляют для пирушки богато убранную комнату. На стенах ее картины, оружие восточные ткани, гипсовые маски. На полках книги, папки с рисунками, античные бюсты, в углу огромный глобус, на полу львиная шкура, стоит мольберт с завешенной картиной В комнате две двери.
Флинк
Совсем не чудо наш старик Рембрандт: Ему на рынке отыскался тезка.Фабрициус
Хоть ты оделся как испанский гранд, А все-таки остришь довольно плоско: Рембрандт один.Флинк
Заладил и конец! К нам в Амстердам приехал из Гааги Купец Рембрандт ван Юлленшерн.Фабрициус
Купец?Флинк
Верней, богатый фабрикант бумаги. Вчера на Амстель[33] для него как раз Сырье сгружали, скатывали бочки. Тут я подъехал и добыл заказ Писать портрет с его дебелой дочки.Фабрициус
Но брать заказы нам запрещено.Флинк
Э, мало ль что запрещено, любезный! Ей-богу, подработать на вино — Вполне невинно и весьма полезно.Фабрициус
Хозяин говорит, что портит нас Успех дешевый у солдат и женщин.Флинк
Завидуем! А хочешь знать: подчас И сам учитель портит нас не меньше,Фабрициус
Как так?Флинк
Да очень просто. Посмотри, Как на его палитре краски вянут. Холсты его берут монастыри Да ратуши, а дамы брать не станут. Не первый день я у него в дому: На рождество исполнится два года, А почему он гений — не пойму, Хоть ты убей меня! Всё мода, мода! Да уж и та почти сошла на нет: Заказов-то поменьше, не как прежде. И то сказать: заказывай портрет Такому грубияну и невежде!Фабрициус
Рембрандт — невежда?!Флинк
Тише. Не ори! Ведь он и Рубенс — что земля и небо. Как ни толкуй и что ни говори, А гений наш в Италии-то не был? Он малевал вчера, а я глядел, Смеясь в душе. (Указывает на одну из папок.) Рисуя в этой папке Страданья Иисуса, он надел Евангелистам… меховые шапки!Фабрициус
Мне не смешно.Флинк
Так ты в него влюблен! А я в, мазне такой не вижу прока. Ах, то ли дело итальянский тон, Счастливое французское барокко! Оно горит, чаруя глазки дам, Его тона заката золотистей! Гром разрази меня! Я всё отдам За бойкость техники, за беглость кисти!Фабрициус
За гладкопись.Флинк
Фабрициус, ты дурак! Подмолоди принцесс да бургомистров, Подзолоти и сам увидишь, как Тебе удача улыбнется быстро! Смети-ка эту пыль, что на ковре… Да, слава и богатство — вот в чем соль-то! Тебе он люб — сиди в его дыре, А я сбегу к маэстро Миревольту[34] Рембрандтом, друг, я сыт по горло. Всласть. Мужицкий реализм. Медвежья грубость Эх, если бы мне к Рубенсу попасть В ученики!Фабрициус
Ага, вот видишь: Рубенс — Князь нашей живописи, но и тот Прийти к Рембрандту обещал сегодня.Флинк
Придет ли он?Фабрициус
Конечно, он придет.Флинк
Его притащит Людвиг, эта сводня, Чтобы учителя отсрочить крах И кровь его сосать еще полгода. Но он ловкач, и я ему не враг…2
Входит Рембрандт, неся в руках огромный шлем. Его плащ и сапоги в грязи.
Рембрандт
Собачий ветер! Чертова погода!Флинк
Учитель! Вы? Как волновался я О вашем драгоценнейшем здоровье! И ветер с Эй[35], и ливень в три ручья…Рембрандт
Я на базар ходил за бычьей кровью[36]. Уговорил бродягу на этюд Да завернул на свадьбу к крысолову. Я старый гез и не боюсь простуд. Смотрите, дети: я принес обнову — Шлем великана.Флинк
Превосходный шлем! Чай, дали за него флоринов десять?Рембрандт
Два гульдена всего. А между тем Забавный шлем! Куда б его повесить? (Тянется к гвоздю на стене.)Флинк
Не утруждайтесь! Я сейчас, сейчас… Тут над картинкой гвоздь, так мы над нею… Давайте шлем сюда: я выше вас.Рембрандт
Мой милый, ты не выше, ты длиннее.Флинк
Гм… совершенно верно: я длинней.Рембрандт
Да гвоздь-то крепок?Флинк
Гвоздь на диво крепок. (Берет с полки гипсовый слепок руки и прибивает его к стене.) А эту руку надо повидней Приколотить. Какой прекрасный слепок! (Развешивает оружие.) Фабрициус! Подай из уголка Ту шпагу, что с большим зеленым бантом. (Опять разглядывает слепок.) На диво интересная рука! Когда-то был и я ведь хиромантом.Рембрандт
А был, так погадай: рука моя.Флинк
(снимает слепок и рассматривает его) Здесь на ладони, меж пересечений Других морщин, — Знак Солнца вижу я, Тот знак гласит, что вы, учитель, — гений.Рембрандт
Так. Дальше что?Флинк
Венерино кольцо, Пересеченное глубоким шрамом. Хе-хе! Владеющее им лицо Весьма приятно девушкам и дамам.Рембрандт
Сейчас соврет, что мне везет в игре!Флинк
Вам врать, учитель, было б святотатство. Морщинка на Меркурьевой бугре Пророчит вам великое богатство.Рембрандт
Ты б Винчи был, когда бы, как вранья, Художества усвоил ты науку! Ведь вместо собственной ладони я Тебе подсунул каторжника руку.Флинк
(обиженно) Что ж, воля ваша!3
Входит нарядно одетая Саския.
Саския
Где ты был, Рембрандт?Рембрандт
У старой биржи, на Брабантском мосте.Саския
Весь плащ в грязи! Небритый! Вот так франт! А ведь сейчас начнут съезжаться гости.Рембрандт
Мы с Крулем[37] в синагогу забрались И слушали «Колнидрей». Что за песня!.. Ну ласточка, ну радость, не сердись!Саския
Что ж! Не нашел занятья интересней? Добро б хоть был ты холост или вдов. Ужель тебя нисколько не роняет В своем же мненье общество жидов?.. Переоденься! Как твой плащ воняет!Рембрандт уходит, Саския идет за ним.
Флинк
Фабрициус! Я умер! Я убит! Ведь как она его: и грязь, и запах! А он-то, он! Нам, грешным, он грубит, А перед ней стоит на задних лапах.4
Входят Людвиг Дирк и Баннинг Кук. Навстречу им выходит Саския.
Людвиг
(целуя руку Саскии) Прелестная!Саския
Привет вам, милый друг.Людвиг
(указывая на Кука) Я нынче к вам привел с собою гостя.Баннинг Кук
Сударыня, не будь я Баннинг Кук, Я очень рад, клянусь игрою в кости! Подобных женщин я еще не знал, Хотя немало за границей пожил.Людвиг
Ну-с, чем сегодня наш оригинал Число своих коллекций приумножил?Флинк
(указывая на шлем) Сегодня — шлемом.Людвиг
Ах, отличный шлем! Немножко схож с кастрюлей для сосисок. Так и запишем. (Вынимает книжку и что-то записывает.)Фабрициус
Сударь, а зачем Ведете вы покупок наших список Так тщательно? Я что-то не пойму.Людвиг
Я, милый мой, стараюсь для потомства: Желаю обеспечить и ему Во всех деталях с гением знакомство.Саския
Скажите нам: что Рубенс? Он придет?Людвиг
Он обещал, хоть очень неохотно: Визитов тьма его вогнала в пот.Входит переодевшийся Рембрандт.
Как жизнь, Рембрандт? Как новые полотна?Рембрандт
Забросил всё. Замучили дела, Да и противно рисовать халтуру. Вчера на рынке набросал вола…Людвиг
Ну, что там вол! Вот я привел натуру Такую, что коль выпустишь из рук, То после пальцы изгрызешь от злости!Баннинг Кук
Ах, сударь мой, не будь я Баннинг Кук, Я очень рад, клянусь игрою в кости! Я к вам явился предложить заказ От гильдии стрелков…Рембрандт
Увы, я занят.Баннинг Кук
Заказ, который обессмертит вас!Рембрандт
Увы, меня бессмертие не манит. Я не могу стрелков нарисовать, Я увлечен сейчас воловьей тушей.Людвиг
А зеркало и с пологом кровать На что ты купишь? Не глупи, послушай.Баннинг Кук
Подумайте. Не говорите «нет». Мы хорошо заплатим. Я не жила!Рембрандт
Нет.Баннинг Кук
За паршивый групповой портрет Мы вам дадим по сто флоринов с рыла!Рембрандт
Благодарю.Людвиг
А я уж приглядел Кровать и зеркало.Саския
Не будь упрямым!Рембрандт
Я, милая, завален грудой дел!Людвиг
Какой джентльмен отказывает дамам?Рембрандт
Я не джентльмен, я мельник[38].Людвиг
Вот те раз!Баннинг Кук
На фоне, сударь, этакой портьеры Получше этак напишите нас — Собранье благородных офицеров! Представьте: я в передовом ряду, Мой лейтенант стоит со мною вместе, Над нами — знамя! Мне на грудь — звезду! Ну, и ему какой-нибудь там крестик. Чтоб наши девушки сошли с ума, Взглянув на полотно! Чтоб видно было, Что мы бойцы, а не кусок дерьма!.. Вы поняли? По сто флоринов с рыла.Рембрандт
А если вас, любезный капитан, Напишет Рубенс?Баннинг Кук
Поезжай в Антверпен, А он тебя еще не примет там!Рембрандт
Садитесь. Отдыхайте. Время терпит. Я с ним вас познакомлю, бог вояк.Баннинг Кук
Ну что ж, пожалуй. Если он без чванства…Людвиг
Вы нам покуда расскажите, как Вы заработали свое дворянство.Баннинг Кук
Комедия, не будь я Баннинг Кук! Забавный случай, в ребра мне чесотку! Был у меня один строптивый друг, И с ним не поделили мы красотку. Дошло до шпаг. Но этот сукин сын, Распутник лысый этот, старый мерин, Вдруг заявил, что я не дворянин И он со мною драться не намерен. Я в армию! За шпагу! На коня! В Испанию, где в это время — свалка. Испанки так поленьями меня Отделали, что глянуть было жалко! Я год потом не мог сидеть в седле. В Баварии, где чудно пиво гонят, Я чуть не утонул в пивном котле.Людвиг
Ну, это трудно: золото не тонет.Баннинг Кук
Так десять лет прошло. И наконец, За рыцарство, отвагу, постоянство, Моих мечтаний пламенных венец — Я получаю грамоту дворянства. Тогда я отправляюсь в Амстердам, Чтоб утолить святую жажду мщенья, И нахожу… Но это не для дам… Я впрочем, расскажу, прошу прощенья. Я спал и видел сны об этом дне: Теперь, мечтал, проткну я кавалера! А он сидит, каналья, на судне, И у него жестокая холера.Людвиг
А что красотка?Баннинг Кук
Отдалась ему!Людвиг
Ваш хитрый друг объехал вас, медведь мой.Баннинг Кук
Да, черт возьми! К приезду моему Красотка эта стала старой ведьмой.Рембрандт
А ваш приятель?Баннинг Кук
Умер, как назло! Под носом умер! Каково?Рембрандт
Занятно.Людвиг
Да, не везло вам в жизни.Баннинг Кук
Не везло.Слышен стук в дверь.
Саския
Стучится кто-то.Людвиг
Рубенс, вероятно.5
Входит Сикс.
Сикс
Привет хозяйке! Баннинг Кук, привет! Перо на шляпе! Сапоги с раструбом! И франт же вы!.. А Рубенса всё нет! Нас долго ждать заставит этот Рубенс! А между тем скажу вам, господа, Кабы не слава — он и не по мне бы. Уж это что за живопись, когда Кухарками он населяет небо! За что ему такой высокий сан Пожалован принцессой…[39]Рембрандт
Вы сердиты, Мой желчный друг, бессмертный вкус нам дан, Чтоб разглядеть и в прачке Афродиту. Дар Рубенса слепит, как яркий свет, Средь живописи сумерек ничтожных. Мне вспомнился один его ответ. Так мог ответить лишь большой художник.Сикс
Какой, скажите?Рембрандт
В Лондоне послом Был Рубенс, помнится, тогда.Сикс
И что же?Рембрандт
И там он встретился с одним ослом.Баннинг Кук
С ослом! Забавно!Рембрандт
Виноват, с вельможей.Сикс
Тут — разница!Рембрандт
Невелика! Сей лорд, Из самых найчиновных и вельможных, Пришел, когда гравировал офорт В своем посольстве молодой художник. «Искусством забавляется посол?» — Он уронил с тупым самодовольством. «Нет, ваша светлость, — тот ответ нашел,— Художник развлекается посольством».Людвиг
Ответ чего уж лучше! Спору нет!Баннинг Кук
Такие шутки порождают войны! Я б ноги вырвал за такой ответ!Сикс
Ответ остер, но это непристойно.Саския
Такую грубость, милый друг, поверь, Вельможе слушать было неприятно.Рембрандт
Мне чудится, иль снова в нашу дверь Стучится кто-то?Сикс
Рубенс, вероятно.6
Входит бюргер.
Бюргер
Простите, сударь, что тревожу вас В приятный час веселости невинной. Я к вам зашел, чтоб получить заказ — Портрет моей дражайшей половины.Рембрандт
О, ваш заказ окончил я давно И признаюсь, работал с интересом. Но только тут есть маленькое «но»…Бюргер
Вы мне польстили, дорогой профессор: Еще вчера заносчивый юнец Жену мою назвал ошметком старым… В чем ваше «но», скажите наконец? Когда стоите вы за гонораром, То хоть бумажник мой не очень толст…Рембрандт
(указывая на Людвига) Вот мой посредник, с ним и обсудите.Людвиг
Что ж! Наложите золота на холст, И сколько ляжет — столько и дадите.Бюргер вынимает кошель, полный золота, и кладет на стол.
Бюргер
Позволите взглянуть на полотно? Не терпится узреть свою овечку.Рембрандт
(смущенно) Пожалуйста. (Подходит к мольберту и снимает с него полотно.) Но только тут темно. Фабрициус! Неси живее свечку!Фабрициус подносит к мольберту свечу. На полотне изображена старая толстая бюргерша и рядом с ней — обезьяна. Все изумленно смотрят на картину. Бюргер отступает.
Бюргер
Создатель, что за дикая мазня?! Вы это в шутку, сударь, или спьяну?.. Ужасно!Баннинг Кук
Что касается меня, То я предпочитаю обезьяну.Бюргер
Немыслимо! Так вот в чем ваше «но»! Фи, сколько мерзости в ее гримасе!Рембрандт
(смущенно) А я решил, что это полотно Облагородила моя Шааси.Бюргер забирает со стола кошель с золотом и прячет его.
Бюргер
Я этого портрета не возьму. Задаток мне верните.Людвиг
(сердито) Привередник!Рембрандт
(указывая на Людвига) Зайдите за флоринами к нему, Он — мой карман с деньгами, мой посредник.Бюргер уходит, хлопнув дверью.
7
Людвиг
Чем я платить-то буду? Вот вопрос!Баннинг Кук
Прекрасно, замечательно, отлично Мещанишке вы натянули нос!Сикс
Как это вышло?Саския
Это неприлично!Рембрандт
Однажды я в Гольфвегенском порту[40] Провел в харчевне ночь довольно бурно. Мой собутыльник с трубкою во рту Был кривоногий загулявший штурман. Любил девиц, заблудшая душа, И в смысле выпить тоже был не квакер, И наконец, пропившись до гроша, В харчевне этой стал на мертвый якорь. Его похмелье мучило. Добряк Настроен был на диво покаянно, И за флорин беспутный тот моряк В тот трудный час мне продал обезьяну. Она в меня, казалось, влюблена И превратилась в моего вассала. Когда я брился — брилась и она, Когда писал я — и она писала. И вот он умер, бедный мой зверек, Моя Шааси, добрая подруга!..Людвиг
Ты все харчевни вдоль и поперек Уже прошел. Смотри, сопьешься с круга!Сикс
Вы, мой Рембрандт, способный человек. Ваш ум остер и чувство ваше тонко, Но можно ль оставаться целый век Таким вот… мягко говоря, ребенком?Людвиг
Меня ты режешь прямо без ножа, Я разорюсь с тобою.Сикс
Ну, на что вы Волнуете почтенных горожан, Что в гении вас записать готовы? Вы молоды, кровь ваша горяча, Я понимаю вас, я сам — писатель. Но не рубите вы, чудак, сплеча!Баннинг Кук
И на ветер заказы не бросайте!Людвиг
Вот это правда!Сикс
И поверьте мне: Пожнет пожар, кто в стог заронит искру, Мне неудобно из-за вас вдвойне: Как другу вашему и бургомистру, Ведь голос общества…Рембрандт
Что ж голос тот, Мой друг, нашептывает вам болтливо?Сикс
Что вы жуир, что вы немножко мот. И это всё, к несчастью, справедливо. Закон следит за вами каждый час! Намедни мне докладывает пристав, Что он в ночлежках замечает вас, Муж дочери почтенного юриста. Муж Саскии ван Эйленбург. Что вы На Каттенбурге[41] шляетесь, подвыпив, И, позабыв о голосе молвы, Рисуете каких-то грязных типов. Хотите слышать мнение мое? И вас и Саскию всё это губит. Скажите мне, вы любите ее — Супругу вашу?Саския
Он меня не любит!Рембрандт
(бросается к ней) Клянусь — люблю! Одной тобой полно Всё это сердце! (Обращается к Сиксу) Прекратите споры! (Подходит к столу, уставленному едой и винами.) Ну, Баннинг Кук, давайте пить вино, Не хмурься, Людвиг! Мы своротим горы! (Наливает в бокал вина.) В бокал хрустальный нежно-голубой Налитая, пусть эта влага пляшет!..Саския сильно кашляет.
Скажи, моя голубка, что с тобой?Саския
Пустое: кашель.Рембрандт
Снова этот кашель! Поди ко мне. На грудь мою приляг. Хлебни глоток из моего бокала Сядь на руки ко мне. Черт знает — как Твое колье на шее засверкало! (Усаживает ее на колени.) Я нарисую так тебя. Стократ Прелестней ты с воздетой к небу чашей!Саския
(вырываясь) Оставь меня! Пусти меня, Рембрандт, С твоих колен! Что скажут гости наши?Рембрандт
Не отпущу! Пусть слышит целый мир, Как пиршества ночного грянут трубы! Сикс! Улыбнитесь, и начнемте пир, Пир сына блудного!Сикс
А как же Рубенс?Баннинг Кук
Видать, не по нему наш скромный круг. Друзья мои, не ожидайте, бросьте! Такой гордец, не будь я Баннинг Кук, К нам не придет, клянусь игрою в кости!КАРТИНА ВТОРАЯ ГЕЗ И ПРИНЦ
1
Мастерская Рембрандта. У окна стол и кресло. Мольберт с завешенной картиной. На стенах палитры. Висит картина Ван-Дейка. В углу бюст Гомера. На столе модель фрегата. Дверь в комнату закрыта портьерой. Мортейра сидит в кресле. Рембрандт стоит у окна.
Рембрандт
Почтенный реб Мортейра! Я затем, Не пощадив больные ваши ноги, Зазвал к себе вас, чтоб дознаться: с кем На Бреедстратен[42] возле синагоги В четверг прошедший я заметил вас?Мортейра
В четверг, вы говорите? Я не помню.Рембрандт
Красивый мальчик. Он гранил алмаз У домика, где вход в каменоломню. Блондин с глазами аспида серей И с нежным ртом, как маленькая роза.Мортейра
А, вспомнил! Этот молодой еврей — Мой ученик, мой мальчик, мой Спиноза. Ему от бога многое дано!Рембрандт
Вы знаете, какая мысль мелькнула В моем уме! Я собрался давно Писать безумного царя Саула. Натурой для Саула служит мне Маньяк один, благообразный с вида. Чтоб развернуться в этом полотне. Мне не хватает лишь царя Давида…Мортейра
Я понял вас. Конечно, лучше всех Спиноза мой Давида вам сыграет, Когда ему не вменит это в грех Фанатик наш Манассе бен-Израиль. «Кумира, — скажет он, — не сотвори!» Но Барух не в ладах с вероученьем, Скажу вам по секрету: раза три Ему уже грозили отлученьем. Он страшно непокладист, мой юнец! Я попрошу его.Рембрандт
Просите очень!Мортейра
(встает) Ну, я пойду! Я истомлен вконец Событьями тревожной этой ночи.Рембрандт
(глядит в окно) Пушкарь идет. Вот кто расскажет нам, Какую принц сыграть задумал шутку[43]. (Кричит в окно.) Ты с форта Вепп?Голос с улицы
Всю ночь дежурил там, Домой спешу.Рембрандт
Зайди-ка на минутку!2
Мортейра садится, входит пушкарь.
Пушкарь
Ну, разве на минутку, господа! Не выспался, не ел, жену не видел.Рембрандт
Проголодался? Это не беда! Сейчас устроим завтрак в лучшем виде. Сосиски есть, яичницу подам, Пивка прикажем нацедить в подвале. А ты нам расскажи, как Амстердам Вы, пушкари, от принца отстояли. (Кричит.) Фабрициус!Молчание.
Пушкарь
Заспался, сатана!Рембрандт
Флинк!Молчание.
Пушкарь
Тоже дрыхнет!.. Вечером вчерашним Смазливая служаночка одна Явилась к нам в сторожевую башню. Ну, мы, понятно, бросили вино, Забыли кости и решили было Ее пощупать, как заведено. Но тут девчонка эта нам открыла, Что принц Оранский, неусыпный страж Свободы нашей[44], грузит на телеги Своих солдат, чтоб вольный город наш Лишить его старинных привилегий, Что он к нам подойдет в ночную тьму, Что, словно Каин, предающий брата, Пароль и отзыв выдали ему Тузы из армии и магистрата. Тогда мы запалили фитили, Штыки проверили, как говорится, И, не шумя, у пушек прилегли, Готовые достойно встретить принца. Боясь измены, не сказали мы И ни словечка Сиксу или Куку.Рембрандт
Не миновать бы вам, орлы, тюрьмы, Когда б им кто шепнул про эту штуку!Пушкарь
Мы так и думали. Глядим: как волк, Бряцая медью копий для острастки, Крадется рейтарский особый полк, И впереди — вельможный принц Оранский, Здесь для начала наш дозорный пост Их обстрелял.Рембрандт
И поделом: не суйся!Пушкарь
Потом поднялся наш висячий мост И громыхнули пушки Нисверслуйса[45]. Не стал протестовать высокий гость, Откланялся и повернул обратно. Лишь со скабрезной ручкой в поле трость Нашли мы утром.Рембрандт
Принца, вероятно.Пушкарь
Отчаянной пальбы услышав звук, В одном белье, с дежурной полуротой На башню к нам явился Баннинг Кук И грозно приказал открыть ворота. Он заорал, но тут, не обессудь, Братва его послушалась не шибко: Ребята взяли дурака за грудь И объяснили — в чем его ошибка. Как изменился он!Рембрандт
Смешная роль!Пушкарь
На что смешнее! Вспомнишь — хохот душит! Он проворчал, что принц ведь знал пароль, Но наконец велел стрелять из пушек. Он опоздал с приказом этим: тот И так немало получил гостинцев. Кук всякий раз хватался за живот, Когда ядро летело в войско принца.Тихо отворяется дверь, и входит доктор Тюльп. Прислушавшись к разговору, становится за портьеру и подслушивает.
Приехал Сикс. На башне у перил Он долго в трубочку смотрел невинно. Он очень пушкарей благодарил, Но почему-то с крайне кислой миной. Наш бургомистр, казалось, был бы рад, Когда б врага впустили мы без звука.Рембрандт
Да, Сикс — лиса! Он — тонкий бюрократ! Его накрыть куда трудней, чем Кука: Он тут соврет, а там подпустит лесть…Мортейра
А что ж служанка?Пушкарь
Канула как в воду!.. Да ты, Рембрандт, хотел мне дать поесть. Я даром, что ль, сражался за свободу?Рембрандт
(кричит) Эй, Флинк! Фабрициус!.. Всегда заснут!3
Входит Хендрике. Увидев пушкаря, отворачивается. Тот внимательно в нее всматривается.
Хендрике
Их нет, хозяин.Рембрандт
А коль нет, так живо Распорядись, чтоб через пять минут Стояли тут яичница и пиво.Хендрике кланяется и уходит.
Пред Хендрике пасуют повара!..Пушкарь
Девчонка эта — из твоих домашних?Рембрандт
Да.Пушкарь
Это та служанка, что вчера Явилась к нам в сторожевую башню!Рембрандт
(прикладывает палец к губам) Тсс. Тише, друг! Заткни-ка лучше рот И не вертись: испачкаешься краской.Пушкарь
(тихо) Так это ты предупредил народ, Что замышляет злое принц Оранский?Рембрандт
А хоть бы я? О том, что принц кружит Под городом, успел проговориться Мне Баннинг Кук спьяна. А я — мужик И не особенный поклонник принцев.Пушкарь
(задумчиво) Так. Понял всё. Одно мне невдомек Ведь Молчаливый[46], предок благородный, В роду у принца. Как он, дьявол, мог Подняться против вольности народной?Мортейра
Друг, вы наивны! Принцы каждый раз Теряют память о высоком прошлом, Когда им биржа отдает приказ Купцов избавить от высоких пошлин.Пушкарь
Что ж дальше будет?Мортейра
Нападенье он Ошибкой объяснит. Влетит солдатам. Наш магистрат, чтоб соблюсти закон, Напишет ноту Генеральным штатам[47]. Для вида Штаты принца пожурят, Но, как рука прожорливой утробе, Он нужен им, чтоб красть чужих курят…Рембрандт
А будь по мне, так я отсек бы обе! Пускай отсохнет черная рука, Что нищего на перекрестке грабит!Мортейра
Когда-нибудь отсохнет. А пока…Рембрандт
Смотрю на вас — и удивляюсь, рабби! Ваш ум, как шпага, светел и остер! Восстаньте против волчьего закона!..Мортейра
В моих глазах еще горит костер На площади высокой Лиссабона. Я стар. Я робок. Чтоб друзьям помочь, Нужна отвага, может быть — жестокость. А у меня, признаюсь, в эту ночь, Как кастаньеты, кость стучала о кость. Пусть каждый поднимает что горазд: Я в почву добрую посеял грезы, И я надеюсь: мы еще не раз Услышим имя Баруха Спинозы.Рембрандт
Что ж! Мудрый филин — проводник зари. Придет пора, и мы в набат ударим: Матросы, пивовары, пушкари, Ремесленники…4
Хендрике вносит поднос с завтраком. Замечает подслушивающего доктора Тюльпа и, как будто нечаянно, толкает его подносом. Яичница и пиво падают на Тюльпа.
Хендрике
Извините, барин! (Убегает.)Рембрандт
(в гневе подходит к доктору Тюльпу) Вы слушали?! Ах да: ведь он ваш зять — Наш бургомистр!..Доктор Тюльп
(вытирая платком камзол) Не для того, поверьте. Я к вам пришел. Я должен вам сказать, Что Саския стоит у двери смерти.Пораженный, Рембрандт отступает.
Рембрандт
Как, сударь?Доктор Тюльп
(зло) Вы замучили ее, И, как свеча, она от горя тухнет. Здесь ни к чему всё знание мое, Все специи моей латинской кухниВходит Людвиг.
Рембрандт
Я поражен… Что делать мне, друзья?..Доктор Тюльп
Ее леченья дам подробный план я: Не волновать. Позировать нельзя. Беречь ее.Людвиг
(в тон доктору Тюльпу) Все исполнять желанья.Доктор Тюльп
Профессоров консилиум сейчас Созвать к больной.Рембрандт
(в отчаянии) Здесь денег нужно море! А где их сразу взять?Пушкарь
(к Мортейре) Тут не до нас. Пойдем, старик. У человека — горе.Никем не замеченные уходят.
Рембрандт
(смотрит на модель фрегата) Модель продать?Людвиг
Нет, слишком хороша!Рембрандт подходит к картине Ван-Дейка.
Рембрандт
Спустить Ван-Дейка?Людвиг
Жалко: это память.Рембрандт
(берет в руки бюст Гомера) Бюст заложить!Людвиг
Не стоит ни гроша Твой бюст — дешевка, говоря меж нами!Рембрандт
Ты — мой карман!Людвиг
Благодарю за честь.Рембрандт
Флоринов, Людвиг! Денег, Людвиг, денег! Спаси меня! Есть деньги?Людвиг
(вынимает из кармана мелкую монету) Деньги есть: Один серебряный немецкий пфенниг. Берешь?Рембрандт
Ты издеваешься, дурак!Людвиг
Я не держу наследства под периной.Рембрандт
Займи мне, друг!Людвиг
Ты задолжал и так Двенадцать тысяч золотых флоринов.Рембрандт
Еще займи!Людвиг
Нет денег.Рембрандт
Задуши, Зарежь, но дай! Ведь не о бабьих фижмах, О жизни речь!Людвиг
(вынимает из кармана расписку) Расписку подпиши.Рембрандт, не глядя, подписывает.
Ну, понатужусь. Может, что и выжму.Людвиг с доктором Тюльпом уходят. Рембрандт садится и глубоко задумывается.
5
Входит Саския в домашнем платье и чепце. Очень бледна, слаба. Идет, держась за стены.
Саския
Я вижу, милый, ты неисправим: Кто был тут?Рембрандт
Тюльп и Людвиг.Саския
А вначале?Рембрандт
Один — артиллерист, другой — раввин.Саския
Ты всё с подонками. Как вы кричали! А я и не вздремнула в эту ночь Под адский грохот пушек Нисверслуйса.Рембрандт
(усаживает ее в кресло) Любимая, позволь тебе помочь. Ты нездорова Лучше не волнуйся.Саския
Мне непонятно: что тебя влечет К ночлежке, к рынку, к улице, к таверне? Людей из общества — наперечет В твоем кругу: всё больше грязной черни.Рембрандт
Натуру в них ищу я, может быть, А может — совесть. Я тебя обидел? Я, например, не в силах позабыть Ту карлицу, что в желтом доме видел. Стояла тьма. Лишь печь была светла. В ней уголья пощелкивали сухо. Открылась дверь, и в горницу вошла Полуребенок и полустаруха. На поясе ее висел петух, Халат оранжевый иль одеяло Влеклось за ней Казалось, мир потух, — Так в отблеске огня оно сияло! Я в первый холст решил ее вписать… Тебе удобно?Саския
Да и нет. Не знаю.Рембрандт
Укрой колени. Посвободней сядь. Тебе понравилась моя «Даная»?[48]Саския
Ты не польстил мне там. Я б как-нибудь Иначе быть написана хотела: В «Данае» у меня пустая грудь, Зеленое расплывшееся тело.Рембрандт
Ты и такой мила мне, жизнь моя,— С морщинками гусиных этих лапок. Ужели ты хотела б, чтобы я Намалевал тебя средь модных тряпок? Когда б я так исполнил твой заказ, То оскорбил бы страсть и вдохновенье… (Вглядывается в Саскию) Я уголки не дописал у глаз! Подвинься к свету на одно мгновенье. (Снимает с мольберта закрывающее его полотно, садится, берет кисть, начинает писать.) Тут надо глубже тень. Тут ярче свет. Здесь глуше тон, а здесь чуть-чуть цветистей… Ты дремлешь?Саския
Да.Рембрандт
Ты не устала?Саския
Нет.Рембрандт вытирает кисть о скатерть.
Опять о скатерть вытираешь кисти? Я целый год другой тебе не дам!Рембрандт
Прости, родная; скверная привычка.Саския
Как скучен этот грязный Амстердам, Колоколов глухая перекличка, Да мутные каналы, да туман, Да черепица крыш, да кафель белый… Счастливица Елена Фоурман[49] Там, при дворе принцессы Изабеллы, — Галантная любовь, театр, пиры, Дворянские короны на жилищах…Рембрандт
А знаешь ты, что две мои сестры Попали в лейденский «Синодик нищих»?[50]Саския
Ах, бедные… Вот если б Амстердам Сегодня ночью занял принц Оранский!Рембрандт
(удивленно) А что б тогда?Саския
Он перенес бы к нам Жантильный дух учтивости испанской.Рембрандт
Ты вот о чем!Саския
(мечтательно) Изысканных господ Какой цветник пестрел бы в свите принца!.. Ты что ворчишь?Рембрандт
Избави нас господь, — Я говорю, — от этого зверинца.Саския
(не слушая его) Наверное, у дам и у мужчин Жабо теперь обшито шелком черным… Тебе Вильгельм пожаловал бы чин, Назначил бы художником придворным, Ты б написал его парадный въезд: Чернь рукоплещет!..Рембрандт
(насмешливо) Или громко свищет. Нет, я от принца ни чинов, ни мест Не принял бы: я живописец нищих.Саския
Фи, не груби. Тогда твоя жена, Как Фоурман, блистать бы стала всюду.Рембрандт
Я, правда, позабыл, что ты больна.Саския
Ты так нечуток!Рембрандт
Продолжай, не буду.Саския
Я думаю: какой продавший честь Клейменый каторжник, забывший совесть, Сторожевым о принце мог донесть?Рембрандт
А вдруг бы я сказал им эту новость?Саския
Тебе, понятно, это всё равно, Но я считала бы, что ты — предатель!Рембрандт встает, отбрасывает кисть, подходит к окну.
Рембрандт
А если бы я распахнул окно И крикнул всем: суконщикам, солдатам, Часовщикам, ткачам и пастухам, Страну свою построившим на сваях, Что хочет растоптать венчанный хам Всё то святое, чем душа жива их?Саския
Он, как сапожник, на меня орет! Ты, видно, пьян?Рембрандт
Я с грубостями свыкся! Как думаешь: кого бы весь народ Назвал предателем — меня иль Сикса? Кого б тогда браслетами оков Украсил он и закидал навозом?Саския
Мне безразлично мненье мужиков: Я — бюргерша!Рембрандт
А я — потомок гезов! Я б сплел для бар, — возьми их всех чума, — Пеньковый галстук, добрую петлю, бишь!Саския
(плача) Ты груб, ты варвар, ты сошел с ума, — Ты бессердечен, ты меня не любишь!6
Входит пастор.
Пастор
Воззри, господь, на этот мирный дом. В нем обитающие да спасутся!Рембрандт
Кто вы такой и что вам нужно в нем?Пастор
Смиренный раб из «Общества Иисуса».Рембрандт
Хочу я лучше знать своих гостей И в них стараюсь пристальней вглядеться: Из общества Иисуса на кресте Или из общества Христа-младенца?Пастор
(удивленно) Не всё ль равно?Рембрандт
Я разницу готов Вам объяснить и справкой быть полезен: Иисус родился в обществе скотов, А умер в обществе головорезов.Пастор
Кощунствуешь, мой сын!Саския
Святой отец! На неразумного свой гнев умерьте! (К Рембрандту) Я умираю! Близок мой конец, И он меня приготовляет к смерти.Рембрандт
(волнуясь) Молчи о смерти! Ведь за каждый миг Твоих страданий я бы трижды умер! (К пастору) Подите вон отсюда, злой старик!Пастор
Прости тебя создатель! Ты безумен. (Уходит.)7
Рембрандт подходит к Саскии.
Рембрандт
Звезда моя! Любовь моя! Прости! Я снова позабыл, что ты больная. Отныне сердце я сожму в горсти И буду кроток!Саския
Я тебя не знаю! Ты пастора прогнал.Рембрандт
Слащавый пес!Саския
Не богохульствуй! Без того мне жутко! Ты об Оранском пушкарям донес!Рембрандт
Не доносил! Клянусь, что это — шутка!Саския
Ты скуп! Ты отказался мне купить Кровать и зеркало! Теперь я знаю, Что всех твоих дурных поступков нить Приводит к Хендрике!Рембрандт
(обнимая ее) Куплю, родная! Мне кажется, я стал бы воровать, Чтоб подарить своей прекрасной даме И с бирюзовым пологом кровать И зеркало в красивой черной раме!Входит Людвиг.
Людвиг
Ну, вот и я. С деньгами худо, брат: Я их наскреб не много.Рембрандт
Буду краток: Я напишу тебе твоих солдат. Увидишь Кука, — пусть несет задаток.КАРТИНА ТРЕТЬЯ «НОЧНОЙ ДОЗОР»
1
Комната первой картины. Посредине на мольберте картина «Ночной дозор»[51]. Рембрандт кладет на нее последние мазки. Флинк смотрит.
Рембрандт
Еще коснусь кобальтом этих лент, Чтоб выглядели банты серебристей, — И всё.Флинк
Какой торжественный момент, Когда последние удары кисти По прихоти своей, как некий бог, Кладет на холст искуснейший художник!Рембрандт
Не лучше он, чем тот, когда сапог Несет на полку, сшив его, сапожник.Флинк
Груба, сдается вашему слуге, Такая параллель, скажу открыто.Рембрандт
Умей увидеть и на сапоге Божественный румянец колорита. Как ты нашел, скажи не лебезя, «Ночной дозор»?Флинк
Позвольте вас поздравить! Так нравится, что и сказать нельзя!Рембрандт
Ведь вот беда: придется, значит, править!Открывается дверь, и в комнату заглядывает продавец красок. Рембрандт обращается к нему.
А, старина! Ты что ж просунул нос, А не войдешь?Продавец красок
Простите ради бога! Я киноварь и зелень вам принес, Французской синей раздобыл немного.Рембрандт
О, и французской!Продавец красок
Вы довольны?Рембрандт
Да. (Берет палитру.) Сейчас мы ею на палитру брызнем. Попробуем ее. Тащи сюда Все краски юности, все краски жизни! (Указывает на картину.) Как по тебе: удачен этот холст?Продавец красок рассматривает картину.
Продавец красок
Тут следует немножко тронуть алой, А этот меч, пожалуй, слишком толст.Рембрандт
Толст, говоришь? Посмотрим. Да, пожалуй.Берет кисть, исправляет указанные недостатки. Флинк пожимает плечами и уходит. Входит Хендрике. Рембрандт тщательно завешивает картину. Обращается к Хендрике.
Я к Саскии схожу. Когда придут Рубаки эти, эти выпивохи, Ты, Хендрике, будь непременно тут.Продавец красок
А как дела супруги вашей?Рембрандт
Плохи!Уходит вместе с продавцом красок.
2
Хендрике вытирает мебель. Входит Баннинг Кук.
Баннинг Кук
Итак, сегодня свой «Ночной дозор» Рембрандт покажет нам. Он дома?Хендрике
Вышел.Баннинг Кук
(осматривая ее) Что за фигура! Что за чудный взор! Ты у него служаночка, я слышал?Хендрике
Стряпуха я.Баннинг Кук
Как этот ротик ал! Как эта ножка грациозна, боже! Подобных женщин я еще не знал, Хотя немало за границей пожил! (Хочет обнять Хендрике.) Ну, поцелуй меня, душа моя, Бутончик, пышка, розанчик!Хендрике
(увертываясь) Не троньте!Баннинг Кук
Ты, видно, недотрога. Ну, да я И не таких обламывал на фронте! (Вынимает монету.) Вот, видишь гульден, девушка? Позволь, — Его я спрячу за твоим корсажем. (Снова хочет обнять Хендрике, но та опять вырывается.)Хендрике
Подите прочь!Баннинг Кук
Да ты святая, что ль? И ущипнуть не позволяет даже! (Снова подходит к ней.) Ты спуталась с Рембрандтом, я слыхал? Он не дурак! Подобная фигура Сулит такое счастье!.. (Вновь пытается обнять Хендрике, та дает ему пощечину.)Хендрике
Вы нахал! Ступайте вон!Баннинг Кук
А, ты дерешься, дура?! Так я ж тебя!Хендрике
Уйдите, шарлатан, Не то я вам еще прибавлю малость!3
Входит Сикс, в изумлении останавливается. Хендрике убегает.
Сикс
Я вижу, вас колотят, капитан?Баннинг Кук
(смущенно) Любезный Сикс! Вам это показалось! (Оправляясь.) Затронь меня какой-нибудь нахал!.. Какие сны нелепые вам снятся! Я просто поскользнулся и упал, Служанка же мне помогла подняться. Я б из нее не за удар — за звук Котлету сделал, не жалея трости! (Гордо.) Еще никто, не будь я Баннинг Кук, Не бил меня, клянусь игрою в кости!Оба усаживаются в кресла.
Сикс
Что слышно?Баннинг Кук
Выучили назубок Приветствие Рембрандту офицеры!Сикс
Не рано ли? Блестящ, но неглубок Талант Рембрандта. Он не знает меры.Баннинг Кук
(подозрительно) Вы видели картину?Сикс
Да, видал. И мне за вас, признаться, стало стыдно.Баннинг Кук
(волнуясь) А что: скандал?Сикс
Не то чтобы скандал, Но уваженья к армии не видно. Посередине черного холста Весьма небрежно намалеван кто-то В нелепой позе, длинный, как глиста, С лицом, простите, полуидиота.Баннинг Кук
(испуганно) Не я ли, черт возьми?Сикс
Как будто вы. А впрочем, мне могло и показаться.Баннинг Кук
Жаль, я не слушал голоса молвы! Чего и ждать от этого мерзавца?Сикс
От вас налево изображена Уродливая шлюха или сводня, И кажется, что вот сейчас она Вас за ноги потащит в преисполню. На поясе ее висит петух…Баннинг Кук
Петух?!Сикс
Петух, — не больше и не меньше! В такую мог бы втрескаться пастух И то лишь тот, что год не видел женщин. Хотя б красавица, а то — урод! Вам всем она, ну, разве по колена!Баннинг Кук
Канальство! Что подумает народ? Что скажут девушки? Да тут измена!Сикс
А компоновка!Баннинг Кук
Я велел подряд Нас всех построить. Что же компоновка?Сикс
Не то чтоб, скажем, смотр или парад, А прямо свалка, прямо потасовка!Баннинг Кук встает и смотрит на часы.
Баннинг Кук
Теперь четыре только. До пяти Я сбегаю в казарму и обратно. Послушайте: сюда должны прийти Мои ослы с приветствием Рембрандту. Я умоляю вас не уходить, И если я не встречу их, — как друга, Прошу строжайше их предупредить, Что тут нужны не похвалы, а ругань. (Уходит.)Сикс
(вставая) Да, надобно их встретить как-нибудь И предварить, пока Рембрандта нету.4
Входит Рембрандт.
Рембрандт
Кровавый кашель разбивает грудь У Саскии.Сикс
(небрежно) Простуда, верно, это… Держите выше голову в беде! Врачам не верьте! Их слова — химеры! (Беспокойно выглядывает в окно, идет к двери.) Мне надо показаться кое-где, Я вмиг вернусь.Уходит в одну дверь. В это время в другую, маршируя, входят четырнадцать офицеров корпорации стрелков под командой лейтенанта.
Рембрандт
А вот и офицеры! Ну, значит, все, кто приглашен, сошлись. А где ж почтенный Кук, вояка жирный?Лейтенант
Ать-два! Ать-два! Равняйся! Становись! В шеренгу стройся! Офицеры, смирно!Стрелки выстраиваются в шеренгу перед завешенной картиной.
(Обращается к Рембрандту) Он должен был в казарму к нам зайти И привести стрелков на этот праздник, Но, видимо, в харчевню по пути Забрался горло промочить проказник И там застрял. Да это ничего! Я, как дежурный по полкам и ротам, Сам открываю наше торжество. Приветствие разучено по нотам! Извольте слушать, господин Рембрандт. (Поворачивается к стрелкам) Стрелки, вниманье! Деккер, не картавить! (Дирижирует.)Стрелки
(хором) Прекрасная! Картина! Лейтенант! Позвольте! Нам! Художника! Поздравить!Рембрандт
Но он еще завешен, ваш портрет, Вы восторгались, так сказать, заочно. Вы видели картину?Стрелки
Никак нет!Рембрандт
И вам она понравилась?Стрелки
Так точно!5
Рембрандт подходит к картине и открывает ее. Все толпятся вокруг. Вбегает Баннинг Кук.
Баннинг Кук
(к лейтенанту) А я бежал за вами по пятам! Вас Сикс предупредил хоть на словах-то?Лейтенант
Действительно, картина, капитан, Божественна!Баннинг Кук
Семь суток гауптвахты!Лейтенант
Но вы велели нам хвалить ее И живописца что есть мочи славить За этот холст…Баннинг Кук
На сутки под ружье! Стрелки, молчать! Приветствие отставить!Рембрандт
Что это с вами приключилось, кум? Чего вы вдруг взъерошили щетину?Баннинг Кук
Прошу полегче, господин пачкун! Вы написали мерзкую картину!Рембрандт
Да ну?Баннинг Кук
Чтоб так изобразить меня, Как тут я вышел, надо быть невежей!Рембрандт
Тут непохож всего один синяк, Да ведь и он у вас как будто свежий.Первый стрелок
Здесь у Клааса — сено в бороде!Второй стрелок
А Ян — кривой!Рембрандт
Вам на нос села муха!Входят Флинк и Фабрициус.
Баннинг Кук
Где пышность тут? Я спрашиваю, где Субординация? А потаскуха, Что семенит, кривляясь, между ног Растерянных уродов в этой куче? Ужели б честный офицер не мог Себе найти красавицу получше? А колорит? Да это же конфуз!Флинк
Да, колоритец черноват, учитель.Рембрандт
В картине есть и несомненный плюс.Баннинг Кук
Какой?Рембрандт
А тот, что вы на ней молчите.Лейтенант
Нет, я тут, честно говоря, не франт! Мои манжеты словно из муслина, А не из шелка.Баннинг Кук
Браво, лейтенант! Хоть под конец ты вспомнил дисциплину! (К Рембрандту) Картина ваша, сударь, клевета На армию, чей стяг в боях прославлен. Я думаю, что это неспроста, И я вопрос, где надобно, поставлю! Пускай рассмотрят ваш «Ночной дозор» И сделают необходимый вывод. (К стрелкам) Позор ему, стрелки!Стрелки
(хором) Позор! Позор!Рембрандт
(к Баннингу Куку, указывая на стрелков) Пусть эти безнадежны, ну, а вы вот Скажите: что от прямоты войны У вас осталось? Проданные шпаги? Широкие атласные штаны? Воротники из золотой бумаги?Входит Сикс и вслушивается в речь Рембрандта.
Нет, Баннинг Кук! Кому-кому, а вам Корить меня предательством негоже! Хотите знать, какими я бы сам Вас написал, чтоб были вы похожи? Оранскому несущими ключи От города…Баннинг Кук
Ни слова!Рембрандт
На коленях Перед его высочеством…Баннинг Кук
Молчи!Рембрандт
Берущими от принца бочку денег! Прохвостами без чести и стыда, Торгующими родиной украдкой…Выступает Сикс.
Сикс
Вы расшумелись. Тише, господа. Как бургомистр, я требую порядка.Рембрандт отходит от стрелков и подходит к Сиксу.
Рембрандт
В штыки встречает бедный мой талант Толпа вояк, до этого немая. Что с ними?Сикс
Право, господин Рембрандт, Я их решительно не понимаю.6
Входит Людвиг.
Людвиг
Я, видно, опоздал на торжество?Баннинг Кук
(яростно) Пускай пираты вздернут вас на стеньгу, Мошенник вы, за это сватовство! Давайте нам обратно наши деньги!Людвиг
(испуганно) Но что случилось, именем Христа?Баннинг Кук
То, жулик вы от головы до пяток, Что этого бездарного холста Мы не возьмем! Верните нам задаток!Людвиг
Холст неудачен? Ну и чудаки! Сейчас и взбеленились! Так и пышут! Любезный Кук! Да это пустяки! Рембрандт его вторично перепишет. (К Рембрандту) Неправда ли?Рембрандт
Нет, не перепишу. Как пес хвостом, я кистью не виляю.Людвиг
Ну, не дури! Ведь я тебя прошу!Рембрандт
И не проси.Людвиг
Рембрандт, я умоляю! Ну, согласись! Не будь упрямцем, брат! Сам посуди не выложить на стол же Флорины им? Одумайся, Рембрандт! Не будем ссориться. Ведь ты мне должен.Рембрандт
Торгуй сельдями, в бочке их соля; Не продаются кисть, перо и лира.Людвиг
(кричит) Тогда я взыскиваю векселя И без штанов пущу тебя по миру!Рембрандт
Я знал, что это у тебя в уме, И ожидал уловки самой низкой.Людвиг
Ты насидишься в долговой тюрьме! (Вынимает из кармана расписку Рембрандта.) Не забывайся! Вот твоя расписка!К нему подходит Сикс, берет его под руку, отводит в сторону.
Сикс
(тихо) Остепенитесь. Кто же так орет? «Штаны»… «Тюрьма»… Что за язык суконный? Тут надо делу дать законный ход. Вы понимаете меня? За-кон-ный. Вместе уходят.7
К Рембрандту подходит Флинк.
Флинк
Учитель мой, я был у Тюльпа. Он Рекомендует мне начать леченье.Рембрандт
Ты что, объелся?Флинк
Нет, но принужден У вас на время прекратить ученье.Рембрандт
Куда ты гнешь, я что-то не пойму?Флинк
(бормочет) Деньжонок мало… слабое здоровье… Письмо от папеньки… У вас в дому И я, представьте, начал кашлять кровью… Увы, я вынужден покинуть вас… Не прогневитесь, умоляю слезно…Рембрандт
Ах, ты бежишь? Ну, что же: в добрый час! Беги сынок, беги, пока не поздно! Мы — разные…Флинк уходит.
Рембрандт
(к Фабрициусу) А ты-то что молчишь? Ведь и тебя, наверно, ужас гонит? Спасайся вплавь, как судовая мышь Спасается, когда фрегат затонет. Ты тоже болен? Говори же! Ну?Фабрициус
Я не уйду, хозяин. Я без лести. Как ракушка, приставшая ко дну, Я затону с моим фрегатом вместе.С криком вбегает Хендрике.
Рембрандт
(к ней) А ты зачем врываешься, крича? И без того собранье наше бурно. Чего тебе?Хендрике
(кричит) Врача сюда, врача! Скорей врача! Хозяйке очень дурно!Рембрандт убегает из комнаты.
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ ЗЕМЛЯ УЦ[52]
1
Мастерская Рембрандта. Хендрике стирает белье. Входит пастор.
Хендрике
Благословите, пастор!Пастор
(благословляя) Я, сестра, Пришел потолковать с тобой и с мужем.Хендрике
С хозяином? А он еще с утра Ушел из дому.Пастор
Жалко. Он мне нужен.Хендрике
Я всё, что вы велите, передам Рембрандту, пастор. Я его служанка.Пастор
Не лги, дитя. Ведь целый Амстердам Твердит, что ты — Рембрандта содержанка.Хендрике
На нас клевещут злые языки. Нас оболгали недруги во многом.Пастор
Грешно, сестра моя, втирать очки Посреднику между собой и богом.Хендрике
Спаси меня господь от этой лжи!Пастор
Ты посещаешь храм господень?Хендрике
Часто.Пастор
Ты веришь в бога?Хендрике
Верю.Пастор
Так скажи; С ван Рейном ты сожительствуешь?Хендрике
Пастор!..Пастор
Дитя, не отпирайся наконец. Сознайся лучше, что сошлась с Рембрандтом.Хендрике
(потупясь) Он одинок. Он год уже вдовец.Пастор
А ты — девица?Хендрике
Я — вдова сержанта.Пастор
До слуха моего дошло, что вы Погрязли оба в гибельном разврате.Хендрике
(волнуясь) Не верьте, пастор, голосу молвы: Я помогла вдовцу в его утрате!Пастор
Допустим, дочь моя, что это так. Мужчина овдовел, а ты и рада! Но церковью не освященный брак Всё ж есть разврат, ведущий в лоно ада.Хендрике
Да грех ли — помощь?Пастор
Я тебя прерву. Скажи во имя вечного спасенья: Ты с ним живешь как с мужем?Хендрике
Да… живу…Пастор
Тогда прийди в общину в воскресенье.Хендрике
Зачем?Пастор
(грозно) Молись, распутница, творцу! За любострастие с чужим мужчиной Тебя зовет, как блудную овцу, На строгий суд церковная община!Хендрике
(плача) Уж если беды, так со всех сторон! За горем горе! Господи, за что же?Пастор
А чтоб сильней почувствовал и он Удар карающей десницы божьей,— Ты передашь ему мое письмо. (Дает Хендрике письмо.) И для него в общину вызов это.Хендрике
(плача) Недаром он вчера разбил трюмо. Я говорила: скверная примета!Пастор уходит.
2
Входит Рембрандт.
Рембрандт
Ты плачешь, Стоффельс?Хендрике
(вытирая слезы) Что вы, сударь! Нет.Рембрандт
Я вижу: плачешь!Хендрике
Может быть… Немножко…Рембрандт
О чем же ты?Хендрике
Глаза мне режет свет, Что с набережной падает в окошко… Да это вздор! Хотите, барин, есть? (Вынимает из печи кушанья.) Вот колбаса с подливкою капустной, Здесь пирожки, тут суп со спаржей есть.Рембрандт
Нет… Мне сегодня почему-то грустно. Ты помнишь, как хозяйка умерла И как в гробу лежала в платье бальном, Как амстердамские колокола Над поездом звонили погребальным, И как она любила этот дом С уютным садом, с тихим бельэтажем, Как в катафалке, под уздцы ведом, Шел черный конь, украшенный плюмажем, Как нищие за белым гробом шли, А в нем желтел ее невинный профиль, И как на Зюдерзее[53] корабли Прощались с ней… Ты снова плачешь, Стоффельс?Хендрике
Нет, сударь, нет!Рембрандт
А всё же я сильней, Чем даже смерть!Хендрике
Вы фантазер, мой барин.Рембрандт
Моя палитра властвует над ней! Ей не свалить меня одним ударом! Я Саскию нанес на полотно, И пусть, сбирая урожай обильный, Смерть скосит десять поколений, но Она зубами лязгает бессильно. Не раз минует чистый образ тот, То полотно, что, как письмо в конверте, К потомкам отдаленнейшим дойдет И тронет их. Да, я сильнее смерти!Хендрике
Грешно так думать.Рембрандт
(берет со стола раковину и подносит к уху Хендрике) Вслушайся на миг, Как в этой раковине гул прибоя Еще гремит, хотя прибой утих!.. Опять ты плачешь, Стоффельс? Что с тобою?Хендрике
Ах, у меня на сердце тяжело!Рембрандт
Всё от «дурной приметы»? Ты всё та же!Хендрике
Вас полюбив, я причинила зло Покойнице, и бог меня накажет.Рембрандт
За что? Ты скрасила мое вдовство, Подруги лучше не могу желать я. Ты, чтоб не трогать скарба моего, Шла продавать свои чепцы и платья, Оберегала мой покой и честь И Титусу за мать бывала часто. Я всем тебе обязан…Хендрике
Барин, здесь Письмо для вас принес недавно пастор И строго-настрого велел мне, чтоб В приход явилась я на суд общины. (Передает ему письмо.) Вот вам письмо.Рембрандт
Ах, снова этот поп! Так вот в чем горьких слез твоих причина! Сейчас посмотрим, что он пишет тут. (Читает.) «Написано в четверг седмицы чистой. Художника Рембрандта прибыть в суд Зовет община братьев-кальвинистов. Зане, не будучи супругом ей, Художник этот, с дьяволом условясь, Живет в бесстыдном блуде со своей Служанкой Хендрике, прозваньем Стоффельс, И, вопреки заветам древних книг, В своей гордыне демонской возвысясь, Писать дерзает образы святых С евреев нищих оный живописец. В его картинах благочестья нет, Понеже нет благообразья в типе Натурщиков. Пример тому — портрет Иосифа, бегущего в Египет. Он, осквернив святое ремесло, Ответить должен». Подпись иерея, Печать общины, месяц и число… Они и были нищие евреи! Кто б в этих плотниках да рыбаках Узнал изнеженных святых Фьезоле?[54] Они ходили в грубых башмаках, И на руках у них цвели мозоли. Пускай понять Италию я мог, Но подражать ей не учился сроду: Что скажет щуплый итальянский бог Веселому фламандскому народу?.. Я не подсуден этому суду И не явлюсь. Да и тебе не надо Ходить туда.Хендрике
Нет, сударь, я пойду.Рембрандт
Зачем?Хендрике
Меня пугают муки ада.Рембрандт садится рядом с Хендрике и обнимает ее.
Рембрандт
Ну полно, успокойся, не дрожи! Пускай враги идут сюда гурьбою! Что могут все святоши и ханжи, Все лицемеры сделать нам с тобою?Хендрике
О барин, очень многое!Рембрандт
А я Лишь посмеюсь над их вознею жалкой! (Вынимает из шкафа богатые женские одежды.) Ты хочешь быть принцессой, жизнь моя?Хендрике
Я не принцесса, сударь. Я — служанка.Рембрандт
(подавая ей одежды) Вот кашемировые ткани. Тут С брильянтом диадема. Здесь кораллы. Надень-ка их. Кораллы подойдут К твоим губам, что так бессмертно алы! (Одевает ее.) Примерь накидку с бахромой густой. На пальчики, что чистили картофель, Я перстенек надену золотой. (Одев Хендрике, повертывает ее к свету) Ты не служанка, ты принцесса, Стоффельс. (Любуется ею.) Как ты нежна, смугла и горяча! Как царственно блистает взор твой синий!Хендрике
Я, барин, только дочка трубача!Рембрандт
Молчи! Я напишу тебя богиней! Так напишу, что будут влюблены В тебя цари и принцы!Хендрике
Что вы! Принцы!Рембрандт
Пускай они в порфирах рождены, Они не стоят твоего мизинца! Я и себя у твоего плеча Изображу…Хендрике
Я неровня вам, барин!Рембрандт
Сын мельника и дочка трубача, — Клянусь палитрой, — неплохая пара!.. Ну, не ходи в общину!Хендрике
Нет, пойду.Рембрандт
(смотрит в окно) Кто к нам идет? Я что-то плохо вижу.Хендрике
(испуганно) Ах, сударь, вы накликали беду! Наш бургомистр, посредник ваш бесстыжий, Толпа людей, какой-то молодец В судейской форме, в шапочке юриста, Пять стражников, подводы и писец, И впереди других — судебный пристав.3
Входят Сикс, Людвиг, судебный пристав, писец, стражники; горожане.
Судебный пристав
Кто тут Рембрандт ван Рейн, художник?Рембрандт
Я.Судебный пристав
В согласии с указом магистрата Вас выселить из вашего жилья Явились мы.Рембрандт
Нежданная утрата!Судебный пристав
Всю движимость, какая есть у вас, Мы распродать должны.Рембрандт
За что так жестко, Нельзя ль узнать?Судебный пристав
Об этом был указ Глашатаем прочтен на перекрестках. Извольте выслушать его и вы. (К писцу) Писец! Начните, если вы готовы.Писец
(читает) «На основании второй главы, А именно — параграфа шестого Законов наших, суд и магистрат Решили дело, в коем…»Рембрандт
Что за бредни!Писец
«…ответчиком является Рембрандт, А в иске просит Людвиг Дирк, посредник. Нотарьус доложил суть дела их: Дирк, будучи Рембрандту другом близким, Ссудил сто двадцать тысяч золотых Последнему (предъявлена расписка)».Рембрандт
Сто двадцать тысяч! Людвиг, ты в уме?!Писец
Вы мне читать мешаете!.. «Ответчик, Истцом предупрежденный о тюрьме, Сказал ему, что расплатиться нечем. Суд порешил: в уплату иска — дом Ответчика с усадьбой семь на десять, А также всё, что в нем или при нем, Отдать истцу, их тяжбу зрело взвесив». (Свертывает указ. К Рембрандту) Ну, вот и всё. Ты понял наконец? Так выметайся! Нечего коситься!Рембрандт
Позвольте, сударь. Если вы — писец, То, следовательно, супруга ваша — псица. Уж где тут помнить совесть или честь! Но суть не в этом… Я теряю разум!.. Где ж справедливость?.. Людвиг, это месть?.. Кто подписался под таким указом?Сикс
(к писцу) Вы не дочли указ. А я всегда Велю закон блюсти как можно строже.Писец
Тут дальше речь про этого жида, А про Рембрандта нет.Сикс
Извольте всё же Дочесть указ уж потому хотя, Что прозвучала тут о мести фраза. Пускай ответчик, подписи прочтя, Не заподозрит подлинность указа.Писец
Что ж, ваша милость, я могу прочесть. (Читает.) «До всех, кто верует, во имя бога, Об отлучении Спинозы весть Хоральная доводит синагога: Израиля врагами научен, Закон колеблет еретик Спиноза, А потому да будет вынут он Из тела иудейства, как заноза!»Рембрандт
Барух Спиноза! Ба! Натурщик мой!Писец
«Пусть голодом язвим и мучим страхом, Бездомен будет летом и зимой Вероотступник этот, этот ахер[55], И отлучен, и погружен во тьму, И, как евреи из страны Мицраим[56], Везде гоним. Проклятие ему Изрек раввин Манассе бен-Израиль. Пусть, на людей поднять не в силах глаз, В лесах скрывается, подобно зверю. В осведомленье граждан сей указ Составлен и подписан…»4
Рембрандт
Верю, верю! Поди не верь, коль даже бургомистр Любуется, как в цирке на балконе, Моей бедой.Сикс
Ваш вывод слишком быстр; Я охраняю вас от беззаконий.Рембрандт
От беззаконий? Что ж тогда закон? Ведь дело то, что сделал Людвиг, — низко!Сикс
Истец ваш действовал по форме: он Сбор оплатил и предъявил расписку.Рембрандт
Поддельную!Сикс
Что делать, мой Рембрандт! По чести, я помочь вам прямо жажду! Но я не бог. Я только бюрократ, Как правильно сказали вы однажды.Рембрандт
Теперь мне всё понятно: это месть За принца, за сторожевую башню!Сикс
Я к вам, — тому моя порукой честь, — Настроен с благосклонностью всегдашней. Припомните: я вас предупреждал, Я говорил, быть может даже резко, Что шутки ваши вызовут скандал.Рембрандт
Нет! Это вы подстроили в отместку!Сикс пожимает плечами и отходит.
5
Судебный пристав
(к стражникам) Тащите всё сюда, что в доме есть, Мы здесь же и устроим распродажу.Стражники расходятся по дому и начинают сносить в мастерскую вещи.
Первый стражник
Вот бирюзовый бархат, ваша честь.Второй стражник
Вот шляпа с белым кружевным плюмажем.Третий стражник
Вот золотая цепь, да как длинна!Рембрандт
Берите всё, что только взять возможно! Не бархат мне, а синь его нужна, Не золото, а блеск его тревожный.Входит Фабрициус. Стражники вносят кровать с голубым пологом и зеркало в черной раме.
Четвертый стражник
Вот зеркало и скатерть со стола.Пятый стражник
А вот кровать с альковом.Первый горожанин
Это дело! Я взял кровать.Рембрандт
Она на ней спала!Второй горожанин
Я — зеркало!Рембрандт
Она в него глядела!Первый стражник
Вот занавес.Второй стражник
Я ларчик вам принес.Взглянув на ларец, Рембрандт хватается за сердце.
Фабрициус
Что с вами?Рембрандт
Душно… В сердце боль тупая…Людвиг
А что в ларце?Второй стражник
Безделка: прядь волос.Рембрандт
(бросается к ларцу) Отдайте мне…Судебный пристав
Купите.Рембрандт
Покупаю. (Роется в карманах, находит всего одну монету.) Монета лишь…Фабрициус
(подавая ему еще одну) Возьмите и мою.Рембрандт
А что тебе останется на ужин?Людвиг
Позвольте! Я ларец не продаю. Он мой теперь! Он самому мне нужен!Отбирает ларец. Рембрандт идет за ним.
Рембрандт
Отдай мне ларчик! Я тебя прошу! Отдай во имя рая или ада! Отдай! Я новый вексель подпишу!Людвиг
Теперь мне векселей твоих не надо.Рембрандт безнадежно отходит в сторону. Входит Флинк. Во все время его разговора с Рембрандтом стражники вносят в мастерскую новые вещи.
6
Рембрандт
(мрачно) Ну, как дела, почтенный хиромант? Прошла у вас желудочная боль-то?Флинк
Не надо лучше, господин Рембрандт! Я в мастерской у метра Миревольта. Какой художник! Что за колорит! Куда там к шуту всяким… староверам! Под кистью метра полотно горит! Не мудрено: французская манера!Рембрандт
Да, уж в какой трактирчик ни залезь, Везде теперь поют французам оды. Я слышал — и французская болезнь Становится последним криком моды.Флинк
Флорины к метру льются в три ручья! Поверите ль? Рекой текут заказы! У Миревольта в студии и я Набил карман, признаться, до отказа. Мне у него на диво повезло, А ведь от вас ушел в одной сорочке! Я обнаглел и, всем чертям назло, Посватался к его смазливой дочке. И, видимо, придется вить гнездо Да звать учителя любезным тестем. Я к вам зашел гардины из Бордо Приторговать в презент моей невесте.Рембрандт
Что ж, обратитесь к Людвигу.Фабрициус
(подходит к Флинку) Осел! Проваливай отсюда, чтоб ты высох!Флинк убегает.
7
Вся обстановка дома Рембрандта и все его вещи снесены в мастерскую.
Третий стражник
Ну, вот и всё.Людвиг
Как всё? Еще не всё! Еще осталось много! (Роется в карманах.) Где мой список? Позвольте мне проверить! Как назло, В карман куда-то книжка завалилась… (Вынимает записную книжку и читает.) Тетрадь гравюр Гольбейна и Калло?Судебный пристав
(проверяя) Гравюры все на месте, ваша милость.Людвиг
Медали?Судебный пристав
Есть.Людвиг
Шлем великана?Судебный пристав
Есть.Людвиг
А тот камзол, где бок немножко в сале?Фабрициус
Ага! Так вот зачем вы, ваша честь, Покупки наши в книжечку списали!Людвиг
Молчи!Судебный пристав
(глядя на Рембрандта) Камзол ответчиком надет.Людвиг
Кораллы где? Накидка, что из пуха? Кольцо?Судебный пристав
Накидки и кораллов нет.Людвиг
(узнавая эти вещи на Хендрике, срывает их с нее) Ах, вот они! Разоблачайся, шлюха!Рембрандт
(схватывая ружье из наваленной на полу груды оружия) Прочь от нее, иль я возьму ружье! Ее подметки ты не стоишь даже.Людвиг
(перехватывая ружье) Здесь ничего нет твоего! Здесь всё мое! Попробуй взять: в тюрьму пойдешь за кражу! Ступай отсюда вон!Хендрике снимает с себя надетые на нее Рембрандтом одежды, берет котелок и свечу в подсвечнике, кладет их в мешок, завязывает веревкой.
Хендрике
Сейчас… сейчас… Мы только котелок, где пищу варим, Возьмем с собой, и если гонят нас, То мы уходим… Не сердитесь, барин…Людвиг
Ни щепки брать не позволяю я!Хендрике
Да это, сударь, свечечка… веревка…Людвиг
Моя веревка, и свеча моя, И мой мешок! Не смей их брать, воровка! Оставь подсвечник: он посеребрен! И этот котелок для варки пищи Поставь на место! Выметайся вон Отсюда, девка! Твой хозяин — нищий!Рембрандт
Пойдем, старуха.Людвиг
Да, ступай плясать И петь в харчевнях, грубая скотина!Рембрандт
(задумчиво) Теперь я Иова начну писать.Людвиг
(не расслышав) Что, что писать? Доносы?Рембрандт
Нет, картину. Я, Людвиг, ухожу. Но берегись: Я так тебя ославлю, что покуда Земля стоит и существует высь, Все будут говорить, что ты — Иуда, Разбойник подлый…Писец
Я вас перебью: Когда ответчик делом недоволен, В его правах претензию свою Здесь изложить — в судебном протоколе. (Протягивает Рембрандту протокол.)Рембрандт
Ну что ж, пиши. Мой почерк груб и куц, А ты и подлость выведешь красиво. (Диктует.) «Жил человек в земле восточной Уц, И было имя человеку — Иов».КАРТИНА ПЯТАЯ НА «КАНАЛЕ РОЗ»
1
Комната с убогой обстановкой в гостинице. На стене висит этюд «Туша вола». Постаревший Рембрандт сидит перед мольбертом с недоконченным автопортретом. На постели лежит красный тюльпан.
Рембрандт
Подходит ночь, а Хендрике всё нет. Как в этой комнате темнеет быстро!.. Почти окончен мой автопортрет Уж я не ждал, что вдохновенья искра Блеснет во тьме, что творчество придет Согреть меня в беде и в униженье… (Протирает глаза) Недолго поработал я — и вот Уже глазницы разъедает жженье Да, надобно спешить. В конце концов Мне пятьдесят. Не маленькая мера. Глаза мои повязкою слепцов Завяжет скоро, как глаза Гомера, Чертовка старость, заслонив простор, Седую рябь каналов и бассейнов…В дверь стучат.
Войдите, если вы не кредитор.Входит принц.
Принц
Я в мастерской великого ван Рейна?Рембрандт
(удивленно) Да, сударь мой, вы у него.Принц
Ага! Он тут, кудесник из волшебной сказки!.. Скажи, мой друг: ты у него слуга?Рембрандт
Да. Мою кисти, растираю краски.Принц
Так доложи ему: издалека Приехавший наследный принц Тосканы Приема ждет.Рембрандт
Не выйдет он, пока Не завершит последними мазками Картины новой.Принц
Что ж, я подожду. (Садится на стул.) Смешны названья улиц в Амстердаме! Я на «Канале роз»[57], мечтал, найду Дворец Рембрандта с пышными садами! Ведь говорят, что он богач и франт, А здесь всего кривых домишек груда. Как он попал сюда?Рембрандт
Чудит Рембрандт, И бедность — новая его причуда. Его роскошный дом на Бреедстрат Спит, окруженный парком заповедным, А он живет в лачуге.Принц
Как я рад, Что он всего лишь притворился бедным! В талантливых людей из нищеты Не очень склонен верить я, признаться. Я убежден, что если гений ты, То ты добьешься славы и богатства.Рембрандт
Ну, это как сказать!Принц
Постой, постой! Лакею с принцем спорить не пристало. (Дает Рембрандту золотой.) Возьми-ка лучше этот золотой И постарайся, неучтивый малый, Чтоб твой патрон был не такой педант: Ведь знатность чтить обязан даже гений. Мне скучно ждать!Рембрандт
Принц! Это я — Рембрандт!Принц
(пораженный, встает) Сеньор профессор! Сотня извинений! Я потрясен! Нет, я безумно рад! Но извините… право, мне неловко: Что значит этот странный маскарад? (Указывает на обстановку комнаты.)Рембрандт
А то, что я вживаюсь в обстановку, Чтоб Иова писать. Мои друзья Для антуража сняли эту келью.Принц
Четвертый месяц по Европе я С образовательной слоняюсь целью. В столицах мира осмотрев не раз Дворцы, притоны, церкви и лицеи, Я наконец, чтобы увидеть вас, Явился в Северную Веницею[58]. «Учись! — велел мне строгий мой отец. — Диковинки, — сказал он, — огляди ты». Я в Льеже видел синий огурец, В Марселе — шимпанзе гермафродита, Я в Риме туфлю папы целовал, А в Лондоне обедал в клубе лысых…Рембрандт
(садится за мольберт и начинает что-то подрисовывать в автопортрете) А я-то в качестве кого попал, Меж огурцов и туфлей, в этот список?Принц
Сеньор профессор! Ваш талант высок, Как горная вершина Santa Cristi[59]. Я умоляю: хоть один мазок Божественной, бессмертной вашей кисти! Я вывез из Московии кота, А из Парижа — серию открыток Для холостых…Рембрандт
(про себя) Я знал, что неспроста Явился этот вертопрах. Он прыток И нагловат. А я сегодня зол! Так подожди ж! (Берет кисть и вытирает ее о камзол принца.)Принц
(в ужасе) Маэстро! Вы в уме ли? Зачем вы пачкаете мой камзол?Рембрандт
Дарю мазок, что вы иметь хотели.Принц
Я о своем портрете вас прошу, А вы буквально поняли!..Рембрандт
Дружище! Мне очень жаль: я принцев не пишу.Принц
Но почему?Рембрандт
Я живописец нищих.
Принц
Вы шутите!Рембрандт
Нисколько. Вы из лож Видали королевских фавориток, Вы видели, как море высек дож, Как кровь Христа у капуцинов бритых Кипит, в бутылку ими налита. А нищету вы видели?Принц
Ни разу.Рембрандт
(показывая вокруг) Так посмотрите: это — нищета.Принц
Я убежден, что шутка — ваша фраза.2
Входит кредитор.
Кредитор
Вы мне должок вернете, господин?Рембрандт
Немного позже. Денег нет, папаша.Кредитор
У вас, Рембрандт, всегда ответ один! Я больше ждать не в силах, воля ваша.Рембрандт
А вот, отец, поправятся дела — И потекут червонцы, как водица.Кредитор
(про себя) Возьму в счет долга хоть «Этюд вола». На вывеску, пожалуй, пригодится.Снимает этюд со стены и уходит. Вслед за кредитором к двери идет принц.
Рембрандт
Куда же вы, мой просвещенный друг? Ведь вас отправил ваш папаша строгий Учиться жить?Принц
(сухо) Пардон, мне недосуг.Рембрандт
(открывая перед ним дверь) Вам недосуг? Так скатертью дорога!Принц уходит.
3
Входит Хендрике со свечой в руках.
Рембрандт
Однако же долгонько за свечой Ходила ты в плавучую лавчонку!Хендрике
Простите, сударь, грех невольный мой.Рембрандт
Какой тут грех! Ты, Стоффельс, не девчонка. Мы выросли из тех прекрасных лет, Когда ходить за юбкой нас учили… (Обнимает ее.) Опять была на покаянье?Хендрике
(уклоняется от его объятий) Нет.Рембрандт
Ты нынче что-то немногоречива И нелюдима сделалась с тех пор, Как этот поп лишил тебя причастья.Хендрике
Вас тяготит ужасный мой позор, И я вам приношу одно несчастье, Я это знаю и уйду от вас.Рембрандт
Не покидай меня в моей пустыне! Нет Саскии, и Титус мой угас…Хендрике
Зато господь вас, барин, не покинет.Рембрандт
На что мне он! Когда б не ты со мной, Я умер бы, больной, гонимый, нищий. А ты, открыв торговлю стариной, Взяла меня, дала мне кров и пищу, И труд, и жизнь…Хендрике
Нет, сударь, я уйду.Рембрандт
Опять всё то же! Но сознайся: чем я Не мил тебе?Хендрике
Я приношу беду. На мне лежит проклятье отлученья.Рембрандт
Заладила! Послушай: я не врал Тебе ни разу, а живем мы — годы. Так вот, клянусь: чем больше я терял, Тем больше я имел.Хендрике
Чего?Рембрандт
Свободы! (Снова обнимает Хендрике.) Не уходи! Я буду одинок! Так одинок, как труп на шумной тризне!Хендрике
(торжественно) Примите же страдальческий венок, — Сей тяжкий ключ блаженства вечной жизни.Рембрандт
Ах, как тебя сломили эти псы! Не нервничай. Забудь про всё, что было. Погладь мои солдатские усы, Как ты когда-то гладить их любила. Прижмись покрепче к моему плечу. Долой врагов с их клеветою мутной! Сейчас, родная, я зажгу свечу. (Зажигает.) Смотри, голубка, как у нас уютно.Хендрике
Какой уют? Всего лишь — нищета!Рембрандт
В иных дворцах мне было боле сиро. (Целует Хендрике.) Ведь очертанья маленького рта Волнуют слаще всех сокровищ мира!Хендрике
(вырываясь) Не надо, барин! Ради всех святых! Мне запретили это!Рембрандт
Ах, иуды! Дитя мое, как ты боишься их!.. Ну, ладно. Успокойся. Я не буду. (Отходит от Хендрике.) Да, кстати, Стоффельс: наши чудаки В гостиных вводят на тюльпаны моду. Тюльпанами забили парники, Тюльпанами забили огороды. Я тоже для тебя купил один, Хоть мне сдается, — роза благородней. (Берет с постели тюльпан и подносит Хендрике.) Смотри, какой нарядный господин! Совсем как принц, что приходил сегодня. Как лепестки он пышно распростер И весь дрожит, как розовое знамя. (Любуется тюльпаном.) Он на костер походит…Хендрике
(в ужасе) На костер?!Рембрандт
Ну да: на пламя… Что с тобой?Хендрике
На пламя?! (Бросается к двери.)Рембрандт
(удерживая ее) Куда же ты!.. Любовь моя!.. Сестра!.. Мы выбросим его… Другим подарим…Хендрике
(вырываясь) Простите, сударь!.. Я боюсь костра!.. Я ухожу от вас!.. Прощайте, барин! (Убегает.)4
Рембрандт, обессиленный, садится. Входит продавец красок.
Продавец красок
Я к вам не вовремя?Рембрандт
Нет, нет… садись… Я рад потолковать с единоверцем… (Растирает рукою грудь.)Продавец красок
Как вы бледны! Вы вовсе извелись!Рембрандт
Так. Пустяки. Немножко болен. Сердце.Продавец красок
(подает ему пакет) Вот, сударь, краски вам.Рембрандт
Я гол и бос, Чем мне платить?Продавец красок
Оставьте, ради бога! Я сепию и сажу вам принес, Да жженой кости раздобыл немного…Рембрандт
Ага, — и жженой!Продавец красок
Вы довольны?Рембрандт
Да.Продавец красок
А светлых нет, хоть у других проверьте.Рембрандт
Их мне не надобно. Тащи сюда Все краски старости, все краски смерти.КАРТИНА ШЕСТАЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА
1
Комната Рембрандта в гостинице. Вечер. На стенах портреты Саскии, Хендрике, Титуса. Входит Флинк, осматривается.
Флинк
Вот это мастерская! Прямо смех! Лохмотья, ветошь, грязные стаканы… А всё ж Рембрандту, одному из всех, Нанес визит наследный принц Тосканы. Не пожалею про заклад руки, Что это — признак близкого успеха, И, значит, вновь к нему в ученики Втереться надо мне, других объехав, Да что-то долго нету старика! Придется мне, пожалуй, через сутки Наведаться вторично, а пока Неплохо бы сыграть такую шутку. (Берет кисть и рисует на полу монету.) Вот нарисую золотой флорин Здесь на полу и дам скорее тягу. Воображаю, как, подвох открыв, Рассердится подслеповатый скряга!2
За дверью слышны шаги. Флинк прячется под кровать. Входит Рембрандт.
Рембрандт
Весь город обошел, а что за толк? Лишь так устал, что сердце бьет, как молот. Никто, Рембрандт, тебе не верит в долг, Четвертый день твой собеседник — голод. Как быть тебе? (Замечает нарисованную на полу монету.) Однако же постой! Я, видно, брежу: не флорин ли это? Мне повезло! На этот золотой Я холст куплю для нового портрета. (Хочет поднять монету и видит, что она нарисована.) Так это шутка? Кто ж ко мне проник И разыграл такую злую шутку? Ах, если б знал безжалостный шутник, Как мне сегодня тягостно и жутко! Я одинок и болен, слаб и сир, Глаза не видят, сердце жить устало. (Подходит к окну, смотрит на город.) Спят небеса. Спит равнодушный мир, Спит Амстердам на ста своих каналах. Мой Амстердам! Мне без него и дня Прожить невмочь! Тут на любом канале Мне каждый мостик близок! Тут меня Любили, ненавидели и гнали. Плывущих лодок дремлют огоньки, Часы на башне полночь бьют в дремоте, Спят бюргеры, надвинув колпаки, Спят нищие, закутавшись в лохмотья. Ночных мышей скребущий, робкий звук Один тревожит тишь убогой кельи. Спит хитрый Сикс и громогласный Кук, И демоны стоят над их постелью. Я одинок: спит Саския в гробу, Спит рядом с нею Титус на кладбище, И, ожидая ангела трубу, Спит Хендрике в своей могиле нищей. Над спящими колокола звенят, Звезда в ночи падучий след свой чертит… Лишь я не сплю… Но вот уж и меня Забрала сладкая зевота смерти. (Подходит к портретам и обращается к ним) Родные тени! Заклинаю вас Моей любовью — золотым оружьем: Сойдитесь в этот одинокий час Ко мне, живому, на прощальный ужин! (Ставит портрет Саскии на стул у стола.) Ты, Саския, на Стоффельс не сердись, Не мучь ее ревнивыми словами. (Ставит портрет Хендрике на другой стул.) Ты, Хендрике, с хозяйкой помирись И рядом сядь. Да будет мир меж вами! (Ставит портрет Титуса между ними.) Я, Титус, место и тебе нашел! Сегодня мы невидимые брашна Поставим тесно на широкий стол И запируем весело!Флинк
(из-под кровати) Мне страшно!Рембрандт
(заглядывая под кровать) Там кто-то есть. Посмотрим, что за гусь. Ах, это ты! Вылазь, трусливый олух!Флинк
Я до смерти покойников боюсь! Учитель мой! Не надо звать за стол их! (Вылезает.)Рембрандт
Спросонок ты иль вовсе во хмелю Попал сюда?Флинк
Простите… грех случился…Рембрандт
(указывая на рисунок флорина) Монету ты нарисовал? Хвалю! Ты хоть чему-нибудь да научился У Миревольта.Флинк
Видит бог, — не я! Во-первых, мне…Рембрандт
А в-третьих и четвертых, Ты станешь врать, господь тебе судья!Флинк
Я вас прошу, не вызывайте мертвых!Рембрандт
(улыбаясь) А надо бы! Не стану, так и быть… Зачем пожаловал в мою обитель?Флинк
Я воротился, чтобы изучить Секреты вашей техники, учитель.Рембрандт
А Миревольт?Флинк
Какой уж колорит У Миревольта! И рисунок пресный! А как о вас он грубо говорит!Рембрандт
Вот это мне совсем неинтересно.Флинк
Позвольте мне вопрос задать: у вас Светлейший принц Тосканы был, я слышал? Про эту честь из уст в уста рассказ Идет по Амстердаму!Рембрандт
Был, да вышел.Флинк
Не понимаю, сударь, ничего.Рембрандт
Я указал ему, как говорится, Где бог, а где порог: прогнал его.Флинк
Вы выгнали?!Рембрандт
Я выгнал.Флинк
Принца?!Рембрандт
Принца. (Раздумывает.) Ну, что ж! Пожалуй, я тебя приму. Мне пригодятся двадцать пять флоринов.Флинк
(хватается за живот) Ох, как вредит желудку моему Ост-индская новинка — мандарины!Рембрандт
В чем дело, Флинк?Флинк
Схватило за живот! (Про себя) Вот влопался! Как мне сбежать отсюда? (К Рембрандту) И гнет, и режет, и кидает в пот! Я к вам назавтра непременно буду, А нынче болен.Рембрандт
Убирайся, пес, Покуда я тебя не выгнал взашей.3
Флинк убегает. Входит Фабрициус.
Фабрициус
Кто был тут?Рембрандт
Флинк.Фабрициус
Он ног бы не унес, — Застань меня здесь, — из мансарды нашей!Рембрандт
Фабрициус! Вот и конец пришел Моей последней маленькой надежде… (Хватается за сердце.) Но что со мной? Мне так нехорошо Еще ни разу не бывало прежде! Кровь бьет в виски, густа и горяча. В глазах желтеет, ноги холод студит… (Падает на руки Фабрициуса, который несет его на постель.)Фабрициус
Вам нужно лечь. Я позову врача. Невестку вашу позову… (Выбегает в коридор и зовет.) Эй, люди!Рембрандт
(лежит один на постели) Ни дня, ни ночи. Черная дыра. Как бьется сердце! Уж не смерть ли это? Старик Рембрандт! Пришла твоя пора, Пора последнего автопортрета. Как в океан сливаются ручьи, Так мы уходим в мир теней бесплотный. (Обводит глазами комнату.) Лишь вы, душеприказчики мои, Мои эстампы, папки и полотна, — Идите в будущее. В добрый час. Возникшие из-под музейной пыли, Откройте тем, кто будет после нас, Как мы боролись, гибли и любили, Чтоб грезы те, что нам живили дух, До их сердец, пылая, долетели, Чтобы в веках ни разу не потух Живой и чистый пламень Прометея!4
Входит пастор.
Пастор
Меня поставил грозный судия Посредником между тобой и небом.Рембрандт
Посредникам не очень верю я: Один из них уже пустил без хлеба Меня по миру.Пастор
Не кощунствуй. Ты Собраться должен в дальнюю дорогу. Покайся мне, и в нимбе чистоты, Как блудный сын, ты возвратишься к богу.Рембрандт
Как будто не в чем. Я в труде ослеп, Не убивал, не предавал, работал, Любил, страдал и честно ел свой хлеб, Обильно орошенный горьким потом.Пастор
Святая дева раны освежить Придет в раю к твоей душе усталой.Рембрандт
Я старый гез. Я мельник. Я мужик. Я весь пейзаж испорчу там, пожалуй.Пастор
Ты святотатствуешь! Как ты упал! Ужель ты бога не боишься даже?Рембрандт
Уж не того ль, что сам я создавал Из бычьей крови и голландской сажи? Оставь меня. Пусть мой последний вздох Спокойным будет…Пастор
(поднося к его лицу распятие с изображенным на нем Христом) О грехах подумай!Рембрандт
(глядя на распятие) Как плохо нарисован этот бог! (Умирает.)Пастор
Войдите, люди. Этот грешник умер.5
Входит хозяин гостиницы, Магдалина ван Лоо, Фабрициус, Мортейра, соседи.
Хозяин гостиницы
Едва велел я постояльцу, чтоб Он выбрался, — а он умри в отместку! Да кто ж теперь ему закажет гроб? Тут есть родные?Магдалина ван Лоо
Я его невестка.Хозяин гостиницы
Ты и неси расходы похорон! Коль хочешь, гробом я могу заняться.Магдалина ван Лоо
Ах, батюшки! А сколько стоит он?Хозяин гостиницы
Пустое, дочка: гульденов пятнадцать. Магдалина ван Лоо Пятнадцать гульденов! Ведь вот дела! Ах, сударь, всю мою досаду взвесьте: Двух месяцев я с мужем не спала, И вдруг — плати за похороны тестя!Первый сосед
Кто умер тут?Второй сосед
Бог знает кто. Рембрандт.Первый сосед
Не знать Рембрандта — это стыдно прямо! Да это туз! Бумажный фабрикант! Краса и гордость биржи Амстердама.Комната наполняется людьми.
Голоса
— Такой богач — и умер! — Тс! Не плачь! — Мы все в свой срок червям послужим пищей.Второй сосед
Одно мне странно: если он богач, Как умер он в лачуге этой нищей? Скажи, хозяин, толком наконец. А то ошибка вышла тут, возможно: Мертвец — Рембрандт ван Юлленшерн, купец?Хозяин гостиницы
Да вовсе нет: Рембрандт ван Рейн, художник.Первый сосед
Ах, живописец!Второй сосед
Ну? Я так и знал.Голоса
— Уж, верно, поздно. — Не пора идти ли? — Пойдем, пока через Большой канал Рогатки на мосту не опустили.Комната быстро пустеет. У трупа остаются Фабрициус и Мортейра. Мортейра подходит к Рембрандту и долго смотрит ему в лицо.
Мортейра
Лежит — и пальцем не пошевелит… Да, многого его душа хотела!Фабрициус
А я слыхал, что ваш закон велит На семь шагов не приближаться к телу.Мортейра
На семь шагов? Ах да, на семь шагов… Но он ведь жив. Талант еще ни разу Не умирал. Скорей его врагов Чуждаться надо, как больных проказой. Он — живописец нищих, наш талант, Пусть надорвался он, но, злу не внемля, Он на плечах широких, как Атлант, Намного выше поднял нашу землю. Июнь — август 1938ПЕРЕВОДЫ
ИЗ ПОЭЗИИ НАРОДОВ СССР
С АВАРСКОГО
Гамзат Цадаса
155. ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ
Всесильный сок лозы, бездушный, но живой, Что старца превратит порою в плясуна, Что валит с ног юнца с тяжелой головой, — Давайте пить, друзья, но — чур — не допьяна! Шипучий сок лозы, что связывает всех Сидящих за столом, кто пьет его до дна, Одним дарящий грусть, другим веселый смех, — Давайте пить, друзья, но — чур — не допьяна! Веселый сок лозы, чей нищим сладок вкус, Чей запах богачам милей, чем их казна, Чьей волей в храбреца преобразится трус, — Давайте пить, друзья, но — чур — не допьяна! Коварный сок лозы, который так хорош, Когда желудок пуст, но тяжела мошна, И плох, когда его не в меру перепьешь, — Давайте пить, друзья, но — чур — не допьяна! Могучий сок лозы, что трудно побороть, Что совести порой бывает лишена, Что вяжет нам язык, переполняя плоть, — Давайте пить, друзья, — но — чур — не допьяна! Бесстыдный сок лозы, что просится назад, Когда утроба им у пьяницы полна, Валящий наземь нас, мутящий ум и взгляд, — Давайте пить, друзья, но — чур — не допьяна! Желанный сок лозы, от века милый нам, Могуществом своим известный издавна, — На радость всем друзьям, на горе всем врагам Давайте пить, друзья, но — чур — не допьяна! 1940156. С КЕМ ДРУЖИТЬ?
Не все друзья верны, — хвалить иных нельзя. Когда твои дела прекрасны, на обед Они к тебе толпой сбегутся, лебезя, Когда ж карман дыряв, — глядишь, — их нет как нет! Ты с книгою дружи, чьи щедрые листы Ждут взгляда твоего. Она всегда верна. Пусть ты богат, как хан, пусть без копейки ты, — Не станет изменять, не подведет она! Прилежнее склонись челом к страницам книг, Где каждая строка мед мудрости таит. Будь жаден к знаньям, сын! Знай: ты не всё постиг, Лишь черпая из них, твой разум будет сыт. Оружье это ты не выпускай из рук. Брани его иль нет, — надежен друг такой. В обиде на тебя не будет этот друг, Хоть бросишь ты его, в сердцах махнув рукой. Будь знанья кунаком. Богат его очаг, Щедры его дары, густы его сады. А ты — желанный гость в цветущих тех садах: Иди и собирай румяные плоды! Ты книге поверяй свои мечты и жизнь. Знай: в сердце, не спросясь, врывается поэт. Ты всем, что на душе, с поэзией делись: В ее улыбке ты на всё найдешь ответ. 1940157. СТИХИ О ТЕПЛОЙ ЗИМЕ
Скажи: кого зима из близких погребла, Что траура по нем доселе не сняла? Еще ответь мне, чем зима огорчена, Что слезы без конца ручьями льет она? Вершины наших гор в туман убрав подчас, Она на краткий срок оденет в шубы нас, Но теплый ветерок разгонит тучи вмиг И треплет полы шуб: скорей снимите их! Из плачущих очей страдалицы-зимы Бегут потоки слез на рыхлые холмы. Уж занят кое-кто сохой да бороной, Решив, что в январе запахло вдруг — весной. А в прежние года, бывало, глянем мы, — Белеет наш аул под буркою зимы! Знать, нынче у нее весь вышел нашатырь И нечем полудить бедняжке эту ширь… Кто видел, чтоб зима довольною была Весенним ветерком и ласкою тепла? Кто слышал, чтоб она от власти отреклась, Могуществом своим с весною поделясь?!. 1940С АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
Сулейман Рустам
158. НЕ БУДЬ ДВУЛИКИМ
Если прям твой путь, Если цель честна,— Одноликим будь. Ведь душа — одна. Любишь вешний свет, А не зимний мрак, Так следи, чтобы цвет Роз не смял твой враг. Гордый, в час беды Не клонись к земле: Всей земли плоды На твоем столе! Если прям твой путь, Если цель честна,— Одноликим будь. Ведь душа — одна! 1943С АРМЯНСКОГО
Сармен
159. ТРОЕ
1
Послушай быль, — как пали трое Друзей за честь родной страны: Врагов громили три героя, Кавказа грозные сыны. Их меж собою дружбой братской Связала грозная пора. Был из долины Араратской Один из трех друзей — Ара. С Каспийского седого моря Явился храбрый Абдулла. В улыбке детской, в чистом взоре Видна душа его была. Шота пришел с высот Казбека. Был ярок блеск его очей. Так отражает в горных реках Заря огонь своих лучей. Запомни, друг: их было трое — Ара, Шота и Абдулла, Три смелых сердца, три героя, Три нежных друга, три орла.2
Спустилась ночь на поле боя… Тьма… Вдалеке горит жилье… Лежат у пушки три героя, И каждый думает свое. В час этот перед наступленьем Картину вспомнил вдруг Ара: Как дома, с дочкой на коленях, Сидел он… Светлая пора! Жена смеялась. Спали дети. Шло стадо. Мерк заката цвет… Ему казалось, что на свете Счастливей человека нет!3
Мечтой переносясь далече, Припомнил смуглый Абдулла, Как в дом к нему в последний вечер Проститься мать его пришла. Пускай огонь любви горячей В глазах у матери горит, — Она не ропщет и не плачет И сыну твердо говорит: «Сынок! Пусть острый меч твой реет Летучей молнией в бою! Будь смел, коль хочешь ты скорее Опять увидеть мать свою!»4
Меж ними, погружен в молчанье, Лежит задумчивый Шота. К далекому воспоминанью Уносит юношу мечта: Был в ту весну в алмазных росах Кудрявый персиковый цвет. Безмолвно опершись на посох, Пастух Шота встречал рассвет. Кето с улыбкою лукавой Спускалась с горной высоты. Пред нею расступились травы, Дорогу дали ей цветы! Шота в густой траве по пояс Уселся с девушкой Кето. И, на груди ее покоясь, В тот день был счастлив как никто! Они в то утро заключили Союз любви между собой… Чу! Автоматы застрочили: Шли немцы. Начинался бой.5
Близ рощи пушка их под вечер На холм поставлена была. С холма врагам готовят встречу Ара, Шота и Абдулла. Снаряды Абдулла подносит, Прилежно целится Шота, Ара огнем фашистов косит — Все стали на свои места! Врагов сметал их каждый выстрел. Чернели трупы что ни шаг, Но вновь стеною шли фашисты, Всё ближе был свирепый враг. «Друзья! — товарищам-героям Отважный вымолвил Шота.— Уж лучше смерть на поле боя, Чем жизнь в цепях, под свист кнута!» «Без страха глянем смерти в очи! — Ответил смелый Абдулла. — Те, кто погиб за край свой отчий, — Живут! Бессмертны их дела!» Сказавши это, за снарядом Спешит отправиться смельчак. Враг свирепеет. Пули градом Шлет в трех героев злобный враг. Ара назад случайно глянул, И сердце горечь обожгла: Обняв снаряд, смертельно ранен, Лежал бесстрашный Абдулла. Ара присел на землю рядом, Поцеловал его в глаза. И к пушке мчится со снарядом, Ужасен в гневе, как гроза. Глядит и видит: что же это?! Враги наглеют неспроста: Лежит убитый у лафета Бесстрашный друг его Шота… С глубокой горечью, всей грудью Вздохнув о друге дорогом, Ара остался у орудья Лицом к лицу со злым врагом. К нему носил он сам снаряды, Потом прицеливался сам, Сам говорил «Огонь!» — и градом Снарядов бил по злым врагам. Но вот Ара рукой нащупал Последний в ящике снаряд, — А к пушке через гору трупов Бегут враги за рядом ряд! Не взять ее врагам проклятым! Ара лопату вмиг нашел И землю рыхлую лопатой Насыпал в орудийный ствол. Врагов увидя пред собою, Смельчак решает, что — пора, И грозную царицу боя Взрывает выстрелом Ара!.. Он сам был ранен, но в расплату За смерть друзей, за край родной Швырнул последнюю гранату Фашистам под ноги герой. Врагов немало горец смелый Отправил той гранатой в ад. Всё на пригорке онемело: Фашисты кинулись назад. Запомни, друг: их было трое — Бесстрашных молодых друзей. Жизнь положили три героя Во славу родины своей. 1942С БАЛКАРСКОГО
Кайсын Кулиев
160. ВСЕГДА ГОРДИЛСЯ ТЕМ, ЧТО ГОРЕЦ Я!
Как старый горец любит свой Казбек, Так я люблю все земли и края. Но к родине привязанный навек, Всегда гордился тем, что горец я. Мне довелось из Волги пить не раз, Ее красой душа была горда. Но свой далекий, свой родной Кавказ Я вспоминал повсюду и всегда. Чуваш, дружа со мною от души, Мне с табаком протягивал кисет. Мне русые знакомы латыши: Я, раненный, оставил крови след На их земле, а друг мой умер там, Склонясь к земле простреленным челом. Жестокой битвы дым — по волосам Полз у меня в окопе под Орлом. Я по дорогам Севера бродил, Любил простор и ширь его степей, Хлеб дружбы ел и воду дружбы пил, И все-таки всегда в душе моей Блестел далекого Эльбруса снег, Вздымались острые вершины скал. Поднявший голову седой Казбек Везде мне чудился, всегда сверкал. Мне лапы сосен по душе пришлись, Их смутный шум и свежая хвоя. Я их люблю, но все-таки всю жизнь Гордился тем, что вольный горец я! Я видел пляски северных степей И среди них прекрасные встречал, Но твой, лезгинка, бешеный напев Сильнее всех в моей душе звучал. Как я люблю косматой бурки взлет, И белый треугольник башлыка, И стук копыт в горах, когда вперед Уносит конь лихого седока! Как горд я вами, милые края!.. Коварный враг, оставь свои мечты, Что эту гордость потеряю я. Нет! Жизнь скорее потеряешь ты. 1942161. ВЫНЕСЕМ!
Из черных дней войны, из пламени боев Мы вынесем тебя и светлой и живой, К своей родной земле нетленная любовь, Как ты выносишь штык, кидаясь в смертный бой. Мы вытерпим напор и голода и тьмы, И как бы этот груз нам плечи ни нажал,— Всё ж вынесем из битв свободу нашу мы, Как горец из ножон выносит свой кинжал. Мы вынесем любовь, и чистоту сердец, И человечность ту, что вечно высока, — Мы вынесем ее, как раненный боец Выносит из беды флаг своего полка. Да, вынесем. Тогда я заглянул в лицо Бойцов, увидев, как зажаты губы их, Я это прочитал в терпении бойцов И в сдвинутых бровях полковников седых. Из черных дней войны, из битвы огневой Мы вынесем ее — ничто не сломит нас,— Зажав разрывы ран, и светлой и живой, Как знамя из огня выносят в битвы час! 1942162. ДЕДОВСКИЙ ДОМ
Валя в лесу дубовые стволы, Дед на скале построил крепкий дом. Теперь лишь груда пепла да гора золы На этом месте. Дом сожжен врагом. В изломанном саду — ни деревца, Лишь обгорелая чернеет ель… В том доме бабка родила отца, Там мать мою качала колыбель. В былые дни отец в расцвете сил У горного козла спилил рога, Пронзив его кинжалом, и прибил Рога его к столбу близ очага. Кавказец смотрит, сдерживая гнев, На груду пепла. Дома больше нет. Рога погибли, рухнули, сгорев, Дубовые столбы, что ставил дед. Сгорел тот снимок, на котором он С кинжалом снят в черкеске у крыльца. Висевшая в простенке меж окон, Сгорела бурка моего отца… Сгорел тот дом, в котором вырос ты, Где мать певала песни для тебя, Где ты лелеял юности мечты, Где жил ты, вольность горскую любя. И всё ж кой-что осталось: ты нашел Котел, который под землей лежал. Он закипит еще, родной котел, На новом очаге… А вот кинжал Торчит в земле. Ты вытащил его Из обгоревших кожаных ножон. Он почернел от дыма. Ничего! Для мщения еще годится он! Вдали Эльбруса ледяную тишь Ласкает солнце, торопясь зайти, И как тебе ни горько, ты молчишь, С кинжала глаз не в силах отвести! Кавказец! Ненависть твоя тверда, Как сталь клинка, что выкован в горах, Недаром клялся ты, что никогда Свободных горцев не осилит враг. 1942163. ЗЕМЛЯ МОЯ!
О родина былин — земля моя! Народ твой — исполин, земля моя! Ты — мать, а я — твой сын, земля моя! Прекрасней нет долин, земля моя! Родная! Чем бежать, забыв борьбу, Чтобы враги, сойдясь со всех сторон, Спешили превратить тебя в рабу,— Последний я в ружье вложу патрон. Как бьется за свое гнездо орел, Так буду за тебя сражаться я, Я кровью напою твой каждый дол, Умру, обняв тебя, земля моя! Чем по тебе ступать ногой труса И видеть твой позор и ужас твой, — Пусть гибели сразит меня коса, Чтоб спать мне на твоей земле родной. Чем чувствовать в груди стыда огонь И знать тебя чужой, моя земля, — Пусть мой остывший труп растопчет конь, Пусть кровь моя зальет твои поля. Чем в ужасе бежать от тех зверей, Что, задушив дитя, терзают мать, — Я мертвым храбрецом хочу скорей На бурке боевой своей лежать! Чем знать, что упадет на след труса́ Холодная слеза из детских глаз, — Пусть лучше окропит тех слез роса Того, кто в битве пал за свой Кавказ. Чем слушать, затаив в душе позор, Знакомый, гордый шум орлиных крыл, — Хочу, чтобы орел, владыка гор, Крылами, точно брат, мой прах накрыл. Когда б мне на Эльбрус глядеть пришлось, В плен голову его отдав врагу, — Уж лучше б прядь густых моих волос Бураном занесло в его снегу. Как жить мне без тебя, седой Казбек, Без узких горных троп страны родной? Без милых сердцу скал и бурных рек? Как позабыть Баксан и Терек мой? Орлы Кавказа, с кем дружить без вас? Родные песни, как прожить без вас? Друзья мои! Кому служить без вас И голову за что сложить без вас? Чем родину предать врага мечу И на коленях жить, — уж лучше я, В сраженье за тебя упав, — хочу Спать мертвым на тебе, земля моя! 1942164. РУССКИЕ СОСНЫ
Бледна осенняя заря, Дороги спят, обледенев. Холодный дождик октября — Как грустной песенки припев. Наш эскадрон уходит в бой, Уходит в сумеречный час, И сосны русские толпой, Как сестры, провожают нас. Невесел их прощальный шум Среди осенней тишины. И кажется — тревожных дум О нас те сосенки полны. «Как сестры, затаив тоску, — Мы ждать вас будем», — говорят. По вымокшему большаку На фронт уходит наш отряд. Родные сестры! В трудный час Близ вас на бурках спали мы. Вы убаюкивали нас, Как дома, шумом среди тьмы. Уйдем мы, вы ж, оставшись тут, Негромкий поведете сказ, Что сосны русские поют, Как сестры, — песенку о нас. 1942165. ПЕРЕД БОЕМ
В ночном бою на вражью высоту Не все взойдут по ледяной росе, Но перед боем, глядя в темноту, Я говорю: «Пусть доберутся все! И если обо мне заплачет мать, То пусть не плачут матери других, И коль меня жене не стоит ждать, То жены близких пусть дождутся их! И если мне забыть семью, — тогда Пусть за меня мой друг обнимет дочь, И коль закатится моя звезда, Пусть ваши звезды озаряют ночь!» 1943166. «Любимая! Не раз я рвал цветы…»
Любимая! Не раз я рвал цветы На поле, где зимой прошли бои; Я верил: в блиндаже уснула ты, И я тебе отдам цветы мои. Я в низенькую дверь войду чуть свет И, спящую тебя увидев там, Тихонько положу большой букет Из полевых цветов — к твоим губам. Красавица моя! Твой легкий сон Развеют свежесть их и аромат. Я над лицом твоим склонюсь, влюблен, Когда ты на меня поднимешь взгляд. Не уходи, мой друг!.. Побудь со мной!.. Родная! Как тебя заждался я!.. Я в поле, где цветов полно весной, Пойти с тобой хотел, любовь моя. Но с поля возвратясь в окоп назад, Тебя я не нашел, мой нежный друг, Я видел лишь одних друзей-солдат, Товарищей одних встречал вокруг. Я в темном блиндаже ложился спать, Под звездами в степи, в чужой избе. И думал, свой букет боясь измять, Что, может, завтра их отдам тебе. Как часто о тебе мне снились сны. И сколько я собрал цветов лесных. Но не было тебя… За дни войны Немало у меня завяло их! Но всё же день придет, когда чуть свет К тебе в наш милый дом приду я сам И тихо приложу большой букет Из полевых цветов — к твоим губам. 1944167. ПЕСНЯ О ГОЛУБЫХ ГЛАЗАХ
Мы шли усталые от зимних вьюг, Что в лица нам кидали снежный прах, Один лишь мой неутомимый друг Всё песню пел о голубых глазах. В походе, в блиндаже и где пришлось — Он пел ее всегда — в туман и грязь, И теребил густую прядь волос, От этой песни грустным становясь. «Настанет время, — говорил он мне,— И упаду я с пулею в груди, Как подобает другу на войне, — Ты с этой песнею вперед иди». Мой друг погиб. Он был убит в бою. Уже готов покинуть белый свет, Мне завещал он песенку свою… Вот снег идет опять. А друга — нет. Но помню я: когда он ранен был, То перед тем как лечь и умереть, Он так сухие губы приоткрыл, Как будто вновь хотел ту песню спеть. Мне не забыть в походах и в боях Ни дня, ни места, где он погребен, Но песенку о голубых глазах Уже никто так не споет, как он. 1944С БАШКИРСКОГО
Мажит Гафури
168. ПРАВДА
Правда есть на земле! Не она ль в незапамятный век Полновластно себе подчиняла и зло и добро? Но промчались года, и на землю пришел человек. Он польстился на золото и полюбил серебро. Человек поклоняться презренному золоту стал, Больше правды самой полюбив этот жалкий металл. Опечалилась правда, и скрылась она наконец От корыстных людей в глубину благородных сердец. Погруженный в печаль, тот, кто истинно любит ее, Вдалеке от людей одинокое строит жилье. Ибо правда не ходит у золота в роли слуги, Ибо правда и золото — давние злые враги. В царстве правды от золота мы не найдем и следа, Ибо золоту правда руки не подаст никогда! 1939169. ЖИЗНЬ
Уж первый белый волосок блеснул меж черных у виска. Седеют волосы мои! Посеребрила их тоска. О лето жизни! Ты прошло. Ко мне не возвратишься ты! Всё в прошлом. Я, как старый дуб, осыпал юности листы. Уже, подобно молодым, резвиться не пристало мне, И если есть в душе мечты, то мало: лишь на самом дне! Себя почувствовав юнцом, я иногда еще шучу, Но вспомню седину свою — и отойду, и замолчу. Я с наслажденьем часто вспоминаю молодость свою… О многом я молчу и красоту в молчании таю. Всё миновало! Где они — минувшей юности мечты?.. В моем грядущем ничего нет, кроме черной пустоты! 1939170. Я ТАМ, ГДЕ СТОНУТ БЕДНЯКИ
Я там, где стонут бедняки. Все нищие — мои друзья. Они — мой круг: с любым из них сумею столковаться я. Я их люблю за то, что в них ни капли скрытой злобы нет: Любой из бедных чист душой, хотя и в рубище одет. Далек от чванства, — я люблю весь день сидеть у их огня. Друг друга не обидим мы: я их или они меня! 1939171. НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ
Не хнычь! Будь каждый день готов вступить с коварной жизнью в бой! И в том бою иль победи, или расстанься с головой! Ты хочешь без тревог прожить? Таких судеб на свете нет! Ты хочешь обмануть судьбу? Таких людей не знает свет! Ты говоришь: «Я проиграл. Не вышло. Счастья не догнать». Всё ж не сдавайся и за ним пускайся взапуски опять! Коль будешь ты в бою за жизнь великодушен, бодр и смел, — Ты победишь! На свете нет совсем невыполнимых дел! Бодрись! Приниженным не будь и гнуться не давай плечам, Не трусь, как заяц, и пустым не поддавайся мелочам! Тогда судьба пред смельчаком преклонит гордое чело… Волнуйся, двигайся, дерзай, покуда время не прошло! 1939172. ИСКАНИЕ СЧАСТЬЯ
Не видно счастья на земле. А затеряться счастью где б? Быть может, счастье в небесах, на золотой доске судеб? «На этом свете счастья нет!» — уныло утверждает тот, Кто в нем отчаялся. И вот на небесах он счастья ждет. Бедняга твердо убежден, что там найдет свою судьбу, Что в рай войдет его душа, когда он сам сгниет в гробу. Я плоховато знаю рай! Ни разу я туда не лез. Землей довольный, не вникал я в философию небес! Коль этот круглый шар земной нам во владенье дал аллах, То счастье надобно искать не в небесах, — в земных делах! Для тех, кто счастлив на земле, земля куда милей, чем рай. Я б землю выбрал, если б мне велел всевышний: «Выбирай!» Я б часа жизни не отдал, чтоб вечности блаженство пить! Я жажду счастья! Я живу! И почему бы мне не жить? Я буду с тем, кто строит рай не в небесах, а на земле, Покуда дух не испущу, не разложусь в загробной мгле! Смерть только оторвет меня от почвы, где я жил и рос. Я, плача, отойду с земли. Мне не расстаться с ней без слез! Но прах мой даже и тогда смешается с родной землей Пусть я умру! Врагам не даст покоя стих бессмертный мой! 1939173. УПОДОБЛЕНИЕ
Брильянтами блестят вдали Ночные звезды там и тут, А на поверхности земли Цветами девушки цветут. И кто б, скажи, земной цветок Мог отличить от звезд ночных, Когда б их сблизить кто-то смог, Сумел бы в ряд поставить их? А коль звезда в одном ряду Могла бы с девушкой стоять, Я отодвинул бы звезду, Чтоб крепче девушку обнять! Ведь блеском глаз в конце концов Блистанье звезд затмит она! Ведь, право, девичье лицо Белей, чем полная луна! А губы, губы!.. Но поэт Лишен таких волшебных слов, Чтоб описать их вкус, их цвет, Жемчужный влажный блеск зубов! Превыше всех похвал у ней И косы черные, как мгла, И над глазами — двух бровей Раскинутые вкось крыла! Коран недаром говорит, Что небу девушки сродни: Приняв земной на время вид, Всё ж только гурии они! 1939174. ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ
Коль сердце чисто у тебя, — оно, как море, широко, Оно охватит целый мир в едином взоре далеко. Коль сердце чисто у тебя, — такое сердце всё вместит, Всё в мире видит сердце то и, как алмаз, во тьме блестит. Оно готово всех обнять: убогих, нищих и калек, Мужчин и женщин — словом, всех, носящих имя «человек». Оно глядит на белый свет открыто, не через очки, Оно болит за всех людей, ему друзья все бедняки. Но есть ослепшие сердца. Скупец — хозяин их таков, Что вечно ноет и скулит и жмется из-за пустяков. Нет ничего на свете, друг, тесней скупых сердец таких! Они малы: не только мир — горошинка не влазит в них. Такие повстречав сердца, я умоляю: «О аллах! Скорей избавь меня от них — унылых, грязных и пустых!» 1939175. ПОСВЯЩЕНИЕ («„Он гаснет!“ — говорят тебе. Но посмотри: огонь — и тот…»)
«Он гаснет!» — говорят тебе. Но посмотри: огонь — и тот Тускнеет, если человек в светильник масла не нальет. Как громко свищут соловьи, когда в садах цветут цветы! Но в день осенний соловьев, скажи, хоть раз слыхала ль ты? Ты видишь погреб? Соловья запри в глубокий тот подвал И слушай: запоет ли он? Нет! Он в неволе не певал!.. «Он гаснет!» — говорят тебе. Но ясно даже для детей, Что невозможно жить и петь без упований и страстей! 1939176. ЛЮБОВЬ («Пусть дни идут, не гаснет страсть, наоборот: всё жарче кровь!..»)
Пусть дни идут, не гаснет страсть, наоборот: всё жарче кровь! Ах, видно, заблудился я в твоем густом саду, любовь! Бегу — и вдруг перед тобой колени робко преклоню, Сержусь, но, словно мотылек, лечу к любовному огню! «Я излечился!» — говорю, а сам дрожу, и вновь горю, И возвращаюсь вновь к тебе, и вновь тебя боготворю! Нет, я не в силах убежать! Ты стала мне, любовь, тюрьмой! Я пойман: с четырех сторон пылает жаркий пламень твой! 1939177. ЧУДЕСНЫЙ СЛУЧАЙ (Из неопубликованных стихов)
Чудесный случай был вчера! Я мирно шел к себе домой, Вдруг вижу: светит огонек, мой озаряя путь ночной. Подумать: солнце? Но в горах уже погас заката свет! Луна — подумать? Но как раз луны на небосклоне нет! Откуда лился этот свет, лишь позже догадался я: По улице навстречу мне шла ты, любимая моя! 1939178. В ЦВЕТНИКЕ
Вчера я вышел на прогулку в сад, Пестрел цветов узорчатый ковер. Он в душу лил мне сладкий аромат И красками слепил мой слабый взор. Их красотою наслаждался я. Потом, поближе подойдя к цветам, Спросил: «Скажите, кто у вас друзья И кто, цветы, враждебен в мире вам?» Под легкое дыханье ветерка, Клонясь в сиянье нежной красоты, В улыбке губы приоткрыв слегка, На мой вопрос ответили цветы: «Тот, кто для нас копает землю в срок И поливает нас водой в тени, Тот, чья душа прекрасна, как цветок, Наш первый друг! — сказали мне они. — А тот, кто нас не хочет поливать, Кто, не трудясь, свои проводит дни И рвет нас, права не имея рвать, Наш первый враг!» — сказали мне они. Услышав это, молвил я в ответ: «Вы всё сказали верно в добрый час! Тот, у кого любви к работе нет, И на груди носить не должен вас. Лишь тот хорош, кто смел и чист душой И кто в труде проходит жизни путь. Так пусть, цветы, работник молодой Работнице приколет вас на грудь!» 1939179. ОН НЕ УМЕР
Когда кончается Нам близкий человек, Мы удивленно задаем вопрос: «Кто умер? Есть ли у него семья И кто беднягу на кладбище снес?» Когда покинет нас хороший друг, Его конец печален только нам. Потеря друга, что уснул навек, Горька бывает лишь его друзьям. Когда издохнет бай или купец, — О нем лишь баев слезы горячи: Пузатого собрата схоронив, О нем рыдают только богачи. И ходят в трауре по богачу Пять-шесть его приятелей всего. А весь трудящийся рабочий мир Не даст и двух копеек за него! Но если друг у бедняков умрет. Тогда печаль мильонов горяча! Она, как нож, Пронзает их сердца! Пример тому — Кончина Ильича! Его потеря громом потрясла Трудящихся людей на всей земле!.. Иные умирают, — год пройдет, И память их теряется во мгле. Воспоминанье об иных из нас Засыплет время, как следы — песок. Грусть о других — с годами всё сильней И образ их всё более высок! Потомки ставят Памятники им И чтут в сердцах Их благородный труд. Так Ленин и учение его У нас в душе Вовеки не умрут! Ученье это никому из нас Не даст с дороги правильной свернуть. Он проложил, Как мудрый инженер, В грядущее прямой и ясный путь! Он — образец бессмертной славы нам. И образцов светлей и ярче — нет! Вовеки будет Над землей сиять Его немеркнущий и чистый свет! Мне кажется — Ильич не умирал! Я думаю — он жив поныне в ней, — Неутомимой, бдительной, стальной, Прямой и мудрой партии своей! Да! Он презрел теченье быстрых лет! Всё больше уважаем и велик,— Ильич живет! Не умирал он, нет! И враг пред ним в бессилии поник! 1939180. КЛУБОК ЖИЗНИ
Коль жизнь мою смотаешь — не велик Покажется ее клубок тугой, А размотай — и с одного конца Едва увидишь ты конец другой! 1939Мустай Карим
181. КОНЬ
Мне снился конь мой, быстрый, как огонь. Ему не по душе простор степей. Во сне склонился вороной мой конь Над госпитальной койкою моей. Он говорил: «Три месяца ты здесь. Скучает без удил моя узда. Без седока я в белой пене весь Один скачу неведомо куда. Из длинной гривы вырвала пурга Ту ленту, что тобою вплетена, Но ни одна чужая мне нога Стать не смогла в пустые стремена. Я клялся зеленеющим лугам, Воде озер, синеющих светло, Что одному тебе, хозяин, дам Сесть на свое узорное седло. Мне грустно без тебя — и вот я здесь. Вставай же с койки, всадник молодой! За кровь твою неся фашистам месть, Мы вновь с тобой помчимся в смертный бой. Когда ты ставил ноги в стремена И крепкую узду сжимал в руке, — Для счастья грудь моя была тесна!.. Как жить нам друг от друга вдалеке?» Сказал — и сразу, как бывает в снах, Исчез куда-то конь мой вороной. Суровый доктор в роговых очках Заботливо склонился надо мной. «Прошу вас, доктор, вылечить меня. Мне в лазарете душу жжет печаль: Я вижу призрак своего коня, С пустым седлом несущегося вдаль!» 1943182. ЛУНА
Ночные облака летят… Тоскуя, в вышину Глядит задумчивый солдат На бледную луну. Луне, наверное, видна Та улица и дом, Где нынче девушка одна Задумалась о нем. Вдруг в тучи полная луна Укрылась, как назло. Затмилась наша сторона, А у врага — светло. Солдат привстал и на бегу Стал заряжать ружье. «Луна попала в плен к врагу! Так отобьем ее. Чтоб очи девичьи, грустны, Когда в туман глядят, — С врагом на золоте луны Не скрещивали взгляд. Чтоб, погружен в ночную тьму, Почуял враг шальной, Что на земле у нас ему Нет места под луной!» 1943183. РАСПАХНУВ ОКНО
Не убегай от молний прочь, Пускай блестят они! Пошире в грозовую ночь Окошко распахни. В испуге не смежай ресниц При быстром их огне, Пусть сердцу блеск ночных зарниц Напомнит обо мне. Пусть дом твой пламя гроз ночных Осветит ярче дня, Пусть буря пряди кос твоих Расчешет за меня. Вглядись — и ты поймешь, что есть В зарницах мой привет, Что о далеком друге весть Тебе несет их свет. Я жив, покуда сила бурь Не стихла на земле, Покуда молниям — лазурь Прорезывать во мгле! 1943С БЕЛОРУССКОГО
Максим Танк
184. В МЕТЕЛЬ
Буран несет снега седые И завывает, как шальной. Всю ночь немецкий часовой Стоит, кляня снега России, Что замели костра огонь На бивуаке батарейном, И думы о далеком Рейне, И трупы немцев вкруг него. Хоть клонит сон, да не зажмурить Очей: сечет лицо метель, Страх заползает под шинель, Томит звериный голос бури. Вдруг тень мелькнула. «Кто идет?..» Молчанье… Стихла дрожь тревоги: То столб, упавший близ дороги, Чернеет да метель метет. Но столб ли это? Снова: «Кто там?» — Кричит солдат, и в этот раз Звучит ответ: «Не трогай нас! Мы — мертвецы из пятой роты. Домой идти собрались мы. Чтоб отомстить за все невзгоды, Чтоб кровью с нашего народа Смыть ужас гитлеровской тьмы. Мы пали в битве под Москвой. Тут нас земля не принимает! Нас дома семьи ожидают, Так что ж: пропустишь, часовой?» Солдат берет на изготовку. Не верит и молчит. Но вот, Вглядевшись, трупы узнает И вдруг роняет в снег винтовку… То — сон или прошли во мгле Две тени — часовой не знает. Но близ него метель ночная След заметает на земле. Сжал сердце ужас черной лапой. С Востока грозный день встает! И вот сам часовой идет Вслед мертвецам на дальний Запад. А вдоль опушек и полян Горят разрушенные села, И над бескрайним полем голым Свистит разгневанный буран! 1942185. ГАСТЕЛЛО
Под крыло убегала земля, Ты прищурил седые ресницы… Плыли избы, мелькали поля, И березы стояли, как жницы. Словно чайка, летел поутру́ Самолет над страной урожая, Птиц тревожа в плужанском бору, В Свитязь-речке на миг отражаясь. И ничто не сказало о том В этот день и спокойный, и ясный, Что война твою землю огнем Всю охватит, что солнце погаснет, Что судьба тебе, ринувшись в бой, Защитить ее собственной грудью! И что эта земля над тобой Возвышаться, как памятник, будет!.. Нарастающий гул над землей… Чья машина за облаком? Кто там? Вдруг на аэродром фронтовой Ляжет тень твоего самолета? Нет, не ляжет!.. Лишь ярким огнем Небосклон озарится погасший, Да на запад, звено за звеном, Всё летят истребители наши. Пролетают они штурмовать Банду лютых врагов наших смело И в огне, в каждой битве искать Самолет капитана Гастелло! 1942186. НЕ ЖАЛЕЙТЕ, ХЛОПЦЫ, ПОРОХА
Не жалейте, хлопцы, пороха, Меткой пули и гранаты. Все, кому свобода дорога, Грудью встаньте против ворога — Оккупанта! Пуща темная, высокая, Недоступная поляна, Погреби врага жестокого, Стань пристанищем для сокола — Партизана! Морем слез и кровью выпитой Захлебнется шайка вражья! Скоро день расплаты выпадет: Над Днепром стоим, над Припятью Мы на страже! Днем — буранами крылатыми, Легкими тенями ночью — Сонным лагерем меж хатами Мы скользим и бьем гранатами Банду волчью! Чуют гады в каждом шорохе, Что уж близится расплата… В страхе слышат песню вороги: «Не жалейте, хлопцы, пороха Оккупантам!» 1942187. РОДИНЕ
Тучи с запада низко плывут, Мы глазами их бег провожаем. Каждый знает, что слезы несут К нам они из родимого края. Долетают к нам ветры из тьмы, Где чернеют сожженные крыши. В их ночных завываниях мы Материнские жалобы слышим. Мы не спрашиваем журавлей, Что несут они нам, пролетая. Каждый знает: бойцов-сыновей Ждет и кличет отчизна родная. Беларусь! Ты пылаешь огнем, Но вовек не сковать тебя катам, Пока мы, твои дети, живем И в руках наших штык и граната, Пока ясное солнце горит, И порукой тому, что воскреснешь Ты для радостной жизни, — звенит О тебе наша вольная песня. Мы воротимся, мать! Мы придем, Чтоб опять на просторах счастливых, Наливаясь отборным зерном, Золотились широкие нивы. Если ж в смертном погибнем бою, Всё ж обиду твою не забудем Никогда: даже мертвые будем Мстить врагам за обиду твою. 1942188. ТОЧИТЕ ОСТРЕЙ ОРУЖЬЕ!
Точите острей оружье, Товарищи и друзья! В огне и крови отчизна — Родная страна моя. Фашистские танки топчут Поля и курганы ее. Над виселицами вьется Тучами воронье. В немецкой неволе стонут Лесные наши края… Точите острей оружье, Товарищи и друзья! Приблизилось время мести, Ступайте же в смертный бой! Навеки покройте, братья, Славою боевой Клинки, что фашистов косят, Огонь, что врагов настиг, Бураны, что заметают Проклятые кости их, И песни о смелых, — песни, Ведущие в бой полки, — В которых звенят бураны, И полымя, и клинки! Направьте свой путь на запад: Уж близок родимый край. Бор синий, земля родная, Своих сыновей встречай! Уж скоро с твоих просторов, С равнин твоих и холмов Весенние воды смоют Черную вражью кровь… Вставай, молодое утро! Заря над землей — сияй! Направьте свой путь на запад, Идите в родимый край! 1942С ГРУЗИНСКОГО
Александр Абашели
189. КРАСНОЗНАМЕННАЯ
В небесах, под клекот гневный, Плыл орел железнокрылый… У врага отбив деревню, Наша рать в нее входила. Словно море, пели люди, Четким шагом землю меря: «Кто разил уже, тот будет Впредь разить лесного зверя!» Шли бойцы, и так алело В небесах над ними знамя, Так от топота звенела Вся земля под их ногами, Так приветливо ласкало Их сиянье голубое, — Будто сталь клинка сверкала У врага над головою! Из ворот глядели деды На советских исполинов, И цвела заря победы На косых крылах орлиных. 1942Давид Гачечиладзе
190. ПАРТИЗАНСКАЯ
Где бойцы украдкой точат Лезвие меча? Лес — их дом. Им светит ночью Месяц, как свеча. Меж кустов туман дымится, Бледен свет луны. Сонная щебечет птица В царстве тишины. Партизаны видят — топит Зорька даль в огне. И толкуют, сев под тополь, О родной стране. Бой лесные невидимки Дать хотят врагу, Легкий пар белесой дымки Вьется на лугу. Гнев сверкает у героев В глубине очей: Стонет край их от разбоя Немцев-палачей! Где пройдут враги — заронят Ненависть без дна. На знаменах их вороньих Свастика видна. Стал богатый округ нищим: Всё забрал палач! Над угрюмым пепелищем Слышен детский плач. Пусть узнает ярость мести Враг, что кровью пьян! Звонче грянь, лихая песня Смелых партизан! Партизаны! Правда с нами! Вождь зовет нас в бой! Пусть несется над полями Клич наш боевой! Наших братьев зов крылатый В бой скликает нас. Наступает час расплаты, Мести грозный час! Мост над речкой перекинут, Выгнут, как дуга… В бой идут бронемашины Злобного врага. Точно колокол набатный, Грянуло «ура!», Рвутся мины и гранаты, Тел растет гора. Битвы час промчится скоро. На могильный холм Важно сядет черный ворон, Шевеля крылом. Слышен крик его гортанный В боевом дыму. Станет прах гостей незваных Пищею ему. Партизан же скроет в дымке Ночь, сойдя с небес. Их отряд, как невидимку, Спрячет темный лес. Там они украдкой точат Лезвие меча. Лес — их дом, им светит ночью Месяц, как свеча. Родина на дело мести Подняла их стан. Пусть же звонче грянет песня Смелых партизан! 1942С ЛАТЫШСКОГО
Арвид Григулис
191. «Воду ржавую болота…»
Воду ржавую болота Трудно пить, но долог путь, А измученному жаждой Тяжело и шаг шагнуть. Пью из топи обомшелой, Дух едва переводя. На пробитой пулей ветке Сойка тщетно ждет дождя. Что ж! Спасибо за прохладу, Влага ржавая болот. Освежился я, и снова Дальше путь меня ведет. О лесной трясины брага, Золото родной земли Лишь к губам твоим прильнул я, Силы вновь ко мне пришли. Сапоги не давят ногу, Стало легче ружьецо. В боевой дороге ветер Обвевает мне лицо… Битвы кончатся, но где бы, Ржавь болота, я ни жил, Не смогу забыть, как жажду Я тобою утолил! 1943С ЛИТОВСКОГО
Антанас Венцлова
192. ВЫ НЕ УМЕРЛИ
Ужель погибли вы, те смельчаки, которых Земле предали мы у городов и сел? Неправда! Ваша кровь преобразилась в порох, Взрывающий фашизм, как льдину ледоход. От казахстанских нив, из Грузии обильной, Покинувши Литву, оставив тихий Дон, Под Харьков вы пришли, под Каунас, под Вильнюс, Несли под Ленинград багрец своих знамен. Пускай вы пали там! В сказаниях народных Через десятки лет вас назовет страна. Как молния, сверкнул ваш благородный подвиг, Сияньем озарив простые имена. Их повторят леса, бушующие реки, Трава, что шелестит в полях в рассветный час… От подлого врага освободясь навеки, Свободная земля не раз прославит вас. 1942Людас Гира
193. БЕРЕЗКА
Ой, стоит в Литве березка У реки, под горкой. До земли она вершину Клонит в думе горькой. Ветер западный качает Ствол березки белой. Он сломал ее вершину, Он ей больно сделал. Как топор, ее обрезал Этот ветер черный. Рядом — дерево другое Выворотил с корнем. Лучше он не дул бы, этот Ветер чернокрылый: Много в маленькой деревне Горя натворил он! Тихим утром он пронесся Над спокойным краем — И затлелись в нем пожары, Села пожирая. С той лихой поры березка Никнет в думе смутной, Днем и ночью всё тоскует, Вечером и утром. Вдаль глядится, словно хочет На восток пробраться, В край, куда ушло в то утро Много наших братцев. Передать велит поклон им Перелетным птицам, Чувствуя, что дали клятву Братцы возвратиться. Ой, зеленая березка! Жди их ежечасно. Ты права: они вернутся В край свой утром ясным. Вновь придут они с победой, Разгромив фашистов, — В грозных танках, на ретивых Конях норовистых. Отобрав у подлых немцев Землю-мать сырую, Мимо сломанной березки Мы промаршируем. У березки той литовской, Что в зеленом дыме Ждет нас, — мы поднимем шапки В честь страны родимой. Пред собой Литвы родимой Увидавши дали, Вспомним клятву, что березке И Литве мы дали. Мы поклялись землепашцам, Поклялись рабочим, Что жестокий меч расплаты На врагов наточим. Что Литвы земля святая Снова будет чистой, Что с нее метлой железной Мы сметем фашистов. Что под красною звездою Над землею будет Господином, кто над нею Руки сам натрудит. Что Литва, земля святая Наших предков славных, Будет вновь в семье народов Равною из равных. Знай: мы выполним, березка, То, что раз мы скажем. Уж недолго всем народам Быть под гнетом вражьим. Скоро все мы дома будем, Белая подружка. Жди — и в сторону Востока Поверни верхушку. И когда заслышишь звуки Песенки походной, — Знай, зеленая: мы близко, Мы уже подходим! 1942Саломея Нерис
194. МАТЬ («На березах почки…»)
На березах почки Стали зацветать. Четверых сыночков Проводила мать. У старухи слезы Застилают взгляд. Старые березы У ворот шумят. Крепкий и плечистый Первый сын — герой Молодым танкистом Понесется в бой, Под вторым — чубарый Пляшет, чуя плеть. Не придется старой За него краснеть. Смерть врагам жестоким Третий сын несет: По небу он, сокол, Водит самолет. Снайпером четвертый Смотрит в темноту. Много немцев мертвых На его счету! На березах листья Свежие шумят, Голубями письма К матери летят. Тот у ненавистных Немцев мост взорвал, Уложил фашиста Этот наповал. Старые березы Август золотит, Мать роняет слезы: Старший сын убит. Что же! Зубы стисни, Сдерживайся, мать, Ласточками письма От троих летят. А березам в осень Облетать, не цвесть. Ей зима приносит Вновь дурную весть. Позабыв усталость, Снежный ветер, вей. У нее осталось Двое сыновей. Пригревает солнце, С гор бежит вода, Стукнула в оконце Новая беда. Вновь березы вскоре Зашумят, да что ж! В старом сердце горе, Точно острый нож. Велика утрата, Горюшко без дна,— Три сынка, три брата Унесла война. Ветви: «Не печалься,— Шепчут у ворот, — Младший сын остался, Он к тебе придет!» Но с березы веток Щелкнул соловей, Что у старой нету Больше сыновей. То не буйный ветер Морщил речки гладь, — То о мертвых детях Убивалась мать: Голову склоняла У берез в тени, Землю целовала, Где лежат они. Тропкой на погосте Уходила мать — На полях их кости Белые собрать. В лес пришла к отряду Смелых партизан, И блеснула радость По ее глазам: Статны и румяны, Зорки и сильны, Эти партизаны — Все ее сыны. 1942195. МАТЬ КРАСНОАРМЕЙЦА
Помню я, в сентябре это было: Уходили на запад полки, Сына хлебом старуха кормила Из морщинистой теплой руки. Этот хлеб прибавлял ему силы: Он был хлебом отчизны. Он был Снят с полей его родины милой, С тех, что сам он когда-то косил. И налившийся силой стальною, Сын готов был к борьбе и труду. Под стальной, под осенней луною — «Мать! — сказал он. — Прощай! Я иду! Вот тебе мое вещее слово: Я вернусь. А погибну, — не плачь! Пусть друзья мои будут готовы Сбросить гнет, что несет нам палач!..» Помню я, в сентябре это было: Мать шептала, грустна и горда: «Смыть фашистскую черную силу Кровь героев должна навсегда!» 1942196. «Пушек хриплый кашель…»
Пушек хриплый кашель В роще раздается, А у рощи нашей Василек смеется. Щелкает бесстрашно Жаворонок-птица, А по горным пашням Ходит смерть, как жница. Ты меня не сглазишь, Цветик мой хороший: Я винтовку наземь Всё равно не брошу. Я железной стану, Буду ледяною, Пока ходит пьяный Враг моей страною. Всё за песню требуй, Жаворонок-птица, Но зачем ты в небе Вздумал загруститься? Для чего ты, пташка, Вьешься надо мною, Говорят, что тяжко Умирать весною? Разве смерть коснется Тех, что жизнь любили?.. Нам, бесстрашным, солнце Светит и в могиле! 1942С МОРДОВСКОГО
Никул Эркай
197. УКРАИНЕ
Украина! Край твой чистый Немец опозорил. Плачет в песнях бандуристов Твое злое горе. Не журись! Пускай калину Жжет мороз суровый, Но весна на Украину Возвратится снова. Стал печальным твой чудесный Златоглавый Киев. Вот уж год — оттуда песни Не звучат живые. Твои дочки, Украина, В поле не хохочут: В темной роще тополиной Враг закрыл им очи. Старикам твоим глубоким Слезы взор туманят, А сыны твои в широком Поле партизанят. Не затем ли у криницы Вербы золотились, Чтоб на землю с плеч у фрицев Головы катились? На пути любой овражек Станет их могилой, Дикий хмель вкруг шеи вражьей Обовьется с силой. Кобзари поют былины Про твои печали… Но за волю Украины Все народы стали! Закаляясь в битве долгой, В ряд, как ветераны, Дружно стали дети Волги, Дети Джамбулстана. Встали на Суре эрзяне, На Дону — казаки… Верь, что скоро ты с друзьями Смоешь вражью накипь. Не горюй же, Украина, О печальной доле: Скоро в край твой журавлиный Возвратится воля! 1942С ОСЕТИНСКОГО
Коста Хетагуров
198. ЗНАЮ
Знаю, притворно поплакав, Справят обряд похорон. Скажут: «Покой его праху! Только лишь маялся он». К тризне заколют скотинку, Чтоб не постился народ. Память мою на поминках Друг аракою запьет. Спорить до вечера будут, — Где я: в аду иль раю?.. Поговорят — и забудут Даже могилу мою! <1939>109. МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА?
С песней крестьяне проходят ущельями, Но обрывается песня косца: Глядь, — на дорогу из горной расщелины Череп упал и рука мертвеца. Шутят крестьяне: «Видать, запустелые Наши дороги бедняге должны!» Челюсти черепа белые-белые Мертвой усмешкою обнажены. Облит закатом, он блещет, как золото, Смотрят глазницы подобно очам… Вдруг ядовитою струйкою холода Страх пробежал у крестьян по плечам. «Люди! — отшельник сказал из пещеры им.— Что у вас там?» — «Вот хотим угадать — Кто потерял этот череп ощеренный: Доблестный муж или честная мать?» «Экой народ! Вы глупее, чем перепел! — Старый отшельник воскликнул шутя. — Кто был хозяин этого черепа, Вмиг разгадает теперь и дитя! Всем нам особые свойства завещаны, Каждому нраву — примета своя. Кто же, скажите, не знает, что женщины Перед поминками не устоят? Чтобы узнать — то мертвец иль покойница Надобно крикнуть: „Вон тело лежит!“ Череп мужчины и с места не тронется, Женщины череп стремглав побежит!» Мало крестьяне поверили этому: «Видно, смеется над нами старик!» Но пренебречь не посмели советами И над находкою подняли крик: «Слава Хамбитте и царство небесное! Как он, бедняк, умирал тяжело!..» В черепе вдруг что-то щелкнуло, треснуло, И покатился он тропкой в село. <1939>200. ПРОЩАЙ!
Вот и готов я… И лапти, и посох, Пояс из прутьев — обнова в пути. Рваная шуба… И, солнцу утесов, Я говорю тебе: что же, прости! Ты от меня, дорогая, устала. Взгляд твой давно мне сказал: «Уходи!» Знаю, как сердце твое трепетало, Слышу твой стон, затаенный в груди. Вот и прощай, ты теперь уж не будешь Требовать впредь от меня ничего. Нынче, дитя, ты мой взгляд позабудешь, Завтра забудешь меня самого. Если ж, — когда ты опустишь ресницы,— Явится образ ушедшего прочь И беспокойному сердцу приснится Смерть его в поле в холодную ночь, — Ты не пугайся: не горе, а счастье Он принесет тебе, этот кошмар. Кто-то возьмет на себя все напасти, Чтоб от тебя отвести их удар. Я возьму в спутницы злую судьбину, Чтоб поскорей с ней конец обрести… Ты ж позабудь про печаль и кручину, Не сожалей, не горюй и — прости! <1939>С ТАТАРСКОГО
Муса Джалиль
201. КАСКА
Что ж! Пускай ты боец, закаленный в борьбе. Ну, а всё же скажу напрямик: Нелегко и с одеждой расстаться тебе, Если ты к ее складкам привык… Не однажды в жестоких сражениях я Защищал мою родину-мать, И осталась железная каска моя На бруствере окопа лежать. Был лесок впереди. Немчура из леска Нас огнем поливала три дня. И, казалось, связались с землей облака Желтой лентой сплошного огня. Ты — боец! Как бы враг ни палил, — карауль Все уловки фашистов в бою!.. Глянул я из окопа — и несколько пуль Тотчас щелкнули в каску мою. «Э! Видать, мою каску, — подумал я тут, — Взял на мушку немецкий стрелок. Он старается, чтоб и на пару минут Я привстать из окопа не мог!» Я поднял на штыке ее и в аккурат Над собою поставил, на вал. Немец к ней пристрелялся. Его автомат Так огнем ее и поливал! «Ну, молодчик, — я думал, — довольно тебе Тратить столько патронов и сил!..» Я укрытие немца нашел по стрельбе. И его наповал уложил. Прогремело «ура!». И пошла, как стена, На фашистов советская рать, И осталась пробитая каска одна На бруствере окопа лежать. Пусть она не годится!.. В окоп под горой Всё ж за ней я вернулся на миг: И с пробитою каской расстаться порой Нелегко, если ты к ней привык! А она мне надежной подругой была: Помогла уничтожить врага И в боях не однажды от смерти спасла, — Вот за что она мне дорога! 1942202. ПИСЬМО ИЗ ОКОПА
Милый друг! В твоих ласковых письмах — любовь. Я их счастлив читать без конца! Получив их, обнял я винтовку и вновь Повторил свою клятву бойца. Знаешь ты: ростом я человек небольшой, А в окопе и вовсе я мал. Но сегодня, прочтя твои письма, душой Я, казалось, весь мир обнимал. Мой окоп — это грань двух враждебных миров, Меж которыми злая борьба. Делит надвое мир этот узенький ров, Всей земли в нем решится судьба. В наш глубокий окоп свой привет принесли Люди с дальних полей, с горных троп, И с надеждою взор всех народов земли Устремился на этот окоп. Вижу я из него, как склоняет лицо Над жужжащею прялкою мать: То прядет она шерсть, чтобы сотням бойцов Сотни варежек теплых связать. Вижу я: наши сестры в полуночный час Ни на шаг не уйдут от станков, И подруги готовят гранаты для нас, Чтоб скорей мы сломили врагов. А ребята-тимуровцы тоже не прочь Обсудить вечерком у ворот — Как бы семьям героев получше помочь, Обласкать и утешить сирот. Чувством дружбы, что, ширясь, растет день за днем, Все мы связаны, край наш любя… Нет, винтовка моя! Твоим метким огнем Защищал я не только себя! Я лихому врагу на твоем языке Дал на зверства достойный ответ. Твердо знаю я, палец держа на курке: Выстрел мой — голос наших побед. Пусть у немцев колени морозом свело И скривило отчаяньем рот. Меня греет могучей отчизны тепло, Мне опора — великий народ! Как бы смерть, свои черные крылья раскрыв, Ни грозила бойцу впереди, — В моем сердце бессмертен свободы порыв, Жизнь бушует в широкой груди. Чувство гордости душу волнует мою, От него мои очи влажны. Друг! Скажи: Что почетнее смерти в бою, На защите родимой страны?.. Так спасибо тебе! До меня донесли Твои письма, как светлый ручей, Всенародный привет из родимой земли, Гордость мною отчизны моей. До свиданья ж! До встречи, мой друг дорогой. Нежно-нежно целую тебя! Уже скоро мы встретимся снова с тобой. Вражью силу в земле погребя. 1942С УКРАИНСКОГО
Андрей Малышко
203. «Во мне душа твоя жива…»
Во мне душа твоя жива, Огнем горят твои слова! Нет, не удастся никому Столкнуть тебя из света в тьму. Я вижу твой спокойный взор, Весь в яворах зеленый двор, И ширь небес, и даль дорог — Всё, что я в памяти сберег. Дни светлой юности моей, Барвинка вешнего синей. Я часто думаю о них, Об этих светлых днях моих. Призывно лебеди кричат, Порывы юные звучат Труда, любви и доброты, Которой так гордилась ты! Напевы стариков седых, Раскаты песен молодых, Речь о любви наедине, День — в деле, ночь — в спокойном сне, Донецких работяг семью И юность жаркую свою Припомнил я. И ясно мне, Что не погибнешь ты в огне, Где мор, и голод, и пурга, И козни лютого врага, Мать Украина! Слышу я Хрип конский, крики воронья: Оно, не улетая прочь, Терзает мертвого всю ночь. Отец мой! Друг мой! Побратим! Взгляни на горизонт. За ним, Как в гетманщины дни, — вдали Дороги смерти пролегли. Там в поле мерзнет детвора, Там волки рыщут у двора, Оттуда на грядущий день Ложится тягостная тень. Глубоко в сердце спрячу я Гром пушек, крики воронья, Очей незрячих пустоту, Ночей осенних темноту И радостную дерзость их — Моих мечтаний молодых. Когда б, собрав невинных плач, Их горе вытрубил трубач, Когда б всю боль и всю тоску Соединить в одну реку, То мир, что к горестям привык, От плача б тяжкого поник, Луга у золотых берез Завяли навсегда от слез. Какие снились нам жнивья? И что за ветер чую я? Смотрите: кровь и месть растут Густым посевом! Близок суд! Мечтает о весне дубок, В простой семье растет сынок, В него, изранена в бою, Вольешь ты ненависть свою, И в лес уйдет сыновний след… Идут полки. Горит рассвет. И в каждой хате у дверей Я вижу ждущих матерей. Всем, кто склонился на мечи, Всем, кто расстрелян был в ночи, Всем, кто убит в моем краю, — Свою печаль я отдаю, Ее разбивши на куски, Так, чтобы поровну тоски И гнева каждому из нас Досталось на отмщенья час. За меру — меру! Кровь — за кровь Мы, истребив своих врагов, В родимом поле на весну Поднимем плугом целину… Вставай, палимая огнем, Мужающая с каждым днем, Ты, что не хочешь умирать, Что будешь жить, — родная мать, Мать Украина!.. 1942204. «Ты меня накличешься ночами…»
Ты меня накличешься ночами И, неся разлуку за плечами, Вдоволь наглядишься из окна. Исстрадаешься в своей надежде, Вспомнишь землю, где мы жили прежде, В юности, и где теперь война. Ты не можешь видеть издалёка, Как чужие танки мнут жестоко, Горе сушит, кроет боя мгла Эту землю, что, росой умыта, Вся в садах, вся в желтых копнах жита, Вся в цветах, как радуга, цвела. Нелегко идти к родному дому Через мертвых, через вспышки грома, Через ночь — прожекторов мечи, — Быть всегда в бою, всегда в дороге… Ты еще накличешься в тревоге, Наглядишься из окна в ночи! 1942205. «Бронзовый памятник в сквере новом…»
Бронзовый памятник в сквере новом, Яблоня в тихом саду цветет… Всё отпылало закатом багровым: Войны, побоища, кровь и пот. Но сберегает нам память наша Воспоминание о прожитом. Лето цветет. Поднялась ромашка. Белой гречихи море кругом. Дети щебечут. Седеет мята, И серебрится полынь-трава… Сколько замучено и распято — Знает земля, как старуха вдова. Пыль на дорогах, закат багровый, Камень истертых ногами плит, Травы да памятник в сквере новом, Где безыменный боец зарыт. 1943Максим Рыльский
206. Я — СЫН СТРАНЫ СОВЕТОВ
Страны Советов сын, я говорю Иуде, Тому, чей низкий лоб жжет Каина печать: Иной отчизны мы искать себе не будем, Мы кровью матери не станем торговать. Блиставшая вчера на камне пьедестала, В гирляндах из цветов, окроплена вином, — Сегодня нам она стократ милее стала, В жестокий смертный бой идущая с врагом. В развалинах, в крови, в геройствах несказанных, Чья слава будет жить века, а не лета,— Для нас дороже всех небес благоуханных Обычная ее земная суета. Нам черствый хлеб ее милее, чем святыня, Снега ее зимы прекрасней, чем весна, И то, что горечью она объята ныне,— Лишь знак, что оживет для радости она. Я — гордый сын страны, что ранами своими Несет свободу всем народам и краям. Поклонится ее бойцам непобедимым Любой цветок земли, склоняясь к их ногам. И словом, и мечом я, сын Страны Советов, Готов разить врага, что, как палач, жесток. Еще ее чело в колючий терн одето, Но славою сплетен ей лавровый венок. Хоть за слезой слезу она, как бисер, нижет, Но уж споткнулся враг среди ее равнин, И в небесах над ней зарю победы вижу Я — сын моей страны, я — самой правды сын! 1942207. СЛОВО И ОТЗВУК
Сошлись мои друзья, обветренные боем, И в розовые сумерки зимы В залог того пожали руки мы, Что грудью от врага свой стяг и хлеб закроем. Привет через эфир послали мы героям На вспаханные танками холмы… О слово вещее! Набатом грянь из тьмы, Сзывая их на бой, бодря и беспокоя! И нам эфир принес их пламенный ответ, Что над землей уже зари забрезжил свет, Что лютого врага слабеет злая сила, Что близится уже победы нашей срок, Что возрожденья день счастливый недалек, Что синий свод небес весна позолотила! 1942Владимир Сосюра
208. «Насильники из хаты…»
Насильники из хаты Успели всё забрать.. Лежат в крови ребята, А рядом с ними — мать. Не видеть солнца в поле Им в ясные деньки: Их ночью закололи Немецкие штыки. В разбитых окнах стынут Снопы лучей дневных… Отплатит Украина За смерть детей своих! 1942Михайло Стельмах
209. ПОСВЯЩЕНИЕ
Когда зашепчет сон-трава в дуброве И ей ответят крики лебедей, Земля проснется в праздничной обнове, Букашки зашныряют по воде; Когда из сел, что в горе онемели, На поле снова выйдут трактора, — Я возвращусь в продымленной шинели В чудесный край могучего Днепра. Начну пахать глухие перелоги, Смотреть, как ржи потоки ливней пьют, И будут сердцу видеться дороги, Где жизнь со счастьем об руку идут. И вдруг в лесу, где шелестит калина, Я твой напев услышу по пути… Что ж! Пожелай тогда нам, Украина, На праздник мира песню принести! 1942Павло Тычина
210. ГОЛОС МАТЕРИ
Ужасна эта ночь была: Трещали стены, буря выла… Мне тяжесть на сердце легла И, как свинец, его давила. «Встань, брат!.. Спаси!..» — в мой сонный слух Слова из бури долетели, И беспокойства смутный дух Поднял меня с моей постели. Я глянул в темноту, и мне Привиделось, что там висело Перед окошком, в вышине, В петле качавшееся тело. Я ужаснулся: «Это ты?!» — «Сними меня!» — висящий крикнул. Рукою холод темноты Ловил я, лбом к стеклу приникнув. …И мне почудилось, что — вот Я в Киеве… Псы сворой тощей Грызутся… Немец стережет Повешенных… Безлюдна площадь… Как сладко жизнь отдать, друзья, За свой народ, за счастье края!.. Бросаюсь к виселице я, Петлю ножом перерезаю. На землю брата я кладу И сердца слушаю биенье, И, оживающий, в бреду Хрипит он: «Мщенья, друже! Мщенья!» Тут немец выстрелил по мне. И я проснулся… Дождь бил в крышу. Так это было лишь во сне? Как душно!.. Я из дома вышел. Но тяжесть на сердце легла И, как свинец, его давила. Ужасна эта ночь была! Деревья гнулись, буря выла… «Тебя, — мне кто-то молвил вдруг Сквозь бури шум, — я разбудила. Не спи! Пусть бодрствует твой дух! Как никогда нужна нам сила! Идут друзья твои на бой, Их тысячи, их миллионы. Пусть вдохновит их голос твой К победе рваться непреклонно! Вослед полкам спешат полки, Чтоб вражью раздавить ораву. Дай им огонь твоей строки, Что закалялась в гневе правом! Ужель ты слеп и глух? Взгляни: Вот те, кто умер, в край свой веря. Они взывают: „Прокляни Нас всех замучившего зверя!“ Смотри, что делает злодей: Повешенных качает ветер… Святую злобу перелей В свой стих!.. Гляди: убиты дети, А матери их — растлены, Отцы — живьем зарыты в землю. Почувствуй боль родной страны — Тогда лишь я тебя приемлю. Ведь ты остался молодым, Воспой же гнев родного края! Сегодня я сынам своим В огне и буре лик являю! Будь тверд и крепок как алмаз. Забудь обманчивую жалость: Тому, кто ослабел хоть раз, Я во второй раз не являюсь! Ты узнаешь мой голос? Я — Вскормившая тебя, как сына, Страна советская твоя, Твоя родная Украина!» …И засвистело в проводах, И стихло… Утро наступало… Лишь в тучах молний двух зигзаг Сверкал, как будто в небесах Мать к сыну руки простирала! 1942С ЭСТОНСКОГО
Хуго Ангервакс
211. НА РЕКЕ ПИРИТА
Утро наступало, был туман над морем Унесен порывом северных ветров… Пирита родная! На твоем просторе Ржавые разводы оставляют кровь. Разрываясь, треском оглушают мины. Расщепляет сосны вражий автомат. Над верхами башен таллинских старинных, Вспугнутые боем, голуби летят. Зарево пожара… Грохот канонады… Пьяные фашисты — наглые скоты… У тебя, отчизна, вновь украли радость, Но ярмо неволи разве стерпишь ты? Башни, что от дыма битвы почернели! Что дороже сердцу моему, чем вы? Потому-то в свисте вражеской шрапнели Я и не склоняю гордой головы! То́мпеа! Я вижу над твоей стеною Алый флаг, что будит мужество в груди. Пирита в огне течет передо мною, Олевисте в черных тучах позади. Пусть же не мечтает сброд фашистский пьяный, Что народ мой тише и смирней овцы: Старые отныне не закрылись раны, И не отболели старые рубцы. Бьют врага линкоры на морском просторе, Залпы сотрясают наши берега. Пирита родная! Ты уносишь в море Трупы оккупантов, злую кровь врага… Разрываясь, треском оглушают мины, Расщепляет сосны вражий автомат. Над верхами башен таллинских старинных, Вспугнутые боем, голуби летят. 1942Йоханнес Барбарус
212–213. ОСЕННЕЕ
1. «Когда дни осени, как инвалиды…»
Когда дни осени, как инвалиды, скрипя протезами, бредут понуро толпой безногою в ненастье, в ночь, паучьи нити утром хмурым, на сеть антенн похожи с виду, поют, что жизнь твоя умчалась прочь. Когда, блестящие росой густой на мачтах утренних сквозных кустов, они несут тебе в приемник-сердце печаль осеннюю, едва звеня, ты не боишься ли тогда увериться в законе дня, в уходе дня? Тогда ты слышишь ли на терпком небе вкус едкой горечи, как во хмелю, и запах тления?.. Один, как в гробе, на горле чувствуешь ли петлю? Осенним вечером душа осталась одна, без дружеской моей руки. Ступни скользящие дрожат устало, глаза бесслезные сухи, жестки. Слез нет как нет! ты в холодной лени подходишь к морю, садишься — и глядишь, как море швыряет в пене на берег горести свои. Виски горящие ветер резвый остудит, гладя твое плечо, и одарит тебя прохладой трезвой… Тогда одно лишь горячо желанье — жить!.. Весну влюбленным еще раз встретить!.. Опять, опять Неаполь, солнцем опаленный, увидеть!.. Жить!.. Не умирать!.. Когда рождаются звездопадом в тебе те помыслы, — в этот час знай: мы с тобой шагаем рядом, одна печаль связует нас! <1940>2. «Пол опустевшей безрадостной нивы…»
Пол опустевшей безрадостной нивы Вымела осень — до колоса. В сердце — зевота полей сиротливых, Засухой сжатые полосы. Грабли сгребли всё, что срезали косы. Вянет листва облетелая. Осень подходит, туманная осень. Что ж! Ничего не поделаешь! Ветер осенний ограбил природу. Нивы остались раздетыми. Может, и творчество этого года Как-то невзрачно поэтому? Да уж: посев мой удачливым не был! Сеянный в засуху грустную, Вырос без влаги чахоточный стебель, Зерна качая безвкусные. Чахлых скирдов обнаженные ребра Встали скелета громадою. Стук молотилок добычею доброй Хмурое сердце не радует. Осень шумит на картофельном поле Ржавой ботвой да бурьянами. Борозды, вдаль убегая на волю, Рельсами блещут туманными. Грустные мысли бегут поневоле В дали, где озимь печалится. Что-то припомнилось… Так среди поля Камень знакомый встречается. <1940>214. СКАЗКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
С бычьей физиономии пара нахальных глазок в розовом настроении смотрит из-за пенсне… Если он видит слабого, бьет его, не промазав. «Что, — говорит, — поделаешь? В жизни, как на войне!» Нос натирает золото. Стала краснеть ложбинка. Щеткой пробор зализан, как языком кота. Лишь из ноздри, забытая, тянется волосинка да, как лучи, топорщатся усики возле рта. Ворот теснит дыхание и подпирает уши: три подбородка выросли, — он тесноват для них! Кровь ударяет в голову, галстук петлею душит… Франт, он сует, как висельник, пальцы за воротник. Цепь от часов красивая, толстая, золотая, вдоль по жилету тянется через тугой живот. Он за любою женщиной, от сладострастья тая, как за своей добычею, улицами идет. В ложе сидит промышленник с временною женою. Лисье боа на женщине — как серебристый жгут… Смрадно его дыхание, тяжкое и хмельное. Тлеют глаза любовницы, ресницы ее — как трут. Солнце блистает на небе и серебрит порошу. Дама блаженно щурится: ласкова к ней судьба! Шуба ее из соболя, и туалет хороший, пудель, звеня цепочкою, писает у столба. Это его законная розовая подруга, с утренними визитами выйдя на полчаса, шествует оснеженным, заиндевелым лугом. Ей Ариадны нитью служит цепочка пса. Девушка с нотной папкою, в шубке из горностая, следом идет. Шаги ее вялы и неровны. Ей ли в унылом Таллине жить, красотой блистая! Не для нее ль составлены все поезда страны? Это его наследница сонной бредет походкой. Грезы о принцах оперных ей лишь одни милы… Папеньку нынче заперли в дом, где окно в решетках, и за подлог навесили на руки кандалы. Тело рабочих Таллина обнажено бедою. С блуз их висят лохмотьями порванные края. Дома у них — салака, черный сухарь с водою, пасмурная, голодная, высохшая семья. Три драгоценных шкуры плечи трех женщин нежат. Помните: эти шкуры содраны с нищих, с нас!.. Песня — это не песня, если, как нож, не режет: слушайте хоть однажды поэзии диссонанс! <1940>215. ЛЮДИ ПОД ЛУНОЙ
Есть люди: пусть и мелок день их, Они всегда полны собою. Весь смысл их жизни — в пачке денег. Что им война и поле боя? Они — вот пуп земли, что будет С другими — им какое дело? К любой среде такие люди Приспособляются умело. Им вечно кажется, что скуден Паек — отрада тел их бренных. Войну клянут такие люди Из-за ее тягот военных. Клещи, они вопьются разом В ткань так, что кровь из тела брызнет. Они — слепцы, их честь и разум, Как ставни, заперты для жизни. Бездушны сами и ленивы, Они вниманья ждут от друга. Мы сохраним их негативы И разглядим в часы досуга. Противны этих баб столетних Нытье и жалкие печали. Услышав их пустые сплетни, Презрительно пожми плечами! 1942216. ВООРУЖЕННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Скажи: ужели и в дни сраженья, Поэт, останешься ты интимным? Довольно сдерживать вдохновенье! Пусть песня станет военным гимном, Пусть стих пойдет на вооруженье! В такие дни ты не будешь прежним — Приличным, кротким, беззлобным, гладким. К тебе взывает весь мир безбрежный! Ему, что стонет в жестокой схватке, Приди на помощь стихом мятежным! Будь беспощаден, могуч, неистов, Точи оружье, иди в атаку. Стихи, как армию, в поле выставь, Мсти им, прервавшим наш труд собакам, Штыком и словом громи фашистов! Под ритм чеканный стихов суровых Шагай в походе и стой на страже. Тот динамит, что заложен в строфах, Взорвет на воздух твердыни вражьи… Копи ж его для ударов новых! Пусть робких муз убивает холод. Ты ж, битвой смертною опаленный, Мир вновь отстроишь на месте голом И песню выносишь, вдохновленный Сражения красотой тяжелой. 1943Март Рауд
217. «Мечтой лечу я в родимый край…»
Мечтой лечу я в родимый край, Где жил и где умру… Ищи его, душа моя! Летай Листовкой на ветру. Земля зеленеет, а над ней — Солнце и облака… Но сердце давит мне всё больней По родине тоска. Кукует кукушка. Цветут цветы. На запад туча идет… Гроза возмездия! Это ты Затмила весь небосвод! Пускай же блистают над головой Молнии там и тут: В полях Эстонии смертный бой С врагами братья ведут. Победа! От Пейпуса волн иди До моря синей черты. Иди — и край мой освободи От крови и нищеты! 1942ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ
С ВЕНГЕРСКОГО
Шандор Петефи
218. ЯНОШ КУКУРУЗА
1
На берегу ручья, под жарким солнцем лета, Раскинув грубый плащ по мураве нагретой, Где кашка разрослась, ромашки и лопух, В июньскую жару валяется пастух. Напрасно летний жар лицо пастушье сушит, Совсем другой огонь ему сжигает душу, Без присмотра в лесок ушли его стада, Вблизи бежит ручей — и он глядит туда. Восторженно глядит на хлопья мыльной пены, На молодую грудь, на круглые колена Возлюбленной своей, стирающей белье… Как юбочка легко подоткнута ее! Как белокурых кос красив тяжелый узел! Как девочка мила!.. Всё Янчи Кукурузе В любезной по душе! Всё — совершенство в ней!.. «О Илушка моя, цветок души моей! Поверь, что на земле — лишь ты моя отрада. Любимая! Спешить с работою не надо. Выдь на берег ко мне, о горлинка моя! Дай на твоих губах оставлю душу я!» «Со стиркой нужно мне управиться сначала,— Так Илушка ему печально отвечала,— Ты знаешь, я живу у мачехи в дому. Старуха жестока к сиротству моему. Когда б не страх пред ней, — поверь, что я бы вышла!» — Бедняжка, покраснев, добавила чуть слышно, Белье в воде ручья прилежно полоща. И Кукуруза встал с нагретого плаща. «Один лишь поцелуй! Всего одно объятье!.. Ужели за тебя не в силах постоять я? Да мачехи твоей сейчас и дома нет!» — Красавице своей промолвил он в ответ. Так выманил ее он сладким разговором На берег, заключил в свои объятья скоро И целовал не раз, не сто, не двести раз, А сколько — знал лишь тот, чей всюду видит глаз.2
Целует ей пастух уста, глаза и плечи, И между тем в ручье уже алеет вечер И мачеха в сердцах, что падчерицы нет, Ругаясь и ворча, проклятья шлет ей вслед: «Негодница! Куда она запропастилась? Долгонько нет ее! Уже и ночь спустилась. Схожу к ручью, взгляну: постираны ль плащи? И если нет, — тогда, лентяйка, не взыщи!..» Ах, Илушка, очнись! Беда тебе, сиротка! Вот ведьма уж бежит мышиною походкой И, яростно раскрыв беззубый черный рот, От сладких снов любви вас будит и орет: «Бессовестная тварь! Бесстыдное созданье! За что тебя господь послал мне в наказанье? Ты честный дом отца позоришь пред людьми! Скорей ступай домой, чума тебя возьми!» «Вы, маменька, уже достаточно сказали! — Прервал ее пастух и зло блеснул глазами. — Уймите ваш язык, иль я заткну вам рот И вырву желтый зуб, что выдался вперед! Вам Илушка и так работает немало И ест лишь черствый хлеб с похлебкою без сала, Коль станете бранить сиротку, то потом Пеняйте на себя я подожгу ваш дом!.. Ступай, мой бедный друг! — промолвил он невесте. — Скажи лишь мне — чуть что… А вы, карга, не лезьте В чужие вам дела, совет мой от души! Чай, девушкой и вы бывали хороши». Тут Кукуруза мой, накинув плащ на плечи, Отправился искать свои стада овечьи. Искал он их, искал — и обмер наконец, В овражке отыскав лишь несколько овец.3
Уж солнышко зашло за крышами овинов, А наш пастух собрал овец лишь половину. Украл их кто-нибудь иль, может, волк унес, Пока свою любовь он целовал взасос? Он этого не знал. Куда б ни делось стадо, Оставшихся овец вести в деревню надо. И, с духом собравшись, печальный Янчи мой Взял в руки посох свой и гонит их домой. Он гонит их домой и думает: «Пожалуй, Сегодня мне влетит, как сроду не влетало! И так хозяин мой был нынче что-то строг, И тут еще одна беда, помилуй бог!» Повесив грустно нос, приплелся он к воротам… Хозяину овец пересчитать охота, Проверить: целы все ль, здоровы ли? И вот Хозяин, подбочась, выходит из ворот. «Плохой сегодня день! Похвастаться нельзя им! Я стадо, — что скрывать? — не уберег, хозяин! Овец недостает И не одной, не двух, — Полстада нет как нет!» — сказал ему пастух. Тот гневно подкрутил усы у щек надутых И молвил: «Не люблю, признаться, глупых шуток. Чтоб ты со мною так, мальчишка, не шутил, Покуда я тебя дубинкой не хватил!» Но Янчи отвечал: «Мои слова — не шутка!» Хозяин, рассердись, лишается рассудка, На Кукурузу он, как бешеный, орет: «Я вилы, чертов сын, всажу тебе в живот! Ох, лежебока ты! Ох, висельник! Ох, жулик! Пусть вороны твой труп у плахи караулят! Дай бог тебе висеть в петле у палача!..» — Так он честил его, ругаясь и крича. «Да для того ль, скажи, тебя кормил я, идол? Прочь с глаз моих, злодей, чтоб я тебя не видел!» Тут вырвал из плетня хозяин добрый кол И, разъярясь, с колом на пастуха пошел. Он выбрал добрый кол и драться шел, грозя им. Увидев, что всерьез разгневался хозяин, Наш Янчи побежал… Не от испуга, нет: Он стоил двадцати, хоть прожил двадцать лет! Бежал он потому, что, рассуждая здраво, Хозяин на него разгневался по праву, И если свалке быть, то руку на того Поднять он не хотел, кто воспитал его. Хозяин поотстал. Шаги умолкли сзади… Без цели наш пастух поплелся, в землю глядя. Садился. Снова брел неведомо куда. У Янчи в голове всё спутала беда.4
Когда ж настала ночь, когда в ручей зеркальный Взглянули сотни звезд и с ними месяц дальний, У Илушки в саду пастух окончил путь, Не понимая сам, как мог сюда свернуть. Из рукава плаща бедняга вынул дудку, Дохнул — и полилась печальная погудка, Такая, что роса, упавшая к утру, Была слезами звезд, что слушали игру. Возлюбленной его служили сани ложем. Она спала. Но он сиротку потревожил. Красавица сквозь сой узнала тот мотив И вышла в сад, рукой косынку прихватив. Но счастья не дала ей эта встреча с другом! Бедняжка задала вопрос ему с испугом: «Мой милый! Что с тобой? Зачем так бледен ты, Как месяц, что глядит с осенней высоты?» «Как бледным мне не быть, — сказал пастух унылый, — Когда в последний раз тебя, мой ангел милый, Сегодня вижу я!» — «Мне эта речь страшна! Оставь ее, мой друг!» — ответила она. «В последний раз меня ты нынче повстречала, Свирель моя тебе в последний раз звучала, В последний раз тебя сейчас я обниму, Уста к твоим устам в последний раз прижму!» Тут он ей рассказал, какая незадача Его постигла днем. Она прижалась, плача, Лицом к его груди. И он отвел глаза, Чтоб ей не показать, как падает слеза. «Прощай, моя любовь! Судьба в руках у бога. О милом вспоминай порою хоть немного. Когда осенний ветр сорвет листы, гоня По небу облака, — подумай про меня!» «Прощай, мой верный друг! Судьба в руках у бога. Мы встретимся ль? Как знать! Тебе пора в дорогу. Коль высохший цветок в далекой стороне Увидишь на пути, — подумай обо мне!» Так бедный Янчи мой с возлюбленной расстался, Расстался — как листок от ветки оторвался. Она в его руках лежала, трепеща, Он слезы на щеках ей рукавом плаща Отер и вдаль ушел, не поднимая взгляда… Жгли пастухи костры. Звенел бубенчик стада. Хоть ноги шли вперед, душа влеклась назад, И он не замечал ни пастухов, ни стад. Деревня позади. Звон колокола глуше. Померкли вдалеке огни костров пастушьих. Он посмотрел назад: лишь церковь, как скелет, Как призрак гробовой, ему глядела вслед. И слез его ничье не подглядело око, Никто не услыхал, как он вздохнул глубоко. Лишь высоко над ним летели журавли, Но вздоха с высоты расслышать не могли. Так в сумраке ночном шагал он, невеселый, И по пятам за ним влачился плащ тяжелый. Был тяжек этот плащ и палка тяжела, Но тяжелей всего его печаль была.5
Когда ж на небесах сменило солнце месяц, Пастух покинул сень тенистых перелесиц И углубился в степь. Бескрайняя, она Тянулась на восток, желта и спалена. Ни кустика вокруг, всё пусто слева, справа! Лишь капельки росы блестят на низких травах… Но вот издалека, прохладою дыша, Блеснуло озерко в оправе камыша. В болоте вкруг него смешная цапля бродит, То рыбку в камыше, то червячка находит, Да чайки, в той степи селясь бог знает где, То взмоют в небеса, то упадут к воде. Ничем не веселясь, идет пастух угрюмый, Всецело поглощен своей печальной думой. Хоть солнце темноту давно прогнало прочь, В душе у пастуха царит всё та же ночь. Когда же солнца шар достиг вершины неба, Он отдохнуть присел, достал краюху хлеба И вспомнил, что не ел с прошедшего утра. (Сморили пастуха усталость и жара!) Он вынул из сумы кусок свиного сала… Сияли небеса. И солнышко бросало Отвесные лучи. И в мареве жары, Как слабая струна, звенели комары. Немного отдохнув за трапезою скромной, Со шляпой к озерку пошел бедняк бездомный, По щиколотки стал в пахучий скользкий ил И зачерпнул воды и жажду утолил. Потом хотел идти, но тут же, у болота, Почуял, что ему смежает взор дремота, И голова его на хижину крота Упала, тяжестью свинцовой налита. И сон его привел к покинутому месту. Он с Илушкой сидел. Он обнимал невесту. Когда ж к ее губам хотел склониться он, Удар степной грозы его рассеял сон. Всё потемнело вдруг! Вся степь пришла в движенье! В природе началось великое сраженье… Так быстро в небесах произошла война, Как пастуха судьба вдруг сделалась темна. Гудели небеса. В просторы, в бездорожье Из черных туч стремглав летели стрелы божьи И падали, камыш зловеще озарив, И по воде пруда плясали пузыри. Тут шапку Янчи наш на самый лоб надвинул, На посох оперся и на плечи накинул Свой плащ, что был подбит овчиною внизу, И с холмика смотрел на страшную грозу. Но летняя гроза как прилетела скоро, Так скоро и ушла с небесного простора, На крыльях облаков умчалась на восток, Где радуги висел сверкающий мосток… Уж солнце спать легло в оранжевой постели. Дохнуло холодком. Кусты зашелестели. Тут капельки дождя пастух стряхнул с плаща И дальше в путь пошел, дороги не ища. От милого села несли беднягу ноги В чужбину, через лес таинственный и строгий, И вором вслед ему прокаркал из гнезда, Выклевывая глаз у мертвого дрозда. Но ворон, лес и ночь его не испугали. В чащобу ноги шли, сквозь заросли шагали, Где мертвенно легло на каждое бревно Безрадостной луны холодное пятно.6
Кругом чернеет лес. Уж близко к полуночи. Вдруг теплый огонек ему метнулся в очи. Он лился из окна, тот красный огонек, И Янчи моего внимание привлек. «Ну вот, — хвала тебе, господь, создатель мира! Тот огонек едва ль не из окна трактира,— Подумал наш пастух. — Коль к этому окну Привел меня господь, я тут и отдохну». Он стукнул. Изнутри ответили сердито. (Тот домик был притон двенадцати бандитов, Их потайной вертеп. И в это время в нем Головорезы те сидели за столом.) Безлюдье… топоры… бандиты… пистолеты… Коль здраво рассудить, совсем не шутка это! Но сердцем пастуха гордиться б мог орел, Поэтому пастух без страха к ним вошел. Войдя, он шляпу снял и молвил: «Добрый вечер!» — Как вежливость велит нам поступать при встрече. Бандиты — кто пистоль, кто нож, кто ятаган Схватили, и сказал их грозный атаман: «Скажи, дитя беды: откуда ты и кто ты? Ответь нам: как посмел пробраться за ворота Заветного жилья? Есть у тебя жена? Коль есть, то уж с тобой не встретится она!» Но сердце пастуха сильнее не забилось От этих страшных слов, лицо не изменилось, И голосом, что был спокоен и силен, Бандитов вожаку ответил смело он: «Купцу, что мимо вас спешит с богатым грузом, Конечно, вы страшны. Я ж, Янчи Кукуруза, Бродяга и пастух. Я жизни не ценю. Вот почему пришел я к вашему огню. Когда вам лишний грех на совести не нужен, То вы дадите мне ночлег и добрый ужин, А нет, — вольны убить. Ведь я у вас в плену. Клянусь, что я в ответ рукой не шевельну». Весь стол был удивлен ответом пастуха. «Послушай-ка, дружок! Призна́юсь без греха, Что ты мне по душе, лихая голова! Тебя перекроить, так выйдет парня два! Пусть черт возьмет тебя и твоего патрона! Такого упустить могла бы лишь ворона. Ты презираешь смерть! Ты храбр! Ты нужен нам! Ты малый хоть куда! Ударим по рукам! Убийство и грабеж — для нас одна забава. Вот слева серебро. Вот золото направо. Сознайся: за труды — хорошая цена! Коль руку мне пожмешь, то вот тебе она!» Наш хитрый Янчи всё сообразил проворно. «Я, дескать, очень рад! — ответил он притворно.— Вот вам моя рука. Пусть дружба свяжет нас. Клянусь, что этот час — мой самый светлый час!» «Чтоб сделать этот час еще светлей и лучше, Мы пиршеством ночным разгоним грусти тучи. В подвалах у попов немало сладких вин. Сейчас мы поглядим: глубок ли наш кувшин?» Разбойники всю ночь искали дно в кувшинах. (У них что ни кувшин — то в полтора аршина!) Нашли и напились к рассвету наповал! Лишь Янчи наш вино глотками отпивал. Когда ж бандиты все успели нализаться, Забрал их крепкий сон. И пьяные мерзавцы Свалились — кто куда: под лавки и под стол… Тут Кукуруза мой такую речь повел: «Спокойной ночи вам! Вас ангелы разбудят, Когда придет судья, который мертвых судит. Вы были жестоки к другим, а потому Без жалости и я отправлю вас во тьму. Сейчас я отыщу сокровищ ваших бочку, Червонцами набью и сумку и сорочку И ворочусь домой с богатою казной, Чтоб Илушку мою назвать своей женой, Построю крепкий дом, густым плющом увитый, Введу ее туда хозяйкой домовитой, И разобью сады, и буду по садам Гулять с ней, как в раю, как Ева и Адам!.. Но полно! — наш пастух прервал себя нежданно,— Ужели я вернусь к тебе с таким приданым, Любимая моя? В нем каждый золотой Заржавел от крови, невинно пролитой! Я не возьму его. За каждую монету Мне совесть жить не даст, страшнее муки нету! Я Илушки любовь ничем не загрязню. Ужасен этот клад. Предам его огню!» Окончив эту речь, он вышел на крылечко, Нашел в своей суме огниво, трут и свечку, Раздул огонь, поджег разбойничий притон, И начал дом в лесу пылать со всех сторон. Окуталась дымком соломенная крыша. Пробился огонек. Потух. Подпрыгнул выше. Малиновый язык лизнул стекло окна. И месяц побледнел. И стала ночь темна. Над пляскою огней, над их игрой живою Пронесся нетопырь с ослепшею совою, Во тьму, в лесную глушь шарахнулись они, Где только шум дерев и слышен искони. И занялась заря. И осветило солнце Развалины трубы, разбитое оконце, Спаленные столбы, сгоревший черный дом… И кости мертвецов желтели страшно в нем.7
В то время наш пастух спокойно шел по степи. Недолго думал он о брошенном вертепе, Пылающем в лесу! Вдруг в солнечных лучах Он увидал солдат в блестящих епанчах. То мчались на конях венгерские гусары. Лучи холодный блеск на сабли их бросали. Вздымалась тучей пыль, и каждый борзый конь Из камней высекал копытами огонь. «Вот мне бы в этот полк! — подумал Кукуруза. — Клянусь, что для него я не был бы обузой! Их важный капитан, видать, силач и хват. И я бы среди них заправский был солдат!» Задумавшись, пастух шагал в пыли дорожной. И вдруг раздался крик: «Приятель, осторожно! На голову свою не наступи, земляк. О чем тебе, дружок, задумываться так?» «Я бедный пешеход, — сказал он капитану, — Не знаю, где усну и где на отдых стану. Я много веселей глядел бы, ваша честь, Когда у вас в полку я мог бы службу несть!» «Опасна жизнь солдат! — ответил тот герою. — Мы заняты, дружок, войной, а не игрою. На Францию ведут бесчисленную рать Османы. Мы ж спешим французам помогать». И Кукуруза наш сказал ему: «Тем боле Хотел бы я душой забыться в ратном поле. Когда я в грудь врага не погружу клинка, То скоро самого убьет меня тоска. Пускай лишь на осле за овцами, бывало, Я ездил в пастухах, — всё это миновало. Я, черт возьми, мадьяр! И это для меня Создал премудрый бог и саблю и коня!» Он многое еще сказал, шагая рядом С начальником гусар, и речь дополнил взглядом Таким, что капитан, потолковавши с ним, Велел его в свой полк зачислить рядовым. Едва ль передадут обычной речи звуки, Что думал, натянув малиновые брюки и синий доломан, веселый Янчи наш! Он солнцу показал сверкающий палаш, Уселся на коня, и конь, приказу внемля, Послушен был узде и бил копытом землю, И если бы земля под Янчи затряслась, И солнца свет померк, и дьявол крикнул: «Слазь!» — Он всё равно б не слез!.. Приятели-солдаты Дивились на него — таким глядел он хватом! Когда ж снимался полк и покидал село, То девушек пятьсот за Янчи с плачем шло! Но что касалось их, то сердце Янчи билось Спокойно: ни одна ему не полюбилась. Объехав много стран, не мог он отыскать Такую хоть одну, что Илушке под стать.8
Ей верен до конца остался Кукуруза!.. Меж тем гусары шли на выручку французов, И вот однажды полк узнал немалый страх, Придя в страну татар о песьих головах. К гусарам вышел царь татар песьеголовых И капитану их сказал такое слово: «Кто вы? Известно ль вам, что мой народ окрест Людскую кровь сосет, людское мясо ест?» У каждого бойца от страха сжалось сердце: Песьеголовцев сто на каждого венгерца Готовилось напасть. Их выручил один Великодушный царь косматых сарацин. Он у царя татар гостил и стал горою За молодцов гусар, за полк моих героев. (Он в их родной стране бывал когда-то встарь, И честный нрав мадьяр знал сарацинский царь.) Татарскому царю он был хорошим другом. Когда венгерцам тот угрозы слал и ругань, Он пристыдил его и начал говорить, Стараясь дикаря с гостями примирить: «Прошу тебя, мой друг: не трогай этой рати! Они — мои друзья. За что тебе карать их? Зачем тебе терзать и мучить их в плену? Дай царский пропуск им через твою страну!» «Быть посему! — сказал татарский император.— Ты просишь — и с тобой считаюсь я, как с братом» И подданным своим в обязанность вменил, Чтобы полку никто препятствий не чинил. Страшась его, никто венгерцев не обидел. Всё ж крикнул полк «ура!», когда разъезд увидел Границу той страны. И странно ль, если тут Медведи бродят лишь да финики растут.9
Да, службу сослужил им этот пропуск царский!.. Остались позади хребты страны татарской. Денек — и вот уже в Италии они. Лес розмаринов их укрыл в своей тени. Здесь всё у них пошло прекрасно, не считая Того, что круглый год там льды лежат не тая. Их пробирал мороз. (Как твердо знаем мы, В Италии всегда лежат снега зимы.) Но наши молодцы мороз преодолели. Когда же от него у них носы болели,— Чтоб стужу победить, чтоб лучше сладить с ней, Гусары на плечах несли своих коней.10
Немного погодя прошли гусары Польшу И в Индию пришли. Оттуда шаг, не больше — До Франции. Лежит поблизости она. Но в Индии была дорога их трудна! Кругом одни холмы, а небо зноем дышит. Чем дальше, тем холмы становятся всё выше; Когда же пешеход минует Бенарес, Он видит горный кряж, встающий до небес. Тут наши молодцы не мерзли, а потели. Лишь галстуки они оставили на теле. Читатель мой! И вы разделись бы, кабы Жгло солнышко от вас в получасу ходьбы. Гусары шли да шли. И, становясь на роздых, На завтрак пили дождь, на ужин ели воздух. Когда же чересчур томил их солнца луч, Спасался полк водой, что выжимал из туч. Вот наконец они добрались до вершины. Здесь только по ночам и шли, хоть и спешили, А отдыхали днем. (Там жарко, как в аду!) Тут Янчи аргамак споткнулся о звезду. И в бездну та звезда скатилась с легким шумом. А Янчи посмотрел и про себя подумал: «В народе говорят: коль падает звезда, То это чья-то жизнь погасла навсегда. Ну, мачеха, молись! Твое, старуха, счастье, Что разобрать пастух — где чья звезда — не властен. Когда средь этих звезд нашел бы я твою, Ты, старая карга, давно была б в раю!» Спустились вниз они по каменистым склонам. Тут стало холодней. Внизу ковром зеленым Иль шахматной доской раскинулись поля. И та земля была — французская земля.11
А с Францией другим не поравняться странам! Я б этот край сравнил с Эдемом, с Ханааном! Поэтому враждой и алчностью дыша, На Францию привел орду свою паша. Уже его орда награбила немало Сокровищниц, дворцов, и ризниц, и подвалов. Она деревни жгла и, вытоптав зерно, Зарезала овец и выпила вино. Пришедшие туда на выручку мадьяры Увидели кругом руины и пожары. Османы, короля прогнав из замка прочь, Украли у него единственную дочь. Глубоко удручен судьбою столь печальной, От турок в глубь страны бежал король опальный. Никто на короля не мог смотреть без слез, Так много страшных бед несчастный перенес! Начальнику гусар сказал король-изгнанник: «Мой друг! Перед тобой стоит бездомный странник. Я с Дарием давно ль поспорить славой мог? И вот, как нищий, я скитаюсь вдоль дорог!» Начальник отвечал: «Уж мы, король великий, Заставим поплясать народец этот дикий За то, что, у тебя отняв страну и трон, С тобою поступил так недостойно он. Позволь нам отдохнуть. Наш трудный путь был долог. А завтра, лишь заря поднимет ночи полог, Врагам через посла объявим мы войну И вмиг тебе, король, вернем твою страну!» «Увы! — сказал король. — А где моя дочурка? Тому, кто отобьет несчастную у турка И бедному отцу вернет голубку вновь, — Полцарства моего и дочери любовь!» Гусарам те слова весьма приятны были И многих молодцов на подвиг вдохновили, И каждый думал так: «Хоть голову сломлю, А дочку возвращу бедняге королю!» Лишь Кукуруза наш на это обещанье Французского царя не обратил вниманья: Его мечта была в совсем ином краю — Он вспоминал в тот миг про Илушку свою.12
Когда же поутру над миром солнце встало, Оно такой борьбы картину увидало, Взберясь по облакам на краешек земли, Какой мы и во сне увидеть не могли: Под звуки медных труб, под грохот барабана «По коням!» — раздалась команда капитана, Проснулась наша рать и села на коней, И знамя в синеве зареяло над ней. «Друзья! — сказал король. — Я тоже с вами вместе Пойду громить врагов моей земли и чести. Пускай я стар и сед, — я бранный шум люблю!» Но капитан гусар ответил королю: «Нет, милостивый царь. Останься лучше сзади И в драку, не спросясь, не суйся, бога ради. Пусть боевой задор не изменил тебе,— Коль силы нет в руках, какой уж смысл в борьбе? Останься позади и положись на бога, На ангелов его и на меня немного. Клянусь тебе, король: еще полночный сон На землю не сойдет, как ты займешь свой трон!» Тут бравый полк гусар, лихую песню грянув, Отправился искать разбойников-османов. Вблизи кибитки их стояли без числа, И полк им объявил войну через посла. Он прискакал назад — и затрубили горны. Мадьяры на врагов помчались тучей черной: Гусарских шашек лязг и пистолетный дым Смешались в той резне с их криком боевым! В бока своих коней они вонзали шпоры, От грохота копыт дрожмя дрожали горы, Гудели недра их… Не сердце ли земли Стонало, битвы шум услышав издали? У турок был вождем паша семибунчужный. Ему, чтоб захмелеть, сто бочек меду нужно. Пунцовый от вина, его турецкий нос Как перечный стручок над бородою рос. Пузатый тот паша, вожак турецкой рати, Сойдя к своим войскам, хотел в каре собрать их, Но дрогнул табор весь и крик муллы умолк, Когда в ряды врагов мадьяр врубился полк. И задали ж они своим клинкам работу! Здесь каждый янычар потел кровавым потом, И до того дошло, что изумрудный луг, От крови покраснев, стал красным морем вдруг. Ну, жаркий был денек! Ну, битва, чтоб ей пусто! Кругом тела врагов, изрубленных в капусту… На Янчи сам паша с огромным животом Нацелился копьем. Но тот коня хлыстом Ударил, и паши желанью не переча, С усмешкой на губах скакал ему навстречу, Крича: «С чего ты вдруг расплылся, как евнух? Дай я тебя, толстяк, перекрою на двух!» Тут Кукуруза наш как думал, так и сделал: Рассеченный паша упал с кобылы белой, Верх — с правой стороны, низ — с левой стороны, Тут феска и чалма, там туфли и штаны. Увидя смерть паши, турецкие отряды Бежали от гусар, рубивших без пощады. Когда б их полк мадьяр не окружил средь гор, То, может быть, они бежали б до сих пор! Гусары скоро их настигли там однако, Их головы в траву, подобно зернам мака, Летели — и в живых остался лишь один Турецкого паши сластолюбивый сын. За ним во весь опор помчался Кукуруза… Турецкий конь, двойным отягощенный грузом, На гриве у себя несет через поля Бесчувственную дочь бедняги короля. «Стой, черт тебя возьми! — кричит пастух злодею. — Иль я тебя копьем сейчас ударю в шею И пробуравлю в ней такую дырку, брат, Что сквозь нее душа умчится прямо в ад!» Но сын паши бежал, не слушаясь нимало… Вдруг лошадь у него споткнулась и упала; Оставшись с пастухом лицом к лицу один, Ему пролепетал паши трусливый сын: «Помилуйте меня, о благородный витязь! Пред юностью моей, молю, остановитесь! Я молод, и меня ждет мать в родном краю! Ах, я отдам вам всё, — оставьте жизнь мою!» «Возьми ее себе, презренный трус и жулик! Ты, заячья душа, не стоишь честной пули Беги отсюда прочь в поля своей страны И расскажи другим — где спят ее сыны!» И сын паши бежал от этой речи гневной… Тут ясные глаза открыла королевна, И слабым голоском она едва-едва Такие, покраснев, произнесла слова: «Спаситель милый мой! Не спрашиваю — кто ты? Благодарю тебя за смелость и заботы. Ты спас меня и так приветлив был со мной, Что я готова стать, мой друг, твоей женой!» Кровь Янчи моего нельзя назвать водою. Он в поле был один с принцессой молодою, Но поборол в себе желания змею, Припомнив в этот миг любимую свою. Он отвечал ей так: «Принцесса молодая! Вас ждет в своем дворце старик отец, рыдая. Позвольте, я сперва туда вас отведу…» Слез и повел коня принцессы в поводу.13
Уже затмил небес пространство голубое Закат, когда они пришли на место боя, Уже сходила тьма, уже свет солнца гас, И на поля глядел его багровый глаз. Глядел — и на полях, туманами повитых, Лишь воронов нашел сидящих на убитых… Был солнцу этот вид так страшен, что оно Нырнуло в океан и спряталось на дно. Спокойной синевой тут озеро блистало, Но в этот мрачный час оно пунцовым стало, Когда в его воде венгерцев наших рать Кровь турок принялась смывать и оттирать. Отмывшись наконец от крови и от пыли, Гусары короля с почетом проводили В тот замок, что стоял совсем невдалеке И башни отражал в клубящейся реке. Туда же в этот час приехал Кукуруза. С ним королевна шла. Пусть мне поможет муза Представить, как она прекрасна и светла!.. Он — как гроза, она — как радуга была! Принцесса, вся в слезах, к родителю на шею Упала, и король сам прослезился с нею. Вновь найденную дочь в уста облобызал И, сдвинув набекрень корону, он сказал: «Час горестей прошел! Теперь нам отдых нужен. Пора героям сесть за королевский ужин! Распорядитесь: пусть придворный кулинар Заколет сто быков для доблестных мадьяр». «Великий государь! В столовой всё готово От жареных цыплят до рейнского густого», — Раздался хриплый бас, и повар в колпаке Предстал пред королем с шумовкою в руке. И повара слова приятно отдавались В ушах моих гусар: они проголодались, И никого просить вторично не пришлось, И чавканье солдат в столовой раздалось. И так же горячо, как час назад османов, Все стали истреблять индеек и фазанов, И к сыру перешли, отдав колбасам честь. (Чтоб ловко убивать — солидно надо есть!) Уж кубок обходил столы во славу божью, Когда король сказал с прочувствованной дрожью: «Прошу вас, господа, мою послушать речь И тем, что я скажу, отнюдь не пренебречь». Хотя толпа гусар не перестала кушать, Но слово короля была готова слушать. Он кашлянул в кулак, потом отпил вина, Стремясь, чтоб речь была красива и плавна, И начал так: «Пускай свое мне скажет имя Тот витязь, что вернул заботами своими Больному старику единственную дочь И недругов моих прогнал за море прочь!» Тут встал из-за стола наш Янчи, воин грозный, Поднялся и сказал: «Я Кукурузой прозван! Пусть это имя вам мужицкое смешно, — Как честный человек, мне нравится оно!» И произнес король: «Любезный друг! Ты станешь Отныне рыцарь мой, мой славный витязь Янош!» Он вынул из ножон свой королевский меч И, Янчи посвятив, свою продолжил речь: «Чем можно наградить столь важные заслуги? Ты видишь дочь мою? Возьми ее в супруги! Вот дар мой! А чтоб мал не показался он, В приданое бери мой королевский трон. Мне стали тяжелы и скипетр и корона, Мне восемьдесят лет, и я устал от трона, От бунтов, от войны, от королевских дел — От них я одряхлел, от них я поседел. На твой высокий лоб корону я надену И больше ничего не попрошу в замену, Как только чтобы ты мне в замке дал чулан, Покуда в склеп меня не стащит капеллан». И всю толпу гусар, что в зале ели, пили, Подарки короля донельзя удивили. Что ж сделал Янчи наш? Он тоже тронут был И добряка царя весьма благодарил. Он встал и произнес: «Спасибо, ваша милость! Мне щедрости такой награда и не снилась. Но, как ни жалко мне, я должен вам сказать, Что этот царский дар я не могу принять. Мне взять его, король, не позволяет совесть. Спроси вы: почему? — я б рассказал вам повесть, Но повесть та длинна, грустна, и я молчу, Поскольку в тягость быть собранью не хочу». «Сынок! — сказал король. — Выкладывай нам смело, Чем вызван твой отказ… Открой мне: в чем здесь дело?..» Историю свою наш Янчи начал тут, А что он рассказал, то ниже все прочтут.14
«Открою, — молвил он, — вставая перед ними, — Откуда получил я Кукурузы имя. В ее густой листве меня в степи нашли И Кукурузой в честь находки нарекли. Средь поля кукуруз на маленькой полянке Однажды в летний день сидела поселянка. Вдруг слышит, что дитя блажит бог знает где. Взглянула — и меня нашла на борозде. Так горько плакал я, что в ней проснулась жалость, Она взяла меня и накормила малость, И с поля принесла в свою избушку: ей И старику ее не дал господь детей. Но этот злой старик меня сердито встретил: „Нам голодно вдвоем, а тут еще и дети! Чем этот лишний рот кормить прикажешь мне? Неси его назад!“ — он закричал жене. „Хозяйство от него не обеднеет наше, — Сказала моему приемному папаше Она. — Когда б дитя я бросила, тогда Что отвечала б я в день страшного суда? К тому ж он подрастет и в доме пригодится, У нас овечки есть. Они начнут плодиться. Нам выгодно вдвойне: во-первых, нет греха, И мальчик, во-вторых, заменит пастуха“. Крестьянин уступил. Но, хоть играл я рядом, Ни разу на меня не глянул добрым взглядом. Когда ж у чудака неважно шли дела, В ответе у него моя спина была. Я сиротою рос. Меня держали строго: Работа да битье, а радостей немного. Все радости мои, пожалуй, были в том, Что девочка одна к нам приходила в дом. Мать Илушки моей давно слегла в могилу, А старику вдовцу без женки скучно было, Женился снова он, да вскоре и помри. Дочь круглой сиротой осталась года в три. Та девочка была тиха, как луч вечерний, Как роза, для меня полна цветов и терний. Мы с Илушкой в пыли играли у ворот, Нас знало всё село — двух маленьких сирот. Хоть я ребенком был, но милую подружку Не променял бы я на сладкую ватрушку. Я всю неделю ждал, чтобы воскресным днем На лавочке в саду с ней посидеть вдвоем. Когда ж я в первый раз поцеловался с милой, Кровь сердца моего забила с чудной силой, С такой, что думал я, один его удар Способен в пустоту земной обрушить шар! А мачеха ее частенько обижала… И лишь одна боязнь в узде ее держала: Свирепую каргу я укрощал, как мог, Пускай за сироту накажет ведьму бог! Но вот и у меня настала жизнь собачья. Однажды в честный гроб мы положили, плача, Кормилицу мою, ту, что меня нашла И, как родная мать, ко мне добра была. Едва ли кто видал, чтоб Кукуруза плакал! Я грубоватым рос, был крепок. И, однако, На этот бедный холм среди других могил, Как дождик в серый день, я горько слезы лил. Со мной моя любовь стояла у могилы. Видать, не только мне, — ей тоже горько было: Покойница ее ласкала, как могла, И, добрая душа, сиротку берегла. Бывало, лишь вдвоем увидит нас — и скажет: „Постойте! Дайте срок! Вас узы брака свяжут, И пара хоть куда получится из вас! Лишь надо потерпеть: уже недолог час“. Как верили мы ей! Как терпеливо ждали! Друг друга берегли, друг другу слово дали… Когда б ее не взял господь в свои края, Наверно, веселей была б судьба моя. Но прахом всё пошло. Она глаза сомкнула. На счастье, на любовь надежда обманула. На нас дохнуло зло дыханием зимы, Хоть, вопреки всему, нежней любили мы. Что делать? Знать, судьба в руках у высшей власти! Господь нам не судил и маленького счастья: Однажды я в лесу не уберег овец — И выгнал вон меня приемный мой отец. Я горькое „прости“ сказал моей любимой И по миру пошел, бездомный и гонимый. Немало обошел я городов и стран, Покуда в полк меня не принял капитан. Я Илушку мою не убеждал нимало, Чтоб сердце никому она не отдавала, Об этом и она не говорила мне. В свою любовь, король, мы верили вполне. Кончая речь свою, прошу вас, королевна: Мой дерзостный отказ не осудите гневно. Я буду верен ей до смерти, как жене, Хотя бы даже смерть забыла обо мне».15
Он кончил и обвел собранье пылким взглядом… Как он растрогал всех! Катились слезы градом По лицам короля, принцессы и других. И жалость к пастуху была колодцем их. Король ему сказал: «Дружище! Без сомненья, Я применять к тебе не стану принужденья. Когда принцессу ты не можешь взять женой, То я тебе, сынок, подарок дам иной. Не наградив тебя, не буду спать ночей я…» — Король сошел в подвал и крикнул казначея, И Кукурузе тот мешок червонцев дал. Бедняга отродясь их столько не видал! «Ну, витязь Янош! Ты теперь жених богатый. Пусть будет этот дар моей неполной платой За мужество твое с османами в борьбе. Дарю его твоей невесте и тебе! Хоть сладкое вино еще осталось в кубке,— Я вижу: ты мечтой летишь к своей голубке. Ты таешь! Ты горишь… Ступай, дружище, к ней. Гусары ж в замке пусть кутят хоть десять дней…» Как говорил король — так точно всё и было: Пастух спешил к своей голубке сизокрылой. Он счастья пожелал двору и королю И в гавань поспешил к большому кораблю. Хмельная рать гусар счастливца проводила, Спокойного пути счастливцу посулила И долго вслед ему смотрела… Пал туман И скрыл корабль от глаз, окутав океан.16
Пастух на корабле проснулся на рассвете. Тугие паруса ловили крепкий ветер. Но мысли пастуха неслись еще быстрей, Свободны от руля и груза якорей. И были те мечты безоблачны и ясны: «О Илушка моя! О ангел мой прекрасный! Ты радостей не ждешь, давно не веришь в них, Не знаешь, что к тебе несется твой жених. Я щедро награжден за скромную заслугу. Мы станем наконец принадлежать друг другу, Несчастий срок прошел, и после стольких бурь Теперь блеснет и нам спокойная лазурь. Я отчиму прощу жестокую обиду. Что я им оскорблен — я не подам и виду: Ведь счастья моего виновник всё же он, И будет мною он богато одарен». Так думал Янчи наш и не однажды думал, Пока корабль бежал по глади вод угрюмой И хмурый океан хлестал его бока… А Венгрия была всё так же далека! Об Илушке своей мечтая непрестанно, Пастух не слышал слов седого капитана: «Ребята! Паруса повисли на ветру. Теперь того и жди волненья поутру!» Уж осень подошла. Над морем цепью длинной Летели журавли. Тот поезд журавлиный, Казалось, нес ему от Илушки привет. С печалью и тоской пастух глядел им вслед, С печалью и тоской пастух следил за ними И тихо повторял возлюбленное имя, Полузакрыв глаза, мечтою несся к ней И с болью вспоминал о Венгрии своей.17
Как думал капитан, так и случилось: вскоре Погасли небеса, затрепетало море, Рыдая и свистя, летел кипучий вал, А ветер гнал его, крушил и бичевал. На волны моряки глядели, брови хмуря: В диковинку для них была такая буря, Творился сущий ад и в небе и в воде, И не было от волн спасения нигде! Над судном небеса то меркли, то горели. Испуганных людей слепили молний стрелы, Пучину осветив, где плыл безмолвный краб… И вдруг одна стрела ударила в корабль! Валы обломки мачт и паруса влачили, Могилу моряки нашли на дне пучины… Где ж смелый Янчи наш? Судьбою пощажен Иль тоже погребен в соленом море он? Да, был и наш герой от смерти недалеко! Но пастуха спасло всевидящее око: Огромная волна беднягу подняла, Чтоб пена для него могилой не была. Так высоко его подкинул вал могучий. Что головою он достал до синей тучи И, оказавшись там, чтоб не свалиться вниз, За краешек ее схватился и повис. Два дня, два долгих дня на туче провисел он! На третий наконец она на землю села, И та земля была вершиною скалы, Где гнезда грифы вьют да горные орлы. Спустившись, он принес благодаренье богу. Ведь, строго говоря, он потерял немного; Безделицу, пустяк: с червонцами мешок. Зато он спасся сам — и это хорошо! Нам жизнь всего милей, — уж тут какие споры… Наш Янчи посмотрел на пасмурные горы, И между хмурых скал, встающих без конца, Увидел грифа он, кормящего птенца. На птицу наш пастух тотчас аркан накинул, Пнул шпорой в бок ее, взобрался к ней на спину, И, над хребтами гор стрелою воспарив, Его, как жеребец, понес могучий гриф. Сначала гриф его старался в бездну сбросить: Он круто пастуха над пропастями носит, Петляет… Но ему ничто не помогло, Так цепко Янчи наш держался за крыло. Бог знает сколько стран скитальцы облетели… Уж чувствовал пастух усталость в крепком теле, Но как-то поутру, когда редела мгла, Увидел под собой храм своего села. Придет же иногда подобная удача! Пастух глядел на храм, от счастья чуть не плача, А утомленный гриф летел всё вниз да вниз И наконец в степи над холмиком повис. Полураскрывши клюв, могучий гриф устало Упал на этот холм, и крылья распластал он. Наш Янчи слез с него и, отпустив крыло, Задумчиво пошел в родимое село. «Из странствий, — думал он, — я не принес сокровищ, Но ты, моя любовь, мне дверь без них откроешь! Важней, что верный друг к тебе вернулся вновь, Вернулся и принес старинную любовь». Меж тем в село плелись скрипучие телеги. Уж виноград созрел. Янтарные побеги Укладывал народ в бочонки дотемна, И всюду стлался дух прокисшего вина. Сельчане пастуха уже не узнавали, Да Янчи-то и сам их замечал едва ли: Не видя ничего, он шел на край села К той хижине в саду, где Илушка жила. Когда открыл он дверь, когда вступил он в сени, Дыханье у него стеснилось на мгновенье, Но, в комнату войдя возлюбленной своей, Толпу чужих людей пастух увидел в ней. «Я не туда попал!» — берясь за ручку двери, Подумал наш герой (он сам себе не верил!). Но женщина одна, прервав домашний труд, Спросила у него, кого он ищет тут. Взволнованный пастух назвал себя молодке… «По смуглому лицу, одежде и походке, — Воскликнула она, — я б не узнала вас! Как хорошо, что вы вернулись в добрый час. Войдите к нам в избу, благослови вас боже! Вам надо отдохнуть. Я расскажу вам позже Все новости родной округи и села». И добрая душа его в избу ввела. «Вы, дядюшка, меня не помните, пожалуй. Я чуть не каждый день у Илушки бывала. Мы жили рядом тут, да домик наш снесен…» «А где ж она сама?» — спросил молодку он. Красавицы глаза наполнились слезами. «Ужель вам ничего соседи не сказали? — Смахнув слезу с ресниц, ответила она. — Ведь Илушка давно в земле схоронена…» Добро, что на скамью уселся Кукуруза! Когда бы он стоял, от тягостного груза Жестокой вести той пастух свалился б с ног… Рукою сердце он прижал, насколько мог. Казалось, он хотел из сердца вырвать муку. И долго просидел он, опершись на руку, Как будто бы уснул. И, словно пробужден, Молодку наконец спросил негромко он: «Быть может, ты мне лжешь? Быть может, замуж вышла Любимая моя, решив, что раз не слышно Так долго обо мне, то, верно, я в гробу, И в мужнюю она перебралась избу? Я Илушку тогда увижу непременно, И верь, что будет мне сладка ее измена…» У женщины в лице была печаль видна, И понял Янчи наш, что не лгала она.18
Из глаз его забил источник слез обильный, Он деревянный стол рукою обнял сильной И голосом, порой ломавшимся от слез, Склонясь на этот стол, с тоскою произнес: «Зачем я не погиб с пашою в бранном споре? Зачем я не нашел свою могилу в море? И почему стрела господнего огня, Как молния в скалу, ударила в меня?..» Прошли часы. Печаль его терзать устала, Немало потрудясь, кручина задремала, И он спросил, лицо поднявши от стола: «Скажи мне: как моя голубка умерла?» «Бедняжки чистый дух сломили огорченья, Сердечная тоска и мачехи мученья. Но та за этот грех ответила сама: Достались ей в удел лишь посох да сума. Сиротка вас звала, когда ей было плохо, И в тяжкий час конца сказала с тихим вздохом: „Любимый Янчи мой! Когда любовь свою Не позабудешь ты, мы встретимся в раю!“ Благословивши вас, она глаза закрыла И тихо умерла. Близка ее могила. Соседи до глухих кладбищенских ворот За бедным гробом шли — и плакал весь народ». И Янчи захотел проститься с гробом милой. Молодка на погост беднягу проводила Оставшись там один, от горя сам не свой, На холмик дорогой упал он головой. Упал и зарыдал и те припомнил лета, Когда ее глаза горели чистым светом… А нынче те глаза в земле схоронены, Потухли навсегда, навеки холодны! Уже закат погас, и солнце закатилось, И бледная луна над миром засветилась, Печально озарив осенний небосклон, Когда с сырой земли поднялся тихо он. Поднялся, постоял, побрел, роняя слезы… Потом вернулся вновь. Колючий кустик розы На холмике расцвел и сиротливо рос. И Кукуруза наш сорвал одну из роз И прошептал цветку: «Ты поднялся из пыли Возлюбленной моей, что крепко спит в могиле. В скитаниях моих не покидай меня!» И вдаль ушел, цветок на сердце схороня.19
Два спутника нашлись в дороге у венгерца. И первый был печаль, что вечно грызла сердце, И добрый старый меч — товарищ был второй, Тот меч, которым встарь сразил пашу герой. И долго по земле скитался он без дела… Немало раз луна полнела и худела, Немало раз земля впадала в зимний сон, Когда свою печаль окликнул тихо он. Окликнул и, грустя, сказал тоске сердечной: «Когда наскучишь ты своей работой вечной? Коль ты меня убить не можешь, то уйди, Ищи себе приют в иной людской груди. Довольно! Если ты мне дать покой не в силах,— Я по миру пойду — и в странствиях унылых Желанный мне конец найду, быть может, я. В них оборвется жизнь бесцельная моя!» Так наш пастух прогнал тревоги и печали. Лишь изредка они в пустую грудь стучали, Но крепко заперта была для них она. Лишь на глазах слеза дрожала, солона. Потом и со слезой бедняга рассчитался, У Янчи на плечах лишь жизни груз остался… Однажды в темный лес забрел он — и вблизи Телегу увидал, застрявшую в грязи. Хромому гончару она принадлежала. Он бил кнутом коня, а колесо визжало, Злорадствуя: «Ага! Попал, гончар, в беду! Хоть лопни, никуда из грязи не пойду!» «Отец! — сказал пастух горшечнику. — Здорово!» Горшечник на него уставился сурово И хмуро проворчал, присев на старый пень: «Небось не у меня, у черта добрый день!» «Ну, полно, старина! Что с вами? Не сердитесь!» — Приветливо ему ответил добрый витязь. «Как не сердиться мне? — за колесо берясь, Сказал хромой гончар. — Смотри, какая грязь!» «Я вам, отец, в беде могу помочь немного, А вы скажите мне, куда меня дорога Вот эта приведет, коль я по ней пойду?» — Спросил пастух, коня хватая за узду. «Приятель! Там лежат неведомые страны, И населяют их не люди — великаны. Тебе ходить туда совета я не дам; Кто в этот край ни шел, все погибали там». «Ну, вы уж на меня, хозяин, положитесь!» — Хромому гончару сказал бесстрашный витязь, Оглоблю ухватил и, даже не кряхтя, Возок на твердый грунт он выкатил шутя. Тот онемел, дивясь такой могучей силе! Его глаза малы для удивленья были. Когда ж: «Спасибо вам за то, что помогли!» — Горшечник произнес, уж Янчи был вдали. Он углубился в лес, и пересек долину, И скоро подошел к владеньям исполинов, И стал на берегу их крошки-ручейка, Который был широк, как бурная река. На берегу стоял лесничий великанов… Тут голову задрал, в лицо циклопу глянув, Наш Кукуруза так, как если бы на шест Пожарный он смотрел иль на церковный крест. Увидев под собой прохожего с котомкой. Циклоп загрохотал насмешливо и громко: «Вот почему моя чесалась пятка так?! Постой! Сейчас тебя я раздавлю, червяк!» Но Янчи раздавить не так-то было просто! Верзиле под пяту он меч подставил острый, Ее об этот меч обрезал великан И с грохотом в ручей обрушился, болван. Тут наш пастух, взглянув на великана тело, Понял, что тот упал, как этого хотел он: «Ведь я по нем пройти, как по мосту, могу!» Секунда — и герой на левом берегу. Подняться не успел лесничий исполинов — Уж Янчи, из ножон заветный меч свой вынув, Клинок ему в хребет вогнал по рукоять. И умер великан. Теперь ему не встать У рубежа своей страны на карауле! В последний раз глаза громадные мигнули, Потом навеки в них затмился ясный свет, И наступила ночь, конца которой нет. Широкая волна хлестнула через тело, И синяя вода ручья побагровела… А Янчи-пастуха что ждало впереди? Удача иль беда? Узнаем! Погоди!20
Стеной вокруг него сомкнулся лес зеленый. Шагая сквозь него, он видел, удивленный, Что в том лесу растут деревья до небес. Что это не простой, а великанский лес! До самых облаков деревья доходили И, прячась в облаках, незримы дальше были. Их листья разрослись на ветках до того, Что пол-листа на плащ хватило б для него. Такие комары то там, то сям мелькали, Что, будь они у нас, их спутали б с быками, И часто приходил на помощь Янчи меч: Он должен был мечом чудовищ этих сечь! А пчелы в том краю! А мухи! А вороны! У нас они малы, а там они огромны! Мой витязь увидал одну издалека, И то она была, как туча, велика! Ну, словом, путник наш всё осмотрел как надо. Вдруг встала перед ним гранитная громада И кровля вознеслась, рубинами горя Он был перед дворцом циклопьего царя. Не знаю, с чем сравнить его ворота можно! Боюсь, чтоб как-нибудь не выразиться ложно, Поэтому скажу, что царь и великан Не станет жить в избе, свой уважая сан! «Ну, что ж! — сказал пастух, всё оглядев снаружи. — Пожалуй, и внутри окажется не хуже Вид этого дворца! Войду в него теперь!..— Он смело отворил чудовищную дверь. — Ловушки не боюсь». (Был страх ему неведом!) Циклоп-король сидел в то время за обедом. Узнайте: что он ел? Рагу? Сосиски?.. Нет! Он скалы пожирал. Чудовищный обед! Когда пастух вошел в ужасное жилище, Ему язык свело от этой страшной пищи, Но ею пришлеца из человечьих стран Задумал угостить злорадный великан: «Уж если ты пришел, то пообедай с нами. Коль ты скалы не съешь, — тебя съедим мы сами, И скромный наш обед, и пресный и сухой. Сегодня сдобрим мы, незваный гость, тобой!» От речи короля другому б стало жутко! Жестокий тон ее не походил на шутку. Но у героя был бестрепетный язык. «Призна́юсь, я к таким обедам не привык, Но всё же я готов! — спокойно отвечал он. — И только об одном прошу вас: для начала Поменьше положить на блюдо мне скалу». Проговоривши так, он смело сел к столу. Отрезав от скалы кусок пятифунтовый, Царь молвил: «Вот твоя галушка и готова! Как съешь ее, еще получишь две иль три. Да только разгрызай как следует, смотри!» «Ты будешь сам ее грызть в день своей кончины И все свои клыки тупые, дурачина, Обломишь об нее!» — воскликнул наш герой И в короля метнул отрезанной горой. Обломок этот в лоб так хлопнул великана, Что мозг его потек, как влага из стакана, И вышиб навсегда его свирепый дух. «Давай еще одну! — смеясь, сказал пастух.— Но, видимо, тебе галушки повредили!..» Над смертью короля циклопы приуныли, Прошибла их слеза от этакой беды. (Одна слезинка их равна ведру воды!) И старший великан, смущен подобной силой, Промолвил пастуху: «Ах, господин, помилуй! Коль нашего царя ты победил в борьбе, То мы хотим служить вассалами тебе!» «В том, что сказал наш брат, звучит и наша воля! — Заговорили все. — Сядь на пустом престоле И под руку свою нас всех принять изволь! Отныне, человек, ты будешь наш король!» «Быть вашим королем, — сказал он, — я согласен. Но я отправлюсь в путь, что долог и опасен, И ваш покину край, а вице-королем Кого-нибудь из вас пока оставлю в нем С тем, чтоб о всех делах подробно мне писал он. От вас же одного прошу, как от вассалов: Коль вы, не ровен час, мне будете нужны, То все вы в тот же миг со мною быть должны!» Тут золотой свисток из сумки вынул старший: «Мы выполним свой долг и твой приказ монарший! Лишь только свистнешь ты — и через пять минут, Где б ни был ты, король, мы будем тут как тут!» Когда он уходил, все пожелали счастья Ему в делах его. Как символ царской власти, Прилежно спрятал он свой золотой свисток И через темный лес пустился на восток.21
Я точно не могу сказать вам, сколько шел он, Но с каждым шагом день сменялся мглой тяжелой, И делалась она всё гуще, всё темней, И света наконец не стало видно в ней. «Ужели я ослеп? — догадки Янчи гложут. — Иль среди бела дня настала ночь, быть может?» Но полночь далека, глаза его целы. Всё дело в том, что он спустился в царство мглы. Ни солнце, ни луна, ни звезды полунощи Не светят в том краю. Наш Янчи брел на ощупь. Как черная стена, кругом стояла мгла, И шелестели в ней нетопырей крыла. Нет, это не крыла шумели без умолку! То стая грязных ведьм, усевшись на метелки, Летала взад-вперед. (Та черная страна Была собранью ведьм нечистым отдана.) Сюда отродья тьмы в условленные даты Слетались каждый год на шабаш свой проклятый. На шабаше как раз их и застали мы, Когда они сошлись здесь, в самом сердце тьмы. Таинственный костер пылал в пещере горной, Над ним висел котел продымленный и черный, А из него плыла неслыханная вонь!.. Пастух свои шаги направил на огонь, Тихонько подошел и, к скважине замочной Прильнувши, увидал их шабаш полуночный, Пещеру, сотни ведьм вместившую, и в ней Немало разглядел диковинных вещей: В котел бросали жаб, мешки голов крысиных, Проклятый черный мох, растущий на осинах, Цветы, что расцвели у виселиц столба, Гадюк хвосты, котов, людские черепа… Считай иль не считай, а всё не перечислишь! Тут даже Янчи наш похолодел от мысли, Что он вполне здоров, не бредит, не ослеп, А к ведьмам угодил в их колдовской вертеп! Он руку протянул, чтоб вынуть из кармана Свой золотой свисток, подарок великана, И вдруг на метлы он наткнулся в темноте: Колдуньи в уголку сложили метлы те, Что над землею их носили, словно кони… Наш Янчи поплевал на крепкие ладони, В охапку метлы взял и схоронил вдали От шабаша, чтоб их колдуньи не нашли. Потом он засвистал пронзительно и длинно, Тут встала перед ним ватага исполинов. «Убейте этих ведьм! — он приказал. — Вперед!» И рыцари его вломились в чертов грот. В пещере началась большая заваруха: Колдуньи из нее, царапая друг друга, Метнулись к метлам все, но их и след простыл! Так к отступленью путь отрезан ведьмам был. А между тем его циклопы не дремали: Они над головой по ведьме поднимали, Швыряли оземь ведьм бесчувственных — и вмиг В лепешку сапогом расплющивали их. Но более всего героя удивляло. Что в небе всякий раз, как ведьма умирала, Сияющей зари ложилась полоса И над страною тьмы светлели небеса! Уж небо над землей совсем прозрачно стало, Уже проклятых ведьм осталось вовсе мало, Уже всего одна… Пастух взглянул — и в ней Он мачеху узнал возлюбленной своей! «Ну, эту, — крикнул он, — я сам ударю о́ пол!» И выхватил ее из крепких рук циклопа, Но ведьма, точно вьюн, скользнула между рук И, словно гончий пес, помчалась в поле вдруг. «Лови ее скорей!» — он крикнул исполину. Тот в несколько прыжков сбежал за ней в долину И ловко, на бегу поймав ее за хвост, Проклятую каргу швырнул до самых звезд! И труп ее нашли у дальнего селенья, Палач ей в сердце кол вогнал без сожаленья, И так она была презренна для людей, Что вороны — и те не каркали над ней! А над страною тьмы впервые солнце встало, Под теплым ветерком листва затрепетала… Собравши метлы ведьм, их Янчи сжег дотла, И улетела в ад проклятая зола. Потом в родимый край он отпустил циклопов, За верность похвалив и по плечам похлопав, Тут снова все они герою поклялись, Что преданы ему, — и с Янчи разошлись.22
И снова и опять в неведомые дали Пошел он, сбросив с плеч тяжелый груз печали, Когда же он смотрел на розу на груди, То слышал, как цветок шептал ему: «Иди!» Он розу ту сорвал в час горький, в час унылый С печального куста над памятной могилой, Но ежели теперь увядший вид цветка В нем и будил тоску, — она была сладка… Был вечер. Солнца шар катился вниз куда-то, Оставив за собой кровавый след заката. Померкли облака и сделались темны, И землю озарил зеленый свет луны. Наш Кукуруза брел под призрачным сияньем, Он в этот день прошел большое расстоянье И на какой-то холм, измученный, прилег, Чтоб после дня пути передохнуть часок. Измученный прилег, уснул и не заметил, Как ржавые венки качал полночный ветер На каменных крестах, встававших в полный рост. (А это был погост, заброшенный погост!) Когда же наступил ужасный час полночи, В могилах мертвецы свои раскрыли очи, Разверзлась, застонав, сырая пасть могил — И хоровод теней героя обступил. Их страшная толпа плясала и визжала, Под пятками у них сама земля дрожала, Но за день так устал, так истомился он, Что не могли они его нарушить сон. Один мертвец отер могильный прах на веках И дико закричал: «Я вижу человека! Утащим-ка его в подземный край могил, Раз в наше царство он бестрепетно вступил!» Скелеты черепа к герою повернули И кости мертвых рук над спящим протянули, Но голосом трубы, далеким и глухим, В деревне в этот миг запели петухи. И хлопьями ночных блуждающих туманов В могилу мертвецы обрушились, отпрянув, И Янчи вышел в путь по холодку зари, Не зная, чем ему грозили упыри.23
Он вскоре поднялся на горную вершину. Уж солнышко росу жемчужную сушило, И так прекрасен мир казался в этот час. Как будто он его увидел в первый раз! Рассветная звезда над морем умирала… Она еще жила, она еще играла, Но, словно вздох мольбы, погасла наконец, И солнце вознесло над миром свой венец! Шар солнышка в зенит катился постепенно И ласково смотрел на шелковую пену У моря на груди — на синей, на такой Огромной, что ее не охватить рукой! Лишь рыбки на морской поверхности шалили, А воды так светлы и так прозрачны были, Что рыбья чешуя слепила блеском глаз, Сквозь толщу этих вод сверкая, как алмаз. Избушка рыбака стояла над водою, И старец с бородой волнистой и седою В пучину невод свой закинул с челнока. И Янчи попросил седого рыбака: «Не можете ли вы, отец мой, через море Меня перевезти? Да только вот в чем горе: Я беден. У меня гроша в кармане нет!» Приветливый рыбак сказал ему в ответ: «Хотя б ты был богат, — мне золота не надо. Обильный мой улов — богатая награда За ежедневный труд. Морская глубина — Кормилица моя. Мне плата не нужна! Но, видно, ты пришел издалека, не зная, Что этот океан лег без конца, без края И на берег другой отсюда нет пути. Я не могу тебя туда перевезти». «Что нет ему конца, мне было неизвестно, — Ответил наш пастух, — но это интересно! Хотя бы мне пришлось очнуться в нем на дне, — Я перейду его, лишь стоит свистнуть мне». Свой золотой свисток из сумки Янчи вынул. Тотчас же стал пред ним один из исполинов. «Не можешь ли меня, — спросил пастух слугу,— За море отнести?» И тот сказал: «Могу. Взберитесь побыстрей ко мне на плечи, витязь, За волосы мои покрепче уцепитесь, И я вас отнесу по этой луже вброд». Промолвил великан и двинулся вперед.24
Огромны, как столбы, гиганта ноги были. Он ими, что ни шаг, отхватывал полмили. Уже он долго шел, — недель, пожалуй, пять,— А морю ни конца ни края не видать. Лишь через шесть недель они в туманной дали Темнеющей земли полоску увидали. И Янчи закричал: «Вот берег новых стран!» «Нет, это остров фей! — ответил великан.— Наверное, и вы слыхали сказок вдосталь Про их чудесный край, про их блаженный остров, Лишь море вкруг него без края разлито, А за морем лежит Великое Ничто». «Неси, — сказал пастух, — меня на этот остров!» — «Согласен! Но туда попасть не так-то просто. На берегу его мы будем через час, Но должен вам сказать, что ждет опасность нас! Блаженный остров тот — край эльфов и сокровищ — От смертных стерегут семь сказочных чудовищ…» Но Янчи приказал: «Не спорь! Скорее в путь! С чудовищами сам я справлюсь как-нибудь!» И к чудо-островку, встающему из моря, Послушный великан понес его, не споря, Поставил на скалу и, шлепая по дну, Через морской простор ушел в свою страну.25
У входа в царство фей медведи сторожами Стояли и людей когтями поражали. Пастух на них напал у первой из дверей И скоро прямо в ад отправил трех зверей. Но вот опять стена и новые ворота. Тут витязя ждала куда трудней работа, И засучить пришлось по локоть рукава: Здесь были на часах три аравийских льва! Героя ли смутит безделица такая? Бесстрашный и на них напал, мечом сверкая. Хоть вовсе не шутя сопротивлялись львы, Он все-таки отсек три львиных головы. Победой упоен, не отирая пота, Он штурмовать решил последние ворота. Огромные, они стояли под замком, И подле них лежал чудовищный дракон. Уж это был дракон… О господи, помилуй… Ужасные глаза сверкали дикой силой И леденили кровь!.. Рот зверя был таков, Что сразу шестерых проглатывал быков. Хоть смелости всегда у пастуха хватало, Но понял он, что тут одной отваги мало, Что острой саблей с ним не сделать ничего, И способа искал — как победить его. Дракон разинул пасть и, щелкая клыками, Зловеще зашипел. Потом заполз на камень И был уже готов на пастуха напасть, Но Кукуруза сам к дракону прыгнул в пасть. И эта пасть за ним захлопнулась, как дверца! Тут в полной темноте найдя драконье сердце, Безжалостно его пронзил мечом пастух… На землю изрыгнув свой ядовитый дух, Ужасный околел… Что ж сделал Янчи смелый? В боку у зверя он мечом дыру проделал И, выпрыгнув, пошел в страну прекрасных фей. Он тысячу чудес увидел сразу в ней!26
В стране прекрасных фей морозов нет, конечно: Роскошная весна там зеленеет вечно; Восходов солнца нет, закатов солнца нет: Всегда сияет там зари нежнейший свет! Блаженна та страна — она подобье рая. В ней не едят, не пьют, живут, не умирая. У эльфов и у фей течет огонь в крови, И служат пищей им лобзания любви. Не плачет горе там, и не имеет власти Над их сердцами грусть. Но ежели от счастья У феи капли слез покатятся из глаз, То каждая слеза становится алмаз. Прекрасны косы фей! Они, забавы ради, Хоронят в недрах гор их золотые пряди: То золото, друзья, что на земле нашлось, — Всё это пряди их окаменевших кос! Из глаз у фей лучи такие вылетают, Что радуги они из тех лучей сплетают. Кто радугу длинней и ярче всех сплетет, Тот ею и спешит украсить небосвод. В часы, когда они уснут на брачном ложе, Их теплый ветерок ласкает, не тревожа, Их нежит и томит дыхание весны, И феи в те часы такие видят сны, Что даже их страна тех чудных снов бледнее!.. Когда наедине с возлюбленной своею Остался человек, любовью упоен, Он разве лишь тогда подобный видит сон.27
Понятно, что пастух, вступая в их владенья, Не мог на это всё глядеть без удивленья. От света у него в глазах рябило вдруг, Порою наш герой не смел глядеть вокруг… Народец той земли без страха Янчи встретил. Малютки вкруг него собрались, точно дети, Заговорили с ним и в глубь своей земли, Приветливо смеясь, героя повели. Он с ними обошел весь островок, но вскоре У витязя в груди зашевелилось горе. В стране счастливых фей, в их радостном краю Не мог не вспомнить он про Илушку свою: «Зачем в стране любви жестокосердным роком Я осужден всю жизнь скитаться одиноким? Что б я ни видел, всё напоминает мне, Что счастлив без нее не буду я вполне!» Вблизи виднелся пруд спокойный и прозрачный. Он подошел к пруду, заплаканный и мрачный, С могильного холма возлюбленной своей Взял в руки розу он — и обратился к ней: «Сокровище мое! Пусть будет нам с тобою Гробницей этих волн пространство голубое, Пусть примет нашу грусть их светлая вода! Я за тобою сам последую туда!» Тут кинул розу он в сверкающие волны… Но — чудо из чудес! Над заводью безмолвной Вдруг в Илушку цветок преобразился!.. Вдруг Явился перед ним его желанный друг! (Он кинул свой цветок в источник вечной жизни, Жививший всё, на что его водой ни брызни. Едва лишь залила чудесная волна Цветок его любви — и ожила она!) Я много песен спел веселых и унылых, Но что он испытал, я рассказать не в силах, Когда, неся ее из чудотворных струй, Он на губах своих почуял поцелуй! Как Илушка его была красива! С нею Сравниться не могли прекраснейшие феи И выбрали ее царицей. А потом И эльфы пастуха избрали королем. Промчалось много лет! Давно всё это было! Но Янчи с этих пор не разлучался с милой: Как добрый властелин, он правит вместе с ней До нынешнего дня счастливым царством фей! 1939С ПОЛЬСКОГО
Адам Мицкевич
219. ПАН ТАДЕУШ (Отрывки из поэмы)
1
Наутро господа и гости в Соплицове, Размолвкой смущены, молчат да хмурят брови. Дочь Войского велит прислуге задремавшей Подать колоды карт мужчинам для марьяша, А дам зовет гадать… Никто не веселится! Лишь вьется трубок дым да шевелятся спицы. Тут мухи мрут с тоски! Пан Войский, встав не в духе, Отправился в подвал, где ссорятся стряпухи, Где слышатся шлепки и вопли экономки, Откуда поварят галдеж несется громкий. Там наконец его развеселило пламя И вид бараньих туш в печи над вертелами. Судья скрипел пером, стараясь вызов грозный Составить побыстрей, а терпеливый возный Ждал под окном. И вот, свой труд замысловатый Прочел ему судья: он требовал расплаты От графа за вранье, позорное для чести Шляхетской, он писал, что справедливой мести Герваций заслужил за дерзкие удары, Вчинял обоим иск, просил суда и кары. Бумагу пан судья отправил в город мигом, Дабы ее внесли в реестровую книгу. А возному сказал, что в путь сбираться надо, Чтоб вызов получил обидчик до заката. С торжественным лицом, приличным этой вести, Тот, взяв его, едва не заплясал на месте: Он молодел душой в судебных передрягах! Ведь в юности своей на этаких бумагах Он наживал порой изрядные деньжата: Не только синяки ему бывали платой! Доволен от души работой столь отрадной, Он форменный костюм спешит надеть нарядный. Конечно, не контуш и не жупан надел он: Он только на больших судах пускал их в дело. А нынче, облачась в широкие рейтузы, Он куртку натянул поверх рабочей блузы, Для быстроты в ходьбе поднял повыше полы, Надвинул до бровей на лоб треух тяжелый, Наушники спустил, как в зимнее ненастье, Взял палку и пешком, перекрестясь на счастье, Пошел в опасный путь: ведь возный, как лазутчик, Скрываться от врага был вынужден получше. В пути он вел себя под стать лисе-плутовке: Мясцо ей по нутру, но и стрелков уловки Страшат ее. Она, ловя ноздрями ветер, Обнюхивает всё, что на пути ни встретит, Стараясь угадать: свежа находка, или Охотники ее заране отравили?.. Сойдя с дороги, он побрел вдоль сенокоса, К усадьбе подошел, но вдаль глядел, на просо, И палкой так махал, чтоб всяк, бродягу встретив, Решил, что коз своих в потраве он заметил. Согнувшись, он ползком нырнул в густые травы (Точь-в-точь коростеля так гонит пес легавый!) К усадебной стене подполз и, мигом прянув Через нее, исчез в раздолье конопляном. Не раз в конопле той, согретой солнцем теплым, И зверь, и человек спасал себя. В коноплю Стремглав бежал косой, настигнутый в капусте; Сигнет он в глушь ее, и пес его упустит,— Она стеной стоит, залезешь — колет лапы, Сбивает со следов ее тяжелый запах! Дворовый, провинясь перед сердитым паном, Спасался от плетей на поле конопляном, Туда же рекрута бежали от набора,— Властям их отыскать удастся там нескоро. А в дни заездов, в дни междоусобной брани И шляхтичи занять старались конопляник: Удобно из него вести осаду было, — Вплетаясь в дикий хмель, он прикрывал их с тыла. Протазий был не трус, но запах стеблей вялых Привел ему на ум ряд случаев бывалых, Смутивших дух его, — свидетелем которых Встарь конопляник был: горячий, словно порох, Пан Дзиндолет из Тельш, нацелясь пистолетом, Загнал его под стол, когда для Дзиндолета Привез он вызов в суд, и там держал, желая, Чтоб этот вызов он из-под стола пролаял. Не помогли тогда ни жалобы, ни вопли, Ни слезы старику, да помогла конопля. Другим его врагом был дерзкий Володкевич, Что сеймики громил и суд порочил в гневе. Посланье прочитав, он хлопов кликнул снизу И возному велел съесть принесенный вызов. Тот сделал вид, что ест, но, малый расторопный, Бочком пробрался в дверь и во весь дух — в коноплю! Хоть вымер на Литве обычай тот столетний — На вызов отвечать кинжалом или плетью, (И лишь изредка теперь встречали возных бранью) Протазий полагал, что всё идет, как ране: Он не служил давно, хоть и просил об этом, — Быть возным старику — работа не по летам. Судья его гонцом Фемиды быстрокрылой И нынче б не послал, да дело спешным было! Протазий, чуть дыша, развел рукой кустарник И выглянул: в дому, в конюшнях и на псарнях Не видно ни души. Дивясь такому чуду, Поближе он подполз. Вновь смотрит. Тихо всюду! Тут, малость осмелев, решает возный: «Ну-ка К окошку подберусь!» Во всем дому — ни звука. Тогда Протазий наш толкает дверь с размаха И в графский коридор ступает не без страха. Безлюдье, как в пустом завороженном замке! Опасливо держа ладонь на медной клямке, Протазий громко стал читать судейский вызов. Вдруг слышатся шаги… Уже, свой сан унизив, Старик хотел бежать, но в кухню входит Робак. Знакомые сошлись и удивились оба. Заметно, что в поход спешил вельможный шляхтич: Он дворню взял с собой, а дверь оставил настежь. Видать, вооружал он гайдуков: на полках Валялись штуцера, патроны и двустволки, Слесарный инструмент, каким оружье чинят, Был вынут из мешка и наспех в угол кинут, Стояли шомпола и порох в банках… Что-то Не видно, чтобы граф сбирался на охоту! Коль зайцев он травить уехал, — разве нужно Для этого ему холодное оружье? А между тем лежит — тут сабля без эфеса, Там сабля без ножон… Похоже, граф-повеса Их слугам раздавал, готовясь к битве жаркой… Знакомые нашли двух баб в саду фольварка, Пугнули их, и те сказали поневоле, Что в Добжин ускакать с дружиной граф изволил.2
Отвагой шляхтичей и красотой шляхтянок Прославлено в Литве местечко Добжин. Канул В былое год, когда Ян Третий, духом твердый, Под метлы собирал отряды шляхты гордой. Из Добжина тогда привел к нему хорунжий Шестьсот панов с людьми, конями и оружьем. То был счастливый век! А нынче обеднело Шляхетство и порой вздыхает: «То ли дело Бывало в старину? На сеймах, на охотах Мы ели легкий хлеб! А нынче знай работай, Как подневольный хлоп!..» Едва лишь не в сермягах Гуляют те, что встарь в жупанах и при шпагах Блистали на балах. На благородных паннах, В отличье от рубах мужицких домотканых, Пестреют платьица из ситчиков фабричных, Но скот пасти они считают неприличным В лаптях. В свином хлеву, как на паркетах гладких, Гуляют в башмачках и шерсть прядут в перчатках. Мужчины там стройны, крепки, широкоплечи. От прочих на Литве — по чистой польской речи Легко их отличить. Влиянье ляшской крови Сказалось в добжинцах. Их волосы и брови, Как смоль, черны. Лицом они пригожи сами — Высоколобые, с орлиными носами. Кто ни увидит их, всем ясно, что из Польши Они ведут свой род. Хоть пролетело больше Четырехсот годов с тех пор, как стаей птичьей Осели здесь они, — мазурский свой обычай Всё добжинцы блюдут. Крестя ребят — святого Всегда берут они из края, им родного. Пример найти легко: так, ежели папашу Варфоломеем звать, то сына Матиашем Окрестят, и когда отца зовут Матеем, — Наследника наречь должны Варфоломеем. Привычно нежит слух им звук имен старинных: Все женщины подряд там Кахны иль Марины, Чтоб одного с другим не спутать с непривычки, — У женщин и мужчин есть прозвища и клички. Те прозвища дают и трусу, и герою, Одно не подойдет — придумают второе: Вас этак, скажем, ксендз назвал, крестя в купели, А в Добжине найти вам прозвище сумели Похлеще!.. Из него в дома панов окрестных Страсть клички раздавать проникла повсеместно, Но, раздавая их, толпа не замечала, Что в Добжине они берут свое начало И там они нужны. Везде ж, где их давали Из моды подражать, — они умны едва ли! Так Добжинский Матей друзьями против воли Был прозван «Петушком, сидящим на костеле». Но с той поры, когда восстание Костюшки Разбили и в земле похоронили пушки, Соседи, отменив его былую кличку, «Забоком» стали звать Матея за привычку, Чуть ссора закипит, хвататься то и дело За левое бедро, где сабля встарь висела. Литвины же его «Матеем средь Матеев» Прозвали, так как он, господствовать умея, Был земляками чтим и свой фольварк построил На площади, между костелом и корчмою. Старинный тот фольварк, казалось, рухнет скоро. Виднелся сад в пролом упавшего забора, Березки средь двора белели, точно свечки… И всё ж фольварк тот был столицею местечка! Он был велик. Стена господской половины Была из кирпича. Конюшни и овины Теснились вкруг него. На обомшелой крыше, Как на лугу, ковыль рос, что ни год, то выше. По ветхим стрехам служб сползали прихотливо Висячие сады шафрана и крапивы, Пестрел хвостатый щир ковром цветистых пятен, Чернели в чердаках окошки голубятен, На крылышках косых разрезывая воздух, Вкруг стен вились стрижи и щебетали в гнездах, А кролики, резвясь, искали у порога Просыпанный ячмень… короче, если строго Судить, то этот дом, встарь славный, — напоследки Подобие являл крольчатника иль клетки. А сколько битв велось вкруг этого фольварка! Немало тут враги оставили подарков: В траве блестит ядра железная макушка, По дому тем ядром пальнула шведов пушка, Обрушило оно ворот гнилую створку, И створка на него легла, как на подпорку. Средь куколи густой, между седой полыни Подгнившие кресты виднеются доныне — Свидетели того, что польским ветеранам В чужой земле пришлось лечь спать на поле бранном. Внимательно взглянув, на гумнах и амбарах Нетрудно отыскать следы пробоин старых, А приглядевшись к ним, увидишь взглядом зорким, Что в каждой спит картечь, как шмель в подземной норке. Повсюду на гвоздях, крючках и петлях старых Виднеются следы от сабельных ударов: Коль саблей удалось срубить гвоздя головку, Не выщербив клинка, — ценили зыгмунтовку! Когда-то в доме был шляхетский герб над входом, Но ласточки, гнездясь под крышей год за годом, Свидетельство времен о знатности и силе Живущей тут семьи — пометом облепили. В сараях, в кладовых, в чуланах, — если нужно, Лишь поищи, — найдешь на целый полк оружья: Убранство Марса — шлем, позеленев от серы Сражений, нынче стал гнездом для птиц Венеры — Невинных голубков. В конюшне из кольчуги Хозяйским жеребцам дают овес прислуги, Забыв о вертелах, безбожная кухарка Жаркое стала печь на шпагах в печке жаркой, Закалку с них сводя… Повсюду Марс сердитый Был вытеснен отсель Церерой домовитой. В усадьбе и в дому, в сараях и на гумнах Теперь царит она с Помоной и Вертумном. Однако, выгнав прочь вояку Марса, ныне Должны ему вернуть былую власть богини: Война идет опять. Примчался в Добжин конный. Тут он стучится в дверь, там в переплет оконный. Всех разбудил, как встарь на барщину! Местечко Собралось у корчмы. Зажглись в костеле свечки. Туда бежит народ. Всяк хочет знать: в чем дело? У юношей в руках оружье зазвенело. Ведут коней. Мужчин удерживают жены. Всем, видно, по душе блеск сабель обнаженных, Все рвутся в смертный бой! Одно бедняг смущает: С кем и за что война — никто из них не знает. А в доме у ксендза, вопрос решая трудный, Совет из стариков собрался многолюдный, Но должного принять решенья не умея, Послал своих гонцов в фольварк к отцу Матею. Был крепок, несмотря на семьдесят два года, Конфедерат Матей, седой солдат свободы. Противники его до смерти без опаски Припомнить не могли меч старика дамасский! Звал «Розочкой» Матей свой кладенец бойцовский. Он с Тизенгаузеном, подскарбием литовским, Под знаменем одним сражался, точно с братом, И королю служил, забыв конфедератов. Но в день, когда король поехал в Тарговицу, Ушел, с былым врагом не в силах помириться. Он часто флаг менял! Кто знает: не за то ли Его и «Петушком, сидящим на костеле» Прозвали, что старик ряд партий друг за другом Переменил, кружась по ветру, точно флюгер. Причину перемен столь частых понапрасно Искали б. Может быть, влюбленный в битвы страстно, Он, стороне одной добыв мечом победу, Старался и другой ее доставить следом? А может быть, идти под тем стремился флагом, Что нес, как думал он, его отчизне благо? Все знали: в бой его влекла не жажда славы, Не мелкая корысть и не расчет лукавый. В последний раз они с прославленным Огинским Под Вильною дрались, водимые Ясинским. Всем показал Матей там чудеса отваги. Один в толпу врагов он прыгнул с вала Праги И в бой пошел, спеша на выручку Потея, Что, брошенный, во рву лежал, от ран слабея. Считали на Литве, что смельчаки убиты. Глядят, — они пришли, исколоты, как сито. Достойный пан Потей решил, что, дескать, надо Матею дать за то богатую награду: Он предложил ему фольварк, пять тысяч злотых И хлопов пять семейств для барщинной работы. Но старый отписал: «Пускай Матей Потея Считает должником, а не Потей Матея». Так отказался он от щедрого подарка. Не взяв ни мужиков, ни денег, ни фольварка, Трудами рук своих жил престарелый Матек: На рынок вывозил он битых куропаток, Лекарства для скота варил, для пчел колоды Сколачивал да ждал от кроликов приплода. Ходь в Добжине найдешь немало и доныне Ученых, что сильны в законах и в латыни, Хоть есть там богачи, а всё же между ними Седой бедняк Матей считался самым чтимым За прямоту души и мужество. Однако Матей прославлен был не только как рубака: Он был остер умом и умудрен годами, Хранил родной страны забытые преданья, Охотников мирил, знал всех пернатых нравы, Весною собирал лекарственные травы И, как ни спорил ксендз, — твердил народ окрестный, Что будто обладал он силою чудесной. И правда: вёдро ль он иль дождь сулил народу,— Не мог и календарь так предсказать погоду! Любой, кто начинал судиться или сеять, Гнать баржи или жать, — шел наперед к Матею: Тот помощи просил, тот спрашивал совета… Старик у земляков искать авторитета Не думал. Он встречал просителей сурово И часто гнал за дверь, не говоря ни слова. Лишь если возникал серьезный спор на сходке, — Коль спросят у него, — давал ответ короткий. Все думали, что он и нынешнее дело Решит и, как всегда, поход возглавит смело. Матей, сойдя во двор, заросший хмелем диким, Глядел на облака и песенку мурлыкал: «Когда взойдет заря». Погоду обещая, Туман не улетал, а тяжелел и таял. Рассветный ветерок его волною длинной Прилежно устилал окрестные долины, И солнышко взошло за речкою в тумане, То серебря его, то золотом румяня. Так в Слуцке мастера ткут драгоценный пояс: Ткачиха за станком, о пряже беспокоясь, Рукой не устает разглаживать основу, А ткач плетет узор из бисера цветного, Расцвечивая ткань… Так ветер утром рано Прядет земле убор из солнца и тумана. Матей прочел псалом и, подойдя к воротам Сарая, приступил к хозяйственным заботам: С охапкою травы присев у двери дома, Он свистнул. В тот же миг на этот свист знакомый Примчался рой крольчат. Старик им гладит спины, Их красные глаза сверкают, как рубины. Крольчата, осмелев, забрались стайкой шустрой На руки к старику, привлечены капустой. А он, седой, как лунь, сам белый, точно кролик, Сидит, одной рукой подбрасывая вволю Капусту для своих нахлебников раскосых, Другою ж на порог из шайки сыплет просо. Сыпнул — и в тот же миг к порогу слева, справа Слетелась воробьев крикливая орава. Меж тем, как занят он утехою невинной — Кормежкою крольчат и дракой воробьиной, — Вдруг кролики в траву, а воробьи на крышу Шарахнулись, шаги иных гостей заслышав: То люди к старику спешат дорожкой сада. Из домика ксендза шляхетская громада Послала их в фольварк Матея за советом. Отдав ему поклон согласно этикета, Гонцы идут в избу и славят Иисуса. «Аминь!» — ответил им хозяин седоусый. Узнав причину их столь раннего прихода, На скамьи усадил Матей послов народа. Тут встал один из них с кленовой лавки белой И начал излагать случившееся дело. Тем временем толпа в усадьбу прибывала! Соседи были тут, да и чужих немало. Тот в бричке прикатил, тот на коне, с оружьем. Одни заходят внутрь, другие ждут снаружи, А третьи, чтоб рассказ услышать хоть немножко, В светлицу к старику глядят через окошко.3
Итак, набором фраз хоть и пустых, но звучных Всех шляхтичей увлек красноречивый ключник. Да как и не увлечь? Вокруг него стояло Соседей, на судью имевших зуб, немало. Тех он оштрафовал когда-то за потраву, Иным он отказал в их жалобе неправой. Все мстить ему хотят, со злобою не справясь! Одним владеет гнев, другого жалит зависть. Теперь весь этот люд стоял толпою злобной Вкруг ключника, подняв кто саблю, кто оглоблю. Тут Матек, с лавки встав и подпершись рукою, Направился к столу и стал среди покоя. Качая головой, смотря суровым взором Поверх голов: «Глупцы! — он произнес с укором.— Войну посеет граф, а беды вы пожнете. Вас трудно приучить к общественной заботе. Когда о Польше спор решался в смертном бое, Вы и тогда, глупцы, бранились меж собою. Ах, если б вы могли забыть о вечных спорах! Вы стали б для нее железною опорой, Но если вас опять грызет вражда былая, — Я тысячу чертей в утробы вам желаю!..» Он сел. Народ молчал, как пораженный громом, Но в этот самый миг на улице за домом Раздался крик: «Виват!» То у ворот Матея Остановился граф и с ним отряд жокеев. Граф в круглой шляпе был. Спадал волнистый локон На лоб из-под нее. Заморский плащ широкий Застежкой золотой заколот был у шеи. Он, шпагу приподняв, у домика Матея Стоял, и добрый конь плясал под ним, гарцуя, А он смирял его, народу салютуя. «Виват, вельможный граф!» — опять раздался гомон. «С ним жить и умирать!..» Народ волной из дома За ключником потек. Тех, кто остался, Матек Из хаты выгнал прочь, засов задвинув в хате, К окошку подошел и, прислонившись к раме, Тех, что бежали прочь, опять назвал глупцами. А шляхтичи спешат за графом и за паном Гервазием к шинку. Три пояса с жупанов Гервазий снять велел и тащит три бочонка Из погреба на них. В одном была водчонка, Мед во втором играл, а в третьем было пиво. Три чопа выбил он, и три ручья игриво Ударили из них. Один был серебристым, Второй пунцовым был, а третий золотистым. И тотчас к трем ручьям прильнуло триста чарок! Толпа, благодаря вельможу за подарок, Здоровье графа пьет и, торопясь напиться, Кричит: «Вперед, паны! За графом! На Соплицу!» 1940220. ПАН ТВАРДОВСКИЙ (Вольный перевод)
Носогрейки хлопцы курят, Пьют в дыму, Едят в дыму, Пляшут, Свищут, Балагурят И орут на всю корчму. На скамейке пан Твардовский Развалился, как паша. Служит весь синклит бесовский Колдуну. Гуляй, душа! Он солдату-забияке, Что с любым задраться рад, Погрозил лишь пальцем в драке — И, как мышь, Притих солдат. Он судье подбросил в шапку Злотый адского литья — И, как пес, На задних лапках Перед ним стоит судья. Загулявшего портняжку, Что пропил штаны давно, Щелкнул в лоб, Подставил чашку — И рекой течет вино. Ровно чарку гдовской старки — Крепкой водки — Первый сорт! — Нацедил, Хлебнул из чарки, Глядь туда — А в чарке — Черт. Щуплый черт одет, как стражник, В рваный плащ и сапоги. Знать, нечистый не из важных: Так, Из адской мелюзги. Вылез черт. Собачьим когтем Почесал сопливый нос, Вырос на два — на три локтя, Кашлянул И произнес: «Ты, Мосьпан, Забыл, Похоже, Меж интрижек и пиров Договор на бычьей коже, Что твоя скрепила кровь. Ведь, согласно договора, Ты алхимию постиг. Выполнял весь ад без спора Сотни прихотей твоих. И, как там писалось ниже, Прямоту в делах любя, Мы в Варшаве И в Париже Всем служили для тебя! Вспомни ж, Пунктами какими Договор кончался наш: Если мы сойдемся В Риме — Там Ты душу нам отдашь. Час пробил, Ясновельможный! Ты попался, Старый плут. Посмотри, неосторожный: Ведь харчевню — „Рим“ Зовут!» Огляделся пан Твардовский: Да. Над дверью надпись — «Рим». Только шляхтич Не таковский, Чтоб отдаться в руки им! «Что ж! — сказал, Усмешку пряча. — Помирать Так помирать! Перед смертью три задачи Вправе я тебе задать: На воротах церкви божьей Видишь медного коня? Оседлай-ка, Если можешь, Эту лошадь для меня. Свей мне Плеть из чистого песка Да построй высокий замок Вон у этого леска. Вместо дерева — Орехи В пятистенный сруб свяжи, Зерна мака Вместо стрехи Аккуратно положи, Да забей В орешек каждый Три дюймовые гвоздя… Я дворец такой однажды Видел, По миру бродя». Что поделать с окаянным? Исхитрился ведь, шельмец: Миг прошел — И перед паном Конь храпит, Стоит дворец! «Тьфу ты, пропасть! Экий, право, Прыткий бес!.. А всё ж постой: Окунись-ка, Пане дьявол, В пузырек с водой святой!» Бедный черт испуган насмерть, Вытирает лапкой пот. «У меня, — Он стонет, — Насморк! От воды меня несет!» Лях решил: «Уж не избег ли Я напасти? Струсил бес!» Но, прошедший муштру в пекле, В склянку черт, Кряхтя, полез. Вылез. «Ну, — кричит, — и баня! Фу! Поддал ты пару мне! Марш теперь, Вельможный пане, На расправу к Сатане!» «Не спеши! Помедли малость! — Черту шляхтич говорит. — Дельце тут еще осталось. Сладишь с ним — Мой козырь бит! Слышишь — Визг несется с луга? Дело клонится к тому, Что сейчас моя супруга К нам пожалует в корчму. Я с большой охотой, Право, Спрячусь в ад На два-три дня, Коль возьмешься ты, Лукавый, Заменить при ней меня. Будь ей, Бесе, Вместо няни, Угождай, Войди в фавор, А прогневается пани,— Расторгаем договор!» Черт на пани только глянул, Грозный голос услыхал, — К двери в ужасе отпрянул, По корчме метаться стал. «Что ж ты мечешься без толку? К делу, бес! Без дураков!» Черт согнулся, Юркнул в щелку, Запищал И был таков! 1940221. ТЮЛЬПАНЫ (Вольный перевод)
В комьях грязи дорожной Пан Сапега вельможный Воротился в свой краковский замок. Пан не будит прислуги, Прямо в спальню супруги Он идет между дремлющих мамок. Тихо в спальном покое… Только вдруг — что такое? У алькова — кровавая лужа. Ручкой, словно из снега, Злая пани Сапега Заколола уснувшего мужа. Тело спрятать ей надо: До поляны средь сада Дотащила тяжелого пана И, с неженскою силой Закопавши в могилу, Посадила на ней два тюльпана. Месяц плавал в тумане, Руки вымыла пани И спалила кровавое платье… Утром плеткою кто-то Постучался в ворота: В гости едут к ней мужние братья. «Ну, золовка, здорово! Как! Неужто ни слова Нет с Украйны от нашего братца?» — «Нет полгода ни слова! Я уж плакать готова! Матка-боска! Убит, может статься? Жестоки киевляне, И на русской поляне, Знать, гниют его белые кости!.. Скиньте шлемы тугие, Деверья дорогие, Отдыхайте, любезные гости!» Дни за днями минуют, Гости в замке пируют С молодою хозяйкою вместе. Смерть хранит свои тайны: Муж не шлет ей с Украйны С гайдуком ни поклона, ни вести. «Пана Жигмонта в драке, Видно, сшибли казаки! — Говорят ей влюбленные братья. — Не сидеть же во вдовах? Одному из нас слово Дай, раскрой для счастливца объятья!» «Вот ведь, право, задача! — Пани молвит им, плача, — Бог свидетель, вы оба мне любы! Оба в ратной науке Закалили вы руки, У обоих медовые губы. Сговоримся заране: Я в саду на поляне Посадила тюльпаны весною. Слов я даром не трачу: Чей из двух наудачу Я возьму, тому буду женою!» Хочет пани, не глянув, Взять один из тюльпанов, Но цветы друг на друга похожи… Быть меж братьями сваре: «Мой!» — сказал тот, что старе. «Мой!» — ответствовал тот, что моложе. «Всё делили мы дружно: И коней, и оружье, А любовью поделимся вряд ли!» Тут соперники разом Шапки скинули наземь И схватились за длинные сабли. Стены замка трясутся!.. Насмерть рыцари бьются!.. Вдруг покойник выходит из гроба: «Те тюльпаны, панове, Напились моей крови! Спрячьте сабли: мои они оба!..» Братья видят в испуге Призрак в ржавой кольчуге, В польском выцветшем красном жупане. Он мешает их бою И в могилу с собою Увлекает безгласную пани. Это всё миновало! Уж и замка не стало: Лишь руины стоят средь поляны Да цветут, что ни лето, Словно в память об этом, На зеленой поляне тюльпаны. Февраль 1941С СЕРБСКОХОРВАТСКОГО
Воислав Илич Младший
222. КАК УМИРАЕТ ДАЛМАТИНЕЦ
Вечером осенним солнце заходило Над равниной моря иссиня-зеленой… Он остановился над своей могилой, — Статный далматинец, на смерть осужденный. Юный, как росинка, как Парис красивый, Голову поднял он гордо, словно сокол. Щеки розовели. Ветром относило Кудри золотые на челе высоком. И покуда взглядом пристальным и ясным Он глядел на море, — вкруг толпа немая Плакала украдкой… Престарелый пастор Подошел к герою, крест приподнимая: «Отрекись, о сын мой, от детей бунтарских! Знай: пустым мечтаньям верят только дети! Поцелуй смиренно край одежды царской И получишь милость!..» Витязь не ответил. «Не грызет ли, сын мой, грудь твою обида — Умирать так рано? Хорошо на свете! Всех, кто был с тобою, поскорее выдай И получишь милость!..» Витязь не ответил. Он простился молча с матерью седою, Плачущей скупыми горькими слезами, И пошел к могиле… Палачи герою Черною повязкой очи завязали. Лейтенант обрюзгший крикнул: «Пли в, крамолу!» — И кривую саблю взял наизготовку. Смуглые мадьяры в сапогах тяжелых В сердце далматинца навели винтовки. Жуткое молчанье. Вся толпа, застынув, В страхе ожидает близкую развязку В это время руку поднял далматинец И сорвал бесстрашно черную повязку. Солнце закатилось. Небо в первых звездах Глубоко, и чисто, и прозрачно было. Роз благоуханьем был пропитан воздух. Осень паутинки в воздухе носила. Он взглянул на море, и в последнем взгляде Бушевала юность и любовь без края… Далматинец крикнул: «Палачи! Стреляйте! Да живет вовеки Сербия родная!» Август 1945Владимир Назор
223. МАТЬ-СЛАВЯНКА
Насиделась ли ты на теплом пепелище отчего дома? Сына Иова колыбельку ты нашла ли среди разгрома? Отыскала ли ты на ощупь, ничего не видя сквозь слезы, Образок Георгия древний? Вышиванье дочери Розы?.. Горький чад затмевает солнце, очи дым выжигает едкий, И сидишь ты среди развалин, надломившаяся, как ветка, Безутешная мать-славянка! Находились ли твои ноги по полям и лесам угрюмым, Где напрасно весь день искала ты свою коровенку Руму? Видно, недруг угнал буренку или волк зарезал проклятый. Кто ж теперь кормилицей будет старой бабушке и ребятам? Не печалься! От вражьей пули глазки деток твоих погасли. Для кого же сбивать сметану? Что за прок в молоке и масле, Безутешная мать-славянка? Накричалась ли ты, вдовица, над печальной участью друга? Он, врагам предателем выдан, был, как пес, избит и поруган, Был измучен и крепко связан и в сырую кинут темницу… Его сердце билось для славы, как для воздуха сердце птицы! Но придя к тебе полумертвым, погруженным в горькие думы, Окровавленный и бессильный, он у ног твоих лег и умер, Безутешная мать-славянка! Настоялась ли ты над ямой, самой страшной ямой на свете, Где с зарезанной бабкой рядом улеглись убитые дети И боятся вместе с чужими спать в могиле и кличут маму… Ты наслушалась этих криков? Нагляделась ты в эту яму? Но отравлена ядом скорби, ядом горькой-горькой печали, На уста свои ты сурово наложила печать молчанья, Безутешная мать-славянка! Ты бледнеешь, худеешь, сохнешь… Полно! Лучше кричи и сетуй! Пусть широким эхом несутся причитанья твои по свету! Остротой возмездья пусть станет острота твоей скорби древней! Пусть вся тяжесть воспоминаний станет тяжестью мести гневной! Пусть обрушится на пришельцев скорбь твоя ударом тяжелым! Пламя мученичества пусть станет над челом твоим — ореолом, Безутешная мать-славянка! Август 1945Драголюб Филипович
224. ВИТЯЗЬ ЗЛОГЛЯД
Куртка из медвежьей шерсти бурой Плечи необъятные покрыла. Через лоб бежит змеею жила, Мрачные глаза замглились бурей, Вниз усы свисают, лука толще, Ворон каркает на шапке волчьей. Конь могучий схож с горою черной, Он дробит копытом камень острый, Дым и пламя извергают ноздри, За седлом висит барашек горный, На коня чепрак накинут длинный, А к седлу бурдюк подвешен винный. В страхе небосвод трепещет низкий… Лишь юнак свой мрачный взгляд нацелит — Падают под хмурым взглядом ели, Звери в норы убегают с визгом, Ломятся на реках льдины, треснув, Камни, скрежеща, слетают в бездну. Витязь по долине едет молча, Сзади слуги, как велит обычай. Едет он без песни и без клича По лесам и по тропинкам волчьим, Смотрит вдаль — и всё дрожит от взгляда В смертный бой идущего Злогляда! Август 1945225. КРАЕВЫЕ БАНЫ
Ночью по ущельям тем проклятым Рыщут только дикие собаки… Красное вино там пьют юнаки, На груди у них скрежещут латы, Их мечи звенят, болят их раны: Насмерть стали краевые баны! Между ними прислонился к ели Смуглый витязь с девичьим румянцем. Словно месяц в речке, блещет панцирь. На кинжале пальцы онемели, Ветер кудри чешет, в губы дышит, Обвевает шлем, перо колышет. А когда раздастся песни слово: «Сизый сокол складывает крылья!» — Вила горная все слезы выльет У глухого озера лесного: Ей в воде привидится-приснится Смерть отважных банов у Ситницы! Август 1945226. МАРАВА
Наша Марава, река горделивая, Плавно теки плодородными нивами, Лейся полями, левадами светлыми, — Минули муки пятисотлетние, Нами отпеты могилы высокие Жизнь положивших за родину соколов! Ты родилась под Сталачем, под городом Непобедимого племени гордого, Знаешь, как борется храбрая Сербия, Помнишь заветы старинные, верные: Лучше уж холод покрова надгробного, Чем надругательства недруга злобного! Пой же, Марава, река горделивая, Песню свободную, песню счастливую, Пой ее в лад с говорливыми чащами — Песню веселую, сердце пьянящую, Как отдыхает над нивой зеленою Честного пахаря грудь утомленная! Август 1945227. СОКОЛЫ
Ночью ворона окликнул ворон На вершине лысой Гаревицы: Трое соколов упали в терен У студеной речки Жеравицы. Горьким дымом пахнет скорби слово: Пали в схватке соколы царевы! Средь Косовской полегли равнины, Их уста румяные остыли, Сломаны врагом мечи стальные, Волосы рассыпались густые. Прячется за тучку месяц новый: Бездыханны соколы царевы! С недопетой песней из Поцеря Спят глубоко трое белокрылых, Снег пошел от соколиных перьев, Мгла седая поле задымила. Побратим! Блюди их сон суровый: Утомились соколы царевы! Август 1945Бранко Чопич
228. ХОРОВОД КОЗАРСКИЙ
Никогда я не был на горе Козаре, Не глядел с вершины острыми глазами, Я другим за это награжден по-царски: Видел я девичий хоровод козарский. В нем одну тебя лишь разглядел я только, — Боль моя, Драгиня, душа, княжеполька! В этот день июльский, грозовой и жаркий, Серая волчица, смуглая козарка, Ты со всею страстью молодого пыла Пела и плясала, хоровод водила. День Ильин был зноен, и горячим валом Пламя разгоралось, пламя бушевало, Месяц урожайный изнывал от жара… О, вершины Грмеча, Козары и Дрвары, О, темные ночи, о зоркие, волчьи Серба партизана пристальные очи, Выпавшее знамя боевой бригады, Дни и ночи битвы, дни и ночи яда! Земля молодеет, земля молодеет, Молодой землею партизан владеет, — Залп из-за пригорка, меткий и летучий, Удар из засады — молнией из тучи!.. Стану в пляске гнуться, буйным косам виться! Выстрелы в Витловском, пальба в Мраковице, В сердце льется песня всё хмельней, всё слаще — О ночном набеге, о селе горящем, Слышен клич Метели в утреннем тумане, И стучит немолчный пулемет Восстанья! Девушка! Ты — сладость вина молодого! Девушка! Ты — знамя бунта краевого! Ты — кремень, что искрой под копытом брызнул! Ты — моя Краина! Ты — моя отчизна!.. Был февраль, под Грмечем завывала вьюга, С пятою бригадой шла моя подруга, Впереди порхая, сквозь четыре боя Часть свою на танки вела за собою! Никогда я не был на горе Козаре, Не глядел с вершины острыми глазами, Но зато другим я награжден по-царски: Видел я под Грмечем хоровод козарский — Хоровод козарский — жаркое сраженье, Сломанный железный обруч окруженья. Видел, как на битву наряду с другими Шла моя Краина, шла моя Драгиня! Девушку сразила в схватке пуля злая, Но не смолкла песня, но глаза пылают, Хоровод всё вьется, колокол всё слышно, Недруга в сраженье одолел краишник… Мне тебя забыть ли, мне тебя не петь ли, — Молодая яблонь, широкие ветви?! Август 1945С ЧЕШСКОГО
Илья Барт
229. СЕРДЦЕ
Я сердце по улице нес, Но сурово Сказал полицейский; «Послушай-ка, брат! Нарушена нравственность, Ты оштрафован. Носить это голое сердце — Разврат!» Я, штраф не платя, По дороге окружной Ушел, Но и тут Притирают к стене: «Постой-ка, дружок! Твое сердце — оружье. Скорей предъяви Разрешение мне!» И в сердце мое Полицейская клика Вломилась, Топча сапогами мечты: «Ступай под арест! Твое сердце — улика, Что дышишь Изменою родине Ты!» Я схвачен. Но ты С протестующим стоном Срываешь Тюремную дверь Со скобы, — Большое, Огромное сердце мильонов, Уже выходя На дорогу борьбы. 1935230. ЧТО ТАКОЕ ПЕСЕНКА
Что такое песенка? Только дым и пепел. Как же Эта песенка Разбивает цепи? Ты ее послушаешь, Если есть охота, Грозный И задумчивый, Приходя с работы. Я спою, Как на поле Снег упал и умер, Как дожди закапали По дворам угрюмым. Как горбун за клячею Тянется с сохою, Про дома незрячие С нищетой глухою. Про гранит, Что вылощен В дворцовых громадах, Как Мартин-текстильщик Пал на баррикадах, Как с разбегу, Руша их, Поезд сходит с рельсов… Только, Песню слушая, Над певцом не смейся. Пусть глаза несхожие У него немного: Песня с бездорожия Приведет к дороге. Грозный И задумчивый, Приходя с работы, Ты ее послушаешь, Если есть охота… Кто сказал, Что песенка — Только дым И пепел, Если эта песенка Разбивает цепи? 1935231. ПЕСНЯ О ПЕСНЕ
В отчизне смрад: в ней лести И пошлости гнездо. Но бойтесь: Жало песни Убийственно остро! Вас песенка Попросит Открыть свои мечты: Куда народ вам бросить Угодно на фронты? Когда для вас уместней Перекалечить всех?.. Недаром Этой песни Давно заждался чех. Сближаясь в пляске, Встретим Мы близких и друзей. Крепчай же, песня! Ветер Крепчает при грозе! Вы на слова богаты, А на дела скупы, Министры, Депутаты, Советники, Попы. Мечты свалить нас в ямы Совсем не так легки, Помещики и дамы, Банкиры и шпики. Интриги, Сидя в кресле, Плетете вы хитро, Но бойтесь! Жало песни Убийственно остро! 1935232. НИЩАЯ СТРАНА
Встань И открой оконце, Вверх из него Взгляни-ка. Ночь раздавила солнце, Словно сапог — Чернику. Солнце, — как мяч, иглою Ночь проколола острой. Дремлют, Обвиты мглою, Камни Родных погостов. Родина! Край тумана! Вижу тебя Не вновь я. Старая твоя рана Той же сочится кровью. Чехия! Что с тобою? Горе уложишь в строфы ль? Счастье твое — Побои, Радость моя — Картофель. Ветер Твой колос косит, Ржавчина плуги метит. Родина! Кто нас бросил В лапы Голодной смерти?.. Только По глаз движеньям В ней Узнаются братья… Так перед изверженьем Спит, но дымится кратер. 1935233. КУСТИК
Где ты, милый кустик? Заблудился в поле? Иль на койку в грусти Завалился, что ли? Иль дорогой мокрой Зашагал по вехам? Иль в соседний округ Стражником уехал? На бульварах, сытый, Занялся развратом? Стал большой политик? Пламенный оратор? Иль навел в висок ты Свой последний выстрел? Стал ученый доктор? Сделался министром? Шляешься ль по краю Меж бродяг беспечных? Новости ль в трамваях Продаешь, газетчик? Снюхался с кассиршей Иль попал в поэты И сбываешь вирши Бойкие в газеты? Иль туда ты нанят Цензором ретивым? Стал попом в сутане? Юрким детективом? Куклою ль из воска Спишь в кутузке, милый, Иль тебя березка В поле соблазнила, Та, что в легком дыме, Изгибаясь в танце, Шелестит, что мимо Ходят новобранцы: «В серой туче пыли, Злы и бородаты, Тут и нынче были Хмурые солдаты. Офицер их водит, Учит он стрелять их. С ними в третьем взводе Шел и твой приятель. Твой приятель бросит Под ноги гранату Каждому, кто спросит Хлеба у богатых…» — «Кустик! Это греза Или правда, что ли, То, что нам береза Нашептала в поле?» Отвечает кустик Тихими словами: «Земляки, не трусьте! Я, ребята, с вами!» 1935ПРИМЕЧАНИЯ
Дмитрий Кедрин — автор трех сборников стихов, из которых первый («Свидетели») был издан в значительно измененном издателями виде, а два других («День гнева» и «Русские стихи») вовсе не увидели света при жизни поэта.
Единственная опубликованная при жизни Кедрина книга «Свидетели» вышла в издательстве «Художественная литература» (Москва) летом 1940 г. под редакций поэта В. В. Казина. Книга состоит из трех разделов. В первый вошли стихотворения «Право на отдых», «Христос и литейщик», «Крым», «Добро», «Китайская любовь», «Родина». Во второй — «Кукла», «Сказка про белую ведмедь и про Шмидтову бороду», «Поединок», «Две песни про пана», «Беседа», «Кофейня». В третий — «Зодчие», «Приданое», «Дорош Молибога», «Казнь», «Страдания молодого классика». Рукопись книги «Свидетели» была представлена в издательство еще в 1932 г. в несколько ином составе, о чем можно судить по поэтическому вступлению. Тогда же рукопись получила положительную оценку Э. Багрицкого, но пролежала до 1938 г., когда она была пополнена стихами 1933–1938 гг. И началась ее подготовка к печати (4 декабря 1938 г. рукопись была сдана в набор). Сам Кедрин отзывался о вышедшей книге весьма критически. В одном из писем он пишет о ней: «Ее обрезали, выбросили из нее много хороших стихотворений и вставили много плохих, старых, детских… В ней сохранилось не больше 5–6 стихотворений, которые стоят этого высокого имени» (ЛАК, письмо. К. Кулиеву от 9 марта 1944 г.). Книге был предпослан эпиграф «Стихи мои, свидетели живые!..» — первая строчка одноименного стихотворения Н. А. Некрасова — и посвящение: «Людмиле Кедриной».
Над книгой стихов «День гнева» Кедрин работал с осени 1941 до весны 1943 г. Первый вариант рукописи (в толстой тетради, именуемой «Гроссбухом») под названием «День гнева. Стихи о войне. 1941 г.» датирован 30 ноября 1941 г. и имеет эпиграф: «„Ибо уже при дверях“. Откровение Иоанна». Сюда вошли следующие стихотворения: «Глухота», «Ночь в убежище», «Осень сорок первого года», «Плач», «Дачный пейзаж», «Муха», «Погода», «Дом», «Завтра», «Девочка в противогазе», «Сев», «Газ», «Кукла», «Жилье», «Бабье лето», «Рыбы», «Полустанок», «Похороны», «Непогодь», «Станция Зима», «В парке», «Уголек», «Если», «Следы войны», «Ущерб», «16 октября», «Очередь», «Толкучий рынок», «Колокола», «Мать». Второй вариант рукописи датирован на титульном листе январем 1942 г. и включает стихи с августа 1941 г. по февраль 1943 г. Расположение стихов здесь следующее: «Ночь в убежище», «Осень сорок первого года», «Глухота», «Сев», «Плач», «Погода», «Мать», «Кукла», «Похороны», «Дом», «Завтра», «В парке», «Бабье лето», «Рыбы», «Жилье», «Станция Зима», «Колокола», «Полустанок», «16 октября», «В очереди», «Архимед», «Грипп», «Декабрь», «Первые ласточки», «Остановись, мгновенье», «Солдат», «Хлеб и железо», «Мена», «Тыл», «Весна», «Желание», «Не печалься», «Старая Германия», «Бог», «Природа», «Когда сраженье стихнет понемногу…», «В булочной», «После войны», «1941». Рукопись имеет эпиграф «„После мрака надеюсь на свет“. Сервантес» (Это библейское изречение (из «Книги Иова») встречается в «Дон-Кихоте» (т. 2, гл. 68) и было на титульном листе первого издания романа Сервантеса в 1605 г.). Название книги «День гнева» восходит к знаменитому латинскому гимну XIII века «Dies irae».
Наконец, третий поэтический сборник — «Русские стихи» — был составлен Кедриным в конце 1942 г. и передан в издательство «Советский писатель». Сборник многократно рецензировался в издательстве (первая рецензия датирована 2 января 1943 г.), однако при жизни поэта книга не была опубликована. Разрозненные части рукописи хранятся в ЦГАЛИ. Сохранилось содержание сборника, позволяющее восстановить замысел автора. «Русские стихи» должны были состоять из четырех разделов. В первый входят следующие произведения: «Дума о России», «Нет!», «День суда», «Колокол», «Ворон», «Старая Германия», «Родина» («Весь край этот, милый навеки…»), «Красота». Во второй раздел — «Зодчие», «Пирамида», «Песня про Алену-Старицу», «Князь Василько Ростовский», «Дума», «Пан Твардовский». В третий раздел — «Зимнее», «Осенняя песня», «Бабка Мариула», «Пластинка». Четвертый раздел составляет повесть в стихах «Конь». Эпиграфом к книге были взяты строки из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России»: «Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов». В ходе редакционной доработки книги Кедрин пополнил «Русские стихи» стихотворениями «Хочешь знать — что такое Россия…», «Я не знаю, что на свете проще?..», «Скинуло кафтан зеленый лето…», «Клады», «Аленушка», «Россия! Мы любим неяркий свет…», «Завет», «Набег».
В архиве Кедрина сохранились самодельные «макеты» обложек задуманных им книг. Среди них: «Война», «Битва», «Родник». Незадолго до смерти, на основании уже сделанного, он предполагал подготовить два стихотворных сборника — «Зрелость» и «Соловьиный манок».
Значительная часть личного архива поэта погибла в 1941 г. Сохранившаяся часть его рукописного наследия сосредоточена в нескольких местах: в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве (ЦГАЛИ), в личном архиве поэта, хранящемся у Л. И. Кедриной (ЛАК), в музее «Никитинские субботники» (филиал Государственного литературного музея в Москве), отдельные рукописи — в коллекции М. С. Дубинского.
Большая часть литературного наследия Кедрина при его жизни напечатана не была (из публикуемых в настоящем издании произведений лишь треть появилась в печати при жизни поэта). Многие посмертные издания его стихов, начиная с книги «Избранное», вышедшей в 1947 г., печатались в произвольно измененном редакторами виде. Это обстоятельство порождает особые сложности при текстологической подготовке издания поэзии Кедрина. Цель настоящей книги — дать первое проверенное по автографам и прижизненным публикациям издание произведений Дм. Кедрина.
Тексты произведений печатаются по последней прижизненной публикации, а если при жизни поэта стихотворение не печаталось, то по последнему беловому автографу.
Сверка с автографами позволила устранить некоторые опечатки и искажения, переходившие из издания в издание. Многие стихотворения имеют несколько автографов, в некоторых случаях они повторяют друг друга без изменений. Наиболее значительные разночтения в печатных прижизненных текстах и в автографах приведены в разделе «Другие редакции и варианты». Произведения, материалы к которым имеются в этом разделе, отмечены в примечаниях звездочкой.
Сборник состоит из трех разделов, в которые входят оригинальные стихотворения и поэмы (1932–1945 гг. и 1924–1931 гг), драма «Рембрандт» и переводы. Внутри разделов произведения расположены в хронологическом порядке. Большинство стихотворений датированы самим автором, в остальных случаях даты установлены составителем по тем или иным данным. Даты, установленные по времени первой публикации, заключены в угловые скобки.
В примечаниях указывается первая публикация каждого произведения, последовательные ступени изменения текста, источник публикации и наличие автографов. Отсутствие вариантов при наличии нескольких автографов специально не отмечается. Если стихотворение публиковалось только один раз или перепечатывалось без изменений, указывается только первая публикация.
Сокращения, принятые в примечаниях
Избр. 1947 — Дмитрий Кедрин, Избранное, [Л.], 1947.
Избр. 1953 — Дмитрий Кедрин, Избранное, М., 1953.
Избр. 1957 — Дмитрий Кедрин, Избранное, М., 1957.
Красота — Дм. Кедрин, Красота. Стихотворения и поэмы, М., 1965. ЛАК — Личный архив Д. Б. Кедрина, хранящийся у вдовы поэта Л. И. Кедриной.
Свидетели — Дм. Кедрин, Свидетели. Книга стихов, М., 1940.
Стихи 1953 — Дмитрий Кедрин, Стихи, М., 1953.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
1932–1945
1. «Красная новь», 1932, № 12, с. 68. Печ. по Свидетели, с. 20.
2. «Смена», 1933, № 9, с. 7. Торгсин — название существовавших в СССР в 30-е годы магазинов, ведших торговлю на золотую валюту и золото преимущественно с иностранцами. «Савой» — ресторан в Москве. «Интеллидженс сервис» — английская разведывательная служба. Семь орудийных цехов. В начале 30-х годов в состав СССР входили семь республик. Киплинг Дж. Р. (1865–1936) — английский писатель, прославлял империалистическую политику и колониальную экспансию Англии.
3. «Красная новь», 1933, № 3, с. 145. Печ. по Свидетели, с. 29. Стволов роковых Лепажа — перефразировка строки из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (VI, 25).
4. «Красная новь», 1933, № 10, с. 137. Печ. по Свидетели, с. 12.
5. «Молодая Москва», М., 1937, с. 93.
6. «Молодая гвардия», 1934, № 10, с. 27. Печ. по «Молодая Москва», М., 1937, с. 104.
7. «Молодая Москва», М., 1937, с. 100.
8. Свидетели, с. 53. Ранок — утро. «Вильгельм Телль» — название драмы Фридриха Шиллера (1804) и оперы Джоаккино Россини (1829). Имеется в виду сцена, в которой легендарный борец за освобождение Швейцарии от австрийского ига в XIV в. Вильгельм Телль по приказу австрийского наместника Геслера стреляет в яблоко на голове своего сына, а затем другой стрелой убивает Геслера.
9. «Молодая гвардия», 1935, № 5, с. 101. Печ. по Свидетели, с. 46. Фердуси (Фирдоуси) Абулькасим (ок. 940–1020 или 1030) — великий персидско-таджикский поэт, создатель эпической поэмы «Шах-наме», одной из самых больших поэм в мировой литературе (около 60 тысяч двустиший), над которой поэт работал свыше 30 лет. В 1934 г. в Иране и в СССР был широко отмечен 1000-летний юбилей Фирдоуси, родившегося в Тусе (Хоросан). Стихотворение Гейне «Поэт Фирдуси» в переводе Мея, написанное на ту же тему, было хорошо знакомо Кедрину.
10. Стихи 1953, с. 34. Печ. по автографу ЛАК.
11. «Красноармеец. Краснофлотец», 1936, № 18, с. 8. Сади (Саади) — персидско-таджикский писатель и мыслитель XIII в. Рубаи — форма лирической поэзии, распространенная на Ближнем и Среднем Востоке; четверостишие с определенной схемой рифмовки, заключающее в себе законченную мысль. Хаям (Хайям) Омар (ок. 1048 — ок. 1123) — персидско-таджикский поэт, математик и философ, автор прославленных рубаи. Дехкане — крестьяне.
12. «30 дней», 1936, № 10, с. 37. По свидетельству жены поэта Л. И. Кедриной, среди любимых книг Кедрина был роман Ю. Н. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», из которого заимствованы в этом стихотворении отдельные факты биографии А. С. Грибоедова. Паскевич Иван Федорович (1782–1856) — генерал-фельдмаршал, командовал русскими войсками во время русско-иранской войны 1826–1828 гг. Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) — русский военный и политический деятель, генерал, участник войн с наполеоновской Францией, в 1818–1827 гг. главноуправляющий в Грузин. За связь с декабристами в 1827 г. отозван с Кавказа и уволен в отставку. Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) — русский философ автор «Философических писем», за которые он был официально объявлен сумасшедшим. Островок Голодай (ныне остров Декабристов) — место захоронения казненных в Петербурге 13 (25) июля 1826 г. пяти декабристов. Фаддей — Ф. В. Булгарин (1789–1859), крайний реакционер и беспринципный журналист. Куруры — полмиллиона. Туркменчайский трактат — договор, заключенный 10 февраля 1828 г. между Россией и Персией, по которому к России отошли ханства Эриванское и Нахичеванское, на Персию была наложена контрибуция и России предоставлялся ряд преимуществ в торговле. Грибоедов принимал участие в выработке этого мирного договора Некто спросит с коня и т. д. Имеется в виду эпизод, описанный Пушкиным во второй главе «Путешествия в Арзрум». На нелепой дуэли Нелепо простреленный палец. Грибоедов был убит в Тегеране, куда был послан русским полномочным министром-резидентом (послом) в Персии, 30 января (11 февраля) 1829 г. фанатически настроенной толпой. Обезображенный труп его был опознан только по руке, простреленной на дуэли с А. И. Якубовичем. «Горе уму» — первоначальное название комедии Грибоедова «Горе от ума».
13–14. Первая песня. — «Молодой колхозник», 1936, № 24, с. 12, под загл. «Песня». Вторая песня — «Новый мир», 1939, № 5, с. 175, под загл. «Кровь». Печ. по Свидетели, с. 32. Автографы — ЦГАЛИ.
15. Печ. впервые по автографу ЛАК.
16. Свидетели, с. 38. Эпиграф восходит к книге Саади (см. примеч. 11) «Гулистан», где в гл. 8 («О пользе общения») говорится: «Мускус то, что благоухает, а не то, что расхваливает москательщик. Мудрец подобен лотку москательщика; молчит он и показывает свои дарования». «Диван» — рукописный сборник произведений одного автора.
17. Печ. впервые по автографу ЛАК.
18. Печ. впервые по автографу ЛАК.
19. «30 дней», 1937, № 4, с. 47. Печ. по Свидетели, с. 35. К охотнику приходили души убитых птиц. Образ навеян русским переводом Н. Гумилева (1919) «Поэмы о старом моряке» (1798) английского поэта-романтика Самюэла Тейлора Колриджа.
20. «30 дней», 1937, № 8, с. 50. Печ. по Свидетели, с. 24. Шмидт О. Ю. (1891–1956) — советский ученый и общественный деятель, исследователь Арктики, в мае 1937 г. руководил организацией первой в мире дрейфующей полярной станции «Северный полюс», а в феврале 1938 г. — снятием персонала станции со льдины. Водопьянов М. В. (р. 1899) — советский полярный летчик. Папанин И. Д. (р. 1894) — начальник станции «Северный полюс» (21 мая 1937–19 февраля 1938), на которой он был вместе с географом и радистом Э. Т. Кренкелем, океанографом и гидробиологом П. П. Ширшовым и геофизиком Е. К. Федоровым. Чкалов В. П. (1904–1938) — советский летчик-испытатель, в июле 1937 г. совершил беспосадочный перелет через Северный полюс в Америку.
21. Избр. 1957, с. 61. Печ. по автографу ЛАК.
22. «Октябрь», 1946, № 6, с. 104. Печ. по автографу ЛАК.
23. Избр. 1957, с. 263. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Глава из неосуществленной повести в стихах о Пушкине. Эпиграф — из письма Пушкина от 17–21 ноября 1836 г. голландскому посланнику в Петербурге Людвигу Геккерену (1791–1884), которое не было послано адресату. В приведенном отрывке допущена некоторая контаминация текста. На Кронверкском валу Он может быть шестым. Речь идет о казни пяти декабристов в Петербурге. Альбион — Англия.
24. Свидетели, с. 68.
25. «Октябрь», 1939, № 4, с. 104. Автограф — ЦГАЛИ. Шилом бреется солдат, Дымом греется — перефразировка русской народной пословицы, приведенной в первой главе поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
26. «Красная новь», 1938, № 3, с. 168. Печ. по Свидетели, с. 40. В беловом автографе ЦГАЛИ и в первой публикации отсутствует восьмистишие об Андрее Рублеве, где допущена хронологическая неточность: Рублев жил столетием ранее Ивана Грозного, а храм Василия Блаженного был расписан только в XVII веке. Как побил государь Золотую орду под Казанью. В 1552 г. Иван Грозный взял Казань, покорив Казанское царство, образовавшееся в XV веке в период распада Золотой орды в районе Среднего Поволжья. Двое безвестных владимирских зодчих. Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве построен в 1554–1560 гг. русскими мастерами по прозвищу Барма и Постник (согласно новейшей гипотезе, это одно лицо — Постник Барма). Впоследствии Постник был послан строить стены кремля в Казани. Существует легенда, что по окончании строительства храма Василия Блаженного мастера были ослеплены, чтобы не могли построить другого подобного по красоте храма. Смерд — крестьянин-земледелец в Древней Руси. Зане — ибо, так как. Кружало — кабак, питейный дом. Черная орда — очевидно, имеется в виду Черная Русь, как в древности называли воеводство Новгородское. Лобное место — построенное в 1534 г. из белого камня возвышение на Красной площади. В XVI–XVII веках с Лобного места объявлялись царские указы и приговоры. Обжорный ряд — место дешевых харчевен в Китай-городе. «Государево слово и дело» — система политического сыска в России XVII–XVIII веков, распространенная со времен царствования Михаила Федоровича. Каждый, кому становилось известно о злых умыслах по отношению к царю, оскорблении царского имени или государственной измене, обязан был под страхом смертной казни донести об этом властям. Привлеченные к следствию по «слову и делу государеву», в том числе и доносчики, заключались в тюрьму и подвергались пыткам.
27. «30 дней», 1939, № 3, с. 75. Автограф — ЦГАЛИ.
28. «Новый мир», 1939, № 7, с. 142. Автографы — ЦГАЛИ, ЛАК. Алена-Старица — крестьянка Арзамасской слободы, затем монахиня («старица»), командовала отрядом восставших крестьян, насчитывавшим до 600 человек и участвовавшим во взятии г. Темникова (1670). Позднее Алена была захвачена правительственными войсками в плен и сожжена как ведьма в деревянном срубе. Известность приобрела особенно благодаря героическому поведению во время допроса и казни. Одним из источников «Песни про Алену-Старицу» послужило соответствующее место в «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» Н. И. Костомарова: «Вместе с ними (темниковскими крестьянами. — Ред.) ходила старица (монахиня) Алена, переодетая в мужское платье. Ее считали ведьмой; она носила с собой заговорные письма и коренья и посредством их приобретала победу. Шайка эта была рассеяна князем Долгоруким и старица Алена сожжена на срубе» (СПб., 1913, т. 2, с. 261). Здоровью Алексееву. Имеется в виду царь Алексей Михайлович (1629–1676). Зарядье — район старой Москвы на берегу Москвы-реки за торговыми рядами.
29. Избр. 1947, с. 61–62, без последних двух строк. Печ. по автографу ЛАК.
30. «Октябрь», 1946, № 6, с. 106. Печ. по автографу ЛАК.
31. Избр. 1957, с. 78. Печ. по автографу ЛАК.
32. «30 дней», 1939, № 7, с. 48. Эпиграф из стихотворения М. Голодного (псевдоним М. С. Эпштейна, 1903–1949) «Юность» (1936).
33. «Вечерняя Москва», 1939, 23 октября. Автограф — ЦГАЛИ. Збруч (Подгорец) — река на западе Украины, левый приток Днестра. До сентября 1939 г. по ней проходила государственная граница СССР.
34. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ.
35. Избр. 1947, с. 88. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
36. Избр. 1957, с. 84. Печ. по автографу ЛАК.
37. «День поэзии», М., 1956, с. 137, под загл. «Щегол и чиж». Печ. по автографу ЛАК.
38. «Звезда», 1956, № 5, с. 91. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Стихотворение посвящено жене поэта Л. И. Кедриной.
39. Избр. 1957, с 79. Печ. по автографу ЛАК. Дафнис и Хлоя — юные герои одноименного любовно-буколического романа греческого писателя Лонга (II–III вв.).
40. Избр. 1957, с. 232, под загл. «Варвар». Печ. по автографу ЦГАЛИ. Аттила (ум. 453) — предводитель гуннов, при котором гуннский союз племен достиг наивысшего — могущества и совершил опустошительные набеги в Галлию и Италию. Аттила женился на бургундской уроженке Ильдико и умер внезапно в ночь после свадебного пира. По преданию, смерть его последовала от Ильдико, отомстившей таким образом за уничтожение своего народа. Железный Хромец — среднеазиатский полководец и завоеватель Тимур (Тамерлан, 1336–1405).
41. Избр. 1947, с. 93 (первые десять глав в сокращении); Избр. 1953, с. 115. Печ. по автографу ЦГАЛИ 1. Конь Федор Савельевич — московский зодчий и военный строитель XVI–XVII вв. В 1585–1593 гг. руководил строительством Белого, или Царева, города в Москве, затем строил Смоленский кремль. Для строителя Коня характерно использование последних достижений военной техники и высокие художественные качества. Сведения о жизни Федора Коня заимствованы Кедриным из рассказа В. Жаковой «О черном человеке Федоре Коне», опубликованного в 1934 г. в альманахе «Год семнадцатый». Согласно позднейшим исследованиям, многие из этих сведений (в частности, итальянский эпизод биографии Коня) оказались вымышленными писательницей (см.: В. В. Косточкин, Государев мастер Федор Конь, М., 1964, с. 6). Давлет-Гирей (ум. 1577) — крымский хан, в 1571 г. предпринял поход на Москву. Князь Мстиславский И. Ф. (ум. 1586) — политический и военный деятель эпохи Ивана IV, в 1577 г. навел татар на Москву, после чего «дети боярские» провели их беспрепятственно через Оку. Иван IV выступил с опричниной в Серпухов, но, отрезанный после перехода татарами Оки от главного войска, поспешил отступить в Александровскую слободу, а затем в Ярославль. Пожар — старинное название Красной площади, на которой находились торговые постройки, часто горевшие. Элерт Крузе — лифляндский дворянин-авантюрист XVI века. Во время Ливонской войны попал в русский плен и поступил на службу к Ивану IV. Изменив ему, перешел к польскому королю. В 1572 г. вместе с И. Таубе написал послание «Царь Иван Грозный», в котором, описывая сожжение Москвы татарами в 1571 г., говорит: «В три дня Москва так выгорела, что не осталось ничего деревянного, даже шеста или столба, к которому можно было бы привязать коня» («Русский исторический журнал», 1922, № 8, с. 53). Кафа — название Феодосии в XIII–XVIII вв., когда городом владели генуэзские купцы. Складные домы на Трубе. При строительстве Белого города было сделано пятиметровое отверстие — «труба» в кирпичной стене, по которой протекала река Неглинная. На Трубе, как называли с конца XVI века прилегающую площадь, был лубяной торг — продажа готовых срубов деревянных домов и небольших церквей-«обыденок». Погорельцы могли купить готовый сруб и за день-два поставить себе новый дом. 2. Кружало — см. примеч. 26. Генрих Штаден — немецкий шпион, тайно изучавший систему обороны Московского государства при Иване Грозном, автор книги «О Москве Ивана Грозного» (русский перевод 1925 г.). Зане — потому что, так как. 3. И на Варварку божедомы Уже подкидышей несли. Имеется в виду площадь у Варварских ворот (ныне площадь Ногина), куда из приюта (божьего дома) выносили в корзинах детей-подкидышей для сбора добровольных приношений на их пропитание. Позднее, в XVIII веке, здесь был построен Воспитательный дом для подкидышей. Церкви на крови — несколько небольших церквей, построенных на Красной площади при Иване IV родственниками казненных при нем бояр и носивших название «На крови». Позднее церкви эти были сломаны и престолы их перенесены в храм Василия Блаженного. Просил колодник бога ради: «Подайте мне! Увечен аз!». Заключенные в тюрьмах (колодники) добывали себе пропитание тем, что их отпускали «на связках» (связанными) просить милостыню по городу. Обычай этот запрещен указом Петра I в 1722 г. И чередой на мостик Спасский Прошли безместные попы. На каменном Спасском мосту (существовал до 1823 г.), перекинутом через ров, проходивший вдоль Кремлевской стены на Красной площади, была «поповская биржа», где по утрам собирались в поисках работы «безместные» попы. Наиболее бойкие из церковнослужителей, зазывая нанимателей, кричали угрожающе: «А то калачом закушу» (после еды отправление церковной службы не разрешалось). 4. Басманов Алексей Данилович (ум. 1570) — русский политический и военный деятель, участник многих военных походов Ивана IV, особенно отличился при взятии Казани (1552); один из инициаторов опричнины. После разгрома Новгорода (1570) был обвинен Иваном IV в измене и, очевидно, казнен. По другим сведениям, умер в опале на Белоозере. Кутафья — отводная башня Троицкого моста московского Кремля, названная так за свою приземистую форму (кутафья — неуклюжая, безобразно одетая баба). 5. Путина — дорога, путь. Фряжская страна — Италия. 6. Иннокентий Барбарини — персонаж в рассказе В. Жаковой «О черном человеке Федоре Коне». 9. Федор Иоаннович (1557–1598) — младший сын Ивана Грозного от Анастасии Романовны, царь московский с 1584 г. При нем все управление государством сосредоточилось в руках его шурина Бориса Годунова (1551–1605). Рында — оруженосец или телохранитель из придворной охраны московских князей и царей в XIV–XVII веках. Овамо и семо — здесь и там. 10. Чертольская башня — башня-ворота крепостной стены Белого города, называвшаяся так до 1658 г., когда указом царя Алексея Михайловича эти ворота были переименованы в Пречистенские (ныне Кропоткинские). Со времен опричнины за Чертольскими воротами стояли дворы знатных людей. 12. Понеже — потому что, так как. 13. Соловки — Соловецкий монастырь, основанный в 1436 г. старцем Зосимой (ум. 1478) на Соловецком острове в Белом море. В течение нескольких столетий был крепостью и религиозным центром, куда ссылали неугодных царю и высшему духовенству лиц. 14. В Москве был голод этим летом. Имеется в виду голод в Москве в 1601–1603 гг., во время которого, как пишут современники, «люди, лежа на улице, подобно скоту щипали траву и питались ею; у мертвых находили во рту сено». Вражек Сивцев — район в Москве, получивший название по реке Сивке, протекавшей в овраге («вражке»). Недавно в Угличе Димитрий Средь бела дня зарезан был. Сын Ивана IV и Марии Нагой Дмитрий (1582–1591) получил в удел Углич, куда был отправлен вместе с матерью после смерти отца Борисом Годуновым. Существуют две версии о причинах его гибели 15 мая 1591 г. Согласно одной из них, он был убит по приказу Бориса Годунова, желавшего устранить претендента на престол; согласно другой, он закололся ножом в припадке падучей болезни. Боярин В. И. Шуйский (1552–1612), возглавлявший следственную комиссию по делу о смерти царевича, объявил причиной гибели царевича болезнь, а став в 1606 г. царем, признал убийцей царевича Бориса Годунова. Ярыжка — низший полицейский чин в Древней Руси.
42. Избр. 1947, с. 134. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Сезострис. Под этим именем у древнегреческих историков упоминается Рамсес II (1317–1251 до н. э.), египетский фараон, прославившийся победами над хеттами и завоеванием Сирии. Мемфис — столица Древнего Египта. Феллах — египетский крестьянин.
43. «Октябрь», 1946, № 6, с. 104–105. Печ. по автографу ЛАК. Автограф опубликован в «Звезде Востока», 1967, № 2, с. 203.
44. «Октябрь», 1946, № 6, с. 107. Печ. по автографу ЛАК.
45. «Советская Украина», 1960, № 7, с. 122. Печ. по автографу ЛАК.
46. «Новый мир», 1967, № 2, с. 142. Печ. по автографу ЛАК.
47. Избр. 1957, с. 102. Печ. по автографу ЛАК.
48. «Звезда Востока», 1967, № 2, с. 202. Печ. по автографу ЛАК.
49. «Литературная газета», 1967, 18 октября, с. 8. Печ. по автографу ЛАК.
50. Избр. 1957, с. 105. Печ. по автографу ЛАК.
51. Избр. 1957, с. 101. Печ. по автографу ЛАК.
52. «День поэзии», М., 1956, с. 137. Печ. по автографу ЛАК.
53. Избр. 1957, с. 103, под загл. «В убежище». Печ. по автографу ЛАК.
54. Печ. впервые по автографу ЛАК.
55. Избр. 1957, с. 110. Печ. по автографу ЛАК.
56. «Звезда», 1956, № 5, с. 92. Печ. по автографу ЛАК.
57. Избр. 1957, с. 109. Печ. по автографу ЛАК. Иных уже нет, а другие далече!.. — перефразированная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (VIII, 51).
58. Стихи 1953, с. 90. Печ. по автографу ЛАК.
59. Избр. 1957, с. 107, под загл. «Война пройдет…». Печ. по автографу ЛАК.
60. Избр. 1957, с. 108. Печ. по автографу ЛАК. Архимед (ок. 287–212 до н. э.) — древнегреческий физик и математик, был убит римским солдатом во время взятия его родного города Сиракузы. Согласно преданию, он чертил в тот момент математическое число на песке.
61. «Красота», с. 137. Печ. по автографу ЛАК.
62. «Октябрь», 1946, № 6, с. 105. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Стефан Баторий (1533–1586) — польский король (1576–1586), в 1579 г. возобновил Ливонскую войну с Иваном IV.
63. Избр. 1953, с. 24. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
64. Избр. 1947, с. 13. Печ. по автографу ЛАК. И палили мы пеплом Димитрия. Имеется в виду Лжедимитрий I, самозванец, захвативший русский престол в 1605 г. под именем Димитрия, сына Ивана IV. 17 мая 1606 г. убит во время народного восстания в Москве. В течение трех дней его труп в маске с дудкой и волынкой был выставлен на Красной площади, а затем погребен за Серпуховскими воротами в убогом доме. Позднее, когда пошли слухи, будто сильные морозы в Москве стоят благодаря волшебству убитого лжецаря, его труп вырыли, сожгли и, смешав с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда он пришел.
65. «Смена», 1963, № 1, с. 14. Печ. по автографу ЛАК.
66. «Новый мир», 1967, № 2, с. 142. Печ. по автографу ЛАК.
67. Избр. 1957, с. 116. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
68. Избр. 1947, с. 19. Печ. по автографу ЛАК.
69. «День поэзии», М., 1956, с. 137. Печ. по автографу ЛАК.
70. «Звезда Востока», 1967, № 2, с. 198. Печ. по автографу ЛАК.
71. Избр. 1957, с. 114. Печ. по автографу ЛАК.
72. Избр. 1947, с. 130. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Князь Василько Константинович Ростовский попал в плен к татарам в битве на берегу реки Сити 4 марта 1238 г. Как рассказывает летописец, отказавшись от приема пищи из рук врагов, Василько ответил Батыю на предложение воевать вместе с ним под его знаменами: «Лютые кровопийцы, враги моего отечества и бога, не могут быть мне друзьями. О, темное царство! Есть бог, и ты погибнешь, когда исполнится мера твоих злодеяний». Татары умертвили Василька и бросили в Шеренском лесу. Нукера — здесь: приближенные татарского хана.
73. Избр. 1947, с. 91. Печ. по автографу ЛАК. Эпиграф — первая строка одноименного стихотворения А. К. Толстого, написанного 5 декабря 1855 г., в котором нашел отражение действительный случай во время Крымской войны.
74. «Октябрь», 1946, № 6, с. 105. Печ. по автографу ЦГАЛИ. В черновых автографах ЦГАЛИ и ЛАК имеются варианты.
75. «Звезда Востока», 1967, № 2, с. 198. Печ. по автографу ЛАК. Эпиграф — из стихотворения Блока «Грешить бесстыдно, непробудно…» (1914). Это дудка в руке Самозванца — см. примеч. 64.
76. Избр. 1957, с. 131, под загл. «В лесной глуши». Печ. по автографу ЛАК.
77. Избр. 1947, с. 54. Печ. по автографу ЛАК.
78. Избр. 1953, с. 21. Печ. по автографу ЛАК. В автографе ЦГАЛИ указана иная дата стихотворения — 1943 г., когда оно было переписано набело.
79. «Звезда», 1956, № 5, с. 92. Печ. по автографу ЦГАЛИ. В автографе ЛАК под датой 9 октября 1942 г. стоит вторая дата: 15 января 1944, когда стихотворение было переписано. По свидетельству Л. И Кедриной, тема, получившая выражение в этом стихотворении, долго владела поэтом, он вынашивал ее все годы войны.
80. «Сокол Родины», 1943, 21 мая, под загл. «Родина» (с сокращениями). Печ. по автографу ЛАК.
81. «Октябрь», 1942, № 10, с. 3. Автограф под загл. «Россия» — ЦГАЛИ. Било — металлическая доска, заменявшая набатный колокол. Пожар — см. примеч. 41. Яруга — глубокий большой овраг, обычно заросший лесом. Иван Великий — колокольня московского Кремля, построенная в 1505–1508 гг. Федька Конь — см. примеч. 41. Не испить врагу шеломом Дона! — перефразировка строки из «Слова о полку Игореве».
82. Стихи 1953, с. 140. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
83. Стихи 1953, с. 97. Печ. по автографу ЛАК.
84. Избр. 1957, с. 132. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
85. «Октябрь», 1946, № 6, с. 104. Печ. по автографу ЦГАЛИ. «И моего Тут капля меда есть!» — цитата из басни И. А. Крылова «Орел и пчела» (1813).
86. Избр. 1947, с. 125. Печ. по автографу ЦГАЛИ. То ли слободы жжет и т. д. Речь идет о сожжении Москвы в 1571 г., когда татарский хан Давлет-Гирей подошел к Москве, а Иван IV бежал с опричниной в Ярославль. Та же историческая тема разработана в начале повести «Конь» (см. примеч. 41).
87. «Сельская молодежь», 1967, № 10, с. 5. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
88. Избр. 1947, с. 17. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
89. «Сокол Родины», 1943, 20 июня. Автограф — ЦГАЛИ.
90. «Звезда Востока», 1967, № 2, с 197. Печ. по автографу ЦГАЛИ. «Дранг нах Остен» — «Натиск на Восток» (нем.) — девиз политики немецких феодалов, а позднее германского империализма, направленной главным образом на покорение славянских земель.
91. Избр. 1947, с. 22. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Певни — петухи.
92. «Сокол Родины», 1943, 29 мая.
93. «Сокол Родины», 1943, 25 июня. О судьбе автографа этого стихотворения см. в статье В. Ермакова «Судьба одного стихотворения» в журнале «Кубань», 1970, № 2, с. 96.
94. «Сокол Родины», 1943, 7 июля.
95. «Комсомольская правда», 1943, 15 августа.
96. «Юность», 1956, № 3, с. 38. Печ. по автографу ЛАК.
97. Избр. 1957, с. 139. Печ. по автографу ЛАК.
98. «Молодая гвардия», 1965, № 5, с. 159. Печ. по автографу ЛАК.
99. Избр. 1957, с. 151. Печ. по автографу ЛАК.
100. Избр. 1957, с. 138. Печ. по автографу ЛАК.
101. «Сокол Родины», 1943, 12 сентября.
102. «Сокол Родины», 1943, 27 октября.
103. Избр. 1947, с. 59. Печ. по автографу ЛАК.
104. «Юность», 1956, № 3, с. 38. Печ. по автографу ЛАК.
105. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ. Салтычиха — Салтыкова Д. И. (1730–1801), помещица, известная своим жестоким обращением с крепостными крестьянами. «Поднявший меч погибнет от меча» — выражение, восходящее к Евангелию (Матф., 26, 52).
106. «Сельская молодежь», 1967, № 10, с. 4–5. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
107. Избр. 1947, с. 36. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
108. Избр. 1947, с. 68. Печ. по автографу ЛАК.
109. Избр. 1947, с. 32. Печ. по автографу ЛАК. В раннем автографе ЦГАЛИ имеются варианты. Бессемер — здесь: сталелитейная печь.
110. Избр. 1947, с. 116. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Сюжетом стих. послужила история похода казацкого атамана Ермака Тимофеевича (ум. 1585) в Сибирь, где в 1582 г. войска последнего сибирского хана Кучума потерпели поражение в боях с казачьими отрядами. Отряд Ермака занял столицу Сибирского ханства — Кашлык (вблизи Тобольска), однако Кучум все еще сохранял значительные военные силы и был окончательно разбит русскими лишь в 1598 г., после чего бежал к ногаям, где был убит. Бармы — оплечье, надевавшаяся на плечи часть парадной одежды князей и царей с нашитыми на ней изображениями и драгоценными камнями. Кольцо (Кольцов), Иван — казачий атаман Ермака и его сподвижник За разбои был присужден царским указом к смертной казни. В декабре 1582 г был направлен Ермаком из столицы Сибирского ханства Кашлыка с донесением в Москву о покорении Сибири. В 1583 г. возвратился с царскими дарами к Ермаку. Посланный затем во главе отряда к местному князьку Караче для защиты его владений от ногаев, Кольцо вместе с товарищами был предательски убит Хвалынское — древнерусское название Каспийского моря. Хилков Дмитрий Иванович — князь, боярин и воевода.
111. Стихи 1953, с. 127, под загл. «Туфли». Печ. по автографу ЦГАЛИ. В раннем автографе ЛАК имеются варианты.
112. «День поэзии», М., 1956, с. 137. Печ. по автографу ЛАК.
113. Избр. 1947, с. 38, под загл. «Под Старой Руссой» (в сокращении). Печ. по автографу ЛАК.
114. «Звезда Востока», 1967, № 2, с. 201. Печ. по автографу ЦГАЛИ. 17 июля 1944 г. 57 тысяч пленных немецких солдат, офицеров и генералов под конвоем прошли по улицам Москвы. Л. Леонов писал в статье «Немцы в Москве», опубликованной 19 июля в «Правде»: «Отвратная зеленая плесень хлынула с ипподрома на чистое, всегда такое праздничное Ленинградское шоссе, и было странно видеть, что у этой пестрой двуногой рвани имеются спины, даже руки по бокам и другие второстепенные признаки человекоподобия. Оно текло долго по московским улицам, отребье, которому маньяк внушил, что оно и есть лучшая часть человечества, и женщины Москвы присаживались где попало отдохнуть, устав скорее от отвращения, нежели от однообразия зрелища».
115. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ.
116. Избр. 1947, с. 20. Печ. по автографу ЦГАЛИ. В ЦГАЛИ имеются ранние черновые редакции.
118. «Советская Украина», 1960, № 7, с. 120. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
119. «Звезда Востока», 1966, № 1, с. 213–215. Печ. по автографу ЛАК. Эскуриал (Эскориал) — королевский дворец, усыпальница испанских королей, монастырь и библиотека в пятидесяти двух километрах от Мадрида. Построен в XVI веке.
120. Избр. 1947, с. 40. Печ. по автографу ЦГАЛИ. В черновых автографах ЦГАЛИ имеются варианты, в одном из них — под загл. «Сказка».
121. «День поэзии», М., 1955, с. 136. Печ. по автографу ЛАК. Я помню чай в кустодиевском блюдце. Имеется в виду русский живописец Б. М. Кустодиев (1878–1927), основная тема картин которого — обычаи купеческой дореволюционной провинции («Чаепитие», «Купчиха» и др.).
122. Избр. 1947, с. 60. Печ. по автографу ЛАК.
123. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ.
124. Избр. 1947, с. 57, под загл. «Другу-поэту». Печ. по автографу ЦГАЛИ. Балкарский советский поэт Кайсын Кулиев (р. 1917) в статье «Памяти друга» рассказывает историю создания этого стихотворения: «В самом начале 1945 года я приехал с Кавказа в Москву… Нас как-то пригласил на именины дочери черкизовский приятель Кедрина. Был февральский метельный вечер…» Во время праздничного застолья Кулиев шутя сказал Кедрину:
«— Знаешь, я мог бы быть офицером Шамиля!
Он ответил:
— Ты был им!
Через несколько дней я снова приехал к Кедриным. Прихрамывая, прошел к столу, сел. Митя взял с письменного стола исписанный лист желтоватой нелинованной бумаги и протянул мне. Это были стихи, обращенные ко мне.
С того зимнего дня прошло довольно много времени. Было всякое. А автограф я сохранил. Еще бы! Вот он лежит передо мной и сейчас, когда пишутся эти строки. На листе сверху стоят три звездочки, а с отступом влево тонким почерком выведено: „Кайсыну Кулиеву“. Внизу подпись „Дм. Кедрин“. В книгах же поэта стихотворение печатается под названием „Другу-поэту“. Кедрин на такое название не согласился бы. Впервые эти стихи были опубликованы в „Избранном“ поэта, выпущенном издательством „Советский писатель“ в 1947 году… В том издании была изъята строфа, позже восстановленная:
И, как Байрон, хромая, Проходил к очагу… Пусть дорога прямая Тонет в рыхлом снегу…У автора сказано: „Я не знаю, как пишут по-балкарски „поэт““. Это переделали таким образом: „Я не знаю, как пишут по-кавказски „поэт““, хотя и вышло нелепо: как известно, Кавказ многоязычен.
Как я обрадовался в тот зимний вечер этим стихам! Если бы мой друг подарил мне, молодому горцу, коня, я не был бы так рад. Добрый шаг русского поэта явился продолжением замечательных традиций великой поэзии России. Я понимал это и тогда. В стихах, подаренных мне, кроме высокой художественности я увидел еще осязаемо-тонкое чувство истории» («День поэзии. 1967», М., 1967, с. 187). Шамиль (ок. 1798–1871) — руководитель освободительного движения горцев против колониальной политики царизма, проходившего под флагом Газавата — «священной войны» за мусульманскую веру. Мюрид — здесь военачальник.
125. «Юность», 1956, № 3, с. 38. Печ. по автографу ЛАК.
126. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ. В стихотворении дан собирательный образ старого немецкого города Бамберга (в Баварии), где немецкий писатель и композитор Э. Т. А. Гофман (1776–1822) жил в 1808–1813 гг., и университетского города Кенигсберга, где он учился в 1792–1795 гг.
127. Избр. 1957, с. 157. Печ. по автографу ЛАК. Орден «Материнская слава» был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 г.
128. Избр. 1947, С. 63, под загл. «Давнее». Печ. по автографу ЛАК.
129. Избр. 1957, с. 160. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
130. «Советская Украина», 1960, № 7, с 122. Печ. по автографу ЛАК.
131. Избр. 1953, с. 30. Печ. по автографу ЛАК.
132. «День поэзии», М., 1956, с. 137. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
133. Избр. 1957, с. 164, под загл. «Счастье». Печ. по автографу ЛАК. Стихотворение посвящено жене поэта Л. И. Кедриной.
134. «Звезда», 1956, № 5, с. 92. Печ. по автографу ЛАК.
135. Избр. 1953, с. 90–94. Печ. по автографу ЦГАЛИ. В черновых автографах ЦГАЛИ имеются варианты. В записной книжке Дм. Кедрина за 1944–1945 гг. под рубрикой «Очередная работа» значится поэма «Семья». «Уральский литейщик» — первая глава этой неоконченной поэмы.
1924–1931
136. «Грядущая смена», Екатеринослав, 1924, 14 мая.
137. «Молодая кузница», Екатеринослав, 1924, № 6, с. 9.
138. «Грядущая смена», 1924, 9 августа.
139. «Грядущая смена», 1924, 6 сентября, под загл. «Песня». Печ. по «Пламя», Харьков, 1925, № 7 (27), с. 20.
140. «Союзная трибуна» (Приложение к газете «Грядущая смена»), 1924, 15 ноября.
141. «Комсомольская правда», 1925, 18 октября.
142. «Пламя», Харьков, 1926, № 4, с. 3.
143. «Комсомольская правда», 1926, 11 апреля.
144. «Комсомольская правда», 1926, 27 июня.
145. «Мартен» (Приложение к газете «Звезда», Днепропетровск), 1926, № 8 (20), с. 11. Карманьола — французская народная революционная песня-пляска.
146. Избр. 1957, с. 20. Печ. по автографу ЛАК.
147. «Мартен» (Приложение к газете «Звезда», Днепропетровск), 1927, № 9 (11), с. 4.
148. «Звезда», Днепропетровск, 1928, 26 февраля. Тюильри — королевский дворец в Париже, построен в XVI в. В 1789 г. Людовик XVI переехал из Версаля в Тюильри, а 10 августа 1792 г. дворец был взят восставшим народом, санкюлотами, как называли революционные массы во время французской буржуазной революции XVIII в.
149. «Звезда», 1928, 30 августа, под загл. «Восстание вещей»; «Октябрь», 1929, № 3, без двадцати первых и четырех последних строк. Печ. по Свидетели, с. 61. Вы снова станете меня Травить моей женой. Имеется в виду разрыв между Байроном и его женой в 1816 г., который получил шумную огласку и использовался для публичной травли великого поэта. У Шелли бедного опять Отнимете детей. В 1817 г. решением суда дети английского поэта П. Б. Шелли (1792–1822) от первой жены Гарриет Вестбрук были переданы после ее смерти под опеку ее отцу, обвинившему Шелли в атеизме и желании внушить атеизм своим детям.
150. «Комсомольская правда», 1929, 31 августа.
151. Избр. 1957, с. 32. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Рештовки — строительные леса.
152. «Молодая гвардия», 1931, № 13–14, с. 44, без загл. Печ. по Свидетели, с. 14.
153. «Московский комсомолец», 1964, 16 мая (фрагменты). Печ. по автографу ЛАК. Ниобея (греч. миф.) — жена фиванского царя Амфиона, гордясь своими многочисленными сыновьями и дочерьми, насмехалась над богиней Лето, у которой было всего двое детей — Аполлон и Артемида. В наказание за это дети Лето убили всех детей Ниобеи, а сама она была превращена в скалу, источающую слезы. Трагическая история Ниобеи стала любимой темой античной литературы и искусства В 1583 г. была найдена римская мраморная группа Ниобеи с детьми. Аполлон — копия Аполлона Бельведерского, римской скульптуры работы Леохара (IV в. до н. э.). Даная — дочь царя Аргоса Акрисия. Согласно древнегреческому мифу, оракул предсказал, что сын Данаи убьет Акрисия, поэтому Даная была заточена в башню, куда влюбившийся в нее Зевс проник в виде золотого дождя. Эта история стала темой многих произведений искусства, в том числе знаменитой картины Рембрандта. Дюрер Альбрехт (1471–1528) — немецкий художник и теоретик искусства. Джиото (Джотто) (1266 или 1267–1337) — итальянский живописец, основатель реализма в западноевропейской живописи. Гойя Франсиско (1746–1828) — испанский художник, лучшие картины которого посвящены борьбе испанцев против наполеоновского нашествия. Олимп, Очутившийся на Моховой. Имеются в виду копии прославленных античных скульптур в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве на улице Волхонке, являющейся продолжением Моховой улицы. Скопас (IV в. до н. э.) — великий древнегреческий скульптор, автор скульптур фронтона храма Афины в Тегее. Пракситель (IV в. до н. э.) — великий древнегреческий скульптор, создатель скульптур «Гермес с младенцем Дионисом», «Афродита Книдская», в которых получила выражение жанровая, интимная трактовка образов богов. Дискобол — статуя метателя диска, изваянная древнегреческим скульптором Мироном (V в. до н. э.).
ДРАМА
154. «Октябрь», 1940, № 4–5, с. 184, № 6–7, с. 51. В ЦГАЛИ имеется машинописная копия с авторской правкой и вариантами, не вошедшими в текст «Октября». Одна из сцен в контаминированном виде опубликована в журнале «В мире книг», 1967, № 2, с. 34. Драма «Рембрандт» была поставлена Иркутским драматическим театром в 1957 г., Хабаровским театром юного зрителя в 1964 г., Музыкально-драматическим ансамблем Москонцерта в 1967 г. Радиопостановка по драме «Рембрандт» осуществлена в 1956 г.
Картина первая. Миревольт (Миревельт) Михель ван (1567–1641) — голландский художник-портретист, пользовавшийся исключительной популярностью у современников, придворный художник принцев Оранских. Саския ван Эйленбург (1612–1642) — жена Рембрандта с 1634 г. В 1636 г. он написал с нее «Данаю». Круль Ян Германсс (1602–1644) — голландский поэт, автор дидактических стихов; жил в Амстердаме. «Колнидрей» — религиозное еврейское песнопение. Я нарисую так тебя. Речь идет о знаменитом автопортрете Рембрандта с Саскией (1634).
Картина вторая. Гезы — прозвище народных партизан в период Нидерландской революции XVI века. Ван-Дейк Антонис (1599–1641) — фламандский художник, ученик Рубенса, мастер портретной живописи. Спиноза Барух (Бенедикт) (1632–1677) — голландский философ. Его первым учителем был раввин Саул Леви Мортейра, а также упоминаемый в драме Кедрина Манассе бен-Израиль, писатель-талмудист, благодаря которому Спиноза познакомился с философскими сочинениями древности и Возрождения. За критическое отношение к религии 27 июля 1656 г. Спиноза был отлучен от еврейской религиозной общины и вынужден был уехать из Амстердама. Писать безумного царя Саула. Полулегендарные древнееврейские цари Саул и Давид (XI–X вв. до н. э.) изображены на картине Рембрандта «Саул и Давид» (1665), находящейся в Музее изобразительных искусств им А. С. Пушкина (Москва). Какую принц сыграть задумал шутку. 30 июля 1650 г. Вильгельм II (1626–1650), принц Оранский, штатгальтер и главнокомандующий голландскими войсками, предпринял попытку вооруженного захвата Амстердама. Горожане были вовремя предупреждены и закрыли ворота города. Тюльп Николас Дирк (1593–1674) — голландский медик, которого Рембрандт изобразил в картине «Урок анатомии» (1632). Костер На площади высокой Лиссабона. Публичные сожжения на костре осужденных инквизицией еретиков (аутодафе) устраивались обычно на главной площади города при огромном скоплении народа. В столице Португалии Лиссабоне аутодафе были нередким явлением. Только за последние семь лет перед освобождением Португалии от испанского владычества в 1640 г. живыми на костре были сожжены сорок восемь человек. Елена Фоурман — вторая жена Питера Поля Рубенса (1577–1640), на которой он женился в 1630 г., когда ей было 16 лет. Упоминаемая в тексте принцесса Изабелла, покровительствовавшая Рубенсу, умерла в 1633 г. Таким образом, хронология этой картины, относящейся, судя по эпизоду с попыткой захвата принцем Оранским Амстердама, к 1650 г., весьма произвольна, как, впрочем, и во всей драме «Рембрандт».
Картина третья. «Ночной дозор». Картина создана Рембрандтом в 1642 г.
Картина четвертая. Мы распродать должны. В 1657–1658 гг. все имущество и коллекции Рембрандта были распроданы в покрытие долгов художника. Гольбейн Ганс Младший (1497–1543) — немецкий живописец и график. Калло Жак (1592–1635) — французский гравер, автор многочисленных офортов.
ПЕРЕВОДЫ
ИЗ ПОЭЗИИ НАРОДОВ СССР
С аварского
Цадаса Гамзат (1877–1951) — аварский советский поэт, народный поэт Дагестана (с 1934 г.).
155. Избр. 1957, с. 402. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Стихотворение Цадасы написано в 1937 г.
156. «Поэты Дагестана», М., 1944, с. 34. Автограф — ЦГАЛИ. Стихотворение Цадасы написано в 1940 г.
157. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ. Стихотворение Цадасы написано в 1936 г.
С азербайджанского
Рустам Сулейман (р. 1906) — азербайджанский советский поэт и драматург. Начал печататься в 1923 г. Народный поэт Азербайджана (с 1960 г.).
158. Избр. 1957, с. 382. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
С армянского
Сармен (псевдоним; настоящее имя — Арменак Саркисович Саркисян, р. 1901) — армянский советский поэт. Первый сборник стихов («Поля улыбаются») вышел в 1925 г.
159. «Кавказ несокрушим. Стихи», М., 1942, с. 101. Автограф — ЦГАЛИ.
С балкарского
Кулиев Кайсын Шуваевич (р. 1917) — балкарский советский поэт, народный поэт Кабардино-Балкарской АССР (с 1967 г.). Печататься начал в 1932 г. В письме к Кайсыну Кулиеву 9 марта 1944 г. Кедрин писал: «Сейчас я стал переводить твои новые стихи: „Глядя в темную степь“, „Цветы“, „Песня о голубых глазах“. Говорю без комплиментов: среди этих стихов есть маленькие шедевры. Я люблю твои стихи за полноту и ясность мысли и чувства, что, увы, не часто в нашей поэзии. Я понимаю, что побуждало тебя написать то или другое стихотворение, восприятие мира у нас, вероятно, сходное — и поэтому некоторые из переводов твоих стихов вышли у меня удачно» (ЛАК).
160. «Правда», 1942, 11 октября. Автограф — ЦГАЛИ.
161. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ.
162. К. Кулиев, Хлеб и роза, М., 1957, с. 118. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
163. К. Кулиев, Хлеб и роза, М., 1957, с. ИЗ. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Баксан — река на Северном Кавказе в бассейне Терека.
164. К. Кулиев, Хлеб и роза, М., 1957, с. 123, под загл. «Сосны русские шумят…». Печ. по автографу ЦГАЛИ.
165. Избр. 1957, с. 406, под загл. «Перед ночным боем». Печ. по автографу ЦГАЛИ.
166. К. Кулиев, Хлеб и роза, М., 1957, с. 230, под загл. «Цветы на фронте». Печ. по автографу ЦГАЛИ. Стихотворение Кулиева написано в 1943 г.
167. Избр. 1957, с. 407, под загл. «Песня друга». Печ. по автографу ЦГАЛИ.
С башкирского
Гафури Мажит (Габдулмажит) Нурганиевич (1880–1934) — башкирский и татарский советский поэт. Писать начал в 1902 г. Народный поэт Башкирской АССР (с 1923 г.). Осенью 1939 г. Союз писателей направил Кедрина в Уфу для работы над переводами из Гафури. Им переведены стихотворения: «Правда», написанное в 1911 г., «Жизнь», «Я там, где стонут бедняки…» — в 1912 г., «На жизненном пути», «Искание счастья» — в 1913 г., «Уподобление», «Чистое сердце», «Посвящение», «Любовь» — в 1914 г., «Чудесный случай» — в 1919 г., «В цветнике» — в 1927 г., «Он не умер», «Клубок жизни» — в 1933 г.
168. Мажит Гафури. Стихи, М., 1940, с. 11.
169. Мажит Гафури, Избранные стихи. Уфа, 1940, с. 25.
170. Мажит Гафури, Стихи, М., 1940, с. 15.
171. Мажит Гафури, Избранные стихи, Уфа, 1940, с. 30.
172. Мажит Гафури, Стихи, М., 1940, с. 17.
173. Мажит Гафури, Стихи, М., 1940, с. 20. Гурии — фантастические девы, предназначавшиеся, по Корану, для услаждения праведников в раю.
174. Мажит Гафури, Избранные стихи, Уфа, 1940, с. 39.
175. Мажит Гафури, Стихи, М., 1940, с. 22.
176. Мажит Гафури, Стихи, М., 1940, с. 22.
177. Мажит Гафури, Стихи, М., 1940, с. 33.
178. Мажит Гафури, Стихи, М., 1940, с. 34.
179. Мажит Гафури, Избранные стихи, Уфа, 1940, с. 123.
180. Мажит Гафури, Избранные стихи, Уфа, 1940, с. 137.
Карим Мустай (псевдоним; настоящее имя — Мустафа Сафич Каримов, р. 1919) — башкирский советский поэт, народный поэт Башкирской АССР (с 1963 г.). Начал печататься с 1935 г Стихи «Конь» и «Луна» (посвящены памяти башкирского драматурга С. М. Мифтахова, 1907–1942) написаны в 1942 г., «Распахни окно» — в 1941 г.
181. Избр. 1957, с. 400. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
182. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ.
183. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ.
С белорусского
Танк Максим (псевдоним; настоящее имя — Евгений Иванович Скурко, р. 1912) — белорусский советский поэт. Первые стихи опубликовал в 1931 г.
184. «Правда», 1942, 6 марта. Автограф — ЦГАЛИ.
185. «За Советскую Беларусь!», М., 1942, с. 93. Автограф — ЦГАЛИ. Гастелло Николай Францевич (1907–1941) — советский летчик, Герой Советского Союза. 26 июня 1941 г. во время бомбежки вражеской танковой колонны направил свой загоревшийся самолет на скопление танков и бензоцистерн.
186. «За Советскую Беларусь!», М., 1942, с. 92. Автограф — ЦГАЛИ. Стихотворение написано М. Танком в 1941 г.
187. «За Советскую Беларусь!», АЛ., 1942, с. 91. Автограф — ЦГАЛИ.
188. «Октябрь», 1942, № 1–2, с. 517. Автограф — ЦГАЛИ.
С грузинского
Абашели Александр Виссарионович (настоящая фамилия — Чочия) (1884–1954) — грузинский советский поэт, активную литературную деятельность начал в 1908 г.
189. «Кавказ несокрушим. Стихи», М., 1942, с. 101. Автограф — ЦГАЛИ. «Кто разил уже, тот будет Впредь разить лесного зверя!» — слова старинной народной грузинской песни.
Гачечиладзе Давид Алексеевич (р. 1902) — грузинский советский поэт, драматург, переводчик. Первая книга его стихов вышла в 1936 г.
190. «Кавказ несокрушим. Стихи», М., 1942, с. 160 Автограф — ЦГАЛИ.
С латышского
Григулис Арвид Петрович (р. 1906) — латышский советский писатель и литературовед. Начал печататься в 1927 г.
191. «Слово Латвии», М., 1943, с. 76. Автограф — ЦГАЛИ. Стихотворение написано Григулисом летом 1942 г.
С литовского
Венцлова Антанас (р. 1906) — литовский советский писатель и общественный деятель. Печататься начал в 1925 г.
192. «Живая Литва», М., 1942, с. 39. Автограф — ЦГАЛИ.
Гира Людас Константинович (1886–1946) — литовский советский писатель и общественный деятель, народный поэт Литовской ССР (с 1943 г.). Многие его стихи стали народными песнями.
193. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ.
Нерис Саломея (псевдоним; настоящая фамилия — Бачинскайте Бучене, 1904–1945) — литовская поэтесса. Печататься начала в 1923 г. Народный поэт Литовской ССР (звание присвоено посмертно в 1954 г.).
194. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ.
195. «Живая Литва. Стихи», М., 1942, с. 31. Автограф — ЦГАЛИ. Стихотворение написано Нерис в 1941 г.
196. Печ впервые по автографу ЦГАЛИ.
С мордовского
Эркай Никул (Николай Лазаревич Иркаев, р. 1906) — мордовский советский поэт.
197. «Литература и искусство», 1942, 31 октября. Печ. по кн.: «За землю украинскую», М. — Л., 1943, с. 129. Автограф — ЦГАЛИ. Джимбулстан — страна Джамбула, Казахстан. Эрзяне — мордва.
С осетинского
Хетагуров Коста (Константин Леванович, 1859–1906) — осетинский поэт и общественный деятель, основоположник осетинской литературы, писал на осетинском и русском языках.
198. К. Хетагуров, Осетинская лира, М., 1939, с. 24.
199. К. Хетагуров. Осетинская лира, М., 1939, с. 84.
200. К. Хетагуров, Осетинская лира, М., 1939, с. 26.
С татарского
Джалиль (Джалилов) Муса Мустафович (1906–1944) — татарский советский поэт. В 1942 г. был взят в плен, заключен в немецкий концлагерь и за участие в подпольной организации казнен в военной тюрьме в Берлине. В 1956 г. ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, в 1957 г. присуждена Ленинская премия.
201. Избр. 1957, с. 387. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Стихотворение написано Джалилем в октябре 1941 г.
202. Избр. 1957, с. 389. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Написано в октябре 1941 г. и посвящено татарскому советскому критику Гази Кашшафу.
С украинского
Малышко Андрей Самойлович (1912–1970) — украинский советский поэт. Печататься начал в 1930 г. Стихотворения «Бронзовый памятник в сквере новом…» и «Ты меня накличешься ночами…» переведены из книги Малышко «Битва» (1943).
203. А. Малышко, Украина моя, М., 1943, с. 59. Автограф — ЦГАЛИ.
204. А. Малышко, Украина моя, М., 1943, с. 49. Автограф — ЦГАЛИ.
205. А. Малышко, Украина моя, М., 1943, с. 51. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
Рыльский Максим Фаддеевич (1895–1964) — украинский советский поэт и общественный деятель, лауреат Ленинской премии. Печататься начал в 1907 г. Стихотворение «Я — сын Страны Советов» написано Рыльским 26 декабря 1941 г., к стихотворению «Слово и отзвук» автором сделано примечание: «После митинга представителей украинского народа».
206. «Гневное слово», М., 1942, с. 15–16. Автограф — ЦГАЛИ.
207. «Гневное слово», М., 1942, с. 22. Автограф — ЦГАЛИ.
Сосюра Владимир Николаевич (1898–1965) — украинский советский поэт. В печати выступил в 1917 г.
208. «За землю украинскую», М. — Л., 1943, с. 40. Автограф — ЦГАЛИ.
Стельмах Михаил Афанасьевич (р. 1912) — украинский советский писатель, лауреат Ленинской премии. Печататься начал в 1936 г.
209. «Гневное слово», М., 1942, с. 173. Автограф — ЦГАЛИ.
Тычина Павло Григорьевич (1891–1967) — украинский советский писатель и общественный деятель. В печати выступил в 1912 г.
210. «Правда», 1942, 12 июля. Печ. по кн.: «За землю украинскую», М. — Л., 1943, с. 41. Автограф — ЦГАЛИ.
С эстонского
Ангервакс Хуго (псевдоним; настоящее имя — Эдуард Николаевич Пялль, р. 1903) — эстонский советский писатель, литературовед и общественный деятель. Первые его произведения появились в печати в 1926 г. в Советском Союзе в эстонских изданиях.
211. «На эстонской земле», М., 1943, с. 45; то же в кн.: «За Советскую Прибалтику», М. — Л., 1943, с. 100. Автограф — ЦГАЛИ. Пирита — река в Эстонии. Томпеа — центр древней части Таллина. Олевисте — старинная церковь в Таллине.
Барбарус Йоханнес (псевдоним; настоящее имя — Йоханнес Варес, 1890–1946) — эстонский советский поэт и государственный деятель; в 1940 г. избран главой народного правительства Эстонии, затем председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Печататься начал в 1910 г. Стихотворение «Сказка нашего времени» написано в 1934 г. Сборник его поэзии «Вооруженные стихи» вышел в 1943 г.
212–213. И. Барбарус, Стихотворения, М., 1940, с. 86, 88.
214. И. Барбарус, Стихотворения, М., 1940, с. 56.
215. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ.
216. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ.
Рауд Март (Мартин Аннусович, р. 1903) — эстонский советский писатель. В печати выступает с 1919 г.
217. «На эстонской земле», М., 1943, с. 91. Автограф — ЦГАЛИ. Пейпус (Пейпси-Ярв) — эстонское название Чудского озера.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ
С венгерского
Петефи Шандор
218. Избр. 1957, с. 429. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Перевод поэмы Шандора Петефи (1823–1849) «Витязь Янош», написанной в 1844 г., изданной в 1845 г. Кедрин дает первоначальное загл., измененное по требованию первого издателя Петефи, нашедшего это загл. «слишком простонародным».
С польского
Мицкевич Адам
219. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ. Поэма Адама Мицкевича (1798–1855) «Пан Тадеуш» написана в 1832–1834 гг., опубликована в 1834 г. Первые два отрывка в переводе Кедрина взяты из шестой книги («Застянок»), третий отрывок — из конца седьмой книги («Совет»), 1. Реестровая книга (актовый реестр) — перечень дел о преступлениях, задевающих суд. Володкевич Михаил (1735–1760) — польский пан, прославившийся дебоширством, насилиями и дикими попойками. За кровопролитие, учиненное им над членами трибунала великого княжества Литовского, был расстрелян. Сеймики — дворянские съезды в польских воеводствах. Фольварк — крепость. 2. Ян Третий Собесский (1624–1696) — польский король с 1674 г. В 1673 г. победил турок при Хотине, а десять лет спустя освободил осажденную турками Вену. Мазурский — здесь: польский. Костюшко Тадеуш (1746–1817) — руководитель освободительного восстания 1794 г. в Польше после второго ее раздела (1793). Потерпел поражение от войск Пруссии и царской России и был взят в плен. Шведов пушка. Имеются в виду войны шведского короля Карла XII с Августом II Саксонским, который с 1697 г. был и польским королем. Зыгмунтовка — польская сабля, знаменитая добротностью клинка, на котором обычно выбивали портрет Сигизмунда III, короля Польши с 1587 по 1632 г. Церера (римск. миф.) — богиня плодородия. Вертумн (римск. миф.) — бог времен года и их даров, супруг богини садов Помоны. Конфедерат — участник вооруженного союза польской шляхты, направленного против короля Станислава Понятовского и царской России (Барская конфедерация 29 февраля 1768 г.). Борьба конфедератов с войсками короля и царской России продолжалась до первого раздела Польши в 1772 г. Тизенгаузен А. (ум. 1785) — придворный казначей (подскарбий) вел. кн. Литовского. Тарговица — город, где в 1792 г. был заключен антиконституционный союз. Огинский Михаил Клеофас (1765–1833) — польский государственный деятель и композитор, участник восстания в Литве под руководством Я. Ясинского (1794); позднее поступил на русскую службу и был одним из доверенных лиц Александра I. Ясинский Якуб (1759–1794) — польский поэт национально-освободительного движения, принадлежал к тайным организаторам восстания 1794 г. в Литве, принимал участие в дальнейших военных действиях восстания Костюшко и погиб при штурме Суворовым предместья Варшавы Праги. Потей Александр — литовский граф, был тяжело ранен во время штурма Праги (1794). Мицкевич пишет о нем в объяснениях к поэме: «Граф Александр Потей, возвратившись с войны в Литву, поддерживал перебегавших за границу земляков и пересылал значительные суммы денег в кассу легионов». Не мог и календарь так предсказать погоду! Тогдашние календари помещали предсказания погоды на все дни года. «Когда взойдет заря» — религиозная песня на слова польского поэта-сентименталиста Францишека Карпинского (1741–1825), изданная в 1792 г. и пользовавшаяся в Польше большой популярностью. Так в Слуцке мастера ткут драгоценный пояс — в городе Слуцке изготовлялись в те времена красивые широкие пояса для польской шляхты; они были из шелка, тканные золотом и серебром.
220. Избр. 1947, с. 72. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Перевод баллады «Пани Твардовская» (1820).
221. Избр. 1957, с. 140. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Перевод баллады «Лилии» (1820). На русский язык впервые переводилась К. Ф. Рылеевым в 1822 г. (опубликовано в 1872 г.).
С сербскохорватского
Илич Воислав (1860–1894) — сербский поэт, сын поэта-романтика Йована Илича. Участвовал в сербско-болгарской войне 1885 г.
222. Избр. 1957, с. 424. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
Назор Владимир (1876–1949) — хорватский поэт и прозаик, участвовал в национально-освободительной борьбе югославского народа с 1942 по 1945 г. Автор многих лирических сборников, романов, повестей и статей.
223. «Поэты Югославии», М., с. 45. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
Филипович Драголюб (1884–1933) — сербский поэт-романтик.
224. «Поэты Югославии», М., 1957, с. 81. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Витязь Злогляд (Сергей Злоглядящий) — легендарный герой сербских эпических преданий, связанных со сказаниями о Косовской битве на реке Ситница 15 июня 1389 г. между турками и сербами, окончившейся поражением сербов и утверждением турецкого господства на Балканском полуострове.
225. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ. Бан — южнославянское произношение слова «пан», господин. Употреблялось с XII века в значении начальника области в Хорватии. В стихотворении идет речь о Косовской битве (см. примеч. 224). Вила (слав. миф.) — лесное божество.
226. Избр. 1957, с. 426. Печ. по автографу ЦГАЛИ. Марава (Морава) — река в Югославии, правый приток Дуная.
227. Печ. впервые по автографу ЦГАЛИ. Косовская равнина — см. примеч. 224.
Чопич Бранко (р. 1915) — сербский поэт и прозаик, участник национально-освободительной борьбы 1941–1945 гг., один из популярных современных писателей Югославии.
228. «Иностранная литература», 1955, № 1, с. 97. Печ. по автографу ЦГАЛИ.
С чешского
Барт Илья (псевдоним; настоящее имя — Юлиус Бартошек, 1910–1973) — чешский поэт и журналист, переводчик русской и советской поэзии, переводил на чешский язык стихи Кедрина.
229–233. И. Барт, Песни, М., 1935, с. 3–6, 9–12. Автографы — ЦГАЛИ.
ПРИЖИЗНЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СТИХОТВОРЕНИЙ КЕДРИНА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ
1. Сторож. — «Грядущая смена», Екатеринослав, 1924, 23 апреля.
2. Моя любовь. — «Грядущая смена», 1924, 30 апреля.
3. «Мы целый день, весь день с тобой работаем…» — «Молодая кузница», Екатеринослав, 1924, № 4–5 (апрель — май).
4. Губсъездовское. — «Грядущая смена», 1924, 29 июня.
5. Город. — «Грядущая смена», 1924, 26 июля.
6. «Так приказал товарищ Ленин…» — «Грядущая смена», 1924, 20 августа.
7. Рельсы. — «Грядущая смена», 1924, 27 августа.
8. О котике. — «Грядущая смена», 1924, 24 сентября.
9. Стихи о метели. — «Грядущая смена», 1924, 25 октября.
10. Бандит. — «Молодая кузница», 1924, № 7–8 (сентябрь — октябрь).
11. Осколок. — «Грядущая смена», 1924, 6 декабря.
12. Из поэмы «О человеке». — «Молодая кузница», 1924, № 9–10 (ноябрь — декабрь); «Мартен», Днепропетровск, 1926, № 1.
13. Из стихов об Одессе. — «Молодая кузница», 1925, № 1–2.
14. Китаю. — «Мартен», 1925, № 6.
15. Наша любовь. — «Комсомолия», 1925, № 9.
16. Смертник. — «Прожектор», 1926, № 4, 28 февраля.
17. Христос в литейной. — «Смена», 1932, № 6.
18. Детина с пистолетом. — «Смена», 1932, № 15.
19. Божок. — «Смена», 1934, № 3.
20. Родина. — «Молодой колхозник», 1935, № 2 (август), с. 3.
21. Осенняя песня («Проходи, ненастье, мимо..»). — «Молодой колхозник», 1936, № 17.
22. Наши права. — «30 дней», 1937, № 12, с. 15.
23. Песенка про свинью. — «30 дней», 1938, № 2.
24. Коккинаки. — «Молодой колхозник», 1938, № 8.
25. В зимний вечер. — «Самолет», 1939, № 1, январь.
26. Наглядные пособия. — «Вечерняя Москва», 1939, 2 апреля.
27. Товарищ Джон. — «Вечерняя Москва», 1939, 2 апреля.
28. Стася. — «Вечерняя Москва», 1939, 7 ноября.
29. Июльские дни. — «Индустрия социализма», 1940, № 5.
30. Военный заем. — «Сокол Родины», 1943, 5 июня.
31. Атака. — «Сокол Родины», 1943, 6 июня.
32. Огородник. — «Сокол Родины», 1943, 7 июня.
33. Бессмертие («Где его найти — такое слово…»). — «Сокол Родины», 1943, 12 июня.
34. Ночник. — «Сокол Родины», 1943, 16 июня.
35. Полонянка. — «Сокол Родины», 1943, 18 июня.
36. Битва. — «Сокол Родины», 1943, 22 июня.
37. Ас в полете. — «Сокол Родины», 1943, 2 июля.
38. Дружба. — «Сокол Родины», 1943, 3 июля.
39. Венок бессмертия. — «Сокол Родины», 1943, 10 июля.
40. Летчики играют в волейбол. — «Сокол Родины», 1943, 18 июля.
41. Генерал. — «Сокол Родины», 1943, 21 июля.
42. Гвардейцу С. Иванову. — «Сокол Родины», 1943, 28 июля.
43. «Бойцам, чья слава нетленна…» — «Сокол Родины», 1943, 1 августа.
44. Два героя. — «Сокол Родины», 1943, 2 августа.
45. Кукушка. — «На врага», 1943, 3 августа.
46. Отомсти! — «Сокол Родины», 1943, 4 августа.
47. «Тяжела сиротская печаль…» — «Сокол Родины», 1943, 4 августа.
48. Штурман. — «Сокол Родины», 1943, 11 августа.
49. Баллада о воскресшем самолете. — «Сокол Родины», 1943, 13 августа.
50. Летчику. — «Сокол Родины», 1943, 15 августа.
51. Орел и орленок. — «Сокол Родины», 1943, 19 августа.
52. Наши соколы. — «Сокол Родины», 1943, 21 августа.
53. Харькову. — «Сокол Родины», 1943, 24 августа.
54. Герои великой страны. — «Сокол Родины», 1943, 26 августа.
55. Офицер. — «Сокол Родины», 1943, 27 августа.
56. «Враг забыл одно учесть…» — «Сокол Родины», 1943, 30 августа.
57. Донбасс — наш. — «Сокол Родины», 1943, 9 сентября.
58. Бессмертие («Он год назад ушел в полет…»). — «Сокол Родины», 1943, 8 октября.
59. В бой уходят эскадрильи. — «Сокол Родины», 1943, 10 октября.
60. Истребителям. — «Сокол Родины», 1943, 13 октября.
61. Близок час расплаты. — «Сокол Родины», 1943, 15 октября.
62. Днепр. — «Сокол Родины», 1943, 17 октября.
63. Рождение штурмовика. — «Сокол Родины», 1943. 1 ноября.
64. «Всё дальше на запад советский боец…» — «Сокол Родины», 1943, 6 ноября.
65. Киев. — «Сокол Родины», 1943, 7 ноября.
66. За Анку! (Баллада). — «Сокол Родины», 1943, 11 ноября.
67. Страница из прошлого. — «Сокол Родины», 1943, 1 декабря.
68. Суд идет. — «Сокол Родины», 1943, 3 декабря.
69. Мы помним, Родина… — «Сокол Родины», 1943, 5 декабря.
70. Комсомольская клятва. — «Сокол Родины», 1943, 16 декабря.
71. Кара. — «Сокол Родины», 1943, 21 декабря.
72. Воздушным разведчикам. — «Сокол Родины», 1943, 22 декабря.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Дм. Б. Кедрин. Фотография 1912 г.
Дм. Б. Кедрин, Л. И. Кедрина и И. И. Гвай. Фотография 1934 г.
Автограф стихотворения Дм. Кедрина «Красота» (ЛАК).
Дм. Б. Кедрин. Фотография 1944 г.
Примечания
1
Запись выступления в творческом объединении «Молодая гвардия». — Центральный государственный архив литературы и искусства(в дальнейшем ссылки на это архивохранилище будут даваться сокращенно: ЦГАЛИ).
(обратно)2
ЦГАЛИ.
(обратно)3
Наиболее подробный анализ творчества Кедрина см.: Л. Озеров, Дмитрий Кедрин. — В кн.: Дм. Кедрин, Избранное, М., 1957; С. Широков, Дмитрий Кедрин. Критико-биографический очерк, Днепропетровск, 1961; П. Тартаковский, Дмитрий Кедрин. Жизнь и творчество, М., 1963.
(обратно)4
Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет, М., 1956, с. 136.
(обратно)5
Н. Рубцов, Последний пароход, М., 1973, с. 48.
(обратно)6
«Юный коммунист», 1922, № 17–18. Цит. по сб.: «Молодогвардейцы. Трехлетие группы писателей „Молодая гвардия“. 1922–1925», М., 1926, с. 66.
(обратно)7
Отдел рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.
(обратно)8
«Новый мир», 1957, № 8, с. 233.
(обратно)9
ЦГАЛИ.
(обратно)10
Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет, с. 130–131.
(обратно)11
Вл. Луговской, Раздумье о поэзии. М., 1960, с. 107.
(обратно)12
Вера Жакова, Очерки. Повести. Рассказы, Амурское книжное изд-во, 1963, с. 12.
(обратно)13
См.: В. В. Косточкин, Государев мастер Федор Конь, М., 1964, с. 36.
(обратно)14
ЦГАЛИ.
(обратно)15
Строители церкви Василия Блаженного Постник и Барма, как свидетельствуют исторические источники, были вознаграждены, и весьма щедро. Однако существует легенда об ослеплении владимирских зодчих, использованная в ином, чем у Кедрина, варианте — в фильме А. Кончаловского и А. Тарковского «Андрей Рублев». Сохранилась чешская легенда об ослеплении наемниками Пражского магистрата знаменитого мастера, сконструировавшего удивительные часы в башне на Староместской площади (см.: С. Широков, Дмитрий Кедрин. Критико-биографический очерк, 1961, с. 122).
(обратно)16
Одним из поводов обращения Кедрина к личности великого голландца послужила выставка картин Рембрандта в Москве, в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, проходившая в 1936 г. Кедрин был частым посетителем ее залов, с увлечением читал имеющуюся в московских книгохранилищах литературу о художнике.
(обратно)17
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 1, М., 1954, с. 73.
(обратно)18
Вл. Луговской, Раздумье о поэзии, с. 111.
(обратно)19
Хранится в личном архиве Л. И. Кедриной (Москва).
(обратно)20
В своих воспоминаниях жена и друг поэта Л. И. Кедрина пишет: «16 октября 1941 года. Мы пытаемся эвакуироваться из Москвы. Но выехать нам не удается. В этот день на вокзале пропадает весь архив мужа. Навсегда погибли многие его стихотворения и поэмы: „Перчатка Мефистофеля“, „Папесса Иоанна“, „Кутузов“, „Елка“, почти законченная драма в стихах „Параша Жемчугова“, над которой он работал более десяти лет» (Л. Кедрина, День гнева. — «Кубань», 1970, № 8, с. 93).
(обратно)21
ЦГАЛИ.
(обратно)22
ЦГАЛИ.
(обратно)23
«Калининградская правда», 1970, 23 мая.
(обратно)24
ЦГАЛИ.
(обратно)25
«День поэзии, 1967», М., 1967, с. 189.
(обратно)26
Письмо к Г. Н. Литваку, хранящееся в личном архиве Л. И. Кедриной.
(обратно)27
ЦГАЛИ.
(обратно)28
ЦГАЛИ.
(обратно)29
«Вопросы литературы», 1966, № 4, с. 126.
(обратно)30
Черт побери! (Нем.). — Ред.
(обратно)31
Как поживаете? (Англ). — Ред.
(обратно)32
Пожалуйста! (Англ.). — Ред.
(обратно)33
Река в Амстердаме.
(обратно)34
Современный Рембрандту второклассный, но удачливый живописец.
(обратно)35
Гавань в Амстердаме.
(обратно)36
Пунцовая краска.
(обратно)37
Поэт, современник Рембрандта.
(обратно)38
Рембрандт — по происхождению сын мельника.
(обратно)39
Рубенс был придворным художником принцессы Изабеллы.
(обратно)40
Порт и шлюзы в Амстердаме.
(обратно)41
Один из островов Амстердама, где расположены были торговые склады.
(обратно)42
Еврейский квартал в Амстердаме.
(обратно)43
При жизни Рембрандта принц Вильгельм II пытался обманом захватить Амстердам, но был отбит.
(обратно)44
Принц Оранский был штатгальтером Соединенных Нидерландов.
(обратно)45
Форт Амстердамской крепости.
(обратно)46
Вильгельм Оранский I, прозванный Молчаливым, — предводитель гезов в их освободительной борьбе против Испании.
(обратно)47
Правящее учреждение Соединенных Нидерландов.
(обратно)48
«Данаю» Рембрандт писал с Саскии.
(обратно)49
Жена Рубенса.
(обратно)50
Список беднейших граждан города.
(обратно)51
Групповой портрет офицеров корпорации стрелков. На нем среди беспорядочной толпы стрелков изображена карлица.
(обратно)52
«Жил человек в земле Уц, имя же ему — Иов» (Начало книги Иова в Библии).
(обратно)53
Гавань в Амстердаме.
(обратно)54
Фра Джиованни Фьезоле — итальянский живописец XV века, писавший слащавые образы святых и ангелов.
(обратно)55
По-древнееврейски — чужой.
(обратно)56
Название Египта.
(обратно)57
Улица, на которой в одной из гостиниц жил Рембрандт после разорения.
(обратно)58
Так называли Амстердам вследствие его расположения на ста островах.
(обратно)59
Гора Святого креста.
(обратно)
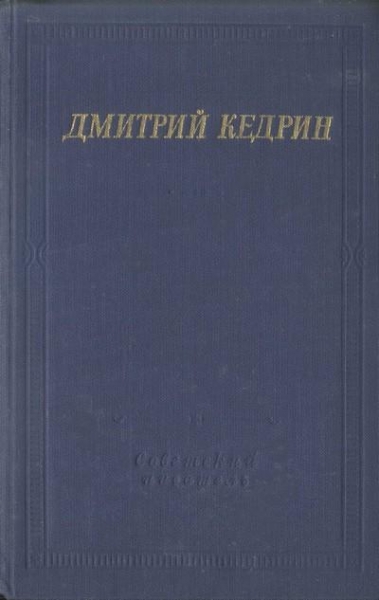


Комментарии к книге «Избранные произведения», Дмитрий Борисович Кедрин
Всего 0 комментариев