Дмитрий Львович Быков Блаженство
© Быков Д. Л., 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Вариации-1
1. «Жизнь выше литературы, хотя скучнее стократ…»
Жизнь выше литературы, хотя скучнее стократ. Все наши фиоритуры не стоят наших затрат. Умение строить куры, искусство уличных драк — Все выше литературы. Я правда думаю так. Покупка вина, картошки, авоська, рубли, безмен Важнее спящих в обложке банальностей и подмен. Уменье свободно плавать в пахучей густой возне Важнее уменья плавить слова на бледном огне. Жизнь выше любой удачи в познании ремесла, Поскольку она богаче названия и числа. Жизнь выше паскудной страсти ее загонять в строку, Как целое больше части, кипящей в своем соку. Искусство – род сухофрукта, ужатый вес и объем, Потребный только тому, кто не видел фрукта живьем. Страдальцу, увы, не внове забвенья искать в труде, Но что до бессмертия в слове – бессмертия нет нигде. И ежели в нашей братье найдется один из ста, Который пошлет проклятье войне пера и листа И выскочит вон из круга в размокнутый мир живой, — Его обниму, как друга, к плечу припав головой. Скорее туда, товарищ, где сплавлены рай и ад В огне веселых пожарищ, а я побреду назад, Где светит тепло и нежаще убогий настольный свет — Единственное прибежище для всех, кому жизни нет.2. «Жизнь не стоит того, чтоб жить, тем более умирать…»
Жизнь не стоит того, чтоб жить, тем более умирать. Нечем особенно дорожить, нечего выбирать. Месиво, крошево, тесто, печево, зелье, белье, сырье — Пусть ее любят те, кому нечего делать, кроме нее. Непонятна мне пастернакова дружба с его сестрой: Здесь кончается одинаково все, несмотря на строй. Что есть жизнь? Роенье бактерий, чавканье, блуд в поту. Нам, по крайности, дан критерий, которого нет в быту. Пусть ее любят отцы семейства, наместники теплых мест, Все, кому в принципе здесь не место, но только они и есть. Пусть ее любят пиявки, слизни, тюзовский худсовет — Делай что-нибудь, кроме жизни, вот тебе мой завет. Все, что хочешь. Броди по Денверу, Килю или Сен-Клу. Растекайся мыслью по дереву, выпиливай по стеклу, Изучай настойку на корках, заговор на крови, Спи по часу, ходи в опорках, сдохни. Но не живи. Рви с отжившим, не заморачиваясь: смылся и был таков. Не ходи на слеты землячеств, встречи выпускников. Пой свое, как глухарь, токующий в майском ночном логу. Бабу захочешь – найди такую же. Прочих отдай врагу. Дрожь предчувствия, страх за шкуру, пресная болтовня, Все, чему я молился сдуру, – отойди от меня. Я запрусь от тебя, как в танке. Увидим, кому хужей. Стой в сторонке, нюхай портянки, не тронь моих чертежей.«У меня насчет моего таланта иллюзий нет…»
У меня насчет моего таланта иллюзий нет. В нашем деле и так избыток зазнаек. Я поэт, но на фоне Блока я не поэт. Я прозаик, но кто сейчас не прозаик? Загоняв себя, как Макар телят, И колпак шута заработав, Я открыл в себе лишь один, но большой талант — Я умею злить идиотов. Вот сидят, допустим, – слова цивильны, глаза в тени, Говорят чего-нибудь о морали… Я еще не успел поздороваться, а они Заорали. И будь он космополит или патриот, Элита или народ, красавец или урод, Раскинься вокруг Кейптаун или Кейп-код, Отчизна-мать или ненька ридна, — Как только раскроет рот Да как заорет, — Становится сразу видно, что идиот. А до того иногда не видно. Иногда я что-нибудь проору в ответ, Иногда с испугу в обморок брякнусь. Я едва ли потребен Господу как поэт, Но порой полезен ему как лакмус. Может быть, фейс-контроль. А может, у них дресс-код. Может быть, им просто не нравится мой подход К их святому, напыщенному серьезу, Я не знаю, чем посягаю на их оплот И с чего представляю для них угрозу. А писанье – продукт побочный, типа как мед. Если каждый день на тебя орет идиот, Поневоле начнешь писать стихи или прозу.«В полосе от возраста Тома Сойера…»
В полосе от возраста Тома Сойера До вступленья в брак Я успел заметить, что все устроено, Но не понял – как. Примеряя нишу Аники-воина И сердясь на чернь, Я отчасти понял, как все устроено, Но не знал – зачем. К тридцати годам на губах оскомина. Разогнав гарем, Я догнал, зачем это все устроено, Но не понял – кем. До чего обычна моя история! Самому смешно. Наконец я знаю, кем все устроено, Но не знаю – что. Чуть завижу то, что сочту структурою, — Отвлечется взгляд На зеленый берег, на тучу хмурую, На Нескучный сад. Оценить как должно науку чинную И красу систем Мне мешал зазор меж любой причиною — И вот этим всем. Да и что причина? В дошкольном детстве я, Говоря честней, Оценил чрезмерность любого следствия По сравненью с ней. Наплясавшись вдоволь, как в песне Коэна, Перейдя черту, Я не стану думать, как все устроено, А припомню ту Панораму, что ни к чему не сводится, Но блестит, — И она, как рыцарю Богородица, Мне простит.Мост
И все поют стихи Булата
На этом береге высоком…
Ю. Мориц На одном берегу Окуджаву поют И любуются вешним закатом, На другом берегу подзатыльник дают И охотно ругаются матом. На одном берегу сочиняют стихи, По заоблачным высям витают, — На другом берегу совершают грехи И совсем ничего не читают. На другом берегу зашибают деньгу И бахвалятся друг перед другом, И поют, и кричат, а на том берегу Наблюдают с брезгливым испугом. Я стою, упираясь руками в бока, В берега упираясь ногами, Я стою. Берега разделяет река, Я как мост меж ее берегами. Я как мост меж двумя берегами врагов И не знаю труда окаянней. Я считаю, что нет никаких берегов, А один островок в океане. Так стою, невозможное соединя, И во мне несовместное слито, Потому что с рожденья пугали меня Неприязненным словом «элита», Потому что я с детства боялся всего, Потому что мне сил не хватало, Потому что на том берегу большинство, А на этом отчаянно мало. Первый берег всегда от второго вдали, И, увы – это факт непреложный. Первый берег корят за отрыв от земли — Той, заречной, противоположной. И когда меня вовсе уверили в том (А теперь понимаю, что лгали) — Я шагнул через реку убогим мостом И застыл над ее берегами. И все дальше и дальше мои берега, И стоять мне недолго, пожалуй, И во мне непредвиденно видят врага Те, что пели со мной Окуджаву. Одного я и вовсе понять не могу И со страху в лице изменяюсь: Что с презреньем глядят на чужом берегу, Как шатаюсь я, как наклоняюсь, Как руками машу, и сгибаюсь в дугу, И держусь на последнем пределе, — А когда я стоял на своем берегу, Так почти с уваженьем глядели.Брат
У рядового Таракуцы Пети Не так уж много радостей на свете. В их спектре, небогатом и простом, — Солдатский юмор, грубый и здоровый, Добавка, перепавшая в столовой, Или письмо – но о письме потом. Сперва о Пете. Петя безграничен. Для многих рост его уже привычен, Но необычен богатырский вес — И даже тем, что близко с ним знакомы, Его неимоверные объемы Внушают восхищенный интерес. По службе он далек от совершенства, Но в том находит высшее блаженство, Чтоб делать замечанья всем подряд, И к этому уже трудней привыкнуть, Но замолкает, ежели прикрикнуть, И это означает: трусоват. Зато в столовой страх ему неведом. Всегда не наедаясь за обедом, Он доедает прямо из котла; Он следует начальственным заветам — Но несколько лениво, и при этом Хитер упрямой хитростью хохла. Теперь – письмо. Солдаты службы срочной Всегда надежды связывают с почтой, Любые разъясненья ни к чему, И сразу, избежав длиннот напрасных, Я говорю: у Пети нынче праздник. Пришло письмо от девушки ему. Он говорит: «Гы-гы! Вложила фотку!» Там, приложив платочек к подбородку И так отставив ножку, чтоб слегка Видна была обтянутая ляжка, Девица, завитая под барашка, Мечтательно глядит на облака. Все получилось точно как в журнале, И Петя хочет, чтобы все узнали, Какие в нас-де дамы влюблены. Кругом слезами зависти зальются, Увидевши, что Петя Таракуца Всех обогнал и с этой стороны! И он вовсю показывает фото, И с ужина вернувшаяся рота Разглядывает лаковый квадрат, Посмеиваясь: «Надо ж! Эка штука!», И Петя нежно повторяет: «Су-ука!» Как минимум, пятнадцать раз подряд. …Усталые, замотанные люди Сидят и смотрят фильм о Робин Гуде. Дежурный лейтенант сегодня мил, По нашей роте он один из лучших, — И на экране долговязый лучник Прицелился в шерифовских громил. Я думаю о том, что все мы братья, И все равны, и всех хочу принять я — Ведь где-то там, среди надзвездных стуж, Превыше облаков, густых и серых, В сверкающих высотах, в горних сферах Витает сонм бессмертных наших душ! Отважный рыцарь лука и колчана Пускает стрелы. Рота замолчала: Ужель его сегодня окружат? Играет ветер занавесью куцей, И я сижу в соседстве с Таракуцей И думаю о том, что он мой брат.Отсрочка
Елене Шубиной
…И чувство, блин, такое (кроме двух-трех недель), как если бы всю жизнь прождал в казенном доме решения своей судьбы.
Мой век тянулся коридором, где сейфы с кипами бумаг, где каждый стул скрипел с укором за то, что я сидел не так. Линолеум под цвет паркета, убогий стенд для стенгазет, жужжащих ламп дневного света неумолимый мертвый свет…
В поту, в смятенье, на пределе – кого я жду, чего хочу? К кому на очередь? К судье ли, к менту, к зубному ли врачу? Сижу, вытягивая шею: машинка, шорохи, возня… Но к двери сунуться не смею, пока не вызовут меня. Из прежней жизни уворован без оправданий, без причин, занумерован, замурован, от остальных неотличим, часами шорохам внимаю, часами скрипа двери жду – и все яснее понимаю: все то же будет и в аду. Ладони потны, ноги ватны, за дверью ходят и стучат… Все буду ждать: куда мне – в ад ли?
И не пойму, что вот он, ад.
Жужжанье. Полдень. Три. Четыре. В желудке ледянистый ком. Курю в заплеванном сортире с каким-то тихим мужиком, в дрожащей, непонятной спешке глотаю дым, тушу бычки – и вижу по его усмешке, что я уже почти, почти, почти как он! Еще немного – и я уже достоин глаз того, невидимого Бога, не различающего нас.
Но Боже! Как душа дышала, как пела, бедная, когда мне секретарша разрешала отсрочку страшного суда! Когда майор военкоматский – с угрюмым лбом и жестким ртом – уже у края бездны адской мне говорил: придешь потом!
Мой век учтен, прошит, прострочен, мой ужас сбылся наяву, конец из милости отсрочен – в отсрочке, в паузе живу. Но в первый миг, когда, бывало, отпустят на день или два – как все цвело, и оживало, и как кружилась голова, когда, благодаря за милость, взмывая к небу по прямой, душа смеялась, и молилась, и ликовала, Боже мой.
«Никто уже не станет резать вены…»
Никто уже не станет резать вены — И слава тебе, Господи! – из-за Моей предполагаемой измены И за мои красивые глаза. Не жаждут ни ответа, ни привета, Взаимности ни в дружбе, ни в любви, Никто уже не требует поэта К священной жертве – Бог с тобой, живи И радуйся! Тебе не уготован Высокий жребий, бешеный распыл: Как будто мир во мне разочарован. Он отпустил меня – и отступил. Сначала он, естественно, пугает, Пытает на разрыв, кидает в дрожь, Но в глубине души предполагает, Что ты его в ответ перевернешь. Однако, не найдя в тебе амбиций Стального сотрясателя миров, Бойца, титана, гения, убийцы, — Презрительно кидает: «Будь здоров». Бывало, хочешь дать пинка дворняге — Но, передумав делать ей бо-бо, В ее глазах, в их сумеречной влаге, Читаешь не «спасибо», а «слабо». Ах, Господи! Как славно было прежде — Все ловишь на себе какой-то взгляд: Эпоха на тебя глядит в надежде… Но ты не волк, а семеро козлят. Я так хотел, чтоб мир со мной носился, — А он с другими носится давно. Так, женщина подспудно ждет насилья, А ты, дурак, ведешь ее в кино. Отчизна раскусила, прожевала И плюнула. Должно быть, ей пора Терпеть меня на праве приживала, Не требуя ни худа, ни добра. Никто уже не ждет от переростка Ни ярости, ни доблести. Прости. А я-то жду, и в этом вся загвоздка. Но это я могу перенести.«Старуха-мать с ребенком-идиотом…»
Старуха-мать с ребенком-идиотом — Слюнявым, длинноруки, большеротым, — Идут гулять в ближайший лесопарк И будут там смотреть на листопад. Он не ребенок. Но назвать мужчиной Его, что так невинен и убог, С улыбкой безнадежно-беспричинной И с головою, вывернутой вбок? Они идут, ссутулившись. Ни звука — Лишь он мычит, растягивая рот. Он – крест ее, пожизненная мука. Что, если он ее переживет? Он не поймет обрушившейся кары И в интернате, карцеру сродни, Все будет звать ее, и санитары Его забьют за считаные дни. О, если впрямь подобье высшей воли Исторгло их из хаоса и тьмы На этот свет – скажи, не для того ли, Чтоб осторожней жаловались мы? А я-то числю всякую безделку За якобы несомый мною крест И на судьбу ропщу, как на сиделку Ворчит больной. Ей скоро надоест. Но нет. Не может быть, чтоб только ради Наглядной кары, метки нулевой, Явился он – в пальто, протертом сзади, И с вытянутой длинной головой. Что ловит он своим косящим глазом? Что ищет здесь его скользящий зрак? Какую правду, большую, чем разум, Он ведает, чтоб улыбаться так? Какому внемлет ангельскому хору, Какое смотрит горнее кино? Как нюх – слепцу, орлиный взор – глухому, Взамен рассудка что ему дано? Что наша речь ему? – древесный шелест. Что наше небо? – глина и свинец. Что, если он непонятый пришелец, Грядущего довременный гонец? Что, ежели стрела попала мимо И к нам непоправимо занесен Блаженный житель будущего мира, Где каждый улыбается, как он? Что, ежели, трудов и хворей между, Он послан в утешенье и надежду — Из тех времен, из будущей Москвы, В которой все мы будем таковы?«Эгоизм болезни: носись со мной…»
Эгоизм болезни: носись со мной, Неотступно бодрствуй у изголовья, Поправляй подушки, томись виной За свое здоровье. Эгоизм здоровья: не тронь, не тронь, Избегай напомнить судьбой своею Про людскую бренность, тоску и вонь: Я и сам успею. Эгоизм несчастных: терпи мои Вспышки гнева, исповеди по пьяни, Оттащи за шкирку от полыньи, Удержи на грани. Эгоизм счастливых: уйди-уйди, Не тяни к огню ледяные руки, У меня, глядишь, еще впереди Не такие муки. Дай побыть счастливым – хоть день, хоть час, Хоть куда укрыться от вечной дрожи, Убежать от жизни, забыть, что нас Ожидает то же. О, боязнь касаться чужих вещей! Хорошо, толпа хоть в метро проносит Мимо грязных тряпок, живых мощей, Что монету просят. О, боязнь заразы сквозь жар стыда: Отойдите, нищие и калеки! — И злорадство горя: иди сюда, Заражу навеки! Так мечусь суденышком на волне Торжества и страха, любви и блуда, То взываю к ближним: «Иди ко мне!», То «Пошел отсюда!». Как мне быть с тобой, эгоизм любви, Как мне быть с тобой, эгоизм печали — Пара бесов, с коими визави Я сижу ночами? А вверху, в немыслимой высоте, Где в закатном мареве солнце тает, — Презирая бездны и те, и те, Альтруизм витает. Над моей измученной головой, Над счастливой парой и над увечной, Он парит – безжалостный, неживой, Безнадежный, хладный, бесчеловечный.«Ты непременно сдохнешь, клянусь богами…»
Ты непременно сдохнешь, клянусь богами. Так говорю, отбросив последний стыд. Все платежи на свете красны долгами. Я тебе должен, но мне не придется мстить. Мне наплевать, что время тебя состарит, Прежде чем сможет выпихнуть в мир иной: Ты непременно сдохнешь. И это станет Платой за то, что сделали вы со мной. Ты непременно сдохнешь, пускай нескоро, Дергаясь от удушья, пустив мочу, Сдохнешь и ты, посмевший – но нет, ни слова. Сдохнешь и ты, добивший – но нет, молчу. Общая казнь, которую не отменишь, Общая месть за весь этот сад земной. Впрочем, и сам я сдохну. Но это мелочь После того, что сделали вы со мной.«Кто обидит меня – тому ни часа…»
«Кто обидит меня – тому ни часа, Ни минуты уже не знать покоя. Бог отметил меня и обещался За меня воздавать любому втрое. Сто громов на обидчика обрушит, Все надежды и радости отнимет, Скорбью высушит, ужасом задушит, Ввергнет в ад и раскаянья не примет. Так что лучше тебе меня не трогать, Право, лучше тебе меня не трогать». Так он стонет, простертый на дороге, Изувеченный, жалкий, малорослый, Так кричит о своем разящем Боге, Весь покрытый кровавою коростой; Как змея, перерубленная плугом, Извивается, мечется, ярится, И спешат проходящие с испугом — Не дыша, отворачивая лица. Так что лучше тебе его не трогать, Право, лучше тебе его не трогать. Так-то въяве и выглядит все это — Язвы, струпья, лохмотья и каменья, Знак избранья, особая примета, Страшный след Твоего прикосновенья. Знать, пригодна зачем-то эта ветошь, Ни на что не годящаяся с виду: Так и выглядят все, кого отметишь — Чтоб уже никому не дать в обиду. Так что лучше Тебе меня не трогать, Право, лучше Тебе меня не трогать.«Какой-нибудь великий грешник…»
Какой-нибудь великий грешник, Любитель резать, жечь и гнуть, Карманник, шкурник, кагэбэшник, Секир-башка какой-нибудь, Который после ночи блудной Доцедит сто последних грамм И с головой, от хмеля трудной, Пройдет сторонкой в Божий храм, Поверит милости Господней И отречется от ворья, — Тебе не то чтобы угодней, Но интереснее, чем я. Емелькой, Стенькой, Кудеяром Он волен грабить по ночам Москву, спаленную пожаром, На радость местным рифмачам; Стрелять несчастных по темницам, Стоять на вышках лагерей, Похабно скалиться девицам, Терзать детей и матерей, Но вот на плахе, на Голгофе, В кругу семьи, за чашкой кофе Признает истину твою — И будет нынче же в раю. Бог созиданья, Бог поступка, Водитель орд, меситель масс, Извечный враг всего, что хрупко, Помилуй, что тебе до нас? Нас, не тянувшихся к оружью, Игравших в тихую игру, Почти без вылазок наружу Сидевших в собственном углу? Ваятель, весь в ошметках глины, Погонщик мулов и слонов, Делящий мир на половины Без никаких полутонов, Вершитель, вешатель, насильник, Создатель, зиждитель, мастак, С ладонью жесткой, как напильник, И лаской грубой, как наждак, Бог не сомнений, но деяний, Кующий сталь, пасущий скот, На что мне блеск твоих сияний, К чему простор твоих пустот, Роенье матовых жемчужин, Мерцанье раковин на дне? И я тебе такой не нужен, И ты такой не нужен мне.Одиннадцатая заповедь
Опережай в игре на четверть хода, На полный ход, на шаг, на полшага, В мороз укройся рубищем юрода, Роскошной жертвой превзойди врага, Грозят тюрьмой – просись на гильотину, Грозят изгнаньем – загодя беги, Дай два рубля просящему полтину И скинь ему вдогонку сапоги, Превысь предел, спасись от ливня в море, От вшей – в окопе. Гонят за Можай — В Норильск езжай. В мучении, в позоре, В безумии – во всем опережай. Я не просил бы многого. Всего-то — За час до немоты окончить речь, Разрушить дом за сутки до налета, За миг до наводнения – поджечь, Проститься с девкой, прежде чем изменит, Поскольку девка – то же, что страна, И раньше, чем страна меня оценит, Понять, что я не лучше, чем она; Расквасить нос, покуда враг не тронет, Раздать запас, покуда не крадут, Из всех гостей уйти, пока не гонят, И умереть, когда за мной придут.Август
1. «Сиятельный август, тончайший наркоз…»
Сиятельный август, тончайший наркоз. В саду изваянье Грустит, но сверкает. Ни жалоб, ни слез — Сплошное сиянье. Во всем уже гибель, распад языка, Рванина, лавина, — Но белые в синем плывут облака И смотрят невинно. Сквозь них августовское солнце палит, Хотя догорает. Вот так и душа у меня не болит — Она умирает.2. «Осень пахнет сильной переменой…»
Осень пахнет сильной переменой — И вовне, и хуже, что во мне. Школьникам эпохи безвременной Хочется погибнуть на войне. Мечется душа моя, как будто Стыдно ей привычного жилья. Жаль, что не дотягивать до бунта Не умеем Родина и я. Надо бы меняться по полшага, Чтобы не обваливаться враз. Всякий раз взрывается полшара, Как терпенье кончится у нас. Все молчит в оцепененье чудном. Кастор с братом дремлют на посту. Гастарбайтер с гаденьким прищуром Выметает ломкую листву. Августейший воздух загустевший Разгоняет пришлая метла, Разметая в жизни опустевшей Место, чтобы сжечь ее дотла. Будет все, как водится при взрыве — Зов сирены, паника родни, Зимние, голодные и злые, Оловом окрашенные дни. Но зато рассвета багряница, Оторопь сучья и дурачья, Сладость боя, свежесть пограничья — Нищая земля, еще ничья! Все, что было, рухнет в одночасье. Новый свет ударит по глазам. Будет это счастье иль несчастье? Рай в аду, вот так бы я сказал. И от этих праздников и боен Все сильней душа моя болит, Как страна, в которую не встроен Механизм ротации элит.«Оставь меня с собой на пять минут…»
Оставь меня с собой на пять минут — Вот тут, Где шмель жужжит и старец рыбу удит, Где пруд и сквер, А не в какой-нибудь из адских сфер, Где прочих собеседников не будет. Оставь меня с собой на пять минут. Сойдут Потоки страхов, сетований, жалоб — И ты услышишь истинную речь. «Дать стечь» — Молоховец сказала б. У Петрушевской, помню, есть рассказ — Как раз О том, как одинокий паралитик Встречает всех угрюмым «мать-мать-мать», И надо ждать, Покуда жалкий гнев его не вытек. Потом Он мог бы поделиться опытом Зажизненным, который в нем клокочет, — Минут пятнадцать надо переждать. Пусть пять. Но ждать никто не хочет. …Сначала, как всегда, смятенье чувств. Я замечусь, Как брошенная в комнате левретка. Мне трудно вспомнить собственный язык. Отвык. Ты знаешь сам, как это стало редко. Так первая пройдет. А на второй Слетится рой Воспоминаний стыдных и постылых. Пока они бессмысленно язвят, Придется ждать, чтоб тот же самый взгляд Размыл их. На третьей я смирю слепую дрожь. Хорош. В проем окна войдет истома лета. Я медленно начну искать слова: Сперва — Все о себе. Но вытерпи и это. И на четвертой я заговорю К царю Небесному, смотрящему с небес, но — Ему не надо моего нытья. Он больше знает о себе, чем я. Неинтересно. И вот тогда, на пятой, наконец — Творец, Отчаявшись услышать то, что надо, — Получит то, зачем творил певца. С его лица Исчезнут скука и досада. Блаженный лепет летнего листа. Проста Просодия – ни пыла, ни надрыва. О чем – сказать не в силах, видит Бог. Когда бы мог, Мне б и пяти минут не надо было. На пять минут с собой меня оставь. Пусть явь Расступится – не вечно же довлеть ей. Побудь со мной. Мне будет что сказать. Дай пять! Но ты опять соскучишься на третьей.«Ведь прощаем мы этот Содом…»
Ведь прощаем мы этот Содом Словоблудья, раденья, разврата — Ибо знаем, какая потом За него наступила расплата. Им Отчизна без нас воздает. Заигравшихся, нам ли карать их — Гимназистов, глотающих йод И читающих «Пол и характер», Гимназисток, курсисток, мегер, Фам фаталь – воплощенье порока, Неразборчивый русский модерн Пополам с рококо и барокко. Ведь прощаем же мы моветон В их пророчествах глада и труса, — Ибо то, что случилось потом, Оказалось за рамками вкуса. Ведь прощаем же мы Кузмину И его недалекому другу Ту невинную, в общем, вину, Что сегодня бы стала в заслугу. Бурно краток, избыточно щедр, Бедный век, ученик чародея Вызвал ад из удушливых недр И глядит на него, холодея. И гляжу неизвестно куда, Размышляя в готическом стиле — Какова ж это будет беда, За которую нас бы простили.«Смерть не любит смертолюбов…»
Смерть не любит смертолюбов, Призывателей конца. Любит зодчих, лесорубов, Горца, ратника, бойца. Глядь, иной из некрофилов, С виду сущее гнилье, Тянет век мафусаилов — Не докличется ее. Жизнь не любит жизнелюбов, Ей претит умильный вой, Пухлость щек и блеск раструбов Их команды духовой. Несмотря на всю науку, Пресмыкаясь на полу, Все губами ловят руку, Шлейф, каблук, подол, полу. Вот и я виюсь во прахе, О подачке хлопоча: О кивке, ресничном взмахе, О платке с ее плеча. Дай хоть цветик запоздалый Мне по милости своей — Не от щедрости, пожалуй, От брезгливости скорей. Ах, цветочек мой прекрасный! Чуя смертную межу, В день тревожный, день ненастный Ты дрожишь – и я дрожу, Как наследник нелюбимый В неприветливом дому У хозяйки нелюдимой, Чуждой сердцу моему.«Со временем я бы прижился и тут…»
Со временем я бы прижился и тут, Где гордые пальмы и вправду растут — Столпы поредевшей дружины, — Пятнают короткою тенью пески, Но тем и горды, что не столь высоки, Сколь пыльны, жестки и двужильны. Восток жестковыйный! Терпенье и злость, Топорная лесть и широкая кость, И зверства, не видные вчуже, И страсти его – от нужды до вражды — Мне так образцово, всецело чужды, Что даже прекрасны снаружи. Текучие знаки ползут по строке, Тягучие сласти текут на лотке, Темнеет внезапно и рано, И море с пустыней соседствует так, Как нега полдневных собак и зевак — С безводной твердыней Корана. Я знаю ритмический этот прибой: Как если бы глас, говорящий с тобой Безжалостным слогом запрета, Не веря, что слышат, долбя и долбя, Упрямым повтором являя себя, Не ждал ни любви, ни ответа. И Бог мне порою понятней чужой, Завесивший лучший свой дар паранджой Да байей по самые пятки, Палящий, как зной над резной белизной, — Чем собственный, лиственный, зыбкий, сквозной, Со мною играющий в прятки. С чужой не мешает ни робость, ни стыд. Как дивно, как звездно, как грозно блестит Узорчатый плат над пустыней! Как сладко чужого не знать языка И слышать безумный, как зов вожака, Пронзительный крик муэдзиний! И если Восток – почему не Восток? Чем чуже чужбина, тем чище восторг, Тем звонче напев басурманский, Где, берег песчаный собой просолив, Лежит мусульманский зеленый залив И месяц висит мусульманский.Вариации-2
1. До
Ясно помню большой кинозал, Где собрали нас, бледных и вялых, — О, как часто я после бывал По работе в таких кинозалах! И ведущий с лицом как пятно, Говорил – как в застойные годы Представлял бы в музее кино «Амаркорд» или «Призрак свободы». Вот, сказал он, смотрите. (В дыму Шли солдаты по белому полю, После били куранты…) «Кому Не понравится – я не неволю». Что там было еще? Не совру, Не припомню. Какие-то залпы, Пары, споры на скудном пиру… Я не знаю, что сам показал бы, Пробегаясь по нынешним дням С чувством нежности и отвращенья, Представляя безликим теням Предстоящее им воплощенье. Что я им показал бы? Бои? Толпы беженцев? Толпы повстанцев? Или лучшие миги свои — Тайных встреч и опять-таки танцев, Или нищих в московском метро, Иль вояку с куском арматуры, Или школьников, пьющих ситро Летним вечером в парке культуры? Помню смутную душу свою, Что, вселяясь в орущего кроху, В метерлинковском детском раю По себе выбирала эпоху, И уверенность в бурной судьбе, И еще пятерых или боле, Этот век приглядевших себе По охоте, что пуще неволи. И поэтому, раз уж тогда Мы, помявшись, сменили квартиру И сказали дрожащее «Да» Невозможному этому миру, — Я считаю, что надо и впредь, Бесполезные слезы размазав, Выбирать и упрямо терпеть Без побегов, обид и отказов. Быть – не быть? Разумеется, быть, Проклиная окрестную пустошь. Полюбить-отпустить? Полюбить, Даже зная, что после отпустишь, Потому что мы молвили «да» Всем грядущим обидам и ранам, Покидая уже навсегда Темный зал с мельтешащим экраном, Где фигуры без лиц и имен — Полутени, получеловеки — Ждут каких-нибудь лучших времен И, боюсь, не дождутся вовеки.2. После
Так и вижу подобье класса, Форму несколько не по мне, Холодок рассветного часа, Облетающий клен в окне, Потому что сентябрь на старте (Что поделаешь, я готов). Сплошь букеты на каждой парте — Где набрали столько цветов? Примечаю, справиться силясь С тайной ревностью дохляка: Изменились, поизносились, Хоть и вытянулись слегка. Вид примерных сынков и дочек — Кто с косичкой, кто на пробор. На доске – учительский почерк: Сочиненье «Как я провел Лето». Что мне сказать про лето? Оглянусь – и передо мной Океан зеленого цвета, Хрусткий, лиственный, травяной, Дух крапивы, чертополоха, Город, душный от тополей… Что ж, неплохо провел, неплохо. Но они, видать, веселей. Вон Петров какой загорелый — На Канары летал, пострел. Вон Чернов какой обгорелый — Не иначе, в танке горел. А чего я видал такого И о чем теперь расскажу — Кроме Крыма, да Чепелева, Да соседки по этажу? И спросить бы, в порядке бреда, Так ли я его проводил, Не учителя, так соседа — Да сижу, как всегда, один. Все, что было, забыл у входа, Ничего не припас в горсти… Это странное время года Трудно правильно провести. Впрочем, стану еще жалеть я! У меня еще есть слова. Были усики и соцветья, Корни, стебли, вода, трава, Горечь хмеля и медуницы, Костяника, лесной орех, Свадьбы, похороны, больницы — Все как надо. Все как у всех. Дважды спасся от пистолета. Занимал чужие дома. Значит, все это было лето. Даже, значит, когда зима. Значит, дальше – сплошная глина, Вместо целого – град дробей, Безысходная дисциплина — Все безличнее, все грубей. А заснешь – и тебе приснится, Осязаема и близка, Менделеевская таблица Камня, грунта, воды, песка.«Под бременем всякой утраты…»
Под бременем всякой утраты, Под тяжестью всякой вины Мне видятся южные штаты — Еще до Гражданской войны. Люблю нерушимость порядка, Чепцы и шкатулки старух, Молитвенник, пахнущий сладко, Вечерние чтения вслух. Мне нравятся эти южанки, Кумиры друзей и врагов, Пожизненные каторжанки Старинных своих очагов. Все эти О’Хары из Тары, — И кажется бунту сродни Покорность, с которой удары Судьбы принимают они. Мне ведома эта повадка — Терпение, честь, прямота, — И эта ехидная складка Решительно сжатого рта. Я тоже из этой породы, Мне дороги утварь и снедь, Я тоже не знаю свободы, Помимо свободы терпеть. Когда твоя рать полукружьем Мне застила весь окоем, Я только твоим же оружьем Сражался на поле твоем. И буду стареть понемногу, И, может быть, скоро пойму, Что только в покорности Богу И кроется вызов ему.Свежесть
Бабах! из логова германских гадов
Слышны разрывы рвущих их снарядов,
И свист ужасный воздух наполняет,
Куски кровавых гуннов в нем летают.
Эдвард Стритер (пер. И. Л.) Люблю тебя, военная диорама, Сокровище приморского городка, Чей порт – давно уже свалка стального хлама, Из гордости не списанного пока. Мундир пригнан, усы скобкой, и все лица Красны от храбрости и счастья, как от вина. На горизонте восходит солнце Аустерлица, На правом фланге видны флеши Бородина. Люблю воинственную живость, точней – свежесть. Развернутый строй, люблю твой строгий, стройный вид. Швед, русский, немец – колет, рубит, скрежет, И даже жид чего-то такое норовит. Гудит барабан, и флейта в ответ свистит и дразнится. Исход батальи висит на нитке ее свистка. – Скажи, сестра, я буду жить? – Какая разница, Зато взгляни, какой пейзаж! – говорит сестра. Пейзаж – праздник: круглы, упруги дымки пушек. Кого-то режет бодрый медик Пирогов. Он призывает послать врагу свинцовых плюшек И начиненных горючей смесью пирогов. На правом фланге стоит Суворов дефис Нахимов, Сквозь зубы Жуков дефис Кутузов ему грубит, По центру кадра стоит де Толли и, плащ накинув, О чем-то спорит с Багратионом, но тот убит. Гремит гулко, орет браво, трещит сухо. Японцы в шоке. Отряд китайцев бежит вспять. Бабах слева! бабах справа! Хлестнул ухо Выстрел, и тут же ему в ответ хлестнули пять. На первом плане мы видим подвиг вахмистра Добченко: Фуражка сбита, грудь открыта, в крови рот. В чем заключался подвиг – забыто, и это, в общем-то, Не умаляет заслуг героя. Наоборот. На среднем плане мы видим прорыв батареи Тушина, Тушин сидит, пушки забыв, фляжку открыв. Поскольку турецкая оборона и так разрушена, Он отказался их добивать, и это прорыв. На заднем плане легко видеть сестру Тату — Правее флешей Бородина, левей скирд. Она под вражеским огнем дает солдату: Один считает, что наркоз, другой – что спирт. Вдали – море, лазурь зыби, песок пляжей, Фрегат «Страшный» идет в гавань: пробит ют. Эсминец «Наш» таранит бок миноносцу «Вражий», А крейсер «Грек» идет ко дну, и все поют. Свежесть сражения! Праздник войны! Азарт свободы! Какой блеск, какой густой голубой цвет! Курортники делают ставки, пьют воды. Правее вы можете видеть бар «Корвет». Там к вашим услугам охра, лазурь, белила, Кровь с молоком, текила, кола, квас, Гибель Помпеи, взятие Зимнего, штурм Берлина, Битва за Рим: в конечном итоге все для вас. Вот так, бывало, зимой, утром, пока молод, Выходишь из дома возлюбленной налегке — И свежесть смерти, стерильный стальной холод Пройдет, как бритва, по шее и по щеке. «Пинь-пинь-тарарах!» – звучит на ветке. Где твое жало, Где твоя строгость, строгая госпожа? Все уже было, а этого не бывало. Жизнь – духота. Смерть будет нам свежа.Счастья не будет
Олененок гордо ощутил
Между двух ушей два бугорка,
А лисенок притащил в нору
Мышь, которую он сам поймал.
Г. Демыкина Музыка, складывай ноты, захлопывай папку, Прячь свою скрипку, в прихожей отыскивай шляпку. Ветер по лужам бежит и апрельскую крутит Пыль по асфальту подсохшему. Счастья не будет. Счастья не будет. Винить никого не пристало. Влажная глина застыла и формою стала, Стебель твердеет, стволом становясь лучевидным. Нам ли с тобой ужасаться вещам очевидным? Будет тревожно, восторженно, сладко, свободно, Будет томительно, радостно – все, что угодно: Счастья не будет. Оставь ожиданья подросткам. Нынешний возраст подобен гаданию с воском: Жаркий, в воде застывает, и плачет гадалка. Миг между жизнью и смертью – умрешь, и не жалко — Больше не будет единственным нашим соблазном. Сделался разум стоглазым. Беда несогласным: Будут метаться, за грань порываться без толку — Жизнь наша будет подглядывать в каждую щелку. Воск затвердел, не давая прямого ответа. Счастья не будет. Да, может, и к лучшему это. Вольному воля. Один предается восторгам Эроса; кто-то политикой, кто-то Востоком Тщится заполнить пустоты. Никто не осудит. Мы-то с тобой уже знаем, что счастья не будет. Век наш вошел в колею, равнодушный к расчетам. Мы-то не станем просить послаблений, – а что там Бьется, трепещет, не зная, не видя предела, — Страх ли, надежда ли, – наше интимное дело. Щебень щебечет, и чавкает грязь под стопою. Чет или нечет – не нам обижаться с тобою. Желтый трамвай дребезжанием улицу будит. Пахнет весной, мое солнышко. Счастья не будет.Времена года
1. Подражание Пастернаку
Чуть ночь, они топили печь. Шел август. Ночи были влажны. Сначала клали, чтоб разжечь, Щепу, лучину, хлам бумажный. Жарка, уютна, горяча, Среди густеющего мрака Она горела, как свеча Из «Зимней ночи» Пастернака. Отдавшись первому теплу И запахам дымка и прели, Они сидели на полу И, взявшись за руки, смотрели. Чуть ночь, они топили печь. Дрова не сразу занимались, И долго, перед тем как лечь, Они растопкой занимались. Дрова успели отсыреть В мешке у входа на террасу, Их нежелание гореть Рождало затруднений массу, Но через несколько минут Огонь уже крепчал, помедлив, И еле слышный ровный гуд Рождался в багроватых недрах. Дым очертания менял И из трубы клубился книзу, Дождь припускал по временам, Стучал по крыше, по карнизу, Не уставал листву листать Своим касанием бесплотным, И вдвое слаще было спать В струистом шелесте дремотном. Чуть ночь, они топили печь, Плясали тени по обоям, Огня лепечущая речь Была понятна им обоим. Помешивали кочергой Печное пышущее чрево, И не был там никто другой — Леса направо и налево, Лишь дождь, как полуночный ткач, Прошил по странному наитью Глухую тишь окрестных дач Своею шелестящей нитью. Казалось, осень началась. В июле дачники бежали И в эти дни, дождя боясь, Сюда почти не наезжали. Весь мир, помимо их жилья, Был как бы вынесен за скобку, — Но прогорали уголья, И он вставал закрыть заслонку. Чуть ночь, они топили печь, И в отблесках ее свеченья Плясали тени рук и плеч, Как некогда – судьбы скрещенья. Волна пахучего тепла, Что веяла дымком и прелью, Чуть колебалась и плыла Над полом, креслом, над постелью, Над старой вазочкой цветной, В которой флоксы доживали, И над оплывшею свечой, Которую не зажигали.2. Преждевременная автоэпитафия
Весенний первый дождь. Вечерний сладкий час, Когда еще светло, но потемнеет скоро. По мокрой мостовой течет зеленый глаз Приветствующего троллейбус светофора, Лиловый полумрак прозрачен, но уже Горит одно окно на пятом этаже. Горит одно окно, и теплый желтый свет, Лимонно-золотой, стоит в квадрате рамы. Вот дождь усилился – ему и дела нет: Горит! Там девочка разучивает гаммы В уютной комнате, и нотная тетрадь Стоит развернута. Сыграет, и опять Сначала… Дождь в стекло. Потеки на стекле — Забылись с осени… И в каждом из потеков Дробится светофор. Под лампой, на столе Лежит пенал и расписание уроков, А нынче музыка. Заданье. За дверьми — Тишь уважения. И снова до-ре-ми. Она играет. Дождь. Сиреневая тьма Все гуще. Окна загораются, и вот их Все больше. Теплый свет ложится на тома На полке, за стеклом, в старинных переплетах, На руки, клавиши и, кажется, на звук, Что ровно и легко струится из-под рук. И снова соль-ля си… Соседнее окно — Как рано все-таки смеркается в апреле! — Доселе темное, теперь освещено: Горит! Там мальчик клеит сборные модели: Могучий самолет, раскинувший крыла, Почти законченный, стоит среди стола. Лишь гаммы за стеной – но к ним привычен слух — Дождем перевиты, струятся монотонно. Свет лампы. На столе – отряд любимых слуг: Напильник, ножницы, флакончик ацетона, Распространяющий столь резкий аромат, Что сборную модель родители бранят. А за окном темно. Уже идет к шести. Работа кончена. Как бы готовый к старту — Картинку на крыло теперь перевести — Пластмассовый гигант воздвигнут на подставку И чуть качается, еще не веря сам, Что этакий титан взлетает к небесам. Дождливый переплеск, и капель перепляс — Апрельский ксилофон по стеклам, по карнизу, И мальчик слушает. Он ходит в третий класс И держит девочку за врушку и подлизу, Которой вредничать – единственная цель, А может быть, влюблен и носит ей портфель. Внутри тепло, уют… Но и снаружи – плеск Дождя, дрожанье луж, ночного ксилофона Негромкий перестук, текучий мокрый блеск Фар, первых фонарей, миганье светофора, Роенье тайных сил, разбуженных весной: Так дышит выздоравливающий больной. Спи! Минул перелом; означен поворот К выздоровлению, и выступает мелко На коже лба и щек уже прохладный пот — Пот не горячечный. Усни и ты, сиделка: Дыхание его спокойно, он живет, Он дышит, как земля, когда растает лед. …О тишь апрельская, обманчивая тишь! Работа тайных сил неслышна и незрима, Но скоро тополя окутает, глядишь, Волна зеленого, пленительного дыма, И высохнет асфальт, и посреди двора По первым классикам заскачет детвора. А следом будет ночь, а следом будет день, И жизнь, дарующая все, что обещала, Прекрасная, как дождь, как тополь, как сирень, А следом будет… нет! о нет! начни сначала! Ведь разве этот рай – не самый верный знак, Что все окончиться не может просто так? Я знаю, что и я когда-нибудь умру, И если, как в одном рассказике Катерли, Мы, обнесенные на грустном сем пиру, Там получаем все, чего бы здесь хотели, И все исполнится, чего ни пожелай, — Хочу, чтобы со мной остался этот рай: Весенний первый дождь, вечерний сладкий час, Когда еще светло, но потемнеет скоро, Сиреневая тьма, зеленый влажный глаз Приветствующего троллейбус светофора, И нотная тетрадь, и книги, и портфель, И гаммы за стеной, и сборная модель.3. Октябрь
Подобен клетчатой торпеде Вареный рыночный початок, И мальчик на велосипеде Уже не ездит без перчаток. Ночной туман, дыханье с паром, Поля пусты, леса пестры, И листопад глядит распадом, Разладом веток и листвы. Октябрь, тревожное томленье, Конец тепла, остаток бедный, Включившееся отопленье, Холодный руль велосипедный, Привычный мир зыбуч и шаток И сам себя не узнает: Круженье листьев, курток, шапок, Разрыв, распад, разбег, разлет. Октябрь, разрыв причин и следствий, Непрочность в том и зыбкость в этом, Пугающие, словно в детстве, Когда не сходится с ответом, Все кувырком, и ум не сладит, Отступит там, споткнется тут… Разбеги пар, крушенья свадеб, И листья жгут, и снега ждут. Сухими листьями лопочет, Нагими прутьями лепечет, И ничего уже не хочет, И сам себе противоречит — Мир перепуган и тревожен, Разбит, раздерган вкривь и вкось — И все-таки не безнадежен, Поскольку мы еще не врозь.4
Никите Елисееву
Теплый вечер холодного дня. Ветер, оттепель, пенье сирены. Не дразни меня, хватит с меня, Мы видали твои перемены! Не смущай меня, оттепель. Не обольщай поворотами к лету. Я родился в холодной стране. Мало чести – оставь мне хоть эту. Только трус не любил никогда Этой пасмурной, брезжущей хмури, Голых веток и голого льда, Голой правды о собственной шкуре. Я сбегу в этот холод. Зане От соблазнов, грозящих устоям, Мы укроемся в русской зиме: Здесь мы стоим того, чего стоим. Вот пространство, где всякий живой, Словно в пику пустому простору, Обрастает тройной кожурой, Обращается в малую спору. Ненавижу осеннюю дрожь На границе надежды и стужи: Не буди меня больше. Не трожь. Сделай так, чтобы не было хуже. Там, где вой на дворе в январе, Лед по улицам, шапки по крышам, Там мы выживем, в тесной норе, И тепла себе сами надышим. Как берлогу, поземку, пургу Не любить нашей северной музе? Дети любят играть на снегу, Ибо детство со смертью в союзе. Здравствуй, Родина! В дали твоей Лучше сгинуть как можно бесследней. Приюти меня здесь. Обогрей Стужей гибельной, правдой последней. Ненавистник когдатошний твой, Сын отверженный, враг благодарный, — Только этому верю: родной Тьме египетской, ночи полярной.«Снова таянье, маянье, шорох…»
Снова таянье, маянье, шорох, Лень и слабость начала весны: Словно право в пустых разговорах Нечувствительно день провести. Хладноблещущий мрамор имперский, Оплывая, линяя, гния, Превратится в тупой, богомерзкий, Но живительный пир бытия. На свинцовые эти белила, На холодные эти меха Поднимается равная сила (Для которой я тоже блоха). В этом есть сладострастие мести — Наблюдать за исходами драк, И подпрыгивать с визгом на месте, И подзуживать: так его, так! На Фонтанке, на Волге и Каме, Где чернеют в снегу полыньи, Воздается чужими руками За промерзшие кости мои. Право, нам ли не ведать, какая Разольется вселенская грязь, Как зачавкает дерн, размокая, Снежно-талою влагой давясь? Это пир пауков многоногих, Бенефис комаров и червей. Справедливость – словцо для убогих. Равновесие – это верней. Это оттепель, ростепель, сводня, Сор и хлам на речной быстрине, Это страшная сила Господня, Что на нашей пока стороне.«Он так ее мучит, как будто растит жену…»
Он так ее мучит, как будто растит жену. Он ладит ее под себя: под свои пороки, Привычки, страхи, веснушчатость, рыжину. Муштрует, мытарит, холит, дает уроки. И вот она приручается – тем верней, Что мы не можем спокойно смотреть и ропщем; Она же видит во всем заботу о ней. Точнее, об их грядущем – понятно, общем. Он так ее мучит, жучит, костит, честит, Он так ее мучит – прицельно, умно, пристрастно, — Он так ее мучит, как будто жену растит. Но он не из тех, кто женится: это ясно. Выходит, все это даром: «Анкор, анкор, Ко мне, ко мне!» – переливчатый вопль тарзаний, Скандалы, слезы, истерики, весь декор, Приходы, уходы и прочий мильон терзаний. Так учат кутить обреченных на нищету. Так учат наследного принца сидеть на троне — И знают, что завтра трон разнесут в щепу, Сперва разобравшись с особами царской крови. Добро бы на нем не клином сошелся свет И все пригодилось с другим, на него похожим, — Но в том-то вся и беда, что похожих нет, И он ее мучит, а мы ничего не можем. Но что, если вся дрессура идет к тому, Чтоб после позора, рева, срыва, разрыва Она взбунтовалась – и стала равна ему, А значит, непобедима, неуязвима? И все для того, чтоб, отринув соблазн родства, Давясь слезами, пройдя километры лезвий, Она до него доросла – и переросла, И перешагнула, и дальше пошла железной? А он останется – сброшенная броня, Пустой сосуд, перевернутая страница. Не так ли и Бог испытывает меня, Чтоб сделать себе подобным – и устраниться, Да все не выходит?Черная речка
Теперь, когда, скорее всего, Господь уже не пошлет Рыжеволосое существо, Заглядывающее в рот Мне, читающему стихи, Которые напишу, И отпускающее грехи, Прежде чем согрешу, Хотя я буду верен как пес, Лопни мои глаза; Курносое столь, сколь я горбонос, И гибкое, как лоза; Когда уже ясно, что век живи, В любую дудку свисти — Запас невостребованной любви Будет во мне расти, Сначала нежить, а после жечь, Пока не выбродит весь В перекись нежности – нежить, желчь, Похоть, кислую спесь; Теперь, когда я не жду щедрот, И будь я стократ речист — Если мне кто и заглянет в рот, То разве только дантист; Когда затея исправить свет, Начавши с одной шестой, И даже идея оставить след Кажется мне пустой, Когда я со сцены, ценя уют, Переместился в зал, А все, чего мне здесь не дают, — Я бы и сам не взял, Когда прибита былая прыть, Как пыль плетями дождя, — Вопрос заключается в том, чтоб жить, Из этого исходя. Из колодцев ушла вода, И помутнел кристалл, И счастье кончилось, когда Я ждать его перестал. Я сделал несколько добрых дел, Не стоивших мне труда, И преждевременно догорел, Как и моя звезда. Теперь меня легко укротить, Вычислить, втиснуть в ряд, И если мне дадут докоптить Небо – я буду рад. Мне остается, забыв мольбы, Гнев, отчаянье, страсть, В Черное море общей судьбы Черною речкой впасть.«И вот американские стихи…»
И вот американские стихи. Друг издает студенческий журнал — Совместный: предпоследняя надежда Не прогореть. Печатает поэзы И размышления о мире в мире. Студентка (фотографии не видел, Но представляю: волосы до плеч Немытые, щербатая улыбка, Приятное открытое лицо, Бахромчатые джинсы – и босая) Прислала некий текст. Перевожу. Естественно, верлибр: перечисленья Всего, на чем задерживался взгляд Восторженный: что вижу, то пою. Безмерная, щенячья радость жизни, Захлеб номинативный: пляж, песком Присыпанные доски, мотороллер Любимого, банановый напиток — С подробнейшею сноской, что такое Банановый напиток; благодарен За то, что хлеб иль, скажем, сигарета — Пока без примечаний. В разны годы Я это слышал! «Я бреду одна По берегу и слышу крики чаек. А утром солнце будит сонный дом, Заглядывая в радужные окна. Сойду во двор – цветы блестят росою. Тогда я понимаю: мир во мне!» Где хочешь оборви – иль продолжай До бесконечности: какая бездна Вещей еще не названа! Салат Из крабов; сами крабы под водой, Еще не знающие о салате; Соломенная шляпа, полосатый Купальник и раздвинутый шезлонг… Помилуйте! Я тоже так умею! И – как кипит завистливая желчь! — Все это на компьютере; с бумагой Опять же ноу проблемс, и в печать Подписано не глядя (верный способ Поехать в гости к автору)! Меж тем Мои друзья сидят по коммуналкам И пишут гениальные стихи В конторских книгах! А потом стучат Угрюмо на раздолбанных машинках, И пьют кефир, и курят «Беломор», И этим самым получают право Писать об ужасе существованья И о трагизме экзистенциальном! Да что они там знают, эти дети, Сосущие банановый напиток! Когда бы грек увидел наши игры! Да, жалок тот, в ком совесть нечиста, Кто говорит цитатами, боясь Разговориться о себе самом, Привыкши прятать свой дрожащий ужас За черною иронией, которой Не будешь сыт! Что знают эти там, Где продается в каждом магазине Загадочный для русского предмет: Футляр для установки для подачи Какао непосредственно в постель С переключателем температуры! Но может быть… О страшная догадка! Быть может, только там они и знают О жизни? Не о сломанном бачке, Не о метро – последнем, что еще Напоминает автору о шпротах, — О нет: о бытии как таковом! Как рассудить? Быть может, там видней, Что, Боже мой, трагедия не в давке, Не в недостатке хлеба и жилья, Но в том, что каждый миг невозвратим, Что жизнь кратка, что тайная преграда Нам не дает излиться до конца? А все, что пишем мы на эти темы, Безвыходно пропахло колбасой — Столь чаемой, что чуть не матерьяльной?! А нам нельзя верлибром – потому, Что эмпиричны наши эмпиреи. Неразбериху, хаос, кутерьму Мы втискиваем в ямбы и хореи. Последнее, что нам еще дано Иллюзией законченности четкой, — Размер и рифма. Забрано окно Строфою – кристаллической решеткой. Зарифмовать и распихать бардак По клеткам ученических тетрадок — Единственное средство кое-как В порядок привести миропорядок И прозревать восход (или исход) В бездонной тьме языческой, в которой Четверостишье держит небосвод Последней нерасшатанной опорой.«Намечтал же себе Пастернак…»
Намечтал же себе Пастернак Эту смерть на подножке трамвая! Признак женщины – гибельный знак — Обгоняя и вновь отставая, Задохнуться с последним толчком Остановки, простоя, разрыва, Без сознания рухнуть ничком — Это все-таки, вчуже, красиво. Это лучше рыдания вдов, Материнской тоски и дочерней: Лучше ранних любых поездов Этот смертный трамвай предвечерний. До того, как придется сводить Полюса в безнадежной попытке, До попытки себя убедить — Самолюбия жалкой подпитки, — Хорошо без греха умирать, Не гадая: пора, не пора ли… Бедный врач не любил выбирать, За него в небесах выбирали. Вне игры! От урывков, заплат, Ожиданья постыдной расплаты… Перед тем, кто кругом виноват, Сразу сделались все виноваты. Умирать – не в холодном поту, Не на дне, не измучась виною, Покупая себе правоту Хоть такой, и не худшей ценою, Не в тюрьме, не своею рукой, Заготовив оружье украдкой… Позавидуешь смерти такой — Где тут жизни завидовать сладкой? Здесь, где каждый кругом виноват, Где должны мы себе и друг другу, Ждем зарплат, ожидаем расплат, — Одиночество ходит по кругу. Здесь, прожив свою первую треть, Начитавшись запретного чтива, Я не то что боюсь умереть, А боюсь умереть некрасиво.«Все эти мальчики, подпольщики и снобы…»
Все эти мальчики, подпольщики и снобы, Эстеты, умники, пижончики, щенки, Их клубы тайные, трущобы и хрущобы, Ночные сборища, подвалы, чердаки, Все эти девочки, намазанные густо, Авангардисточки, курящие взасос, Все эти рыцари искусства для искусства, Как бы в полете всю дорогу под откос, Все эти рокеры, фанаты Кастанеды, Жрецы Кортасара, курящие «Житан», Все эти буки, что почитывали Веды, И «Вехи» ветхие, и «Чайку Джонатан», Все эти мальчики, все девочки, все детство, Бродяги, бездари, немытики, врали, Что свинство крайнее и крайнее эстетство Одной косичкою беспечно заплели, Все эти скептики, бомжи-релятивисты, Стилисты рубища, гурманчики гнилья, С кем рядом правильны, бледны и неказисты Казались прочие – такие, как хоть я, — И где теперь они? В какой теперь богине Искать пытаются изъянов и прорех? Иные замужем, иные на чужбине, Иные вымерли – они честнее всех. Одни состарились, вотще перебродили, Минуя молодость, шагнув в убогий быт, Другие – пленники семейственных идиллий, Где Гессе выброшен и Борхес позабыт. Их соблазнители, о коих здесь не пишем, В элиту вылезли под хруст чужих костей И моду делают, диктуя нуворишам, Как надо выглядеть и чем кормить гостей. Где эти мальчики и девочки? Не слышно. Их ночь волшебная сменилась скукой дня, И ничегошеньки, о Господи, не вышло Из них, презрительно глядевших на меня. Се участь всякого поклонника распада, Кто верит сумраку, кому противен свет, Кому ни прочности, ни ясности не надо, — И что, ты рад, скажи? Ты рад, скажи? О нет, Да нет же, Господи! Хотя с какою злобой На них я пялился, подспудно к ним влеком, — И то, в чем виделся когда-то путь особый, Сегодня кончилось банальным тупиком! Ну что же, радуйся! Ты прав с твоею честной, Серьезной службою, – со всем, на чем стоял. А все же верилось, что некий неизвестный Им выход виделся, какой-то смысл сиял! Ан нету выхода. Ни в той судьбе, ни в этой. Накрылась истина, в провал уводит нить. Грешно завидовать бездомной и отпетой Их доле сумрачной, грешней над ней трунить. Где эти мальчики, где девочки? Ни рядом, Ни в отдалении. А все же и сейчас Они, мне кажется, меня буравят взглядом, Теперь с надеждою: хоть ты скажи за нас! С них спроса нет уже. В холодном мире новом Царит безвременье, молчит осенний свет, А ты, измученный, лицом к лицу со словом Один останешься за всех держать ответ.Версия
…Представим, что не вышло. Питер взят Корниловым (возможен и Юденич). История развернута назад. Хотя разрухи никуда не денешь, Но на фронтах подъем. Россия-мать Опомнилась, и немчура в испуге Принуждена стремительно бежать. Раскаявшись, рыдающие слуги Лежат в ногах растроганных господ. Шульгин ликует. Керенскому ссылка. Монархия, однако, не пройдет: Ночами заседает учредилка, Романовым оставлены дворцы. Не состоялась русская Гоморра: Стихию бунта взяли под уздцы При минимуме белого террора, Страна больна, но цел хребет спинной, События вошли в порядок стройный, И лишь Нева бушует, как больной, Когда в своей постели беспокойной Он узнает, что старую кровать Задумано переименовать. В салоны возвращается уют, И либералы каются публично. За исключеньем нескольких иуд Все, кажется, вели себя прилично. В салоне Мережковского – доклад Хозяина: Текущие задачи. (Как удалось преодолеть распад И почему все это быть иначе И не могло.) Взаправду не могло! Чтоб эта власть держалась больше года? Помилуйте! Восставшее мурло Не означает русского народа, Который твердо верует в Христа. Доклад прекрасно встречен, и сугубо Собранием одобрены места, В которых автор топчет Сологуба. Но Сологуб не столько виноват, Сколь многие, которых мы взрастили. Да, я о Блоке. Болен, говорят. Что он тут нес! Но Блока все простили. Сложнее с Маяковским. Посвистев, Ватага футуристов поредела. Он человек общественный – из тех, Кто вкладывает дар в чужое дело, В чужое тело, в будуар, в альков, В борьбу со злом – куда-нибудь да вложит, Поскольку по масштабу дар таков, Что сам поэт вместить его не может. Духовный кризис за год одолев, Прокляв тиранов всею мощью пасти, Он ринется, как вышколенный лев, Внедрять в умы идеи прежней власти, Давя в душе мучительный вопрос, Глуша сомненья басовым раскатом — И, написав поэму «Хорошо-с», С отчаянья застрелится в тридцатом. Лет за пять до него другой поэт, Не сдерживая хриплого рыданья, Прокляв слепой гостинничный рассвет, Напишет кровью «Друг мой, до свиданья…» — Поскольку мир его идет на слом, А трактор прет, дороги не жалея, И поезд – со звездою иль с орлом — Обгонит жеребенка-дуралея. Жизнь кончена, былое сожжено, Лес извели, дороги замостили… Поэту в нашем веке тяжело, Блок тоже умер. (Но его простили.) Тут из Европы донесется рев Железных толп, безумием обятых. Опять повеет дымом. Гумилев Погибнет за Испанию в тридцатых. Цветаева задолго до войны, Бросая вызов сплетникам досужим, Во Францию уедет из страны За жаждущим деятельности мужем — Ему Россия кажется тюрьмой… Какой-то рок замешан в их альянсе, И первой же военною зимой Она и он погибнут в Резистансе. В то время вечный мальчик Пастернак, Дыша железным воздухом предгрозья, Уединится в четырех стенах И обратится к вожделенной прозе. Людей и положений череда, Дух Рождества, высокая отвага — И через год упорного труда Он ставит точку в «Докторе Живаго» И отдает в российскую печать. Цензура смотрит пристально и косо, Поскольку начинает замечать Присутствие еврейского вопроса, А также порнографию. (Поэт!) Встречаются сомнительные трели Насчет большевиков. Кладут запрет, Но издавать берется Фельтринелли. Скандал на всю Россию – новый знак Реакции. Кричат едва не матом: «Ступайте вон, товарищ Пастернак!» Но Пастернак останется. Куда там! Унизили прозванием жида, Предателем Отчизны окрестили… Сей век не для поэтов, господа. Ведь вот и Блок… (Но Блока все простили.) Добавим: в восемнадцатом году Большевики под громкие проклятья Бежали – кто лесами, кто по льду. Ильич ушел, переодевшись в платье И не боясь насмешек. Что слова! «А вы слыхали, батенька, что лысый Оделся бабой?» – «Низость какова!» Но он любил такие компромиссы. Потом осел в Швейцарии. Туда ж — Соратники (туда им и дорога). Уютный Цюрих взят на абордаж. В Швейцарии их стало слишком много. Евреев силой высылают вслед. Они, гонимы вешними лучами, Текут в Женеву, что за пару лет Наводнена портными и врачами, А также их угрюмыми детьми: Носатые, худые иудеи, Которые готовы лечь костьми За воплощенье Марксовой идеи. Количество, конечно, перейдет В чудовищное качество, что скверно. Швейцарии грозит переворот. И он произойдет. Начнется с Берна. Поднимутся кантоны, хлынут с Альп Крестьяне, пастухи, и очень скоро С землевладельца снимут первый скальп. Пойдет эпоха красного террора И все расставит по своим местам. Никто не миновал подобных стадий. Одним из первых гибнет Мандельштам, Который выслан из России с Надей. Грозит война, но без толку грозить: Ответят ультиматумом Антанте, Всю землю раздадут, а в результате Начнут не вывозить, а завозить Часы и сыр, которыми славна В печальном, ненадежном мире этом Была издревле тихая страна, Столь гордая своим нейтралитетом. Тем временем среди родных осин Бунтарский дух растет неудержимо: Из сельских математиков один Напишет книгу о делах режима, Где все припомнит: лозунг «Бей жидов», Погромы, тюрьмы, каторги и ссылки, — И в результате пристальных трудов И вследствие своей бунтарской жилки Такой трехтомник выдаст на-гора, Что, дабы не погрязнуть в новых бурях, Его под всенародное «ура» Сошлют к единомышленникам в Цюрих. С архивом, не доставшимся властям, С романом карандашным полустертым Он вылетит в Германию, а там Его уже встречает распростертым Объятием, не кто иной, как Бёлль. Свободный Запад только им и бредит: Вы богатырь! Вы правда, соль и боль! Оттуда он в Швейцарию поедет. Получит в Альпах землю – акров пять, Свободным местным воздухом подышит, Начнет перед народом выступать И книгу «Ленин в Цюрихе» напишет. Мир изменять – сомнительная честь. Не лечат операцией простуду. Как видим, все останется, как есть. Законы компенсации повсюду. Нет, есть одно. Его не обойду — Поэма получилась однобока б: Из Крыма в восемнадцатом году В Россию возвращается Набоков. Он посмуглел, и первый над губой Темнеет пух (не обойти законов Взросления). Но он везет с собой Не меньше сотни крымских махаонов, Тетрадь стихов, которые не прочь Он иногда цитировать в беседе, И шахматный этюд (составлен в ночь, Когда им доложили о победе Законной власти). О, как вырос сад! Как заросла тропа, как воздух сладок! Какие капли светлые висят На листьях! Что за дивный беспорядок В усадьбе, в парке! О, как пахнет дом! Как сторож рад! Как всех их жалко, бедных! И выбоина прежняя – на том Же месте – след колес велосипедных, И Оредеж, и нежный, влажный май, И парк с беседкой, и роман с соседкой — Бесповоротно возвращенный рай, Где он бродил с ракеткой и рампеткой. От хлынувшего счастья бестолков, Он мельком слышит голос в кабинете — Отцу долдонит желчный Милюков: Несчастная страна! Что те, что эти! И что с того, что эту память он В себе носить не будет, как занозу, Что будет жить в Отчизне, где рожден, И сочинять посредственную прозу — Не более; что чудный дар тоски Не расцветет в изгнании постылом, Что он растратит жизнь на пустяки И не найдет занятия по силам… В сравнении с кровавою рекой, С лавиной казней и тюремных сроков, — Что значит он, хотя бы и такой! Что значит он! Подумаешь, Набоков.Военный переворот
1. «У нас военный переворот…»
У нас военный переворот. На улицах всякий хлам: Окурки, гильзы, стекло. Народ Сидит по своим углам. Вечор, ты помнишь, была пальба. Низложенный кабинет Бежал. Окрестная голытьба Делилась на «да» и «нет». Три пополудни. Соседи спят. Станции всех широт Стихли, усталые. Листопад. В общем, переворот.2. «Сегодня тихо, почти тепло…»
Сегодня тихо, почти тепло. Лучи текут через тюль И мутно-солнечное стекло, Спасшееся от пуль. Внизу ни звука. То ли режим, То ли всяк изнемог И отсыпается. Мы лежим, Уставившись в потолок. Полная тишь, золотая лень. Мы с тобой взаперти. Собственно, это последний день: Завтра могут прийти.3. «Миг равновесия. Апогей…»
Миг равновесия. Апогей. Детское «чур-чура». Все краски ярче, и день теплей, Чем завтра и чем вчера. Полная тишь, голубая гладь, Вязкий полет листвы… Кто победил – еще не понять: Ясно, что все мертвы. Что-то из детства: лист в синеве, Квадрат тепла на полу… Складка времени. Тетиве Лень отпускать стрелу.4. «Миг равновесья. Лучи в окно…»
Миг равновесья. Лучи в окно. Золото тишины. Палач и жертва знают одно, В этом они равны. Это блаженнейшая пора: Пауза, лень, просвет. Прежняя жизнь пресеклась вчера, Новой покуда нет. Клены. Поваленные столбы. Внизу не видно земли: Листья осыпались от пальбы, Дворника увели.5. «Снарядный ящик разбит в щепу…»
Снарядный ящик разбит в щепу: Вечером жгли костры. Листовки, брошенные в толпу, Белеют среди листвы. Скамейка с выломанной доской. Выброшенный блокнот. Город – прогретый, пыльный, пустой, Нежащийся, как кот. В темных подвалах бренчат ключи От потайных дверей. К жертвам склоняются палачи С нежностью лекарей.6. «Верхняя точка. А может, дно…»
Верхняя точка. А может, дно. Золото. Клен в окне. Что ты так долго глядишь в окно? Хватит. Иди ко мне. В теле рождается прежний ток, Клонится милый лик, Пышет щекочущий шепоток, Длится блаженный миг. Качество жизни зависит не — Долбаный Бродский! – от Того, устроилась ты на мне Или наоборот.7. «Дальше – смятая простыня…»
Дальше – смятая простыня, Быстрый, веселый стыд… Свет пронизывает меня. Кровь в ушах шелестит. Стена напротив. След пулевой На розовом кирпиче. Рука затекает под головой. Пыль танцует в луче. Вчера палили. Соседний дом Был превращен в редут. Сколько мы вместе, столько и ждем, Пока за нами придут.8. «Три пополудни. Соседи спят…»
Три пополудни. Соседи спят И, верно, слышат во сне Звонка обезумевшего раскат. Им снится: это ко мне. Когда начнут выдирать листы Из книг и трясти белье, Они им скажут, что ты есть ты И все, что мое, – мое. Ты побелеешь, и я замру. Как только нас уведут, Они запрут свою конуру И поселятся тут.9. «Луч, ложащийся на дома…»
Луч, ложащийся на дома. Пыль. Поскок воробья. Дальше можно сходить с ума. Дальше буду не я. Пыль, танцующая в луче. Клен с последним листом. Рука, застывшая на плече. Полная лень. Потом — Речь, заступившая за черту, Душная чернота, Проклятье, найденное во рту Сброшенного с моста.10. «Внизу – разрушенный детский сад…»
Внизу – разрушенный детский сад, Песочница под грибом. Раскинув руки, лежит солдат С развороченным лбом. Рядом – воронка. Вчера над ней Еще виднелся дымок. Я сделал больше, чем мог. Верней, Я прожил дольше, чем мог. Город пуст, так что воздух чист. Ты склонилась ко мне. Три пополудни. Кленовый лист. Тень его на стене.«На теневой узор в июне на рассвете…»
На теневой узор в июне на рассвете, На озаренный двор, где женщины и дети, На облачную сеть, на лиственную прыть Лишь те могли смотреть, кому давали жить. Лишь те, кому Господь отмерил меньшей мерой Страстей, терзавших плоть, котлов с кипящей серой, Ночевок под мостом, пробежек под огнем — Могли писать о том и обо всем ином. Кто пальцем задевал струну, хотя б воловью, Кто в жизни срифмовал хотя бы кровь с любовью, Кто смог хоть миг украсть – еще не до конца Того прижала пясть верховного творца. Да что уж там слова! Признаемся в итоге: Всем равные права на жизнь вручили боги, Но тысячей помех снабдили, добряки. Мы те и дети тех, кто выжил вопреки. Не лучшие, о нет! Прочнейшие, точнее. Изгибчатый скелет, уступчивая шея — Иль каменный топор, окованный в металл, Где пламенный мотор когда-то рокотал. Среди земных щедрот, в войне дворцов и хижин, Мы избранный народ – народ, который выжил. Один из десяти удержится в игре, И нам ли речь вести о счастье и добре! Те, у кого до лир не доходили руки, Извлечь из них могли божественные звуки, Но так как их давно списали в прах и хлам, Отчизне суждено прислушиваться к нам. А лучший из певцов взглянул и убедился В безумии отцов – и вовсе не родился, Не прыгнул, как в трамвай, в невинное дитя, Свой бессловесный рай за лучшее сочтя.«Было бы жаль умирать из Италии…»
Было бы жаль умирать из Италии, Сколь ее солнце ни жарь. Что до Отчизны – мне больше не жаль ее, Так что и в землю не жаль. Иския, Генуя, Капуя, Падуя — Горько бы вас покидать. В низкое, бренное, капая, падая, Льется с небес благодать. А для живущего где-нибудь в Обнинске, Себеже или Судже — Это побег в идеальные области, Где не достанут уже. Боже, Мессия, какие названия — Фоджа, Мессина, Эмилья-Романия, Парма, Таранта, Триест! Пышной лазаньи душа пармезания: Жалко в Кампании тех, чья компания Больше ее не поест. Приговоренных, что умерли, убыли После попоек и драк Прочь из Вероны, Апулии, Умбрии, А из России – никак. Я-то слыхал барабанную дробь ее, Видывал топь ее, Лену и Обь ее, Себеж ее и Суджу… Кто-нибудь скажет, что вот, русофобия… Я ничего не скажу. Данту мерещится круглый, с орбитами, Каменно-пламенный ад, Нашему ж мертвому, Богом убитому, Смерть – это край, где никто не грубит ему, Край, где не он виноват. Жаль из Милана, Тосканы, Венеции, А из Отечества – пусть. Сердцу мила не тоска, но венец ее — Детская, чистая грусть. Эта слезливая, негорделивая, Неговорливая даль, Желтый обрыв ее, серый разлив ее — Кажется, кается Бог, обделив ее, Этого только и жаль. Впрочем, мне кажется: если когда-либо, Выслужив службу свою, Все, кто докажет на выходе алиби, Дружно очнутся в раю — Он состоит вот из этого, этого: Снега февральского соль бертолетова, Перекись, изморось, Русь, С шаткой лошадкою, кроткой сироткою, Серою верою, белою водкою… Так что еще насмотрюсь.Песенка о моей любви
На закате меркнут дома, мосты И небес края. Все стремится к смерти – и я, и ты, И любовь моя. И вокзальный зал, и рекламный щит На его стене — Все стремится к смерти, и все звучит На одной волне. В переходах плачется нищета, Изводя, моля. Все стремится к смерти – и тот, и та, И любовь моя. Ни надежд на чье-нибудь волшебство, Ни счастливых дней — Никому не светит тут ничего, Как любви моей. Этот мир звучит, как скрипичный класс, На одной струне, И девчонка ходит напротив касс От стены к стене, И глядит неясным, тупым глазком Из тряпья-рванья, И поет надорванным голоском, Как любовь моя.Подражание древнерусскому
Нету прежней стати, ни прежней прыти. Клонюсь ко праху. Аще песнь хотяше кому творити — Еле можаху. Сердце мое пусто. Мир глядит смутно, Словно зерцало. Я тебя не встретил, хоть неотступно Ты мне мерцала. Ты была повсюду, если ты помнишь: То дымя «Шипкой», То в толпе мелькая, то ровно в полночь Звоня ошибкой. Где тебя я видел? В метро ли нищем, В окне горящем? Сколько мы друг друга по свету ищем — Все не обрящем. Ты мерцаешь вечно, сколько ни сетуй, Над моей жаждой, Недовоплотившись ни в той, ни в этой, Но дразня в каждой. …Жизнь моя уходит, обнажив русло, Как в песок влага. Сердце мое пусто, мир глядит тускло. Это во благо: Может, так и лучше – о тебе пети, Спати с любою… Лучше без тебя мне мучиться в свете, Нежли с тобою.«Кое-что и теперь вспоминать не спешу…»
Только ненавистью можно избавиться от любви, только огнем и мечом.
Дафна Дюморье Кое-что и теперь вспоминать не спешу — В основном, как легко догадаться, начало. Но со временем, верно, пройдет. Заглушу Это лучшее, как бы оно ни кричало: Отойди. Приближаться опасно ко мне. Это ненависть воет, обиды считая, Это ненависть, ненависть, ненависть, не Что иное: тупая, глухая, слепая. Только ненависть может – права Дюморье — Разобраться с любовью по полной программе: Лишь небритая злоба в нечистом белье, В пустоте, моногамнее всех моногамий, Всех друзей неподкупней, любимых верней, Вся зациклена, собрана в точке прицела, Неотрывно, всецело прикована к ней. Получай, моя радость. Того ли хотела? Дай мне все это выжечь, отправить на слом, Отыскать червоточины, вызнать изъяны, Обнаружить предвестия задним числом, Вспомнить мелочи, что объявлялись незваны И грозили подпортить блаженные дни. Дай блаженные дни заслонить мелочами, Чтоб забыть о блаженстве и помнить одни Бесконечные пытки с чужими ключами, Ожиданьем, разлукой, отменами встреч, Запашком неизменных гостиничных комнат… Я готов и гостиницу эту поджечь, Потому что гостиница лишнее помнит. Дай мне выжить. Не смей приближаться, пока Не подернется пеплом последняя балка, Не уляжется дым. Ни денька, ни звонка, Ни тебя, ни себя – ничего мне не жалко. Через год приходи повидаться со мной. Так глядит на убийцу пустая глазница Или в вымерший, выжженный город чумной Входит путник, уже не боясь заразиться.Элегия
Раньше здесь было кафе «Сосиски». Эта столовка – полуподвал — Чуть ли не первой значится в списке Мест, где с тобою я пировал. Помню поныне лик продавщицы, Грязную стойку… Входишь – бери Черного хлеба, желтой горчицы, Красных сосисок (в порции – три). Рядом, у стойки, старец покорный, Кротко кивавший нам, как родне, Пил неизменный кофе цикорный — С привкусом тряпки, с гущей на дне. Рядом был скверик – тополь, качели, — Летом пустевший после шести. Там мы в обнимку долго сидели: Некуда больше было пойти. Нынче тут лавка импортной снеди: Датское пиво, манговый сок… Чахнет за стойкой первая леди — Пудреный лобик, бритый висок. Все изменилось – только остался Скверик напротив в пестрой тени. Ни продавщицы больше, ни старца. Где они нынче? Бог их храни! Помнишь ли горечь давней надсады? Пылко влюбленных мир не щадит. Больше нигде нам не были рады, Здесь мы имели вечный кредит. …Как остается нищенски мало Утлых прибежищ нашей любви — Чтобы ничто не напоминало, Ибо иначе хоть не живи! Помнить не время, думать не стоит, Память, усохнув, скрутится в жгут… Дом перестроят, скверик разроют, Тополь распилят, бревна сожгут. В этом причина краха империй: Им предрекает скорый конец Не потонувший в блуде Тиберий, А оскорбленный девкой юнец. Если ворвутся, выставив пики, В город солдаты новой орды, — Это Создатель прячет улики, Он заметает наши следы. Только и спросишь, воя в финале Между развалин: Боже, прости, Что мы тебе-то напоминали, Что приказал ты нас развести? Замысел прежний, главный из главных? Неутоленный творческий пыл? Тех ли прекрасных, тех богоравных, Что ты задумал, да не слепил?Ключи
В этой связке ключей половина Мне уже не нужна. Это ключ от квартиры жены, а моя половина Мне уже не жена. Это ключ от моей комнатенки в закрытом изданьи, Потонувшем под бременем неплатежей. Это ключ от дверей мастерской, что ютилась В разрушенном зданьи И служила прибежищем многих мужей. О, как ты улыбался, на сутки друзей запуская В провонявшую краской ее полутьму! Мне теперь ни к чему мастерская, А тебе, эмигранту, совсем ни к чему. Провисанье связующих нитей, сужение круга. Проржавевший замок не под силу ключу. Дальше следует ключ от квартиры предавшего друга: И пора бы вернуть, да звонить не хочу. Эта связка пять лет тяжелела, карман прорывая И призывно звеня, А сегодня лежит на столе, даровым-даровая, Словно знак убывания в мире меня. В этой связке теперь – оправданье бесцветью, безверью, Оскуденью души, – но ее ли вина, Что по капле себя оставляла за каждою дверью И поэтому больше себе не равна? Помнишь лестниц пролеты, «глазков» дружелюбных зеницы На втором, на шестом, на седьмом этаже? О, ключей бы хватило – все двери открыть, все границы, Да не нужно уже. Нас ровняют с асфальтом, с травой, забивают, как сваю, В опустевшую летом, чужую Москву, Где чем больше дверей открываю, тем больше я знаю, И чем больше я знаю, тем меньше живу. Я остался при праве своем безусловном — Наклоняться, шепча, Над строфою с рисунком неровным, Как бородка ключа. Остается квартира, Где прозрачный настой одиноких ночей Да ненужная связка, как образ познания мира, Где все меньше дверей и все больше ключей.«Так давно, так загодя начал с тобой прощаться…»
Так давно, так загодя начал с тобой прощаться, Что теперь мне почти уже и не страшно, Представлял, что сначала забуду это, потом вот это, Понимал, что когда-нибудь все забуду, И останется шрамик, нательный крестик, ноющий нолик, Но уж с ним я как-то справлюсь, расправлюсь. Избегали сказок, личных словечек, ласковых прозвищ, Чтоб не расслабляться перед финалом. С первых дней, не сговариваясь, готовились расставаться, Понимая, что надо действовать в жанре: Есть любовь, от которой бывают дети, Есть любовь, заточенная на разлуку. Все равно что в первый же день, приехав на море, Собирать чемоданы, бросать монетки, Печально фотографироваться на фоне, Повторять на закате: прощай, свободная ты стихия, Больше я тебя не увижу. А когда и увижу, уже ты будешь совсем другая, На меня посмотришь, как бы не помня, Потому что уже поплакали, попрощались, И чего я тут делаю, непонятно. Постоял на пляже, сказал цитатку, швырнул монетку, Даже вместе снялись за пятнадцать гривен, Для того ты и есть: сказать – прощай, стихия, довольно. А зачем еще? Не купаться же, в самом деле. Жить со мной нельзя, я гожусь на то, чтоб со мной прощаться, Жить с тобой нельзя, ты еще честнее, Ты от каждой подмены, чужого слова, неверной ноты Душу отдергиваешь, как руку. Жить с тобой нельзя: умирать хорошо, остальное трудно, Я же сам сказал, твой жанр – расставанье. Жить вообще нельзя, но никто покуда не понял, А если и понял, молчит, не скажет, А если и скажет – живет, боится. И не надо врать, я любил страну проживанья, Но особенно – из окна вагона, Провожая взглядом ее пейзажи и полустанки, Улыбаясь им, пролетая мимо. Потому и поезд так славно вписан в пейзаж российский, Что он едет вдоль, останавливается редко, Остановок хватает ровно, чтобы проститься: Задержись на миг – и уже противно, Словно ты тут прожил не три минуты, а два столетья, Насмотревшись разора, смуты, кровопролитья, Двадцать улиц снесли, пятнадцать переименовали, Ничего при этом не изменилось. Ты совсем другое. Прости мне, что я про это. Ты не скука, не смута и не стихия. Просто каждый мой час с тобою – такая правда, Что день или месяц – уже неправда. Потому я, знаешь ли, и колеблюсь, Допуская что-нибудь там за гробом: Это все такая большая лажа, Что с нее бы сталось быть бесконечной.«Нас разводит с тобой. Не мы ли…»
Нас разводит с тобой. Не мы ли Предсказали этот облом? Пересекшиеся прямые Разбегаются под углом. А когда сходились светила, Начиная нашу игру, — Помнишь, помнишь, как нас сводило Каждый день на любом углу? Было шагу не сделать, чтобы Не столкнуться с тобой в толпе — Возле булочной, возле школы, Возле прачечной и т. п. Мир не ведал таких идиллий! Словно с чьей-то легкой руки По Москве стадами бродили Наши бледные двойники. Вся теория вероятий Ежедневно по десять раз Пасовала тем виноватей, Чем упорней сводили нас. Узнаю знакомую руку, Что воспитанникам своим Вдруг подбрасывает разлуку: Им слабо разойтись самим. Расстоянье неумолимо Возрастает день ото дня. Я звоню тебе то из Крыма, То из Питера, то из Дна, Ветер валит столбы-опоры, Телефонная рвется связь, Дорожают переговоры, Частью замысла становясь. Вот теперь я звоню из Штатов. На столе счетов вороха. Кто-то нас пожалел, упрятав Друг от друга и от греха. Между нами в полночной стыни, Лунным холодом осиян, Всею зябью своей пустыни Усмехается океан. Я выкладываю монеты, И подсчитываю расход, И не знаю, с какой планеты Позвоню тебе через год. Я сижу и гляжу на Спрингфилд На двенадцатом этаже. Я хотел бы отсюда спрыгнуть, Но в известной мере уже.«Когда бороться с собой устал покинутый Гумилев…»
Когда бороться с собой устал покинутый Гумилев, Поехал в Африку он и стал охотиться там на львов. За гордость женщины, чей каблук топтал берега Невы, За холод встреч и позор разлук расплачиваются львы. Воображаю: саванна, зной, песок скрипит на зубах… Поэт, оставленный женой, прицеливается. Бабах. Резкий толчок, мгновенная боль… Пули не пожалев, Он ищет крайнего. Эту роль играет случайный лев. Любовь не девается никуда, а только меняет знак, Делаясь суммой гнева, стыда и мысли, что ты слизняк. Любовь, которой не повезло, ставит мир на попа, Развоплощаясь в слепое зло (так как любовь слепа). Я полагаю, что, нас любя, как пасечник любит пчел, Бог недостаточной для себя нашу взаимность счел — Отсюда войны, битье под дых, склока, резня и дым: Беда лишь в том, что любит одних, а палит по другим. А мне что делать, любовь моя? Ты была такова, Но вблизи моего жилья нет и чучела льва. А поскольку забыть свой стыд я еще не готов, Я, Господь меня да простит, буду стрелять котов. Любовь моя, пожалей котов! Виновны ли в том коты, Что мне, последнему из шутов, необходима ты? И, чтобы миру не нанести слишком большой урон, Я, Создатель меня прости, буду стрелять ворон. Любовь моя, пожалей ворон! Ведь эта птица умна, А что я оплеван со всех сторон, так это не их вина. Но, так как злоба моя сильна и я, как назло, здоров, — Я, да простит мне моя страна, буду стрелять воров. Любовь моя, пожалей воров! Им часто нечего есть, И ночь темна, и закон суров, и крыши поката жесть… Сжалься над миром, с которым я буду квитаться за Липкую муть твоего вранья и за твои глаза! Любовь моя, пожалей котов, сидящих у батарей, Любовь моя, пожалей скотов, воров, детей и зверей, Меня, рыдающего в тоске над их и нашей судьбой, И мир, висящий на волоске, связующем нас с тобой.«Ваше счастье настолько демонстративно…»
Ваше счастье настолько демонстративно, Что почти противно. Ваше счастье настолько нагло, обло, озорно, Так позерно, что это почти позорно. Так ликует нищий, нашедший корку, Или школьник, успешно прошедший порку, Или раб последний, пошедший в горку, Или автор, вошедший бездарностью в поговорку И с трудом пробивший в журнал подборку. Так ликует герцог, шлюху склонивший к браку, Так ликует мальчик, нашедший каку — Подобрал и всем ее в нос сует: – Вот! Вот! А мое-то счастье клевало чуть-чуть, по зернам, Но и то казалось себе позорным, Так что всякий раз, выходя наружу из помещенья, Всем-то видом своим просило прощенья, Изгибалось, кланялось, извинялось, Над собою тщательно измывалось — Лишь бы вас не толкнуть, не задеть, не смутить собою, И тем более не доставалось с бою. Да, душа моя тоже пела, И цвела, и знала уют. Быть счастливым – целое дело. Я умею. Мне не дают.«Все валится у меня из рук. Ранний снег, ноябрь…»
Все валится у меня из рук. Ранний снег, ноябрь холодущий. Жизнь заходит на новый круг, более круглый, чем предыдущий. Небо ниже день ото дня. Житель дна, гражданин трущобы Явно хочет, чтобы меня черт задрал. И впрямь хорошо бы. Это ты, ты, ты думаешь обо мне, щуря глаз, нагоняя порчу, Сотворяя кирпич в стене из борца, которого корчу; Заставляешь дрожать кусты, стекло – дребезжать уныло, А машину – гнить, и все это ты, ты, ты, Ты, что прежде меня хранила. Но и я, я, я думаю о тебе, воздавая вдвое, превысив меру, Нагоняя трещину на губе, грипп, задержку, чуму, холеру, Отнимая веру, что есть края, где запас тепла и защиты Для тебя хранится. И все это я, я, я — Тоже, в общем, не лыком шитый. Сыплем снегом, ревем циклоном, дудим в дуду От Чучмекистана до Индостана, Тратим, тратим, все не потратим то, что в прошлом году Было жизнью и вот чем стало. И когда на невинных вас из промозглой тьмы Прелью, гнилью, могилой веет, — Не валите на осень: все это мы, мы, мы, Больше так никто не умеет.«Хотя за гробом нету ничего…»
Хотя за гробом нету ничего, Мир без меня я видел, и его Представить проще мне, чем мир со мною: Зачем я тут – не знаю и сейчас. А чтобы погрузиться в мир без нас, Довольно встречи с первою женою Или с любой, с кем мы делили кров, На счет лупили дачных комаров, В осенней Ялте лето догоняли, Глотали незаслуженный упрек, Бродили вдоль, валялись поперек И разбежались по диагонали. Все изменилось, вплоть до цвета глаз. Какой-то муж, ничем не хуже нас, И все, что полагается при муже, — Привычка, тапки, тачка, огород, Сначала дочь, потом наоборот, — А если мужа нет, так даже хуже. На той стене теперь висит Мане. Вот этой чашки не было при мне. Из этой вазы я вкушал повидло. Где стол был яств – не гроб, но гардероб. На месте сквера строят небоскреб. Фонтана слез в окрестностях не видно. Да, спору нет, в иные времена Я завопил бы: прежняя жена, Любовница, рубашка, дом с трубою! Как смеешь ты, как не взорвешься ты От ширящейся, жуткой пустоты, Что заполнял я некогда собою! Зато теперь я думаю: и пусть. Лелея ностальгическую грусть, Не рву волос и не впадаю в траур. Вот эта баба с табором семьи И эта жизнь – могли бы быть мои. Не знаю, есть ли Бог, но он не фраер. Любя их не такими, как теперь, Я взял, что мог. Любовь моя, поверь — Я мучаюсь мучением особым: Я помню каждый наш с тобою час. Коль вы без нас – как эта жизнь без нас, То мы без вас – как ваша жизнь за гробом. Во мне ты за троллейбусом бежишь, При месячных от радости визжишь, Швыряешь морю мелкую монету, Читаешь, ноешь, гробишь жизнь мою, — Такой ты, верно, будешь и в раю. Тем более что рая тоже нету.К вопросу о роли детали в русской прозе
Кинозал, в котором вы вместе грызли кедрач И ссыпали к тебе в карман скорлупу орехов. О деталь, какой позавидовал бы и врач, Садовод при пенсне, таганрогский выходец Чехов! Думал выбросить. И велик ли груз – скорлупа! На троллейбусной остановке имелась урна, Но потом позабыл, потому что любовь слепа И беспамятна, выражаясь литературно. Через долгое время, в кармане пятак ища, Неизвестно куда и черт-те зачем заехав, В старой куртке, уже истончившейся до плаща, Ты наткнешься рукою на горстку бывших орехов. Так и будешь стоять, неестественно прям и нем, Отворачиваясь от встречных, глотая слезы… Что ты скажешь тогда, потешавшийся надо всем, В том числе и над ролью детали в структуре прозы?«Душа под счастьем спит, как спит земля под снегом…»
Если шторм меня разбудит —
Я не здесь проснусь.
Я. Полонский Душа под счастьем спит, как спит земля под снегом. Ей снится дождь в Москве или весна в Крыму. Пускает пузыри и предается негам, Не помня ни о чем, глухая ко всему. Душа под счастьем спит. И как под рев метельный Ребенку снится сон про радужный прибой, — Так ей легко сейчас весь этот ад бесцельный Принять за райский сад под твердью голубой. В закушенных губах ей видится улыбка, Повсюду лед и смерть – ей блазнится уют. Гуляют сквозняки и воют в шахте лифта — Ей кажется, что рай и ангелы поют. Пока метался я ночами по квартире, Пока ходил в ярме угрюмого труда, Пока я был один – я больше знал о мире. Несчастному видней. Я больше знал тогда. Я больше знал о тех, что нищи и убоги. Я больше знал о тех, кого нельзя спасти. Я больше знал о зле – и, может быть, о Боге Я тоже больше знал, Господь меня прости. Теперь я все забыл. Измученным и сирым К лицу всезнание, любви же не к лицу. Как снегом скрыт асфальт, так я окутан миром. Мне в холоде его тепло, как мертвецу. …Земля под снегом спит, как спит душа под счастьем. Туманный диск горит негреющим огнем. Кругом белым-бело, и мы друг другу застим Весь свет, не стоящий того, чтоб знать о нем. Блажен, кто все забыл, кто ничего не строит, Не знает, не хранит, не видит наяву. Ни нота, ни строка, ни статуя не стоит Того, чем я живу, – хоть я и не живу. Когда-нибудь потом я вспомню запах ада, Всю эту бестолочь, всю эту гнусь и взвесь, — Когда-нибудь потом я вспомню все, что надо. Потом, когда проснусь. Но я проснусь не здесь.Люди Севера
В преданьях северных племен, живущих в сумерках берложных, Где на поселок пять имен, и то все больше односложных, Где краток день, как «Отче наш», где хрусток наст и воздух жесток, Есть непременный персонаж – обычно девочка-подросток. На фоне сверстниц и подруг она загадочна, как полюс, Гордится белизною рук и чернотой косы по пояс, Кривит высокомерно рот с припухшей нижнею губою, Не любит будничных забот и все любуется собою. И вот она чешет черные косы, вот она холит свои персты, — Покуда вьюга лепит торосы, пока поземка змеит хвосты, — И вот она щурит черное око – телом упруга, станом пряма, — А мать пеняет ей: «Лежебока!» и скорбно делает все сама. Но тут сюжет ломает ход, ломаясь в целях воспитанья, И для красотки настает черед крутого испытанья. Иль проклянет ее шаман, давно косившийся угрюмо На дерзкий вид и стройный стан («Чума на оба ваши чума!»), Иль выгонят отец и мать (зима на севере сурова), И дочь останется стонать без пропитания и крова, Иль вьюга разметет очаг и вышвырнет ее в ненастье — За эту искорку в очах, за эти косы и запястья, — Перевернет ее каяк, заставит плакать и бояться, Зане природа в тех краях не поощряет тунеядца. И вот она принимает муки, и вот рыдает дни напролет, И вот она ранит белые руки о жгучий снег и о вечный лед, И вот осваивает в испуге добычу ворвани и мехов, И отдает свои косы вьюге во искупленье своих грехов, Поскольку много ли чукче прока в белой руке и черной косе, И трудится, не поднимая ока, и начинает пахнуть, как все. И торжествуют наконец законы равенства и рода, И умиляется отец, и усмиряется погода, И воцаряется уют, и в круг свивается прямая, И люди севера поют, упрямых губ не разжимая, — Она ж сидит себе в углу, как обретенная икона, И колет пальцы об иглу, для подтверждения закона. И только я до сих пор рыдаю среди ликования и родства, Хотя давно уже соблюдаю все их привычки и торжества, — О дивном даре блаженной лени, что побеждает тоску и страх, О нежеланье пасти оленей, об этих косах и о перстах! Нас обточили беспощадно, процедили в решето — Ну я-то что, ну я-то ладно, но ты, родная моя, за что?! О где вы, где вы, мои косы, где вы, где вы, мои персты? Кругом гниющие отбросы и разрушенные мосты, И жизнь свивается, заканчиваясь, и зарева встают, И люди севера, раскачиваясь, поют, поют, поют.Письмо
Вот письмо, лежащее на столе. Заоконный вечер, уютный свет, И в земной коре, по любой шкале, Никаких пока возмущений нет. Не уловит зла ни один эксперт: Потолок надежен, порядок тверд — Разве что надорванный вкось конверт Выдает невидимый дискомфорт. Но уже кренится земная ось, Наклонился пол, дребезжит стекло — Все уже поехало, понеслось, Перестало слушаться, потекло, Но уже сменился порядок строк, Захромал размер, загудел циклон, Словно нежный почерк, по-детски строг, Сообщает зданию свой наклон. Из морей выхлестывает вода, Обнажая трещины котловин, Впереди великие холода, Перемена климата, сход лавин, Обещанья, клятвы трещат по швам, Ураган распада сбивает с ног, — Так кровит, расходится старый шрам, Что, казалось, зажил на вечный срок. И уже намечен развал семей, Изменились линии на руке, Зашаталась мебель, задул Борей, Зазмеились трещины в потолке — Этот шквал, казалось, давно утих, Но теперь гуляет, как жизнь назад, И в такой пустыне оставит их, Что в сравненье с нею Сахара – сад. Вот где им теперь пребывать вовек — Где кругом обломки чужой судьбы, Где растут деревья корнями вверх И лежат поваленные столбы. Но уже, махнувши на все рукой, Неотрывно смотрят они туда, Где циклон стегает песок рекой И мотает на руку провода, Где любое слово обречено Расшатать кирпич и согнуть металл, Где уже не сделаешь ничего, Потому что он уже прочитал.«Ты вернешься после пяти недель…»
Ты вернешься после пяти недель Приключений в чужом краю В цитадель отчизны, в ее скудель, В неподвижную жизнь мою. Разобравшись в записях и дарах И обняв меня в полусне, О каких морях, о каких горах Ты наутро расскажешь мне! Но на все, чем дразнит кофейный Юг И конфетный блазнит Восток, Я смотрю без радости, милый друг, И без зависти, видит Бог. И пока дождливый, скупой рассвет Проливается на дома, Только то и смогу рассказать в ответ, Как сходил по тебе с ума. Не боясь окрестных торжеств и смут, Но не в силах на них смотреть, Ничего я больше не делал тут И, должно быть, не буду впредь. Я вернусь однажды к тебе, Господь, Демиург, Неизвестно Кто, И войду, усталую скинув плоть, Как сдают в гардероб пальто. И на все расспросы о грузе лет, Что вместила моя сума, Только то и смогу рассказать в ответ, Как сходил по тебе с ума. Я смотрю без зависти – видишь сам — На того, кто придет потом. Ничего я больше не делал там И не склонен жалеть о том. И за эту муку, за этот страх, За рубцы на моей спине — О каких морях, о каких горах Ты наутро расскажешь мне!Вариации-3
1. «Говоря в упор, мне уже пора закрывать сезон…»
Говоря в упор, мне уже пора закрывать сезон. Запереть на ключ, завязать на бантик, Хлопнуть дверью, топнуть, терпеньем лопнуть и выйти вон, Как давно бы сделал поэт-романтик. Но пройдя сквозь век роковых смещений, подземных нор, Костяной тоски и кровавой скуки, Я вобрал в себя всех рабов терпенье, всех войск напор, И со мной не проходят такие штуки. Я отвык бояться палящих в грудь и носящих плеть Молодцов погромных в проулках темных. Я умею ждать, вымогать, грозить, подкупать, терпеть, Я могу часами сидеть в приемных, Я хитрец, я пуганый ясный финист, спутник-шпион, Хладнокожий гад из породы змеев, Бесконечно длинный, ползуче-гибкий гиперпеон, Что открыл в тюрьме Даниил Андреев. О, как ты хотел, чтобы я был прежний, как испокон, — Ратоборец, рыцарь, первопроходец! Сам готов на все, не беря в закон никакой закон, — О, как ты хотел навязать мне кодекс! Но теперь не то. Я и сам не знаю, какой ценой, Об одном забывши, в другом изверясь, — Перенял твое, передумал двигаться по прямой: Я ползу кругами. Мой путь извилист. Слишком дорог груз, чтоб швыряться жизнью, такой, сякой, Чтобы верить лучшим, «Умри!» кричащим. Оттого, где прежде твердел кристалл под твоей рукой, — Нынче я – вода, что течет кратчайшим. Я вода, вода. Я меняю форму, но суть – отнюдь, Берегу себя, подбираю крохи, — Я текуч, как ртуть, но живуч, как Русь, и упрям, как Жмудь: Непростой продукт не своей эпохи. Я Орфей – две тыщи, пятно, бельмо на любом глазу, Я клеймен презрением и позором, Я прорвусь, пробьюсь, пережду в укрытии, проползу, Прогрызу зубами, возьму измором, Я хранитель тайны, но сам не тайна: предлог, предзвук, Подземельный голос, звучащий глухо, Неусыпный сторож, змея-убийца, Седой Клобук У сокровищниц мирового духа.2. «Степей свалявшаяся шкура…»
Степей свалявшаяся шкура, Пейзаж нечесаного пса. Выходишь ради перекура, Пока автобус полчаса Стоит в каком-нибудь Безводске, И смотришь, как висят вдали Крутые облачные клецки, Недвижные, как у Дали, Да клочья травки по курганам За жизнь воюют со средой Меж раскаленным Джезказганом И выжженной Карагандой. Вот так и жить, как эта щетка — Сухая, жесткая трава, Колючей проволоки тетка. Она жива и тем права. Мне этот пафос выживанья, Приспособленья и труда — Как безвоздушные названья: Темрюк, Кенгир, Караганда. Где выжиданьем, где напором, Где – замиреньями с врагом, Но выжить в климате, в котором Все манит сдохнуть; где кругом — Сайгаки, юрты, каракурты, Чуреки, чуньки, чубуки, Солончаки, чингиз-манкурты, Бондарчуки, корнейчуки, Покрышки, мусорные кучи, Избыток слов на че– и чу-, Все добродетели ползучи И все не так, как я хочу. И жизнь свелась к одноколейке И пересохла, как Арал, Как если б кто-то по копейке Твои надежды отбирал И сокращал словарь по слогу, Зудя назойливо в мозгу: – А этак можешь? – Слава Богу… – А если так? – И так могу… – И вот ты жив, жестоковыйный, Прошедший сечу и полон, Огрызок Божий, брат ковыльный, Истоптан, выжжен, пропылен, Сухой остаток, кость баранья, Что тащит через толщу лет Один инстинкт неумиранья! И что б тебе вернуть билет, Когда пожизненная пытка — Равнина, пустошь, суховей — Еще не тронула избытка Блаженной влажности твоей? Изгнанники небесных родин, Заложники чужой вины! Любой наш выбор несвободен, А значит, все пути равны, И уж не знаю, как в Коране, А на Исусовом суде Равно – что выжить в Джезказгане, Что умереть в Караганде.Дневное размышление о божием величестве
Тимуру Ваулину
Виноград растет на крутой горе, непохожей на Арарат. Над приморским городом в сентябре виноград растет, виноград. Кисло-сладкий вкус холодит язык – земляники и меда смесь. Под горой слепит золотая зыбь, и в глазах золотая резь. Виноград растет на горе крутой. Он опутывает стволы, Заплетаясь усиком-запятой в буйный синтаксис мушмулы, Оплетая колкую речь куста, он клубится, витиеват. На разломе глинистого пласта виноград растет, виноград. По сыпучим склонам дома ползут, выгрызая слоистый туф, Под крутой горой, что они грызут, пароходик идет в Гурзуф, А другой, навстречу, идет в Мисхор, легкой музыкой голося, А за ними – только пустой простор, обещанье всего и вся. Перебор во всем: в синеве, в жаре, в хищной цепкости лоз-лиан, Без какой расти на крутой горе мог бы только сухой бурьян, В обнаженной, выжженной рыжине на обрывах окрестных гор: Недобор любезен другим, а мне – перебор во всем, перебор. Этих синих ягод упруга плоть. Эта цепкая жизнь крепка. Молодая лиственная щепоть словно сложена для щипка. Здесь кусты упрямы, стволы кривы. Обтекая столбы оград, На склерозной глине, камнях, крови — виноград растет, виноград! Я глотал твой мед, я вдыхал твой яд, я вкушал от твоих щедрот, Твой зыбучий блеск наполнял мой взгляд, виноград освежал мне рот, Я бывал в Париже, я жил в Крыму, я гулял на твоем пиру — И в каком-то смысле тебя пойму, если все-таки весь умру.«Среди пустого луга…»
Среди пустого луга, В медовой дымке дня Лежит моя подруга, Свернувшись близ меня. Цветет кипрей, шиповник, Медвяный травостой, И я, ее любовник, Уснул в траве густой. Она глядит куда-то Поверх густой травы, Поверх моей косматой Уснувшей головы — И думает, какая Из центробежных сил Размечет нас, ломая Остатки наших крыл. Пока я сплю блаженно, Она глядит туда, Где адская геенна И черная вода, Раскинутые руки, Объятье на крыльце, И долгие разлуки, И вечная – в конце. Пока ее геенной Пугает душный зной — Мне снится сон военный, Игрушечный, сквозной. Но сны мои не вещи, В них предсказаний нет. Мне снятся только вещи, И запахи, и цвет. Мне снится не разлука, Чужая сторона, А заросли, излука И, может быть, она. И этот малахитный Ковер под головой — С уходом в цвет защитный, Военно-полевой. Мне снятся автоматы, Подсумки, сапоги, Какие-то квадраты, Какие-то круги.Стихи о принцессе и свинопасе
Над пейзажем с почти прадедовской акварели — Летний вечер, фонтан, лужайка перед дворцом, На которой крестьяне, дамы и кавалеры Поздравляют героев с венцом и делу концом, Над счастливым финалом, который всегда в запасе У Творца в его поэтической ипостаси (Единение душ, замок отдался ключу), — Над историей о принцессе и свинопасе Опускается занавес раньше, чем я хочу. Поначалу принцессе нравится дух навоза, И привычка вставать с ранья, и штопка рванья — Так поэту приятна кондовая, злая проза И чужая жизнь, пока она не своя. Но непрочно, увы, обаянье свиного духа И стремленье интеллигента припасть к земле: После крем-брюле донельзя хороша краюха, Но с последней отчетливо тянет на крем-брюле. А заявятся гости, напьются со свинопасом — Особливо мясник, закадычнее друга нет, — Как нажрется муж-свинопас да завоет басом: «Показать вам, как управляться с правящим классом? Эй, принцесса! Валяй минет… пардон… менуэт! Потому я народ! У народа свои порядки! Никаких, понимаешь, горошин. А ну вперед!» Он заснет, а она втихаря соберет манатки И вернется к принцу, и принц ее подберет. Или нет. Свинопас научится мыться, бриться, Торговать свининой, откладывать про запас — Свинопасу, в общем, не так далеко до принца, В родословной у каждого принца есть свинопас… Обрастет брюшком, перестанет считать доходы — Только изредка, вспоминая былые годы, Станет свинкой звать, а со зла отбирать ключи И ворчать, что народу и бабам вредны свободы. Принц наймется к нему приказчиком за харчи. Есть и третий путь, наиболее достоверный: Ведь не все ж плясать, не все голоском звенеть. Постепенно свыкаясь с навозом, хлевом, таверной, Свинопасом, стадом, – принцесса начнет свинеть. Муж разлегся на солнцепеке, принцессу чешет — Или щиплет, когда заявится во хмелю, — Та начнет обижаться, хрюкать, а он утешит: «Успокойся, милая, я ведь тебя люблю!» Хорошо мне бродить с тобою по кромке леса. Середины нет, а от крайностей Бог упас. Хорошо, что ты, несравненная, не принцесса, Да и я, твой тоже хороший, не свинопас. Вечно рыцарь уводит подругу у дровосека, Или барин сведет батрачку у батрака, И уж только когда калеку любит калека — Это смахивает на любовь, да и то слегка.«Всякий раз, как пойдет поворот к весне…»
Всякий раз, как пойдет поворот к весне От зимы постылой, Кто-то милый думает обо мне Со страшной силой. Чей-то взгляд повсюду за мной следит, Припекая щеку. Сигарета чувствует – и чудит, Обгорая сбоку. Кто-то следом спустится в переход, В толпе окликнет, Или детским именем назовет, Потом хихикнет, Тенью ветки ляжет на потолок, Чирикнет птичкой, То подбросит двушку, то коробок С последней спичкой — За моим томленьем и суетой Следит украдкой: Словно вдруг отыщется золотой, Но за подкладкой. То ли ты, не встреченная пока В земной юдоли, Опекаешь, значит, издалека, Чтоб дожил, что ли, — То ли впрямь за мной наблюдает Бог Своим взором ясным: То подбросит двушку, то коробок, То хлеба с маслом, Ибо даже самый дурной поэт, В общем и целом, Подтверждает вечный приоритет Души над телом.Вариации-4
Как всякий большой поэт, тему отношений с Богом он разворачивает как тему отношений с женщиной.
А. Эткинд1. Сказка
В общем, представим домашнюю кошку, выгнанную на мороз. Кошка надеялась, что понарошку, но оказалось — всерьез. Повод неважен: растущие дети, увеличенье семьи… Знаешь, под каждою крышей на свете лишние кошки свои. Кошка изводится, не понимая, что за чужие места: Каждая третья соседка – хромая, некоторые — без хвоста… В этом она разберется позднее. Ну, а пока, в январе, В первый же день она станет грязнее всех, кто живет во дворе. Коль новичок не прошел испытанья — не отскребется потом, Коль не сумеет добыть пропитанья – станет бесплатным шутом, Коль не усвоил условные знаки – станет изгоем вдвойне, Так что, когда ее травят собаки, кошки на их стороне. В первый же день она скажет дворовым, вспрыгнув на мусорный бак, Заглушена гомерическим ревом местных котов и собак, Что, ожиданием долгим измаян – где она бродит? Пора! — К ночи за нею вернется хозяин и заберет со двора. Мы, мол, не ровня! За вами-то сроду вниз не сойдет человек! Вам-то помойную вашу свободу мыкать в парадной вовек! Вам-то навеки – полы, батареи, свалка, гараж, пустыри… Ты, что оставил меня! Поскорее снова меня забери! Вот, если вкратце, попытка ответа. Спросишь, платок теребя: «Как ты живешь без меня, вообще-то?» Так и живу без тебя — Кошкой, обученной новым порядкам в холоде всех пустырей, Битой, напуганной, в пыльном парадном жмущейся у батарей. Вечер. Детей выкликают на ужин матери наперебой. Видно, теперь я и Богу не нужен, если оставлен тобой, Так что, когда затихает окраина в смутном своем полусне, Сам не отвечу, какого хозяина жду, чтоб вернулся ко мне. Ты ль научил меня тьме бесполезных, редких и странных вещей, Бросив скитаться в провалах и безднах нынешней жизни моей? Здесь, где чужие привычки и правила, здесь, где чужая возня, — О, для чего ты оставил (оставила) в этом позоре меня?! Ночью все кошки особенно сиры. Выбиты все фонари. Он, что когда-то изгнал из квартиры праотцев на пустыри, Где искривились печалью земною наши иссохшие рты, Все же скорее вернется за мною, нежели, милая, ты.1994
2. Указательное
Сейчас, при виде этой, дикорастущей, И этой садовой, в складках полутеней, И всех, создающих видимость райской кущи, И всех-всех-всех, скрывающихся за ней, — Я думаю, ты можешь уже оставить Свои, так сказать, ужимки и прыжки И мне наконец спокойно предоставить Не о тебе писать мои стишки. Теперь, когда в тоннеле не больше света, Чем духа искусства в цирке шапито, Когда со мной успело случиться это, И то, и из-за тебя персонально – то, И я растратился в ругани, слишком слышной — В надежде на взгляд, на отзвук, хоть на месть, — Я знаю, что даже игры кошки с мышкой Меня бы устроили больше, чем то, что есть. Несчастная любовь глядится раем Из бездны, что теперь меня влечет. Не любит – эка штука! Плавали, знаем. Но ты вообще не берешь меня в расчет. И ладно бы! Не я один на свете Молил, ругался, плакал на крыльце, — Но эти все ловушки, приманки эти! Чтоб все равно убить меня в конце! Дослушай, нечего тут. И скажешь прочим, Столь щедрым на закаты и цветы, Что это всех касается. А впрочем, Вы можете быть свободны – ты и ты, Но это все. Какого адресата Я упустил из ложного стыда? А, вон стоит, усата и полосата, — Отчизна-мать; давай ее сюда! Я знаю сам: особая услада — Затеять карнавал вокруг одра. Но есть предел. Вот этого – не надо, Сожри меня без этого добра. Все, все, что хочешь: язва, война, комета, Пожизненный бардак, барак чумной, — Но дай мне не любить тебя за это — И делай, что захочется, со мной.«Сирень проклятая, черемуха чумная…»
Сирень проклятая, черемуха чумная, Щепоть каштанная, рассада на окне, Шин шелест, лепет уст, гроза в начале мая Опять меня дурят, прицел сбивая мне, Надеясь превратить привычного к безлюдью, Бесцветью, холоду, отмене всех щедрот — В того же, прежнего, с распахнутою грудью, Хватающего ртом, зависящего от, Хотящего всего, на что хватает глаза, Идущего домой от девки поутру; Из неучастника, из рыцаря отказа Пытаясь сотворить вступившего в игру. Вся эта шушера с утра до полшестого — Прикрытья, ширмочки, соцветья, сватовство — Пытает на разрыв меня, полуживого, И там не нужного, и здесь не своего.«Меж тем июнь, и запах лип и гари…»
…Меж тем июнь, и запах лип и гари Доносится с бульвара на балкон К стремительно сближающейся паре; Небесный свод расплавился белком Вокруг желтка палящего светила; Застольный гул; хватило первых фраз, А дальше всей квартиры не хватило. Ушли курить и курят третий час. Предчувствие любви об эту пору Томит еще мучительней, пока По взору, разговору, спору, вздору В соседе прозреваешь двойника. Так дачный дом полгода заколочен, Но ставни рвут – и Господи прости, Какая боль скрипучая! А впрочем, Все больно на пороге тридцати, Когда и запах лип, и черный битум, И летнего бульвара звукоряд Окутаны туманцем ядовитым: Москва, жара, торфяники горят. Меж тем и ночь. Пускай нам хватит такта (А остальным собравшимся – вина) Не замечать того простого факта, Что он женат и замужем она: Пусть даже нет. Спроси себя, легко ли Сдирать с души такую кожуру, Попав из пустоты в такое поле Чужого притяжения? Жару Сменяет холодок, и наша пара, Обнявшись и мечтательно куря, Глядит туда, где на углу бульвара Листва сияет в свете фонаря. Дадим им шанс? Дадим. Пускай на муку — Надежда до сих пор у нас в крови. Оставь меня, пусти, пусти мне руку, Пусти мне душу, душу не трави, — Я знаю все. И этаким всезнайкой, Цедя чаёк, слежу из-за стола, Как наш герой прощается с хозяйкой (Жалеющей уже, что позвала) — И после затянувшейся беседы Выходит в ночь, в московские сады, С неясным ощущением победы И яcным ощущением беды.«Тоталитарное лето! Полурасплавленный глаз…»
Тоталитарное лето! Полурасплавленный глаз Сливочно-желтого цвета, прямо уставленный в нас. Господи, как припекает этот любовный догляд, Как с высоты опекает наш малокровный разлад! Крайности без середины. Черные пятна теней. Скатерть из белой холстины и георгины на ней. Все на ножах, на контрастах. Время опасных измен — И дурновкусных, и страстных, пахнущих пудрой «Кармен». О классицизм санаторный, ложноклассический сад, Правильный рай рукотворный лестниц, беседок, дриад, Гипсовый рог изобильный, пыльный, где монстр бахчевой Льнет к виноградине стильной с голову величиной. Фото с приветом из Сочи (в горный пейзаж при луне Вдет мускулистый рабочий, здесь органичный вполне). Все симметрично и ярко. Красок и воздуха пир. Лето! Просторная арка в здании стиля вампир, В здании, где обитают только герои труда — Вскорости их похватают и уведут в никуда, Тем и закончится это гордое с миром родство, Краткое – так ведь и лето длится всего ничего. Но и беспечность какая! Только под взглядом отца! В парках воздушного рая, в мраморных недрах дворца, В радостных пятнах пилоток, в пышном цветенье садов, В гулкой прохладе высоток пятидесятых годов, В парках, открытых эстрадах (лекции, танцы, кино), В фильме, которого на дух не переносишь давно. Белые юноши с горном, рослые девы с веслом! В схватке с любым непокорным жизнь побеждает числом. Патерналистское лето! Свежий, просторный Эдем! Строгая сладость запрета! Место под солнцем, под тем Всех припекающим взглядом, что обливает чистюль Жарким своим шоколадом фабрики «Красный Июль»! Неотменимого зноя неощутимая боль. Кто ты? Тебя я не знаю. Ты меня знаешь? Яволь. Хочешь – издам для примера, ежели ноту возьму, Радостный клич пионера: здравствуй, готов ко всему! Коитус лени и стали, ласковый мой мезозой! Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой. Сменою беглому маю что-то клубится вдали. Все, узнаю, принимаю, истосковался. Пали.«О какая страшная, черная, грозовая…»
О какая страшная, черная, грозовая Расползается, уподобленная блину, Надвигается, буро-желтую разевая, Поглотив закат, растянувшись во всю длину. О как стихло все, как дрожит, как лицо корежит, И какой ледяной кирпич внутри живота! Вот теперь-то мы и увидим, кто чего может И чего кто стоит, и кто из нас вшивота. Наконец-то мы все узнаем, и мир поделен — Не на тех, кто лев или прав, не на нет и да, Но на тех, кто спасется в тени своих богаделен, И на тех, кто уже не денется никуда. Шелестит порывами. Тень ползет по газонам. Гром куражится, как захватчик, входя в село. Пахнет пылью, бензином, кровью, дерьмом, озоном, Все равно – озоном, озоном сильней всего.«Ты сделал меня летописцем распада…»
А. Житинскому
Ты сделал меня летописцем распада, В такую эпоху меня запустив. Пустынных осенних садов анфилада Мне нравится больше других перспектив. Мне нравится все, что идет не к расцвету, А к гибели; все, что накроет волна. И мне – второсортному, в общем, поэту — Ты создал условия эти сполна: Прохладная гулкость пустых помещений, И лес на закате, и легкий бардак, А также отсутствие всех обольщений И всех принуждений вести себя так, Как надо. Не то чтобы время упадка Меня соблазняло как выгодный фон, На коем моя деловая повадка Вольготно цветет, не встречая препон, — Мне попросту внятно отсутствие вкуса В титанах, которые рубят сплеча, В угрюмых эпохах цемента и бруса, Надсада, гудка, молотка, кирпича. Мне по сердцу кроткая тишь увяданья, Пустые селенья, руины в плюще, И отдохновенье, и похолоданье, И необязательность, и вообще. Потом это все опадает лавиной, Являются беженцы, гунны, войска, И вой человечий, и рев буйволиный, — Но эта эстетика мне не близка. Зато мне достались дождливые скверы, Упадок словесности, пляска теней, И этот нехитрый состав атмосферы, В которой изгоям дышалось вольней. Опавшие листья скребутся к порогу. Над миром стоит Мировая Фигня. И плачу, и страшно, и сладко, ей-богу, Мне думать, что все это ради меня.Конец сезона
1. «До трех утра в кафе «Чинара»…»
До трех утра в кафе «Чинара» Торгуют пловом и ухой, И тьму Приморского бульвара Листок корябает сухой. И шелест лиственный и пенный, Есть первый знак и главный звук Неумолимой перемены, Всю ночь вершащейся вокруг. Где берег противоположный Лежит цепочкой огневой, Всю ночь горит маяк тревожный, Вертя циклопьей головой. Где с нефтяною гладью моря Беззвездный слился антрацит — Бессоннице всеобщей вторя, Мерцает что-то и блестит. На рейде, где морская вакса Кишит кефалью, говорят, Вот-вот готовые сорваться, Стоят «Титаник» и «Варяг». Им так не терпится, как будто Наш берег с мысом-близнецом Сомкнутся накрепко, и бухта Предстанет замкнутым кольцом.2. «Любовники в конце сезона…»
Любовники в конце сезона, Кому тоска стесняет грудь, Кому в грядущем нет резона Рассчитывать на что-нибудь, Меж побережьем и вокзалом В последний двинулись парад, И с лихорадочным накалом Над ними лампочки горят. В саду, где памятник десанту, — Шаги, движенье, голоса, Как если б город оккупанту Сдавался через три часа. С какой звериной, жадной прытью Терзают плоть, хватают снедь! Там все торопится к закрытью, И все боятся не успеть. Листва платана, клена, ивы Метется в прахе и пыли — Как будто ночью жгли архивы, Но с перепугу недожгли. Волна шипит усталым змеем, Луна восходит фонарем. Иди ко мне, мы все успеем, А после этого умрем.3. «По вечерам приморские невесты…»
По вечерам приморские невесты Выходят на высокие балконы. Их плавные, замедленные жесты, Их томных шей ленивые наклоны — Все выдает томление, в котором Пресыщенность и ожиданье чуда: Проедет гость-усач, окинет взором, Взревет мотором, заберет отсюда. Они сидят в резной тени акаций, Заполнив поздний час беседой вялой, Среди почти испанских декораций (За исключеньем семечек, пожалуй). Их волосы распущены. Их руки Опущены. Их дымчатые взгляды Полны надежды, жадности и скуки. Шныряют кошки, и поют цикады. Я не пойму, как можно жить у моря — И рваться прочь. Как будто лучше где-то. Нет, только здесь и сбрасывал ярмо я, Где так тягуче медленное лето. Кто счастлив? – тот, кто, бросив чемоданы И мысленно послав хозяйку к черту, Сквозь тени, розы, лозы и лианы Идет по двухэтажному курорту! Когда бы от моей творящей воли Зависел мир – он был бы весь из пауз. Хотел бы я любви такой Ассоли, Но нужен ей, увы, не принц, а парус. Ей так безумно хочется отсюда, Как мне – сюда. Не в этом ли основа Курортного стремительного блуда — Короткого, томительного, злого? А местные Хуаны де Маранья Слоняются от почты до аптеки. У них свое заветное желанье: Чтоб всяк заезжий гость исчез навеки! Их песни – вопли гордости и боли, В их головах – томление и хаос, Им так желанны местные Ассоли, Как мне – приморье, как Ассоли – парус! Но их удел – лишь томный взгляд с балкона, Презрительный, как хлещущее «never», И вся надежда, что в конце сезона Приезжие потянутся на север. О, душный вечер в городе приморском, Где столкновенье страсти и отказа, Где музыка, где властвует над мозгом Из песенки прилипчивая фраза, Где сладок виноград, и ветер солон, И вся гора – в коробочках строений, И самый воздух страстен, ибо полон Взаимоисключающих стремлений.4. «Приморский город пустеет к осени…»
Приморский город пустеет к осени — Пляж обезлюдел, базар остыл, — И чайки машут над ним раскосыми Крыльями цвета грязных ветрил. В конце сезона, как день, короткого, Над бездной, все еще голубой, Он прекращает жить для курортника И остается с самим собой. Себе рисует художник, только что Клиентов приманивавший с трудом, И, не спросясь, берет у лоточника Две папиросы и сок со льдом. Прокатчик лодок с торговцем сливами Ведут беседу по фразе в час И выглядят ежели не счастливыми, То более мудрыми, чем при нас. В кафе последние завсегдатаи Играют в нарды до темноты, И кипарисы продолговатые Стоят, как сложенные зонты. Над этой жизнью, простой и набожной, Еще не выветрился пока Запах всякой курортной набережной — Гнили, йода и шашлыка. Застыло время, повисла пауза, Ушли заезжие чужаки, И море трется о ржавь пакгауза И лижет серые лежаки. А в небе борются синий с розовым, Две алчные армии, бас и альт, Сапфир с рубином, пустыня с озером, Набоков и Оскар Уайльд. Приморский город пустеет к осени. Мир застывает на верхнем до. Ни жизнь, ни то, что бывает после, Ни даже то, что бывает до, Но милость времени, замирание, Тот выдох века, провал, просвет, Что нам с тобой намекнул заранее: Все проходит, а смерти нет.Новая одиссея
Пока Астреев сын Борей мотал меня среди зыбей, Прислуга делалась грубей, жена седела. Пока носился я по морю под названьем Эге-гей, — Итака тоже сложа руки не сидела. Богов безжалостных коря, мы обрывали якоря, В сознанье путались моря, заря рдела, Дичают земли без царей, и, помолясь у алтарей, Она отправилась ко мне, а я к ней. Теперь мужайся и терпи, мой край, сорвавшийся с цепи, Мой остров каменный и малогабаритный. Циклоп грозил тебе вдогон, швырял обломки лестригон, Проплыл ты чудом между Сциллой и Харибдой, Мой лук согнули чужаки, мой луг скосили мужики, Служанки предали, и сын забыл вид мой, Потом, накушавшись мурен, решил поднять страну с колен, Потом, наслушавшись сирен, попал в плен. Когда окончится война, нельзя вернуться ни хрена. Жена и дочка вместо книг читают карту, И мать взамен веретена берет штурвал, удивлена. Не знаю, как там Менелай попал на Спарту, Не знаю, как насчет Микен, – ведь мы не видимся ни с кем, — Но мир, избавившись от схем, готов к старту. Под Троей сбились времена: стационарная страна И даже верная жена идет на. И вот нас носит по волне, то я к тебе, то ты ко мне, Невольник дембеля и труженица тыла, Твердела твердь, смердела смерть, не прекращалась круговерть, А нас по-прежнему друг к другу не прибило. Вот дым над отчею трубой, и море выглядит с тобой Обрывком ткани голубой с куском мыла, — И проплутавши десять лет, ты вовсе смылишься на нет, А там и след сотрется твой, и мой след. В погожий полдень иногда, когда спокойная вода Нам не препятствует сближаться вдвое-втрое, Я вижу домик и стада, мне очень хочется туда, Но что мне делать, господа, при новом строе? Седой, не нужный никому, в неузнаваемом дому Я б позавидовал тому, кто пал в Трое. И нас разносит, как во сне, чтоб растворить в голубизне. Кричу: ты помнишь обо мне? Кричит: да.Постэсхатологическое
Владимиру Вагнеру
Наше свято место отныне пусто. Чуть стоят столбы, висят провода. С быстротой змеи при виде мангуста, кто могли, разъехались кто куда. По ночам на небе видна комета — на восточном крае, в самом низу. И стоит такое тихое лето, что расслышишь каждую стрекозу. Я живу один в деревянном доме. Я держу корову, кота, коня. Обо мне уже все позабыли, кроме тех, кто никогда не помнил меня. Что осталось в лавках, беру бесплатно. Сею рожь и просо, давлю вино. Я живу, и время течет обратно, потому что стоять ему не дано. Я уже не дивлюсь никакому диву. На мою судьбу снизошел покой. Иногда листаю желтую «Ниву», и страницы ломаются под рукой. Приблудилась дурочка из деревни: забредет, поест, споет на крыльце — Все обрывки песенки, странной, древней, o милом дружке да строгом отце. Вдалеке заходят низкие тучи, повисят в жаре, пройдут стороной. Вечерами туман, и висит беззвучье над полями и над рекой парной. В полдень даль размыта волнами зноя, лес молчит, травинкой не шелохнет, И пространство его резное, сквозное на поляне светло, как липовый мед. Иногда заедет отец Паисий, что живет при церковке, за версту, — Невысокий, круглый, с усмешкой лисьей, по привычке играющий в простоту. Сам себе попеняет за страсть к винишку, опрокинет рюмочку – «Лепота!» — Посидит на веранде, попросит книжку, подведет часы, почешет кота. Иногда почтальон постучит в калитку — все, что скажет, ведаю наперед. Из потертой сумки вынет открытку — непонятно, откуда он их берет. Все не мне, неизвестным; еры да яти; то пейзаж зимы, то портрет царя, К Рождеству, дню ангела, дню Печати, с Валентиновым днем, с Седьмым ноября. Иногда на тропе, что давно забыта и, не будь меня, уже заросла б, Вижу след то ли лапы, то ли копыта, а вглядеться – так, может, и птичьих лап, И к опушке, к темной воде болота, задевая листву, раздвинув траву, По ночам из леса выходит кто-то и недвижно смотрит, как я живу.«Тело знает больше, чем душа…»
Бедная пани Катерина! Она многого не знает из того, что знает душа ее.
«Страшная месть» Тело знает больше, чем душа. Впрочем, так душе и следует: Вяло каясь, нехотя греша, Лишь саму себя и ведает. Неженка, гуляка, враг труда, Беженка, мечтательница, странница — Улетит неведомо куда, А оно останется. И тогда, уставшее нести Груз души, тряпья и бижутерии, Двинется по темному пути Превращения материи. Лишь оно постигнет наконец Жуть распада, счастье растворения — Кухню, подоплеку, что творец Укрывает от творения. Так оно узнает, чем жило, — Правду глины, вязкую и точную, Как философ, высланный в село Для сближенья с отчей почвою. Спустится в сплетения корней, В жирный дерн кладбищенский и парковый, Все безвидней, глуше и темней, Как по лестнице ламарковой, И поскольку почве все равно, Как ни режь ее, ни рушь ее, — Не душа узнает, а оно Муку всякой вещи, мрак бездушия, Но зато и бешеный напор, Жажду роста, жар брожения, — Словно, оскорбившись с давних пор, Мстит живущим за пренебрежение. И взойдет, прорежется травой, Наполняя лист ее расправленный Радостью тупой, слепой, живой И ничем отныне не отравленной. Лужи, слизни, голыши, Грязь, суглинок, травка без названия Лучше, чем бессмертие души — Скучный ад самосознания.Сумерки империи
Назавтра мы идем в кино —
Кажется, на Фосса. И перед сеансом
В фойе пустынно и темно.
И. Богушевская Мы застали сумерки империи, Дряхлость, осыпанье стиля вамп. Вот откуда наше недоверие К мертвенности слишком ярких ламп, К честности, способной душу вытрясти, К ясности открытого лица, Незашторенности, неприкрытости, Договоренности до конца. Ненавидя подниматься затемно, В душный класс по холоду скользя, То любил я, что необязательно, А не то, что можно и нельзя: Легкий хмель, курение под лестницей, Фонарей качание в окне, Кинозалы, где с моей ровесницей Я сидел почти наедине. Я любил тогда театры-студии С их пристрастьем к шпагам и плащам, С ощущеньем подступа, прелюдии К будущим неслыханным вещам; Все тогда гляделось предварением, Сдваивалось, пряталось, вилось, Предосенним умиротворением Старческим пронизано насквозь. Я люблю район метро «Спортивная», Те дома конца сороковых, Где Москва, еще малоквартирная, Расселяла маршалов живых. Тех строений вид богооставленный, Тех страстей артиллерийский лом, Милосердным временем расплавленный До умильной грусти о былом. Я вообще люблю, когда кончается Что-нибудь. И можно не спеша Разойтись, покуда размягчается Временно свободная душа. Мы не знали бурного отчаянья — Родина казалась нам тогда Темной школой после окончания Всех уроков. Даже и труда. Помню – еду в Крым, сижу ли в школе я, Сны ли вижу, с другом ли треплюсь — Все на свете было чем-то более Видимого: как бы вещью плюс. Все застыло в призрачной готовности Стать болотом, пустошью, рекой, Кое-как еще блюдя условности, Но уже махнув на все рукой. Я не свой ни белому, ни черному, И напора, бьющего ключом, Не терплю. Не верю изреченному И не признаюсь себе ни в чем. С той поры меня подспудно радуют Переходы, паузы в судьбе. А и Б с трубы камнями падают. Только И бессменно на трубе. Это время с нынешним, расколотым, С этим мертвым светом без теней, Так же не сравнится, как pre-coitum И post-coitum; или верней, Как отплытье в Индию – с прибытием, Или, если правду предпочесть, Как соборование – со вскрытием: Грубо, но зато уж так и есть. Близость смерти, как она ни тягостна, Больше смерти. Смерть всегда черства. Я и сам однажды видел таинство Умирания как торжества. Я лежал тогда в больнице в Кунцево, Ждал повестки, справки собирал. Под покровом одеяла куцего В коридоре старец умирал. Было даже некое величие В том, как важно он лежал в углу. Капельницу сняли («Это лишнее») И из вены вынули иглу. Помню, я смотрел в благоговении, Как он там хрипел, еще живой. Ангелы невидимые веяли Над его плешивой головой. Но как жалок был он утром следующим, В час, когда, как кучу барахла, Побранившись с яростным заведующим, В морг его сестра отволокла! Родственников вызвали заранее. С неба лился серый полусвет. Таинство – не смерть, а умирание. Смерть есть плоскость. В смерти тайны нет. Вот она лежит, располосованная, Безнадежно мертвая страна — Жалкой похабенью изрисованная Железобетонная стена, Ствол, источенный до основания, Груда лома, съеденная ржой, Сушь во рту и стыд неузнавания Серым утром в комнате чужой. Это бездна, внятная, измеренная В глубину, длину и ширину. Мелкий снег и тишина растерянная. Как я знаю эту тишину! Лужа замерзает, арка скалится, Клонятся фонарные столбы, Тень от птицы по снегу пластается, Словно И, упавшее с трубы.Бремя белых
Несите бремя белых,
И лучших сыновей
На тяжкий труд пошлите
За тридевять морей —
На службу к покоренным
Угрюмым племенам,
На службу к полудетям,
А может быть, чертям.
Киплинг Люблю рассказы о Бразилии, Гонконге, Индии, Гвинее… Иль север мой мне все постылее, Иль всех других во мне живее Тот предок, гимназист из Вырицы, Из Таганрога, из Самары, Который млеет перед вывеской «Колониальные товары». Я видел это все, по-моему, — Блеск неба, взгляд аборигена, — Хоть знал по Клавеллу, по Моэму, По репродукциям Гогена — Во всем палящем безобразии, Неотразимом и жестоком, Да, может быть, по Средней Азии, Где был однажды ненароком. Дикарка носит юбку длинную И прячет нож в цветные складки. Полковник пьет настойку хинную, Пылая в желтой лихорадке. У юной леди брошь украдена, Собакам недостало мяса — На краже пойман повар-гадина И умоляет: «Масса, масса!» Чиновник дремлет после ужина И бредит девкой из Рангуна, А между тем вода разбужена И плеском полнится лагуна. Миссионер – лицо оплывшее, — С утра цивильно приодетый, Спешит на судно вновь прибывшее За прошлогоднею газетой. Ему ль не знать, на зуб не пробовать, Не ужасаться в долгих думах, Как тщетна всяческая проповедь Пред ликом идолов угрюмых? Ему ль не помнить взгляда карего Служанки злой, дикарки юной, В котором будущее зарево Уже затлело над лагуной? …Скажи, откуда это знание? Тоска ль по солнечным широтам, Которым старая Британия Была насильственным оплотом? О нет, душа не этим ранена, Но памятью о том же взгляде, Которым мерил англичанина Туземец, нападая сзади. О, как я помню злобу черную, Глухую, древнюю насмешку, Притворство рабье, страсть покорную С тоской по мщенью вперемешку! Забыть ли мне твое презрение, Прислуга, женщина, иуда, Твое туземное, подземное? Не лгу себе: оно – оттуда. Лишь старый Булль в своей наивности, Добропорядочной не в меру, Мечтал привить туземной живности Мораль и истинную веру. Моя душа иное видела — Хватило ей попытки зряшной, Чтоб чуять в черном лике идола Самой природы лик незрячий. Вот мир как есть: неистребимая Насмешка островного рая, Глубинная, вольнолюбивая, Тупая, хищная, живая: Триумф земли, лиан плетение, Зеленый сок, трава под ветром — И влажный, душный запах тления Над этим буйством пышноцветным. …Они уйдут, поняв со временем, Что толку нет в труде упорном — Уйдут, надломленные бременем Последних белых в мире черном. Соблазны блуда и слияния Смешны для гордой их армады. С ухмылкой глянут изваяния На их последние парады. И джунгли отвоюют наново Тебя, крокетная площадка. Придет черед давно желанного, Благословенного упадка — Каких узлов ни перевязывай, Какую ни мости дорогу, Каких законов ни указывай Туземцу, женщине и Богу.Призывник
Меж апрелем и маем, Не сейчас, а давно, На одной из окраин — Например, в Строгино, До которой добраться На подземке нельзя, Проводить новобранца Подгребают друзья. В этих спальных районах, В их пайковых пирах, В этих липах и кленах, «Жигулях» во дворах, В простынях полосатых На балконах, весной, — Веял в семидесятых Свежий дух городской. И поныне мне сладок — Или горек скорей? — Воздух детских площадок, Гаражей, пустырей, Имена остановок — «Школа», «Ясли», «Детсад» — И аккордов дворовых Полуночный надсад. …Вот и родичи в сборе, И с запасом вина, Пошумев в коридоре, Подтянулась шпана; И дедок-краснофлотец — Две беззубых десны — Шепчет малому: «Хлопец, Две зимы, две весны…» И приятель с гитарой Затянул, загрустив, На какой-нибудь старый, Неизменный мотив, Вон и тетка запела, Хоть почти не пила, — То ли «Дон» а капелла, То ли «Колокола»… Но под пение друга Призывник удивлен, Что от этого круга Он уже отделен, Что в привычном застолье, Меж дворовых парней, Он, как место пустое Или призрак, верней. И под тост краснофлотца Он внезапно поймет: Даже если вернется — Он вернется не тот. Все прощанья – навеки. Как же это, постой? Но внесут чебуреки, Разольют по шестой… Он смеется, оттаяв Под развинченный гвалт Молодых негодяев И накрашенных халд, Тут и музыку врубят — Стон на всем этаже; Только что они любят, Я не помню уже. Вот отпили, отпели, И под взглядом семьи — Завтра, в самом-то деле, Подниматься к семи, — Почитая за благо Стариков не сердить, Молодая ватага Поднялась уходить. Но покуда объедки Убирает родня, С ним на лестничной клетке Остается одна, И отец, примечая (Благо глаз – ватерпас): – Для такого случа́я Пусть ночует у нас. …Вот она одеяло Подтянула к груди. Он кивает ей вяло — «Покурю, погоди» — И стоит на балконе Пять последних минут. Перед ним на ладони — Жизнь, прошедшая тут. Чуть вдали – Кольцевая, Что и ночью, до двух, Голосит, надрывая Непривычному слух. Небосвод беспределен, Неохватен, жесток. Запад светел и зелен, Слеп и темен восток. Что он знал, новобранец, Заскуливший в ночи, Может, завтра афганец, Послезавтра – молчи… Хорошо, коль обрубок С черной прорезью рта В паутине из трубок И в коросте бинта. Что он знал, новобранец? Пять окрестных дворов, Долгий медленный танец Под катушечный рев, Обжимоны в парадных Да запретный подвал, Где от чувств непонятных Он ей юбку порвал. Город в зыбкой дремоте, Разбрелись кореша. В башне каменной плоти Проступает душа. Пробегает по коже Неуемная дрожь. На создание Божье Он впервые похож. Грудь ему распирая, Прибывает поток Знаков детского рая: То чердак, то каток, Запах смоченной пыли, Терпкий ток по стволам… Но его не учили Даже этим словам. Кто поет – тот счастливей. Мы же обречены Лишь мычать на разрыве Счастья, страха, вины… Он мычит в новостройке, На восьмом этаже. Плачет девочка в койке: Знать, допился уже. Но на собственной тризне, Где его помянут, Что он вспомнит о жизни, Кроме этих минут? Только жадных прощаний Предрассветную дрожь И любых обещаний Беззаветную ложь. …Я стою на балконе, Меж бетонных стропил. На сиреневом фоне Круг луны проступил, Словно краб с бескозырки Или туз козырной… Вот он, голос призывный, Возраст мой призывной. Потекла позолота По окалине крыш. То ли кончено что-то, То ли начато лишь. На неявном, незримом, На своем рубеже «Примы» лакомлюсь дымом На восьмом этаже. Блекнет конус фонарный, И шумит за версту Только поезд товарный На железном мосту — Проползает, нахрапист, И скрывается там Под двустопный анапест: Тататам, тататам… Пастернак, pater noster, Этим метром певал, И Васильевский остров Им прославлен бывал В утешение девам, И убитый в бою Подо Ржевом, на левом… Вот и я подпою. Но и тысячу песен Заучивши из книг, Так же я бессловесен, Как любой призывник. Все невнятные строки — Как безвыходный вой Пацана в новостройке На краю Кольцевой. Мы допили, допели И отныне вольны Лишь мычать на пределе Счастья, страха, вины — Так блаженно-тоскливо, Как трубят поезда — Накануне призыва Неизвестно куда.Басня
Да, подлый муравей, пойду и попляшу, И больше ни о чем тебя не попрошу. На стеклах ледяных играет мерзлый глянец. Зима сковала пруд, а вот и снег пошел. Смотри, как я пляшу, последний стрекозел, Смотри, уродина, на мой прощальный танец. Ах, были времена! Под каждым мне листком Был столик, вазочки и чайник со свистком, И радужный огонь росистого напитка… Мне только то и впрок в обители мирской, Что добывается не потом и тоской, А так, из милости, задаром, от избытка. Замерзли все цветы, ветра сошли с ума, Все, у кого был дом, попрятались в дома, Повсюду муравьи соломинки таскают… А мы, не годные к работе и борьбе, Умеем лишь просить «Пусти меня к себе!» — И гордо подыхать, когда нас не пускают. Когда-нибудь в раю, где пляшет в вышине Веселый рой теней, – ты подползешь ко мне, Худой, мозолистый, угрюмый, большеротый, — И, с завистью следя воздушный мой прыжок, Попросишь: «Стрекоза, пусти меня в кружок!» — А я скажу: «Дружок! Пойди-ка поработай!»«Тело знает больше, чем душа…»
Тело знает больше, чем душа — Тоньше слух у них и взгляд свежей, — Для бойцов, для страстных нечестивцев, А не для чувствительных ханжей. То есть счастье – этакий биноклик, Зрительная трубка в два конца, Чрез какую внятным, будто оклик, Станет нам величие Творца. Этот дивный хор теней и пятен, Полусвет, влюбленный в полутьму, Если вообще кому и внятен, То вон той, под кленом, и тому. Меловые скалы так круты и голы, Так курчавы усики плюща, Чтобы мог рычать свои глаголы Графоман, от счастья трепеща. Пленники, калеки, разглядите ль Блик на море, солнцем залитом? Благодарно зорок только победитель, Триумфатор в шлеме золотом! Хороша гроза в начале мая Для того, кто выбежит, спеша, Мокрую черемуху ломая, — А для остальных нехороша. Врут, что счастье тупо, друг мой желторотый, Потому что сам Творец Всего, Как любой художник за работой, Ликовал, когда творил его. Столько наготовив хитрых всячин, Только благодарных слышит Бог, Но не тех, кто близоруко мрачен, И не тех, кто жалок и убог. А для безымянного урода С неизбывной ревностью в груди В лучшем – равнодушная природа, В худшем – хор согласный: вон иди! Сквозь сиянье нежного покрова, Что для нас соткало божество, — Видит он, как ест один другого, Мор и жор, и больше ничего: Только рыл и жвал бессонное роенье, Темную механику Творца, — И не должен портить настроенье Баловням, что видят мир с лица. Лишь одно в своем недоброхотстве Истово приемлет Вечный жид — То, на чем колеблющийся отсвет Некоей нетварности лежит. Он спешит под пасмурные своды, В общество табличек и камней, — Как Христос, не любящий природы И не разбирающийся в ней.«На самом деле мне нравилась только ты…»
На самом деле мне нравилась только ты, мой идеал и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мирило. Пока ты там, покорна своим страстям, летаешь между Орсе и Прадо, – я, можно сказать, собрал тебя по частям. Звучит ужасно, но это правда. Одна курноса, другая с родинкой на спине, третья умеет все принимать как данность. Одна не чает души в себе, другая – во мне (вместе больше не попадалось). Одна, как ты, со лба отдувает прядь, другая вечно ключи теряет, а что я ни разу не мог в одно все это собрать – так Бог ошибок не повторяет. И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза три через все препоны, – осталась тут, воплотившись во все живые цветы и все неисправные телефоны. А ты боялась, что я тут буду скучать, подачки сам себе предлагая. А ливни, а цены, а эти шахиды, а Роспечать? Бог с тобой, ты со мной, моя дорогая.Инструкция
Сейчас, когда я бросаю взгляд на весь этот Голливуд, – вон то кричит «Меня не едят!», а та – «Со мной не живут!». Скажи, где были мои глаза, чего я ждал, идиот, когда хотел уцепиться за, а мог оттолкнуться от, не оспаривая отпора, не пытаясь прижать к груди?! Зачем мне знать, из какого сора? Ходи себе и гляди! Но мне хотелось всего – и скоро, в руки, в семью, в кровать. И я узнал, из какого сора, а мог бы не узнавать.
«Здесь все не для обладания» – по небу бежит строка, и все мое оправдание – в незнании языка. На всем «Руками не трогать!» написано просто, в лоб. Не то чтоб лишняя строгость, а просто забота об. О, если бы знать заранее, в лучшие времена, что все – не для обладания, а для смотренья на! И даже главные женщины, как Морелла у По, даны для стихосложенщины и для томленья по. Тянешься, как младенец, – на, получи в торец. Здесь уже есть владелец, лучше сказать – творец.
Я часто пенял, Создатель, бодрствуя, словно тать, что я один тут необладатель, а прочим можно хватать, – но ты доказал с избытком, что держишь ухо востро по отношенью к любым попыткам лапать твое добро. Потуги нечто присвоить кончались известно чем, как потуги построить ирландцев или чечен. Когда б я знал об Отчизне, истерзанный полужид, что мне она не для жизни, а жизнь – не затем, чтоб жить! Когда бы я знал заранее, нестреляный воробей, что чем я бывал тираннее, тем выходил рабей!
У меня была фаза отказа от вымыслов и прикрас, и даже была удалая фраза, придуманная как раз под августовской, млечной, серебряною рекой, – мол, если не можешь вечной, не надо мне никакой! Теперь мне вечной не надо. Счастье – удел крота. Единственная отрада – святая неполнота. Здесь все не для обладания – правда, страна, закат. Только слова и их сочетания, да и те напрокат.
Избыточность
Избыточность – мой самый тяжкий крест. Боролся, но ничто не помогает. Из всех кругов я вытолкан взашей, как тот Демьян, что сам ухи не ест, но всем ее усердно предлагает, хотя давно полезло из ушей. Духовный и телесный перебор сменяется с годами недобором, но мне такая участь не грозит. Отпугивает девок мой напор. Других корят – меня поносят хором. От прочих пахнет – от меня разит.
Уехать бы в какой-нибудь уезд, зарыться там в гусяток, поросяток, – но на равнине спрятаться нельзя. Как Орсон некогда сказал Уэллс, когда едва пришел друзей десяток к нему на вечер творческий, – «Друзья! Я выпускал премьеры тридцать раз, плюс сто заявок у меня не взяли; играл, писал, ваял et cetera. Сказал бы кто, зачем так мало вас присутствует сегодня в этом зале, и лишь меня настолько до хера?»
Избыточность – мой самый тяжкий грех! Все это от отсутствия опоры. Я сам себя за это не люблю. Мне вечно надо, чтоб дошло до всех, – и вот кручу свои самоповторы: все поняли давно, а я долблю! Казалось бы, и этот бедный текст пора прервать, а я все длю попытки, досадные, как перебор в очко, – чтоб достучаться, знаете, до тех, кому не только про мои избытки, а вообще не надо ни про что!
Избыточность! Мой самый тяжкий бич! Но, думаю, хорошие манеры простому не пристали рифмачу. Спросил бы кто: хочу ли я постичь великое, святое чувство меры? И с вызовом отвечу: не хочу. Как тот верблюд, которому судьба таскать тюки с восточной пестротою, – так я свой дар таскаю на горбу, и ничего. Без этого горба, мне кажется, я ничего не стою, а всех безгорбых я видал в гробу. Среди бессчетных призванных на пир не всем нальют божественный напиток, но мне нальют, прошу меня простить. В конце концов, и весь Господень мир – один ошеломляющий избыток, который лишь избыточным вместить. Я вытерплю усмешки свысока, и собственную темную тревогу, и всех моих прощаний пустыри. И так, как инвалид у Маяка берег свою единственную ногу, – так я свои оберегаю три.
«Я не могу укрыться ни под какою крышей…»
Я не могу укрыться ни под какою крышей. Моя объективность куплена мучительнейшей ценой – я не принадлежу ни к нации явно пришлой, ни к самопровозглашенной нации коренной. Как известный граф, создатель известных стансов о том, что ни слева, ни справа он не в чести, – так и я, в меру скромных сил, не боец двух станов, точней, четырех, а теперь уже и шести. Не сливочный элитарий, не отпрыск быдла, я вижу все правды и чувствую все вранье – все мне видно, и так это мне обидно, что злые слезы промыли зренье мое.
Кроме плетенья словес, ничего не умея толком (поскольку другие занятья, в общем, херня) – по отчим просторам я рыскаю серым волком до сей поры, и ноги кормят меня. То там отмечусь, то тут чернилами брызну. Сумма устала от перемены мест. Я видел больше, чем надо, чтобы любить Отчизну, но все не дождусь, когда она мне совсем надоест. Вдобавок я слишком выдержан, чтобы спиться, и слишком упрям, чтоб прибиться к вере отцов. Все это делает из меня идеального летописца, которого Родина выгонит к черту в конце концов.
Что до любви, то и тут имеется стимул писать сильнее других поэтов Москвы. От тех, кого я хочу, я слышу – прости, мол, слушать тебя – всегда, но спать с тобою – увы. Есть и другие, но я не могу терпеть их. Мне никогда не давался чистый разврат. Слава Богу, имеются третьи, и этих третьих я мучаю так, что смотрите первый разряд. Портрет Дориана Грея, сломавший раму, могильщик чужой и мучитель своей семьи, я каждое утро встречаю, как соль на рану. И это все, чего я достиг к тридцати семи.
Отсюда знание жизни, палитра жанровая, выделка класса люкс, плодовитость-плюс.
– Собственно говоря, на что ты жалуешься?
– Собственно, я не жалуюсь, я хвалюсь.
Начало зимы
1. «Зима приходит вздохом струнных…»
Зима приходит вздохом струнных: «Всему конец». Она приводит белорунных Своих овец, Своих коней, что ждут ударов, Как наивысшей похвалы, Своих волков, своих удавов, И все они белы, белы. Есть в осени позднеконечной, В ее кострах, Какой-то гибельный, предвечный, Сосущий страх: Когда душа от неуюта, От воя бездны за стеной Дрожит, как утлая каюта Иль теремок берестяной. Все мнется, сыплется, и мнится, Что нам пора, Что опадут не только листья, Но и кора, Дома подломятся в коленях И лягут грудой кирпичей — Земля в осколках и поленьях Предстанет грубой и ничьей. Но есть и та еще услада На рубеже, Что ждать зимы теперь не надо: Она уже. Как сладко мне и ей – обоим — Вливаться в эту колею: Есть изныванье перед боем И облегчение в бою. Свершилось. Все, что обещало Прийти – пришло. В конце скрывается начало. Теперь смешно Дрожать, как мокрая рубаха, Глядеть с надеждою во тьму И нищим подавать из страха — Не стать бы нищим самому. Зиме смятенье не пристало. Ее стезя Структуры требует, кристалла. Скулить нельзя, Но подберемся. Без истерик, Тверды, как мерзлая земля, Надвинем шапку, выйдем в скверик: Какая прелесть! Все с нуля. Как все бело, как незнакомо! И снегири! Ты говоришь, что это кома? Не говори. Здесь тоже жизнь, хоть нам и странен Застывший, колкий мир зимы, Как торжествующий крестьянин. Пусть торжествует. Он – не мы. Мы никогда не торжествуем, Но нам мила Зима. Коснемся поцелуем Ее чела, Припрячем нож за голенищем, Тетрадь забросим под кровать, Накупим дров, и будем нищим Из милосердья подавать.2. «Чтобы было, как я люблю…»
– Чтобы было, как я люблю, – я тебе говорю, – надо еще пройти декабрю, а после январю. Я люблю, чтобы был закат цвета ранней хурмы, и снег оскольчат и ноздреват – то есть распад зимы: время, когда ее псы смирны, волки почти кротки, и растлевающий дух весны душит ее полки. Где былая их правота, грозная белизна? Марширующая пята растаптывала, грузна, золотую гниль октября и черную – ноября, недвусмысленно говоря, что все уже не игра. Даже мнилось, что поделом белая ярость зим: глотки, может быть, подерем, но сердцем не возразим. Ну и где триумфальный треск, льдистый хрустальный лоск? Солнце над ним водружает крест, плавит его, как воск. Зло, пытавшее на излом, само себя перезлив, побеждается только злом, пытающим на разрыв, и уходящая правота вытеснится иной – одну провожает дрожь живота, другую чую спиной.
Я начал помнить себя как раз в паузе меж времен – время от нас отводило глаз, и этим я был пленен. Я люблю этот дряхлый смех, мокрого блеска резь. Умирающим не до тех, кто остается здесь. Время, шедшее на убой, вязкое, как цемент, было занято лишь собой, и я улучил момент. Жизнь, которую я застал, была кругом неправа – то ли улыбка, то ли оскал полуживого льва. Эти старческие черты, ручьистую болтовню, это отсутствие правоты я ни с чем не сравню. Я наглотался отравы той из мутного хрусталя, я отравлен неправотой позднего февраля.
Но до этого – целый век темноты, мерзлоты. Если б мне любить этот снег, как его любишь ты – ты, ценящая стиль макабр, вскормленная зимой, возвращающаяся в декабрь, словно к себе домой, девочка со звездой во лбу, узница правоты! Даже странно, как я люблю все, что не любишь ты. Но покуда твой звездный час у меня на часах, выколачивает матрас метелица в небесах, и в четыре почти черно, и вовсе черно к пяти, и много, много еще чего должно произойти.
3. «Вот девочка-зима из спального района…»
Вот девочка-зима из спального района, Сводившая с ума меня во время оно, Соседка по двору с пушистой головой И в шапке меховой. Она выходит в сквер, где я ее встречаю, Выгуливает там собаку чау-чау; Я медленно брожу от сквера к гаражу, Но к ней не подхожу. Я вижу за окном свою Гиперборею, В стекло уткнувшись лбом, коленом – в батарею, Гляжу, как на окне кристальные цветы Растут из темноты. Мне слышно, как растут кристаллы ледяные, Колючие дворцы и замки нитяные, На лиственных коврах, где прежде завывал Осенний карнавал. Мне слышится в ночи шуршанье шуб и шапок По запертым шкафам, где нафталинный запах; За створкой наверху подглядывает в щель Искусственная ель; Алмазный луч звезды, танцующий на льдине, Сшивает гладь пруда от края к середине, Явление зимы мне видно из окна, И это все она. Вот комната ее за тюлевою шторой, На третьем этаже, прохладная, в которой, Средь вышивок, картин, ковров и покрывал, Я сроду не бывал; Зато внутри гостят ангина и малина, Качалка, чистота, руина пианино — И книги, что строчат светлейшие умы Для чтения зимы. Когда настанет час – из синих самый синий,— Слияния цветов и размыванья линий, Щекотный снегопад кисейным полотном Повиснет за окном, — Ей в сумерках видны ряды теней крылатых, То пестрый арлекин, то всадник в острых латах, Которому другой, спасающий принцесс, Бежит наперерез. Когда рассветный луч вдоль желтого фасада Смещался в феврале и было все как надо: Лимонный цвет луча, медовый – кирпича, И тень ее плеча, — Я чувствовал, что с ней мы сплавлены и слиты: Ни девочка-апрель, что носит хризолиты, Ни девочка-октябрь, что любит родонит, Ее не заслонит. Тот дом давно снесен, и дряхлый мир, в котором Мы жили вместе с ней, распался под напором Подспудных грубых сил, бродивших в глубине, Понятных ей и мне, — Но девочка-зима, как прежде, ходит в школу И смотрит на меня сквозь тюлевую штору; Ту зиму вместе с ней я пробыл на плаву — И эту проживу.4. Танго
Когда ненастье, склока его и пря начнут сменяться кружевом декабря, иная сука скажет: «Какая скука!» — но это счастье, в сущности говоря. Не стало гнили. Всюду звучит: «В ружье!» Сугробы скрыли лужи, «рено», «пежо». Снега повисли, словно Господни мысли, От снежной пыли стало почти свежо. Когда династья скукожится к ноябрю и самовластье под крики «Кирдык царю!» начнет валиться хлебалом в сухие листья, то это счастье, я тебе говорю! Я помню это. Гибельный, но азарт полчасти света съел на моих глазах. Прошла минута, я понял, что это смута, — но было круто, надо тебе сказать. Наутро – здрасьте! – все превратят в содом, И сладострастье, владеющее скотом, затопит пойму, но, Господи, я-то помню: сначала счастье, а прочее все потом! Когда запястье забудет, что значит пульс, закрою пасть я и накрепко отосплюсь, смущать, о чадо, этим меня не надо — все это счастье, даже и счастье плюс! Потом, дорогая всадница, как всегда, Настанет полная задница и беда, А все же черни пугать нас другим бы чем бы: Им это черная пятница, нам – среда.5. «Из серой тучи тянут нить…»
Из серой тучи тянут нить Белей белил. Вот снег сказал: «Пора валить!» — И повалил. Не может быть, чтоб просто так Летел с утра — Он получил какой-то знак: Уже пора. Валить, наверное, пришлось. О нем давно Небесный Мамонтов небось Снимал кино: О темных связях, воровстве, Деньгах, еде… И вот теперь его в Москве — Как нас везде. Из тучи, словно из тюрьмы, Слетает снег. Он валит так, как валим мы — Который век? Мы завалили все пути И все умы. Не разобрать, не разгрести — Повсюду мы. Перевернули кверху дном Небесный скит. Снег валит ночью, валит днем. Москва стоит. Буксуют белые стада Ночных авто. Не успевает никуда Уже никто. Под белой шапкой неживой — Родимый край. Куда ты валишь, Боже мой? Ведь здесь не рай. Куда ты валишься, поток Сухой воды? Из новостей у нас, браток, — Одни суды. Не покрывай родной простор, Назад стремись! Тут если кто еще не вор, То экстремист. Над каждым – чаемая жуть, Незримый грех, И чтоб согласие вернуть, Посадят всех. Но валит снежная крупа, Давя, слепя… Ползет недвижная толпа, Кляня себя. У всех сосульки на усах, Как у моржей… Должно быть, там, на небесах Еще хужей. Он валит, валит. Даль пестра, Вокруг бело, И гастарбайтеры с утра Скребут его. Им надоели холода И клонит в сон. Они нападали сюда, Почти как он. Гудит который год подряд Экспертов рать: Что с ними делать? Слать назад? Гражданство дать? Темно с утра, темно с шести, Темно уму… Здесь ничего не разгрести И никому. Такой сезон у всей страны, У всех элит. Осталось только ждать весны. Или валить.«Словно на узкой лодке пролив Байдарский пересекая…»
Словно на узкой лодке пролив Байдарский пересекая, Вдруг ощутишь границу: руку, кажется, протяни — Там еще зыбь и блики, а здесь прохлада и тишь такая. Правишь на дальний берег и вот очнешься в его тени. Так я вплываю в воды смерти, в темные воды смерти, В область без рифмы – насколько проще зарифмовать «Der Tod», Словно намек – про что хотите, а про нее не смейте; Только и скажешь, что этот берег ближе уже, чем тот. Ишь как прохладою потянуло, водорослью и крабом, Камнем источенным, ноздреватым, в илистой бороде, — И, как на пристани в Балаклаве, тщательно накорябан Лозунг дня «Причаливать здесь»; а то я не знаю – где. Все я знаю – и как причалить, и что говорить при этом. В роще уже различаю тени, бледные на просвет. Знаю даже, что эти тени – просто игра со светом Моря, камня и кипариса, и никого там нет. А оглянуться на берег дальний – что мне тот берег дальний? Солнце на желтых скалах, худые стены, ржавая жесть. Это отсюда, из тени, он весь окутан хрустальной тайной: Я-то отплыл недавно, я еще помню, какой он есть. Вдоль побережья серая галька, жаркая, как прожарка. С визгом прыгает с волнолома смуглая ребятня, Но далеко заплывать боится, и их почему-то жалко; Только их мне и жалко, а им, должно быть, жалко меня. Так я вплываю в темные воды, в запах приморской прели. Снизу зелено или буро, сверху синим-синё. Вот уже видно – заливы, фьорды, шхеры, пещеры, щели, Столько всего – никогда не знал, что будет столько всего. Камень источен ветром, изъеден морем, и мидий соты Лепятся вдоль причала. Мелькает тропка. Пойдем вперед. Славно – какие норы, какие бухты, какие гроты. Жалко, что нет никого… а впрочем, кто его разберет.Война объявлена
1. Прощание славянки
Аравийское месиво, крошево
С галицийских кровавых полей.
Узнаю этот оющий, ающий, Этот лающий, реющий звук — Нарастающий рев, обещающий Миллионы бессрочных разлук. Узнаю этот колюще-режущий, Паровозный, рыдающий вой — Звук сирены, зовущей в убежище, И вокзальный оркестр духовой. Узнаю этих рифм дактилических Дребезжание, впалую грудь, Перестуки колес металлических, Что в чугунный отправились путь На пологие склоны карпатские Иль балканские – это равно, — Где могилы раскиданы братские, Как горстями бросают зерно. Узнаю этот млеющий, тающий, Исходящий томленьем простор — Жадно жрущий и жадно рожающий Чернозем, черномор, черногор. И каким его снегом ни выбели — Все настырнее, все тяжелей Трубный зов сладострастья и гибели, Трупный запах весенних полей. От ликующих, праздно болтающих До привыкших грошом дорожить — Мы уходим в разряд умирающих За священное право не жить! Узнаю эту изморозь белую, Посеревшие лица в строю… Боже праведный, что я здесь делаю? Узнаю, узнаю, узнаю.2. Army of lovers
Киплинг, как леший, в морскую
дудку насвистывает без конца,
Блок над картой просиживает,
не поднимая лица,
Пушкин долги подсчитывает…
Б. Окуджава Юнцы храбрятся по кабакам, хотя их грызет тоска, Но все их крики «Я им задам!» – до первого марш-броска, До первого попадания снаряда в пехотный строй И дружного обладания убитою медсестрой. Юнцам не должно воевать и в армии служить. Солдат пристойней вербовать из тех, кто не хочет жить: Певцов или чиновников, бомжей или сторожей, — Из брошенных любовников и выгнанных мужей. Печорин чистит автомат, сжимая бледный рот. Онегин ловко берет снаряд и Пушкину подает, И Пушкин заряжает, и Лермонтов палит, И Бродский не возражает, хоть он и космополит. К соблазнам глух, под пыткой нем и очень часто пьян, Атос воюет лучше, чем Портос и Д’Артаньян. Еще не раз мы врага превысим щедротами жертв своих. Мы не зависим от пылких писем и сами не пишем их. Греми, барабан, труба, реви! Противник, будь готов — Идут штрафные роты любви, калеки ее фронтов, Любимцы рока – поскольку рок чутко хранит от бед Всех, кому он однажды смог переломить хребет. Пусть вражеских полковников трясет, когда орда Покинутых любовников вступает в города. Застывшие глаза их мертвее и слепей Видавших всё мозаик из-под руин Помпей. Они не грустят о женах, не рвутся в родной уют. Никто не спалит сожженных, и мертвых не перебьют. Нас победы не утоляют, после них мы еще лютей. Мы не верим в Родину и свободу. Мы не трогаем ваших женщин и не кормим ваших детей, Мы сквозь вас проходим, как нож сквозь воду. Так, горланя хриплые песни, мы идем по седой золе, По колосьям бывшего урожая, И воюем мы малой кровью и всегда на чужой земле, Потому что вся она нам чужая.3. Из цикла «Сны»
Мне приснилась война мировая — Может, третья, а может, Вторая, Где уж там разобраться во сне, В паутинном плетении бреда… Помню только, что наша победа — Но победа, не нужная мне. Серый город, чужая столица. Победили, а все еще длится Безысходная скука войны. Взгляд затравленный местного люда. По домам не пускают покуда, Но и здесь мы уже не нужны. Вяло тянутся дни до отправки. Мы заходим в какие-то лавки — Враг разбит, что хочу, то беру. Отыскал земляков помоложе, Москвичей, из студенчества тоже. Все они влюблены в медсестру. В ту, что с нами по городу бродит, Всеми нами шутя верховодит, Довоенные песни поет, Шутит шутки, плетет отговорки, Но пока никому из четверки Предпочтения не отдает. Впрочем, я и не рвусь в кавалеры. Дни весенние дымчато-серы, Первой зеленью кроны сквозят. Пью с четверкой, шучу с медсестрою, Но особенных планов не строю — Все гадаю, когда же назад. Как ни ждал, а дождался внезапно. Дан приказ, отправляемся завтра. Ночь последняя, пьяная рать, Нам в компании странно и тесно, И любому подспудно известно — Нынче ей одного выбирать. Мы в каком-то разграбленном доме. Все забрали солдатики, кроме Книг и мебели – старой, хромой, Да болтается рваная штора. Все мы ждем, и всего разговора — Что теперь уже завтра домой. Мне уйти бы. Дурная забава. У меня ни малейшего права На нее, а они влюблены, Я последним прибился к четверке, Я и стар для подобной разборки, Пусть себе! Но с другой стороны — Позабытое в страшные годы Чувство легкой игры и свободы, Нараставшее день ото дня: Почему – я теперь понимаю. Чуть глаза на нее поднимаю — Ясно вижу: глядит на меня. Мигом рухнуло хрупкое братство. На меня с неприязнью косятся: Предпочтенье всегда на виду. Переглядываясь и кивая, Сигареты туша, допивая, Произносят: «До завтра», «Пойду». О, какой бы мне жребий ни выпал — Взгляда женщины, сделавшей выбор, Не забуду и в бездне любой. Все, выходит, всерьез, – но напрасно: Ночь последняя, завтра отправка, Больше нам не видаться с тобой. Сколько горькой любви и печали Разбудил я, пока мы стояли На постое в чужой стороне! Обреченная зелень побега. Это снова победа, победа, Но победа, не нужная мне. Я ли, выжженный, выживший, цепкий, В это пламя подбрасывал щепки? Что взамен я тебе отдаю? Слишком долго я, видно, воюю. Как мне вынести эту живую, Жадно-жаркую нежность твою? И когда ты заснешь на рассвете, Буду долго глядеть я на эти Стены, книги, деревья в окне, Вспоминая о черных пожарах, Что в каких-то грядущих кошмарах Будут вечно мерещиться мне. А наутро пойдут эшелоны, И поймаю я взгляд уязвленный Оттесненного мною юнца, Что не выгорел в пламени ада, Что любил тебя больше, чем надо, — Так и будет любить до конца. И проснусь я в московской квартире, В набухающем горечью мире, С непонятным томленьем в груди, В день весенний, расплывчато-серый, — С тайным чувством превышенной меры, С новым чувством, что все позади — И война, и любовь, и разлука… Облегченье, весенняя скука, Бледный март, облака, холода И с трудом выразимое в слове Ощущение чьей-то любови — Той, что мне не вместить никогда.4. Три просьбы
1. «О том, как тщетно всякое слово и всякое колдовство…»
О том, как тщетно всякое слово и всякое колдовство На фоне этого, и другого, и вообще всего, О том, насколько среди Гоморры, на чертовом колесе, Глядится мразью любой, который занят не тем, что все, О том, какая я немочь, нечисть, как страшно мне умирать И как легко меня изувечить, да жалко руки марать, О том, как призрачно мое право на воду и каравай, Когда в окрестностях так кроваво, – мне не напоминай. Я видел мир в эпоху распада, любовь в эпоху тщеты, Я все это знаю лучше, чем надо, и точно лучше, чем ты, Поскольку в мире твоих красилен, давилен, сетей, тенет Я слишком часто бывал бессилен, а ты, я думаю, нет. Поэтому не говори под руку, не шли мне дурных вестей, Не сочиняй мне новую муку, чтобы в сравненье с ней Я понял вновь, что моя работа – чушь, бессмыслица, хлам; Когда разбегаюсь для взлета, не бей меня по ногам. Не тычь меня носом в мои болезни и в жалоб моих мокреть. Я сам таков, что не всякой бездне по силам в меня смотреть. Ни в наших днях, ни в ночах Белграда, ни в той, ни в этой стране Нет и не будет такого ада, которого нет во мне.2. «О, проклятое пограничье…»
О, проклятое пограничье, Чистота молодого лба, Что-то птичье в ее обличье, Альба, Эльба, мольба, пальба — Все я помню в этом хваленом, Полном таинства бытии. Ты всегда железом каленым Закреплял уроки свои. Ни острастки, ни снисхожденья Мне не надо. Я не юнец. Все я знал еще до рожденья, А теперь привык наконец. И спасенья не уворую, И подмоги не позову — Чай, не первую, не вторую, Не последнюю жизнь живу. Но зачем эта страсть к повторам? Как тоска тебя не берет От подробностей, по которым Можно все сказать наперед! Нет бы сбой, новизна в раскладе, Передышка в четыре дня — Не скажу «милосердья ради», Но хотя б перемены для. Как я знаю одышку года, Вечер века, промозглый мрак, Краткость ночи, тоску ухода, Площадь, башню, вагон, барак, Как я знаю бессилье слова, Скуку боя, позор труда, Хватит, хватит, не надо снова, Все я понял еще тогда.3. «Аргумент, что поделать, слабый…»
Аргумент, что поделать, слабый: С первой жертвой – почти как с бабой, Но быстрей и грязней, Нежели с ней. Как мы знаем, женское тело Сладко и гладко, Но после этого дела Гнусно и гадко. Так и после расстрела, Когда недавно призванный рядовой Изучает первое в своей биографии тело С простреленной головой. Дебютант, скажу тебе честно: Неинтересно. Так что ты отпустил бы меня, гегемон.5. Вагонная песня
Как будто я пришел с войны, но в памяти провал: Отчизны верные сыны, а с кем я воевал? Или точнее – за кого? В родимой стороне Сегодня нет ни одного, кто нравился бы мне. А между тем я был на войне: сестрица, посмотри! Ты видишь, что за шинель на мне? Вот то же и внутри: На месте печени – подпалина, на легком – дыра в пятак… Добро бы это еще за Сталина, а то ведь за просто так. Сестрица, бля, девица, бля, водицы, бля, налей Отставленному рыцарю царицы, бля, полей, Который бился браво, Но испустил бы дух Единственно за право Не выбирать из двух.«Я назову без ложного стыда…»
Еще пугает слово «никогда».
Н. С. Я назову без ложного стыда Два этих полюса: Дурак боится слова «никогда», А умный пользуется. И если жизнь его, как голова, Трещит-разламывается, — Он извлекает, как из рукава, Величье замысла. Я не увижу больше никогда Тебя, любимая, Тебя, единственная, тебя, балда Себялюбивая. Теперь ты перейдешь в иной регистр И в пурпур вырядишься. Отыгрывать назад остерегись: Вернешься – выродишься. Мне, пьедестала гордого лишась, Тебя не выгородить — А так еще мы сохраняем шанс Прилично выглядеть. Я, грешный человек, люблю слова. В них есть цветаевщина. Они из мухи делают слона, Притом летающего. Что мир без фраз? Провал ослизлой тьмы, Тюрьма с застольями. Без них плевка не стоили бы мы, А с ними стоили бы. Итак, прощай, я повторяю по Прямому проводу. Мне даже жаль такого слова по Такому поводу. Простились двое мелочных калек, Два нищих узника. А как звучит: навек, навек, навек. Ей-богу, музыка.«Хорошо тому, кто считает, что Бога нет…»
Хорошо тому, кто считает, что Бога нет. Вольтерьянец-отрок в садах Лицея, он цветет себе, так и рдея, как маков цвет, и не знает слова «теодицея». Мировая материя, общая перемать, вкруг него ликует разнообразно, и не надо ему ничего ни с чем примирять, ибо все равно и все протоплазма.
Сомневающемуся тоже лафа лафой: всю-то жизнь подбрасывает монету, лебезит, строфу погоняет антистрофой: иногда – что есть, иногда – что нету. Хорошо ему, и рецепт у него простой – понимать немногое о немногом. Мирозданье послушно ловит его настрой: час назад – без Бога, а вот и с Богом.
Всех страшнее тому, кто слышит музыку сфер – ненасытный скрежет Господних мельниц, крылосвист и рокот, звучащий как «Эрэсэфэсэр» – или как «рейхсфюрер», сказал бы немец; маслянистый скрежет зубчатых передач, перебои скрипа и перестука. И ни костный хруст, ни задавленный детский плач невозможно списать на дефекты слуха. Проявите величие духа, велит палач. Хорошо, проявим величье духа.
Вот такая музыка сфер, маловерный друг, вот такие крутятся там машинки. Иногда оттуда доносится райский звук, но его сейчас же глушат глушилки. А теперь, когда слышал все, поди примири этот век, который тобою прожит, и лишайные стены, и ржавые пустыри – с тем, что вот он, есть и не быть не может, потому что и ядовитый клещ, который зловещ, и гибкий змеиный хрящ, который хрустящ, и колючий курчавый плющ, который ползущ по сухому ясеню у дороги, и даже этот на человечестве бедный прыщ, который нищ и пахнет, как сто козлищ, – все о Боге, всегда о Боге.
А с меня он, можно сказать, не спускает глаз, проницает насквозь мою кровь и лимфу, посылает мне пару строчек в неделю раз – иногда без рифмы, но чаще в рифму.
«Озирая котел, в котором ты сам не варишься…»
Озирая котел, в котором ты сам не варишься, презирая клятвы, которые мы даем, – не тверди мне, агностик, что ты во всем сомневаешься. Или нет, тверди – добавляя: «во всем твоем». Ибо есть твое – вопреки утвержденью строгому, что любая вера тобою остранена. Есть твое, и мне даже страшно глядеть в ту сторону – до того скупа и безводна та сторона. Где уж мне до упорства черствого, каменистого, хоть надень я мундир и ремнями перетянись. Есть твое, и в него ты веришь настолько истово, что любой аскет пред тобою релятивист. Ход туда мне закрыт. Дрожа, наблюдаю издали: кабала словес, ползучая каббала, лабиринты, пески, а меж ними такие идолы, что игрушками кажутся все мои купола.
Не тверди, обнимаясь с тартусцами и с ве́нцами, рассыпая мелкие искры, как метеор, – что с таких, как я, начинаются все Освенцимы, ибо всякая твердая вера – уже террор. Как я знаю всю твою зыбкость, перетекание, разрушенье границ – соблазн его так влекущ! Есть твоя вертикаль, и она еще вертикальнее, но скрывает ее туман, оплетает плющ. Я боюсь плюща – хоть растенье, в общем, красивейшее. Так узорчат лист, так слаба курчавая плеть – но за слабостью этой темнеет такая силища, что и дубу, и грабу опасно туда смотреть.
Но хоть все пески, всю пустыню словами вымости, завали цветами, чей многоцветен пир, – не тверди, не пой мне о щедрой твоей терпимости и о том, как в сравнении с нею я нетерпим! О, ты терпишь всех, как терпит белая бестия ундерменша в коросте, прикованного к ярму. Я терплю этот мир иначе – как терпят бедствие. Извини, что я иногда нетерпим к нему.
Я не все говорю, не всему раздаю названия, вообще не стремлюсь заглядывать за края – ибо есть зазор спасительного незнания, что тебе и мне оставляет вера моя. В небесах случаются краски, которых в мире нет, – немучительная любовь и нестыдный стыд. Твой пустынный Бог никогда меня не помилует, – мой цветущий тебя простит и меня простит.
Теодицея
– На, – сказал генерал, снимая «Командирские». – Хочешь – носи, хочешь – пропей.
М. Веллер Не всемощный, в силе и славе, творец миров, Что избрал евреев и сам еврей, Не глухой к раскаяньям пастырь своих коров, Кучевых и перистых, – а скорей Полевой командир, небрит или бородат, Перевязан наспех и полусед. Мне приятно думать, что я не раб его, а солдат. Может быть, сержант, почему бы нет. О, не тот, что нашими трупами путь мостит, И в окоп, естественно, ни ногой, Держиморда, фанат муштры, позабывший стыд И врага не видевший, – а другой, Командир, давно понимающий всю тщету Гекатомб, но сражающийся вотще, У которого и больные все на счету, Потому что много ли нас вообще? Я не вижу его верховным, как ни крути. Генеральный штаб не настолько прост. Полагаю, над ним не менее десяти Командиров, от чьих генеральских звезд Тяжелеет небо, глядящее на Москву Как на свой испытательный полигон. До победы нашей я точно не доживу — И боюсь сказать, доживет ли он. Вот тебе и ответ, как он терпит язвы земли, Не спасает детей, не мстит палачу. Авиации нет, снаряды не подвезли, А про связь и снабжение я молчу. Наши танки быстры, поём, и крепка броня, Отче наш, который на небесех! В общем, чудо и то, что с бойцами вроде меня Потеряли еще не все и не всех. Всемогущий? – о нет. Орудья – на смех врагу. Спим в окопах – в окрестностях нет жилья. Всемогущий может не больше, чем я могу. «Где он был?» – Да, собственно, где и я. Позабыл сказать: поощрений опять же нет. Ни чинов, ни медалей он не дает. Иногда подарит – кому огниво, кому кисет. Скажем, мне достались часы «Полет». А чего, хорошая вещь, обижаться грех. Двадцать пять камней, музыкальный звон. Потому я и чувствую время острее всех — Иногда, похоже, острей, чем он. Незаметные в шуме, слышные в тишине, Отбивают полдень и будят в шесть, Днем и ночью напоминая мне: Времени мало, но время есть.Колыбельная для дневного сна
В удушливом полдне, когда ни гугу В цветущем лугу и заросшем логу, И, еле качая тяжелые воды, Река изогнулась в тугую дугу И вяло колышет лиловые своды Клубящейся тучи на том берегу, — СГУЩАЮТСЯ СИЛЫ НЕЯСНОЙ ПРИРОДЫ. Я слышу их рост и уснуть не могу. Как темные мысли клубятся в мозгу, Как в пыльные орды, в живую пургу Сбивают гонимые страхом народы, — В безмолвии августа, в душном стогу, В теплице безветренной влажной погоды СГУЩАЮТСЯ СИЛЫ НЕЯСНОЙ ПРИРОДЫ. Я вижу их мощь и дышать не могу. Один изгаляется в узком кругу, Взахлеб допивая остатки свободы, Другой проклинает недавние годы, А третий бежит, норовя на бегу Еще и поставить подножку врагу, — Хотя их обоих накроют отходы, Осколки руды и обломки породы. На всем горизонте, на каждом шагу СГУЩАЮТСЯ СИЛЫ НЕЯСНОЙ ПРИРОДЫ. Я знаю какой, но сказать не могу. Но в это же время, над той же рекой, В лиловом дыму вымывая проходы, В ответ собираются силы такой, Такой недвусмысленно ясной природы, Что я ощущаю мгновенный покой. Уже различая друг друга в тумане, Они проплывают над лесом травы. Имело бы смысл собираться заране, Но первыми мы не умеем, увы. И я засыпаю, почти замурлыкав, В потоке родных переливов и бликов Плывя в грозовую, уютную тьму. У тех, кто клубится в лиловом дыму, Всегда бесконечное множество ликов, А мы остаемся верны одному. Неясно, каков у них вождь и отец, Неясно, чего они будут хотеть, Неясно, насколько все это опасно И сколько осталось до судного дня, И как это будет, мне тоже неясно. Чем кончится – ясно, и хватит с меня.«Полно у дьявола утех…»
Полно у дьявола утех, Но яростней всего его прислуга Науськивает друг на друга тех, Кто невозможен друг без друга. Хоть мир имел один исток, Его бесстрашно разметали На лево-право, Запад и Восток, На вертикали и гориознтали. Подруга Вертикаль людей живыми ест. Сестра Горизонталь грозит иной расплатой. Давно разъяли бы и крест, Когда бы не удерживал Распятый.«Заглянуть бы туда, чтоб успеть заглянуть сюда…»
Памяти И.К.
Заглянуть бы туда, чтоб успеть заглянуть сюда И сказать: о да, Все действительно так, как надеется большинство, И лучше того. Не какой-нибудь вынимаемый из мешка Золотой орех, Не одна исполненная мечта — Превышенье всех. Нету гурий, фурий, солнечных городов, Золотых садов, молодых годов, Но зато есть то, для чего и названья нет — И отсюда бред, Бормотанье о музыке, о сияющем сквозняке На неведомом языке. И еще я вижу пространство большой тоски — Вероятно, ад, — И поэтому надо вести себя по-людски, По-людски, тебе говорят. То есть не врать, не жадничать свыше меры, Не убивать и прочая бла-бла-бла. Если же погибать, то ради химеры, А не бабла. …Заглянуть на тот свет, чтоб вернуться на этот свет, И сказать: о нет. Все действительно так, как думает меньшинство: Ничего, совсем ничего. Нет ни гурий, ни фурий, ни солнечных городов — Никаких следов: Пустота пустот до скончанья лет, И отсюда бред, Безнадежный отчет ниоткуда и ни о ком Костенеющим языком. Опадают последние отблески, лепестки, Исчезает видеоряд. И поэтому надо вести себя по-людски, По-людски, тебе говорят. То есть терпеть, как приличествует мужчине, Перемигиваться, подшучивать над каргой, Все как обычно, но не по той причине, А по другой.Вариации-5
1. «Все надоело, все. Как будто стою в бесконечной…»
Все надоело, все. Как будто стою в бесконечной пробке — При этом в каждой машине гремит попса. Тесно и пусто разом, как в черепной коробке Выпускника ПТУ из Череповца. Все впечатленья не новы, и все хреновы. Как будто попал в чужой бесконечный сон, В котором структуралисты с фамилиями на -сон Толкуют мне тексты почвенников с фамилиями на -овы И делают это под звуки FM «Шансон». Все надоело, все: бормотанье слов, немота предметов, Зимняя нежить, летняя духота. Всех утопить: я знаю, что скажут мне тот и этот, Все, что попросит эта и спросит та. И если даже в гнилой закат подмешают охру, И к власти придет осмысленный индивид, И если им буду я, и даже если я сдохну, — Все это меня не особенно удивит. Предвестие это прорыва или провала — Бог весть. Господи, дай мне сделать, чего еще не бывало, Или верни снисхожденье к тому, что есть.2. «Исчерпаны любые парадигмы…»
Исчерпаны любые парадигмы. Благое зло слилось со злым добром. Все проявленья стали пародийны, Включая пытку, праздник и погром. «Проект закрыт», – напишут Джеймсы Бонды И улетят. Проект закрыт. Все могут быть свободны, Но не хотят. Из темноты выходит некий некто И пишет красным буквы на стене. Что будет после этого проекта, Судить не мне. На стыке умиления и злости, Ощипанный, не спасший Рима гусь, Останусь здесь играть в слова и кости, Покуда сам на них не распадусь.Венеция
Сваи, сети. Обморочный морок Сумеречных вод. Если есть на свете христианский город, То, пожалуй, вот. Не могли ни Спарта, ни Египет, Ни Отчизна-мать, Так роскошно, карнавально гибнуть — И не умирать. Оттого-то, прян и сладок, Двести лет сиял ее расцвет, Но искусство в том, чтобы упадок Растянуть на триста лет. Вечно длится сонная, вторая, Жизнь без дожа и купца: Утопая, тая, умирая — Но всегда не до конца. Маньеризм люблю венецианский, Ренессанс на крайнем рубеже — Тинистый, цианистый, тиранский, Тицианистый уже, Где в зеленой гнили по колено — Ряд дворцов, но пусто во дворцах, И зловонная сухая пена Оседает на торцах. Смех и плеск, и каждый звук извилист, Каждый блик – веретено. Эта гниль – сама неуязвимость: Что ей сделается? Но — Но внезапно, словно Мойра, Чьи черты смеются, заострясь, — Налетает ветер с моря, Свежий зов разомкнутых пространств. Хорошо в лагуне плавать — И лицом поймать благую весть: Этот мир – одна гнилая заводь, Но в соседстве море есть. Увидав прекрасный первообраз, Разлюбил я Петроград — Скудную, неласковую область Утеснений и утрат. Даже статуя в аллее Чересчур телесна и жива. Эта гниль соленая милее Пресной прямизны твоей, Нева. Ни собор в закатной позолоте, Ни на мраморе пиит… Бесполезно строить на болоте То, что на море стоит.Пэон четвертый
О Боже мой, какой простор! Лиловый, синий, грозовой, – но чувство странного уюта: все свои. А воздух, воздух ледяной! Я пробиваю головой его разреженные, колкие слои. И – вниз, стремительней лавины, камнепада, высоту теряя, – в степь, в ее пахучую траву! Но, долетев до половины, развернувшись на лету, рванусь в подоблачье и снова поплыву.
Не может быть: какой простор! Какой-то скифский, а верней – дочеловеческий. Восторженная дрожь: черносеребряная степь и море темное за ней, седыми гребнями мерцающее сплошь. Над ними – тучи, тучи, тучи, с чернотой, с голубизной в разрывах, солнцем обведенные края – и гроздья гроз, и в них – текучий, обтекаемый, сквозной, неузнаваемый, но несомненный я.
Так вот я, стало быть, какой! Два перепончатых крыла, с отливом бронзовым, – смотри: они мои! Драконий хвост, четыре лапы, гибкость змея, глаз орла, непробиваемая гладкость чешуи! Я здесь один – и так под стать всей этой бурности, всему кипенью воздуха и туч лиловизне, и степи в черном серебре, и пене, высветлившей тьму, и пустоте, где в первый раз не тесно мне.
Смотри, смотри! Какой зловещий, зыбкий, манкий, серый свет возник над гребнями! Летучая гряда, смотри, разверзлась и раздвинулась. Приказ или привет – еще не ведаю; мне, стало быть, туда. Я так и знал: все только начато. Я чувствовал, что взят не ради отдыха. Ведь нас наперечет. Туда, туда! Клубится тьма, дымится свет, и дивный хлад, кристальный душ по чешуе моей течет.
Туда, на зов, на дымный луч! Лети, не спрашивай причин, без сожаления о первом из миров, – туда, в пространство зыбких форм, непостижимых величин, чудесных чудищ, грозных игрищ и пиров! Туда, где облачных жаровен тлеют угли, где в чаду сраженья горнего грохочет вечный гром, туда, где в битве, час не ровен, я, глядишь, опять паду и вновь очнусь, уже на ярусе втором.
Лечу, крича: «Я говорил, я говорил, я говорил! Не может быть, чтоб все и впрямь кончалось тут!» Как звать меня? Плезиозавр? Егудиил? Нафанаил? Левиафан? Гиперборей? Каталабют? Где я теперь? Изволь, скажу, таранить облако учась одним движением, как камень из пращи: пэон четвертый, третий ярус, пятый день, десятый час. Вот там ищи меня, но лучше не ищи.
Новая графология
Ключом не мысля овладеть, Ни сквозь окошко подглядеть, Ни зренье робкое продеть В глазок замочный, — Устав в неведенье страдать, Берусь по почерку гадать, Хоть это опыт, так сказать, Опять заочный. О этот почерк! О позер! Виньетка, вымарка, узор, Мелькают контуры озер, Бутонов, почек, Рельефы пустошей, столиц, Черты сливающихся лиц, Мокриц, блудниц, бойниц, больниц… Красивый почерк. В нем полноправно прижилась Колючей проволоки вязь, В нем дышит ярость, накалясь До перестрелок; Из четких «т» торчит топор, И «о» нацелились в упор; Он неразборчив до сих пор, Но он не мелок. Любя поврозь талант и вкус, Я мало верю в их союз (Как верят, может быть, француз Иль немец хмурый): Ты пишешь левою ногой, Пургой, нагайкой, кочергой, Ты занимаешься другой Литературой. Ты ценишь сильные слова И с бою взятые права. Перед тобою все – трава, Что слабосильно. К бойцам, страшащимся конца, Ты также не склонишь лица. Ты мучим званием отца, Но любишь сына. Во избежание вранья Я всех сужу по букве «Я», Что смотрит, вызов затая, Чуть исподлобья: В ней откровенье всех творцов И проговорка всех писцов, И лишь она, в конце концов, Твое подобье. Вот ковыляет, чуть жива, На тонких ножках голова, Хрома на обе и крива, Как пес травимый, Но что за гордость, Боже мой, В ее неловкости самой, В ее отдельности прямой, Непоправимой! По ней-то судя, по кривой, Что, как забытый часовой, Торчит над топью и травой Окрестной речи, Мы, если стену пробурить И чай покрепче заварить, Найдем о чем поговорить При личной встрече.Новая графология-2
Если бы кто-то меня спросил, Как я чую присутствие высших сил — Дрожь в хребте, мурашки по шее, Слабость рук, подгибанье ног, — Я бы ответил: если страшнее, Чем можно придумать, то это Бог. Сюжетом не предусмотренный поворот, Небесный тунгусский камень в твой огород, Лед и пламень, война и смута, Тамерлан и Наполеон, Приказ немедленно прыгать без парашюта С горящего самолета, – все это он. А если среди зимы запахло весной, Если есть парашют, а к нему еще запасной, В огне просматривается дорога, Во тьме прорезывается просвет, — Это почерк дьявола, а не Бога, Это дьявол под маской Бога Внушает надежду там, где надежды нет. Но если ты входишь во тьму, а она бела, Прыгнул, а у тебя отросли крыла, — То это Бог, или ангел, его посредник, С хурмой «Тамерлан» и тортом «Наполеон»: Последний шанс последнего из последних, Поскольку после последнего – сразу он. Это то, чего не учел Иуда. Это то, чему не учил Дада. Чудо вступает там, где помимо чуда Не спасет никто, ничто, никогда. А если ты в бездну шагнул и не воспарил, Вошел в огонь, и огонь тебя опалил, Ринулся в чащу, а там берлога, Шел на медведя, а их там шесть, — Это почерк дьявола, а не Бога, Это дьявол под маской Бога Отнимает надежду там, где надежда есть.На развалинах замка в Швейцарии
Представил, что мы в этом замке живем, И вот я теряю рассудок, Прознав, что с тобою на ложе твоем — Твой паж, недоносок, ублюдок. Как тешились вы над моей сединой! Тебя заточил я в подвал ледяной, Где холод и плесень на стенах Прогонят мечту об изменах. Я брал тебя замуж, спасая твой род. Родня целовала мне руки. Я снова был молод, кусая твой рот, Уча тебя нежной науке… Была ты холодной, покорной, немой… Я думал, неопытность только виной! Доверчивый старый вояка, Как ты обманулся, однако! Твой паж не держал ни копья, ни меча. Мальчишку страшила расплата. Он рухнул мне в ноги, надсадно крича, Что чист он, а ты виновата. Молил о пощаде, дрожа и визжа: «Меня соблазнили!» Я выгнал пажа: Когда бы прикончил мерзавца, Всю жизнь бы пришлось угрызаться. Но ужас-то в том, что и после всего — В подвале, в измене, в позоре — Ты свет моей жизни, мое божество, И в том мое главное горе! Какие обеды, спускаясь в подвал, Слуга ежедневно тебе подавал! Сперва ты постилась, а после Слуге возвращала лишь кости! Покончив с обедом, бралась за шитье. Любил я, как ты вышивала! Надеясь увидеть смиренье твое, Пришел я под двери подвала, Но, в пальцах прозрачных иголку держа, Ты шьешь и поешь, как ты любишь пажа — Как будто и в каменной яме Ты знаешь, что я за дверями! – Итак, – говорю я, – сознали вы грех? Но ты отвечаешь: «Нимало! Сто пыток на выбор – страшнее из всех Мне та, где я вас обнимала!» И я говорю, что за этот ответ Ты больше свиных не получишь котлет, И ты отвечаешь на это, Что сам я свиная котлета. О, если б нормальный я был феодал, Подобный другим феодалам! Тогда бы, конечно, тебе я не дал До гроба расстаться с подвалом, И запер бы двери, и выбросил ключ — Ни призрак надежды, ни солнечный луч К тебе не дошли бы отсюда, И ты поняла бы, паскуда! Запутавшись в собственных длинных тенях, Светило багровое село, И страшно мне знать, что на этих камнях Дрожит твое хрупкое тело. Я знаю, подвалы мои глубоки, Я волосы рву и грызу кулаки, Я плачу, раздавленный роком, На ложе своем одиноком. Мой ангел! Ужели я так виноват, Ужели так страшно виновен, Что плоть моя в шрамах, что кости болят, Что старческий рот мой бескровен? С тобой обретал я свое естество, Я стар, одинок, у меня никого, С тобою я сбрасывал годы… Но гулко молчат переходы. …Над замком прозрачный летит самолет. Ложатся вечерние тени На плиты веранды, на каменный лед Стены, на крутые ступени, Турист говорит, оседлав парапет, Что этому замку четыреста лет, А может, и больше на двести — Об этом теряются вести. По горному лесу проходит черта — Он рыж, а за нею оснежен, — И пар изо рта, и кругом пустота, И мрак, и конец неизбежен, Спускается ночь на последний приют, Ночные туманы в долине встают, И тучи наносит с востока, И ложе мое одиноко.Баллада о кустах
Oh, I was this and I was that…
Kipling, «Tomlinson» Пейзаж для песенки Лафоре: усадьба, заросший пруд И двое влюбленных в самой поре, которые бродят тут. Звучит лягушечье бре-ке-ке. Вокруг цветет резеда. Ее рука у него в руке, что означает «да». Они обдумывают побег. Влюбленность требует жертв. Но есть еще один человек, ломающий весь сюжет. Им кажется, что они вдвоем. Они забывают страх. Но есть еще муж, который с ружьем сидит в ближайших кустах. На самом деле эта деталь (точнее, сюжетный ход), Сломав обычую пастораль, объема ей придает. Какое счастие без угроз, какой собор без химер, Какой, простите прямой вопрос, без третьего адюльтер? Какой романс без тревожных нот, без горечи на устах? Все это им обеспечил Тот, Который Сидит в Кустах. Он вносит стройность, а не разлад в симфонию бытия, И мне по сердцу такой расклад. Пускай это буду я. Теперь мне это даже милей. Воистину тот смешон, Кто не попробовал всех ролей в драме для трех персон. Я сам в ответе за свой Эдем. Еже писах – писах. Я уводил, я был уводим, теперь я сижу в кустах. Все атрибуты ласкают глаз: двое, ружье, кусты И непривычно большой запас нравственной правоты. К тому же автор, чей взгляд прямой я чувствую все сильней, Интересуется больше мной, нежели им и ей. Я отвечаю за все один. Я воплощаю рок. Можно пойти растопить камин, можно спустить курок. Их выбор сделан, расчислен путь, известна каждая пядь. Я все способен перечеркнуть – возможностей ровно пять. Убить одну; одного; двоих (ты шлюха, он вертопрах); А то, к восторгу врагов своих, покончить с собой в кустах. А то и в воздух пальнуть шутя и двинуть своим путем: Мол, будь здорова, резвись, дитя, в обнимку с другим дитем, И сладко будет, идя домой, прислушаться налегке, Как пруд взрыватся за спиной испуганным бре-ке-ке. Я сижу в кустах, моя грудь в крестах, моя голова в огне, Все, что автор плел на пяти листах, довершать поручено мне. Я сижу в кустах, полускрыт кустами, у автора на виду, Я сижу в кустах и менять не стану свой шиповник на резеду, Потому что всякой Господней твари полагается свой декор, Потому что автор, забыв о паре, глядит на меня в упор.Сон о Гоморре
Ибо милость твоя – казнь, а казнь – милость…
В. Н.Гаврила был хороший ангел,
Гаврила Богу помогал.
Из пародии1. «Вся трудность при общеньи с Богом…»
Вся трудность при общеньи с Богом – в том, что у Бога много тел; он воплощается во многом – сегодня в белке захотел, а завтра в кошке, может статься, а завтра в бабочке ночной – подслушать ропот святотатца иль сговор шайки сволочной… Архангел, призванный к ответу, вгляделся в облачную взвесь: направо нету, слева нету – а между тем он явно здесь. Сердит без видимой причины, Господь раздвинул облака и вышел в облике мужчины годов примерно сорока.
Походкой строгою и скорой он прошагал по небесам:
– Скажи мне, что у нас с Гоморрой?
– Грешат в Гоморре…
– Знаю сам. Хочу ее подвергнуть мору. Я так и сяк над ней мудрил – а проку нет. Кончай Гоморру.
– Не надо, – молвил Гавриил.
– Не надо? То есть как – не надо? Добро бы мирное жулье, но там ведь главная отрада – пытать терпение мое. Грешат сознательно, упорно, демонстративно, на виду…
– Тогда тем более позорно идти у них на поводу, – архангел вымолвил, робея. – Яви им милость, а не суд… А если чистых двух тебе я найду – они ее спасут?
Он замер. Сказанное слово повисло в звонкой тишине.
– Спасут, – сказал Господь сурово. – Отыщешь праведника мне? Мое терпенье на пределе. Я их бы нынче раскроил, но дам отсрочку в три недели.
– Ура! – воскликнул Гавриил.
2. «В Гоморре гибели алкали сильней, чем прибыли…»
В Гоморре гибели алкали сильней, чем прибыли. Не зря она стояла на вулкане. Его гигантская ноздря давно чихала и сопела. Дымы над городом неслись. Внутри шкворчала и кипела густая, яростная слизь. В Гоморре были все знакомы с глухой предгибельной тоской. Тут извращали все законы – природный, Божий и людской. Невинный вечно был наказан, виновный – вечно горд и рад, и был по улицам размазан неистощимый, липкий смрад. Последний праведник Гоморры, убогим прозванный давно, уставив горестные взоры в давно немытое окно, вдыхал зловонную заразу, внимал вулканные шумы (забыв, что должен по заказу пошить разбойнику штаны) – и думал: «Боже милосердный, всего живущего творец! Когда-то я, твой раб усердный, узрю свободу наконец?!»
Меж тем к нему с благою вестью спешит архангел Гавриил, трубя на страх всему предместью: «Я говорил, я говорил!» Он перешагивает через канавы, лужи нечистот, – дома отслеживают, щерясь, как он из всех находит тот, ту захудалую лачугу, где все ж душа живая есть: он должен там толкнуть речугу и изложить благую весть. А между тем все ниже тучи, все неотступней Божий взгляд, все бормотливей, все кипучей в жерле вулкана дымный ад… Бурлит зловонная клоака, все ближе тайная черта – никто из жителей, однако, не замечает ни черта: чернеет чернь, воруют воры, трактирщик поит, как поил…
– Последний праведник Гоморры! – трубит архангел Гавриил. – Достигнуты благие цели, сбылись заветные мечты. Господь желает в самом деле проверить, праведен ли ты, – и если ты и вправду правед (на чем я лично настою), – он на земле еще оставит тебя и родину твою!
Последний праведник Гоморры, от светоносного гонца услышав эти приговоры, спадает несколько с лица. Не потому он прятал взоры от чудо-странника с трубой, что ждать не ждал конца Гоморры: конца Гоморры ждал любой. Никто из всей продажной своры, давно проклявшей бытие, так не желал конца Гоморры, как главный праведник ее. Полупроглочен смрадной пастью, от омерзенья свившись в жгут, он ждал его с такою страстью, с какой помилованья ждут. Он не был добр в обычном смысле: в Гоморре нет добра и зла, все добродетели прокисли, любая истина грязна. Он, верно, принял бы укоры в угрюмстве, злобе, мандраже – но он был праведник Гоморры, вдобавок гибнущей уже. Он не грешил, не ведал блуда, не пил, не грабил, не грубил, он был противник самосуда и самосада не любил, он мог противиться напору любых соблазнов и свиней – но не любил свою Гоморру, а сам себя еще сильней. Под сенью отческого крова, в своем же собственном дому, он натерпелся там такого, что не расскажешь никому. Любой, кто срыл бы эту гору лжецов, садистов и мудил, – не уничтожил бы Гоморру, но, может быть, освободил. Здесь было все настолько гнило, что, копошась вокруг жерла, она сама себя томила и жадно гибели ждала. Притом он знал (без осужденья, поскольку псы – родня волкам), что сам участвует с рожденья в забаве «Раздразни вулкан». Он был заметнейшим предлогом для святотатца и лжеца, чтобы Гоморра перед Богом разоблачилась до конца, и чистота его, суровей, чем самый строгий судия, – была последним из условий ее срамного бытия. На нем, на мальчике для порки, так отразился весь расклад, что никакие отговорки не отвратили бы расплат, и каждый день его позора, и каждый час его обид был частью замысла: Гоморра без праведника не стоит.
Несчастный праведник не в силах изречь осмысленный ответ. На сколько лет еще унылых он осужден? И сколько лет его мучителям осталось? Так он молчит перед гонцом. Невыносимая усталость в него вливается свинцом. Ответить надо бы любезно, а ночь за окнами бледна… Все говорили: бездна, бездна – на то и бездна, что без дна. Светает. Небо на востоке в кровавых отсветах зари. «Какие он наметил сроки?»
– Он говорил, недели три.
И, с ободряющей улыбкой кивнув гоморрскому тельцу, архангел серебристой рыбкой уплыл к небесному отцу. Убогий дом сотрясся мелко, пес у соседей зарычал, а по двору скакала белка. Ее никто не замечал.
3. «Но тут внезапно, на пределе, – утешен он и даже рад…»
Но тут внезапно, на пределе, – утешен он и даже рад: возможно и за три недели так нагрешить, что вздрогнет ад! Душа погибнет? Хватит вздора! Без сожаления греши. За то, чтоб сгинула Гоморра, не жалко собственной души. На то, чтоб мерзостью упиться, вполне довольно двух недель; и праведник-самоубийца идет, естественно, в бордель.
Ночами черными в Гоморре давно орудует злодей, случайным путникам на горе; один из тех полулюдей, что убивают не для денег, а потому, что любят нож, и кровь, и дрожь, и чтобы пленник подольше мучился. Ну что ж, подумал муж, суров и правед. Пусть подойдет. Уже темно. Он от греха меня избавит и от Гоморры заодно. Жалеть пришлось бы о немногом, руки в ответ не подниму…
Однако тот, кто взыскан Богом, не достается никому.
…Застывшей лавою распорот, как шрамом, исказившим лик, – тут прежде был великий город. Он был ужасен, но велик. Его враги ложились прахом под сапоги его солдат. Он наводнял округу страхом каких-то двести лет назад, но время и его скосило. Ошиблись лучшие умы: нашлась и на Гоморру сила сильней войны, страшней чумы. Не доброхоты-миротворы, не чистота и новизна – увы, таков закон Гоморры: зло губят те, кто хуже зла. То, что казалось прежде адом, попало в горшую беду и было сожрано распадом: десятый круг – распад в аду. При виде этого оскала затихла буйная орда: былое зло казаться стало почти добром… но так – всегда. Урод, тиранствовавший рьяно, был дважды туп и трижды груб, но что ужаснее тирана? Его непогребенный труп. Любой распутнице и стерве дают пятьсот очков вперед в ней расплодившиеся черви, что станут править в свой черед. Сползут румяна, позолота – и воцарится естество: тиран еще щадит кого-то, а черви вовсе никого. Над камнем, лавою и глиной с мечом пронесся Азраил. Гоморра вся была руиной и состояла из руин. Он думал, тихо опечален пейзажем выжженной земли, что и в аду полно развалин – их там нарочно возвели. Слетит туда душа злодея, невосприимчива ко лжи, – оглянется:
«Куда я? Где я? Не рай ли это был, скажи?» – и станет с пылом тараканьим искать следы былых утрат, и будет маяться сознаньем, что все в упадке, даже ад. А все сначала так и было – кирпич, обломки, стекла, жесть, – бездарно, дешево и гнило, с закосом под былую честь. Что ж, привыкай к пейзажу ада – теперь ты катишься туда. Мелькнуло: «Поверни, не надо» – но он ответил: «Никогда! Еще на век спасать Гоморру? Ее гнилые потроха?» – и он упрямо перся в гору, поскольку труден путь греха.
Сгущалась тьма. Гора дрожала, громов исполнена и стрел.
(И кошка рядом с ним бежала, но он на кошку не смотрел.)
4. «Бордель стоял на лучшем месте, поправ окрестную скудель…»
Бордель стоял на лучшем месте, поправ окрестную скудель. Когда-то, лет тому за двести, там был, конечно, не бордель, но даже старцы-ветераны забыли, что таилось тут. Быть может, прежние тираны вершили здесь неправый суд, иль казначей считал убыток за неприступными дверьми, иль просто зданием для пыток служил дворец – пойди пойми. Следы величия былого тут сохранялись до сих пор: над входом выбитое слово – не то «театр», не то «террор» (язык титанов позабылся); еще ржавели по углам не то орудия убийства, не то декоративный хлам. Кольцо в стене, петля, колода, дубовый стол, железный шкаф… Теперь, когда пришла свобода, все это служит для забав весьма двусмысленного рода. Угрюмый местный идиот весь день слоняется у входа, гнусит, к прохожим пристает… Ублюдок чьей-то давней связи, блюдя предписанный канон, законный ком зловонной грязи швыряет в праведника он: беднягу все встречали этим, – он только горбился, кряхтя. Швырять предписывалось детям. Дебил был вечное дитя.
«Кто к нам пожаловал! Гляди-ка!» – орет привратник у дверей. Раскаты хохота и крика, осипший вой полузверей, безрадостно грешащей своры расчеловеченная слизь: «Последний праведник Гоморры! Должно быть, руки отнялись, что он явился в дом разврата?» – «Ну, если так, всему хана: на нас последние, ребята, накатывают времена! Теперь попразднуем в охотку, уж коли скоро на убой. Хозяйка! Дать ему Красотку. Пускай потешится с рябой!»
В углу побоев огребала от неизвестного бойца широкая, тупая баба с кровоподтеком в пол-лица. Он бил расчетливо, умело, позвали – рявкнул: «Не мешай!» Ее потасканное тело коростой покрывал лишай – не то парша, не то чесотка, но ведь в аду брезгливых нет… Ее окликнули: «Красотка! Веди клиента в кабинет». Боец оглядывался, скалясь: «А что? Иди… не то б пришиб…» (Барать старух, уродиц, карлиц – был фирменный гоморский шик.) Она, пошатываясь, встала, стянула тряпки на груди – и человеческое стадо завыло: «Праведный, гряди!»
…В углу загаженной каморы валялась пара одеял. Последний праведник Гоморры в дверях потерянно стоял. На нем висящая Красотка его хватала между ног – но он лишь улыбался кротко и сделать ничего не мог. Она обрушилась на ложе, как воин после марш-броска, – и на ее широкой роже застыла смертная тоска.
По потолку метались тени. Героя начало трясти. Он рядом сел, обняв колени, и блекло вымолвил: «прости». Тут даже стены обалдели от потрясения основ: ни в доме пыток, ни в борделе таких не слыхивали слов. Вдали запели (адским бесам не снился этакий разброд). Она взглянула с интересом в его лицо: он был урод, но в нем была и скорбь, и сила. Он был как будто опален. «Прости?» – она переспросила. «Ну да, прости», – ответил он. Она в ответ, с улыбкой злобной, хмельной отравою дыша:
«Ты что ж – с рожденья неспособный, иль я тебе нехороша?» Помедлив меж двумя грехами – солгать иль правдой оскорбить, – он молвил: «Хороша, плоха ли… И я в порядке, может быть, да разучился. Так бывает. С семьею форменный завал, жена другого добивает…» (Про это, кстати, он не врал.) Ах, если б пристальный свидетель ему сказал: «Не суйся в грех – он труден, как и добродетель, и предназначен не для всех!» «Ушла давно?» – «Четыре года как ни при ком не состою», – и начал он без перехода ей жизнь рассказывать свою – в надежде, может быть, утешить… Но тут, растрогавшись спьяна, «Нас всех бы надо перевешать!» – провыла яростно она. Ее рыданья были грубы, лицо пестро, как решето. «Ну да, – промолвил он сквозь зубы, – да, вишь, не хочет кое-кто!» – «Кто-кто?» Ответить он не в силе. И как в борделе скажешь «Бог»? О Боге здесь давно забыли, а объяснить бы он не мог.
Они заснули на рассвете. Во сне тоска была лютей. Вошел охранник: «Спят, как дети!» – и пнул разбуженных детей. С утра Красотке было стыдно. Она была бы хороша или хотя бы миловидна, когда б не грязь и не парша. Хоть ночь у них прошла без блуда, была уплачена цена. «Возьми, возьми меня отсюда! – проныла жалобно она. – Здесь то помои, то побои, дерьмо едим, отраву пьем… Приходят двое – бьют обое, приходят трое – бьют втроем…» Он встал – она завыла снова: «Возьми меня! Подохну я!» Он дал хозяйке отступного и так остался без копья. Она плелась по грязи улиц к его убогому жилью, и все от хохота рехнулись, смотря на новую семью.
Красотка толком не умела убрать посуду со стола, зато спала, обильно ела и с кем ни попадя пила. Назад в бордель ее не брали, не то сбежала бы давно. Он ей не мог читать морали и начал с нею пить вино: уж коли первая попытка накрылась, грубо говоря, – он хоть при помощи напитка грешить надеялся… но зря. Он пил, в стремлении упорном познать злонравия плоды, – все тут же выходило горлом: желудок требовал воды. Срок отведенный быстро прожит – а он едва успел понять, что и грешить не всякий может, и поздно что-нибудь менять. Он пнул собаку – но собаки людских не чувствуют обид. Он дважды ввязывался в драки – и оба раза был побит. Со смаком, с гоготом, со славой он был разделан под орех – а идиот, кретин слюнявый, над ним смеялся громче всех. Хотел украсть белье с веревки – в кутузку на ночь загремел (хищенье требует сноровки, а он и бегать не умел). Он снова пробовал: тверды ли границы Промысла? Тверды. Погрязнуть силился в гордыне – опять напрасные труды: он ненавидел слишком, слишком, упрямо, мрачно, за двоих – себя, с уклончивым умишком, с набором странностей своих, с бесплодным поиском опоры, с утратой всех, с кем был в родстве, – и все равно с клеймом Гоморры на каждой мысли, каждом сне. Он поднимал, смурной и хворый, глаза в проклятый небосвод – и видел: туча над Гоморрой уже неделю не растет, и даже съежилась, похоже… и стал бледнеть ее свинец…
О Боже, молвил он, о Боже. И вот решился наконец.(Покуда он глядел устало в зловонно пышущую тьму, – под крышей бабочка летала, но не до бабочек ему.)
5. «Тут надо было без помарок…»
Тут надо было без помарок. Сорваться – значит все обречь. Был долог день, и вечер жарок, и ночь за ним была как печь. Он шел по улицам Гоморры, сдвигаясь медленно с ума; смотрел на черные заборы и безответные дома. Нигде не лаяли собаки и не скрипело колесо, – и это тоже были знаки, что в эту ночь решалось все. Он шел и чуял это кожей; шатаясь, шел, как по воде… Однако ни один прохожий ему не встретился нигде. Маньяка, что ли, опасались – он становился все наглей, – а может, просто насосались (была гулянка, юбилей – давно истратив и развеяв остатки роскоши былой, тут не могли без юбилеев). Тая оружье под полой, он шел, сворачивал в проулки, кружился, не видал ни зги, – и в темноте, страшны и гулки, звучали лишь его шаги.
И лишь уже перед рассветом, под чьим-то запертым окном, в неостывающем, прогретом, зловонном воздухе ночном мелькнуло нечто вроде тени. Он вздрогнул и замедлил шаг. Ходили ходуном колени и барабанило в ушах. По темной улице горбатой, прижавшись к треснувшей стене, сливаясь с нею, брел поддатый. Убить такого – грех вдвойне. Ну что же! По моей-то силе сгодится мне как раз такой… Он вспомнил все, что с ним творили, чтобы недрогнувшей рукой ударить в ямку под затылок. Нагнал. Ударил раз, другой – и пьяный, точно куль опилок, упал с подогнутой ногой.
Как странно: он не чуял дрожи. Кого ж я это? Видит Бог, такой тупой, поганой рожи и дьявол выдумать не мог. Ни мысли в помутневшем взоре, широкий рот, звериный лоб… А что я думал – что в Гоморре иное встретиться могло б? И что теперь? Теперь уж точно поглотит нас кровавый свет. Теперь в Гоморре все порочно. В ней больше праведника нет. Он поднял голову. Напротив стоял урод, согбен и мал, и плакал, рожу скосоротив, как будто что-то понимал. И здесь же, около кретина, – к плечу плечо, к руке рука, – стоял неведомый мужчина годов примерно сорока.
– Се вижу праведного мужа! – он рек, не разжимая губ. – Все плохи тут, но этот хуже (он указал на свежий труп). Се гад, хитер и перепончат, как тинный житель крокодил. Я думал сам его прикончить, но ты меня опередил. Теперь мараться мне не надо. Се пища ада, бесов снедь. Невыразимая отрада – живого праведника зреть. Ты спас родное государство от неизбежного конца. Кого убил ты – догадался?
– Того, злодея?
– Молодца. Хвалю тебя, ты честный воин. Ступай домой, попей вина и с этой ночи будь спокоен: твоя Гоморра спасена.
– Я спас Гоморру. Вот умора, – промолвил праведник с тоской. – Люблю тебя, моя Гоморра, зловонный город нелюдской! Руины, гной, помои, бляди, ворье, жулье, гнилье, зверье… Уж одного меня-то ради щадить не надо бы ее. За одного меня, о Боже?! Ведь тут грешили на износ…
– За одного? А это кто же? – Господь с улыбкой произнес. Он указал на идиота и бодро хлопнул по плечу:
– Увидел праведника? То-то. Что скажешь мне?
– Молчу, молчу…
– Да не молчи, – сказал он просто. – С тех пор, как создан этот свет, все ждут разгрома, холокоста, конца времен… А вот и нет. Все упиваются распадом, никто не пашет ни хрена, все мнят, что катастрофа рядом и всё им спишет, как война. Я сам сперва желал того же: всех без остатка, как котят… Но тут сказал себе: о Боже! Они же этого хотят! Сбежать задумывают, черти, мечтают быть хитрей небес! Бывает жизнь и после смерти, и в ней-то самый интерес. Нет, поживи еще, Гоморра. Успеешь к страшному суду. Не жди конца, конец нескоро. Меж тем светает. Я пойду.
Он удалялся вниз по склону, и мрак, разрежен и тесним, поблекнул в тон его хитону и удалялся вместе с ним, – а праведник сидел у трупа, и рядом с ним сидел дебил. Герой молчал, уставясь тупо вослед тому, кого любил. Среди камней, во мгле рассветной – тропинка, вейся, мрак, клубись! – скрывался Бог ветхозаветный, Бог идиотов и убийц, а наверху, обнявшись немо, держа заточку и суму, два человека – сверх– и недо– – еще смотрели вслед ему. Дул ветерок, бледнело небо, по плоским крышам тек рассвет. Кто нужен Богу? Сверх и недо. Во всем, что между, Бога нет. Они сидели, чуть живые, в прозрачной утренней тиши. Несчастный праведник впервые в себе не чувствовал души. Исчезли вечные раздоры, затихло вечное нытье. Душа последняя Гоморры навек покинула ее.
6. «Когда от скрюченного тела душа, как высохший листок…»
Когда от скрюченного тела душа, как высохший листок, бесповоротно отлетела, то тело чувствует восторг! Ничто не гложет, не тревожит, не хочет есть, не просит пить. Душа избыточна, быть может. Душа – уродство, может быть. В рассветном сумеречном свете он видит: лето настает. А он совсем забыл о лете, неблагодарный идиот! Пока – без друга, без подруги, без передышки, без семьи он исчислял в своей лачуге грехи чужие и свои, пока он зрел одни помои и только черные дела – сошла черемуха в Гоморре, сирень в Гоморре зацвела… Как сладко нежиться и греться – как пыль, трава, как минерал… Он этого не делал с детства. На что он это променял?! Где непролившимся потопом стояла туча – тучи нет; по склонам, по овечьим тропам ползет ее прозрачный след. Как бездна неба лучезарна, как вьется желтая тропа, как наша скорбь неблагодарна и наша праведность слепа! О, что я видел. О, на что ж я потратил жизнь – тогда как мог быть только частью мира Божья, как куст, как зелени комок, как эта травка дорогая, как пес, улегшийся пластом – пять чувств всечасно напрягая и знать не зная о шестом! О почва, стань моей опорой! Хочу прильнуть к тебе давно. Зачем нам правда – та, которой мы не вмещаем все равно? Он бормотал и дальше что-то, по глине пальцами скребя, – и крепко обнял идиота: люблю тебя, люблю тебя! Торговка вышла на дорогу, старик поплелся в полусне… Теперь я всех люблю, ей-богу! Теперь я праведник вполне. Он таял в этом счастье глупом, а мимо тек гоморрский люд, пиная труп (поскольку трупам давно не удивлялись тут).
Как славно голубели горы, как млели сонные цветы… Он узнавал своей Гоморры неповторимые черты, он слышал рокот соловьиный (о чем? Ей-богу, ни о чем!). Как сладко было быть руиной, уже подернутой плющом! Вот плеть зеленая повисла, изысканна, разветвлена… В Гоморре больше нету смысла? Но смысл Гоморры был – война, и угнетенье, и бесправье, и смерть связавшегося с ней… О равноправье разнотравья, и эта травка меж камней, и этот сладкий дух распада, цветущей плоти торжество! Не надо, Господи, не надо, не надо больше ничего. Я не желаю больше правил, не знаю, что такое грех, – я рад, что ты меня оставил. Я рад, что ты оставил всех.
Люблю тебя, моя Гоморра! Люблю твой строгий, стройный вид, то ощущение простора, которым душу мне живит твоя столетняя разруха. Люблю бескрайность площадей, уже избыточных для духа твоих мельчающих людей. Хочу проснуться на рассвете от тяжкого, больного сна, в котором были злые дети, была чума, была война, – и с чувством, что меня простили и взор прицельный отвели, зажить в каком-то новом стиле, в манере пыли и земли; и вместе со своей Гоморрой впивать блаженный, летний бред посмертной жизни – той, в которой ни смысла нет, ни смерти нет.
Баллады
Первая баллада
В то время я гостила на Земле.
Ахматова И все же на поверхности Земли Мы не были случайными гостями: Не слишком шумно жили, как могли, Обмениваясь краткими вестями О том, как скудные свои рубли Растратили – кто сразу, кто частями, Деля на кучки (сколько ни дели, Мы часто оставались на мели). И все же на поверхности Земли Мы не были случайными гостями: Беседы полуночные вели, Вступали в пререкания с властями, — А мимо нас рабы босые шли И проносили балдахин с кистями: Как бережно они его несли! Их ноги были в уличной пыли. И все же на поверхности Земли Мы не были случайными гостями… (В харчевнях неуемные врали Играли в домино, стуча костями, Посасывали пиво, чушь плели И в карты резались, хвалясь мастями; Пел нищий, опершись на костыли, На площади, где ночью книги жгли.) И все же на поверхности Земли Мы не были случайными гостями: В извечном страхе пули и петли Мы проходили этими местами, Над реками, что медленно текли Под тяжкими чугунными мостами… Вокруг коней ковали, хлеб пекли, И торговали, и детей секли. И все же на поверхности Земли Мы не были. Случайными гостями Мы промелькнули где-то там, вдали, Где легкий ветерок играл снастями. Вдоль берега мы медленно брели — Друг с другом, но ни с этими, ни с теми, Пока метели длинными хвостами Последнего следа не замели.Вторая баллада
Пока их отцы говорили о ходе Столичных событий, о псовой охоте, Приходе зимы и доходе своем, А матери – традиционно – о моде, Погоде и прочая в этом же роде, Они за диваном играли вдвоем. Когда уезжали, он жалобно хныкал. Потом, наезжая на время каникул, Подросший и важный, в родительский дом, Он ездил к соседям и видел с восторгом: Она расцветает! И все это время Они продолжали друг друга любить. Потом обстоятельства их разлучили — Бог весть почему. По какой-то причине Все в мире случается наоборот. Явился хлыщом – развращенный, лощеный, — И вместо того, чтоб казаться польщенной, Она ему р-раз – от ворот поворот! Игра самолюбий. С досады и злости — За первого замуж. С десяток набросьте Унылых, бесплодных, томительных лет — Он пил, опустился, скитался по свету, Искал себе дело… И все это время Они продолжали друг друга любить. Однажды, узнав, что она овдовела, Он кинулся к ней – и стоял помертвело, Хотел закричать – и не мог закричать: Они друг на друга смотрели бесслезно, И оба уже понимали, что поздно Надеяться заново что-то начать. Он бросился прочь… и отныне – ни звука: Ни писем, ни встречи. Тоска и разлука. Они доживали одни и поврозь, Он что-то писал, а она вышивала, И плакали оба… и все это время Они продолжали друг друга любить. А все это время кругом бушевали Вселенские страсти. Кругом воевали, От пролитой крови вскипала вода, Империи рушились, саваны шились, И троны тряслись, и короны крушились, И рыжий огонь пожирал города. Вулканы плевались камнями и лавой, И гибли равно виноватый и правый, Моря покидали свои берега, Ветра вырывали деревья с корнями, Земля колыхалась… и все это время Они продолжали друг друга любить! Клонясь, увядая, по картам гадая, Беззвучно рыдая, безумно страдая, То губы кусая, то пальцы грызя, — Сходили на нет, растворялись бесплотно, Но знали безмолвно и бесповоротно, Что вместе нельзя и отдельно нельзя. Так жили они до последнего мига, Несчастные дети несчастного мира, Который и рад бы счастливее стать — Да все не умеет: то бури, то драки, То придурь влюбленных… и все это время… О Господи Боже, да толку-то что!Третья баллада
Десять негритят
Пошли купаться в море…
Какая была компания, какая резвость и прыть! Понятно было заранее, что долго ей не прожить. Словно палкой по частоколу, выбивали наш гордый строй. Первый умер, пошедши в школу и, окончив школу, второй. Третий помер, когда впервые получил ногой по лицу, Отрабатывая строевые упражнения на плацу. Четвертый умер от страха, в душном его дыму, А пятый был парень-рубаха и умер с тоски по нему. Шестой удавился, седьмой застрелился, с трудом раздобыв пистолет, Восьмой уцелел, потому что молился, и вынул счастливый билет, Пристроился у каравая, сумел избежать нищеты, Однако не избежал трамвая, в котором уехала ты, Сказав перед этим честно и грубо, что есть другой человек, — И сразу трое врезали дуба, поняв, что это навек. Пятнадцатый умер от скуки, идя на работу зимой. Шестнадцатый умер от скуки, придя с работы домой. Двадцатый ходил шатаясь, поскольку он начал пить, И чудом не умер, пытаясь на горло себе наступить. Покуда с ногой на горле влачил он свои года, Пятеро перемерли от жалости и стыда, Тридцатый сломался при виде нахала, который грозил ножом. Теперь нас осталось довольно мало, и мы себя бережем. Так что нынешний ходит по струнке, охраняет свой каравай, Шепчет, глотает слюнки, твердит себе «не зевай», Бежит любых безобразий, не топит тоски в вине, Боится случайных связей, а не случайных – вдвойне, На одиноком ложе тоска ему давит грудь. Вот так он живет – и тоже подохнет когда-нибудь. Но в этой жизни проклятой надеемся мы порой, Что некий пятидесятый, а может быть, сто второй, Которого глаза краем мы видели пару раз, Которого мы не знаем, который не знает нас, — Подвержен высшей опеке, и слышит ангельский смех, И потому навеки останется после всех.Четвертая баллада
Андрею Давыдову
В Москве взрывают наземный транспорт – такси, троллейбусы, все подряд. В метро ОМОН проверяет паспорт у всех, кто черен и бородат, И это длится седьмые сутки. В глазах у мэра стоит тоска. При виде каждой забытой сумки водитель требует взрывника. О том, кто принял вину за взрывы, не знают точно, но много врут. Непостижимы его мотивы, непредсказуем его маршрут, Как гнев Господень. И потому-то Москву колотит такая дрожь. Уже давно бы взыграла смута, но против промысла не попрешь. И чуть затлеет рассветный отблеск на синих окнах к шести утра, Юнец, нарочно ушедший в отпуск, встает с постели. Ему пора. Не обинуясь и не колеблясь, но свято веря в свою судьбу, Он резво прыгает в тот троллейбус, который движется на Трубу И дальше кружится по бульварам («Россия» — Пушкин – Арбат – пруды) — Зане юнец обладает даром спасать попутчиков от беды. Плевать, что вера его наивна. Неважно, как там его зовут. Он любит счастливо и взаимно, и потому его не взорвут. Его не тронет волна возмездий, хоть выбор жертвы необъясним. Он это знает и ездит, ездит, храня любого, кто рядом с ним. И вот он едет. Он едет мимо пятнистых скверов, где визг играющих малышей Ласкает уши пенсионеров и греет благостных алкашей, Он едет мимо лотков, киосков, собак, собачников, стариков, Смешно целующихся подростков, смешно серьезных выпускников, Он едет мимо родных идиллий, где цел дворовый жилой уют, Вдоль тех бульваров, где мы бродили, не допуская, что нас убьют, — И как бы там ни трудился Хронос, дробя асфальт и грызя гранит, Глядишь, еще и теперь не тронут: чужая молодость охранит. …Едва рассвет окровавит стекла и город высветится опять, Во двор выходит старик, не столько уставший жить, как уставший ждать. Боец-изменник, солдат-предатель, навлекший некогда гнев Творца, Он ждет прощения, но Создатель не шлет за ним своего гонца. За ним не явится никакая из караулящих нас смертей. Он суше выветренного камня и древней рукописи желтей. Он смотрит тупо и безучастно на вечно длящуюся игру, Но то, что мучит его всечасно, впервые будет служить добру. И вот он едет. Он едет мимо крикливых торгов и нищих драк за бесплатный суп, Он едет мимо больниц и моргов, гниющих свалок, торчащих труб, Вдоль улиц, прячущих хищный норов в угоду юному лопуху, Он едет мимо сплошных заборов с колючей проволокой вверху, Он едет мимо голодных сборищ, берущих всякого в оборот, Где каждый выкрик равно позорящ для тех, кто слушает и орет, Где, притворяясь чернорабочим, вниманья требует наглый смерд, Он едет мимо всего того, чем согласно брезгуют жизнь и смерть; Как ангел ада, он едет адом – аид, спускающийся в Аид, — Храня от гибели всех, кто рядом (хоть каждый верит, что сам хранит). Вот так и я, примостившись между юнцом и старцем, в июне, в шесть, Таю отчаянную надежду на то, что все это так и есть: Пока я им сочиняю роли, не рухнет небо, не ахнет взрыв, И мир, послушный творящей воле, не канет в бездну, пока я жив. Ни грохот взрыва, ни вой сирены не грянут разом, Москву глуша, Покуда я бормочу катрены о двух личинах твоих, душа. И вот я еду.Пятая баллада
Я слышал, особо ценится средь тех, кто бит и клеймен, Пленник (и реже – пленница), что помнит много имен. Блатные не любят грамотных, как большая часть страны, Но этот зовется «Памятник», и оба смысла верны. Среди зловонного мрака, завален чужой тоской, Ночами под хрип барака он шепчет перечень свой: Насильник, жалобщик, нытик, посаженный без вины, Сектант, шпион, сифилитик, политик, герой войны, Зарезал жену по пьяни, соседу сарай поджег, Растлил племянницу в бане, дружка пришил за должок, Пристрелен из автомата, сошел с ума по весне… Так мир кидался когда-то с порога навстречу мне. Вся роскошь воды и суши, как будто в последний раз, Ломилась в глаза и уши: запомни и нас, и нас! Летели слева и справа, кидались в дверной проем, Толкались, борясь за право попасть ко мне на прием, Как будто река, запруда, жасмин, левкой, резеда — Все знали: вырвусь отсюда; не знали только, куда. – Меж небом, водой и сушей мы выстроим зыбкий рай, Но только смотри и слушай, но только запоминай! Я дерево в центре мира, я куст с последним листом, Я инвалид из тира, я кот с облезлым хвостом, А я – скрипучая койка в дому твоей дорогой, А я – троллейбус такой-то, возивший тебя к другой, А я, когда ты погибал однажды, устроил тебе ночлег — И канул мимо, как канет каждый. Возьми и меня в ковчег! А мы – тончайшие сущности, сущности, плоти мы лишены, Мы резвиться сюда отпущены из сияющей вышины, Мы летим в ветровом потоке, нас несет воздушный прибой, Нас не видит даже стоокий, но знает о нас любой. Но чем дольше я здесь ошиваюсь – не ведаю для чего, — Тем менее ошибаюсь насчет себя самого. Вашей горестной вереницы я не спас от посмертной тьмы, Я не вырвусь за те границы, в которых маемся мы. Я не выйду за те пределы, каких досягает взгляд. С веткой тиса или омелы голубь мой не летит назад. Я не с теми, кто вносит правку в бесконечный реестр земной. Вы плохую сделали ставку и умрете вместе со мной. И ты, чужая квартира, и ты, ресторан «Восход», И ты, инвалид из тира, и ты, ободранный кот, И вы, тончайшие сущности, сущности, слетавшие в нашу тьму, Которые правил своих ослушались, открывшись мне одному. Но когда бы я в самом деле посягал на пути планет И не замер на том пределе, за который мне хода нет, Но когда бы соблазн величья предпочел соблазну стыда, — Кто бы вспомнил ваши обличья? Кто увидел бы вас тогда? Вы не надобны ни пророку, ни водителю злой орды, Что по Западу и Востоку метит кровью свои следы. Вы мне отданы на поруки – не навек, не на год, на час. Все великие близоруки. Только я и заметил вас. Только тот тебя и заметит, кто с тобою вместе умрет — И тебя, о мартовский ветер, и тебя, о мартовский кот, И вас, тончайшие сущности, сущности, те, что парят, кружа, Не выше дома, не выше, в сущности, десятого этажа, То опускаются, то подпрыгивают, то в проводах поют, То усмехаются, то подмигивают, то говорят «Салют!».Девятая баллада
Не езди, Байрон, в Миссолунги. Война – не место для гостей. Не ищут, барин, в мясорубке Высоких смыслов и страстей. Напрасно, вольный сын природы, Ты бросил мирное житье, Ища какой-нибудь свободы, Чтобы погибнуть за нее. Поймешь ли ты, переезжая В иные, лучшие края: Свобода всякий раз чужая, А гибель всякий раз своя? Направо грек, налево турок, И как душою ни криви — Один дурак, другой придурок И оба по уши в крови. Но время, видимо, приспело Накинуть плащ, купить ружье И гибнуть за чужое дело, Раз не убили за свое. И вот палатка, и желтая лихорадка, Никакой дисциплины вообще, никакого порядка, Порох, оскаленные зубы, грязь, жара, Гречанки носаты, ноги у них волосаты, Турки визжат, как резаные поросяты, Начинается бред, опускается ночь, ура. Американец под Уэской, Накинув плащ, глядит во тьму. Он по причине слишком веской, Но непонятной и ему, Явился в славный край корриды, Где вольность испускает дух. Он хмурит брови от обиды, Не формулируемой вслух. Легко ли гордому буржую В бездарно начатом бою Сдыхать за родину чужую, Раз не убили за свою? В горах засел республиканец, В лесу скрывается франкист — Один дурак, другой поганец И крепко на руку нечист. Меж тем какая нам забота, Какой нам прок от этих драк? Но лучше раньше и за что-то, Чем в должный срок за просто так. И вот Уэска, режет глаза от блеска, Короткая перебежка вдоль перелеска, Командир отряда упрям и глуп, как баран, Но он партизан, и ему простительно, Что я делаю тут, действительно, Лошадь пала, меня убили, но пассаран. Всю жизнь, кривясь, как от ожога, Я вслушиваюсь в чей-то бред. Кругом полным-полно чужого, А своего в помине нет. Но сколько можно быть над схваткой, И упиваться сбором трав, И убеждать себя украдкой, Что всяк по-своему неправ? Не утешаться же наивным, Любимым тезисом глупцов, Что дурно все, за что мы гибнем, И надо жить, в конце концов? Какая жизнь, я вас умоляю?! Какие надежды на краю? Из двух неправд я выбираю Наименее не мою — Потому что мы все невольники Чести, совести и тэ пэ — И, как ямб растворяется в дольнике, Растворяюсь в чужой толпе. И вот атака, нас выгнали из барака, Густая сволочь шумит вокруг, как войско мрака, Какой-то гопник бьет меня по плечу, Ответственность сброшена, точней сказать, перевалена. Один кричит – за русский дух, другой – за Сталина, Третий, зубы сжав, молчит, и я молчу.Одиннадцатая баллада
Серым мартом, промозглым апрелем, Миновав турникеты у врат, Я сошел бы московским Орфеем В кольцевой концентрический ад, Где влачатся, с рожденья усталы, Позабывшие, в чем их вина, Персефоны, Сизифы, Танталы Из Медведкова и Люблина, — И в последнем вагоне состава, Что с гуденьем вползает в дыру, Поглядевши налево-направо, Я увижу тебя – и замру. Прошептав машинально «Неужто?» И заранее зная ответ, Я протиснусь к тебе, потому что У теней самолюбия нет. Принимать горделивую позу Не пристало спустившимся в ад. Если честно, я даже не помню, Кто из нас перед кем виноват. И когда твои хмурые брови От обиды сомкнутся в черту, — Как Тиресий от жертвенной крови, Речь и память я вновь обрету. Даже страшно мне будет, какая Золотая, как блик на волне, Перекатываясь и сверкая, Жизнь лавиной вернется ко мне. Я оглохну под этим напором И не сразу в сознанье приду, Устыдившись обличья, в котором Без тебя пресмыкался в аду, И забьется душа моя птичья, И, выпрастываясь из тенет, Дорастет до былого величья — Вот тогда-то как раз и рванет. Ведь когда мы при жизни встречались, То, бывало, на целый квартал Буря выла, деревья качались, Бельевой такелаж трепетал. Шум дворов, разошедшийся Шуман, Дранг-унд-штурмом врывался в дома — То есть видя, каким он задуман, Мир сходил на секунду с ума. Что там люди? Какой-нибудь атом, Увидавши себя в чертеже И сравнивши его с результатом, Двадцать раз бы взорвался уже. Мир тебе, неразумный чеченец, С заготовленной парою фраз Улетающий в рай подбоченясь: Не присваивай. Все из-за нас. …Так я брежу в дрожащем вагоне, Припадая к бутылке вина, Поздним вечером, на перегоне От Кузнецкого до Ногина. Эмиссар за спиною маячит, В чемоданчике прячет чуму… Только равный убьет меня, значит? Вот теперь я равняюсь чему. Остается просить у Вселенной, Замирая оглохшей душой, Если смерти – то лучше мгновенной, Если раны – то пусть небольшой.Двенадцатая баллада
Хорошо, говорю. Хорошо, говорю тогда. Беспощадность вашу могу понять я. Но допустим, что я отрекся от моего труда и нашел себе другое занятье. Воздержусь от врак, позабуду, что я вам враг, буду низко кланяться всем прохожим. Нет, они говорят, никак. Нет, они отвечают, никак-никак. Сохранить тебе жизнь мы никак не можем.
Хорошо, говорю. Хорошо, говорю я им. Поднимаю лапки, нет разговору. Но допустим, я буду неслышен, буду незрим, уползу куда-нибудь в щелку, в нору, стану тише воды и ниже травы, как рак. Превращусь в тритона, в пейзаж, в топоним. Нет, они говорят, никак. Нет, они отвечают, никак-никак. Только полная сдача и смерть, ты понял?
Хорошо, говорю. Хорошо же, я им шепчу. Все уже повисло на паутинке. Но допустим, я сдамся, допустим, я сам себя растопчу, но допустим, я вычищу вам ботинки! Ради собственных ваших женщин, детей, стариков, калек: что вам проку во мне, уроде, юроде?
Нет, они говорят. Без отсрочек, враз и навек. Чтоб таких, как ты, вообще не стало в природе.
Ну так что же, я говорю. Ну так что же-с, я в ответ говорю. О как много попыток, как мало проку-с. Это значит, придется мне вам и вашему королю в сотый раз показывать этот фокус. Запускать во вселенную мелкую крошку из ваших тел, низводить вас до статуса звездной пыли. То есть можно подумать, что мне приятно. Я не хотел, но не я виноват, что вы все забыли! Раз-два-три. Посчитать расстояние по прямой. Небольшая вспышка в точке прицела. До чего надоело, Господи Боже мой. Не поверишь, Боже, как надоело.
Тринадцатая баллада
О, как все ликовало в первые пять минут После того как, бывало, на фиг меня пошлют Или даже дадут по роже (такое бывало тоже), Почву обыденности разрыв гордым словом «Разрыв». Правду сказать, я люблю разрывы! Решительный взмах метлы! Они подтверждают нам, что мы живы, когда мы уже мертвы. И сколько, братцы, было свободы, когда сквозь вешние воды Идешь, бывало, ночной Москвой – отвергнутый, но живой! В первые пять минут не больно, поскольку действует шок. В первые пять минут так вольно, словно сбросил мешок. Это потом ты поймешь, что вместо, скажем, мешка асбеста Теперь несешь железобетон; но это потом, потом. Хотя обладаю беззлобным нравом, я все-таки не святой И чувствую себя правым только рядом с неправотой, Так что хамство на грани порно мне нравственно благотворно, Как завершал еще Томас Манн не помню какой роман. Если честно, то так и с Богом (Господи, ты простишь?). Просишь, казалось бы, о немногом, а получаешь шиш. Тогда ты громко хлопаешь дверью и говоришь «Не верю», Как режиссер, когда травести рявкает «Отпусти!». В первые пять минут отлично. Вьюга, и черт бы с ней. В первые пять минут обычно думаешь: «Так честней. Сгинули Рим, Вавилон, Эллада. Бессмертья нет и не надо. Другие молятся палачу – и ладно! Я не хочу». Потом, конечно, приходит опыт, словно солдат с войны. Потом прорезывается шепот чувства личной вины. Потом вспоминаешь, как было славно еще довольно недавно. А если вспомнится, как давно, – становится все равно, И ты плюешь на всякую гордость, твердость и трам-пам-пам, И виноватясь, сутулясь, горбясь, ползешь припадать к стопам, И по усмешке в обычном стиле видишь: тебя простили, И в общем, в первые пять минут приятно, чего уж тут.Пятнадцатая баллада
Я в Риме был бы раб – фракиец, иудей Иль кто-нибудь еще из тех недолюдей, У коих на лице читается «Не трогай», Хотя клеймо на лбу читается «Владей». Владеющему мной уже не до меня — В империю пришли дурные времена: Часами он сидит в саду, укрывшись тогой, Лишь изредка зовет и требует вина. Когда бы Рим не стал постыдно-мягкотел, Когда бы кто-то здесь чего-нибудь хотел, Когда бы дряхлый мир, застывший помертвело, Задумал отдалить бесславный свой удел, — Я разбудил бы их, забывших даже грех, Влил новое вино в потрескавшийся мех: Ведь мой народ не стар! Но Риму нету дела — До трещин, до прорех, до варваров, до всех. Что можно объяснить владеющему мной? Он смотрит на закат, пурпурно-ледяной, На Вакха-толстяка, увенчанного лавром, С отломанной рукой и треснувшей спиной; Но что разбудит в нем пустого сада вид? Поэзию? Он был когда-то даровит, Но все перезабыл… И тут приходит варвар: Сжигает дом и мне «Свободен» говорит. Свободен, говоришь? Такую ерунду В бреду не выдумать. Куда теперь пойду? Назад, во Фракию, к ее неумолимым Горам и воинам, к слепому их суду? Как оправдаться мне за то, что был в плену? Припомнят ли меня или мою вину? И что мне Фракия, отравленному Римом — Презреньем и тоской идущего ко дну? И варвар, свысока взирая на раба, Носящего клеймо посередине лба, Дивился бы, что раб дерется лучше римлян За римские права, гроба и погреба; Свободен, говоришь? Валяй, поговорим. Я в Риме был бы раб, но это был бы Рим — Развратен, обречен, разгромлен и задымлен, И невосстановим, и вряд ли повторим. Я в Риме был бы раб, бесправен и раздет, И мной бы помыкал рехнувшийся поэт, Но это мой удел, другого мне не надо, А в мире варваров мне вовсе места нет — И видя пришлецов, толпящихся кругом, Я с ними бился бы бок о бок с тем врагом, Которого привык считать исчадьем ада, Поскольку не имел понятья о другом. Когда б я был ацтек – за дерзостность словес Я был бы осужден; меня бы спас Кортес, Он выгнал бы жрецов, разбил запасы зелий И выпустил меня – «Беги и славь прогресс!». Он удивился бы и потемнел лицом, Узрев меня в бою бок о бок с тем жрецом, Который бы меня казнил без угрызений, А я бы проклинал его перед концом. На западе звезда. Какая тьма в саду! Ворчит хозяйский пес, предчувствуя беду. Хозяин мне кричит: «Вина, козлобородый! Заснул ты, что ли, там?» – И я ворчу: «Иду». По статуе ползет последний блик зари. Привет, грядущий гунн. Что хочешь разори, Но соблазнять не смей меня своей свободой. Уйди и даже слов таких не говори.Шестнадцатая баллада
Война, война. С воинственным гиканьем пыльные племена Прыгают в стремена. На западном фронте без перемен: воюют нацмен и абориген, Пришлец и местный, чужой и свой, придонный и донный слой. Художник сдал боевой листок: «Запад есть Запад, Восток – Восток». На флаге колышется «Бей-спасай» и слышится «гей»-«банзай». Солдаты со временем входят в раж: дерясь по принципу «наш – не наш», Родные окопы делят межой по принципу «свой-чужой». Война, война. Сторон четыре, и каждая сторона Кроваво озарена. На северном фронте без перемен: там амазонка и супермен. Крутые бабы палят в грудак всем, кто взглянул не так. В ночных утехах большой разброс: на женском фронте цветет лесбос, В мужских окопах царит содом, дополнен ручным трудом. «Все бабы суки!» – орет комдив, на полмгновенья опередив Комдившу, в грохоте и пыли визжащую: «Кобели!» Война, война. Компания миротворцев окружена В районе Бородина. На южном фронте без перемен: войну ведут буржуй и гамен, Там сводят счеты – точней, счета, – элита и нищета, На этом фронте всякий – герой, но перебежчик — каждый второй, И дым отслеживать не дает взаимный их переход: Вчерашний босс оказался бос, вчерашний бомж его перерос — Ломает руки информбюро, спецкор бросает перо. Война, война. Посмотришь вокруг – кругом уже ни хрена, А только она одна. На фронте восточном без перемен: распад и юность, расцвет и тлен, Бессильный опыт бьется с толпой молодости тупой. Дозор старперов поймал бойца – боец приполз навестить отца: Сперва с отцом обнялись в слезах, потом подрались в сердцах. Меж тем ряды стариков растут: едва двоих приберет инсульт — Перебегают три дурака, достигшие сорока. Война, война. По левому флангу ко мне крадется жена. Она вооружена. Лишь мы с тобою в кольце фронтов лежим в земле, как пара кротов, Лежим, и каждый новый фугас землей засыпает нас. Среди войны возрастов, полов, стальных стволов и больных голов Лежим среди чужих оборон со всех четырех сторон. Мужик и баба, богач и голь, нацмен и Русь, седина и смоль, Лежим, которую ночь подряд штампуя новых солдат. Лежим, враги по всем четырем, никак объятий не раздерем, Пока орудий не навели на пядь ничейной земли.Семнадцатая баллада
Иногда мне кажется, что я гвоздь, Из миров погибших незваный гость, Не из Трои и не с Голгофы, А простой, из стенки, не обессудь, Уцелевший после какой-нибудь Окончательной катастрофы. В новом мире, где никаких гвоздей, Где гуляют толпы недолюдей По руинам, кучам и лужам, Отойдя от вянущего огня, Однорукий мальчик берет меня — И не знает, зачем я нужен. Иногда я боюсь, что ты микроскоп, Позабытый между звериных троп На прогалине неприметной, Окруженный лесом со всех сторон Инструмент давно улетевшей вон Экспедиции межпланетной. Вся твоя компания – хвощ и злак. Населенье джунглей не знает, как Обращаются с микроскопом. Позабавить думая свой народ, Одноглазый мальчик тебя берет И глядит на тебя циклопом. Мы с тобою пленники смутных лет: Ни простых, ни сложных предметов нет. Бурый слой, от оста до веста. Для моей негнущейся прямоты И для хитрой тайны, что знаешь ты, Одинаково нету места. Хорошо б состариться поскорей, Чем гадать о празднествах дикарей По прихлопам их и притопам, А потом с тоски залезать в кровать И всю ночь друг друга в нее вбивать, Забивать, как гвоздь микроскопом.Восемнадцатая баллада
Из французских полотен люблю не шутя лишь картину «Балованное дитя». Написал ее Грез, или правильней – Грёз. Я люблю ее прямо до слез. Репродукция эта, бледна и блекла, без какой-либо рамы и даже стекла, украшает собою московский кабак для окрестных дворовых собак, для поживших, облезлых, заслуженных псов, что бухать начинают в двенадцать часов; из закусок имеются пхали и сыр, из обслуги – оплывший кассир. Завсегдатаи, длящие медленный спор, поднимают порою мутящийся взор на картину, висящую в правом углу, – и в груди ощущают иглу.
На картине, как знает, наверно, любой, симпатичный ребенок, довольный собой, угощает собаку дворовых кровей из фарфоровой ложки своей. Происходит все это в уютном дому (дортуар или кухонька – сам не пойму), где хозяин, должно быть, доволен женой: хоть бардак, но живой и жилой. На ребенка, что тратит избыток еды, потому что не чует грядущей беды, снисходительно смотрит умильная мать и не смеет его унимать.
О, я знаю улыбку безвольную ту, что приводит в безумие и нищету, что и дом, и мужей, и спасательный круг выпускать заставляет из рук; эти ямочки знаю на пухлом лице, что всегда говорят об ужасном конце, о готовности сдаться без жалоб и драк, лишь бы только кричали не так; о способности даже в позоре, на дне, лепетать, вышивать, улыбаться родне, сочинять утешенья сынку по ночам, умиляться смешным мелочам; где ей спорить, бороться, скреплять времена, если сына не может заставить она отогнать от тарелки лизучего пса и спокойно поесть полчаса? О, я знаю, что маленькой этой рукой можно вышить наряд и такой, и сякой, и белье полоскать, и тюки разгружать, но нельзя ничего удержать. О, я знаю и то, что стараюсь вотще, что нельзя никого уберечь вообще, что нельзя ничего удержать на цепи, хоть горстями швыряй, хоть копи, потому что всегда впереди ураган, перегон, Магадан, гегемон, уркаган, проституция грез, революция роз (под конец разорился и Грёз)… Но и в самом укромном и мирном краю никому не объехать родную, свою, что стоит у ворот, выжидает черед и без пафоса все отберет. С детских лет мне мучительно видеть уют: все мне кажется – черные волны встают, и шатаются стены – беспомощный щит, и убогая кухня трещит; всем под ветром стонать на просторе пустом, мир, как дверь из легенды, помечен крестом, и на каждом пути воздвигается крест…
Так уж пусть хоть собачка поест.
Блаженство
Обратный отсчет
До чего я люблю это чувство перед рывком: В голове совершенный ревком, Ужас ревет ревком, Сострадания нет ни в ком, Слова ничего не значат и сбились под языком В ком. До чего я люблю эту ненависть, срывающуюся на визг, Ежедневный набор, повторяющийся, как запиленный диск, В одном глазу у меня дракон, в другом василиск, Вся моя жизнь похожа на проигранный вдрызг Иск. До чего я люблю это чувство, что более никогда — Ни строки, ни слова, ни вылета из гнезда, И вообще, как сказал один, «не стоит труда». Да. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Надежды, смысла, человека, искусства, Бога, звезд, планет — Нет. Однажды приходит чувство, что вот и оно — Дно. Но! Йес. В одно прекрасное утро идет обратный процесс. То, Которое в воздухе разлито, Заставляет меня выбегать на улицу, распахивая пальто. Ку! Школьница улыбается старику. Господь посылает одну хромающую строку. Прелестная всадница оборачивается на скаку. С ней Необъяснимое делается ясней, Ненавистное делается грустней, Дэвида Линча сменяет Уолт Дисней, Является муза, и мы сплетаемся все тесней. Ох! Раздается сто раз описанный вдох. Пускает корни летевший в стену горох, На этот раз пронесло, ступай, говорит Молох, У ног в нетерпенье кружит волшебный клубок, В обратном порядке являются звезды, планеты, Бог. А если я больше не выйду из ада, То так мне и надо.Газета жизнь
Из Крыма едешь на машине сквозь ночь глухую напролом меж деревнями небольшими меж Курском, скажем, и Орлом – сигает баба под колеса, белесо смотрит из платка: «Сынок поранился, Алеша, езжай, сынок, спаси сынка», прикинешь – ладно, путь недолог, еще подохнет человек; свернешь с дороги на проселок, а там четырнадцатый век: ни огонька, забор, канава, налево надпись «Горобец», «Большое Крысово» направо, прикинь, братан, вопще пипец, дорогой пару раз засели, но добрались; «Сынок-то где?» – «Сынок у доме», входишь в сени – фигак! – и сразу по балде. Не пикнешь, да и кто услышит? Соседей нет, деревня мрет. На занавеске лебедь вышит. Все думал, как умрешь, а вот. Я чуял, что нарвусь на это, гналось буквально по пятам, кому сестра – а мне газета, газета жизнь, прикинь, братан.
Сынок-дебил в саду зароет, одежду спрячет брат-урод, мамаша-сука кровь замоет, машину дядя заберет, умелец, вышедший сиделец, с прозрачной трубкою в свище; никто не спросит, где владелец, – прикинь, братан, пипец вопще, приедет следователь с Курска, проверит дом, обшарит сад, накормят грязно и невкусно и самогоном угостят, он различить бы мог у входа замытый наскоро потек, но мельком глянет на урода, сынка с газетою «Зятек», «жигуль», который хитрый дядя уже заделал под бутан, – да и отступится не глядя, вопще пипец, прикинь, братан, кого искать? Должно быть, скрылся. Тут ступишь шаг – помину нет. Он закрывает дело, крыса, и так проходит десять лет.
Но как-то выплывет по ходу: найдут «жигуль» по волшебству, предъявят пьяному уроду, он выдаст брата и сестру, газета жизнь напишет очерк кровавый, как заведено, разроют сад, отыщут прочих, нас там окажется полно, а в человеке и законе пройдет сюжет «Забытый грех», ведущий там на черном фоне предскажет, что накажут всех, и сам же сядет за растрату бюджетных средств каких-то там, и поделом ему, кастрату, ведь так трындел, пипец, братан, ведь так выделывался люто про это Крысово-село, а сел, и это почему-то, прикинь, обиднее всего.
Русский шансон
Я выйду заспанный, с рассветом пасмурным, С небес сочащимся на ваш Бермудск, Закину за спину котомку с паспортом, И обернусь к тебе, и не вернусь. Ты выйдешь вслед за мной под сумрак каплющий, Белея матово, как блик на дне, И, кофту старую набросив на плечи, Лицо измятое подставишь мне. Твой брат в Германии, твой муж в колонии, Отец в агонии за той стеной, И это все с тобой в такой гармонии, Что я б не выдумал тебя иной. Тянуть бессмысленно, да и действительно — Не всем простительно сходить с ума: Ни навестить тебя, ни увести тебя, А оставаться тут – прикинь сама. Любовь? Господь с тобой. Любовь не выживет. Какое show must? Не двадцать лет! Нас ночь окутала, как будто ближе нет, А дальше что у нас? А дальше нет. Ни обещаньица, ни до свиданьица, Но вдоль по улице, где стынет взвесь, Твой взгляд измученный за мной потянется И охранит меня, пока я здесь. Сквозь тьму бесстрастную пойду на станцию По мокрым улицам в один этаж — Давясь пространствами, я столько странствую, А эта станция одна и та ж. Что Суходрищево, что Голенищево — Безмолвным «ишь чего!» проводит в путь С убого-слезною улыбкой нищего, Всегда готового ножом пырнуть. В сырых кустах она, в стальных мостах она, В родных местах она растворена, И если вдруг тебе нужна метафора Всей моей жизни, то вот она: Заборы, станции, шансоны, жалобы, Тупыми жалами язвящий дождь, Земля, которая сама сбежала бы, Да деться некуда, повсюду то ж. А ты среди нее – свечою белою. Два слезных омута глядят мне вслед. Они хранят меня, а я что делаю? Они спасут меня, а я их нет.Блаженство
Блаженство – вот: окно июньским днем, И листья в нем, и тени листьев в нем, И на стене горячий, хоть обжечься, Лежит прямоугольник световой С бесшумно суетящейся листвой, И это знак и первый слой блаженства. Быть должен интерьер для двух персон, И две персоны в нем, и полусон: Все можно, и минуты как бы каплют, А рядом листья в желтой полосе, Где каждый вроде мечется – а все Ликуют или хвалят, как-то так вот. Быть должен двор, и мяч, и шум игры, И кроткий, долгий час, когда дворы Еще шумны и скверы многолюдны: Нам слышно все на третьем этаже, Но апогеи пройдены уже. Я думаю, четыре пополудни. А в это сложно входит третий слой, Не свой, сосредоточенный и злой, Без имени, без мужества и женства — Закат, распад, сгущение теней, И смерть, и все, что может быть за ней, Но это не последний слой блаженства. А вслед за ним – невинна и грязна, Полуразмыта, вне добра и зла, Тиха, как нарисованное пламя, Себя дает последней угадать В тончайшем равновесье благодать, Но это уж совсем на заднем плане.Депрессия
Депрессия – это отсутствие связи. За окнами поезда снега – как грязи, И грязи – как снега зимой. В соседнем купе отходняк у буржуев. Из радиоточки сипит Расторгуев, Что скоро вернется домой. Куда он вернется? Сюда, вероятно. По белому фону разбросаны пятна. Проехали станцию Чернь. Деревни, деревья, дровяник, дворняга, Дорога, двуроги, дерюга, деляга — И все непонятно зачем. О как мне легко в состоянии этом Рифмуется! Быть современным поэтом И значит смотреть свысока, Как поезд ползет по долинам лоскутным, Не чувствуя связи меж пунктом и пунктом, Змеясь, как струна без колка. Когда-то все было исполнено смысла — Теперь же она безнадежно повисла, И словно с веревки белье, Все эти дворняги, деляги, дерюги, Угорцы на севере, горцы на юге — Бессильно скатились с нее. Когда-то и я, уязвимый рассказчик, Имел над собою незримый образчик И слышал небесное чу, Чуть слышно звучащее чуждо и чудно, И я ему вторил, и было мне трудно, А нынче пиши – не хочу. И я не хочу и в свое оправданье Ловлю с облегченьем черты увяданья, Приметы последних примет: То справа ударит, то слева проколет. Я смерти боялся, но это проходит, А мне-то казалось, что нет. Пора уходить, отвергая подачки. Вставая с колен, становясь на карачки, В потешные строясь полки, От этой угрюмой, тупой раздолбайки, Умеющей только затягивать гайки, — К тому, кто подтянет колки.«Крепчает ветер солоноватый, качает зеленоватый вал…»
Ах, если бы наши дети однажды стали дружны…
И. К. Крепчает ветер солоноватый, качает зеленоватый вал, Он был в Аравии тридевятой, в которой много наворовал. Молнии с волнами, море с молом – все блещет, словно оледенясь. Страшно подумать, каким двуполым все тут стало, глядя на нас. Пока ты качаешь меня, как шлюпку, мой свитер, дерзостен и лукав, Лезет к тебе рукавом под юбку, кладя на майку другой рукав, И тут же, впервые неодинокие, внося в гармонию тихий вклад, Лежат в обнимку «Самсунг» и «Нокия» после недели заочных клятв. Мой сын-подросток с твоею дочерью – россыпь дредов и конский хвост — Галдят внизу, загорая дочерна и замечая десятки сходств. Они подружились еще в «Фейсбуке» и увидались только вчера, Но вдруг отводят глаза и руки, почуяв большее, чем игра. Боюсь, мы были бы только рады сюжету круче Жана Жене, Когда, не желая иной награды, твой муж ушел бы к моей жене, И чтобы уж вовсе поставить точку в этой идиллии без конца — Отдать бы мать мою, одиночку, за отца твоего, вдовца. Когда я еду, сшибая тугрики, в Киев, Крым, Тифлис, Ереван, — Я остро чувствую, как республики жаждут вернуться в наш караван. Когда я в России, а ты в Израиле – ты туда меня не берешь, — Изгои, что глотки себе излаяли, рвутся, как Штирлиц, под сень берез. Эта тяга сто раз за сутки нас настигает с первого дня, Повреждая тебя в рассудке и укрепляя в вере меня — Так что и «форд» твой тяжелозадый по сто раз на трассе любой Все целовался б с моею «ладой», но, по счастью, он голубой.Ронсаровское
Как ребенок мучит кошку, Кошка – мышку, Так вы мучили меня — И внушили понемножку Мне мыслишку, Будто я вам не родня. Пусть из высшей или низшей, Вещей, нищей — Но из касты я иной; Ваши общие законы Мне знакомы, Но не властны надо мной. Утешение изгоя: Все другое — От привычек до словец, Ни родства, ни растворенья, Ни старенья И ни смерти, наконец. Только так во всякой травле — Прав, не прав ли — Обретается покой: Кроме как в сверхчеловеки, У калеки Нет дороги никакой. Но гляжу – седеет волос, Глохнет голос, Ломит кости ввечеру, Проступает милость к падшим, Злоба к младшим — Если так пойдет, умру. Душит участь мировая, Накрывая, Как чужая простыня, И теперь не знаю даже, На хера же Вы так мучили меня.«Без этого могу и без того…»
Без этого могу и без того. Вползаю в круг неслышащих, незрячих. Забыл слова, поскольку большинство Не значит. Раздерган звук, перезабыт язык, Распутица и пересортица. Мир стал полупрозрачен, он сквозит, Он портится. К зиме он смотрится Как вырубленный, хилый березняк, Ползущий вдоль по всполью. Я вижу – все не так, но что не так — Не вспомню. Чем жил – поумножали на нули, Не внемля ни мольбе, ни мимикрии. Ненужным объявили. Извели. Прикрыли. И вот, смотря – уже и не смотря — На все, что столько раз предсказано, Еще я усмехнусь обрывком рта, Порадуюсь остатком разума, Когда и вас, и ваши имена, И ваши сплющенные рыла Накроет тьма, которая меня Давно уже накрыла.«Пришла зима…»
Пришла зима, Как будто никуда не уходила. На дне надежды, счастья и ума Всегда была нетающая льдина. Сквозь этот парк, как на изнанке век, Сквозь нежность оперения лесного Все проступал какой-то мокрый снег, И мерзлый мех, и прочая основа. Любовь пришла, Как будто никуда не уходила, Безжалостна, застенчива, смешна, Безвыходна, угрюма, нелюдима. Сквозь тошноту и утренний озноб, Балет на льду и саван на саванне Вдруг проступает, глубже всех основ, Холст, на котором все нарисовали. Сейчас они в зародыше. Но вот Пойдут вразнос, сольются воедино — И смерть придет. А впрочем, и она не уходила.«Он клянется, что будет ходить со своим фонарем…»
Он клянется, что будет ходить со своим фонарем, Даже если мы все перемрем, Он останется лектором, лекарем, поводырем, Без мяча и ворот вратарем, Так и будет ходить с фонарем над моим пустырем, Между знахарем и дикарем, Новым цирком и бывшим царем, На окраине мира, пропахшей сплошным ноябрем, Перегаром и нашатырем, Черноземом и нетопырем. Вот уж где я не буду ходить со своим фонарем. Фонари мы туда не берем. Там уместнее будет ходить с кистенем, костылем, Реагировать, как костолом. Я не буду заглядывать в бельма раздувшихся харь, Я не буду возделывать гарь и воспитывать тварь, Причитать, припевать, пришепетывать, как пономарь. Не для этого мне мой фонарь. Я выучусь петь, плясать, колотить, кусать И массе других вещей. А скоро я буду так хорошо писать, Что брошу писать вообще.Турнирная таблица
Второй, Особо себя не мучая, Считает все это игрой Случая. Банальный случай, простой авось: Он явно лучший, но не склалось. Не сжал клешней, не прельстился бойней — Злато пышней, Серебро достойней. К тому ж пока он в силе, Красавец и герой. Ему не объяснили, Что второй – всегда второй. Третий – немолодой, Пожилой и тертый — Утешается мыслью той, Что он не четвертый. Тянет у стойки Кислый бурбон. «Все-таки в тройке», — Думает он. Средний горд, что он не последний, И будет горд до скончанья дней. Последний держится всех побе́дней, Хотя и выглядит победне́й. «Я затравлен, я изувечен, Я свят и грешен, Я помидор среди огуречин, Вишня среди черешен!» Первому утешаться нечем. Он безутешен.«В левом углу двора шелудивый пес…»
В левом углу двора шелудивый пес, плотоядно скалясь, рвет поводок, как выжившая Муму. В правом углу с дрожащей улыбкой старец «не ругайся, брат, не ругайся» шепчет ему.
День-то еще какой – синева и золото, все прощайте, жгут листья, слезу вышибает любой пустяк, все как бы молит с дрожащей улыбкою о пощаде, а впрочем, если нельзя, то пускай уж так.
Старость, угрюма будь, непреклонна будь, нелюдима, брызгай слюной, прикидывайся тупой, грози клюкой молодым, проходящим мимо, глумись надо мной, чтоб не плакать мне над тобой.
Осень, слезлива будь, монотонна будь, опасайся цвета, не помни лета, медленно каменей. Не для того ли я сделал и с жизнью моей все это, чтобы, когда позовут, не жалеть о ней?
Учитесь у родины, зла ее и несчастья, белого неба, серого хлеба, черного льда. Но стать таким, чтоб не жалко было прощаться, может лишь то, что не кончится никогда.
«Я не стою и этих щедрот…»
Я не стою и этих щедрот — Долгой ночи, короткого лета. Потому что не так и не тот, И с младенчества чувствую это. Что начну – обращается вспять. Что скажу – понимают превратно. Недосмотром иль милостью звать То, что я еще жив, – непонятно. Но и весь этот царственный свод — Свод небес, перекрытий и правил — Откровенно не так и не тот. Я бы многое здесь переставил. Я едва ли почел бы за честь — Даже если б встречали радушней — Принимать эту местность как есть И еще оставаться в ладу с ней. Вот о чем твоя вечная дрожь, Хилый стебель, возросший на камне: Как бесчувственен мир – и хорош! Как чувствителен я – но куда мне До оснеженных этих ветвей И до влажности их новогодней? Чем прекраснее вид, тем мертвей, Чем живучее – тем непригодней. О, как пышно ликует разлад, Несовпад, мой единственный идол! От несчастной любви голосят, От счастливой – но кто ее видел? И в единственный месяц в году, Щедро залитый, скупо прогретый, Все, что вечно со всем не в ладу, Зацветает от горечи этой. Вся округа цветет, голося — Зелена, земляна, воробьина. Лишь об этом – черемуха вся, И каштан, и сирень, и рябина. Чуть пойдет ворковать голубок, Чуть апрельская нега пригреет — О, как пышно цветет нелюбовь, О, как реет, и млеет, и блеет. Нелюбовь – упоительный труд, И потомство оценит заслугу Нашей общей негодности тут И ненужности нашей друг другу.«Не рвусь заканчивать то, что начато…»
Не рвусь заканчивать то, что начато. Живу, поденствуя и пасясь. Сижу, читаю Терри Пратчетта Или раскладываю пасьянс. Муза дремлет, а чуть разбудишь ее — Мямлит вяло, без куражу, Потому что близкое будущее Отменит все, что я скажу. Я бы, может, и рад остаться там — В прочном прошлом, еще живом, — Но о семье писать в шестнадцатом? А о войне – в сороковом? Сюжет и прочая рутина, Какую терпели до поры, Всем сразу сделалась противна — Как перед цунами мыть полы. И лишь иногда, родные вы мои, Кой-как нащупывая ритм, Я думаю, что, если б вымыли… Как эта мысль меня томит! Такая льстивая, заманчивая, Такая мерзостно-моя — Что зарифмовывая и заканчивая, Я кое-как свожу края. Едет почва, трещит коновязь, Сам смущаюсь и бешусь. Пойти немедля сделать что-нибудь. Хоть эту чушь.«Не для того, чтоб ярче проблистать…» (Из цикла «Декларация независимости»)
Не для того, чтоб ярче проблистать Иль пару сундуков оставить детям, — Жить надо так, чтоб до смерти устать, И я как раз работаю над этим.«Приговоренные к смерти, толстые он и она…»
Приговоренные к смерти, толстые он и она, Совокупляются, черти, после бутылки вина. Чтобы потешить расстрельную братию, Всю корпорацию их носфератию В этот разок! Чтобы не скучно смотреть надзирателю Было в глазок. Приговоренные к смерти, не изменяясь в лице, В давке стоят на концерте, в пробке стоят на кольце, Зная, что участь любого творения — Смертная казнь через всех растворение В общей гнильце, Через паденье коня, аэробуса, Через укус крокодилуса, клопуса, Мухи цеце, Через крушение слуха и голоса, Через лишение духа и волоса, Фаллоса, логоса, эроса, локуса, Да и танатоса в самом конце. Приговоренные к смерти спорят о завтрашнем дне. Тоже, эксперт на эксперте! Он вас застанет на дне! Приговоренные к смерти преследуют Вас и меня. Приговоренные к смерти обедают, Приговоренные к смерти не ведают Часа и дня. О, как друг друга они отоваривают – в кровь, в кость, вкривь, вкось, К смерти друг друга они приговаривают и приговаривают: «Небось!» Как я порою люблю человечество — Страшно сказать. Не за казачество, не за купечество, Не за понятия «Бог» и «Отечество», Но за какое-то, блядь, молодечество, Еб твою мать.«Вынь из меня все это – и что останется?..»
Вынь из меня все это – и что останется? Скучная жизнь поэта, брюзга и странница. Эта строка из Бродского, та из Ибсена — Что моего тут, собственно? Где я истинный? Сетью цитат опутанный ум ученого, Биомодель компьютера, в сеть включенного. Мерзлый автобус тащится по окраине, Каждая мелочь плачется о хозяине, Улиц недвижность идолья, камни, выдолбы… Если бы их не видел я – что я видел бы? Двинемся вспять – и что вы там раскопаете, Кроме желанья спать и культурной памяти? Снежно-тускла, останется мне за вычетом Только тоска – такого бы я не вычитал. Впрочем, ночные земли – и эта самая — Залиты льдом не тем ли, что и тоска моя? Что этот вечер, как не пейзаж души моей, Силою речи на целый квартал расширенный? Всюду ее отраженья, друзья и сверстники, Всюду ее продолженье другими средствами. Звезды, проезд Столетова, тихий пьяница. Вычесть меня из этого – что останется?«У бывших есть манера манерная…»
У бывших есть манера манерная — Дорисовать последний штрих: Не у моих – у всех, наверное, — Но я ручаюсь за моих. Предлог изыскивается быстренько, Каким бы хлипким ни казался, И начинается мини-выставка Побед народного хозяйства. Вот наши дети, наши розы, Ни тени злости и вражды. Читатель ждет уж рифмы «слезы». Ты тоже ждешь. Ну ладно, жди. А тут у нас гараж, как видишь, — Мужнин джип, моя «рено»… Ты скажешь ей: отлично выглядишь. Она в ответ: немудрено. И тон ее ласков и участлив, Как безмятежный окоем: – Надеюсь, ты еще будешь счастлив, Как я в отсутствии твоем. Боюсь, в мое последнее лето, Подведя меня к рубежу, Мир скажет мне примерно это, И вот что я ему скажу: – Да, я и впрямь тебе не годился И первым это уразумел. Я нарушал твое единство И ничего не давал взамен. Заметь, с объятий твоих настырных Я все же стряс пристойный стих, Не меньше сотни строк нестыдных, Простынных, стылых и простых. А эти розы и акация, Свет рябой, прибой голубой — Вполне пристойная компенсация За то, что я уже не с тобой.«Продираясь через эту черствую…»
Продираясь через эту черствую, Неподвижную весну, Кто-то спит во мне, пока я бодрствую, Бодрствует, пока я сплю. Вот с улыбкой дерзкою и детскою Он сидит в своем углу И бездействует, пока я действую, И не умрет, когда умру. Знать, живет во мне и умирание, Как в полене – головня. Все, что будет, чувствую заранее, Сам себе не говоря. Знает замок про подвал с чудовищем — Иль сокровищем, бог весть, — Что-то в тишине ему готовящим, Но не видит, что там есть. Что ж ему неведомое ведомо, Чтоб мы жили вечно врозь, Чтоб оно звало меня, как велено, И вовек не дозвалось? Верно, если вдруг сольемся в тождество И устроим торжество — Или мы взаимно уничтожимся, Иль не станет ничего. Так что, методически проламывая Разделивший нас барьер, Добиваюсь не того ли самого я — Хоть сейчас вот, например?«Прошла моя жизнь…»
Прошла моя жизнь. Подумаешь, дело. Предавшее тело, походы к врачу. На вечный вопрос, куда ее дело, Отвечу: не знаю и знать не хочу. Дотягивай срок, Политкаторжанка, Скрипи кандалами по ржавой стране. Того, что прошло, Нисколько не жалко, А все, что мне надо, осталось при мне. Вот так и Господь Не зло и не скорбно Уставится вниз на пределе времен И скажет: матчасть Не жалко нисколько, А лучшие тексты остались при нем.«В первый раз я проснусь еще затемно…»
В первый раз я проснусь еще затемно, в полутьме, как в утробе родной, понимая, что необязательно подниматься – у нас выходной, и сквозь ткань его, легкую, зыбкую, как ребенок, что долго хворал, буду слышать с бессильной улыбкою нарастающий птичий хорал, и «Маяк», и блаженную всякую ерунду сквозь туман полусна, помня – надо бы выйти с собакою, но пока еще спит и она.
А потом я проснусь ближе к полудню – воскресение, как запретишь? – и услышу блаженную, полную, совершенную летнюю тишь, только шелест и плеск, а не речь еще, день в расцвете, но час не пришел; колыхание липы лепечущей да на клумбе жужжание пчел, и под музыку эту знакомую в дивном мире, что лишь начался, я наполнюсь такою истомою, что засну на четыре часа.
И проснусь я, когда уже медленный, как письмо полудетской рукой, звонко-медный, медвяный и мертвенный по траве расползется покой, – посмотрю в освеженные стекла я, приподнявшись с подушки едва, и увижу, как мягкая, блеклая утекает по ним синева: все я слышал уступки и спотыки – кто топтался за окнами днем? – дождь прошел и забылся, и все-таки в нем таился проступок, надлом, он сменяется паузой серою, и печаль, как тоска по родству, мне такою отмерится мерою, что заплачу и снова засну.
И просплю я до позднего вечера, будто день мой еще непочат, и пойму, что вставать уже нечего: пахнет горечью, птицы молчат – ночь безлунная, ночь безголовая приближается к дому ползком, лишь на западе гаснет лиловая полоса над коротким леском. Вон и дети домой собираются, и соседка свернула гамак, и что окна уже загораются в почерневших окрестных домах, вон семья на веранде отужинала, вон подростки сидят у костра – день погас, и провел я не хуже его, чем любой, кто поднялся с утра. Вот он гаснет, мерцая встревоженно, замирая в слезах, в шепотках – все вместилось в него, что положено, хоть во сне – но и лучше, что так. И трава отблистала и выгорела, и живительный дождь прошумел, и собака сама себя выгуляла, и не хуже, чем я бы сумел.
Песни славянских западников
1. Александрийская песня
Был бы я царь-император, В прошлом великий полководец, Впоследствии тиран-вседушитель — Ужасна была бы моя старость. Придворные в глаза мне смеются, Провинции ропщут и бунтуют, Не слушается собственное тело, Умру – и все пойдет прахом. Был бы я репортер газетный, В прошлом – летописец полководца, В будущем – противник тирана, Ужасна была бы моя старость. Ворох желтых бессмысленных обрывков, А то, что грядет взамен тирану, Бессильно, зато непобедимо, Как всякое смертное гниенье. А мне, ни царю, ни репортеру, Будет, ты думаешь, прекрасно? Никому не будет прекрасно, А мне еще хуже, чем обоим. Мучительно мне будет оставить Прекрасные и бедные вещи, Которых не чувствуют тираны, Которых не видят репортеры. Всякие пеночки-собачки, Всякие лютики-цветочки, Последние жалкие подачки, Осенние скучные отсрочки. Прошел по безжалостному миру, Следа ни на чем не оставляя, И не был вдобавок ни тираном, Ни даже ветераном газетным.2. О пропорциях
Традиция, ах! А что такое? Кто видал, как это бывает? Ты думаешь, это все толпою По славному следу ломанулись? А это один на весь выпуск, Как правило, самый бесталанный, В то время как у прочих уже дети, Дачи и собственные школы, Такой ничего не понимавший, Которого для того и терпят, Чтобы на безропотном примере Показывать другим, как не надо, — Ездит к учителю в каморку, Слушает глупое брюзжанье, Заброшенной старости капризы С кристалликами поздних прозрений; Традиция – не канат смоленый, А тихая нитка-паутинка: На одном конце – напрасная мудрость, На другом – слепое милосердье. «Прогресс», говоришь? А что такое? Ты думаешь, он – движенье тысяч? Вот и нет. Это тысяче навстречу Выходит один и безоружный. И сразу становится понятно, Что тысяча ничего не стоит, Поскольку из них, вооруженных, Никто против тысячи не выйдет. Любовь – это любит нелюбимый, Вопль – это шепчет одинокий, Слава – это все тебя топчут, Победа – это некуда деваться. Христу повезло на самом деле. Обычно пропорция другая: Двенадцать предали – один остался. Думаю, что так оно и было.3. «Квадрат среди глинистой пустыни…»
Квадрат среди глинистой пустыни В коросте чешуек обожженных, Направо барак для осужденных, Налево барак для прокаженных. Там лето раскаленнее печи, На смену – оскал зимы бесснежной, А все, что там осталось от речи, — Проклятия друг другу и Богу. Нет там ни зелени, ни тени, Нет ни просвета, ни покоя, Ничего, кроме глины и коросты, Ничего, кроме зноя и гноя. Но на переломе от мороза К летней геенне негасимой Есть скудный двухдневный промежуток, Вешний, почти переносимый. Но между днем, уже слепящим, И ночью, еще немой от стыни, Есть два часа, а то и меньше, С рыжеватыми лучами косыми. И в эти два часа этих суток Даже верится, что выйдешь отсюда, Разомкнув квадрат, как эти строфы Размыкает строчка без рифмы. И среди толпы озверевшей, Казнями всеми пораженной, Вечно есть один прокаженный, К тому же невинно осужденный, Который выходит к ограде, И смотрит сквозь корявые щели, И возносит Господу молитву За блаженный мир его прекрасный. И не знаю, раб ли он последний Или лучшее дитя твое, Боже, А страшней всего, что не знаю, Не одно ли это и то же.«В Берлине, в многолюдном кабаке…»
В Берлине, в многолюдном кабаке, Особенно легко себе представить, Как тут сидишь году в тридцать четвертом, Свободных мест нету, воскресенье, Сияя, входит пара молодая, Лет по семнадцати, по восемнадцати, Распространяя запах юной похоти, Две чистых особи, друг у друга первые, Любовь, но хорошо и как гимнастика, Заходят, кабак битком, видят еврея, Сидит на лучшем месте у окна, Пьет пиво – опрокидывают пиво, Выкидывают еврея, садятся сами, Года два спустя могли убить, Но нет, еще нельзя: смели, как грязь. С каким бы чувством я на них смотрел? А вот с таким, с каким смотрю на всё: Понимание и даже любованье, И окажись со мною пистолет, Я, кажется, не смог бы их убить: Жаль разрушать такое совершенство, Такой набор физических кондиций, Не омраченных никакой душой. Кровь бьется, легкие дышат, кожа туга, Фирменная секреция, секрет фирмы, Вьются бестиальные белокудри, И главное, что все равно убьют. Вот так бы я смотрел на них и знал, Что этот сгинет на восточном фронте, А эта под бомбежками в тылу: Такая особь долго не живет. Пища богов должна быть молодой, Нежирною и лучше белокурой. А я еще, возможно, уцелею, Сбегу, куплю спасенье за коронку, Успею на последний пароход И выплыву, когда он подорвется: Мир вечно хочет перекрыть мне воздух, Однако никогда не до конца, То ли еще я в пищу не гожусь, То ли я, правду сказать, вообще не пища. Он будет умирать и возрождаться, Он будет умирать и возрождаться Неутомимо на моих глазах, А я – именно я, такой, как есть, Не просто еврей, и дело не в еврействе, Живой осколок самой древней правды, Душимый всеми, даже и своими, Сгоняемый со всех привычных мест, Вечно бегущий из огня в огонь, Неуязвимый, словно в центре бури, — Буду смотреть, как и сейчас смотрю, Не бог, не пища, так, другое дело. Довольно сложный комплекс ощущений, Но не сказать, чтоб вовсе неприятных.Новые баллады
Первая
В кафе у моря накрыли стол – там любят бухать у моря. Был пляж по случаю шторма гол, но полон шалман у мола. Кипела южная болтовня, застольная, не без яда. Она смотрела не на меня. Я думал, что так и надо. В углу витийствовал тамада, попойки осипший лидер, И мне она говорила «да», и я это ясно видел. «Да-да», – она говорила мне не холодно и не пылко, И это было в ее спине, в наклоне ее затылка, Мы пары слов не сказали с ней в закусочной у причала, Но это было еще ясней, чем если б она кричала. Оса сидела на колбасе, супруг восседал, как идол… Боялся я, что увидят все, однако никто не видел. Болтался буй, прибывал прибой, был мол белопенно залит, Был каждый занят самим собой, а нами никто не занят. «Да-да», – она говорила мне зеленым миндальным глазом, Хотя и знала уже вполне, каким это будет грязным, Какую гору сулит невзгод, в каком изойдет реванше И как закончится через год и, кажется, даже раньше. Все было там произнесено – торжественно, как на тризне, — И это было слаще всего, что мне говорили в жизни, Поскольку после, поверх стыда, раскаянья и проклятья Она опять говорила «да», опять на меня не глядя. Она глядела туда, где свет закатный густел опасно, Где все вокруг говорило «нет», и я это видел ясно. Всегда, со школьных до взрослых лет, распивочно и на вынос, Мне все вокруг говорило «нет», стараясь, чтоб я не вырос, Сошел с ума от избытка чувств, состарился на приколе, — Поскольку, если осуществлюсь, я сделать могу такое, Что этот пригород, и шалман, и прочая яйцекладка По местным выбеленным холмам раскатятся без остатка. Мне все вокруг говорило «нет» по ведомой мне причине, И все просили вернуть билет, хоть сами его вручили. Она ж, как прежде, была тверда, упряма, необорима, Ее лицо повторяло «да», а море «нет» говорило, Швыряясь брызгами на дома, твердя свои причитанья, — И я блаженно сходил с ума от этого сочетанья. Вдали маяк мигал на мысу – двулико, неодинако, И луч пульсировал на весу и гас, наглотавшись мрака, И снова падал в морской прогал, у тьмы отбирая выдел. Боюсь, когда бы он не моргал, его бы никто не видел. Сюда, измотанные суда, напуганные герои! Он говорил им то «нет», то «да», и важно было второе.Вторая
Сначала он чувствует радость, почти азарт, Заметив ее уменье читать подтекст: Догадаться, что он хотел сказать, Приготовить, что он хотел поесть. Потом предсказанье мыслей, шагов, манер Приобретает характер дурного сна. Он начинает: «Не уехать ли, например…» – В Штаты! – заканчивает она. «Да ладно, – думает он. – Я сам простоват. На морде написано, в воздухе разлито…» — Но начинает несколько остывать: Она о нем знает уже и то, Чего он не рассказал бы даже себе. Это уж слишком. Есть тайны, как ни люби. Сначала он в ужасе думает: ФСБ. Но потом догадывается: USB. Сначала, правда, они еще спят вдвоем. Но каждая стычка выглядит рубежом. Вдобавок, пытаясь задуматься о своем, Он ощущает себя, как нищий, во всем чужом. Разгорается осень. Является первый снег. Ощущается сеть, которую все плетут. В конце концов, USB – это прошлый век. Bluetooth, догадывается он. Bluetooth. Имущества нету, нечего и делить. При выборе «ложись или откажись» Он объявляет ей alt – ctrl – delete, Едет в Штаты и начинает новую жизнь. …Дневная хмарь размывает ночную тьму. Он думает, прижимая стакан к челу, Что не он подключился к ней, не она к нему, А оба страшно сказать к чему. Вся вселенная дышит такой тоской, Потому что планеты, звезды, материки, Гад морской, вал морской и песок морской — Несчастные неблагодарные дураки. Звездный, слезный, синий вечерний мир, Мокрый, тихий пустой причал. Все живое для связи погружено в эфир, Не все замечают, что этот эфир – печаль. Океан, вздыхающий между строк, Нашептывает «бай-бай». Продвинутый пользователь стесняется слова «Бог». Wi-Fi, догадывается он. Wi-Fi.Третья
Si tu,
si tu,
si tu t'imagines…
Queneau Люблю, люблю, люблю эту пору, когда и весна впереди еще вся, и бурную воду, и первую флору, как будто потягивающуюся. Зеленая дымка, летучая прядка, эгейские лужи, истома полей… Одна беда, что все это кратко, но дальше не хуже, а только милей. Сирень, свирель, сосна каравелья, засилье веселья, трезвон комарья, и прелесть бесцелья, и сладость безделья, и хмель без похмелья, и ты без белья! А позднее лето, а колкие травы, а нервного неба лазурная резь, настой исключительно сладкой отравы, блаженный, пока он не кончится весь. А там, а там — чудесная осень, хоть мы и не просим, не спросим о том, своим безволосьем, своим бесколосьем она создает утешительный фон: в сравнении с этим свистящим простором, растянутым мором, сводящим с ума, любой перед собственным мысленным взором глядит командором. А там и зима. А что? Люблю, люблю эту зиму, глухую низину, ледовую дзынь, заката стаккато, рассвета резину, и запах бензина, и путь в магазин, сугробов картузы, сосулек диезы, коньки-ледорезы, завьюженный тракт, и сладость работы, и роскошь аскезы — тут нет катахрезы, все именно так. А там, а там — и старость по ходу, счастливую коду сулящий покой, когда уже любишь любую погоду — ведь может назавтра не быть никакой. Когда в ожиданье последней разлуки — ни злобы, ни скуки. Почтенье к летам, и взрослые дети, и юные внуки, и сладкие глюки, а дальше, а там — небесные краски, нездешние дали, любви цинандали, мечты эскимо, где все, что мы ждали, чего недодали, о чем не гадали, нам дастся само. А нет — так нет, и даже не надо. Не хочет парада усталый боец. Какая услада, какая отрада, какая награда – уснуть наконец, допить свою долю из праздничной чаши, раскрасить покраше последние дни и больше не помнить всей этой параши, всей этой какаши, всей этой хуйни.


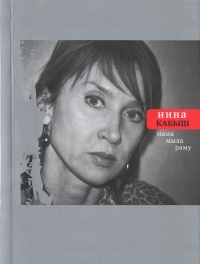

Комментарии к книге «Блаженство», Дмитрий Львович Быков
Всего 0 комментариев