И будет вечен вольный труд
Стихи русских поэтов о родине
С думой о родине
Думая сегодня об исторических судьбах своей Отчизны, о ее будущем, прорастающем из великого прошлого, мы непременно обращаемся к наследию нашей классической литературы, к живому, трепещущему нерву ее — к поэзии. Перелистывая страницы лирики, мы вновь подтверждаем для себя правоту Горького, который сказал о наших классиках: «В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, о ее роли на земле». Разумеется, сила их прозрений, их выводы были различны, а порой противоположны. Но, вычленяя самое главное в творческом наследии мастеров прошлого, можно определить основные ценности, которые восславили крупнейшие наши художники слова. Ценности эти суть: Труд, Народ, Отчизна, Воля. Именно ими были определены напряженные раздумья о судьбах своей страны, о доле и долге, о борьбе за счастье, мир. и процветание.
Писатель — будь то прозаик или поэт — всегда ощущал себя тружеником, противопоставляя себя великосветской черни. Слова «враг труда» — это несмываемое, постыдное клеймо. Пусть так несходен труд поэта и главный труд народа — возделывание родной земли, но духовную связь, духовное единство с простым пахарем поэт ощущал снова и снова. Он понимал, что оба служат своим трудом, своим деянием матери Родине, светлому ее будущему, для определения которого было припасено заветное, неявственное, но такое притягательное слово — «воля»…
Не только о труде-творчестве создавались строки лирических стихов, не только о тяжком труде-деянии или о ратном труде во славу России, но и о труде мысли, о постижении грядущего и настоящего, о труде раздумий над судьбами родины.
Традиция восславления труда и обличения праздности, кривомыслия, захребетничества шла на Руси искони, шла бок о бок с традицией призыва на подвиг во имя отчизны. Ведь с самого своего зарождения русская литература была глубоко патриотична — вспомним горестный возглас Игорева дружинника, от которого доселе сжимается сердце: «О земле Руська! Уже за шеломянем еси!» Вспомним плач по украсно украшенной земле Русской, богатство которой погибает в огне Батыева погрома. Вспомним и огромный пласт народного творчества — песни, связанные со всеми этапами, со всеми процессами крестьянского труда. Столетиями звучали они по просторам нашей родины, столетиями создавая и пестуя русский характер.
Колоссальные исторические столкновения начала XVII века, когда на карту было поставлено само существование России, привели к появлению новой, небывалой человеческой личности, вырвавшейся из рамок сословия, обретшей чувство самоценности и осознание своей судьбы. Необходимость определиться относительно самых разных политических сил, стремление принять активное участие в борьбе, ощущение небывалых перемен, творящихся на глазах и при непосредственном участии современников, привели к изменению сознания, к выходу его из жестких средневековых рамок.
И как раз в это время на Московии появляются первые стихотворцы. Впрочем, большинство из них — пришельцы с Запада: и Андрей Белобоцкий, и Симеон Полоцкий, и Феофан Прокопович — поляк, белорус, украинец. Иоганн Вернер Паус, писавший по-русски тонические стихи наперекор утверждавшейся силлабической системе, был выходцем из Германии. С эстетической точки зрения немногое они могут дать читателю (особенно если сопоставить их вирши с бытовавшей тогда народной поэзией, с народной песней). Большинство поэтов были в первую очередь не стихотворцами, а деятелями государственными и культурными (то есть религиозными, как это диктовалось условиями того времени). И в их творчестве, кроме произведений философско-мировоззренческого (то есть опять же религиозного), любовного («Или ты не знаешь, фортунища злая, Коль ми есть сладка та моя милая?») и бытового (всякого рода стихи «на случай») стихотворчества, значительное место занимает поэтическое восславление государства, в первую очередь символизируемого в образе монарха, в символах царской власти:
Пресветлый орле Российския страны, Честнокаменным венцем увенчанный, Орле преславный, высоко парящий, Славою орлы вся превосходящий…(Симеон Полоцкий, 1667)
Эта тема, тема величия Русского государства, красной нитью проходит через всю поэзию следующего столетия. По сути, это Главная тема в творчестве всех крупнейших поэтов XVIII века.
Для нас восприятие поэзии той поры представляет определенные трудности. Чтобы понять ее достоинства, нужны и вдумчивость, и знакомство с культурно-историческим контекстом, и аванс доброжелательности — условия, увы, редкие в наше торопливое время. Можно сопоставить вообще всю допушкинскую поэзию с немым кино, художественные достоинства которого нам известны в основном понаслышке. Но стоит вчитаться в строки той давней поры, и захватывает дух от количества неразвившихся ростков, от огромного спектра невоплотившихся возможностей.
Грандиозные петровские реформы, прививка самых различных западных обычаев, учреждений, моделей поведения — от административного устройства до покроя одежды — привели к отчуждению новой светской культуры от народных корней, к тому, что обострившееся классовое разделение явственно сказалось в искусстве и жизни. Онемеченный чиновник не меньше отличался от крестьянина XVIII века, чем ханский булгак от русского воина в XIV веке. Дорога русской истории XVIII века — это дорога единения ввозной премудрости и народного начала, слияния живых традиций национальной культуры и преобразуемой русской действительности. Удивительно, что с самого начала традиция народной песни все же звучит в стихах «подлых» жанров. Простота выражения чувств, гармоническая ясность делают «русские песни» Сумарокова, видимо, самой интересной сегодня частью его литературного наследия.
Если же говорить о «высокой» поэзии, то развитие ее шло в XVIII веке под влиянием заемной поэтики классицизма и «обмирщения» выразительных средств, созданных многовековой традицией православия. Становление литературы, укрепление начал реализма в поэзии можно представить себе так. Сначала видится только слепящее солнце-государь, испускающее нестерпимо яркое сияние. Но вот вокруг него становится видно небо с созвездиями — сподвижниками, а там и — земля. На земле — сначала лишь контуры, лишь обобщенные формы, но свет становится мягче, очертания четче, и вот мы уже видим не просто восславляемую Россию, «сияющу в свете», но огромную страну, обретающую реальный облик географический и исторический:
Воззри на горы превысоки, Воззри в поля свои широки, Где Волга, Днепр, где Обь течет; Богатство в оных потаенно Наукой будет откровенно, Что щедростью твоей цветет. . . . . . . . . . . . . Хотя всегдашними снегами Покрыта северна страна, Где мерзлыми Борей крылами Твои взвевает знамена: Но бог меж льдистыми горами Велик своими чудесами: Там Лена чистой быстриной, Как Нил, народы напояет И бреги наконец теряет, Сравнявшись морю шириной.(М. В. Ломоносов, 1747)
В поэзии Ломоносова и вообще в поэзии того времени есть при всем несходстве особые черты, общие с некоторыми явлениями советской поэзии первых десятилетий. Это — мажорный тон, ощущение исторического оптимизма — радости от того, что законы истории работают на благо любимой страны. Это и обращение к государству (и государю) как воплощению исторических судеб страны, и учительный (мы бы сказали сейчас — пропагандистский) тон, ощущение полета на блистательном гребне исторической волны, единства судьбы поэта и народа.
Однако по мере того как год за годом двигалась история послепетровской России, по мере того как нарабатывались достижения литературы, поэтическая система все меньше становилась поэзией, все больше становилась системой. Талант Сумарокова эхом отозвался в творчестве Матвея Хераскова, гений Ломоносова эхом эха отозвался в одах Василия Петрова. За пределами поэзии оказывался сам человек, его чувства и мысли. К судьбе своей земли он был привязан узами долженствования, поэзия поучала его, как действовать, а не воспитывала его внутреннюю готовность к действию.
Остановимся на одной фигуре переходного периода, рубежа XIX столетия, поэте небольшого, но истинного дарования, творчество которого являет картину взаимодействия разных литературных явлений начала века.
В один из летних дней в подмосковной усадьбе своих знакомых жаловался на жизнь свою невысокий лысый человек. Уроженец далекого Урала, ныне профессор Московского университета, он сетовал на одиночество, тяготы жизни, неразделенную любовь. Взяв мелок, он записал на зеленом сукне ломберного столика строки, которые и оставили его имя в истории русской поэзии:
Среди долины ровныя, На гладкой высоте Цветет, растет высокий дуб В могучей красоте.Прозвучала в этих не очень-то ловко составленных строках та внезапная безыскусность, которая и является знаком подлинной поэзии. Прием параллелизма, искренность чувства, простота выражения, заимствованные из народной поэзии, оживили эти стихи Алексея Мерзлякова, сделали их подлинно народной песней — одной из первых песен, которая, будучи создана поэтом-профессионалом, вернулась к народу и осталась в живом бытовании.
Возьмите же все золото, Все почести назад; Мне родину, мне милую, Мне милой дайте взгляд!В последних двух строках образ милой родины нераздельно сливается с образом милой женщины, возлюбленной. Отметим, что «милая родина» для поэта — это так называемая «малая родина» в нашем сегодняшнем понимании, так же как несколько позже для героя стихотворения К. Батюшкова «чужбиной» оказывается отдаленный край своей земли.
Но вот рядом с этой «милой родиной», на которой только и возможно простое счастье человека, создается тем же поэтом другой образ, который как бы венчает всю громогласную поэзию XVIII столетия и остается, пожалуй, непревзойденным памятником величия страны, народа и прежде всего государства, самого сильного в тогдашнем мире.
Се, мощный росс, одеян славой, В броню стальную и шелом, Опершись на Кавказ стоглавный, Стоит, в руках имея гром! . . . . . . . . . . . . . . Он внемлет радостные клики Усердных отчества детей; Он видит восхищенны лики, Поющи радость мирных дней. Геройска, тверда грудь мягчится, Слеза из глаз его катится, В восторге он перун трясет: «Кто мир нарушить их дерзнет?..»(1797)
Росс этот списан с Фидиева Зевса, его перуны гремят эхом античного грома. Нужны были еще заемные слова, чужие формы, чтобы рассказать о своем, о главном, о любви к отечеству.
Цвети, отечество святое, Сынам любезное, драгое! Мы все боготворим тебя И в жертву принести себя Для пользы твоея готовы. Ах! смерть ничто, когда оковы И стыд грозят твоим сынам!..Эти стихи, которые мы с полным правом можем называть патриотической лирикой, увидели свет в составе своеобразной социально-нравственной утопии Карамзина «Афинская жизнь» (1793), открывающей перед читателем картины добродетельной и счастливой жизни древних эллинов. Выходит, что для того, чтобы научить своих, русских читателей любить свое, русское отечество, поэту надо было показать, как любили свою родину обитатели древних Афин… Вот точная иллюстрация к словам Маркса о том, что историческое явление часто появляется под маской предшествующей эпохи!
Наследие классицизма, сентиментализм, ростки романтизма — все эти ссорившиеся между собой литературные направления русской поэзии оказались в одном стане, когда страна предстала лицом к лицу с наполеоновской агрессией. Война с французской империей прошла сквозь судьбы многих русских поэтов: был тяжело ранен Батюшков, разнеслась партизанская слава Дениса Давыдова, в военном лагере оказался Жуковский, организовал печатную агитацию против Наполеона писатель и адмирал Шишков, покрыл себя воинской славой на Бородинском поле Вяземский, пытался записаться в ополчение, несмотря на преклонные лета, Карамзин. Отклики на нашествие «двунадесяти языков», страстные призывы встать на защиту отечества создали в эти годы совсем юные Пушкин, Дельвиг, Баратынский, престарелые Державин, Дмитриев, Капнист.
Колоссальны бедствия войны. Человек, кажется, должен в этот период ощутить себя пылинкой в урагане событий (тем более что в творчестве современных поэтов были такие мотивы), но нет, он противопоставляет разум, волю, нравственное чувство вихрю обстоятельств, взяв на свои плечи тяжесть решения о прошлом, настоящем и будущем родины. В этот период в поэзии впервые моральный долг перед собой связывается с долгом перед родиной. Эта тема станет одной из стержневых в патриотической лирике последующих лет. Стремление постигнуть все окружающее (даже самые страшные, самые контрастные события) в свете нравственности, извлечь урок для души каждого — в этом видно предуказание дальнейшего нравственного развития русской классики.
Романтическая поэзия — поэзия, которая сопоставляет реальность с идеалом, более существенным для нее, чем обыденная повседневность. Для русской романтической лирики в теме России таким идеалом был древний Новгород. Характерно, что главная оглядка на прошлое была не на «мать городов русских» Киев, первое местоположение сильной централизованной государственной власти, а на Новгород с его вечевыми традициями. Два события новгородской истории — восстание против варягов под предводительством Вадима Храброго и драматические коллизии, связанные с присоединением новгородской республики к Московскому государству, — питали вдохновение многих поэтов прошлого века от Веневитинова до Случевского. Знаменательно, что у Аполлона Григорьева в стихах «Когда колокола торжественно звучат» (1846) появляется прямо-таки пророческий образ: рядом с вечевым колоколом возникает красный флаг:
И звучным голосом он снова загудит, И в оный чудный день, в расплаты час кровавый, В нем новгородская душа заговорит Московской речью величавой… И весело тогда на башнях и стенах Народной вольности завеет красный стяг…Но здесь мы забегаем вперед.
Пушкин… В наши дни вокруг его имени складывается тот ореол почитания, который создавали еще лучшие умы России прошлого века — Жуковский, Лермонтов, Гоголь, Белинский, Достоевский… Имя его становится в нашем сознании в иной ряд, выдвигаясь вперед по сравнению даже с величайшими именами русских классиков.
Недаром Гоголь считал, что только в будущем появится возможность полностью осознать человеческое величие и поэтический гений Пушкина. Пришло ли оно, это будущее?
Еще ребенком он писал:
Великим быть желаю, Люблю России честь. Я много обещаю — Исполню ли — бог весть.Он исполнил. Осознание высокой миссии поэта, глашатая народа, рано пришло к нему. В стихах, написанных в возрасте девятнадцати лет, есть строфа, которую он мог бы повторить и на смертном одре, строфа, счастливо выразившая самую суть всего его зрелого творчества:
Любовь и тайная свобода Внушали сердцу гимн простой, И неподкупный голос мой Был эхо русского народа.Может быть, в жизни великих людей сказываются иные, неизвестные простым смертным законы, может быть, им удается взглянуть на свою судьбу со стороны?..
Творчество Пушкина в главном противостояло и предшествовавшей поэзии классицизма, и современному ему творчеству романтиков. Главное для него — это человек, который сознательно ищет союза с миром — с природой и обществом, с народом, с государством, с историей и современностью. Поэтому так резко отличается угол зрения во многих его стихах — это разные подходы к одной грандиозной проблеме. Пушкину был совершенно чужд появившийся позднее взгляд на художника, согласно которому он «вечности заложник у времени в плену». Нет, Пушкин не чувствовал себя подневольным пленником обстоятельств: «В мой жестокий век восславил я свободу». Век — жестокий, но он мой; век — жестокий, но я восславил…
«Самостоянье человека, залог величия его» — можно считать главным идеалом Пушкина, его завещанием грядущим поколениям, завещанием нам.
Теперь мы подходим к стихотворению, которое, кажется, наиболее полно воплотило искания русской классической поэзии в осмыслении темы родной страны. Лермонтов, «Родина».
Люблю отчизну я, но странною любовью! Не победит ее рассудок мой.Но почему рассудок должен «побеждать» любовь к родине, пусть даже и странную? Не потому ли, что он диктует: любить родину только т а к и никак иначе? Не правы ли те исследователи, которые видят в этом стихотворении полемический выпад против доктрины официальной народности графа Сергея Уварова, учения, ставшего одной из мощных духовных подпор самодержавной власти, средством поставить наиболее возвышенные человеческие чувствования на службу наиболее отсталому режиму Европы, правительству гасителей духа?
Ни слава, купленная кровью, Ни полный гордого доверия покой, Ни темной старины заветные преданья Не шевелят во мне отрадного мечтанья.Здесь Лермонтов рассчитывается уже не с подоплекой казенного патриотизма, а с воплощением этой идеи в предшествующей культуре. Первые две строки достаточно четко рисуют торжественную суть одической традиции классицизма. Это и есть двойная тема всех торжественных песнопений во славу Русского государства и его коронованных владык — от Тредиаковского до Державина: военная слава и мирное довольство страны. Об этом уже отзвенели златые лиры осьмнадцатого столетия, угол зрения изменился, и мир предстает иным. Это позавчерашний день поэзии.
А «темной старины заветные преданья»? Неужели и они остались за гранью нынешнего дня? Ведь еще так недавно именно в них ощущал Пушкин залог грядущего величия русской литературы? Именно они породили многие достижения романтической поэзии. Именно в них видел Рылеев образцы для будущего гражданского служения отчизне. А сам Лермонтов? Сколько сил отдал он историческим поэмам…
То было в прежнее время, в пору ожидания близких общественных перемен, и образцы далекого прошлого должны были послужить примером для недалекого будущего. А в 1841 году, когда писалась «Родина», сгущалась мгла, крепчала стужа николаевского царствования, у Лермонтова впереди была скорая гибель… Опору нельзя было искать ни в древних доблестях, ни в недавних триумфах. Опору духа надо было искать здесь и сейчас.
Но я люблю — за что не знаю сам — Ее степей холодное молчанье, Ее лесов безбрежных колыханье, Разливы рек ее подобные морям…От этих строк веет холодом гигантских, необжитых, несоизмеримых с человеком пространств. Вот уж поистине «для веселия планета наша мало оборудована», и если человек связан с нею узами любви, рассудком объяснить их он не может: «за что не знаю сам». А дальше о чем речь? О том, что эти безбрежные просторы степей, лесов, водной глади населены людьми, преобразованы, оживлены трудом человеческим, трудом земледельца — человека, который возделывает землю, связан с нею теснейшими узами труда, жизнедеятельности. Узами, сродными тем узам любви, которые связывают поэта с родиной.
Теперь уже не в государстве, а в народе видит поэт воплощение великой идеи родины: «странная любовь» Лермонтова отворачивается от величественных регалий, она направлена на огромную и не очень-то уютную землю и на тех, кто ее возделывает, кто связан с ней своим трудом и мечтами, кормится плодами ее, в нее и возвращается навсегда.
В самом сердце стихотворения — приметы крестьянского труда: «дымок спаленной жнивы, в степи кочующий обоз», «желтая нива», «полное гумно», крестьянская изба, с резными ставнями окно» — все это просто, все это обыденно. Но это и есть мир человека, мир народа, посредством которого и существует, живет огромное земное пространство, необъятная страна…
Если бы не человек, преобразующий ее своим трудом, некому было бы и назвать ее теплым словом «родина». И заканчивается стихотворение совсем уж полемически — и пророчески:
И в праздник, вечером росистым, Смотреть до полночи готов На пляску с топаньем и свистом Под говор пьяных мужичков.Кто это в густеющих летних сумерках стоит в стороне от разгулявшихся крестьян? Не видно лица, только рубашка светлеет в полумраке да блестит кокарда на дворянском картузе. Тургенев? Успенский? Некрасов? Толстой? Или Бунин?.. Это еще впереди, лет за двадцать и дальше.
И еще одну деталь отметим: «чету белеющих берез». Хоть береза впервые появилась в русской поэзии за полвека до Лермонтова, хотя еще через полтора десятилетия Вяземский утверждал, что «средь избранных дерев береза не поэтически глядит», именно с лермонтовских строк становится белоствольное дерево простым и трогательным символом Центральной России и символом, добавим мы, который в наши дни вконец изработался, стал столь же обязательным в патриотической поэзии, как соловей и роза в ориентальной любовной лирике.
Еще одна страница — поэзия славянофилов. Долгое время остававшееся в тени творчество таких поэтов, как поздний Языков, Иван Аксаков, Степан Шевырев, Алексей Хомяков… Должное им воздал еще Александр Герцен, их давний идейный противник. Он писал: «Киреевские, Хомяков и Аксаков сделали свое дело; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей».
Надо напомнить, что Хомяков в молодые годы был близок с Рылеевым и другими декабристами, что издательская деятельность славянофилов неоднократно сурово пресекалась, что подвергались они преследованиям властей, наконец, что их творчество оказало заметное влияние на лирику таких разных поэтов, как Некрасов и Тютчев, — все это дает им право на нашу благодарную память.
Основные черты гражданской поэзии славянофилов (а гражданская тема, без сомнения, была главной в их лирике) — это высокое нравственное сознание, чувство личной ответственности, обращение к религиозным мотивам как основам мировоззрения и поведения, вера в великую историческую миссию своей страны, которая сочетается с задачей помощи братским славянским народам. Гимном славянофильства можно назвать стихотворение А. С. Хомякова «"Гордись!" — тебе льстецы сказали…» (1839), мотивы которого он неоднократно варьировал и впоследствии. Как и стихотворение Лермонтова, оно построено на противопоставлении жестоковыйной гордости показного могущества и того мудрого смирения, в котором зреют семена грядущего подлинного величия. Конечно, Хомякову как поэту далеко до Лермонтова, он восполняет ораторским пафосом, форсированием голоса то, что давала Лермонтову лирическая откровенность, самодвижение свободно изливающегося из глубин души стиха.
«Гордись!» — тебе льстецы сказали: — Земля с увенчанным челом, Земля несокрушимой стали, Полмира взявшая мечом: Предела нет твоим владеньям… и т. д.Да, казалось тогда, что сама судьба мира решается в Санкт-Петербурге. На памяти была великая победа в Отечественной войне, и никто не знал еще, что война 1812 года будет последней удачной войной царизма, что все остальные на протяжении ста лет будут либо проиграны, как крымская кампания, как японская, либо военная победа, купленная немыслимым кровопролитием, будет наполовину сведена на нет дипломатическими интригами западных держав. Вспоминая великие империи прошлого, утверждавшие себя огнем и мечом — утверждавшие ненадолго, а затем навсегда уходившие с мировой арены, — Хомяков ищет для своей страны залоги, краеугольные камни будущего высокого предназначения. И разве мы, разве наши современники не согласятся с мыслями поэта прошлого столетия о высоком уделе родной страны:
Хранить для мира достоянье Высоких жертв и чистых дел; Хранить племен святое братство, Любви живительный сосуд, И веры пламенной богатство, И правду, и бескровный суд…Отсутствие стремления возвысить свой народ за счет других доказывает здоровую суть этого мировоззрения, того высшего патриотизма, который зовет не брать, а давать, не господствовать, а служить. Нет, это «наследие», от которого нельзя отказываться!
К чести русской поэзии надо сказать, что ей всегда были чужды аристократическая кастовость, книжное суемудрие. Наоборот, все заметные поэты согласно обращали взоры к жизни народа, к его творчеству. С легкой руки братьев Киреевских собирание русского фольклора захватило многих известных стихотворцев. И в своем творчестве поэты ориентировались на народную словесность — создавали «русские песни», обработки, стилизации. И словно бы согласно ждали, когда же появится подлинный поэт из народа.
Милькеев, Сибиряков, Алипанов, Слепушкин — ныне эти имена известны лишь узкому кругу исследователей русской литературы. Все это были простые люди — крестьяне, мещане, — пробовавшие свои силы в изящной словесности. И что характерно: каждый такой дебют сопровождался градом похвал и одобрений из лагеря «большой литературы». Так создавалась одна из гуманнейших традиций нашей словесности — участливый интерес к писателям-самоучкам, интерес, разделявшийся, наверное, всеми крупными талантами, от Пушкина и Белинского до Толстого и Горького. Но осечка за осечкой! Каждый раз новооткрытый стихотворец не шел дальше неких залогов и обещаний. Казалось, сама атмосфера чрезмерных ожиданий губила их неразвившиеся таланты.
Но вот пришел Кольцов. В ряду великих поэтов прошлого имя его, его творчество способны и доселе вызвать споры. Одни будут отрицать вообще всякое художественное достоинство его стихов, другие, отдавая должное созданным им картинам деревенской жизни, станут стыдливо отворачиваться от его «дум», философских стихотворений. Нашему пониманию Кольцова все еще мешает вульгарно-социологическая оценка его творчества в предвоенные годы, когда он настойчиво противопоставлялся литераторам дворянского лагеря и в вину бедному Алексею Васильевичу ставилось одно: как это он не отразил процессов эксплуатации крепостного крестьянина?
А сам крепостной крестьянин мог ли тогда понять, что его «эксплуатируют»?
Русская душа воплотилась в поэзии Кольцова полной мерой — и не в одном каком-то стихотворении, а в творчестве его в целом. Здесь и покорное следование канонам прошлого (как в «русских песнях»), и стихия бунта, и страстный интерес к загадкам бытия, и покорность судьбе, и очарованное любование родной природой, и стойкая привычка к каждодневному труду… На страницах сборника его стихов соседствуют мещанский романс, лирическое излияние, романтическая баллада, зарисовка деревенской жизни — и рядом поэтическая медитация в духе Гете. Словарь, безыскусный стиль Кольцова кажутся нам устарелыми, порою даже смешными. Но это лишь на первых порах. Кольцов — из тех поэтов, которых нужно читать помногу, в которых нужно вчитываться внимательнее, чтобы постичь их поэтический мир во всей полноте.
За Кольцовым вслед на десятилетия растянулась череда поэтов из народа — крестьян, мелких торговцев, ремесленников, каждый из которых в свой час ощутил неодолимую тягу к слову, тягу ввысь, противостоящую земному притяжению его предустановленной, казалось бы, судьбы. Трудно прожитые, изломанные жизни… Немногими строками отложились они в истории русской поэзии…
Каждое большое поэтическое явление свою оригинальность получает от синтеза предшествовавших разрозненных потоков поэзии. Так, великая лирика Некрасова воплотила и пушкинскую ясность, и высокий дух гражданства декабристской поэзии, и кольцовскую задушевность, и славянофильскую веру в высокое историческое назначение народа. Воплотила и выразила в новом, доселе неслыханном слове. Тема родины, тема России у Некрасова впрямую связывается с судьбой народа, с борьбой за его освобождение:
Доля народа, Счастье его, Свет и свобода Прежде всего!И дело не только в том, чтобы указать возвышенную цель — Некрасов в своей лирике раскрыл внутренний мир человека, который сделал делом своей жизни борьбу за эти высокие идеалы, посвятил им себя без остатка. Только такой человек, настроенный на завтрашний день, смог увидеть в современной жизни картины, ускользавшие от взора поэтов предшествующих. Смог разглядеть и давящую прозу городской жизни, и трагическую зависимость земледельца от капризов погоды, стихий, произвола помещиков, смог увидеть подлинно живые типы, живых людей, которые и доселе известны нам, кажется, больше, полнее, чем многие наши реальные друзья и сотоварищи: вроде бы как далеки от нас по времени, по мировоззрению, по жизненному укладу и в то же время как близки, как знаемы и дед Мазай, и Яким Нагой, и Савелий — богатырь святорусский, и, скажем, герой стихотворения «Зеленый шум». Когда сейчас мы пытаемся представить себе деревню прошлого века, мы видим ее сквозь призму поэтического зрения Некрасова. В своих стихах, поэмах о деревенской жизни, в незавершенной эпопее «Кому на Руси жить хорошо» он достиг величайших высот той народности, о которой твердила передовая литературная критика, начиная с декабристов. Поэзия Некрасова — поэзия пророческая в том смысле, что он угадал: историю его страны будут двигать именно эти мужики, именно эти крестьянские дети, многих из которых нужда и безземелье выгонят в город, на заводы и фабрики. И как есть трагична и прекрасна, так и останется такою судьба героя-интеллигента, сочувствующего народу, идущего ему навстречу, жертвующего собою, чтобы облегчить тяжелое поступательное движение истории.
Горестные мотивы, связанные в лирике Некрасова с темой демократа-разночинца, в душе которого порывы самоотверженности сменяются периодами упадка и уныния, были развиты в лирике Надсона. Огромная популярность ее у современников труднообъяснима ныне — ведь, на наш современный взгляд, у этого поэта, пожалуй, не найти ни одного стихотворения без фальшивой ноты. Лирика Надсона отразила кризисность сознания русской интеллигенции в тот период, когда она уже должна была сойти со сцены, уступив путь самому народу.
Не изнутри образованных, культурных классов предстояло прийти великому перерождению России, историческая трагедия народничества закончилась в тупике, и эпитафией ему звучат строки из «Хорошо!» Маяковского:
Врали: «народа — свобода, вперед, эпоха, заря…» — и зря.Слово так же не давалось Надсону, как дело — его читателям. Интеллигенты-народники оказались как бы в узком промежутке между молотом и наковальней — между угнетающим аппаратом государства и угнетаемой массой народа. Не найдя своего пути, они разделились: «чернопередельцы» ушли в народ, чтобы его учить и учиться у него, «народовольцы» двинулись навстречу сановным каретам с бомбами в холодеющих руках. Поэзия этого периода отражает такую же раздвоенность: народ в ее изображении все более абстрагируется, тускнеет свет реализма в описании его жизни, он превращается в некий горний символ. С другой стороны, все, что существует в России, помимо этого все более загадочного народа, подвергается отрицанию. Лермонтовская «странная любовь» к отчизне становится еще более «странной» у поэтов пореформенной России. Внутренней полемикой с мерзляковским «Россом» (стихотворение, которое вряд ли мог знать поэт-народник) звучат стихи Надсона:
Художники ее любили воплощать В могучем образе славянки светлоокой, Склоненною на меч, привыкший побеждать, И с думой на челе, спокойной и высокой,—а далее — и крест на груди, и античный «орел у сильных ног», и взгляд в «обетованный рай»…
Мне грезится она иной: томясь в цепях, Порабощенная, несчастная Россия, Она не на груди несет, а на плечах Свой крест, свой тяжкий крест, как нес его Мессия. В лохмотьях нищеты, истерзана кнутом, Покрыта язвами, окружена штыками, В тоске она на грудь поникнула челом, А из груди, дымясь, стремится кровь ручьями… О лесть холопская! Ты миру солгала!(1882)
Это дальше Лермонтова, дальше Хомякова, дальше Некрасова… Показательна заключительная строка стихотворения: поэт не только сам не верит в образ «славянки светлоокой», но и отрицает искренность всех тех, кто писал о ней ранее. Не здесь ли брошено в землю то зерно, которое прорастет через сорок лет сорняком пролеткультовского нигилизма?
В нашем разговоре о лирическом постижении родины надо упомянуть и о расширении поэтической географии; следуя гоголевскому завету «проездиться по России», поэты открывали отдаленные ее уголки, воспевали своеобычный облик ее глухих окраин (Полонский, Случевский). Они воплотили в слове особую красоту русской природы, изменчивость времен дня и времен года, закрепили в неподвластных времени строках связь между русской землей и душой россиянина. Я говорю здесь в первую очередь о лирике Фета: в его стихах лишь несколько раз встречается слово «родина», слово «Россия», наверное, и того реже. Родина для Фета — это в первую очередь родная природа, природа живая, смена ее обликов и настроений.
Жизнь поэта — особая жизнь. Мы видим возвращение зимы, весны, лета, осени, чередование утра, дня, вечера, ночи. Время для нас как бы вращается, возвращается. Для Фета каждый миг неповторим: он запечатлевает в словах то, как выпал снег именно этой осенью, как блестит роса именно этим утром, как именно эта туча приходит поплакать над селом… В следующем году будут иные явления, иные открытия, иные стихи. Но есть нечто общее, как бы вынесенное за скобки поэзии Фета. Как напечатанные стихи существуют неотторжимо от листа бумаги, так и запечатленные в его лирике образы неразрывно связаны с родной землей. И поэтому если
…ты хочешь знать, за что такой любовью Мы любим родину с тобой? Зачем в разлуке с ней, наперекор злословью, Готово сердце в нас истечь до капли кровью По красоте ее родной? —ответ лежит не в одном-двух стихотворениях, а во всей целостности лирического наследия поэта: одухотворенная красота природы — это красота родины.
Мы подходим к сложной, противоречивой эпохе русской поэзии, начинающейся в конце XIX столетия и прерванной революцией. Символисты, акмеисты, футуристы, последние народнические, первые рабочие и крестьянские поэты: «Какая смесь одежд и лиц, имен, наречий, состояний!» Как близко соседствуют в их судьбах возвышенное и низменное, курьезное и трагическое!
За миновавшие десятилетия многое из поэзии тех лет невозвратимо ушло из сферы непосредственного читательского восприятия. Если взяться читать поэтические подборки в журналах и альманахах той поры, очень многое может вызвать лишь снисходительную улыбку, а то и досадную гримасу: «декадентство». Направление, знамя борьбы с которым Блок поднял уже в первые годы нашего века, во многом означало разрыв с классической традицией, распространение «фабричной» (по-нынешнему — массовой) литературы с ее клишированными необычайностями, красивостями и ужасностями.
Даже если ограничить круг поэтов десятком имен, делавших тогда «поэтическую погоду» (а уж десяток-то поэтов существовал в русской литературе в любой год ее истории), очень от многого придется отказаться, прежде чем представить современному читателю «избранное», достойное его внимания. Возьмем основные темы поэзии того периода. Л ю б о в ь. Здесь — роковая декадентская изломанность, драма непонимания, да еще сдобренная старомодной эротикой. Надо сказать, что поэты той поры попросту не видели в женщине человека, способного на добро, на участие, на сочувствие. Никак не позавидуешь их женам и подругам. С у д ь б а. Власть рока, неверие в будущее, невозможность ни поставить какие-нибудь общезначимые цели, ни добиваться их. И с к у с с т в о. Здесь, наоборот, напыщенное мессианство, высокомерие, подкрепляемое университетской эрудицией, щеголянием тысячами имен и реалий всех времен и народов. П р и р о д а. Весь реальный мир искажается по законам восприятия болезненной личности, которая скорее способна испускать тьму, нежели свет.
Но одна тема оставалась священной в самую мрачную пору литературного распада — тема родины. Можно сказать, что эта тема выразилась гораздо ярче, чем у поэтов предшествующей поры. Если поэты, активно выступавшие в 70—90-е годы, были словно близоруки, за сиюминутными движениями души не видели пути своей страны, то последующее поколение страдало обратной болезнью — дальнозоркостью: не видя жизненной конкретики, они прорицали будущее России, предсказывали наступающие испытания и часто пророчили гибель всему, что связывалось у них с понятием устойчивого уклада жизни, в первую очередь Петербургу, государству. Заглянем в поэтические книги начала века.
А что было у нас на земле, Чем вознесся орел наш двуглавый, В темных лаврах гигант на скале,— Завтра станет ребячьей забавой. . . . . . . . . . . . . . . Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, Ни миражей, ни слез, ни улыбки… Только камни из мерзлых пустынь Да сознанье проклятой ошибки.И. Анненский «Петербург»
Сроки страшные близятся. Скоро Станет тесно от свежих могил. Ждите глада, и труса, и мора, И затменья небесных светил. Только нишей земли не разделит На потеху себе супостат: Богородица белый расстелет Над скорбями великими плат.А. Ахматова «Июль 1914-го»
Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые — Как слезы первые любви! Тебя жалеть я не умею, И крест свой бережно несу… Какому хочешь чародею Отдай разбойную красу! Пускай заманит и обманет,— Не пропадешь, не сгинешь ты, И лишь забота затуманит Твои прекрасные черты…А. Блок «Россия», 1906
Где глаз людей обрывается куцый главой голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год.В. Маяковский «Облако в штанах»,1915
Перечитывая эти строки, вспоминаешь библейское: «Придут пророки, и не услышите их!» Литература пророчествовала о великих сдвигах, небывалых переменах.
И чем ближе подходила пора великих событий, тем тревожнее были эти пророчества. В последние дни свои русская классическая поэзия явила свое лицо, как блоковский Гамаюн — птица вещая:
Предвечным ужасом объят, Прекрасный лик горит любовью, Но вещей правдою звучат Уста, запекшиеся кровью!..Поэзия Бальмонта, Белого, Брюсова, Ахматовой, Бунина, Городецкого, других даровитых поэтов начала века не могла не отразить кризисной ситуации, разрешившейся величайшим революционным взрывом в мировой истории. Старый мир, старая культура были обречены, и поэты говорили, вещали об этой обреченности. Когда Андрей Белый писал:
Туда, где смертей и болезней Лихая прошла колея,— Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя! —это означало, что е г о Россия, Россия, с которой связана была его судьба, вся жизнь его, все мировоззрение, э т а Россия обречена была на исчезновение. Это он видел, об этом и выкликал в стихах, не случайно названных «Отчаянье». И в других строках, предрекавших грядущие катаклизмы, первой будущей жертвой на зван сам поэт, поскольку именно в себе, в своей душе видел он «ветхого Адама», метаниям и кризисам которого не могло найтись места в неведомом царстве будущего.
И за первой частью пророчества должна была свершиться вторая — открыться «новое небо, новая земля», реальных контуров которой поэты не могли увидеть сквозь бушующее пламя грядущего пожара. Показательно, что поэты пытались найти для нее иное, новое имя: Инония (Есенин), Новая Америка, Скифия (Блок), Белая Индия (Клюев), Славия (Волошин), Они и здесь оказались провидцами: имя «Россия» оказалось стертым с карты мира в ближайшие годы.
Было бы нечестно не упомянуть и о последнем призыве дореволюционных поэтов, которые уже не задыхались в атмосфере предгрозья, как старшее поколение, а очень хорошо научились дышать отравленным миазмами прошлого воздухом. Эстетствующие эгофутуристы, ушедшие в мелочи ремесла акмеисты знаменовали последнюю ступень кризиса, когда он уже и не ощущается, не переживается как канун крушения мира. Это к ним взывал Блок, которого мы можем назвать совестью поэзии той поры:
На непроглядный ужас жизни Открой скорей, открой глаза, Пока великая гроза Все не смела в твоей отчизне…Гроза революции открыла глаза, очистила душу одним из них, сделав их большими русскими поэтами, других смела без следа.
Сроки терпения народного, такие долгие сроки, минули. Разразилась Октябрьская буря. Страна, раздираемая классовой ненавистью, истекала кровью, безжалостно срублено было дерево старой культуры, культуры господствующего класса, чтобы дать место новым побегам, берущим начало от неумирающих корней народной жизни.
Тема родины, России, кровью умытой, рисуется в лирике больших поэтов первых лет революции в сознательном противопоставлении ставшему вдруг чужим буржуазному миру. Это противостояние слышится уже в блоковских «Скифах», в ахматовской лирике лета 17-го года: бросить все,
… на палубе в ненастье, В мех закутавшись пушистый, Слушать, как стучит машина, И не думать ни о чем, Но, предчувствуя свиданье С тем, кто стал моей звездою, От соленых брызг и ветра С каждым часом молодеть.Но этот искренний, трогательный порыв к счастью — как последний полет птицы на фоне туч подходящей бури. Кто тот, кто позвал ее? Отступник, который «за остров зеленый отдал, отдал родную страну» и тем «потерял благодать»:
… теперь и кощунствуй, и чванься, Православную душу губи, В королевской столице останься И свободу свою полюби.Свою собственную, такую мелкую! И с библейской величавостью (какое счастье, что сохранилась фонограмма авторского чтения этих стихов!) звучит гордый отказ на льстивые искушения и призывания: «чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух».
Если сегодня, из конца XX века, оглянуться на пеструю картину его начала, то, пожалуй, четыре самые крупные фигуры привлекут наше первостепенное внимание. Четыре поэта, творчество которых в наибольшей степени определило развитие отечественной лирики советского уже периода. Первые три имени вряд ли вызовут споры. Блок, Маяковский, Есенин. Пожалуй, пора поставить с ними рядом и Марину Цветаеву, чей мощный, огненный талант проявился несколько позднее и однозначно определил развитие всей женской поэзии наших дней.
Ну хорошо, а из этих кто самый главный? Кто в той же мере повлиял на советскую поэзию, как век назад Пушкин на русскую лирику XIX века? Поэты и литературоведы могут спорить относительно ответа на этот вопрос. Но читатели разрешили его давно и однозначно: Есенин.
Нет такого любителя поэзии, который прошел бы мимо этого имени. Пусть потом творчество его покажется слишком простым, слишком песенным, слишком непутевым, но непосредственному очарованию его стихов противостоять невозможно. «Народ прижал Есенина к своему сердцу и никому не позволил его отнять», — сказал один из младших современников поэта. Добавить здесь нечего.
Есенин, как и Пушкин, был щедр на дружбу. Как Пушкин привел в наше сегодня «поэтов пушкинской плеяды», так и Есенин, правда, через долгие-долгие годы, вернул к читателю целый ряд интереснейших поэтов, который называют иногда «есенинской купницей» — это Николай Клюев, Петр Орешин, Сергей Клычков, Иван Наседкин, другие стихотворцы, судьбой и поэзией связанные с Сергеем Есениным. Судьба этих поэтов — без сомнения, одна из самых трагических страниц истории советской литературы. Вскоре после революции они в большинстве своем были обречены на тяжелые гонения, в конце тридцатых жизнь их оборвалась. Казалось, в бессмысленной жестокой круговерти какая-то рука мстительно наносила удар за ударом, выбивая их одного за другим… Потребовалось около полувека, чтобы творчество их посмертно вернулось к читателю. И когда вновь открылись их страницы, стало ясно: утрачена была одна из самых значительных, самых народных по духу и светлых по направленности традиций развития советской литературы. Их отсутствие, их молчание годами создавало вакуум, бог весть чем заполнявшийся. Сегодня поэтические соратники Есенина, как и сам он, говорят с нами голосами современников, говорят о добре, о жалости, о трудолюбии, о любви к родине, к природе ее, истории и народу.
Предреволюционными стихами поэтов «есенинской плеяды» заканчивается наша антология. Они словно передают нам, в наше сегодня, дух лелеющей душу гуманности, главный пушкинский завет отечественной классической поэзии.
Леонид Асанов
И будет вечен вольный труд
Василий Кириллович Тредиаковский{1}
1703–1769
Стихи похвальные России{2}
Начну на флейте стихи печальны, Зря на Россию чрез страны дальны: Ибо все днесь мне ее доброты Мыслить умом есть много охоты. Россия-мати! Свет мой безмерный! Позволь то, чадо прошу твой верный, Ах, как сидишь ты на троне красно! Небо Российску ты Солнце ясно! Красят иных все златые скиптры, И драгоценна порфира, митры; Ты собой скипетр твой украсила, И лицем светлым венец почтила. О благородстве твоем высоком Кто бы не ведал в свете широком? Прямое сама вся благородство: Божие ты, ей{3}! светло изводство{4}. В тебе вся вера благочестивым, К тебе примесу нет нечестивым; В тебе не будет веры двойныя{5}, К тебе не смеют приступить злые. Твои все люди суть православны И храбростию повсюду славны; Чада достойны таковой мати, Везде готовы за тебя стати. Чем ты, Россия, не изобильна? Где ты, Россия, не была сильна? Сокровище всех добр ты едина, Всегда богата, славе причина. Коль в тебе звезды все здравьем блещут!{6} И Россияне коль громко плещут: Виват Россия! виват драгая! Виват надежда! виват благая. Скончу на флейте стихи печальны, Зря на Россию чрез страны дальны: Сто мне языков надобно б было Прославить все то, что в тебе мило!1728
Михайло Васильевич Ломоносов
1711–1765
Письмо к его высокородию Ивану Ивановичу Шувалову{7}
Прекрасны летни дни, сияя на исходе, Богатство с красотой обильно сыплют в мир; Надежда радостью кончается в народе; Натура смертным всем открыла общий пир. Созрелые плоды древа отягощают И кажут солнечным румянец свой лучам! И руку жадную пригожством привлекают; Что снят своей рукой, тот слаще плод устам. Сие довольствие и красота всеместна Не токмо жителям обильнейших полей Полезной роскошью является прелестна, Богинь влечет она приятностью своей. Чертоги светлые, блистание металлов Оставив, на поля спешит Елисавет; Ты следуешь за ней, любезный мой Шувалов, Туда, где ей Цейлон и в севере цветет{8}, Где хитрость мастерства, преодолев природу, Осенним дням дает весны прекрасной вид И принуждает вверьх скакать высоко воду, Хотя ей тягость вниз и жидкость течь велит. Толь многи радости, толь разные утехи Не могут от тебя Парнасских гор закрыть. Тебе приятны коль российских муз успехи, То можно из твоей любви к ним заключить. Ты, будучи в местах, где нежность обитает, Как взглянешь на поля, как взглянешь на плоды, Воспомяни, что мой покоя дух не знает, Воспомяни мое раченье и труды. Меж стен и при огне{9} лишь только обращаюсь; Отрада вся, когда о лете я пишу; О лете я пишу, а им не наслаждаюсь И радости в одном мечтании ищу. Однако лето мне с весною возвратится, Я оных красотой и в зиму наслаждусь, Когда мой дух твоим приятством ободрится, Которое взнести я на Парнас потщусь.18 августа 1750
Разговор с Анакреоном{10}
(Отрывок)
О мастер в живопистве первой!{11} Ты первой в нашей стороне,{12} Достоин быть рожден Минервой, Изобрази Россию мне. Изобрази ей возраст зрелой И вид в довольствии веселой, Отрады ясность по челу И вознесенную главу. Потщись представить члены здравы, Как должны у богини быть, По плечам волосы кудрявы Признаком бодрости завить; Огонь вложи в небесны очи Горящих звезд в средине ночи, И брови выведи дугой, Что кажет после туч покой. Возвысь сосцы, млеком обильны, И чтоб созревша красота Являла мышцы, руки сильны; И полны живости уста В беседе важность обещали И так бы слух наш ободряли, Как чистой голос лебедей, Коль можно хитростью твоей. Одень, одень ее в порфиру, Дай скипетр, возложи венец, Как должно ей законы миру И распрям предписать конец. О, коль изображенье сходно, Красно, любезно, благородно! Великая промолви, Мать, И повели войнам престать.{13}1758–1761
Александр Петрович Сумароков
1717–1777
Дитирамб{14}
Вижу будущие веки: Дух мой в небо восхищен. Русских стран играйте, реки; Дальный океан смущен: В трепет приведен он нами, В ужас вашими водами. Ваше суетно препятство, Ветры, нашим кораблям. Рассыпается богатство По твоим, Нева, брегам. Бедны, пред России оком, Запад с югом и востоком. Горы злато изливают, К нам сокровищи текут. Степь народы покрывают, Разны там плоды растут. Где, леса, вы непроходны? Где, пустыни, вы безводны? Там, где звери обитали, Обитают Россы днесь. Там, где птицы не летали, Градами покрыт край весь. Где снега вовек не тают, Там науки процветают. Тщетно буря возвевает Дерзкий рев из глубины. Море новы открывает Нам среди валов страны. Наступают Россы пышно, Имя их и тамо слышно. Очи как ни обратятся, Вижу страх, и Россы тут. Стены твердые валятся, Башни гордые падут. Только солнце где блистает, Наша слава там летает. Разверзается мне боле Высоты небесной вид; Петр Великий к нам оттоле Превеселым ликом зрит. Зри исполнены утехи В мире, Петр, свои успехи! Основатель нашей славы, О творец великих дел! Зри в конце своей державы И на счастливый предел; Веселись своей судьбою, Будем таковы тобою. Петр Великий просвещает Вдохновение сие: Сбудется, с верхов вещает, Провидение твое. Трон мой тако вознесется, И вселенна потрясется. Воспеваю безопасно, Вся подсолнечна, внемли. Простирайся велегласно, Речь моя, по всей земли! Я глашу России тайну, Честь народа чрезвычайну. Насыщайся, Россов племя, В оный век ты частью сей. Зрите предсказанно время, О потомки наших дней. Плеском мир весь проницайте, Радуйтесь и восклицайте!1755
Хор ко превратному свету{15}
Прилетела на берег синица Из-за полночного моря, Из-за холодна океана. Спрашивали гостейку приезжу, За морем какие обряды. Гостья приезжа отвечала: Все там превратно на свете. За морем Сократы{16} добронравны, Каковых мы здесь и не видаем, Никогда не суеверят, Не ханжат, не лицемерят. Воеводы за морем правдивы; Дьяк там цуками не ездит{17}, Дьячихи алмазов не носят, Дьячата гостинцев не просят, За нос там судей писцы не водят. Сахар подьячий покупает.{18} За морем подьячие честны, За морем писать они умеют. За морем в подрядах не крадут; Откупы{19} за морем не в моде, Чтобы не стонало государство. Завтрем там истца не питают.{20} За морем почетные люди Шеи назад не загибают, Люди от них не погибают. В землю денег за морем не прячут, Со крестьян там кожи не сдирают, Деревень на карты там не ставят, За морем людьми не торгуют. За морем старухи не брюзгливы, Четок они хотя не носят, Добрых людей не злословят. За морем противну указу Росту заказного не емлют.{21} За морем пошлины не крадут. В церкви за морем кокетки Бредить, колобродить{22} не ездят. За морем бездельник не входит В домы, где добрые люди. За морем людей не смучают{23}, Сору из избы не выносят. За морем ума не пропивают; Сильные бессильных там не давят; Пред больших бояр лампад не ставят.{24} Все дворянские дети там во школах, Их отцы и сами учились; Учатся за морем и девки; За морем того не болтают: Девушке-де разума не надо, Надобны румяна да белилы. Там язык отцовский не в презреньи;{25} Только в презреньи те невежи, Кои свой язык уничтожают, Кои, долго странствуя по свету, Чужестранным воздухом некстати Головы пустые набивая, Пузыри надутые вывозят. Вздору там ораторы не мелют; Стихотворцы вирши не кропают; Мысли у писателей там ясны, Речи у слагателей согласны: За морем невежа не пишет, Критика злобой не дышет; Ябеды{26} за морем не знают, Лучше там достоинство — наука, Лучше приказного крюка.{27} Хитрости{28} свободны там почтенней, Нежели дьячьи закрепы, Нежели выписки и справки, Нежели невнятные экстракты. Там купец — купец, а не обманщик. Гордости за морем не терпят, Лести за морем не слышно, Подлости за морем не видно. Ложь там велико беззаконье. За морем нет тунеядцев. Все люди за морем трудятся, Все там отечеству служат; Лучше работящий там крестьянин, Нежели господин тунеядец; Лучше нерасчесаны кудри, Нежели парик на болване. За морем почтеннее свиньи, Нежели бесстыдны сребролюбцы. За морем не любятся за деньги: Там воеводская метресса{29} Равна своею степенью С жирною гадкою крысой. Пьяные по улицам не ходят, И людей на улицах не режут.1763
Пучок лучины
Нельзя дивиться, что была Под игом Росская держава И долго паки не цвела, Когда ея упала слава; Вить не было тогда Сего великого в Европе царства, И завсегда Была вражда У множества князей едина государства. Я это в притче подтвержу, Которую теперь скажу, Что Россов та была падения причина — Была пучком завязана лучина; Колико руки ни томить, Нельзя пучка переломить, Как Россы, так она рассыпалась подобно, И стало изломать лучину всю удобно.«Негде, в маленьком леску…»{30}
Негде{31}, в маленьком леску, При потоках речки, Что бежала по песку, Стереглись овечки. Там пастушка с пастухом На брегу была крутом, И в струях мелких вод с ним она плескалась. Зацепила за траву, Я не знаю точно, Как упала в мураву, Вправду иль нарочно. Пастух ее подымал, Да и сам туда ж упал И в траве он щекотал девку без разбору. «Не шути так, молодец,— Девка говорила,— Дай мне встать пасти овец,— Много раз твердила.— Не шути так, молодец, Дай мне встать пасти овец; Не шути, не шути, дай мне пасти стадо. Закричу», — стращает вслух. Дерзкий не внимает Никаких речей пастух, Только обнимает. А пастушка не кричит, Хоть стращает, да молчит. Для чего же не кричит, я того не знаю. И что сделалось потом, И того не знаю. Я не много при таком Деле примечаю; Только эхо по реке Отвечало вдалеке: Ай, ай, ай! — знать, они дралися.1755
Михаил Григорьевич Собакин{32}
1720–1772
«Выслушай мой вопрос, сияюща в свете…»{33}
выслушай мой вопРОС, СИЯюща в свете: кто тя толь украсил, яко розу в лете? во истину скажешь, что мудрый владетель, глава увенчАННА, чему всяк свидетель. жертвуй убо сего в начало ей года искренно верность твоего народа, а за прошедший год благодари богу, что явил тебе толь милость свою многу, разбив вероломцев, свободи невинных, А ЗОВущих на брань показа бессильных, хищника поКРЫ Мраком ум и раны тело; не имел успеХА Ни в какое дело. пребыли же твои пределы невредны, и людям дадеся жити дни безбедны, радуйся и в сей год, что начинаешь, ибо ТЫ СЯ ЩАстливу и в сем быти чаешь, под властию крепко хранима такою, иже славы образ всем кажет собою. при СЕМ СОТвори ты к вышнему молитву, да даст ей обильну и в сей год ловитву; меч да изосТРИЦА Тоя обоюду, посекая врагов христианства всюду, да услышан в мире глас ее явится: СЕ МОЙ бог, тобою могу похвалиться.1736
Гаврила Романович Державин
1743–1816
Властителям и судиям{34}
Восстал всевышний бог, да судит Земных богов{35} во сонме их; Доколе, рек{36}, доколь вам будет Щадить неправедных и злых? Ваш долг есть: сохранять законы, На лица сильных не взирать, Без помощи, без обороны Сирот и вдов не оставлять. Ваш долг: спасать от бед невинных, Несчастливым подать покров; От сильных защищать бессильных, Исторгнуть бедных из оков. Не внемлют! видят — и не знают! Покрыты мздою очеса:{37} Злодействы землю потрясают, Неправда зыблет небеса. Цари! Я мнил, вы боги, властны, Никто над вами не судья, Но вы, как я подобно, страстны, И так же смертны, как и я. И вы подобно так падете, Как с древ увядший лист падет! И вы подобно так умрете, Как ваш последний раб умрет! Воскресни, боже! боже правых! И их молению внемли: Приди, суди, карай лукавых, И будь един царем земли!1780
На взятие Измаила{38}
О, коль монарх благополучен,
Кто знает россами владеть!
Он будет в свете славой звучен
И всех сердца в руке иметь.
Ода г. Ломоносова Везувий пламя изрыгает, Столп огненный во тьме стоит, Багрово зарево зияет, Дым черный клубом вверх летит; Краснеет понт, ревет гром ярый, Ударам вслед звучат удары; Дрожит земля, дождь искр течет; Клокочут реки рдяной лавы,— О росс! Таков твой образ славы, Что зрел под Измаилом свет! О росс! О род великодушный! О твердокаменная грудь! О исполин, царю послушный! Когда и где ты досягнуть Не мог тебя достойной славы? Твои труды — тебе забавы; Твои венцы — вкруг блеск громов; В полях ли брань — ты тмишь свод звездный, В морях ли бой — ты пенишь бездны,— Везде ты страх твоих врагов. На подвиг твой вождя веленьем Ты идешь, как жених на брак. Марс видит часто с изумленьем, Что и в бедах твой весел зрак. Где вкруг драконы медны ржали, Из трех сот жерл огнем дышали,{39} Ты там прославился днесь вновь. Вождь рек: «Се стены Измаила! Да сокрушит твоя их сила!..» И воскипела бранна кровь. Как воды, с гор весной в долину Низвержась, пенятся, ревут, Волнами, льдом трясут плотину, К твердыням россы так текут. Ничто им путь не воспящает{40}; Смертей ли бледных полк встречает, Иль ад скрежещет зевом к ним,— Идут — как в тучах скрыты громы, Как двигнуты безмолвны холмы; Под ними стон, за ними — дым. Идут в молчании глубоком, Во мрачной страшной тишине, Собой пренебрегают, роком; Зарница только в вышине По их оружию играет; И только их душа сияет, Когда на бой, на смерть идет. Уж блещут молнии крылами, Уж осыпаются громами — Они молчат, — идут вперед. Не бард ли древний, исступленный, Волшебным их ведет жезлом? Нет! свыше пастырь вдохновенный{41} Пред ними идет со крестом; Венцы нетленны обещает И кровь пролить благословляет За честь, за веру, за царя; За ним вождей ряд пред полками, Как бурных дней пред облаками Идет огнистая заря. Идут. — Искусство зрит заслугу И, сколь их дух был тут велик, Вещает слух земному кругу, Но мне их раздается крик; По лествицам на град, на стогны, Как шумны волны через волны, Они возносятся челом; Как угль — их взоры раскаленны; Как львы на тигров устремленны, Бегут, стеснясь, на огнь, на гром. О! что за зрелище предстало! О пагубный, о страшный час! Злодейство что ни вымышляло, Поверглось, россы, все на вас! Зрю камни, ядра, вар и бревны,— Но чем герои устрашенны? Чем может отражен быть росс? Тот лезет по бревну на стену; А тот летит с стены в геенну,— Всяк Курций, Деций, Буароз!{42} Всяк помнит должность, честь и веру, Всяк душу и живот кладет. О россы! нет вам, нет примеру, И смерть сама вам лавр дает. Там в грудь, в сердца лежат пронзенны, Без сил, без чувств, полмертвы, бледны, Но мнят еще стерть вражий рог{43}: Иной движеньем ободряет, А тот с победой восклицает: Екатерина! — с нами бог! Какая в войсках храбрость рьяна! Какой великий дух в вождях! В одних душа рассудком льдяна, У тех пылает огнь в сердцах. В зиме рожденны под снегами, Под молниями, под громами, Которых с самых юных дней Питала слава, верность, вера,— Где можно вам сыскать примера? Не посреди ль стихийных прей{44}? Представь: по светлости лазуря, По наклонению небес Взошла черно-багрова буря И грозно возлегла на лес; Как страшна нощь, надулась чревом, Дохнула с свистом, воем, ревом, Помчала воздух, прах и лист; Под тяжкими ее крылами Упали кедры вверх корнями И затрещал Ливан кремнист. Представь последний день природы, Что пролилася звезд река; На огнь пошли стеною воды, Бугры взвились за облака; Что вихри тучи к тучам гнали, Что мрак лишь молньи освещали, Что гром потряс всемирну ось, Что солнце, мглою покровенно, Ядро казалось раскаленно: Се вид, как вшел в Измаил росс! Вошел! «Не бойся», — рек, и всюды Простер свой троегранный штык: Поверглись тел кровавы груды, Напрасно слышан жалоб крик; Напрасно, бранны человеки! Вы льете крови вашей реки, Котору должно бы беречь; Но с самого веков начала Война народы пожирала, Священ стал долг: рубить и жечь! Тот мыслит овладеть всем миром, Тот не принять его оков; Вселенной царь стал врану пиром, Герои — снедию волков. Увы! пал крин{45}, и пали терны.— Почто ж? — Судьбы небесны темны,— Я здесь пою лишь браней честь. Нас горсть, — но полк лежит пред нами; Нас полк, — но с тысячьми и тьмами{46} Мы низложили город в персть{47}. И се уже шумя стремится Кровавой пены полн Дунай, Пучина черная багрится, Спершись от трупов, с краю в край; Уже бледнеюща Мармора{48} Дрожит плывуща к ней позора, Костры{49} тел видя за костром! Луна полна на башнях крови, Поникли гордой Мекки брови; Стамбул склонился вниз челом. О! ежели издревле миру Побед славнейших звук гремит, И если приступ славен к Тиру{50},— К Измаилу больше знаменит. Там был вселенной покоритель, Машин и башен сам строитель, Горой он море запрудил, А здесь вождя одно веленье Свершило храбрых россов рвенье; Великий дух был вместо крыл. Услышь, услышь, о ты, вселенна! Победу смертных выше сил; Внимай, Европа удивленна, Каков сей россов подвиг был. Языки, знайте, вразумляйтесь, В надменных мыслях содрогайтесь; Уверьтесь сим, что с нами бог; Уверьтесь, что его рукою Один попрет вас росс войною, Коль встать из бездны зол возмог! Я вижу страшную годину{51}: Его три века держит сон, Простертую под ним долину Покрыл везде колючий терн; Лице туман подернул бледный, Ослабли мышцы удрученны, Скатилась в мрак глава его; Разбойники вокруг суровы Взложили тяжкие оковы, Змия на сердце у него. Он спит — и несекомы гады Румяный потемняют зрак, Войны опустошают грады, Раздоры пожирают злак; Чуть зрится блеск его короны, Страдает вера и законы, И ты, к отечеству любовь! Как зверь, его Батый рвет гладный, Как змей, сосет лжецарь{52} коварный,— Повсюду пролилася кровь! Лежал он во своей печали, Как темная в пустыне ночь; Враги его рукоплескали, Друзья не мыслили помочь, Соседи грабежом алкали; Князья, бояра в неге спали И ползали в пыли, как червь,— Но бог, но дух его великий Сотряс с него беды толики,— Расторгнул лев железну вервь{53}! Восстал! как утром холм высокой Встает, подъемляся челом Из мглы широкой и глубокой, Разлитой вкруг его, и, гром Поверх главы в ничто вменяя, Ногами волны попирая, Пошел — и кто возмог против? От шлема молнии скользили, И океаны уступили, Стопам его пути открыв. Он сильны орды пхнул ногою, Края азийски потряслись; Упали царствы под рукою, Цари, царицы в плен влеклись; И победителей разитель, Монархий света разрушитель{54} Простерся под его пятой; В Европе грады брал, тряс троны, Свергал царей, давал короны Могущею своей душой. Где есть народ в краях вселенны, Кто б столько сил в себе имел: Без помощи, от всех стесненный, Ярем с себя низвергнуть смел И, вырвав бы венцы Лавровы, Возверг на тех самих оковы, Кто столько свету страшен был? О росс! твоя лишь добродетель Таких великих дел содетель; Лишь твой орел луну затмил{55}. Лишь ты, простря твои победы, Умел щедроты расточать: Поляк, турк, перс, прус, хин{56} и шведы Тому примеры могут дать. На тех ты зришь спокойно стены, Тем паки отдал грады пленны; Там унял прю, тут бунт смирил; И сколь ты был их победитель, Не меньше друг, благотворитель, Свое лишь только возвратил. О кровь славян! Сын предков славных! Несокрушаемый колосс! Кому в величестве нет равных, Возросший на полсвете росс! Твои коль славны древни следы! Громчай суть нынешни победы: Зрю вкруг тебя лавровый лес; Кавказ и Тавр{57} ты преклоняешь, Вселенной на среду{58} ступаешь И досязаешь до небес. Уже в Эвксине{59} с полунощи Меж вод и звезд лежит туман, Под ним плывут дремучи рощи{60}; Средь них как гор отломок льдян Иль мужа нека тень седая{61} Сидит, очами озирая: Как полный месяц щит его, Как сосна рында{62} обожженна, Глава до облак вознесенна,— Орел над шлемом у него. За ним златая колесница По розовым летит зарям; Сидящая на ней царица{63}, Великим равная мужам, Рукою держит крест одною, Возженный пламенник другою, И сыплет блески на Босфор; Уже от северного света Лице бледнеет Магомета, И мрачный отвратил он взор. Не вновь ли то Олег{64} к Востоку Под парусами флот ведет И Ольга{65} к древнему потоку Занятый ею свет лиет? Иль россов идет дух военный, Христовой верой провожденный, Ахеян спасть, агарян стерть?{66} — Я слышу, громы ударяют, Пророки, камни возглашают:{67} То будет ныне или впредь! О! вы, что в мыслях суетитесь{68} Столь славный россу путь претить, Помочь врагу Христову тщитесь И вере вашей изменить! Чем столько поступать неправо, Сперва исследуйте вы здраво Свой путь, цель росса, суд небес; Исследуйте и заключите: Вы с кем и на кого хотите? И что ваш року перевес? Ничто — коль росс рожден судьбою От варварских хранить вас уз, Темиров{69} попирать ногою, Блюсть ваших от Омаров{70} муз, Отмстить крестовые походы{71}, Очистить иордански воды, Священный гроб освободить, Афинам возвратить Афину{72}, Град Константинов Константину{73} И мир Афету{74} водворить. Афету мир? — О труд избранный! Достойнейший его детей, Великими людьми желанный, Свершишься ль ты средь наших дней?.. Доколь Европа просвещенна С перуном будешь устремлена На кровных братиев своих? Не лучше ль внутрь раздор оставить И с россом грудь одну составить На общих супостат твоих? Дай руку! — и пожди спокойно: Сие и росс один свершит, За беспрепятствие достойно Тебя трофеем наградит. Дай руку! дай залог любови! Не лей твоей и нашей крови, Да месть всем в грудь нам не взойдет; Пусть только ум Екатерины, Как Архимед, создаст машины; А росс вселенной потрясет. Чего не может род сей славный, Любя царей своих, свершить? Умейте лишь, главы венчанны! Его бесценну кровь щадить. Умейте дать ему вы льготу, К делам великим дух, охоту И правотой сердца пленить. Вы можете его рукою Всегда, войной и не войною, Весь мир себя заставить чтить. Война, как северно сиянье, Лишь удивляет чернь одну: Как светлой радуги блистанье, Всяк мудрый любит тишину. Что благовонней аромата? Что слаще меда, краше злата И драгоценнее порфир? Не ты ль, которого всем взгляды Лиют обилие, прохлады, Прекрасный и полезный мир? Приди, о кроткий житель неба, Эдемской гражданин страны! Приди! — и, как сопутник Феба, Дух теплотворный, бог весны, Дохни везде твоей душою! Дохни, — да расцветет тобою Рай сладости в домах, в сердцах! Под сению Екатерины Венчанны лавром исполины Возлягут на своих громах. Премудрость. царствы управляет; Крепит их — вера, правый суд; Их труд и мир обогащает, Любовию они цветут. О пол прекрасный и почтенный, Кем россы рождены, кем пленны! И вам днесь предлежат венцы. Плоды побед суть звуки славы, Побед основа — тверды нравы, А добрых нравов вы творцы! Когда на брани вы предметов Лишилися любви своей, И если без войны, наветов Полна жизнь наша слез, скорбей,— Утешьтесь! — Ветры в ветры дуют, Стихии меж собой воюют; Сей свет — училище терпеть. И брань, коль восстает судьбою, Сын россиянки среди бою Со славой должен умереть. А слава тех не умирает, Кто за отечество умрет; Она так в вечности сияет, Как в море ночью лунный свет. Времен в глубоком отдаленьи Потомство тех увидит тени, Которых мужествен был дух. С гробов их в души огнь польется, Когда по рощам разнесется Бессмертной лирой дел их звук.Конец 1790 или начало 1791
Арфа{75}
Не в летний ль знойный день прохладный ветерок В легчайшем сне на грудь мою приятно дует? Не в злаке ли журчит хрустальный ручеек? Иль милая в тени древес меня целует? Нет! арфу слышу я: ее волшебный звук, На розах дремлющий, согласьем тихоструйным, Как эхо, мне вдали щекочет нежно слух; Иль шумом будит вдруг вблизи меня перунным. Так ты, подруга муз! лиешь мне твой восторг Под быстрою рукой играющей хариты, Когда ее чело венчает вкуса бог И улыбаются любовию ланиты. Как весело внимать, когда с тобой она Поет про родину, отечество драгое, И возвещает мне, как там цветет весна, Как время катится в Казани золотое! О колыбель моих первоначальных дней! Невинности моей и юности обитель! Когда я освещусь опять твоей зарей И твой по-прежнему всегдашний буду житель? Когда наследственны стада я буду зреть, Вас, дубы камские, от времени почтенны! По Волге между сел на парусах лететь И гробы обнимать родителей священны? Звучи, о арфа! ты всё о Казани мне! Звучи, как Павел в ней явился благодатен! Мила нам добра весть о нашей стороне: Отечества и дым нам сладок и приятен.1798
Русские девушки
Зрел ли ты, певец Тииский{76}! Как в лугу весной бычка{77} Пляшут девушки российски Под свирелью пастушка? Как, склонясь главами, ходят, Башмаками в лад стучат, Тихо руки, взор поводят И плечами говорят? Как их лентами златыми Челы белые блестят, Под жемчугами драгими Груди нежные дышат? Как сквозь жилки голубые Льется розовая кровь, На ланитах огневые Ямки врезала любовь? Как их брови соболины, Полный искр соколий взгляд, Их усмешка — души львины И орлов сердца разят? Коль бы видел дев сих красных, Ты б гречанок позабыл И на крыльях сладострастных Твой Эрот{78} прикован был.Весна 1799
Осень
На скирдах молодых сидячи, Осень, И в полях зря вокруг год плодоносен, С улыбкой свои всем дары дает, Пестротой по лесам живо цветет, Взор мой дивит! Разных птиц голоса, вьющихся тучи, Шум снопов, бег телег, оси скрыпучи, Стук цепов по токам, в рощах лай псов, Жниц с знамем идущих гул голосов Слух мой пленит. Как мил сей природы радостный образ! Как тварей довольных сладостен возглас! Где Осень обилье рукою ведет, Царям и червям всем пищу дает Общий отец…1804
Крестьянский праздник
Горшки не боги обжигают, Не все пьют пиво богачи: Пусть, муза! нас хоть осуждают, Но ты днесь в кобас{79} пробренчи И, всшед на холм высокий, званский{80}, Прогаркни праздник сей крестьянский, Который господа дают,— Где все молодки с молодцами, Под балалайками, гудками С парнями, с девками поют. Поют под пляской в песнях сельских, Что можно и крестьянам быть По упражненьях деревенских Счастливым, радостным — и пить. Раздайтесь же, круги, пошире, И на преславном этом пире Гуляй, удала голова! Ничто теперь уже не диво: Коль есть в глазах вино и пиво, Все, братцы, в свете трын-трава. Гуляйте, бороды с усами, Купайтесь по уши в чанах, И вы, повойники с чепцами, Не оставайтесь на дрожжах; Но кто что хочет, то тяните, Проказьте, вздорьте, курамшите{81}; Тут нет вины, где пир горой; Но, в домы вшед, питьем не лейтесь; С женой муж яйцами бейтесь Или скачите чехардой. Но только, встав поутру рано, Перекрестите шумный лоб, Умыв водой лицо багряно, С похмелья чару водки троп{82} — Уж не влекитесь больше к пьянству, Здоровью вредну, христианству И разорительну всем вам; А в руки взяв серп, соху, косу, Преоудьте, не поднявши носу, Любезны богу, господам. Не зря на ветреных французов{83}, Что мнили ровны быть царям, И, не подняв их вздорных грузов, Спустилися в навоз к скотам, И днесь, как звери, с ревом, с воем Пьют кровь немецкую разбоем{84}, Мечтав, и Русь что мишура; Но вы не трусы ведь, ребята, Штыками ваша грудь рогата; В милицьи{85} гаркните: ура! Ура, российские крестьяне, В труде и в бое молодцы! Когда вы в сердце христиане, Не вероломцы, не страмцы, То всех пред вами див явленье, Бесов французских наважденье Пред ветром убежит, как прах. Вы все на свете в грязь попрете, Вселенну кулаком тряхнете, Жить славой будете в веках.Лето 1807
Василий Васильевич Капнист{86}
1758–1823
Ода на рабство{87}
Приемлю лиру, мной забвенну, Отру лежащу пыль на ней; Простерши руку, отягченну Железных бременем цепей, Для песней жалобных настрою, И, соглася с моей тоскою, Унылый, томный звук пролью От струн, рекой омытых слезной; Отчизны моея любезной Порабощенье воспою. А Ты, который обладаешь Един подсолнечною всей, На милость души преклоняешь Возлюбленных Тобой царей, Хранишь от злого их навета! Соделай, да владыки света Внушат мою нелестну речь,— Да гласу правды кротко внемлют И на злодеев лишь подъемлют Тобою им врученный меч. В печальны мысли погруженный, Пойду, от людства удалюсь На холм, древами осененный, В густую рощу уклонюсь, Под мрачным, мшистым дубом сяду. Там моему прискорбну взгляду Прискорбный все являет вид: Ручей там с ревом гору роет, Уныло ветр меж сосен воет, Летя с древ, томно лист шумит. Куда ни обращу зеницу, Омытую потоком слез, Везде, как скорбную вдовицу, Я зрю мою отчизну днесь: Исчезли сельские утехи, Игрива резвость, пляски, смехи; Веселых песней глас утих; Златые нивы сиротеют; Поля, леса, луга пустеют; Как туча, скорбь легла на них. Везде, где кущи, села, грады Хранил от бед свободы щит, Там тверды зиждет власть ограды И вольность узами теснит. Где благо, счастие народно Со всех сторон текли свободно, Там рабство их отгонит прочь. Увы, судьбе угодно было, Одно чтоб слово превратило Наш ясный день во мрачну ночь. Так древле мира вседержитель Из мрака словом свет создал. А вы, цари! на то ль зиждитель Своей подобну власть вам дал, Чтобы во областях подвластных Из счастливых людей несчастных И зло из общих благ творить? На то ль даны вам скиптр, порфира, Чтоб были вы бичами мира И ваших чад могли губить? Воззрите вы на те народы, Где рабство тяготит людей, Где нет любезныя свободы И раздается звук цепей: Там к бедству смертные рожденны, К уничиженью осужденны, Несчастий полну чашу пьют; Под игом тяжкия державы Потоками льют пот кровавый И зляе смерти жизнь влекут; Насилия властей страшатся; Потупя взор, должны стенать; Подняв главу, воззреть боятся На жезл, готовый их карать. В веригах рабства унывают, Низвергнуть ига не дерзают, Обременяющего их, От страха казни цепенеют И мыслию насилу смеют Роптать против оков своих. Я вижу их, они исходят Поспешно из жилищ своих. Но для чего с собой выводят Несущих розы дев младых? Почто, в знак радости народной, В забаве искренной, свободной Сей празднуют прискорбный час? Чей образ лаврами венчают И за кого днесь воссылают К творцу своих молений глас? Ты зришь, царица! се ликует Стенящий в узах твой народ. Се он с восторгом торжествует Твой громкий на престол восход. Ярем свой тяжкий кротко сносит И благ тебе от неба просит, Из мысли бедство истребя, А ты его обременяешь: Ты цепь на руки налагаешь, Благословящие тебя! Так мать, забыв природу в гневе, Дитя, ласкающеесь к ней, Которое носила в чреве, С досадой гонит прочь с очей, Улыбке и слезам не внемлет, В свирепстве от сосцев отъемлет Невинный, бедственный свой плод, В страданьи с ним не сострадает И прежде сиротства ввергает Его в злосчастие сирот. Но ты, которыя щедроты Подвластные боготворят, Коль суд твой, коль твои доброты И злопреступника щадят,— Возможно ль, чтоб сама ты ныне Повергла в жертву злой судьбине Тебя любящих чад твоих? И мыслей чужда ты суровых,— Так что же? — благ не скрыла ль новых Под мнимым гнетом бедствий сих? Когда пары и мглу сгущая, Светило дня свой кроет вид, Гром, мрачны тучи разрывая, Небесный свод зажечь грозит, От громкого перунов треска И молнии горящей блеска Мятется трепетна земля,— Но солнце страх сей отгоняет И град сгущенный растопляет, Дождем проливши на поля. Так ты, возлюбленна судьбою, Царица преданных сердец, Взложенный вышнего рукою Носяща с славою венец! Сгущенну тучу бед над нами Любви к нам твоея лучами, Как бурным вихрем, разобьешь, И, к благу бедствие устроя, Унылых чад твоих покоя, На жизнь их радости прольешь. Дашь зреть нам то златое время, Когда спасительной рукой Вериг постыдно сложишь бремя С отчизны моея драгой. Тогда — о лестно упованье! — Прервется в тех краях стенанье, Где в первый раз узрел я свет. Там, вместо воплей и стенаний, Раздастся шум рукоплесканий И с счастьем вольность процветет. Тогда, прогнавши мрак печали Из мысли горестной моей И зря, что небеса скончали Тобой несчастье наших дней, От уз свободными руками Зеленым лавром и цветами Украшу лиру я мою; Тогда, вослед правдивой славы, С блаженством твоея державы Твое я имя воспою.1783
Николай Михайлович Карамзин
1766–1826
Волга
Река священнейшая в мире, Кристальных вод царица, мать! Дерзну ли я на слабой лире Тебя, о Волга! величать, Богиней песни вдохновенный, Твоею славой удивленный? Дерзну ль игрою струн моих, Под шумом гордых волн твоих— Их тонкой пеной орошаясь, Прохладой в сердце освежаясь— Хвалить красу твоих брегов, Где грады, веси процветают, Поля волнистые сияют Под тению густых лесов, В которых древле раздавался Единый страшный рев зверей И эхом ввек не повторялся Любезный слуху глас людей,— Брегов, где прежде обитали Орды Златыя племена; Где стрелы в воздухе свистали И где неверных знамена Нередко кровью обагрялись Святых, но слабых христиан; Где враны трупами питались Несчастных древних россиян; Но где теперь одной державы Народы в тишине живут И все одну богиню чтут, Богиню счастия и славы[1], Где в первый раз открыл я взор, Небесным светом озарился И чувством жизни насладился; Где птичек нежных громкий хор Воспел рождение младенца; Где я Природу полюбил, Ей первенцы души и сердца— Слезу, улыбку — посвятил И рос в веселии невинном, Как юный мирт в лесу пустынном? Дерзну ли петь, о мать река! Как ты, красуяся в теченье По злату чистого песка, Несешь земли благословенье[2] На сребряном хребте своем, Везде щедроты разливаешь, Везде страны обогащаешь В блистательном пути твоем; Как быстро плаватель бесстрашный Летит на парусных крылах Среди пучин стихии влажной, В твоих лазоревых зыбях, Хваля свой жребий, милость неба, Хваля благоприятный ветр, И как, прельщенный светом Феба, Со дна подъемлется осетр, Играет наверху с волнами, С твоими пенными буграми, И плесом рассекает их? Когда ж под тучами со гневом, С ужасным шумом, грозным ревом Начнешь кипеть в брегах своих, Как вихри воздух раздирают, Как громы с треском ударяют И молнии шипят в волнах, Когда пловцы, спастись не чая И к небу руки простирая, Хлад смерти чувствуют в сердцах,— Какая кисть дерзнет представить Великость зрелища сего? Какая песнь возможет славить Ужасность гнева твоего?.. Едва и сам я в летах нежных, Во цвете радостной весны, Не кончил дней в водах мятежных Твоей, о Волга! глубины. Уже без ветрил, без кормила По безднам буря нас носила; Гребец от страха цепенел; Уже зияла хлябь под нами Своими пенными устами; Надежды луч в душах бледнел; Уже я с жизнию прощался, С ее прекрасною зарей; В тоске слезами обливался И ждал погибели своей… Но вдруг творец изрек спасенье— Утихло бурное волненье, И брег с улыбкой нам предстал. Какой восторг! какая радость! Я землю страстно лобызал И чувствовал всю жизни сладость. Сколь ты в величии своем, О Волга! яростна, ужасна, Столь в благости мила, прекрасна: Ты образ божий в мире сем! Теки, Россию украшая; Шуми, священная река; Свою великость прославляя, Доколе времени рука Не истощит твоей пучины… Увы! сей горестной судьбины И ты не можешь избежать: И ты должна свой век скончать! Но прежде многие народы Истлеют, превратятся в прах, И блеск цветущия Природы Померкнет на твоих брегах[3].1793
Молитва о дожде
Мать любезная, природа! От лазоревого свода Дождь шумящий ниспошли Оросить лицо земли! Всё томится, унывает; Зелень в поле увядает; Сохнет травка и цветок — Нежный ландыш, василек Пылью серою покрыты— Не питает их роса… Дети матерью забыты! Солнце жжет, палит леса. Птички в рощах замолчали; Ищут только холодка. Ручейки журчать престали; Истощилася река. Агнец пищи не находит: Черен холм и черен дол. Конь в степи печально бродит; Тощ и слаб ревущий вол. Ах! Такой ли ждал награды Земледелец за труды? Гибнут все его плоды!.. В горькой части без отрады Он терзается тоской За себя, за чад страдает И блестящею слезой Хлеб иссохший орошает. Дети плачут вместе с ним; Игры все немилы им! Мать любезная, Природа! От лазоревого свода Дождь шумящий ниспошли Оросить лицо земли! Ах! доселе ты внимала Крику слабого птенца И в печалях утешала Наши томные сердца. Неужель теперь забудешь В нужде, в скорби чад своих? Неужель теперь не будешь Нежной матерью для них?— Нет, тобою оживятся Наши мертвые поля; Вновь украсится земля, Песни в рощи возвратятся, Благодарный фимиам Воскурится к небесам!1793
К отечеству{88}
Цвети, отечество святое, Сынам любезное, драгое! Мы все боготворим тебя И в жертву принести себя Для пользы твоея готовы. Ах! смерть ничто, когда оковы И стыд грозят твоим сынам! Так древле Кодры{89} умирали, Так Леониды{90} погибали В пример героям и друзьям. Союз родства и узы крови Не так священны для сердец, Как свят закон твоей любови. Оставит милых чад отец, И сын родителя забудет, Спеша отечеству служить; Умрет он, но потомство будет Героя полубогом чтить.1793
«Весело в поле работать…»
Весело в поле работать: Будьте прилежны, друзья! Класы златые ссекайте Махом блестящей косы! Солнце сияет над нами; Птицы в кусточках поют. Весело в поле работать: Будьте прилежны, друзья! Чувствуйте милость Цереры, Доброй богини плодов! Жителям неба любезен Глас благодарных сердец. Скоро настанет и вечер; Вечер для отдыха дан. Пользуйтесь часом работы, Пользуйтесь временем дня! Весело в поле работать: Будьте прилежны, друзья! Класы златые ссекайте Махом блестящей косы! Звери работы не знают, Птицы живут без труда; Люди не звери, не птицы— Люди работой живут.1793
Алексей Федорович Мерзляков{91}
1778–1830
«Среди долины ровныя…»{92}
Среди долины ровныя На гладкой высоте, Цветет, растет высокий дуб В могучей красоте. Высокий дуб, развесистый, Один у всех в глазах; Один, один, бедняжечка, Как рекрут на часах! Взойдет ли красно солнышко — Кого под тень принять? Ударит ли погодушка — Кто будет защищать? Ни сосенки кудрявыя, Ни ивки близ него, Ни кустики зеленые Не вьются вкруг него. Ах, скучно одинокому И дереву расти! Ах, горько, горько молодцу Без милой жизнь вести! Есть много сребра, золота — Кого им подарить? Есть много славы, почестей — Но с кем их разделить? Встречаюсь ли с знакомыми — Поклон, да был таков; Встречаюсь ли с пригожими — Поклон — да пара слов. Одних я сам пугаюся, Другой бежит меня. Все други, все приятели До черного лишь дня! Где ж сердцем отдохнуть могу, Когда гроза взойдет? Друг нежный спит в сырой земле, На помощь не придет! Ни роду нет, ни племени В чужой мне стороне; Не ластится любезная Подруженька ко мне! Не плачется от радости Старик, глядя на нас; Не вьются вкруг малюточки, Тихохонько резвясь! Возьмите же все золото, Все почести назад; Мне родину, мне милую, Мне милой дайте взгляд!1810
Росс
Се, мощный росс, одеян славой, В броню стальную и шелом, Опершись на Кавказ стоглавый, Стоит, в руках имея гром. Дремучий лес и холм кремнистый Под тяжкою пятой трещал, И океан свирепый, льдистый Другую ногу лобызал. Стоит — и светлый взор вперяет России в недра дорогой, Где мир и счастье процветает, Его ограждены рукой. Он внемлет радостные клики Усердных отчества детей; Он видит восхищенны лики, Поющи радость мирных дней. Геройска, тверда грудь мягчится, Слеза из глаз его катится, В восторге он перун{93} трясет: «Кто мир нарушить их дерзнет? Я грудь кремнистую поставлю, Подвигнусь — и весь свет заставлю Пред взором трепетать моим!» Изрек — эгид{94} свой преклоняет, Им всю Россию осеняет, Как будто облаком златым.1797
Иван Андреевич Крылов
1769–1844
Волк и ягненок
У сильного всегда бессильный виноват: Тому в Истории мы тьму примеров слышим, Но мы Истории не пишем; А вот о том, как в Баснях говорят._______
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться; И надобно ж беде случиться, Что около тех мест голодный рыскал Волк. Ягненка видит он, на добычу стремится; Но, делу дать хотя законный вид и толк, Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом Здесь чистое мутить питье Мое С песком и с илом? За дерзость такову Я голову с тебя сорву».— «Когда светлейший Волк позволит, Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью От Светлости его шагов я на сто пью; И гневаться напрасно он изволит: Питья мутить ему никак я не могу».— «Поэтому я лгу! Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете! Да помнится, что ты еще в запрошлом лете Мне здесь же как-то нагрубил: Я этого, приятель, не забыл!»— «Помилуй, мне еще и от роду нет году»,— Ягненок говорит. «Так это был твой брат».— «Нет братьев у меня». — «Так это кум иль сват И, словом, кто-нибудь из вашего же роду. Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, Вы все мне зла хотите И, если можете, то мне всегда вредите, Но я с тобой за их разведаюсь грехи». «Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать, Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Сказал и в темный лес Ягненка поволок.1808
Крестьяне и река
Крестьяне, вышед из терпенья От разоренья, Что речки им и ручейки При водополье причиняли, Пошли просить себе управы у Реки, В которую ручьи и речки те впадали. И было что на них донесть! Где озими разрыты; Где мельницы посорваны и смыты; Потоплено скота, что и не счесть! А та Река течет так смирно, хоть и пышно; На ней стоят большие города, И никогда За ней таких проказ не слышно: Так, верно, их она уймет, Между собой Крестьяне рассуждали. Но что ж? как подходить к Реке поближе стали И посмотрели, так узнали, Что половину их добра по ней несет. Тут, попусту не заводя хлопот, Крестьяне лишь его глазами проводили; Потом взглянулись меж: собой И, покачавши головой, Пошли домой. А, отходя, проговорили: «На что и время тратить нам! На младших не найдешь себе управы там, Где делятся они со старшим пополам».<1813–1814>
Крестьянин и работник
Когда у нас беда над головой, То рады мы тому молиться, Кто вздумает за нас вступиться; Но только с плеч беда долой, То избавителю от нас же часто худо: Все взапуски его ценят, И если он у нас не виноват, Так это чудо!_______
Старик Крестьянин с Батраком Шел под вечер леском Домой, в деревню, с сенокосу, И повстречали вдруг Медведя носом к носу. Крестьянин ахнуть не успел, Как на него Медведь насел. Подмял Крестьянина, ворочает, ломает, И, где б его почать, лишь место выбирает: Конец приходит старику. «Степанушка, родной, не выдай, милой!»— Из-под Медведя он взмолился Батраку. Вот новый Геркулес, со всей собравшись силой, Что только было в нем, Отнес полчерепа Медведю топором И брюхо проколол ему железной вилой. Медведь взревел и замертво упал: Медведь мой издыхает. Прошла беда; Крестьянин встал, И он же Батрака ругает. Опешил бедный мой Степан. «Помилуй, — говорит, — за что?» — «За что, болван! Чему обрадовался сдуру? Знай колет: всю испортил шкуру!»<1815>
Два мужика
«Здорово, кум Фаддей!» — «Здорово, кум Егор!» «Ну, каково, приятель, поживаешь?» «Ох, кум, беды моей, что вижу, ты не знаешь! Бог посетил меня: я сжег дотла свой двор И по миру пошел с тех пор». «Как так? Плохая, кум, игрушка!» «Да так! О рождестве была у нас пирушка; Я со свечой пошел дать корму лошадям; Признаться, в голове шумело; Я как-то заронил, насилу спасся сам; А двор и все добро сгорело. Ну, ты как?» — «Ох, Фаддей, худое дело! И на меня прогневался, знать, бог: Ты видишь, я без ног: Как сам остался жив, считаю, право, дивом. Я тож о рождестве пошел в ледник за пивом, И тоже чересчур, признаться, я хлебнул С друзьями полугару; А чтоб в хмелю не сделать мне пожару, Так я свечу совсем задул: Ан бес меня впотьмах так с лестницы толкнул, Что сделал из меня совсем не человека, И вот я с той поры калека». «Пеняйте на себя, друзья! — Сказал им сват Степан. — Коль молвить правду, я Совсем не чту за чудо, Что ты сожег свой двор, а ты на костылях: Для пьяного и со свечою худо; Да вряд, не хуже ль и впотьмах».<1821–1823>
Крестьянин и лошадь
Крестьянин засевал овес; То видя, Лошадь молодая Так про себя ворчала, рассуждая: «За делом столько он овса сюда принес! Вот, говорят, что люди нас умнее. Что может быть безумней и смешнее, Как поле целое изрыть, Чтоб после рассорить На нем овес свой попустому? Стравил бы он его иль мне, или гнедому; Хоть курам бы его он вздумал разбросать, Все было б более похоже то на стать; Хоть спрятал бы его: я видела б в том скупость; А попусту бросать! Нет, это просто глупость». Вот к осени меж тем овес тот убран был, И наш Крестьянин им того ж Коня кормил._______
Читатель! Верно, нет сомненья, Что не одобришь ты конева рассужденья; Но с самой древности, в наш даже век, Не так ли дерзко человек О воле судит Провиденья, В безумной слепоте своей, Не ведая его ни цели, ни путей?<1830>
Щука
На Щуку подан в суд донос, Что от нее житья в пруде не стало; Улик представлен целый воз, И виноватую, как надлежало, На суд в большой лохани принесли. Судьи невдалеке сбирались; На ближнем их лугу пасли; Однако ж имена в архиве их остались: То были два Осла, Две Клячи старые да два иль три Козла; Для должного ж в порядке дел надзора Им придана была Лиса за Прокурора. И слух между народа шел, Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол; Со всем тем, не было в судьях лицеприязни, И то сказать, что Щукиных проказ Удобства не было закрыть на этот раз. Так делать нечего: пришло писать указ, Чтоб виноватую предать позорной казни И, в страх другим, повесить на суку. «Почтенные судьи! — Лиса тут приступила,— Повесить мало, я б ей казнь определила, Какой не видано у нас здесь на веку: Чтоб было впредь плутам и страшно и опасно — Так утопить ее в реке». — «Прекрасно!» — Кричат судьи. На том решили все согласно, И Щуку бросили — в реку!<1829–1830>
Иван Иванович Козлов{95}
1779–1840
Вечерний звон{96}
(Т. С. Вдмрв-ой)
Вечерний звон, вечерний звон! Как много дум наводит он О юных днях в краю родном, Где я любил, где отчий дом, И как я, с ним навек простясь, Там слушал звон в последний раз! Уже не зреть мне светлых дней Весны обманчивой моей! И сколько нет теперь в живых Тогда веселых, молодых! И крепок их могильный сон,— Не слышен им вечерний звон. Лежать и мне в земле сырой! Напев унылый надо мной В долине ветер разнесет; Другой певец по ней пройдет, И уж не я, а будет он В раздумье петь вечерний звон!1827
Сон ратника{97}
Подкопы взорваны — и башни вековые С их дерзкою луной{98} погибель облегла; Пресекла в ужасе удары боевые Осенней ночи мгла. И в поле тишина меж русскими полками; У ружий сомкнутых дымилися костры, Во тьме бросая блеск багровыми струями На белые шатры. В раздумьи я смотрел на пламень красноватый; Мне раненых вдали был слышен тяжкий стон; Но, битвой утомясь, под буркою косматой Уснул, — и вижу сон. Мне снилось, что, простясь с военною тревогой, От тех кровавых мест, где буйство протекло, Поспешно я иду знакомою дорогой В родимое село. Мне церковь сельская видна с горы высокой, И Клязьмы светлый ток в тени ракит густых, И слышу песнь жнецов, и в стаде лай далекий Собак сторожевых. Я к хижине сходил холмов с крутого ската, Разлуки тайный страх надеждой веселя,— И дряхлый мой отец, тотчас узнав солдата, Вскочил без костыля. В слезах моя жена мне кинулась на шею, Мила, как в день венца, и сердцу, и очам; Малютки резвые бегут ко мне за нею: Сосед пришел к друзьям. «Клянусь, — я говорил, склонен на то родными,— Теперь я к вам пришел на долгое житье!» И дети обвили цветками полевыми И штык мой, и ружье. Я милых обнимал… но пушка вестовая Сон тихий прервала, и в сечу мне лететь! И к Варне понеслась дружина удалая… Иль там мне умереть?1828
Жнецы
Однажды вечерел прекрасный летний день, Дышала негою зеленых рощей тень. Я там бродил один, где синими волнами От Кунцевских холмов, струятся под Филями, Шумит Москва-река; и дух пленялся мой Занятья сельского священной простотой, Богатой жатвою в душистом тихом поле И песнями жнецов, счастливых в бедной доле. Их острые серпы меж нив везде блестят, Колосья желтые под ними вкруг лежат, И, собраны жнецов женами молодыми, Они уж связаны снопами золотыми; И труд полезный всем, далекий от тревог, Улыбкою отца благословляет бог. Уж солнце гаснуло, багровый блеск бросая; На жниве кончилась работа полевая, Радушные жнецы идут уже домой. Один, во цвете лет, стоял передо мной. Его жена мой взор красою удивляла; С младенцем радостным счастливая играла И в кудри темные вплетала васильки, Колосья желтые и алые цветки. А жнец на них смотрел, и вид его веселый Являл, что жар любви живит удел тяжелый; В отрадный свой приют уже сбирался он… С кладбища сельского летит вечерний звон,— И к тихим небесам взор пылкий устремился: Отец и муж, душой за милых он молился, Колена преклонив. Дум набожных полна, Младенца ясного взяла его жена, Ручонки на груди крестом ему сложила, И, мнилось, благодать их свыше осенила. Но дремлет всё кругом; серебряный туман Таинственной луной рассыпан по снопам, Горит небесный свод нетленными звездами,— Час тайный на полях, час тайный над волнами. И я под ивою сидел обворожен, И думал: в жатве той я видел райский сон, И много с той поры, лет много миновало, Затмилась жизнь моя, — но чувство не увяло. Томленьем сокрушен, в суровой тме ночей, То поле, те жнецы — всегда в душе моей; И я, лишенный ног, и я, покинут зреньем,— Я сердцем к ним стремлюсь, лечу воображеньем, Моленье слышу их, — и сельская чета Раздумья моего любимая мечта.1836
Василий Андреевич Жуковский
1783–1852
«Кто слез на хлеб свой не ронял…»{99}
Кто слез на хлеб свой не ронял, Кто близ одра, как близ могилы, В ночи, бессонный, не рыдал,— Тот вас не знает, вышни силы! На жизнь мы брошены от вас! И вы ж, дав знаться нам с виною, Страданью выдаете нас, Вину преследуете мздою.1816
«Там небеса и воды ясны…»{100}
Там небеса и воды ясны! Там песни птичек сладкогласны! О родина! все дни твои прекрасны! Где б ни был я, но все с тобой Душой. Ты помнишь ли, как под горою, Осеребряемый росою, Белелся луч вечернею порою И тишина слетала в лес С небес? Ты помнишь ли наш пруд спокойный, И тень от ив в час полдня знойный, И над водой от стада гул нестройный, И в лоне вод, как сквозь стекло, Село? Там на заре пичужка пела; Даль озарялась и светлела; Туда, туда душа моя летела: Казалось сердцу и очам — Все там!..Сентябрь — ноябрь 1816
Летний вечер
Знать, солнышко утомлено: За горы прячется оно; Луч погашает за лучом И, алым тонким облачком Задёрнув лик усталый свой, Уйти готово на покой. Пора ему и отдохнуть; Мы знаем, летний долог путь. Везде ж работа: на горах, В долинах, в рощах и лугах; Того согрей; тем свету дай, И всех притом благословляй. Буди заснувшие цветы И им расписывай листы; Потом медвяною росой Пчелу-работницу напой И чистых капель меж листов Оставь про резвых мотыльков. Зерну скорлупку расколи И молодую из земли Былинку выведи на свет; Пичужкам приготовь обед; Тех приюти между ветвей, А тех на гнёздышке согрей. И вишням дай румяный цвет, Не позабудь горячий свет Рассыпать на зелёный сад, И золотистый виноград От зноя листьями прикрыть, И колос зрелостью налить. А если жар для стад жесток, Смани их к роще в холодок; И тучку тёмную скопи, И травку влагой окропи, И яркой радугой с небес Сойди на тёмный луг и лес. А где под острою косой Трава ложится полосой, Туда безоблачно сияй И сено в копны собирай, Чтоб к ночи луг от них пестрел И с ними ряд возов скрипел. Итак, совсем не мудрено, Что разгорелося оно, Что отдыхает на горах В полупотухнувших лучах И нам, сходя за небосклон, В прохладе шепчет: «Добрый сон». И вот сошло, и свет потух; Один на башне лишь петух За ним глядит, сияя, вслед… Гляди, гляди! В том пользы нет! Сейчас оно перед тобой Задёрнет алый завес свой. Есть и про солнышко беда: Нет ладу с сыном никогда. Оно лишь только в глубину, А он как раз на вышину; Того и жди, что заблестит; Давно за горкой он сидит. Но что ж так медлит он вставать? Всё хочет солнце переждать. Вставай, вставай, уже давно Заснуло в сумерках оно. И вот он всходит; в дол глядит И бледно зелень серебрит. И ночь уж на небо взошла И тихо на небе залегла Гостеприимные огни; И всё замолкнуло в тени; И по долинам, по горам Всё спит… Пора ко сну и нам.1818
К русскому великану{101}
Не тревожься, великан! Мирно стой, утес наш твердой, Отшибая грудью гордой Вкруг ревущий океан. Вихрей бунт встревожил воды; Воем дикой непогоды От поверхности до дна Вся пучина их полна; На тебя их буря злится; На тебя их вой и рев; Повалить тебя грозится Обезумевший их гнев. Но с главы твоей подзвездной Твой орел{102}, пространства князь, Над бунтующей смеясь У твоей подошвы бездной, Сжавши молнии в когтях, В высоте своей воздушной Наблюдает равнодушно, Как раздор кипит в волнах, Как оне горами пены Многоглавые встают И толпою всей бегут На твои ударить стены. Ты же, бездны господин, Мощный первенец творенья, Стой среди всевозмущенья Недоступен, тих, один; Волн ругательные визги Ветр, озливший их, умчит; Их гранит твой разразит, На тебя нападших, в брызги.1851
Федор Никифорович Слепушкин
1785–1848
Уборка льна
Всех раньше бабушка родимая вставала, На утренней заре, при пенье петухов; Бродила по избе, — семье своей ворчала, Ворчанье есть душа везде у стариков; И с посохом к окну середнему подходит, На нивы и поля разборчиво глядит, Где полное душе веселие находит, Увидя, как сосед с семьей в трудах кипит, Стучит, кричит детям: «Ленивцы, как не стыдно Лежать до сей поры, а в поле не бывать! Соседи там давно, а вас еще не видно: Добра вам, детушки, от лени не видать; Счастливая пора не надолго продлится, Ведь осень подойдет, начнет дождь ливнем лить: Прогонит со двора; с работой тут простишься! Уж поздно будет вам потерю воротить». Поднялась вдруг семья; сбираяся молчали. Краюху взяв с собой, иконе помолясь, Бежали на поля, — работу начинали,— Лен с корнем теребить проворно устремясь. Рядами вкруг себя все место покрывают, Где должен он лежать еще довольно дней; Завидели, готов — немедля подымают И к дому на овин свезут его с полей. Там семя обобьют, связавши лен руками, Для стилки на луга обратно отвезут. И солнышко печет, и дождик мочит тут, И провевает ветр лен, устланный рядами. Лен мякнет, белится, а после — на дворы — Там чешут, треплют, мнут и с плеч долой заботы, Уборка льна у них тяжеле всей поры И беспокойнее всей полевой работы.Денис Васильевич Давыдов
1784–1839
При виде Москвы, возвращаясь с персидской войны{103}
О юности моей гостеприимный кров! О колыбель надежд и грез честолюбивых! О, кто, кто из твоих сынов Зрел без восторгов горделивых Красу реки твоей, волшебных берегов, Твоих палат, твоих садов, Твоих холмов красноречивых!1827
Бородинское поле
Элегия
Умолкшие холмы, дол некогда кровавый, Отдайте мне ваш день, день вековечной славы, И шум оружия, и сечи, и борьбу! Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу Попрали сильные. Счастливцы горделивы Невольным пахарем влекут меня на нивы… О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях, Ты, голосом своим рождающий в полках Погибели врагов предчувственные клики, Вождь Гомерический, Багратион великий! Простри мне длань свою, Раевский, мой Герой! Ермолов! я лечу — веди меня, я твой: О, обреченный быть побед любимым сыном, Покрой меня, покрой твоих перунов дымом! Но где вы? Слушаю… Нет отзыва! С полей Умчался брани дым, не слышен стук мечей, И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга, Завидую костям соратника иль друга.1829
Современная песня{104}
Был век бурный, дивный век, Громкий, величавый; Был огромный человек, Расточитель славы. То был век богатырей! Но смешались шашки, И полезли из щелей Мошки да букашки. Всякий маменькин сынок, Всякий обирала, Модных бредней дурачок, Корчит либерала. Деспотизма сопостат, Равенства оратор,— Вздулся, слеп и бородат, Гордый регистратор. Томы Тьера и Рабо Он на память знает И, как ярый Мирабо, Вольность прославляет. А глядиш: наш Мирабо Старого Гаврило За измятое жабо Хлещет в ус да в рыло. А глядишь: наш Лафает, Брут или Фабриций; Мужиков под пресс кладет Вместе с свекловицей. Фраз журнальных лексикон, Прапорщик в отставке, Для него Наполеон — Вроде бородавки. Для него славнее бой Карбонаров бледных, Чем когда наш шар земной От громов победных Колыхался и дрожал, И народ, в смятенье, Ниц упавши, ожидал Мира разрушенье. Что ж? — Быть может, наш герой Утомил свой гений И заботой боевой, И огнем сражений?.. Нет, он в битвах не бывал — Шаркал по гостиным И по плацу выступал Шагом журавлиным. Что ж? — Быть может, он богат Счастьем семьянина, Заменя блистанье лат Тогой гражданина?.. Нет, нахально подбочась, Он по дачам рыщет И в театрах, развалясь, Все шипит да свищет. Что ж? — Быть может, старины Он бежал приманок? Звезды, ленты и чины Презрел спозаранок? Нет, мудрец не разрывал С честолюбьем дружбы И теперь бы крестик взял… Только чтоб без службы. Вот гостиная в лучах: Свечи да кенкеты, На столе и на софах Кипами газеты; И превыспренний конгресс Двух графинь оглохших И двух жалких баронесс, Чопорных и тощих; Все исчадие греха, Страстное новинкой; Заговорщица-блоха С мухой-якобинкой; И козявка-егоза — Девка пожилая, И рябая стрекоза — Сплетня записная; И в очках сухой паук — Длинный лазарони, И в очках плюгавый жук — Разноситель вони; И комар, студент хромой, В кучерской прическе, И сверчок, крикун ночной, Друг Крылова Моськи; И мурашка-филантроп. И червяк голодный, И Филипп Филиппыч-клоп{105}. Муж… женоподобный,— Все вокруг стола — и скок В кипеть совещанья Утопист, идеолог, Президент собранья. Старых барынь духовник, Маленький аббатик{106}, Что в гостиных бить привык В маленький набатик. Все кричат ему привет С аханьем и писком, А он важно им в ответ: Dominus vobiscum![4] И раздолье языкам! И уж тут не шутка! И народам и царям — Всем приходит жутко! Все, что есть — все в пыль и прах! Все, что пролетает,— С корнем вон! — Ареопаг Так определяет. И жужжит он, полн грозой, Царства низвергая… А России — боже мой! — Таска… да какая! И весь размежеван свет Без войны и драки! И России уже нет, И в Москве поляки! Но назло врагам она Все живет и дышит, И могуча, и грозна, И здоровьем пышет. Насекомых болтовни Внятием не тешит, Да и место, где они, Даже не почешет. А когда во время сна Моль иль таракашка Заползет ей в нос, — она Чхнет — и вон букашка!1836
Федор Николаевич Глинка{107}
1786–1880
Из цикла «Опыты трагических явлений»{108}
Содержание явления:
Один из верных сынов покоренного тираном отечества увещевает сограждан своих в тишине ночи к подъятию оружия против насильственной власти[5].
1
Друзья! Уклоняясь от злобы врагов, К свиданью полночный назначил я час; Теперь все спокойно, все предано сну; Тиранство, на лоне утех, на цветах, И рабство, во прахе под тяжким ярмом,— Спят крепко!.. Не спит лишь к отчизне любовь! Она не смыкает слезящих очей: Скитаясь по дебрям, при бледной луне, Рыданьем тревожит полуночный час И будит свободу от смертного сна. Свобода! Отчизна! Священны слова! Иль будете вечно вы звуком пустым? Нет, мы воскресим вас! Не слезы и стон (Ничтожные средства душ робких и жен), Но меч и отвага к свободе ведут! Умрем иль воротим златые права, Что кровию предки купили для нас! Чем жизнь в униженьи, стократ лучше смерть!.. Отечества гибель нам льзя ль пережить?.. Ответ ваш, о други, читаю в очах: Горящий в них пламень, багряность ланит И дланей стремленье к звенящим мечам — Все, все мне являет тех самых мужей, С которыми в битвах я славу делил… Мы те же, но край наш не тот уже стал! Под пеплом, в оковах, под тяжким ярмом Отечество наше кто может узнать?2
Там в лютых напастях все зрим мы наш край! Родных и знакомых я стран не узнал, Когда на свиданье к местам сим спешил. О родины милой священны поля, Где первый раз в жизни я счастье познал, Что сделалось с вами? — Все умерло тут!.. Где спела надежда на нивах златых И радости песни гремели в лугах, Там страшен вид мрачных, ужасных пустынь, Пустынь, где унынье от воя зверей Сугубит звук томный влачимых оков!3
На трупах, на пепле пожженных им стран, На выях согбенных под гнетом рабов Тиран наш воздвиг свой железный престол; Но слышен уж ропот, тирана клянут…4
Клянут лишь, и только! А руки и меч, А предков примеры кто отнял у них?..1817
Сон русского на чужбине{109}
Отечества и дым нам сладок и приятен!
Державин Свеча, чуть теплясь, догорала, Камин, дымяся, погасал; Мечта мне что-то напевала, И сон меня околдовал… Уснул — и вижу я долины В наряде праздничном весны И деревенские картины Заветной русской стороны!.. Играет рог, звенят цевницы, И гонят парни и девицы Свои стада на влажный луг. Уж веял, веял теплый дух Весенней жизни и свободы От долгой и крутой зимы. И рвутся из своей тюрьмы И хлещут с гор кипучи воды. Пловцов брадатых на стругах Несется с гулом отклик долгий; И широко гуляет Волга В заповедных своих лугах… Поляны муравы одели, И, вместо пальм и пышных роз, Густые молодеют ели, И льется запах от берез!.. И мчится тройка удалая В Казань дорогой столбовой, И колокольчик — дар Валдая — Гудит, качаясь под дугой… Младой ямщик бежит с полночи: Ему сгрустнулося в тиши, И он запел про ясны очи, Про очи девицы-души: «Ах, очи, очи голубые! Вы иссушили молодца! Зачем, о люди, люди злые, Зачем разрознили сердца? Теперь я горький сиротина!» И вдруг махнул по всем по трем… Но я расстался с милым сном, И чужеземная картина Сияла пышно предо мной. Немецкий город… всё красиво, Но я в раздумье молчаливо Вздохнул по стороне родной…<1825>
Жатва
Густая рожь стоит стеной! Леса вкруг нивы как карнизы, И всё окинул вечер сизый Полупрозрачной пеленой… Порою слышны отголосья Младых косцов и сельских жниц; Волнами зыблются колосья Под пылкой ясностью зарниц; И жатва, дочь златого лета, Небесным кормится огнем И жадно пьет разливы света И зреет, утопая в нем… Так горний пламень вдохновенья Горит над нивою души, И спеет жатва дум в тиши, И созревают песнопенья…1826
Нива
Как я люблю картину нивы, Когда, зернистая, питанием полна, Как перси матери-кормилицы, она Колышется под ветерком игривым И перекатная волна По ней, как по морю, гуляет… Над ней светлей и ночи мрак; Ее природа одевает, Как деву юную на брак! Под сводом яхонтовым неба Как хороша для наших глаз Сия сокровищница хлеба! На ней и бисер, и алмаз, И жемчуги горят в дожде росистом… И слышно далеко, в раздолий полистом, Как резко звонкие кричат перепела, И зелень, по местам, приветливо светла, И ласково манит прохожих взоры Огонь холодный светляка, И селянин еще издалека О жатве будущей заводит разговоры.Между 1827–1829
Осень и сельское житье
Седеет в воздухе, и липки Повесили свои листки; И медленней кружатся рыбки В текучем зеркале реки. Янтарный лист дрожит на ветках; Звончей гудет в пустой трубе; Молчат, нахмурясь, птицы в клетках; Дрова привалены к избе; В лесах прочистились дорожки; Заглохло на поле пустом; Но в сельском домике простом Вставляют на зиму окошки… Обобран тучный огород; Замолкли рощи и долины… Но в деревнях слышней народ, И закурилися овины… Растут душистые стога, И золотеют скирды хлеба… Как жизнь крестьян недорога! Как незатейна их потреба! Кусок насущного, да квас, Да зелень, и, порой, приварок Для них уж лакомый подарок! Но не бедней, богатых, нас Сии сыны простой природы! Свежи и в запоздалы годы, И сановиты и ловки! В хозяйстве дело разумеют И толковиты для работ; И не грустят и не желтеют, Как мы, от сплетней и забот!.. Проходит скоро их кручина! А у пригожих их девиц Лебяжья грудь и свежесть лиц, В ланитах и в устах малина! Их не томит огонь страстей И суеты не кличет голос; Не знают приторных сластей, И позже их седеет волос!..<1830>
1812-й год
Посвящено людям ХII-го года
(Отрывок из рассказа)
Дошла ль в пустыни ваши весть,— Как Русь боролась с исполином? Старик отец вел распри с сыном: Кому скорей на славну месть Идти? — И, жребьем недовольны, Хватая пику и топор, Бежали оба в полк напольный{110}; Или в борах, в трущобах гор С пришельцем бешено сражались. От запада к нам бури мчались: Великий вождь Наполеон К нам двадцать вел с собой народов. В минувшем нет таких походов: Восстал от моря к морю стон От топа конных, пеших строев; Их длинная, густая рать Всю Русь хотела затоптать; Но снежная страна героев Высоко подняла чело В заре огнистой прежних боев: Кипело каждое село Толпами воинов брадатых: «Куда ты, нехристь?.. Нас не тронь!» Все вопили, спустя огонь Съедать и грады и палаты И созиданья древних лет. Тогда померкнул дневный свет От курева пожаров рьяных, И в небесах, в лучах багряных, Всплыла погибель; мнилось, кровь С них капала… И, хитрый воин, Он скликнул вдруг своих орлов И грянул на Смоленск… Достоин Похвал и песней этот бой: Мы заслоняли тут собой Порог Москвы— в Россию двери; Тут русские дрались как звери, Как ангелы! — Своих голов Мы не щадили за икону Владычицы{111}. Внимая звону Душе родных колоколов, В пожаре тающих, мы прямо В огонь метались и упрямо Стояли под дождем гранат, Под визгом ядер: все стонало, Гремело, рушилось, пылало; Казалось, выхлынул весь ад: Дома и храмы догорали, Калились камни… И трещали Порою волосы у нас: Он был сильней!.. Смоленск курился, Мы дали тыл. Ток слез из глаз На пепел родины скатился… Великих жертв великий час, России славные годины: Везде врагу лихой отпор; Коса, дреколье и топор Громили чуждые дружины. Огонь свой праздник пировал: Рекой шумел по зрелым жатвам, На селы змеем налетал. Наш бог внимал мольбам и клятвам. Но враг еще… одолевал!.. На Бородинские вершины Седой орел{112} с детьми засел, И там схватились исполины, И воздух рделся и горел. Кто вам опишет эту сечу, Тот гром орудий, стон долин? Со всей Европой эту встречу Мог русский выдержать один! И он не отстоял отчизны, Но поле битвы отстоял, И, весь в крови, — без укоризны — К Москве священной отступал! Москва пустела, сиротела, Везли богатства за Оку; И вспыхнул Кремль, — Москва горела И нагнала на Русь тоску. Но стихли вдруг враги и грозы — Переменилася игра: К нам мчался Дон, к нам шли морозы — У них упала с глаз кора! Необозримое пространство И тысячи пустынных верст Смирили их порыв и чванство, И показался божий перст. О, как душа заговорила! Народность наша поднялась: И страшная России сила Проснулась, взвихрилась, взвилась: То конь степной, когда, с натуги, На бурном треснули подпруги, В зубах хрустели удила, И всадник выбит из седла! Живая молния, он, вольный (Над мордой дым, в глазах огонь), Летит в свой океан напольный; Он весь гроза — его не тронь!.. Не трогать было вам народа, Чужеязычны наглецы! Кому не дорога свобода?.. И наши смурые{113} жнецы, Дав селам весть и богу клятву, На страшную пустились жатву… Они — как месть страны родной — У вас, непризванные гости: Под броней медной и стальной Дощупались, где ваши кости! Беда грабителям! Беда Их конным вьюкам, тучным ношам: Кулак, топор и борода Пошли следить их по порошам… И чей там меч, чей конь и штык И шлем покинут волосатый? Чей там прощальный с жизнью клик? Над кем наш Геркулес брадатый — Свиреп, могуч, лукав и дик — Стоит с увесистой дубиной?.. Скелеты, страшною дружиной, Шатаяся, бредут с трудом Без славы, без одежд, без хлеба, Под оловянной высью неба, В железном воздухе седом! Питомцы берегов Луары И дети виноградных стран Тут осушили чашу кары Клевал им очи русский вран На берегах Москвы и Нары; И русский волк и русский пёс Остатки плоти их разнес. И вновь раздвинулась Россия! Пред ней неслись разгром и плен И Дона полчища лихие… И галл и двадесятъ племен, От взорванных кремлевских стен Отхлынув бурною рекою, Помчались по своим следам!.. И, с оснеженной головою, Кутузов вел нас по снегам; И всё опять по Неман, с бою, Он взял — и сдал Россию нам Прославленной, неразделенной. И минул год — год незабвенный!.. Наш Александр благословенный Перед Парижем уж стоял И за Москву ему прощал!1839
Константин Николаевич Батюшков
1787–1855
Истинный патриот{114}
«О хлеб-соль русская! о прадед Филарет{115}! О милые останки, Упрямство дедушки и ферези{116} прабабки! Без вас спасенья нет! А вы, а вы забыты нами!» — Вчера горланил Фирс с гостями И, сидя у меня за лакомым столом, В восторге пламенном, как истый витязь русский, Съел соус, съел другой, а там сальмис{117} французский, А там шампанского хлебнул с бутылку он, А там… подвинул стул и сел играть в бостон.1810
К Дашкову{118}
Мой друг! я видел море зла И неба мстительного кары: Врагов неистовых дела, Войну и гибельны пожары. Я видел сонмы богачей, Бегущих в рубищах издранных, Я видел бледных матерей, Из милой родины изгнанных! Я на распутье видел их, Как, к персям чад прижав грудных, Они в отчаянье рыдали И с новым трепетом взирали На небо рдяное кругом. Трикраты с ужасом потом Бродил в Москве опустошенной{119}, Среди развалин и могил; Трикраты прах ее священный Слезами скорби омочил. И там, где зданья величавы И башни древние царей, Свидетели протекшей славы И новой славы наших дней; И там, где с миром почивали Останки иноков святых И мимо веки протекали, Святыни не касаясь их; И там, где роскоши рукою, Дней мира и трудов плоды, Пред златоглавою Москвою Воздвиглись храмщ и сады,— Лишь угли, прах и камней горы, Лишь груды тел кругом реки, Лишь нищих бледные полки Везде мои встречали взоры!.. А ты, мой друг, товарищ мой, Велишь мне петь любовь и радость, Беспечность, счастье и покой И шумную за чашей младость! Среди военных непогод, При страшном зареве столицы, На голос мирныя цевницы{120} Сзывать пастушек в хоровод! Мне петь коварные забавы Армид{121} и ветреных цирцей{122} Среди могил моих друзей, Утраченных на поле славы!.. Нет, нет! талант погибни мой И лира, дружбе драгоценна, Когда ты будешь мной забвенна, Москва, отчизны край златой! Нет, нет! пока на поле чести За древний град моих отцов Не понесу я в жертву мести И жизнь, и к родине любовь; Пока с израненным героем{123}, Кому известен к славе путь, Три раза не поставлю грудь Перед врагов сомкнутым строем,— Мой друг, дотоле будут мне Все чужды музы и хариты, Венки, рукой любови свиты, И радость шумная в вине!1813
Пленный{124}
В местах, где Рона протекает По бархатным лугам, Где мирт душистый расцветает, Склонясь к ее водам, Где на горах роскошно зреет Янтарный виноград, Златый лимон на солнце рдеет И яворы{125} шумят,— В часы вечерния прохлады Любуяся рекой, Стоял, склоня на Рону взгляды С глубокою тоской, Добыча брани, русский пленный, Придонских честь сынов, С полей победы похищенный Один — толпой врагов. «Шуми, — он пел, — волнами, Рона, И жатвы орошай, Но плеском волн — родного Дона Мне шум напоминай! Я в праздности теряю время, Душою в людстве сир; Мне жизнь — не жизнь, без славы — бремя, И пуст прекрасный мир! Весна вокруг живит природу, Яснеет солнца свет, Всё славит счастье и свободу, Но мне свободы нет! Шуми, шуми волнами, Рона, И мне воспоминай На берегах родного Дона Отчизны милый край! Здесь прелесть — сельские девицы! Их взор огнем горит И сквозь потупленны ресницы Мне радости сулит. Какие радости в чужбине? Они в родных краях; Они цветут в моей пустыне, И в дебрях, и в снегах. Отдайте ж мне мою свободу! Отдайте край отцов, Отчизны вьюги, непогоду, На родине мой кров, Покрытый в зиму ярким снегом! Ах! дайте мне коня; Туда помчит он быстрым бегом И день и ночь меня! На родину, в сей терем древний, Где ждет меня краса И под окном в часы вечерни Глядит на небеса; О друге тайно помышляет… Иль робкою рукой Коня ретивого ласкает, Тебя, соратник мой! Шуми, шуми волнами, Рона, И жатвы орошай; Но плеском волн — родного Дона Мне шум напоминай! О ветры, с полночи летите От родины моей, Вы, звезды севера, горите Изгнаннику светлей!» Так пел наш пленник одинокой В виду лионских стен, Где юноше судьбой жестокой Назначен долгий плен. Он пел — у ног сверкала Рона, В ней месяц трепетал, И на златых верхах Лиона Луч солнца догорал.1814
«У Волги-реченьки сидел…»{126}
У Волги-реченьки сидел В кручинушке, унылый, Солдат израненный и хилый. Вздохнул, на волны поглядел И песенку запел: — Там, там в далекой стороне Ты, родина святая! Отец, и мать моя родная, Вас не увидеть боле мне В родимой стороне. О, смерть в боях не так страшна, Как Страннику в чужбине, Там пуля смерть, а здесь в кручине Томись без хлеба и без сна, Пока при < дет > она. Куда летите, паруса? — На родину святую. Зачем вы, пташки, в цепь густую, Зачем взвились под небеса? — В родимые леса. Всё в родину летит свою, А я бреду насилу, Сквозь слезы песенку унылу Путем-дорогою пою Про родину мою. Несу котомку на плечах, На саблю подпираюсь, Как сиро < тино > чка <? > скитаюсь В лесах дремучих и песках, На волжских берегах. Жена останется вдовой, А дети сиротами, Вам сердце молвит: за горами, В стране далекой и чужой, Знать, умер наш родной. Зачем, зачем ре<ка> Дунай Меня не поглотила! Зачем ты, пуля, изменила . . . . . . . . . .1816 или 1817 (?)
Петр Александрович Плетнев{127}
1792–1865
Родина
Есть любимый сердца край; Память с ним не разлучится: Бездны моря преплывай — Он везде невольно снится. Помнишь хижин скромных ряд, С холма к берегу идущий, Где стоит знакомый сад И журчит ручей бегущий. Видишь: гнется до зыбей Распустившаяся ива И цветет среди полей Зеленеющая нива. На лугах, в тени кустов, Стадо вольное играет; Мнится, ветер с тех лугов Запах милый навевает. Лиц приветливых черты, Слуху сладостные речи Узнаешь в забвеньи ты Без привета и без встречи. Возвращаешь давних дней Неоплаканную радость, И опять объемлешь с ней Обольстительницу-младость. Долго ль мне в мечте одной Зреть тебя, страна родная, И бесплодной жить тоской, К небу руки простирая? Хоть бы раз глаза возвесть Дал мне рок на кров домашний И с родными рядом сесть За некупленные брашны!Петр Андреевич Вяземский
1792–1878
Послание к Жуковскому{128} из Москвы, в конце 1812 года
Итак, мой друг, увидимся мы вновь В Москве, всегда священной нам и милой! В ней знали мы и дружбу и любовь, И, счастье в ней дни наши золотило. Из детства, друг, для нас была она Святилищем драгих воспоминаний; Протекших бед, веселий, слез, желаний Здесь повесть нам везде оживлена. Здесь красится дней наших старина, Дней юности и ясных и веселых, Мелькнувших нам едва — и отлетелых. Но что теперь твой встретит мрачный взгляд В столице сей и мира и отрад? — Ряды могил, развалин обгорелых И цепь полей пустых, осиротелых — Следы врагов, злодейства гнусных чад! Наук, забав и роскоши столица, Издревле край любви и красоты Есть ныне край страданий, нищеты. Здесь бедная скитается вдовица, Там слышен вопль младенца-сироты; Их зрит в слезах румяная денница, И ночи мрак их застает в слезах! А там старик, прибредший на клюках На хладный пепл родного пепелища, Не узнает знакомого жилища, Где он мечтал сном вечности заснуть, Склонив главу на милой дщери грудь; Теперь один, он молит дланью нищей Последнего приюта на кладбище. Да будет тих его кончины час! Пускай мечты его обманут муку, Пусть слышится ему дочерний глас, Пусть, в гроб сходя, он мнит подать ей руку! Счастлив, мой друг, кто, мрачных сих картин, Сих ужасов и бедствий удаленный И строгих уз семейных отчужденный, Своей судьбы единый властелин, Летит теперь, отмщеньем вдохновенный{129}, Под знамена карающих дружин! Счастлив, кто меч, отчизне посвященный, Подъял за прах родных, за дом царей, За смерть в боях утраченных друзей, И, роковым постигнутый ударом, Он скажет, свой смыкая мутный взор: «Москва! я твой питомец с юных пор, И смерть моя — тебе последним даром!» Я жду тебя, товарищ милый мой! И по местам, унынью посвященным, Мы медленно пойдем, рука с рукой, Бродить, мечтам предавшись потаенным. Здесь тускл зари пылающий венец, Здесь мрачен день в краю опустошений; И скорби сын, развалин сих жилец, Склоня чело, объятый думой гений Гласит на них протяжно: нет Москвы! И хладный прах, и рухнувшие своды, И древний Кремль, и ропотные воды Ужасной сей исполнены молвы!1813
Вечер на Волге{130}
(1816)
Дыханье вечера долину освежило, Благоухает древ трепещущая сень, И яркое светило, Спустившись в недра вод, уже переступило Пылающих небес последнюю ступень. Повсюду разлилось священное молчанье; Почило на волнах Игривых ветров трепетанье, И скатерть синих вод сравнялась в берегах, Чья кисть, соперница природы, О Волга, рек краса, тебя изобразит? Кто в облачной дали конец тебе прозрит? С лазурной высотой твои сравнялись воды, И пораженный взор, оцепенев, стоит Над влажною равниной; Иль, увлекаемый окрестною картиной, Он бродит по твоим красивым берегам: Здесь темный ряд лесов под ризою туманов, Гряда воздушная синеющих курганов, Вдали громада сел, лежащих по горам, Луга, платящие дань злачную стадам, Поля, одетые волнующимся златом,— И взор теряется с прибережных вершин В разнообразии богатом Очаровательных картин. Но вдруг перед собой зрю новое явленье: Плывущим островам подобяся, вдали Огромные суда в медлительном паренье Несут по лону вод сокровища земли; Их крылья смелые по воздуху белеют, Их мачты, как в водах бродящий лес, темнеют. Люблю в вечерний час, очарованья полн, Прислушивать, о Волга величава! Глас поэтический твоих священных волн; В них отзывается России древней слава. Или, покинув брег, люблю гнать резвый челн По ропотным твоим зыбям, — и, сердцем весел, Под шумом дружных весел, Забывшись, наяву один дремать в мечтах. Поэзии сынам твои знакомы воды! И музы на твоих прохладных берегах, В шумящих тростниках, В час утренней свободы, С цевницами в руках Водили хороводы Со стаей нимф младых; И отзыв гор крутых, И вековые своды Встревоженных дубрав Их песнями звучали, И звонкий глас забав Окрест передавали. Державин, Нестор{131} муз, и мудрый Карамзин, И Дмитриев, харит счастливый обожатель,{132} Величья твоего певец-повествователь, Тобой воспоены средь отческих долин. Младое пенье их твой берег оглашало, И слава их чиста, как вод твоих зерцало, Когда глядится в них лазурный свод небес, Безмолвной тишиной окован ближний лес И резвый ветерок не шевелит струею. Их гений мужествен, как гений вод твоих, Когда гроза во тьме клубится над тобою, И пеною кипят громады волн седых; Противник наглых бурь, он злобе их упорной Смеется, опершись на брег ему покорный; Обширен их полет, как бег обширен твой; Как ты, сверша свой путь, назначенный судьбой, В пучину Каспия мчишь воды обновленны, Так славные их дни, согражданам священны, Сольются, круг сверша, с бессмертием в веках! Но мне ли помышлять, но мне ли петь о славе? Мой жребий: бег ручья в безвестных берегах, Виющийся в дубраве! Счастлив он, если мог цветы струей омыть И ропотом приятным Младых любовников шаги остановить, И сердце их склонить к мечтаньям благодатным.1815 или 1816
Русский бог{133}
Нужно ль вам истолкованье, Что такое русский бог? Вот его вам начертанье, Сколько я заметить мог. Бог метелей, бог ухабов, Бог мучительных дорог, Станций — тараканьих штабов, Вот он, вот он русский бог. Бог голодных, бог холодных, Нищих вдоль и поперек, Бог имений недоходных, Вот он, вот он русский бог. Бог грудей и… отвислых, Бог лаптей и пухлых ног, Горьких лиц и сливок кислых, Вот он, вот он русский бог. Бог наливок, бог рассолов, Душ, представленных в залог{134}, Бригадирш обоих полов{135}, Вот он, вот он русский бог. Бог всех с анненской на шеях, Бог дворовых без сапог, Бар в санях при двух лакеях, Вот он, вот он русский бог. К глупым полон благодати, К умным беспощадно строг, Бог всего, что есть некстати, Вот он, вот он русский бог. Бог всего, что из границы, Не к лицу, не под итог, Бог по ужине горчицы, Вот он, вот он русский бог. Бог бродяжных иноземцев{136}, К нам зашедших за порог, Бог в особенности немцев, Вот он, вот он русский бог.1828
Еще тройка{137}
Тройка мчится, тройка скачет, Вьется пыль из-под копыт, Колокольчик звонко плачет И хохочет, и визжит. По дороге голосисто Раздается яркий звон, То вдали отбрякнет чисто, То застонет глухо он. Словно леший ведьме вторит И аукается с ней, Иль русалка тараторит В роще звучных камышей. Русской степи, ночи темной Поэтическая весть! Много в ней и думы томной, И раздолья много есть. Прянул месяц из-за тучи, Обогнул свое кольцо И посыпал блеск зыбучий Прямо путнику в лицо. Кто сей путник? и отколе, И далек ли путь ему? По неволе иль по воле Мчится он в ночную тьму? На веселье иль кручину, К ближним ли под кров родной, Или в грустную чужбину Он спешит, голубчик мой? Сердце в нем ретиво рвется В путь обратный или вдаль? Встречи ль ждет он не дождется, Иль покинутого жаль? Ждет ли перстень обручальный? Ждут ли путника пиры Или факел погребальный Над могилою сестры? Как узнать? уж он далеко! Месяц в облако нырнул, И в пустой дали глубоко Колокольчик уж заснул.1834
На память
В края далекие, под небеса чужие Хотите вы с собой на память перенесть О ближних, о стране родной живую весть, Чтоб стих мой сердцу мог, в минуты неземные, Как верный часовой, откликнуться: Россия! Когда беда придет, иль просто как-нибудь Тоской по родине заноет ваша грудь, Не ждите от меня вы радостного слова; Под свежим трауром печального покрова, Сложив с главы своей венок блестящих роз, От речи радостной, от песни вдохновенной Отвыкла муза: ей над урной драгоценной Отныне суждено быть музой вечных слез. Одною думою, одним событьем полный, Когда на чуждый брег вас переносят волны И звуки родины должны в последний раз Печально врезаться и отозваться в вас, На память и в завет о прошлом в мире новом Я вас напутствую единым скорбным словом, Затем, что скорбь моя превыше сил моих; И, верный памятник сердечных слез и стона, Вам затвердит одно рыдающий мой стих: Что яркая звезда с родного небосклона Внезапно сорвана средь бури роковой, Что песни лучшие поэзии родной Внезапно замерли на лире онемелой, Что пал во всей поре красы и славы зрелой Наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней, Который трепетом и сладкозвучным шумом От сна воспрянувших пророческих ветвей Вещал глагол богов на севере угрюмом, Что навсегда умолк любимый наш поэт, Что скорбь постигла нас, что Пушкина уж нет.1837
Степь
Бесконечная Россия Словно вечность на земле! Едешь, едешь, едешь, едешь, Дни и версты нипочем! Тонут время и пространство В необъятности твоей. Степь широко на просторе Поперек и вдоль лежит, Словно огненное море Зноем пышет и палит. Цепенеет воздух сжатый, Не пахнет на душный день С неба ветерок крылатый, Ни прохладной тучки тень. Небеса, как купол медный, Раскалились. Степь гола; Кое-где пред хатой бедной Сохнет бедная ветла. С кровли аист долгоногой Смотрит, верный домосед; Добрый друг семьи убогой, Он хранит ее от бед. Шагом, с важностью спокойной Тащут тяжести волы; Пыль метет метелью знойной, Вьюгой огненной золы. Как разбитые палатки На распутий племен — Вот курганы, вот загадки Неразгаданных времен. Пусто все, однообразно, Словно замер жизни дух; Мысль и чувство дремлют праздно, Голодают взор и слух. Грустно! Но ты грусти этой Не порочь и не злословь: От нее в душе согретой Свято теплится любовь. Степи голые, немые, Все же вам и песнь, и честь! Всё вы — матушка Россия, Какова она ни есть!Июнь 1849
Масленица на чужой стороне
Здравствуй, в белом сарафане Из серебряной парчи! На тебе горят алмазы, Словно яркие лучи. Ты живительной улыбкой, Свежей прелестью лица Пробуждаешь к чувствам новым Усыпленные сердца! Здравствуй, русская молодка, Раскрасавица-душа, Белоснежная лебедка, Здравствуй, матушка зима! Из-за льдистого Урала Как сюда ты невзначай, Как, родная, ты попала В бусурманский этот край? Здесь ты, сирая, не дома, Здесь тебе не по нутру; Нет приличного приема И народ не на юру. Чем твою мы милость встретим? Как задать здесь пир горой? Не суметь им, немцам этим, Поздороваться с тобой. Не напрасно дедов слово Затвердил народный ум: «Что для русского здорово, То для немца карачун!» Нам не страшен снег суровый, С снегом — батюшка-мороз, Наш природный, наш дешевый Пароход и паровоз. Ты у нас краса и слава, Наша сила и казна, Наша бодрая забава, Молодецкая зима! Скоро масленицы бойкой Закипит широкий пир, И блинами и настойкой Закутит крещеный мир. В честь тебе и ей Россия, Православных предков дочь, Строит горы ледяные И гуляет день и ночь. Игры, братские попойки, Настежь двери и сердца! Пышут бешеные тройки, Снег топоча у крыльца. Вот взвились и полетели, Что твой сокол в облаках! Красота ямской артели Возжи ловко сжал в руках; В шапке, в синем полушубке Так и смотрит молодцом, Погоняет закадычных Свистом, ласковым словцом. Мать дородная в шубейке Важно в розвальнях сидит, Дочка рядом в душегрейке, Словно маков цвет горит. Яркой пылью иней сыплет И одежду серебрит, А мороз, лаская, щиплет Нежный бархатец ланит. И белее и румяней Дева блещет красотой, Как алеет на поляне Снег под утренней зарей. Мчатся вихрем, без помехи По полям и по рекам, Звонко щелкают орехи На веселие зубкам. Пряник, мой однофамилец{138}, Также тут не позабыт, А наш пенник, наш кормилец, Сердце любо веселит. Разгулялись город, села, Загулялись стар и млад,— Всем зима родная гостья, Каждый масленице рад. Нет конца веселым кликам, Песням, удали, пирам. Где тут немцам-горемыкам Вторить нам, богатырям? Сани здесь — подобной дряни Не видал я на веку; Стыдно сесть в чужие сани Коренному русаку. Нет, красавица, не место Здесь тебе, не обиход, Снег здесь — рыхленькое тесто, Вял мороз и вял народ. Чем почтят тебя, сударку? Разве кружкою пивной, Да копеечной сигаркой, Да копченой колбасой. С пива только кровь густеет, Ум раскиснет и лицо; То ли дело, как прогреет Наше рьяное винцо! Как шепнет оно в догадку Ретивому на ушко,— Не споет, ей-ей, так сладко Хоть бы вдовушка Клико{139}! Выпьет чарку-чародейку Забубённый наш земляк: Жизнь копейка! — смерть-злодейку Он считает за пустяк. Немец к мудрецам причислен, Немец — дока для всего, Немец так глубокомыслен, Что провалишься в него. Но, по нашему покрою, Если немца взять врасплох, А особенно зимою, Немец — воля ваша! — плох.20 февраля 1853,
Дрезден
Рябина
Тобой, красивая рябина, Тобой, наш русский виноград, Меня потешила чужбина, И я землячке милой рад. Любуюсь встречею случайной: Ты так свежа и хороша! И на придет твой думой тайной Задумалась моя душа. Меня минувшим освежило, Его повеяло крыло, И в душу глубоко и мило Дней прежних запах нанесло. Все пережил я пред тобою, Все перечувствовал я вновь — И радость пополам с тоскою, И сердца слезы, и любовь. Одна в своем убранстве алом, Средь обезлиственных дерев, Ты вся обвешана кораллом, Как шеи черноглазых дев. Забыв и озера картину, И снежный пояс темных гор, В тебя, родную мне рябину, Впился мой ненасытный взор. И предо мною — Русь родная; Знакомый пруд, знакомый дом{140}; Вот и дорожка столбовая С своим зажиточным селом. Красавицы, сцепивши руки, Кружок веселый заплели, И хороводной песни звуки Перекликаются вдали: «Ты рябинушка, ты кудрявая, В зеленом саду пред избой цвети, Ты кудрявая, моложавая, Белоснежный пух — кудри-цвет твои. Убери себя алой бусою, Ярких ягодок загорись красой; Заплету я их с темно-русою, С темно-русою заплету косой. И на улицу, на широкую Выду радостно на закате дня, Там мой суженый черноокую, Черноокую сторожит меня». Но песней здесь по околотку Не распевают в честь твою; Кто словом ласковым сиротку Порадует в чужом краю? Нет, здесь ты пропадаешь даром, И средь спесивых винных лоз Не прок тебя за летним жаром Прихватит молодой мороз. Потомка новой Элоизы{141} В сей романтической земле, Заботясь о хозяйстве мызы, Или по-здешнему — шале, Своим Жан-Жаком{142} как ни бредит, Свой скотный двор и сыр любя,— Плохая ключница, не цедит Она наливки из тебя. В сей стороне неблагодарной, Где ты растешь особняком, Рябиновки злато-янтарной Душистый нектар незнаком. Никто понятья не имеет, Как благодетельный твой сок Крепит желудок, сердце греет, Вдыхая сладостный хмелек. Средь здешних всех великолепий Ты, в одиночестве своем, Как роза средь безлюдной степи, Как светлый перл на дне морском. Сюда заброшенный случайно, Я, горемычный, как и ты, Делю один с тобою тайно Души раздумье и мечты. Так, я один в чужбине дальной Тебя приветствую тоской, Улыбкою полупечальной И полурадостной слезой.2 ноября 1854, Веве
Кондратий Федорович Рылеев
1795–1826
Смерть Ермака
П. А. Муханову{143}
Дума
Ревела буря, дождь шумел; Во мраке молнии летали; Бесперерывно гром гремел, И ветры в дебрях бушевали… Ко славе страстию дыша, В стране суровой и угрюмой, На диком бреге Иртыша Сидел Ермак, объятый думой. Товарищи его трудов, Побед и громозвучной славы Среди раскинутых шатров Беспечно спали, близ дубравы. «О, спите, спите, — мнил герой, — Друзья, под бурею ревущей; С рассветом глас раздастся мой, На славу иль на смерть зовущий! Вам нужен отдых; сладкий сон И в бурю храбрых успокоит; В мечтах напомнит славу он И силы ратников удвоит. Кто жизни не щадил своей В разбоях, злато добывая, Тот думать будет ли о ней, За Русь святую погибая? Своей и вражьей кровью смыв Все преступленья буйной жизни И за победы заслужив Благословение отчизны — Нам смерть не может быть страшна; Свое мы дело совершили: Сибирь царю покорена, И мы — не праздно в мире жили!». Но роковой его удел Уже сидел с героем рядом И с сожалением глядел На жертву любопытным взглядом. Ревела буря — дождь шумел; Во мраке молнии летали; Бесперерывно гром гремел, И ветры в дебрях бушевали. Иртыш кипел в крутых брегах, Вздымалися седые волны, И рассыпались с ревом в прах, Бия о брег казачьи челны. С вождем покой в объятьях сна Дружина храбрая вкушала; С Кучумом буря лишь одна На их погибель не дремала! Страшась вступить с героем в бой, Кучум к шатрам, как тать презренный, Прокрался тайною тропой, Татар толпами окруженный. Мечи сверкнули в их руках— И окровавилась долина, И пала грозная в боях, Не обнажив мечей, дружина… Ермак воспрянул ото сна И, гибель зря, стремится в волны, Душа отвагою полна, Но далеко от брега челны! Иртыш волнуется сильней — Ермак все силы напрягает, И мощною рукой своей Валы седые рассекает… Плывет… уж близко челнока — Но сила року уступила, И, закипев страшней, река Героя с шумом поглотила. Лишивши сил богатыря Бороться с ярою волною, Тяжелый панцирь — дар царя Стал гибели его виною. Ревела буря… вдруг луной Иртыш кипящий осребрился, И труп, извергнутый волной, В броне медяной озарился. Носились тучи, дождь шумел, И молнии еще сверкали, И гром вдали еще гремел, И ветры в дебрях бушевали.1821
Иван Сусанин
Дума
«Куда ты ведешь нас?.. Не видно ни зги! — Сусанину с сердцем вскричали враги: — Мы вязнем и тонем в сугробинах снега; Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега. Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути; Но тем Михаила тебе не спасти! Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушует, Но смерти от ляхов ваш царь не минует!.. Веди ж нас, — так будет тебе за труды; Иль бойся: не долго у нас до беды! Заставил всю ночь нас пробиться с метелью… Но что там чернеет в долине за елью?»— «Деревня! — сарматам в ответ мужичок.— Вот гумна, заборы, а вот и мосток, За мною! в ворота! — избушечка эта Во всякое время для гостя нагрета. Войдите — не бойтесь!» — «Ну, то-то, москаль!.. Какая же, братцы, чертовская даль! Такой я проклятой не видывал ночи, Слепились от снегу соколий очи… Жупан мой — хоть выжми, нет нитки сухой! — Вошед, проворчал так сармат молодой.— Вина нам, хозяин! Мы смокли, иззябли! Скорей!.. не заставь нас приняться за сабли!» Вот скатерть простая на стол постлана; Поставлено пиво и кружка вина; И русская каша и щи пред гостями, И хлеб перед каждым большими ломтями. В окончины ветер, бушуя, стучит: Уныло и с треском лучина горит. Давно уж за полночь!.. Сном крепким объяты Лежат беззаботно по лавкам сарматы. Все в дымной избушке вкушают покой; Один, настороже, Сусанин седой Вполголоса молит в углу у иконы Царю молодому святой обороны!.. Вдруг кто-то к воротам подъехал верхом. Сусанин поднялся и к двери тайком… «Ты ль это, родимый?.. А я за тобою! Куда ты уходишь ненастной порою? За полночь… а ветер еще не затих; Наводишь тоску лишь на сердце родных!»— «Приводит сам бог тебя к этому дому, Мой сын, поспешай же к царю молодому; Скажи Михаилу, чтоб скрылся скорей; Что гордые ляхи, по злобе своей, Его потаенно убить замышляют И новой бедою Москве угрожают! Скажи, что Сусанин спасает царя, Любовью к отчизне и вере горя. Скажи, что спасенье в одном лишь побеге И что уж убийцы со мной на ночлеге».— «Но что ты затеял? подумай, родной! Убьют тебя ляхи… Что будет со мной? И с юной сестрою и с матерью хилой?»— «Творец защитит вас святой своей силой. Не даст он погибнуть, родимые, вам: Покров и помощник он всем сиротам. Прощай же, о сын мой, нам дорого время! И помни: я гибну за русское племя!» Рыдая, на лошадь Сусанин младой Вскочил и помчался свистящей стрелой. Луна между тем совершила полкруга; Свист ветра умолкнул, утихнула вьюга; На небе восточном зарделась заря… Проснулись сарматы — злодеи царя. «Сусанин! — вскричали. — Что молишься богу? Теперь уж не время — пора нам в дорогу!» Оставив деревню шумящей толпой, В лес темный вступают окольной тропой. Сусанин ведет их… Вот утро настало, И солнце сквозь ветви в лесу засияло: То скроется быстро, то ярко блеснет, То тускло засветит, то вновь пропадет. Стоят не шелохнясь и дуб и береза; Лишь снег под ногами скрипит от мороза, Лишь временно ворон, вспорхнув, прошумит, И дятел дуплистую иву долбит. Друг за другом идут в молчанье сарматы; Все дале и дале седой их вожатый. Уж солнце высоко сияет с небес; Все глуше и диче становится лес! И вдруг пропадает тропинка пред ними; И сосны, и ели ветвями густыми Склонившись угрюмо до самой земли, Дебристую стену из сучьев сплели. Вотще настороже тревожное ухо: Все в том захолустье и мертво, и глухо… «Куда ты завел нас!» — лях старый вскричал. «Туда, куда нужно! — Сусанин сказал.— Убейте! замучьте! — моя здесь могила! Но знайте и рвитесь: я спас Михаила! Предателя, мнили, во мне вы нашли: Их нет и не будет на русской земли! В ней каждый отчизну с младенчества любит И душу изменой свою не погубит». «Злодей! — закричали враги, закипев.— Умрешь под мечами!» — «Не страшен ваш гнев! Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело, И радостно гибнет за правое дело! Ни казни, ни смерти и я не боюсь: Не дрогнув, умру за царя и за Русь!» «Умри же! — сарматы герою вскричали, И сабли над старцем, свистя, засверкали.— Погибни предатель! Конец твой настал!» И твердый Сусанин весь в язвах упал! Снег чистый чистейшая кровь обагрила: Она для России спасла Михаила!{144}1822
Волынский{145}
Дума
«Не тот отчизны верный сын, Не тот в стране самодержавья Царю полезный гражданин, Кто раб презренного тщеславья! Пусть будет муж совета он И мученик позорной казни, Стоять за правду и закон, Как Долгорукий{146}, без боязни. Пусть будет он, дыша войной, Врагам, в часы кровавой брани, Неотразимою грозой, Как покорители Казани. Пусть удивляет… Но когда Он все творит то из тщеславья — Беда несчастному, беда! Он сын не славы, а бесславья. Глас общий цену даст делам; Изобличатся вероломства— И на проклятие векам Предастся раб сей от потомства. Не тот отчизны верный сын, Не тот в стране самодержавья Царю полезный гражданин, Кто раб презренного тщеславья! Но тот, кто с сильными в борьбе За край родной иль за свободу, Забывши вовсе о себе, Готов всем жертвовать народу. Против тиранов лютых тверд, Он будет и в цепях свободен, В час казни правотою горд И вечно в чувствах благороден. Повсюду честный человек, Повсюду верный сын отчизны, Он проживет и кончит век, Как друг добра, без укоризны. Ковать ли станет на граждан Пришлец иноплеменный цепи — Он на него как хищный вран, Как вихрь губительный из степи! И хоть падет — но будет жив В сердцах и памяти народной И он и пламенный порыв Души прекрасной и свободной. Славна кончина за народ! Певцы, герою в воздаянье, Из века в век, из рода в род Передадут его деянье. Вражда к тиранству закипит Неукротимая в потомках— И Русь священная узрит Власть чужеземную в обломках».— Так, сидя в крепости, в цепях, Волынский думал справедливо; Душою чист и прав в делах, Свой жребий нес он горделиво. Стран северных отважный сын, Презрев и казнью и Бироном, Дерзнул на пришлеца один Всю правду высказать пред троном. Открыл царице корень зла, Любимца гордого пороки, Его ужасные дела, Коварный ум и нрав жестокий. Свершил, исполнил долг святой, Открыл вину народных бедствий И ждал с бестрепетной душой Деянью правому последствий. Недолго, вольности лишен, Герой влачил свои оковы; Однажды вдруг запоров звон — И входит страж к нему суровый. Проник — и, осенясь крестом, Сказал он: «За тебя свобода!» И к месту казни с торжеством Шел бодро верный друг народа. Притек… увидел палача — И голову склонил без страха; Сверкнуло лезвие меча — И кровью освятилась плаха! Сыны отечества! в слезах Ко храму древнему Самсона{147}! Там за оградой, при вратах Почиет прах врага Бирона! Отец семейства! приведи К могиле мученика сына; Да закипит в его груди Святая ревность гражданина! Любовью к родине дыша, Да все для ней он переносит И, благородная душа, Пусть личность всякую отбросит. Пусть будет чести образцом, За страждущих — железной грудью, И вечно заклятым врагом Постыдному неправосудью.Из поэмы «Наливайко»{148}
Забыв вражду великодушно, Движенью тайному послушный, Быть может, я еще могу Дать руку личному врагу; Но вековые оскорбленья Тиранам родины прощать И стыд обиды оставлять Без справедливого отмщенья — Не в силах я: один лишь раб Так может быть и подл и слаб. Могу ли равнодушно видеть Порабощенных земляков?.. Нет, нет! Мой жребий: ненавидеть Равно тиранов и рабов.<Из «Исповеди Наливайки»>
Известно мне: погибель ждет Того, кто первый восстает На утеснителей народа,— Судьба меня уж обрекла. Но где, скажи, когда была Без жертв искуплена свобода? Погибну я за край родной,— Я это чувствую, я знаю… И радостно, отец святой, Свой жребий я благословляю!Гражданин{149}
Я ль буду в роковое время Позорить Гражданина сан, И подражать тебе, изнеженное племя Переродившихся славян? Нет, неспособен я в объятьях сладострастья, В постыдной праздности влачить свой век младой, И изнывать кипящею душой Под тяжким игом самовластья. Пусть юноши, своей не разгадав судьбы, Постигнуть не хотят предназначенье века, И не готовятся для будущей борьбы За угнетенную свободу человека. Пусть с хладною душой бросают хладный взор На бедствия своей отчизны, И не читают в них грядущий свой позор И справедливые потомков укоризны. Они раскаются, когда народ, восстав, Застанет их в объятьях праздной неги И, в бурном мятеже ища свободных прав, В них не найдет ни Брута{150}, ни Риеги{151}.1824–1825
Кондратий Федорович Рылеев и Александр Александрович Бестужев-Марлинский{152}
1797–1837
«Ах, тошно мне…»
Ах, тошно мне И в родной стороне; Все в неволе, В тяжкой доле, Видно, век вековать. Долго ль русский народ Будет рухлядью господ, И людями, Как скотами, Долго ль будут торговать? Кто же нас кабалил, Кто им барство присудил И над нами, Бедняками, Будто с плетью посадил? Глупость прежних крестьян Стала воле в изъян, И свобода У народа Силой бар задушена. А что силой отнято, Силой выручим мы то. И в приволье, На раздолье Стариною заживем. А теперь господа Грабят нас без стыда, И обманом Их карманом Стала наша мошна. Они кожу с нас дерут, Мы посеем — они жнут. Они воры, Живодеры, Как пиявки, кровь сосут. Бара с земским судом И с приходским попом Нас морочат И волочат По дорогам да судам. А уж правды нигде Не ищи, мужик, в суде, Без синюхи{153} Судьи глухи, Без вины ты виноват. Чтоб в палату дойти, Прежде сторожу плати За бумагу, За отвагу, Ты за все, про все давай! Там же каждая душа Покривится из гроша. Заседатель, Председатель Заодно с секретарем. Нас поборами царь Иссушил, как сухарь; То дороги, То налоги Разорили нас вконец. И в деревне солдат, Хоть и, кажется, наш брат, В ус не дует И воюет, Как бы в вражеской земле. А под царским орлом{154} Ядом потчуют с вином. И народу Лишь за воду Велят вчетверо платить. Чтобы нас наказать, Господь вздумал ниспослать Поселенье В разоренье, Православным на беду. Уж так худо на Руси. Что и боже упаси. Всех затеев Аракчеев{155} И всему тому виной. Он царя подстрекнет, Царь указ подмахнет. Ему шутка, А нам жутко, Тошно так, что ой, ой, ой! А до бога высоко, До царя далеко, Да мы сами Ведь с усами, Так мотай себе на ус.1824(?)
«Как идет кузнец…»
Как идет кузнец Да из кузницы. Слава! Что несет кузнец? Да три ножика. Слава! Вот уж первый-то нож — На злодеев-вельмож. Слава! А другой-то нож — На попов, на святош. Слава! А молитву сотворя — Третий нож: на царя. Слава! Кому вынется, Тому сбудется. Слава! Кому сбудется, Не минуется. Слава!1824 или 1825
Иван Петрович Мятлев{156}
1796–1844
Разговор барина с Афонькой{157}
Барин
Здравия желаю, господа сенаторы, Я прихожу из банковой конторы, Не французский, не немецкий, — человек российский. Приношу вам поклон низкий. Эй, малый! Жены моей приданой, Кривой крепостной, Удалая головка, долбленый глаз,— Много ли вас?Афонька
Один!Барин
А, это ты, Афонька… Ты, который бежал, когда я женился? Да куда ж ты сокрылся?Афонька
А я, с позволения вашего, в деревне вашей под овином сидел.Барин
Дурак! А если б этот овин сгорел?Афонька
Я бы, с позволения вашего, вышедши, руки погрел.Барин
Позвольте, господа сенаторы, какой он грубиян! Ну, скажи, пожалуйста, Афонька,— Ты жил в моей деревне,— Как мужики мои живут?Афонька
Зажиточно.Барин
Да как зажиточно?Афонька
Да очень зажиточно!Барин
Да как же, братец мой, зажиточно?Афонька
А так зажиточно, Что в семи дворах один топор; Поутру дрова рубят, А вечером в кулак трубят.Барин
Позвольте, господа сенаторы! Следовательно, мои мужики плотники и музыканты. Ну, скажи, пожалуйста, Афонька, как у меня хлеб уродился?Афонька
Хорошо-с!Барин
Да как хорошо?Афонька
Да очень хорошо.Барин
Да как же, братец ты мой, хорошо?Афонька
А так хорошо, Что колос от колоса — Не слыхать девичья голоса; Сноп от снопа — Столбовая верста, А копна от копны — Целый день езды.Барин
Позвольте, господа сенаторы! Следовательно, мой хлеб хорошо уродился. Что же, Афонька, хлеб-то мой продали Или сюда везут?Афонька
Нет, его не продали и не сюда везут, А ваши шелудивые собаки разыгрались И уронили весь хлеб в лохань.Барин
Позвольте, господа сенаторы! Следовательно, мой хлеб пропал!Афонька
Нет, не пропал, а в потребу попал.Барин
Что же из него сотворили?Афонька
Бражку сварили.Барин
Да пьяна ли эта брага?Афонька
Пьяна!Барин
Да как же пьяна?Афонька
Да очинно пьяна.Барин
Да как же, братец мой, пьяна?Афонька
Да так пьяна, Что если старосте поднести, Да его милость тройным поленом оплести, То его милость, и со двора не свезти.Барин
Позвольте, господа сенаторы, Какой он грубиян!1844
Сельское хозяйство{158}
Приходит староста-пузан И двадцать мужиков. Се сон, же круа, ле пейзан Де мадам Бурдюков[6]. О них докладывать Андре Идет, официант. «Дан л'антишамбр фет антре, Е дит лёр, к'иль з'атанд»[7]. Выходит барыня с гостьми Через часочек-два. «Бонжур, бонжур, ме бонз-ами! Ке вуле ву де муа?»[8]. «Ну, староста! ты доложи»,— Сказали мужики. «Э бъен, де куа донк иль с'ажи? Де куа? у бьен де ки?»[9] И староста, отдав поклон, Свой начал разговор. Но барыня кричит: «Алон! Не крие па си фор»[10]. «Мы яровое убрали И убрали траву». «Се тре жоли, се тре жоли! Коман ву порте ву?»[11] «И нам теперь всем отдых дан: Но аржаному срок». «Але ву з'ан, але ву з'ан! Ке дъяблъ, же ма'н мок!»[12] «В продажу хлеб уже глядит, Убрать бы поскорей». «Кес-ке ву дит? Кес-ке ву дит? Же круа, ву мюрмюре?»[13] «Как опоздаем, будет жаль; Не довезем в Василь!{159}» «Са ме т'егаль, са ме т'егаль. Ву зет де зембесиль»?[14] И выгнать всех велела вон За хлебный магазин{160}, А гости крикнули: «Се бон! Се тре бьен, ма кузин!»[15] Вот управляют как у нас! Всё — минус, а не плюс. Ке вуле ву, ке л'он фасе! Он не се па ле рюсс![16]Вильгельм Карлович Кюхельбекер
1797–1846
«Работы сельские приходят уж к концу…»
Работы сельские приходят уж к концу. Везде роскошные, златые скирды хлеба; Уж стал туманен свод померкнувшего неба И пал туман и на чело певцу{161}… Да! недалек тот день, который был когда-то Им, нашим Пушкиным, так задушевно пет! Но Пушкин уж давно подземной тьмой одет И сколько и еще друзей пожато, Склонявших жадный слух при звоне полных чаш К напеву дивному стихов медоточивых! Но ныне мирный сон товарищей счастливых В нас зависть пробуждает. — Им шабаш! Шабаш им от скорбей и хлопот жизни пыльной, Их не поднимет день к страданьям и трудам, Нет горю доступа к остывшим их сердцам, Не заползет измена в мрак могильный, Их ран не растравит; их ноющей груди С улыбкой на устах не растерзает злоба, Не тронет их вражда: спаслися в пристань гроба. Нам только говорят: «Иди! иди! Надолго нанят ты; еще тебе не время! Ступай! не уставай, не думай отдохнуть!» Да силы уж не те, да всё тяжеле путь, Да плечи всё больнее ломит бремя!1845
Антон Антонович Дельвиг
1798–1831
Русская песня («Соловей мой, соловей…»)
Соловей мой, соловей, Голосистый соловей! Ты куда, куда летишь, Где всю ночку пропоешь? Кто-то бедная, как я, Ночь прослушает тебя, Не смыкаючи очей. Утопаючи в слезах? Ты лети, мой соловей, Хоть за тридевять земель, Хоть за синие моря, На чужие берега; Побывай во всех странах, В деревнях и в городах: Не найти тебе нигде Горемышнее меня. У меня ли у младой Дорог жемчуг на груди, У меня ли у младой Жар-колечко на руке, У меня ли у младой В сердце миленький дружок. В день осенний на груди Крупный жемчуг потускнел, В зимню ночку на руке Распаялося кольцо, А как нынешней весной Разлюбил меня милой.1825
Русская песня («Как за реченькой слободушка стоит…»)
Как за реченькой слободушка стоит, По слободке той дороженька бежит, Путь-дорожка широка, да не длинна, Разбегается в две стороны она: Как налево на кладбище к мертвецам, А направо — к закавказским молодцам. Грустно было провожать мне, молодой, Двух родимых и по той, и по другой: Обручальника по левой проводя, С плачем матерью-землей покрыла я; А налетный друг уехал по другой, На прощанье мне кивнувши головой.1828
Отставной солдат
(Русская идиллия)
Солдат
Нет, не звезда мне из лесу светила: Как звездочка, манил меня час целый Огонь ваш, братцы! Кашицу себе Для ужина варите? Хлеб да соль!Пастухи
Спасибо, служба! Хлеба кушать.Солдат
Быть так, Благодарю вас. Я устал порядком! Ну, костыли мои, вам роздых! Рядом Я на траву вас положу и подле Присяду сам. Да, верст пятнадцать Ушел я в вечер.1-й пастух
А идешь откуда?Солдат
А из Литвы, из Виленской больницы. Вот как из матушки России ладно Мы выгнали гостей незваных, — я На первой заграничной перестрелке, Беда такая, без ноги остался! Товарищи меня стащили в Вильну; С год лекаря и тем и сем лечили И вот каким, злодеи, отпустили. Теперь на костылях бреду кой-как На родину, за Курск, к жене и сестрам.2-й пастух
На руку, обопрись! Да не сюда, А на тулуп раскинутый ложися!Солдат
Спасибо, друг, господь тебе заплатит! — Ах, братцы! Что за рай земной у вас Под Курском! В этот вечер словно чудом Помолодел я, вволю надышавшись Теплом и запахом целебным! Любо, Легко мне в воздухе родном, как рыбке В реке студеной! В царствах многих был я! Попробовал везде весны и лета! В иных краях земля благоухает, Как в светлый праздник ручка генеральши — И дорого, и чудно, да не мило, Не так, как тут! Здесь целым телом дышишь, Здесь все суставчики в себя впивают Простой, но сладкий, теплый воздух; словом, Здесь нежишься, как в бане старых бар! И спать не хочется! Играл бы всё До солнышка в девичьем хороводе.3-й пастух
И мы б, земляк, играть не отказались! Да лих нельзя! Село далёко! Стадо ж Покинуть без присмотра, положившись Лишь на собак, опасно, сам ты знаешь! Как быть! Но вот и кашица поспела! Перекрестяся, примемся за ужин. А после, если к сну тебя не клонит, То расскажи нам (говоришь ты складно) Про старое свое житье-бытье! Я чай, везде бывал ты, все видал! И домовых, и водяных, и леших, И маленьких людей, живущих там, Где край земли сошелся с краем неба, Где можно в облако любое вбить Крючок иль гвоздь и свой кафтан повесить.Солдат
Вздор мелешь, малый! Уши вянут! Полно! Старухи врут вам, греясь на печи, А вы им верите! Какие черти Крещеному солдату захотят Представиться? Да ныне ж человек Лукавей беса! Нет, другое чудо Я видел, и не в ночь до петухов, Но днем оно пред нами совершилось! Вы слышали ль, как заступился бог За православную державу нашу, Как сжалился он над Москвой горящей, Над бедною землею, не посевом, А вражьими ватагами покрытой — И раннюю зиму послал нам в помощь, Зиму с морозами, какие только В Николин день да около Крещенья Трещат и за щеки и уши щиплют? Свежо нам стало, а французам туго! И жалко и смешно их даже вспомнить! Окутались от стужи чем могли, Кто шитой душегрейкой, кто лохмотьем, Кто ризою поповской, кто рогожей, Убрались все, как святочные хари, И ну бежать скорее от Москвы! Недалеко ушли же. На дороге Мороз схватил их и заставил ждать Дня судного на месте преступленья: У божьей церкви, ими оскверненной, В разграбленном анбаре, у села, Сожженного их буйством! — Мы, бывало, Окончив трудный переход, сидим, Как здесь, вокруг огня и варим щи, А около лежат, как это стадо, Замерзлые французы. Как лежат! Когда б не лица их и не молчанье, Подумал бы, живые на биваке Комедию ломают. Тот уткнулся В костер горящий головой, тот лошадь Взвалил, как шубу, на себя, другой Ее копыта гложет; те ж, как братья, Обнялись крепко и друг в друга зубы Вонзили, как враги!Пастухи
Ух! страшно, страшно!Солдат
А между тем курьерский колокольчик, Вот как теперь, и там гремит, и там Прозвякнет на морозе; отовсюду Везут известья о победах в Питер И в обгорелую Москву.1-й пастух
Э, братцы, Смотрите, вот и к нам тележка скачет, И офицер про что-то ямщику Кричит, ямщик уж держит лошадей; Не спросят ли о чем нас?Солдат
Помоги Мне встать: солдату вытянуться надо…Офицер
(подъехав)
Огня, ребята, закурить мне трубку!Солдат
В минуту, ваше благородье!Офицер
Ба! Товарищ, ты как здесь?Солдат
К жене и сестрам Домой тащуся, ваше благородье! За рану в чистую уволен!Офицер
С богом! Снеси ж к своим хорошее известье: Мы кончили войну в столице вражьей, В Париже русские отмстили честно Пожар московский! Ну, прости, товарищ!Солдат
Прощенья просим, ваше благородье!Офицер уезжает.
Благословение господне с нами Отныне и вовеки буди! Вот как Господь утешил матушку Россию! Молитесь, братцы, божьи чудеса Не совершаются ль пред нами явно!1829
Александр Сергеевич Пушкин
1799–1837
Вольность{162} Ода
Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица! Где ты, где ты, гроза царей, Свободы гордая певица? Приди, сорви с меня венок, Разбей изнеженную лиру… Хочу воспеть Свободу миру, На тронах поразить порок. Открой мне благородный след Того возвышенного галла{163}, Кому сама средь славных бед Ты гимны смелые внушала. Питомцы ветреной Судьбы, Тираны мира! трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите, Восстаньте, падшие рабы! Увы! куда ни брошу взор — Везде бичи, везде железы, Законов гибельный позор, Неволи немощные слезы; Везде неправедная Власть В сгущенной мгле предрассуждений Воссела — Рабства грозный Гений И Славы роковая страсть. Лишь там над царскою главой Народов не легко страданье, Где крепко с Вольностью святой Законов мощных сочетанье; Где всем простерт их твердый щит, Где сжатый верными руками Граждан над равными главами Их меч без выбора скользит И преступленье свысока Сражает праведным размахом; Где не подкупна их рука Ни алчной скупостью, ни страхом. Владыки! вам венец и трон Дает Закон — а не природа; Стоите выше вы народа, Но вечный выше вас Закон. И горе, горе племенам, Где дремлет он неосторожно, Где иль народу, иль царям Законом властвовать возможно! Тебя в свидетели зову, О мученик ошибок славных{164}, За предков в шуме бурь недавных Сложивший царскую главу. Восходит к смерти Людовик В виду безмолвного потомства, Главой развенчанной приник К кровавой плахе Вероломства. Молчит Закон — народ молчит, Падет преступная секира… И се — злодейская порфира{165} На галлах скованных лежит. Самовластительный Злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, Твою погибель, смерть детей С жестокой радостию вижу. Читают на твоем челе Печать проклятия народы, Ты ужас мира, стыд природы, Упрек ты богу на земле. Когда на мрачную Неву Звезда полуночи сверкает И беззаботную главу Спокойный сон отягощает, Глядит задумчивый певец На грозно спящий средь тумана Пустынный памятник тирана{166}, Забвенью брошенный дворец — И слышит Клии{167} страшный глас За сими страшными стенами, Калигулы последний час{168} Он видит живо пред очами, Он видит — в лентах и звездах, Вином и злобой упоенны, Идут убийцы потаенны, На лицах дерзость, в сердце страх. Молчит неверный часовой, Опущен молча мост подъемный, Врата отверсты в тьме ночной Рукой предательства наемной… О стыд! о ужас наших дней! Как звери, вторглись янычары{169}!.. Падут бесславные удары… Погиб увенчанный злодей. И днесь учитесь, о цари: Ни наказанья, ни награда, Ни кров темниц, ни алтари Не верные для вас ограды. Склонитесь первые главой Под сень надежную Закона, И станут вечной стражей трона Народов вольность и покой.1817
К Чаадаеву{170}
Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман; Но в нас горит еще желанье, Под гнетом власти роковой Нетерпеливою душой Отчизны внемлем призыванье. Мы ждем с томленьем упованья Минуты вольности святой, Как ждет любовник молодой Минуты верного свиданья. Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы! Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена!1818
Деревня{171}
Приветствую тебя, пустынный уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, Где льется дней моих невидимый поток На лоне счастья и забвенья! Я твой: я променял порочный двор цирцей, Роскошные пиры, забавы, заблужденья На мирный шум дубров, на тишину полей, На праздность вольную, подругу размышленья. Я твой: люблю сей темный сад С его прохладой и цветами, Сей луг, уставленный душистыми скирдами, Где светлые ручьи в кустарниках шумят. Везде передо мной подвижные картины: Здесь вижу двух озер лазурные равнины, Где парус рыбаря белеет иногда, За ним и ряд холмов и нивы полосаты, Вдали рассыпанные хаты, На влажных берегах бродящие стада, Овины дымные и мельницы крилаты; Везде следы довольства и труда… Я здесь, от суетных оков освобожденный, Учуся в истине блаженство находить, Свободною душой закон боготворить, Роптанью не внимать толпы непросвещенной, Участьем отвечать застенчивой мольбе И не завидовать судьбе Злодея иль глупца — в величии неправом. Оракулы веков{172}, здесь вопрошаю вас! В уединеньи величавом Слышнее ваш отрадный глас; Он гонит лени сон угрюмый, К трудам рождает жар во мне, И ваши творческие думы В душевной зреют глубине. Но мысль ужасная здесь душу омрачает: Среди цветущих нив и гор Друг человечества{173} печально замечает Везде невежества убийственный позор. Не видя слез, не внемля стона, На пагубу людей избранное судьбой, Здесь барство дикое, без чувства, без закона, Присвоило себе насильственной лозой И труд, и собственность, и время земледельца. Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, Здесь рабство тощее влачится по браздам Неумолимого владельца. Здесь тягостный ярем до гроба все влекут, Надежд и склонностей в душе питать не смея, Здесь девы юные цветут Для прихоти бесчувственной злодея. Опора милая стареющих отцов, Младые сыновья, товарищи трудов, Из хижины родной идут собой умножить Дворовые толпы измученных рабов. О, если б голос мой умел сердца тревожить! Почто в груди моей горит бесплодный жар И не дан мне судьбой витийства грозный дар? Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный И рабство, падшее по манию царя, И над отечеством свободы просвещенной Взойдет ли наконец прекрасная заря?1819
«Свободы сеятель пустынный…»
Изыде сеятель сеяти семена своя.
Свободы сеятель пустынный, Я вышел рано, до звезды; Рукою чистой и безвинной В порабощенные бразды Бросал живительное семя — Но потерял я только время, Благие мысли и труды… Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич.1823
П.А. Осиповой{174}
Быть может, уж недолго мне В изгнаньи мирном оставаться, Вздыхать о милой старине И сельской музе в тишине Душой беспечной предаваться. Но и вдали, в краю чужом, Я буду мыслию всегдашней Бродить Тригорского кругом, В лугах, у речки, за холмом, В саду под сенью лип домашней. Когда померкнет ясный день, Одна из глубины могильной Так иногда в родную сень Летит тоскующая тень На милых бросить взор умильный.1825
Пророк{175}
Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился,— И шестикрылый серафим На перепутье мне явился. Перстами легкими как сон Моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он,— И их наполнил шум и звон: И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье. И он к устам моим приник, И вырвал грешный мой язык, И празднословный и лукавый, И жало мудрыя змеи В уста замершие мои Вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, И бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей».1826
«Во глубине сибирских руд…»{176}
Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье, Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье. Несчастью верная сестра, Надежда в мрачном подвемелье Разбудит бодрость и веселье, Придет желанная пора: Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы, Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глас. Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут — и свобода Вас примет радостно у входа. И братья меч вам отдадут.1821
«Еще дуют холодные ветры…»
Еще дуют холодные ветры И наносят утренни морозы, Только что на проталинах весенних Показались ранние цветочки; Как из чудного царства воскового, Из душистой келейки медовой Вылетала первая пчелка, Полетела по ранним цветочкам О красной весне поразведать, Скоро ль будет гостья дорогая, Скоро ль луга позеленеют, Скоро ль у кудрявой у березы Распустятся клейкие листочки, Зацветет черемуха душиста.1828
«Зима. Что делать нам в деревне?..»
(2 ноября)
Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю Слугу, несущего мне утром чашку чаю, Вопросами: тепло ль? утихла ли метель? Пороша есть иль нет? и можно ли постель Покинуть для седла, иль лучше до обеда Возиться с старыми журналами соседа? Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня, И рысью по полю при первом свете дня; Арапники в руках, собаки вслед за нами; Глядим на бледный снег прилежными глазами; Кружимся, рыскаем и поздней уж порой, Двух зайцев протравив, являемся домой. Куда как весело! Вот вечер: вьюга воет; Свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет! По капле, медленно глотаю скуки яд. Читать хочу; глаза над буквами скользят, А мысли далеко… Я книгу закрываю; Беру перо, сижу; насильно вырываю У музы дремлющей несвязные слова. Ко звуку звук нейдет… Теряю все права Над рифмой, над моей прислужницею странной: Стих вяло тянется, холодный и туманный. Усталый, с лирою я прекращаю спор, Иду в гостиную; там слышу разговор О близких выборах, о сахарном заводе; Хозяйка хмурится в подобие погоде, Стальными спицами проворно шевеля, Иль про червонного гадает короля. Тоска! Так день за днем идет в уединенье! Но если под вечер в печальное селенье, Когда за шашками сижу я в уголке, Приедет издали в кибитке иль возке Нежданная семья: старушка, две девицы (Две белокурые, две стройные сестрицы),— Как оживляется глухая сторона! Как жизнь, о боже мой, становится полна! Сначала косвенно-внимательные взоры, Потом слов несколько, потом и разговоры, А там и дружный смех, и песни вечерком, И вальсы резвые, и шепот за столом, И взоры томные, и ветреные речи, На узкой лестнице замедленные встречи; И дева в сумерки выходит на крыльцо: Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо! Но бури севера не вредны русской розе. Как жарко поцелуй пылает на морозе! Как дева русская свежа в пыли снегов!1829
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…»
Брожу ли я вдоль улиц шумных, Вхожу ль во многолюдный храм, Сижу ль меж юношей безумных, Я предаюсь моим мечтам. Я говорю: промчатся годы, И сколько здесь ни видно нас, Мы все сойдем под вечны своды — И чей-нибудь уж близок час. Гляжу ль на дуб уединенный, Я мыслю: патриарх лесов Переживет мой век забвенный, Как пережил он век отцов. Младенца ль милого ласкаю, Уже я думаю: прости! Тебе я место уступаю: Мне время тлеть, тебе цвести. День каждый, каждую годину Привык я думой провождать, Грядущей смерти годовщину Меж их стараясь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странствии, в волнах? Или соседняя долина Мой примет охладелый прах? И хоть бесчувственному телу Равно повсюду истлевать, Но ближе к милому пределу Мне все б хотелось почивать. И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть, И равнодушная природа Красою вечною сиять.1829
«Два чувства дивно близки нам…»
Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу — Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам. На них основано от века, По воле бога самого, Самостоянье человека, Залог величия его.1830
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый…»
Румяный критик мой, насмешник толстопузый, Готовый век трунить над нашей томной музой, Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой. Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий, За ними чернозем, равнины скат отлогий, Над ними серых туч густая полоса. Где нивы светлые? где темные леса? Где речка? На дворе у низкого забора Два бедных деревца стоят в отраду взора, Два только деревца. И то из них одно Дождливой осенью совсем обнажено, И листья на другом, размокнув и желтея, Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея{177}. И только. На дворе живой собаки нет. Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед. Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка И кличет издали ленивого попенка, Чтоб тот отца позвал да церковь отворил. Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил. Что ж ты нахмурился? — Нельзя ли блажь оставить! И песенкою нас веселой позабавить? —_______
Куда же ты? — В Москву, чтоб графских именин Мне здесь не прогулять. — Постой, а карантин! Ведь в нашей стороне индейская зараза{178}. Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа, Бывало, сиживал покорный твой слуга; Что, брат? уж не трунишь, тоска берет — ага!1830
Труд
Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный, Плату приявший свою, чуждый работе другой? Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи, Друга Авроры златой, друга пенатов святых?1830
Клеветникам России{179}
О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? волнения Литвы{180}? Оставьте: это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою Враждуют эти племена; Не раз клонилась под грозою То их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре: Кичливый лях иль верный росс? Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос. Оставьте нас: вы не читали Сии кровавые скрижали; Вам непонятна, вам чужда Сия семейная вражда; Для вас бемолвны Кремль и Прага{181}; Бесмысленно прельщает вас Борьбы отчаянной отвага — И ненавидите вы нас… За что ж? ответствуйте: за то ли, Что на развалинах пылающей Москвы Мы не признали наглой воли Того, под кем дрожали вы{182}? За то ль, что в бездну повалили Мы тяготеющий над царствами кумир И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир?.. Вы грозны на словах — попробуйте на деле! Иль старый богатырь, покойный на постеле, Не в силах завинтить свой измаильский штык{183}? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до пламенной Колхиды, От потрясенного Кремля До стен недвижного Китая, Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля?.. Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов.1831
«…Вновь я посетил…»{184}
…Вновь я посетил Тот уголок земли, где я провел Изгнанником два года незаметных. Уж десять лет ушло с тех пор — и много Переменилось в жизни для меня, И сам, покорный общему закону, Переменился я — но здесь опять Минувшее меня объемлет живо, И, кажется, вечор еще бродил Я в этих рощах. Вот опальный домик, Где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет — уж за стеною Не слышу я шагов ее тяжелых, Ни кропотливого ее дозора. Вот холм лесистый, над которым часто Я сиживал недвижим — и глядел На озеро, воспоминая с грустью Иные берега, иные волны…{185} Меж нив златых и пажитей зеленых Оно синея стелется широко; Через его неведомые воды Плывет рыбак и тянет за собой Убогий невод. По брегам отлогим Рассеяны деревни — там за ними Скривилась мельница, насилу крылья Ворочая при ветре… На границе Владений дедовских, на месте том, Где в гору подымается дорога, Изрытая дождями, три сосны Стоят — одна поодаль, две другие Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо Я проезжал верхом при свете лунном, Знакомым шумом шорох их вершин Меня приветствовал. По той дороге Теперь поехал я и пред собою Увидел их опять. Они всё те же, Всё тот же их, знакомый уху шорох — Но около корней их устарелых (Где некогда все было пусто, голо) Теперь младая роща разрослась, Зеленая семья; кусты теснятся Под сенью их как дети. А вдали Стоит один угрюмый их товарищ, Как старый холостяк, и вкруг него По-прежнему все пусто. Здравствуй, племя Младое, незнакомое! не я Увижу твой могучий поздний возраст, Когда перерастешь моих знакомцев И старую главу их заслонишь От глаз прохожего. Но пусть мой внук Услышит ваш приветный шум, когда, С приятельской беседы возвращаясь, Веселых и приятных мыслей полон, Пройдет он мимо вас во мраке ночи И обо мне вспомянет.1835
(Из Пиндемонти){186}
Не дорого ценю я громкие права, От коих не одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги Мне в сладкой участи оспоривать налоги Или мешать царям друг с другом воевать; И мало горя мне, свободно ли печать Морочит олухов, иль чуткая цензура В журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ль, слова, слова, слова[17]{187}. Иные, лучшие, мне дороги права; Иная, лучшая, потребна мне свобода: Зависеть от царя, зависеть от народа Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому Отчета не давать, себе лишь самому Служить и угождать; для власти, для ливреи Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; По прихоти своей скитаться здесь и там, Дивясь божественным природы красотам, И пред созданьями искусств и вдохновенья Трепеща радостно в восторгах умиленья. Вот счастье! вот права…1836
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
Exedi monumentum{188}
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа.{189} Нет, весь я не умру — душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит — И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгус, и друг степей калмык, И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал. Веленью божию, о муза, будь послушна, Обиды не страшась, не требуя венца, Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспоривай глупца.1836
Евгений Абрамович Баратынский
1800–1844
В альбом
Земляк! в стране чужой, суровой Сошлись мы вновь, и сей листок Ждет от меня заветных строк На память для разлуки новой. Ты любишь милую страну, Где жизнь и радость мы узнали, Где зрели первую весну, Где первой страстию пылали. Покинул я предел родной! Так и с тобою, друг мой милый, Здесь проведу я день, другой, И, как узнать? в стране чужой Окончу я мой век унылый; А ты увидишь дом отцов, А ты узришь поля родные, И прошлых счастливых годов Вспомянешь были золотые. Но где товарищ, где поэт, Тобой с младенчества любимый? Он совершил судьбы завет, Судьбы, враждебной с юных лет И до конца непримиримой! Когда ж стихи мои найдешь, Где складу нет, но чувство живо, Ты их задумчиво прочтешь, Глаза потупишь молчаливо… И тихо лист перевернешь.1819
Родина
Я возвращуся к вам, поля моих отцов, Дубравы мирные, священный сердцу кров! Я возвращуся к вам, домашние иконы! Пускай другие чтут приличия законы; Пускай другие чтут ревнивый суд невежд; Свободный наконец от суетных надежд, От беспокойных снов, от ветреных желаний, Испив безвременно всю чашу испытаний, Не призрак счастия, но счастье нужно мне. Усталый труженик, спешу к родной стране Заснуть желанным сном под кровлею родимой. О дом отеческий! о край всегда любимый! Родные небеса! незвучный голос мой В стихах задумчивых вас пел в стране чужой, Вы мне повеете спокойствием и счастьем. Как в пристани пловец, испытанный ненастьем, С улыбкой слушает, над бездною воссев, И бури грозный свист и волн мятежный рев; Так, небо не моля о почестях и злате, Спокойный домосед в моей безвестной хате, Укрывшись от толпы взыскательных судей, В кругу друзей своих, в кругу семьи своей, Я буду издали глядеть на бури света. Нет, нет, не отменю священного обета! Пускай летит к шатрам бестрепетный герой; Пускай кровавых битв любовник молодой С волненьем учится, губя часы златые, Науке размерять окопы боевые — Я с детства полюбил сладчайшие труды. Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды, Почтеннее меча; полезный в скромной доле, Хочу возделывать отеческое поле. Оратай, ветхих дней достигший над сохой, В заботах сладостных наставник будет мой; Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы Помогут утучнить наследственные нивы. А ты, мой старый друг, мой верный доброхот, Усердный пестун мой, ты, первый огород На отческих полях разведший в дни былые! Ты поведешь меня в сады свои густые, Деревьев и цветов расскажешь имена; Я сам, когда с небес роскошная весна Повеет негою воскреснувшей природе, С тяжелым заступом явлюся в огороде; Приду с тобой садить коренья и цветы. О подвиг благостный! не тщетен будешь ты: Богиня пажитей признательней фортуны{190}! Для них безвестный век, для них свирель и струны; Они доступны всем и мне за легкий труд Плодами сочными обильно воздадут. От гряд и заступа спешу к полям и плугу; А там, где ручеек по бархатному лугу Катит задумчиво пустынные струи, В весенний ясный день я сам, друзья мои, У брега насажу лесок уединенный, И липу свежую и тополь осребренный; В тени их отдохнет мой правнук молодой; Там дружба некогда сокроет пепел мой И вместо мрамора положит на гробницу И мирный заступ мой и мирную цевницу.1821
Стансы
Судьбой наложенные цепи{191} Упали с рук моих, и вновь Я вижу вас, родные степи{192}, Моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, Степного воздуха струи, На вас я в неге бездыханной Остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще Лес на покате двух холмов И скромный дом в садовой чаще — Приют младенческих годов. Промчалось ты, златое время! С тех пор по свету я бродил И наблюдал людское племя И, наблюдая, восскорбил. Ко благу пылкое стремленье От неба было мне дано; Но обрело ли разделенье, Но принесло ли плод оно?.. Я братьев знал{193}, но сны младые Соединили нас на миг: Далече бедствуют иные, И в мире нет уже других. Я твой, родимая дуброва! Но от насильственных судьбин Молить хранительного крова К тебе пришел я не один. Привел под сень твою святую Я соучастницу в мольбах — Мою супругу молодую С младенцем тихим на руках. Пускай, пускай в глуши смиренной, С ней, милой, быт мой утая, Других урочищей вселенной Не буду помнить бытия. Пускай, о свете не тоскуя, Предав забвению людей, Кумиры сердца сберегу я Одни, одни в любви моей.1827
«Есть милая страна, есть угол на земле…»{194}
Есть милая страна, есть угол на земле, Куда, где б ни были — средь буйственного стана, В садах Армидиных{195}, на быстром корабле, Браздящем весело равнины океана,— Всегда уносимся мы думою своей; Где, чужды низменных страстей, Житейским подвигам предел мы назначаем, Где мир надеемся забыть когда-нибудь И вежды старые сомкнуть Последним, вечным сном желаем. Я помню ясный, чистый пруд; Под сению берез ветвистых, Средь мирных вод его три острова цветут; Светлея нивами меж рощ своих волнистых, За ним встает гора, пред ним в кустах шумит И брызжет мельница. Деревня, луг широкой, А там счастливый дом… туда душа летит, Там не хладел бы я и в старости глубокой! Там сердце томное, больное обрело Ответ на все, что в нем горело, И снова для любви, для дружбы расцвело И счастье вновь уразумело. Зачем же томный вздох и слезы на глазах? Она, с болезненным румянцем на щеках, Она, которой нет{196}, мелькнула предо мною. Почий, почий легко под дерном гробовым: Воспоминанием живым Не разлучимся мы с тобою! Мы плачем… но прости! Печаль любви сладка. Отрадны слезы сожаленья! Не то холодная, суровая тоска, Сухая скорбь разуверенья.1834
На посев леса
Опять весна; опять смеется луг, И весел лес своей младой одеждой, И поселян неутомимый плуг Браздит поля с покорством и надеждой. Но нет уже весны в душе моей, Но нет уже в душе моей надежды, Уж дольный мир уходит от очей, Пред вечным днем я опускаю вежды. Уж та зима главу мою сребрит, Что греет сев для будущего мира, Но праг земли не перешел пиит,— К ее сынам еще взывает лира. Велик господь! Он милосерд, но прав: Нет на земле ничтожного мгновенья; Прощает он безумию забав, Но никогда пирам злоумышленья. Кого измял души моей порыв, Тот вызвать мог меня на бой кровавый; Но подо мной, сокрытый ров изрыв, Свои рога венчал он падшей славой! Летел душой я к новым племенам, Любил, ласкал их пустоцветный колос, Я дни извел, стучась к людским сердцам, Всех чувств благих я подавал им голос. Ответа нет! Отвергнул струны я, Да хрящ другой{197} мне будет плодоносен! И вот ему несет рука моя Зародыши елей, дубов и сосен. И пусть! Простяся с лирою моей, Я верую: ее заменят эти, Поэзии таинственных скорбей, Могучие и сумрачные дети.1846
Александр Иванович Одоевский
1802–1839
«Струн вещих пламенные звуки…»{198}
Струн вещих пламенные звуки До слуха нашего дошли, К мечам рванулись наши руки, И — лишь оковы обрели. Но будь покоен, бард; цепями, Своей судьбой гордимся мы, И за затворами тюрьмы В душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, Из искры возгорится пламя,— И просвещенный наш народ Сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей И пламя вновь зажжем свободы: Она нагрянет на царей, И радостно вздохнут народы.1827
Дева. 1610 г
К Василию Шуйскому
Явилась мне божественная дева{199}; Зеленый лавр вился в ее власах; Слова любви, и жалости, и гнева У ней дрожали на устах. «Я вам чужда; меня вы позабыли, Отвыкли вы от красоты моей, Но вы в груди на век ли потушили Святое пламя древних дней? О русские! Я вам была родная: Дышала я в отечестве славян, И за меня стояла Русь святая, И юный пел меня Боян{200}. Прошли века; Россия задремала; Но тягостный был прерываем сон: И часто я с восторгом низлетала На вещий колокола звон. Моголов бич{201} нагрянул: искаженный Стенал во прах поверженный народ, И цепь свою, к неволе приученный, Передавал из рода в род. Моголец пал; но рабские уставы Народ почел святою стариной. У ног князей, своей не помня славы, Забыл он даже образ мой. Где ж русские? где предков дух и сила? Развеяна и самая молва, Пожрала их нещадная могила, И стерлись надписи слова. Без чувств любви, без красоты, без жизни Сыны славян, полмира мертвецов, Моей понять не могут укоризны От оглушающих оков. Безумный взор возводят, и молитву Постыдную возносят к небесам. Пора, пора начать святую битву, К мечам! за родину! к мечам! Да смолкнет бич, лиющий кровь родную! Да вспыхнет бой! К мечам с восходом дня! Но где ж мечи за родину святую, За Русь, за славу, за меня? Сверкает меч, и гибнут, как герои, Но не за Русь, а за поляков честь, Когда ж, когда мои нагрянут строи, Исполнят вековую месть? Что медлишь ты? Из Западного мира, Где я дышу, где царствую одна И где давно кровавая порфира С богов неправды сорвана, Где рабства нет, но братья, но граждане Боготворят божественность мою И тысячи, как волны в океане, Слились в единую семью,— Из стран моих, и вольных и счастливых, К тебе, на твой я прилетела зов Узреть чело тиранов горделивых И внять стенаниям рабов. Но я твое исполнила призванье, Но сердцем и одним я дорожу, И на души высокое желанье Благословенье низвожу».«Что за кочевья чернеются…»{202}
Что за кочевья чернеются Средь пылающих огней — Идут под затворы молодцы За святую Русь. За святую Русь неволя и казни — Радость и слава. Весело ляжем живые За святую Русь. Дикие кони стреножены, Дремлет дикий их пастух; В юртах засыпая, узники Видят во сне Русь. За святую Русь неволя и казни — Радость и слава. Весело ляжем живые За святую Русь. Шепчут деревья над юртами, Стража окликает страж,— Вещий голос сонным слышится С родины святой. За святую Русь неволя и казни — Радость и слава. Весело ляжем живые За святую Русь. Зыблется светом объятая Сосен цепь над рядом юрт. Звезды светлы, как видения, Под навесом юрт. За святую Русь неволя и казни — Радость и слава. Весело ляжем живые За святую Русь. Спите, равнины угрюмые. Вы забыли, как поют. Пробудитесь! Песни вольные Оглашают вас. Славим нашу Русь, в неволе поем Вольность святую. Весело ляжем живые В могилу за святую Русь.1830
Николай Михайлович Языков
1803–1846
Моя родина
«Где твоя родина, певец молодой? Там ли, где льется лазурная Рона{203}; Там ли, где пели певцы Альбиона{204}; Там ли, где бился Арминий-герой{205}?» — «Не там, где сражался герой Туискона{206} За честь и свободу отчизны драгой; Не там, где носился глас барда{207} живой; Не там, где струится лазурная Рона». «Где твоя родина, певец молодой?» — «Где берег уставлен рядами курганов; Где бились славяне при песнях баянов{208}; Где Волга, как море, волнами шумит… Там память героев, там край вдохновений; Там всё, что мне мило, чем сердце горит; Туда горделивый певец полетит, И струны пробудят минувшего гений!» «Кого же прославит певец молодой?» — «Певца восхищают могучие деды; Он любит славянских героев победы, Их нравы простые, их жар боевой; Он любит долины, где бились народы, Пылая к отчизне любовью святой; Где падали силы Орды Золотой; Где пелися песни войны и свободы». «Кого же прославит певец молодой?» — «От звука родного, с их бранною славой, Как звезды, блистая красой величавой, Восстанут герои из мрака теней: Вы, страшные грекам{209}, и ты, наш Арминий{210}, Младый, но ужасный средь вражьих мечей, И ты, сокрушитель татарских цепей{211}, И ты, победивший врагов и пустыни{212}!» «Но кто ж молодого певца наградит?» — «Пылает он жаждой награды высокой, Он борется смело с судьбою жестокой, И, гордый, всесильной судьбы не винит… Так бурей гонимый, средь мрака ночного, Пловец по ревущим пучинам летит, На грозное небо спокойно глядит И взорами ищет светила родного!» «Но кто же младого певца наградит?» — «Потомок героев, как предки, свободный, Певец не унизит души благородной От почестей света и пышных даров. Он славит отчизну — и в гордости смелой Не занят молвою, не терпит оков: Он ждет себе славы — за далью веков… И взоры сверкают надеждой веселой!»Ноябрь 1822
Евпатий{213}
«Ты знаешь ли, витязь, ужасную весть? — В рязанские стены вломились татары! Там сильные долго сшибались удары, Там долго сражалась с насилием честь, Но все победили Батыевы рати: Наш град — пепелище, и князь наш убит!» Евпатию бледный гонец говорит, И, страшно бледнея, внимает Евпатий. «О витязь! Я видел сей день роковой: Багровое пламя весь град обхватило, Как башня, спрямилось, как буря, завыло; На стогнах смертельный свирепствовал бой, И крики последних молитв и проклятий В дыму заглушали звенящий булат — Все пало… и небо стерпело сей ад!» Ужасно бледнея, внимает Евпатий. Где-где по широкой долине огонь Сверкает во мраке ночного тумана: То грозная рать победителя-хана Покоится; тихи воитель и конь; Лишь изредка, черной тревожимый грезой, Татарин впросонках с собой говорит, Иль, вздрогнув, безмолвный, поднимет свой щит, Иль схватит свое боевое железо. Вдруг… что там за топот в ночной тишине? «На битву, на битву!» взывают татары. Откуда ж свершитель отчаянной кары? Не все ли погибло в крови и в огне? Отчизна, отчизна! под латами чести Есть сильное чувство, живое, одно… Полмертвого руку подъемлет оно С последним ударом решительной мести. Не синее море кипит и шумит, Почуя незапный набег урагана: Шумят и волнуются ратники хана; Оружие блещет, труба дребезжит, Толпы за толпами, как тучи густыя, Дружину отважных стесняют кругом; Сто копий сражаются с русским копьем… И пало геройство под силой Батыя. Редеет ночного тумана покров, Утихла долина убийства и славы. Кто сей на долине убийства и славы Лежит, окруженный телами врагов? Уста уж не кличут бестрепетных братии, Уж кровь запеклася в отверстиях лат, А длань еще держит кровавый булат: Сей падший воитель свободы — Евпатий!1824
Элегия
Свободы гордой вдохновенье! Тебя не слушает народ: Оно молчит, святое мщенье, И на царя не восстает. Пред адской силой самовластья, Покорны вечному ярму, Сердца не чувствуют несчастья И ум не верует уму. Я видел рабскую Россию: Перед святыней алтаря, Гремя цепьми, склонивши выю, Она молилась за царя.24 января 1824
Родина
Краса полуночной природы, Любовь очей, моя страна! Твоя живая тишина, Твои лихие непогоды, Твои леса, твои луга, И Волги пышные брега, И Волги радостные воды — Всё мило мне, как жар стихов, Как жажда пламенная славы, Как шум прибережной дубравы И разыгравшихся валов. Всегда люблю я, вечно живы На крепкой памяти моей Предметы юношеских дней И сердца первые порывы; Когда волшебница-мечта Красноречивые места Мне оживляет и рисует, Она свежа, она чиста, Она блестит, она ликует. Но там, где русская природа, Как наших дедов времена, И величава, и грозна, И благодатна, как свобода,— Там вяло дни мои лились, Там не внимают вдохновенью, И люди мирно обреклись Непринужденному забвенью. Целуй меня, моя Лилета, Целуй, целуй! Опять с тобой Восторги вольного поэта, И сила страсти молодой. И голос лиры вдохновенной! Покинув край непросвещенный, Душой высокое любя, Опять тобой воспламененный, Я стану петь и шум военный, И меченосцев, и тебя!Январь 1825
К няне А. С. Пушкина{214}
Свет Родионовна, забуду ли тебя? В те дни, как сельскую свободу возлюбя, Я покидал для ней и славу, и науки, И немцев, и сей град профессоров и скуки{215}, Ты, благодатная хозяйка сени той, Где Пушкин, не сражен суровою судьбой, Презрев людей, молву, их ласки, их измены, Священнодействовал при алтаре камены,— Всегда приветами сердечной доброты Встречала ты меня, мне здравствовала ты, Когда чрез длинный ряд полей, под зноем лета, Ходил я навещать изгнанника-поэта И мне сопутствовал приятель давний твой{216}, Ареевых наук{217} питомец молодой. Как сладостно твое святое хлебосольство Нам баловало вкус и жажды своевольство; С каким радушием — красою древних лет — Ты набирала нам затейливый обед! Сама и водку нам, и брашна подавала, И соты, и плоды, и вина уставляла На милой тесноте старинного стола! Ты занимала нас — добра и весела — Про стародавних бар пленительным рассказом; Мы удивлялися почтенным их проказам, Мы верили тебе — и смех не прерывал Твоих бесхитростных суждений и похвал; Свободно говорил язык словоохотный, И легкие часы летали беззаботно!17 мая 1827
Песня
Из страны, страны далекой, С Волги-матушки широкой, Ради сладкого труда, Ради вольности высокой Собралися мы сюда. Помним холмы, помним долы, Наши храмы, наши села, И в краю, краю чужом Мы пируем пир веселый И за родину мы пьем. Благодетельною силой С нами немцев подружило Откровенное вино; Шумно, пламенно и мило Мы гуляем заодно. Но с надеждою чудесной Мы стакан, и полновесный, Нашей Руси — будь она Первым царством в поднебесной, И счастлива и славна!1827
Ау!
Голубоокая, младая, Мой чернобровый ангел рая! Ты, мной воспетая давно, Еще в те дни, как пел я радость, И жизни праздничную сладость, Искрокипучее вино,— Тебе привет мой издалеча, От москворецких берегов — Туда, где звонким звоном веча Моих пугалась ты стихов; Где странно юность мной играла, Где в одинокий мой приют То заходил бессонный труд, То ночь с гремушкой забегала! Пестро, неправильно я жил! Там все, чем бог добра и света Благословляет многи лета Тот край, все: бодрость чувств и сил, Ученье, дружбу, вольность нашу, Гульбу, шум, праздность, лень — я слил В одну торжественную чашу, И пил да пел… я долго пил! Голубоокая, младая, Мой чернобровый ангел рая! Тебя, звезду мою, найдет Поэта вестник расторопный, Мой бойкий ямб четверостопный, Мой говорливый скороход, Тебе он скажет весть благую: Да, я покинул наконец Пиры, беспечность кочевую, Я, голосистый их певец! Святых восторгов просит лира — Она чужда тех буйных лет, И вновь из прелести сует Не сотворит себе кумира! Я здесь! — Да здравствует Москва! Вот небеса мои родныя! Здесь наша матушка-Россия Семисотлетняя жива! Здесь все бывало: плен, свобода, Орда, и Польша, и Литва, Французы, лавр и хмель народа, Все, все!.. Да здравствует Москва! Какими думами украшен Сей холм давнишних стен и башен, Бойниц, соборов и палат! Здесь наших бед и нашей славы Хранится повесть! Эти главы Святым сиянием горят! О! проклят будь, кто потревожит Великолепье старины; Кто на нее печать наложит Мимоходящей новизны! Сюда! на дело песнопений, Поэты наши! Для стихов В Москве ищите русских слов, Своенародных вдохновений! Как много мне судьба дала! Денницей ярко-пурпуровой Как ясно, тихо жизни новой Она восток мне убрала! Не пьян полет моих желаний; Свобода сердца весела; И стихотворческие длани К струнам — и лира ожила! Мой чернобровый ангел рая! Моли судьбу, да всеблагая Не отнимает у меня Ни одиночества дневного, Ни одиночества ночного, Ни дум деятельного дня, Ни тихих снов ленивой ночи! И скромной песнию любви Я воспою лазурны очи, Ланиты свежие твои, Уста сахарны, груди полны, И белизну твоих грудей, И черных, девственных кудрей На ней блистающие волны. Твоя мольба всегда верна! И мой обет — он совершится! Мечта любовью раскипится, И в звуки выльется она! И будут звуки те прекрасны, И будет сладость их нежна, Как сон пленительный и ясный, Тебя поднявший с ложа сна!1831
К. К. Павловой{218}
Хвалю я вас за то, что вы Поете нам, не как иныя, Что вам отечество Россия, Вам — славной дочери Москвы! Что вам дался язык наш чудный, Метальный, звонкий, самогудный{219}, Разгульный, меткий наш язык! Ведь он не всякому по силам! А почитательницам милым Чужесловесных дум и книг Он не доступен — и не знают Они его — они болтают Другим, не русским языком Свои мечты и впечатленья: И нет на них благословенья. Они у бога нипочем! Я вас хвалю и уважаю За то, что вы родному краю Принадлежите всей душой, Что вы по-нашему поете, Хоть языки Шенье{220} и Гете{221} Послушны вам, как ваш родной. Я вас хвалю — и рад я буду, Когда пойдет ходить повсюду Моя правдивая хвала За подвиг ваш, во имя ваше: Она действительней и краше И в свете более смела, Скорей отыщет грешны души: Да слышит, кто имеет уши!1842
К не нашим{222}
О вы, которые хотите Преобразить, испортить нас И обнемечить Русь! Внемлите Простосердечный мой возглас! Кто б ни был ты, одноплеменник И брат мой: жалкий ли старик, Ее торжественный изменник, Ее надменный клеветник; Иль ты, сладкоречивый книжник, Оракул юношей-невежд, Ты, легкомысленный сподвижник Беспутных мыслей и надежд; И ты, невинный и любезный, Поклонник темных книг и слов, Восприниматель достослезный Чужих суждений и грехов; Вы, люд заносчивый и дерзкой, Вы, опрометчивый оплот Ученья школы богомерзкой, Вы все — не русский вы народ! Не любо вам святое дело И слава нашей старины; В вас не живет, в вас помертвело Родное чувство. Вы полны Не той высокой и прекрасной Любовью к родине; не тот Огонь чистейший, пламень ясный Вас поднимает; в вас живет Любовь не к истине и благу; Народный глас — он божий глас — Не он рождает в вас отвагу, Он чужд, он странен, дик для вас! Вам наши лучшие преданья Смешно, бессмысленно звучат; Могучих прадедов деянья Вам ничего не говорят: Их презирает гордость ваша. Святыня древнего Кремля, Надежда, сила, крепость наша — Ничто вам. Русская земля От вас не примет просвещенья, Вы страшны ей: вы влюблены В свои предательские мненья И святотатственные сны! Хулой и лестию своею Не вам ее преобразить, Вы, не умеющие с нею Ни жить, ни петь, ни говорить! Умолкнет ваша злость пустая, Замрет неверный ваш язык: Крепка, надежна Русь святая, И русский бог еще велик!1844
Федор Иванович Тютчев
1803–1873
«Песок сыпучий по колени…»
Песок сыпучий по колени… Мы едем — поздно — меркнет день, И сосен, по дороге, тени Уже в одну слилися тень. Черней и чаще бор глубокий — Какие грустные места! Ночь хмурая, как зверь стоокий, Глядит из каждого куста!1830
Осенний вечер
Есть в светлости осенних вечеров Умильная, таинственная прелесть: Зловещий блеск и пестрота дерев, Багряных листьев томный, легкий шелест, Туманная и тихая лазурь Над грустно сиротеющей землею, И, как предчувствие сходящих бурь, Порывистый, холодный ветр порою, Ущерб, изнеможенье — и на всем Та кроткая улыбка увяданья, Что в существе разумном мы зовем Божественной стыдливостью страданья.1830
«Неохотно и несмело…»
Неохотно и несмело Солнце смотрит на поля. Чу, за тучей прогремело, Принахмурилась земля. Ветра теплого порывы, Дальный гром и дождь порой… Зеленеющие нивы Зеленее под грозой. Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя — Пламень белый и летучий Окаймил ее края. Чаще капли дождевые, Вихрем пыль летит с полей. И раскаты громовые Все сердитей и смелей. Солнце раз еще взглянуло Исподлобья на поля — И в сияньи потонула Вся смятенная земля.6 июня 1849
«Тихой ночью, поздним летом…»
Тихой ночью, поздним летом, Как на небе звезды рдеют, Как под сумрачным их светом Нивы дремлющие зреют… Усыпительно-безмолвны, Как блестят в тиши ночной Золотистые их волны, Убеленные луной…23 июля 1849
Овстуг
«Слезы людские, о слезы людские…»
Слезы людские, о слезы людские, Льетесь вы ранней и поздней порой… Льетесь безвестные, льетесь незримые, Неистощимые, неисчислимые,— Льетесь, как льются струи дождевые В осень глухую, порою ночной.1849
Петербург
«Эти бедные селенья…»
Эти бедные селенья, Эта скудная природа — Край родной долготерпенья, Край ты русского народа! Не поймет и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя.13 августа 1855
«Есть в осени первоначальной…»
Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора — Весь день стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера… Где бодрый серп гулял и падал колос, Теперь уж пусто все — простор везде, Лишь паутины тонкий волос Блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боле, Но далеко еще до первых зимних бурь — И льется чистая и теплая лазурь На отдыхающее поле…22 августа 1851
«Ужасный сон отяготел над нами…»{223}
Ужасный сон отяготел над нами, Ужасный, безобразный сон: В крови до пят, мы бьемся с мертвецами, Воскресшими для новых похорон. Осьмой уж месяц длятся эти битвы, Геройский пыл, предательство и ложь, Притон разбойничий в дому молитвы, В одной руке распятие и нож. И целый мир, как опьяненный ложью, Все виды зла, все ухищренья зла!.. Нет, никогда так дерзко правду божью Людская кривда к бою не звала!.. И этот клич сочувствия слепого, Всемирный клич к неистовой борьбе, Разврат умов и искаженье слова — Все поднялось и все грозит тебе, О край родной! — такого ополченья Мир не видал с первоначальных дней… Велико, знать, о Русь, твое значенье! Мужайся, стой, крепись и одолей!Август 1863
«Он, умирая, сомневался…»{224}
Он, умирая, сомневался, Зловещей думою томим… Но бог недаром в нем сказался — Бог верен избранным своим… Сто лет прошли в труде и горе — И вот, мужая с каждым днем, Родная Речь уж на просторе Поминки празднует по нем… Уж не опутанная боле, От прежних уз отрешена, На всей своей разумной воле Его приветствует она… И мы, признательные внуки, Его всем подвигам благим Во имя Правды и Науки Здесь память вечную гласим. Да, велико его значенье — Он, верный Русскому уму, Завоевал нам Просвещенье, Не нас поработил ему,— Как тот борец ветхозаветный{225}, Который с Силой неземной Боролся до звезды рассветной И устоял в борьбе ночной.1865
«Умом Россию не понять…»
Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить.28 ноября 1866
«Ты долго ль будешь за туманом…»{226}
Ты долго ль будешь за туманом Скрываться, Русская звезда, Или оптическим обманом Ты обличишься навсегда? Ужель навстречу жадным взорам, К тебе стремящимся в ночи, Пустым и ложным метеором Твои рассыплются лучи? Все гуще мрак, все пуще горе, Все неминуемей беда — Взгляни, чей флаг там гибнет в море, Проснись — теперь иль никогда…26 декабря 1866
Алексей Степанович Хомяков{227}
1804–1860
Степи
Ах! Я хотел бы быть в степях Один с ружьем неотразимым, С гнедым конем неутомимым И с серым псом при стременах. Куда ни взглянешь — нет селенья, Молчат безбрежные поля, И там, как в первый День творенья, Цветет свободная земля. Там не пресек ее межами Людей бессмысленный закон, Людей безумными трудами Там божий мир не искажен; Но смертных ждет святая доля, Труды, здоровие, покой, Беспечный мир, восторг живой, Степей кочующая воля. Ах! для чего ж я не в степях Один с ружьем неотразимым, С гнедым конем неутомимым И с серым псом при стременах?1828
Клинок
Не презирай клинка стального В обделке древности простой И пыль забвенья векового Сотри заботливой рукой. Мечи с красивою оправой, В златых покояся ножнах, Блистали тщетною забавой На пышных роскоши пирах; А он в порывах бурь военных По латам весело стучал И на главах иноплеменных Об Руси память зарубал. Но тяжкий меч, в ножнах забытый Рукой слабеющих племен, Лежит, давно полусокрытый Под едкой ржавчиной времен И ждет, чтоб грянул голос брани Булата звонкого призыв, Чтоб вновь воскрес в могущей длани Его губительный порыв; И там, где меч с златой оправой Как хрупкий сломится хрусталь, Глубоко врежет след кровавый Его синеющая сталь. Так не бросай клинка простого В обделке древности стальной И пыль забвенья векового Сотри заботливой рукой.1829
«Гордись! — тебе льстецы сказали…»
«Гордись! — тебе льстецы сказали: — Земля с увенчанным челом, Земля несокрушимой стали, Полмира взявшая мечом: Пределов нет твоим владеньям, И, прихотей твоих раба, Внимает гордым повеленьям Тебе покорная судьба. Красны степей твоих уборы, И горы в небо уперлись, И как моря твои озера…» Не верь, не слушай, не гордись! Пусть рек твоих глубоки волны, Как волны синие морей, И недра гор алмазов полны, И хлебом пышен тук степей, Пусть пред твоим державным блеском Народы робко клонят взор, И семь морей немолчным плеском Тебе поют хвалебный хор; Пусть далеко грозы кровавой Твои перуны пронеслись: Всей этой силой, этой славой Всем этим прахом не гордись. Грозней тебя был Рим великий, Царь седмихолмного хребта, Железных сил и воли дикой Осуществленная мечта; И нестерпим был огнь булата В руках, алтайских дикарей, — И вся зарылась в груды злата Царица западных морей. И что же Рим? и где монголы? И, скрыв в груди предсмертный стон, Кует бессильные крамолы, Дрожа над бездной, Альбион. Бесплоден всякий, дух гордыни, Неверно злато, сталь хрупка; Но крепок ясный мир святыни, Сильна молящихся рука… И вот, за то, что ты смиренна, Что в чувствах детской простоты, В молчаньи сердца, сокровенна, Закон творца прияла ты, Он дал тебе свое призванье, Тебе он светлый дал удел — Хранить для мира достоянье Высоких жертв и чистых дел; Хранить племен святое братство, Любви живительный сосуд, И веры пламенной богатство, И правду, и бескровный суд. Твое все то, чем дух святится, В чем сердцу слышен глас небес, В чем жизнь грядущих дней таится, Начало славы и чудес… О, вспомни свой удел высокий, Былое в сердце воскреси, И в нем сокрытого глубоко Ты духа жизни запроси! Внимай ему и, все народы Обняв любовию своей, Скажи им таинство свободы, Сиянье веры им пролей: И станешь в славе ты чудесной Превыше всех земных сынов, Как этот синий свод небесный — Прозрачный вышнего покров!1839
России{228}
Тебя призвал на брань святую, Тебя господь наш полюбил, Тебе дал силу роковую, Да сокрушишь ты волю злую Слепых, безумных, буйных сил. Вставай, страна моя родная! За братьев! Бог тебя зовет Чрез волны гневного Дуная{229} — Туда, где, землю огибая, Шумят струи Эгейских вод. Но помни: быть орудьем бога Земным созданьям тяжело. Своих рабов он судит строго: А на тебя, увы! как много Грехов ужасных налегло. В судах черна неправдой черной И игом рабства клеймена, Безбожной лести, лжи тлетворной И лени мертвой и позорной И всякой мерзости полна; О недостойная избранья, Ты избрана!.. Скорей омой Себя водою покаянья, Да грех двойного наказанья Не грянет над твоей главой! С душой коленопреклоненной, С главой, лежащею в пыли, Молись молитвою смиренной И раны совести растленной Елеем плача исцели! И встань потом, верна призванью, И бросься в пыл кровавых сеч! Борись за братьев крепкой бранью! Держи стяг божий крепкой дланью! Рази мечом! то божий меч!1854
Андрей Иванович Подолинский{230}
1806–1886
Русская песня
Что в сыром бору от солнышка Снег златой росой рассыпался, Молодецкая кручинушка Разлилась слезами светлыми; В зимний холод любо солнышко, На чужих людях родной напев, Поневоле сердце всплачется, Как с ретивым сиротинушкой, Песня русская, унылая, Что родная мать перемолвится. Задушевной не наслушаться! Словно пташка, что в раю поет, Заунывно сладким голосом, Грусть-тоску она баюкает; Не видать сквозь слез чужой земли, А что думушка ль сердечная Понесется невидимкою, За синё море в святую Русь!.. По былому по старинному Добрый молодец в родной земле, В ноги пал отцу и матери, С старым другом поздоровался, А что девица-красавица Второпях бежит из терема, Зарумянившись как маков цвет, Радость высказать и слова нет, Только с милым обнимается, Да сквозь слезы улыбается.Степан Петрович Шевырев{231}
1806–1864
К непригожей матери{232}
Пусть говорят, что ты дурна, Охрип от стужи звучный голос, Как лист сосновый, жесток волос И грудь тесна и холодна; И серы очи, стан нестроен, Пестра одежда, груб язык, Твоих соперниц недостоин Обезображенный твой лик. Но без восторженной улыбки Я на тебя могу ль взирать? Как ты умела побеждать Судьбы неправые ошибки! Каких ты чад произвела! Какое племя дщерей славных, Прекрасных, милых, тихонравных, Ты свету гордо отдала! Уж не на них ли расточила Дары богатой красоты? Или искусством изменила Свои порочные черты? Суровость в пламенную важность И хлад в спокойствие чела, И дерзость в гордую отважность, В великость духа перешла. Не ты ли силою чудесной Одушевила в них потом Чело возвышенным умом, И грудь гармонией небесной, И очи серые огнем? Не ты ль, по древнему владенью, Водила их в свои леса, При шуме их — учила пенью, У вод как строить голоса, И нежной ласкою приветов Одушевлять мечту поэтов? Пускай твердят тебе в укор Про жгущий, сладострастный взор Красавицы давно известной, Полуизмученно-прелестной, Любимой солнцем и землей, Сожженной от его дыханья, От ядовитого лобзанья, Полуослабшей и худой. И я прославленную видел, И думал прежде обожать; Но верь, моя дурная мать, Тебя изменой не обидел. Она явилась предо мной В венке из мирт и винограда. Водила жаркою рукой Меня по сеням вертограда. И кипарис и апельсин В ее власах благоухали; Венки цветов на злак долин Одежды легкие стрясали. Во взорах тлелся черный зной, Печать любови огневой: На смуглом образе томленье, Какой-то грусти впечатленье Изображалось предо мной. Желая знать печали бремя, Спросил нетерпеливо я: «Да где ж твое живое племя, Твоя великая семья?» Она поникла и молчала, И слезы сыпались ручьем, И что же… трепетным перстом Она на гробы указала. И я бродил с ней по гробам, И в недра нисходил земные, И слезы приносил живые Ее утраченным сынам. Она с рыданьем однозвучным Сказала: «здесь моя семья, А там — одна скитаюсь я С моим любовником докучным!» Когда же знойные глаза, В припадке суетной печали, Тягчила полная слеза — Твои же дщери утешали Чужую мать и сироту, И ей утешно воспевали Ее живую красоту._______
Светлей твои сверкают взоры, Они надеждою блестят, Они, как в небе метеоры, Обетованием горят. Их беспокойное сиянье Пророчит тлеющий в тиши Огонь невспыхнувшей души И несвершенное желанье. Ужель в тебе не красота Твоя загадочная младость, Неистощенные лета И жизни девственная радость?.. Пусть ты дурна, пускай мечту В тебе бессмысленно ласкаю; Но ты мне мать: я обожаю Твою дурную красоту.Июль 1829
Послание к А. С. Пушкину
Из гроба древности тебе привет: Тебе сей глас, глас неокреплый, юный; Тебе звучат, наш камертон, поэт, На лад твоих настроенные струны. Простишь меня великодушно в том, Когда твой слух взыскательный и нежной Я оскорблю неслаженным стихом Иль рифмою нестройной и мятежной; Но, может быть, порадуешь себя В моем стихе своим же ты успехом, Что в древний Рим отозвалась твоя Гармония, хотя и слабым эхом. Из Рима мой к тебе несется стих, Весь трепетный, но полный чувством тайным, Пророчеством, невнятным для других, Но для тебя не темным, не случайным. Здесь, как в гробу, грядущее видней; Здесь и слепец дерзает быть пророком; Здесь мысль, полна предания, смелей Потьмы веков пронзает орлим оком; Здесь Дантов стих всю бездну исходил От дна земли до горнего эфира; Здесь Анжело{233}, зря день последний мира, Пророчественной кистью гробы вскрыл. Здесь, расшатавшись от изнеможенья, В развалины распался древний мир, И на обломках начат новый пир, Блистательный, во здравье просвещенья, Куда чредой, все племена земли, Избранники, сосуды принесли; Куда и мы приходим, с честью равной, Последние, как древле Рим пришел. Да скажем наш решительный глагол, Да поднесем и свой сосуд заздравной! — Здесь двух миров и гроб и колыбель, Здесь нового святое зарожденье: Предчувствием объемлю я отсель Великое отчизны назначенье! Когда, крылат мечтою дивной сей, Мой быстрый дух родную Русь объемлет И ей отсель прилежным слухом внемлет, Он слышит там: со плесками морей, Внутри ее просторно заключенных, И с воем рек, лесов благословенных, Гремит язык, созвучно вторя им, От белых льдов до вод, биющих в Крым, Из свежих уст могучего народа, Весь звуками богатый как природа: Душа кипит!.. Какой тогда хвалой гремлю я богу, Что сей язык он мне вложил в уста. Но чьи из всех родимых звуков мне Теснятся в грудь неотразимой силой? Все русское звучит в их глубине, Надежды все и слава Руси милой, Что с детских лет втвердилося в слова, Что сердце жмет и будит вздох заочный: Твои — певец! избранник божества, Любовию народа полномочный! Ты русских дум на все лады орган! Помазанный Державиным предтечей, Наш депутат на европейском вече,— Ты — колокол во славу россиян! Кому ж, певец, коль не тебе, открою Вопрос, в уме раздавшийся моем И тщетно в нем гремящий без покою: Что сделалось с российским языком! Что он творит безумные проказы! — Тебе странна, быть может, речь моя; Но краткие его развернем фазы — И ты поймешь, к чему стремлюся я. Сей богатырь, сей Муромец Илья, Баюканный на льдах под вихрем мразным, Во тьме веков сидевший сиднем праздным, Стал на ноги уменьем рыбаря{234} И начал песнь от бога и царя. Воскормленный средь северного хлада, Родной зимы и льдистых Альп певцом{235}, Окреп совсем и стал богатырем, И с ним гремел под бурю водопада. Но отгремев, он плавно речь повел И чистыми Карамзина устами Нам исповедь народную прочел,— И речь неслась широкими волнами: Что далее — то глубже и светлей; Как в зеркале, вся Русь гляделась в ней; И в океан лишь только превратилась, Как Нил в песках внезапная сокрылась, Сокровища с собою уресла, И тайного никто не сметил хода… И что ж теперь? — вдруг лужою всплыла В Истории российского народа{236}. Меж тем когда из уст Карамзина Минувшее рекою очищенной Текло в народ: священная война Звала язык на подвиг современной. С Жуковским он, на отческих стенах Развив с Кремля воинственное знамя, Вещал за Русь: пылали в тех речах И дух Москвы и жертвенное пламя! Со славой он родную славу пел, И мира звук в ответ мечу гремел. Теперь кому ж, коль не тебе по праву Грядущую вручит он славу? Что ж ныне стал наш мощный богатырь? Он, гальскою диэтою замучен{237}, Весь испитой, стал бледен, вял и скучен, И прихотлив, как лакомый визирь{238}, Иль сибарит{239}, на розах почивавший, Недужные стенанья издававший, Когда под ним сминался лепесток. Так наш язык: от слова ль праздный слог Чуть отогнешь, небережно ли вынешь, Теснее ль в речь мысль новую водвинешь,— Уж болен он, не вынесет, крягтит, И мысль на нем как груз какой лежит! Лишь песенки ему да брани милы; Лишь только б ум был тихо усыплен Под рифменный, отборный пустозвон. Что, если б встал Державин из могилы, Какую б он наслал ему грозу! На то ли он его взлелеял силы, Чтоб превратить в ленивого мурзу{240}? Иль чтоб ругал заезжий иностранец{241}, Какой-нибудь писатель-самозванец, Святую Русь российским языком, И нас бранил, и нашим же пером? Недужного иные врачевали, Но тайного состава не узнали. Тянули из его расслабших недр Зазубренный спондеем гекзаметр[18]{242}, Но он охрип… И кто ж его оправит? Кто от одра болящего восставит?.. Тебе открыт природный в нем состав, Тебе знаком и звук его и нрав. Врачуй его: под хладным русским небом Корми его почаще сытным хлебом, От суетных печалей отучи И русскими в нем чувствами звучи Да призови в сотрудники поэта{243} На важные Иракловы{244} дела, Кого судьба, в знак доброго привета, По языку не даром назвала: Чтоб богатырь стряхнул свой сон глубокий Дал звук густой и сильный и широкий, Чтоб славою отчизны прогудел, Как колокол, из меди лит рифейской{245}, Чтоб перешел за свой родной предел.Рим. 14 июля 1830
Кибиточки
Был очень жарок день — и жатва зачиналась. Семья усердных жниц с серпами наклонялась Над рожью, падшею от тяжести зерна, И нива на землю ложилась, как волна. Вблизи поляны той, где жатву зачинали, В кустах с младенцами кибиточки стояли, Где нежных матерей забота собрала Всех младших жителей из мирного села. Вопль часто прерывал ретивую работу, И мать меняла серп на лучшую заботу, И грудь вложив в уста младенца своего, Унылой песенкой баюкала его. Не плачьте горько так, невинные младенцы, Юнейшие земли родимой поселенцы! Над вашей младостью не дремлет ночи тень, Вам брезжит вольный свет, вам всходит новый день! О вас моя печаль, за вас моя молитва: Да будет не трудна вам новой жизни битва!1857
Каролина Карловна Павлова
1807–1893
Москва
День тихих грез, день серый и печальный; На небе туч ненастливая мгла, И в воздухе звон переливно-дальный, Московский звон во все колокола. И, вызванный мечтою самовластной, Припомнился нежданно в этот час Мне час другой, — тогда был вечер ясный, И на коне я по полям неслась. Быстрей! быстрей! И у стремнины края Остановив послушного коня, Взглянула я в простор долин: пылая, Касалось их уже светило дня. И город там палатный и соборный, Раскинувшись широко в ширине, Блистал внизу, как бы нерукотворный, И что-то вдруг проснулося во мне. Москва! Москва! Что в звуке этом? Какой отзыв сердечный в нем? Зачем так сроден он с поэтом? Так властен он над мужиком? Зачем сдается, что пред нами В тебе вся Русь нас ждет любя? Зачем блестящими глазами, Москва, смотрю я на тебя? Твои дворцы стоят унылы, Твой блеск угас, твой глас утих, И нет в тебе ни светской силы, Ни громких дел, ни благ земных. Какие ж тайные понятья Так в сердце русском залегли, Что простираются объятья, Когда белеешь ты вдали? Москва! В дни страха и печали Храня священную любовь, Недаром за тебя же дали Мы нашу жизнь, мы нашу кровь. Недаром в битве исполинской Пришел народ сложить главу И пал в равнине Бородинской, Сказав: «Помилуй бог Москву!» Благое это было семя, Оно несет свой пышный цвет, И сбережет младое племя Отцовский дар, любви завет.1844
Дорога
Тускнеет в карете, бессильно мерцая, И гаснет ночник; Все пасмурней тянется чаща глухая. Путь темен и дик. Карета несется, как будто б спешила В приют я родной; Полуночный ветр запевает уныло В пустыне лесной. Бегут вдоль дороги все ели густые Туда, к рубежу, Откуда я еду, туда, где Россия; Я вслед им гляжу. Бегут и, качая вершиною темной, Бормочут оне О тяжкой разлуке, о жизни бездомной В чужой стороне. К чему же мне слушать, как шепчутся ели, Все мимо скользя? О чем мне напомнить они б ни сумели — Вернуться нельзя!Сентябрь 1861
Пильниц
«Воет ветр в степи огромной…»
Воет ветр в степи огромной И валится снег. Там идет дорогой темной Бедный человек. В сердце радостная вера Средь кручины злой, И нависли тяжко, серо Тучи над землей.Алексей Васильевич Кольцов{246}
1809–1842
Сельская пирушка
Ворота тесовы Растворилися, На конях, на санях Гости въехали; Им хозяин с женой Низко кланялись, Со двора повели В светлу горенку. Перед Спасом святым Гости молятся; За дубовы столы, За набранные, На сосновых скамьях Сели званые. На столах кур, гусей Много жареных, Пирогов, ветчины Блюда полные. Бахромой, кисеей Принаряжена, Молодая жена, Чернобровая, Обходила подруг С поцелуями, Разносила гостям Чашу горькова; Сам хозяин, за ней, Брагой хмельною Из ковшей вырезных Родных потчует; А хозяйская дочь Медом сыченым{247} Обносила кругом, С лаской девичьей. Гости пьют и едят, Речи гуторят{248}: Про хлеба, про покос, Про старинушку; Как-то бог и господь Хлеб уродит нам? Как-то сено в степи Будет зелено? Гости пьют и едят, Забавляются От вечерней зари До полуночи. По селу петухи Перекликнулись; Призатих говор, шум В темной горенке; От ворот поворот Виден по снегу.21 сентября 1830
Песня пахаря
Ну! тащися, сивка, Пашней, десятиной, Выбелим железо О сырую землю. Красавица зорька В небе загорелась, Из большого леса Солнышко выходит. Весело на пашне; Ну! тащися, сивка! Я сам-друг с тобою, Слуга и хозяин. Весело я лажу Борону и соху, Телегу готовлю, Зерна насыпаю. Весело гляжу я На гумно, на скирды, Молочу и вею… Ну! тащися, сивка! Пашенку мы рано С сивкою распашем, Зернышку сготовим Колыбель святую. Его вспоит, вскормит Мать земля сырая; Выйдет в поле травка — Ну! тащися, сивка! Выйдет в поле травка — Вырастет и колос, Станет спеть, рядиться В золотые ткани. Заблестит наш серп здесь, Зазвенят здесь косы; Сладок будет отдых На снопах тяжелых! Ну! тащися, сивка! Накормлю досыта, Напою водою, Водой ключевою. С тихою молитвой Я вспашу, посею: Уроди мне, боже, Хлеб — мое богатство!26 ноября 1831
Не шуми ты, рожь
Не шуми ты, рожь, Спелым колосом! Ты не пой, косарь, Про широку степь! Мне не для чего Собирать добро, Мне не для чего Богатеть теперь! Прочил молодец, Прочил доброе Не своей душе — Душе-девице. Сладко было мне Глядеть в очи ей, В очи, полные Полюбовных дум! И те ясные Очи стухнули, Спит могильным сном Красна девица! Тяжелей горы, Темней полночи Легла на сердце Дума черная!1834
Косарь
Не возьму я в толк… Не придумаю… Отчего же так — Не возьму я в толк? Ох, в несчастный день, В бесталанный час, Без сорочки я Родился на свет. У меня ль плечо — Шире дедова; Грудь высокая — Моей матушки. На лице моем Кровь отцовская В молоке зажгла Зорю красную. Кудри черные Лежат скобкою; Что работаю — Все мне спорится! Да в несчастный день, В бесталанный час, Без сорочки я Родился на свет! Прошлой осенью Я за Грунюшку, Дочку старосты, Долго сватался; А он, старый хрен, Заупрямился! За кого же он Выдаст Грунюшку Не возьму я в толк, Не придумаю… Я ль за тем гонюсь, Что отец ее Богачом слывет? Пускай дом его — Чаша полная! Я ее хочу, Я по ней крушусь: Лицо белое — Заря алая, Щеки полные, Глаза темные Свели молодца С ума-разума… Ах, вчера по мне Ты так плакала; Наотрез старик Отказал вчера… Ох, не свыкнуться С этой горестью… Я куплю себе Косу новую; Отобью ее, Наточу ее,— И прости-прощай, Село родное! Не плачь, Грунюшка, Косой вострою Не подрежусь я… Ты прости, село, Прости, староста: В края дальние Пойдет молодец: Что вниз по Дону, По набёрежью, Хороши стоят Там слободушки! Степь привольная, Далеко вокруг, Широко лежит, Ковылой-травой Расстилается! Ах ты, степь моя, Степь привольная, Широко ты, степь, Пораскинулась, К морю Черному Понадвинулась! В гости я к тебе Не один пришел: Я пришел сам-друг С косой вострою; Мне давно гулять По траве степной, Вдоль и поперек С ней хотелося… Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, Ветер с полудня! Освежи, взволнуй Степь просторную! Зажужжи, коса, Как пчелиный рой! Молоньёй, коса, Засверкай кругом! Зашуми, трава, Подкошоная; Поклонись, цветы, Головой земле! Наряду с травой Вы засохните, Как по Груне я Сохну, молодец! Нагребу копен, Намечу стогов; Даст казачка мне Денег пригоршни. Я зашью казну; Сберегу казну; Возвращусь в село — Прямо к старосте; Не разжалобил Его бедностью — Так разжалоблю Золотой казной!..Москва
1836
Молодая жница
Высоко стоит Солнце на небе, Горячо печет Землю-матушку. Душно девице, Грустно на поле. Нет охоты жать Колосистой ржи. Всю сожгло ее Поле жаркое, Горит-горма все Лицо белое. Голова со плеч На грудь клонится, Колос срезанный Из рук валится… Не с проста ума Жница жнет не жнет, Глядит в сторону — Забывается. Ох, болит у ней Сердце бедное, Заронилось в нем — Небывалое! Она шла вчера Нерабочим днем, Лесом шла себе По малинушку. Повстречался ей Добрый молодец; Уж не в первый раз Повстречался он. Разминется с ней Будто нехотя И стоит, глядит Как-то жалобно. Он вздохнул, запел Песню грустную; Далеко в лесу Раздалась та песнь. Глубоко в душе Красной девицы Отзвалась она И запала в ней… Душно, жарко ей, Грустно на поле, Нет охоты жать Колосистой ржи…1836
Раздумье селянина
Сяду я за стол — Да подумаю: Как на свете жить Одинокому? Нет у молодца Молодой жены, Нет у молодца Друга вернова, Золотой казны, Угла теплова, Бороны-сохи, Коня-пахаря; Вместе с бедностью Дал мне батюшка Лишь один талан — Силу крепкую; Да и ту как раз Нужда горькая По чужим людям Всю истратила. Сяду я за стол — Да подумаю: Как на свете жить Одинокому?9 апреля 1831 197
Лес
Посвящено памяти А. С. Пушкина
Что, дремучий лес, Призадумался, Грустью темною Затуманился? Что, Бова-силач{249} Заколдованный, С непокрытою Головой в бою Ты стоишь — поник, И не ратуешь С мимолетною Тучей-бурею. Густолиственный Твой зеленый шлем Бурный вихрь сорвал — И развеял в прах. Плащ упал к ногам… И рассыпался… Ты стоишь — поник, И не ратуешь. Где ж девалася Речь высокая, Сила гордая, Доблесть царская? У тебя ль, было, В ночь безмолвную Заливная песнь Соловьиная… У тебя ль, было, Дни — роскошество,— Друг и недруг твой Прохлаждаются… У тебя ль, было, Поздно вечером Грозно с бурею Разговор пойдет: Распахнет она Тучу черную, Обоймет тебя Ветром-холодом. И ты молвишь ей Шумным голосом: Вороти назад! Держи около! Закружит она, Разыграется… Дрогнет грудь твоя, Зашатаешься; Встрепенувшися, Разбушуешься: Только свист кругом, Голоса и гул… Буря всплачется Лешим, ведьмою И несет свои Тучи за море. Где ж теперь твоя Мочь зеленая? Почернел ты весь, Затуманился… Одичал, замолк… Только в непогодь Воешь жалобу На безвременье. Так-то, темный лес, Богатырь Бова! Ты всю жизнь свою Маял битвами. Не осилили Тебя сильные, Так дорезала Осень черная. Знать, во время сна К безоружному Силы вражие Понахлынули. С богатырских плеч Сняли голову — Не большой горой, А соломинкой…1837
«Что ты спишь, мужичок…»
Что ты спишь, мужичок? Ведь весна на дворе; Ведь соседи твои Работают давно. Встань, проснись, подымись, На себя погляди: Что ты был? и что стал? И что есть у тебя? На гумне — ни снопа; В закромах — ни зерна; На дворе, по траве — Хоть шаром покати. Из клетей домовой Сор метлою посмел; И лошадок за долг По соседям развел. И под лавкой сундук Опрокинут лежит; И, погнувшись, изба, Как старушка, стоит. Вспомни время свое: Как катилось оно По полям и лугам Золотою рекой! Со двора и гумна По дорожке большой По селам, городам, По торговым людям! И как двери ему Растворяли везде, И в почетном угле Было место твое! А теперь под окном Ты с нуждою сидишь И весь день на печи Без просыпу лежишь. А в полях сиротой Хлеб нескошен стоит. Ветер точит зерно! Птица клюет его! Что ты спишь, мужичок? Ведь уж лето прошло, Ведь уж осень на двор Через прясло глядит. Вслед на нею зима В теплой шубе идет, Путь снежком порошит, Под санями хрустит. Все соседи на них Хлеб везут, продают, Собирают казну, Бражку ковшиком пьют.25 сентября 1839
Военная песня
Посвящена князю
П. А. Вяземскому
Затрубили трубы бранные, Собралася рать могучая, Стала грудью против недруга — За царя, за кров, за родину. Ты прости теперь, отец и мать, Ты прости теперь, мой милый друг, Ты прости теперь, и степь и лес, Дорогая жизнь, весь белый свет! Гей, товарищ мой, железный штык! Послужи ж ты мне по-старому: Как служил ты при Суворове Силачу-отцу, деду-воину. Гей, сестра, ты сабля острая! Попируем мы у недруга, Погуляем, с ним потешимся, Выпьем браги бусурманския!.. Уж когда мне, добру молодцу, Присудил бог сложить голову,— Не на землю ж я сложу ее! А сложить-сложу — на груду тел… Труба бранная, военная! Что молчишь? Труби, дай волю мне: В груди сердце богатырское Закипело, расходилося!22 августа 1840
Иван Иванович Панаев{250}
1812–1862
Far-Niente[19]
В сельце Валуевке он тридцать лет живет, В известные часы травник целебный пьет И кушает всегда три раза в день исправно С супругою своей Федосьей Ермолавной. Он после трапезы курит обыкновенно, Привычкам следуя лет сорок неизменно; Зевает, кашляет, сморкается, плюет, Приподнимается — и опочить идет… От беспокойных мух прикрыв свой тучный лик, Он погружается в огромный пуховик И спит до вечера. И жизнь так льется плавно… Придет его будить Федосья Ермолавна, И он поднимется; отекшею рукой Укажет на стакан с брусничною водой И выпьет залпом всё; потом почешет спину И отправляется лениво на крыльцо, Чтоб освежить свое заплывшее лицо… Меж тем на водопой пригнали уж скотину, Уж солнце клонится к закату — и порой Из саду вдруг пахнет некошеной травой. Сквозь рощу темную огонь заката блещет, И каждый лист сквозит и радостно трепещет…1855
Николай Платонович Огарев
1813–1877
Деревенский сторож
Ночь темна, на небе тучи, Белый снег кругом, И разлит мороз трескучий В воздухе ночном. Вдоль по улице широкой Избы мужиков— Ходит сторож одинокий, Слышен скрип шагов Зябнет сторож; вьюга смело Злится вкруг него, На морозе побелела Борода его. Скучно! радость изменила, Скучно одному; Песнь его звучит уныло Сквозь метель и тьму. Ходит он в ночи безлунной, Бела утра ждет И в края доски чугунной С тайной грустью бьет. И, качаясь, завывает Звонкая доска… Пуще сердце замирает, Тяжелей тоска!1840
Прощание с краем, откуда я не уезжал
Прощай, прощай, моя Россия! Еще недолго — и уж я Перелечу в страны чужие, В иные, светлые края. Благодарю за день рожденья, За ширь степей и за зиму, За сердцу сладкие мгновенья, За горький опыт, за тюрьму, За благородные желанья, За равнодушие людей, За грусть души, за жажду знанья, И за любовь, и за друзей,— За все блаженство, все страданья; Я все люблю, все святы мне Твои, мой край, воспоминанья В далекой будут стороне. И о тебе не раз вздохну я, Вернусь — и с теплою слезой На небо серое взгляну я, На степь под снежной пеленой…1840
Дорога
Тускло месяц дальний Светит сквозь тумана, И лежит печально Снежная поляна. Белые с морозу Вдоль пути рядами Тянутся березы С голыми сучками. Тройка мчится лихо, Колокольчик звонок, Напевает тихо Мой ямщик спросонок. Я в кибитке валкой Еду да тоскую: Скучно мне да жалко Сторону родную.1841, 15 декабря
Изба
Небо в час дозора Обходя, луна Светит сквозь узора Мёрзлого окна. Вечер зимний длится; Дедушка в избе На печи ложится, И уж спит себе. Помоляся богу, Улеглася мать; Дети понемногу Стали засыпать Только за работой Молодая дочь Борется с дремотой Во всю долгу ночь. И лучина бледно Перед ней горит. Всё в избушке бедной Тишиной томит; Лишь звучит докучно Болтовня одна Прялки однозвучной Да веретена.<1842>
Арестант
Ночь темна. Лови минуты! Но стена тюрьмы крепка, У ворот её замкнуты Два железные замка. Чуть дрожит вдоль коридора Огонёк сторожевой. И звенит о шпору шпорой, Жить скучая, часовой. «Часовой!» — «Что, барин, надо?» — «Притворись, что ты заснул: Мимо б я, да за ограду Тенью быстрою мелькнул! Край родной повидеть нужно Да жену поцеловать, И пойду под шелест дружный В лес зелёный умирать!..» — «Рад помочь! Куда ни шло бы! Божья тварь, чай, тож и я! Пуля, барин, ничего бы, Да боюся батожья! Поседел под шум военный… А сквозь полк как поведут, Только ком окровавленный На тележке увезут!» Шепот смолк… Все тихо снова… Где-то бог подаст приют? То ль схоронят здесь живого? Толь на каторгу ушлют? Будет вечно цепь надета, Да начальство станет бить… Ни ножа! ни пистолета!.. И конца нет сколько жить!1850
Свобода
Когда я был отроком тихим и нежным, Когда я был юношей страстно-мятежным, И в возрасте зрелом, со старостью смежном,— Всю жизнь мне всё снова, и снова, и снова Звучало одно неизменное слово: Свобода! Свобода! Измученный рабством и духом унылый, Покинул я край мой родимый и милый, Чтоб было мне можно, насколько есть силы, С чужбины до самого края родного Взывать громогласно заветное слово: Свобода! Свобода! И вот на чужбине, в тиши полунощной, Мне издали голос послышался мощный… Сквозь вьюгу сырую, сквозь мрак беспомощный, Сквозь все завывания ветра ночного Мне слышится с родины юное слово: Свобода! Свобода! И сердце, так дружное с горьким сомненьем, Как птица из клетки, простясь с заточеньем, Взыграло впервые отрадным биеньем, И как-то торжественно, весело, ново Звучит теперь с детства знакомое слово: Свобода! Свобода! И всё-то мне грезится — снег и равнина, Знакомое вижу лицо селянина, Лицо бородатое, мощь исполина, И он говорит мне, снимая оковы, Моё неизменное, вечное слово: Свобода! Свобода! Но если б грозила беда и невзгода, И рук для борьбы захотела свобода,— Сейчас полечу на защиту народа, И, если паду я средь битвы суровой, Скажу, умирая, могучее слово: Свобода! Свобода! А если б пришлось умереть на чужбине, Умру я с надеждой и верою ныне; Но в миг передсмертный — в спокойной кручине Не дай мне остынуть без звука святого, Товарищ! шепни мне последнее слово: Свобода! Свобода!1858
«Сторона моя родимая…»
Сторона моя родимая, Велики твои страдания, Но есть мощь неодолимая, И полны мы упования: Не сгубят указы царские Руси силы молодецкие, Ни помещики татарские, Ни чиновники немецкие! Не пойдет волной обратною Волга-матушка раздольная, И стезею благодатною Русь вперед помчится вольная!1858
Дедушка
Ах, изба ты моя невысокая! Посижу, погляжу из окна, Только степь-то под снегом широкая, Только степь впереди и видна. Погляжу я вовнутрь: полно ль, пусто ли?. Спит старуха моя, как в ночи; Сиротинка-внучонок, знать с устали, Под тулупом залег на печи, Взял с собой и кота полосатого… Только я словно жду-то чего,— А чего?.. Разве гроба дощатого, Да недолго, дождусь и его. Жаль старуху мою одинокую! А внучонок подсядет к окну,— Только степь-то под снегом широкую, Только степь и увидит одну.1859
Михаил Юрьевич Лермонтов
1814–1841
«Когда волнуется желтеющая нива…»
Когда волнуется желтеющая нива И свежий лес шумит при звуке ветерка, И прячется в саду малиновая слива Под тенью сладостной зеленого листка; Когда, росой обрызганный душистой, Румяным вечером иль утра в час златой, Из-под куста мне ландыш серебристый Приветливо кивает головой; Когда студеный ключ играет по оврагу И, погружая мысль в какой-то смутный сон, Лепечет мне таинственную сагу Про мирный край, откуда мчится он,— Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе,— И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу бога…1837
Родина
Люблю отчизну я, но странною любовью! Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, Ни полный гордого доверия покой, Ни темной старины заветные преданья Не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю — за что, не знаю сам — Ее степей холодное молчанье, Ее лесов безбрежных колыханье, Разливы рек ее, подобные морям; Проселочным путем люблю скакать в телеге И взором медленным пронзая ночи тень, Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, Дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, В степи ночующий обоз И на холме средь желтой нивы Чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой Я вижу полное гумно, Избу, покрытую соломой, С резными ставнями окно; И в праздник, вечером росистым, Смотреть до полночи готов На пляску с топаньем и свистом Под говор пьяных мужичков.1841
«Прощай, немытая Россия…»{251}
Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые{252}, И ты, им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа Сокроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей.1841
Алексей Константинович Толстой
1817–1875
«Уж ты нива моя, нивушка…»
Уж ты нива моя, нивушка, Не скосить тебя с маху единого, Не связать тебя всю во единый сноп! Уж вы думы мои, думушки, Не стряхнуть вас разом с плеч долой, Одной речью-то вас не высказать! По тебе ль, нива, ветер разгуливал, Гнул колосья твои до земли, Зрелы зерна все разметывал! Широко вы, думы, порассыпались, Куда пала какая думушка, Там всходила люта печаль-трава, Вырастало горе горючее!1854
Колодники
Спускается солнце за степи, Вдали золотится ковыль,— Колодников звонкие цепи Взметают дорожную пыль. Идут они с бритыми лбами, Шагают вперёд тяжело, Угрюмые сдвинули брови, На сердце раздумье легло. Идут с ними длинные тени, Две клячи телегу везут, Лениво сгибая колени, Конвойные с ними идут. «Что, братцы, затянемте песню, Забудем лихую беду! Уж, видно, такая невзгода Написана нам на роду!» И вот повели, затянули, Поют, заливаясь, они Про Волги широкой раздолье, Про даром минувшие дни, Поют про свободные степи, Про дикую волю поют, День меркнет, всё боле, — а цепи Дорогу метут да метут…Первая половина 1850-х годов
«Край ты мой, родимый край…»
Край ты мой, родимый край, Конский бег на воле, В небе крик орлиных стай, Волчий голос в поле! Гой ты, родина моя! Гой ты, бор дремучий! Свист полночный соловья, Ветер, степь да тучи!1856
Чужое горе
В лесную чащу богатырь при луне Въезжает в блестящем уборе; Он в остром шеломе, в кольчатой броне И свистнул беспечно, бочась на коне: «Какое мне деется горе!» И едет он рысью, гремя и звеня, Стучат лишь о корни копыта; Вдруг с дуба к нему кто-то прыг на коня! «Эй, кто за плечами там сел у меня? Со мной, берегись, не шути ты!» И щупает он у себя за спиной, И шарит, с досадой во взоре; Но внемлет ответ: «Я тебе не чужой, Ты, чай, об усобице слышал княжой, Везешь Ярослава ты горе!» «Ну, ври себе! — думает витязь, смеясь,— Вот, подлинно, было бы диво! Какая твоя с Ярославом-то связь? В Софийском соборе спит киевский князь, А горе небось его живо?» Но дале он едет, гремя и звеня, С товарищем боле не споря; Вдруг снова к нему кто-то прыг на коня И на ухо шепчет: «Везиж и меня, Я, витязь, татарское горе!» «Ну, видно, не в добрый я выехал час! Вишь, притча какая бывает! Что шишек еловых здесь падает вас!» Так думает витязь, главою склонясь, А конь уже шагом шагает. Но вот и ступать уж ему тяжело, И стал спотыкаться он вскоре, А тут кто-то сызнова прыг за седло! «Какого там черта еще принесло?» «Ивана Васильича горе!» «Долой вас! И места уж нет за седлом! Плеча мне совсем отдавило!» «Нет, витязь, уж сели, долой не сойдем!» И едут они на коне вчетвером, И ломится конская сила. «Эх, — думает витязь, — мне б из лесу вон Да в поле скакать на просторе! И как я без боя попался в полон? Чужое, вишь, горе тащить осужден, Чужое, прошедшее горе!»1866
Илья Муромец
1
Под броней с простым набором, Хлеба кус жуя, В жаркий полдень едет бором Дедушка Илья;2
Едет бором, только слышно, Как бряцает бронь, Топчет папоротник пышный Богатырский конь.3
И ворчит Илья сердито: «Ну, Владимир, что ж? Посмотрю я, без Ильи-то Как ты проживешь?4
Двор мне, княже, твой не диво! Не пиров держусь! Я мужик неприхотливый, Был бы хлеба кус!5
Но обнес меня ты чарой В очередь мою. Так шагай же, мой чубарый, Уноси Илью!6
Без меня других довольно: Сядут — полон стол! Только лакомы уж больно, Любят женский пол!7
Все твои богатыри-то, Значит, молодежь; Вот без старого Ильи-то Как ты проживешь!8
Тем-то я их боле стою Что забыл уж баб, А как тресну булавою, Так еще не слаб!9
Правду молвить, для княжого Не гожусь двора; Погулять по свету снова Без того пора!10
Не терплю богатых сеней, Мраморных тех плит; От царьградских от курений Голова болит!11
Душно в Киеве, что в скрине, Только киснет кровь! Государыне-пустыне Поклонюся вновь!12
Вновь изведаю я, старый, Волюшку мою — Ну же, ну, шагай, чубарый, Уноси Илью!»13
И старик лицом суровым Просветлел опять, По нутру ему здоровым Воздухом дышать;14
Снова веет воли дикой На него простор, И смолой и земляникой Пахнет темный бор.Май 1871
Иван Сергеевич Тургенев
1818–1885
Баллада
Перед воеводой молча он стоит; Голову потупил — сумрачно глядит. С плеч могучих сняли бархатный кафтан; Кровь струится тихо из широких ран. Скован по ногам он, скован по рукам: Знать, ему не рыскать ночью по лесам! Думает он думу — дышит тяжело: Плохо!.. видно, время доброе прошло. «Что, попался, парень? Долго ж ты гулял! Долго мне в тенёта волк не забегал! Что же приумолк ты? Слышал я не раз — Песенки ты мастер петь в веселый час; Ты на лад сегодня вряд ли попадешь… Завтра мы услышим, как ты запоешь». Взговорил он мрачно: «Не услышишь, нет! Завтра петь не буду — завтра мне не след; Завтра умирать мне смертию лихой; Сам ты запоешь, чай, с радости такой!.. Мы певали песни, как из леса шли — Как купцов с товаром мы в овраг вели… Ты б нас тут послушал — ладно пели мы; Да не долго песней тешились купцы… Да еще певал я — в домике твоем; Запивал я песни — всё твоим вином; Заедал я чарку — барскою едой; Целовался сладко — да с твоей женой».1841
К. А. Фарнгагену фон Энзе{253}
Теперь, когда Россия наша Своим путем идет одна И наконец отчизна ваша К судьбам другим увлечена,— Теперь, в великий час разлуки, Да будут русской речи звуки Для вас залогом, что года Пройдут — и кончится вражда; Что, чуждый немцу с колыбели Через один короткий век Сойдется с ним у той лее цели, Как с братом, русский человек; Что если нам теперь по праву Проклятия гремят кругом — Мы наш позор и нашу славу Искупим славой и добром… Всему, чем ваша грудь согрета, Всему сочувствуем и мы; И мы желаем мира, света, Не разрушенья — и не тьмы.Берлин 19 (7) марта 1847
Из поэмы, преданной сожжению
И понемногу начало назад Его тянуть в деревню, в темный сад, Где липы так огромны, так тенисты И ландыши так девственно душисты, Где круглые ракиты над водой С плотины наклонились чередой, Где тучный дуб растет над тучной нивой, Где пахнет конопелью да крапивой… Туда, туда, в раздольные поля, Где бархатом чернеется земля, Где рожь, куда ни киньте вы глазами, Струится тихо мягкими волнами, И падает тяжелый, желтый луч Из-за прозрачных, белых, круглых туч. Там хорошо; там только русский дома; И степь ему как родина знакома; Как по морю, гуляет он по ней, Живет и дышит, движется вольней, Идет себе, поет себе беспечно; Идет… Куда? Не знает! Бесконечно Бегут, бегут несвязные слова. Приподнялась уж по следу трава… Ему другой вы не сулите доли, Не хочет он другой, разумной воли…1858
Сон{254}
Давненько не бывал я в стороне родной… Но не нашел я в ней заметной перемены. Все тот же мертвенный, бессмысленный застой, Строения без крыш, разрушенные стены, И та же грязь и вонь, и бедность и тоска! И тот же рабский взгляд, то дерзкий, то унылый. Народ наш вольным стал; и вольная рука Висит по-прежнему какой-то плеткой хилой. Все, все по-прежнему… И только лишь в одном Европу, Азию, весь свет мы перегнали… Нет! Никогда еще таким ужасным сном Мои любезные соотчичи не спали! Все спит кругом: везде, в деревнях, в городах, В телегах, на санях, днем, ночью, сидя, стоя… Купец, чиновник спит; спит сторож на часах, Под снежным холодом — и на припеке зноя! И подсудимый спит — и дрыхнет судия; Мертво спят мужики: жнут, пашут — спят; молотят — Спят тоже; спит отец, спит мать, спит вся семья… Все спят! Спит тот, кто бьет, и тот, кого колотят! Один царев кабак не спит и не смыкает глаз; И, штоф с очищенной всей пятерней сжимая, Лбом в полюс упершись, а пятками в Кавказ, Спит непробудным сном отчизна, Русь святая!1876
Деревня
Последний день июля месяца; на тысячу верст кругом Россия — родной край.
Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на нем — не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь… Воздух — молоко парное!
Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами.
И дымком-то пахнет, и травой, и дегтем маленько, и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух.
Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исщепленные ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и нёба, — синеватая черта большой реки.
Вдоль оврага по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворешницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конек. Неровные стекла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки, за высокими порогами прохладно темнеют сени.
Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть еще немного посохнет на припеке; а там и в сарай! То-то будет спать на нем славно!
Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках.
Русокудрые парни в чистых, низко подпоясанных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу, зубоскалят.
Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеется, не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.
Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца… Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные, огнистые капли.
Передо мной стоит старуха хозяйка в новой клетчатой паневе, в новых котах.
Крупные, дутые бусы в три ряда обвились вокруг смуглой худой шеи; седая голова повязана желтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами.
Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается все морщинистое лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка… а и теперь еще видать: красавица была в свое время!
Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным, неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть еще теплого хлеба. Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!
Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями; ему в ответ не спеша промычал запертой теленок.
— Ай да овес! — слышится голос моего кучера.
О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!
И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе святой Софии в Царь-Граде и все, чего так добиваемся мы, городские люди?
Февраль, 1818
Русский язык
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!
Июнь, 1882
Яков Петрович Полонский
1819–1898
Жницы
Пой, пой, свирель!.. Погас последний луч денницы… Вон, в сумраке долин, идут толпами жницы, На месяце блестят и серп их и коса; Пыль мягкая чуть-чуть дымится под ногами, Корзины их шумят тяжелыми снопами, Далеко звонкие их слышны голоса… Идут… прошли… чуть слышно их… Бог с ними! Я жду ее одну, с приветом на устах, В венке из полевых цветов, с серпом в руках, Обремененную плодами золотыми… Пой, пой, свирель!..1840
Дорога
Глухая степь — дорога далека, Вокруг меня волнует ветер поле, Вдали туман — мне грустно поневоле, И тайная берет меня тоска. Как кони ни бегут — мне кажется, лениво Они бегут. В глазах одно и то ж — Все степь, за нивой снова нива. — Зачем, ямщик, ты песни не поешь? — И мне в ответ ямщик мой бородатый: — Про черный день мы песню бережем. — Чему ж ты рад? — Недалеко до хаты — Знакомый шест мелькает за бугром.— И вижу я: навстречу деревушка, Соломой крыт стоит крестьянский двор, Стоят скирды. — Знакомая лачужка, Жива ль она, здорова ли с тех пор? Вот крытый двор. Покой, привет и ужин Найдет ямщик под кровлею своей. А я устал — покой давно мне нужен; Но нет его… Меняют лошадей. Ну-ну, живей! Долга моя дорога — Сырая ночь — ни хаты, ни огня — Ямщик поет — в душе опять тревога — Про черный день нет песни у меня.1842
«Признаться сказать, я забыл, господа…»
Признаться сказать, я забыл, господа, Что думает алая роза, когда Ей где-то во мраке поет соловей, И даже не знаю, поет ли он ей. Но знаю, что думает русский мужик, Который и думать-то вовсе отвык… Освобождаемый добрым царем, Все розги да розги он видит кругом. И думает он: то-то станут нас бить, Как мы захотим на свободе-то жить… Признаться, забыл я — не знаю, о чем Беседуют звезды на небе ночном И точно ли жаждут упиться росой Цветы полевые в полуденный зной. Но знаю, о чем тайно плачет бедняк, Когда, запирая свой пыльный чердак, Лежит он, и мрачен и зол оттого, Что даже не смеет любить никого, И зол он на звезды — что с неба глядят, Как люди глядят — и помочь не хотят. Я вам признаюсь, что я знать не могу, Что думает птица, когда на лугу Холодный туман начинает бродить, А солнце встает и не смеет светить. Но знаю — ох, знаю, что мыслит поэт, Когда для него гаснет солнечный свет. Ведь я у цензуры слуга крепостной,— Так думает он — и, холодной рукой Сдавя свою голову, тихо поет, Когда его музу цензура сечет. Признаться, не знаю, что думает пес, Когда птички крадут в навозе овес, Когда кот пушистым виляет хвостом, Не знаю, что думают мыши об нем, Но знаю, что думают слуги царя, Ближайшие слуги! Усердьем горя, Они день и ночь молят господа сил, Чтоб он взволновать им народ пособил: Дай, боже! царя убедить нам хоть раз, Что плохо бы было престолу без нас; Ведь эдакий глупый, презренный народ: Как хочешь дразни — ничего не берет.20 марта 1861
Колокольчик
Улеглася метелица… путь озарен… Ночь глядит миллионами тусклых очей… Погружай меня в сон, колокольчика звон! Выноси меня, тройка усталых коней! Мутный дым облаков и холодная даль Начинают яснеть; белый призрак луны Смотрит в душу мою — и былую печаль Наряжает в забытые сны. То вдруг слышится мне — страстный голос поет, С колокольчиком дружно звеня: «Ах, когда-то, когда-то мой милый придет — Отдохнуть на груди у меня! У меня ли не жизнь!.. чуть заря на стекле Начинает лучами с морозом играть, Самовар мой кипит на дубовом столе, И трещит моя печь, озаряя в угле, За цветной занавеской, кровать!.. У меня ли не жизнь!.. ночью ль ставень открыт, По стене бродит месяца луч золотой, Забушует ли, вьюга — лампада горит, И, когда я дремлю, мое сердце не спит, Все по нем изнывая тоской». То вдруг слышится мне — тот же голос поет, С колокольчиком грустно звеня: «Где-то старый мой друг?.. Я боюсь, он войдет И, ласкаясь, обнимет меня! Что за жизнь у меня! и тесна, и темна, И скучна моя горница; дует в окно. За окошком растет только вишня одна, Да и та за промерзлым стеклом не видна И, быть может, погибла давно!.. Что за жизнь!.. полинял пестрый полога цвет, Я больная брожу и не еду к родным, Побранить меня некому — милого нет, Лишь старуха ворчит, как приходит сосед, Оттого, что мне весело с ним!..»1854
В засуху
Все жаждет, истомясь от зною; Все вопиет: дождя, дождя! И рады все, что солнце мглою Покрылось, сумрак наводя. Влачится туч густых завеса, Грозя нам ливнем и пыля; Из-за синеющего леса Прохладой веет на поля. Шуршит соломой рожь сухая, Пыль зарывается в кусты,— И только капля дождевая Одна спадает с высоты. Дождя, дождя!.. Ужель обманут Нас громовые голоса, С земли колосья не привстанут И не омоются леса? Увы! Грозы насмешка злая, Громовый хохот над землей!.. К чему нам капля дождевая! Что значит капля в этот зной!.. Молниеносной тучи глыба Перевалила за леса, Никто не скажет ей спасибо, С упреком глядя в небеса. Ушла!.. Но где над злом победа? В чем торжество? Все тот же зной…— И не осталось даже следа От бедной капли дождевой…На железной дороге
Мчится, мчится железный конек! По железу железо гремит. Пар клубится, несется дымок; Мчится, мчится железный конек, Подхватил, посадил да и мчит. И лечу я, за делом лечу,— Дело важное, время не ждет. Ну, конек! я покуда молчу Погоди, соловьем засвищу, Коли дело-то в гору пойдет… Вон навстречу несется лесок, Через балки грохочут мосты, И цепляется пар за кусты: Мчится, мчится железный конек, И мелькают, мелькают шесты… Вон и родина! Вон в стороне Тесом крытая кровля встает, Темный садик, скирды на гумне: Там старушка одна; чай, по мне Изнывает, родимого ждет. Заглянул бы я к ней в уголок, Отдохнул бы в тени тех берез, Где так много посеяно грез. Мчится, мчится железный конек… И, свистя, катит сотни колес. Вон река — блеск и тень камыша: Красна девица с горки идет, По тропинке идет не спеша; Может быть — золотая душа, Может быть — красота из красот. Познакомиться с ней бы я мог, И не все ж пустяки городить,— Сам бы мог наконец полюбить… Мчится, мчится железный конек, И железная тянется нить. Вон, вдали, на закате пестрят Колокольни, дома и острог, Однокашник мой там, говорят, Вечно борется, жизни не рад… И к нему завернуть бы я мог… Поболтал бы я с ним хоть часок! Хоть не много им прожито лет, Да немало испытано бед… Мчится, мчится железный конек, Сеет искры летучие вслед… И, крутя, их несет ветерок На росу потемневшей земли, И сквозь сон мне железный конек Говорит: «Ты за делом, дружок, Так ты нежность-то к черту пошли…»<1868>
В альбом К. Ш…{255}
Писатель, если только он Волна, а океан — Россия, Не может быть не возмущен, Когда возмущена стихия. Писатель, если только он Есть нерв великого народа, Не может быть не поражен, Когда поражена свобода.1871
Откуда?!{256}
Откуда же взойдет та новая заря Свободы истинной — любви и пониманья? Из-за ограды ли того монастыря, Где Нестор набожно писал свои сказанья? Из-за Кремля ли, смявшего татар И посрамившего сарматские знамена, Из-за того Кремля, которого пожар Обжег венцы Наполеона? Из-за Невы ль, увенчанной Петром, Тем императором, который не жезлом Ивана Грозного владел, а топором: На запад просеки рубил и строил флоты, К труду с престола шел, к престолу от труда И не чуждался никогда Ни ученической, ни черновой работы? — Оттуда ли, где хитрый иезуит{257}, Престола папского орудие и щит, Во имя нетерпимости и братства, Кичясь, расшатывал основы государства? Оттуда ли, где Гус{258}, за чашу крест подняв, Учил на площадях когда-то славной Праги, Где Жижка{259} страшно мстил за поруганье прав, Мечом тушил костры и, цепи оборвав, Внушал страдальцам дух отваги? Или от Запада, где партии шумят, Где борются с трибун народные витии, Где от искусства к нам несется аромат, Где от наук целебно-жгучий яд, Того гляди, коснется язв России?.. . . . . . Мне, как поэту, дела нет, Откуда будет свет, лишь был бы это свет — Лишь был бы он, как солнце для природы, Животворящ для духа и свободы, И разлагал бы все, в чем духа больше нет…1871
Афанасий Афанасьевич Фет
1820–1892
Деревня
Люблю я приют ваш печальный, И вечер деревни глухой, И за лесом благовест дальный, И кровлю, и крест золотой. Люблю я немятого луга К окну подползающий пар, И тесного, тихого круга Не раз долитой самовар. Люблю я на тех посиделках Старушки чепец и очки; Люблю на окне на тарелках Овса золотые злачки; На столике, близко к окошку, Корзину с узорным чулком, И по полу резвую кошку В прыжках за проворным клубком; И милой, застенчивой внучки Красивый девичий наряд, Движение бледненькой ручки И робко опущенный взгляд; Прощанье смолкающих пташек, И месяца бледный восход, Дрожанье фарфоровых чашек, И речи замедленный ход; И собственной выдумки сказки, Прохлады вечерней струю, И вас, любопытные глазки, Живую награду мою!1842
«Вот утро севера — сонливое, скупое…»
Вот утро севера — сонливое, скупое — Лениво смотрится в окно волоковое; В печи трещит огонь — и серый дым ковром Тихонько стелется над кровлею с коньком. Петух заботливый, копаясь на дороге, Кричит… а дедушка брадатый на пороге Кряхтит покрестится, схватившись за кольцо, И хлопья белые летят ему в лицо. И полдень настает. Но, боже, как люблю я, Как тройкою ямщик кибитку удалую Промчит — и скроется… И долго, мнится мне, Звук колокольчика трепещет в тишине.1842
Степь вечером
Клубятся тучи, млея в блеске алом, Хотят в росе понежиться поля, В последний раз, за третьим перевалом, Пропал ямщик, звеня и не пыля. Нигде жилья не видно на просторе. Вдали огня иль песни — и не ждешь! Все степь да степь. Безбрежная, как море, Волнуется и наливает рожь. За облаком до половины скрыта, Луна светить еще не смеет днем. Вот жук взлетел и прожужжал сердито, Вот лунь проплыл, не шевеля крылом. Покрылись нивы сетью золотистой, Там перепел откликнулся вдали, И слышу я, в изложине росистой Вполголоса скрыпят коростели. Уж сумраком пытливый взор обманут. Среди тепла прохладой стало дуть. Луна чиста. Вот с неба звезды глянут, И, как река, засветит Млечный Путь.<1854>
Ответ Тургеневу
Поэт! ты хочешь знать, за что такой любовью Мы любим родину с тобой? Зачем в разлуке с ней, наперекор злословью, Готово сердце в нас истечь до капли кровью По красоте ее родной? Что ж! пусть весна у нас позднее и короче, Но вот дождались наконец: Синей, мечтательней божественные очи, И раздражительней немеркнущие ночи, И зеленей ее венец. Вчера я шел в ночи и помню очертанье Багряно-золотистых туч. Не мог я разгадать: то яркое сиянье — Вечерней ли зари последнее прощанье Иль утра пламенного луч? Как будто среди дня, замолкнувши мгновенно, Столица севера спала, Под обаяньем сна горда и неизменна, И над громадой ночь, бледна и вдохновенна, Как ясновидящая шла. Не верилося мне, а взоры различали, Скользя по ясной синеве, Чьи корабли вдали на рейде отдыхали,— А воды, не струясь, под ними отражали Все флаги пестрые в Неве. Заныла грудь моя, но в думах окрыленных С тобой мы встретилися, друг! О, верь, что никогда в объятьях раскаленных Не мог таких ночей, вполне разоблаченных, Лелеять сладострастный юг!1856
«Зреет рожь над жаркой нивой…»
Зреет рожь над жаркой нивой, И от нивы и до нивы Гонит ветер прихотливый Золотые переливы. Робко месяц смотрит в очи, Изумлен, что день не минул, Но широко в область ночи День объятия раскинул. Над безбрежной жатвой хлеба Меж заката и востока Лишь на миг смежает небо Огнедышащее око.Конец 50-х годов
Дождливое лето
Ни тучки нет на небосклоне, Но крик петуший бури весть, И в дальном колокольном звоне Как будто слезы неба есть. Покрыты слегшими травами, Не зыблют колоса поля, И, пресыщенная дождями, Не верит солнышку земля. Под кровлей влажной и раскрытой Печально праздное житье. Серпа с косой, давно отбитой, В углу тускнеет лезвие.Конец 50-х годов
«Ты видишь, за спиной косцов…»
Ты видишь, за спиной косцов Сверкнули косы блеском чистым, И поздний пар от их котлов Упитан ужином душистым. Лиловым дымом даль поя, В сиянье тонет дня светило, И набежавших туч края Стеклом горючим окаймило. Уже подрезан, каждый ряд Цветов лежит пахучей цепью. Какая тень и аромат Плывут над меркнущею степью! В душе смиренной уясни Дыханье ночи непорочной И до огней зари восточной Под звездным пологом усни!1864
«Учись у них — у дуба, у березы…»
Учись у них — у дуба, у березы. Кругом зима. Жестокая пора! Напрасные на них застыли слезы, И треснула, сжимаяся, кора: Все злей метель и с каждою минутой Сердито рвет последние листы, И за сердце хватает холод лютый; Они стоят, молчат; молчи и ты! Но верь весне. Ее промчится гений, Опять теплом и жизнию дыша. Для ясных дней, для новых откровений Переболит скорбящая душа.31 декабря 1883
«Из дебрей туманы несмело…»
Из дебрей туманы несмело Родное закрыли село; Но солнышком вешним согрело И ветром их вдаль разнесло. Знать, долго скитаться наскуча Над ширью земель и морей, На родину тянется туча, Чтоб только поплакать над ней.9 июня 1886
Севастопольское братское кладбище
Какой тут дышит мир! Какая славы тризна Средь кипарисов, мирт и каменных гробов! Рукою набожной сложила здесь отчизна Священный прах своих сынов. Они и под землей отвагой прежней дышат… Боюсь, мои стопы покой их возмутят, И мнится, все они шаги живого слышат, Но лишь молитвенно молчат. Счастливцы! Высшею пылали вы любовью: Тут что ни мавзолей, ни надпись — всё боец, И рядом улеглись, своей залиты кровью, И дед со внуком и отец. Из каменных гробов их голос вечно слышен, Им внуков поучать навеки суждено, Их слава так чиста, их жребий так возвышен, Что им завидовать грешно…4 июня 1887
Аполон Николаевич Майков
1821–1897
«Бездарных несколько семей…»
Бездарных несколько семей Путем богатства и поклонов Владеют родиной моей. Стоят превыше всех законов, Стеной стоят вокруг царя, Как мопсы жадные и злые, И простодушно говоря: «Ведь только мы и есть Россия!»1855 или 1856
Сенокос
Пахнет сеном над лугами… В песне душу веселя, Бабы с граблями рядами Ходят, сено шевеля. Там — сухое убирают. Мужички его кругом На воз вилами кидают… Воз растет, растет, как дом… В ожиданье конь убогий, Точно вкопанный, стоит… Уши врозь, дугою ноги И как будто стоя спит… Только жучка удалая В рыхлом сене, как в волнах, То взлетая, то ныряя, Скачет, лая впопыхах.1856
Летний дождь
«Золото, золото падает с неба!» — Дети кричат и бегут за дождем… Полноте, дети, его мы сберем, Только сберем золотистым зерном В полных амбарах душистого хлеба.1856
Нива
По ниве прохожу я узкою межой, Поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянусь — повсюду рожь густая! Иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной И колют мне лицо… Иду я наклоняясь, Как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, Когда, перескочив чрез ивовый плетень, Средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. О, божья благодать!.. О, как прилечь отрадно В тени высокой ржи, где сыро и прохладно! Заботы полные, колосья надо мной Беседу важную ведут между собой. Им внемля, вижу я: на всем полей просторе И жницы, и жнецы, ныряя точно в море, Уж вяжут весело тяжелые снопы; Вон на заре стучат проворные цепы; В амбарах воздух полн и розана, и меда; Везде скрипят возы; средь шумного народа На пристанях кули валятся; вдоль реки Гуськом, как журавли, проходят бурлаки, Нагнувши головы, плечами напирая И длинной бичевой по влаге ударяя… О, боже! ты даешь для родины моей Тепло и урожай, дары святые неба,— Но, хлебом золотя простор ее полей, Ей также, господи, духовного дай хлеба! Уже над нивою, где мысли семена Тобой насажены, повеяла весна, И непогодами не сгубленные зерна Пустили свежие ростки свои проворно,— О, дай нам солнышка! Пошли ты ведра нам, Чтоб вызрел их побег по тучным бороздам! Чтоб нам, хоть опершись на внуков, стариками Прийти на тучные их нивы подышать И, позабыв, что мы их полили слезами, Промолвить: «Господи! какая благодать!»1856
«Здесь весна, как художник уж славный, работает тихо…»
Здесь весна, как художник уж славный, работает тихо, От цветов до других по неделе проходит и боле. Словно кончит картину и публике даст наглядеться, Да и публика знает маэстро — уж много о нем не толкует; Репутация сделана — бюст уж его в Пантеоне{260}. То ли дело наш Север! Весна, как волшебник нежданный, Пронесется в лучах, и растопит снега и угонит, Словно взмахом одним с яркой озими сдернет покровы, Вздует почки в лесу, и — цветами уж зыблется поле! Не успеет крестьянин промолвить: «Никак нынче вёдро», Как — и соху справляй, и сырую разрыхливай землю! А на небе-то, господи, праздник, и звон, и веселье! И летят надо всею-то ширью от моря и до моря птицы — К зеленям беспредельным, к широким зеркальным разливам! Выбирай лишь, где больше приволья, в воде им и в лесе! И кричат так, завидя знакомые реки и дебри, И с соломенных крыш беловатый дымок над поляной!.. Унеси ты, волшебник, скорее меня в это царство, Где по утренним светлым зарям бодро дышится груди, Где пред ликом господних чудес умиляется всякое сердце…1859 Неаполь
«Мой взгляд теряется в торжественном просторе…»
Мой взгляд теряется в торжественном просторе… Сияет ковыля серебряное море В дрожащих радугах, — незримый хор певцов И степь и небеса весельем наполняет, И только тень порой от белых облаков На этом празднике, как дума, пролетает.1862
М. Н. Каткову{261}
Мы — москвичи! Что делать, милый друг! Кинь нас судьба на север иль на юг — У нас везде, со всей своею славой, В душе — Москва и Кремль золотоглавый; В нас заповедь великая жива, И вера в нас досель не извелася, На коих древле создалась Москва И чрез нее — Россия создалася. Там у гробов иерархов и царей, Наметивших великие ей цели, Они видней, и ты поймешь ясней, Куда идти, и как мы шли доселе, И отчего во дни народных бед, И внешних бурь, и всякого шатанья, Для всей Руси как дедовский завет Родной Москвы звучало увещанье. Храни ж его, отцов завет святой, Как Ермоген{262} в цепях, в тюрьме сырой,— И в жизни путь всегда увидишь правый, И посрамишь всяк умысел лихой, Всяк вражий ков и всяк соблазн лукавый.1867
Алексей Михайлович Жемчужников
1821–1908
Притча о сеятеле и семенах
Шел сеятель с зернами в поле и сеял; И ветер повсюду те зерна развеял Одни при дороге упали; порой Их топчет прохожий небрежной ногой, И птиц, из окрестных степей пролетая, На них нападает голодная стая. Другие на камень бесплодный легли И вскоре без влаги и корня взошли,— И в пламенный полдень дневное светило Былинку палящим лучом иссушило. Средь терния пало иное зерно, И в тернии диком заглохло оно… Напрасно шел дождь и с прохладной зарею Поля освежались небесной росою; Одни за другими проходят года — От зерен тех нет и не будет плода. Но в добрую землю упавшее семя, Как жатвы настанет урочное время, Готовя стократно умноженный плод, Высоко, и быстро, и сильно растет, И блещет красою, и жизнию дышит… Имеющий уши, чтоб слышать, — да слышит!1851
Зимняя прогулка в деревне
Вид родной и грустный!.. От него нельзя Оторваться взору… Тянутся избушки, будто бы скользя Вдоль по косогору… Из лощины тесной выше поднялся Я крутой дорогой; И тогда деревня мне открылась вся На горе отлогой. Снежная равнина облегла кругом На деревьях иней; Проглянуло солнце, вырвавшись лучом Из-за тучи синей. Вон — старик прохожий с нищенской сумой Подошел к окошку; Пробежали санки, рыхлой полосой Проложив дорожку. Вон — дроздов веселых за рекою вдруг Поднялася стая; Снег во всем пространстве сыплется как пух, По ветру летая. Голуби воркуют; слышен разговор На конце селенья; И опять все смолкло, лишь стучит топор Звонко в отдаленьи… И смотреть, и слушать не наскучит мне, На дороге стоя… Здесь бы жить остаться! В этой тишине Что-то есть святое…1857
Нищая
С ней встретились мы средь открытого поля В трескучий мороз. Не лета Ее истомили, но горькая доля, Но голод, болезнь, нищета, Ярмо крепостное, работа без прока В ней юную силу сгубили до срока. Лоскутья одежд на ней были надеты; Спеленатый грубым тряпьем, Ребенок, заботливо ею пригретый, У сердца покоился сном… Но если не сжалятся добрые люди, Проснувшись, найдет ли он пищи у груди? Шептали мольбу ее бледные губы, Рука подаянья ждала… Но плотно мы были укутаны в шубы; Нас тройка лихая несла, Снег мерзлый взметая, как облако пыли… Тогда в монастырь мы к вечерне спешили.1857
«О, скоро ль минет это время…»
О, скоро ль минет это время. Весь этот нравственный хаос, Где прочность убеждений — бремя, Где подвиг доблести — донос; Где после свалки безобразной, Которой кончилась борьба, Не отличишь в толпе бессвязной Ни чистой личности от грязной, Ни вольнодумца от раба; Где быта старого оковы Уже поржавели на нас, А светоч, путь искавший новый, Чуть озарив его, погас; Где то, что прежде создавала Живая мысль, идет пока Как бы снаряд, идущий вяло И силой прежнего толчка; Где стыд и совесть убаюкать Мы все желаем чем-нибудь И только б нам ладонью стукать В «патриотическую» грудь!..1870
Осенние журавли
Сквозь вечерний туман мне под небом стемневшим Слышен крик журавлей всё ясней и ясней… Сердце к ним понеслось, издалёка летевшим, Из холодной страны, с обнаженных степей. Вот уж близко летят и всё громче рыдая, Словно скорбную весть мне они принесли… Из какого же вы неприветного края Прилетели сюда на ночлег, журавли?.. Я ту знаю страну, где уж солнце без силы, Где уж савана ждет, холодея, земля И где в голых лесах воет ветер унылый,— То родимый мой край, то отчизна моя. Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть, Вид угрюмый людей, вид печальный земли… О, как больно душе, как мне хочется плакать! Перестаньте рыдать надо мной, журавли!..28 октября 1811
Югенгейм, близ Рейна
На родине
Опять пустынно и убого; Опять родимые места… Большая пыльная дорога И полосатая верста! И нивы вплоть до небосклона, Вокруг селений, где живет Всё так же, как во время оно, Под страхом голода народ; И все поющие на воле Жильцы лесов родной земли — Кукушки, иволги; а в поле — Перепела, коростели; И трели, что в небесном своде На землю жаворонки льют… Повсюду гимн звучит природе, И лишь ночных своих мелодий Ей соловьи уж не поют. Я опоздал к поре весенней, К мольбам любовным соловья, Когда он в хоре песнопений Поет звучней и вдохновенней, Чем вся пернатая семья… О, этот вид! О, эти звуки! О край родной, как ты мне мил! От долговременной разлуки Какие радости и муки В моей душе ты пробудил!.. Твоя природа так прелестна; Она так скромно-хороша! Но нам, сынам твоим, известно, Как на твоем просторе тесно И в узах мучится душа… О край ты мой! Что ж это значит, Что никакой другой народ Так не тоскует и не плачет, Так дара жизни не клянет? Шумят леса свободным шумом, Играют птицы… О, зачем Лишь воли нет народным думам И человек угрюм и нем? Понятны мне его недуги И страсть — все радости свои, На утомительном досуге, Искать в бреду и в забытьи. Он дорожит своей находкой, И лишь начнет сосать тоска — Уж потянулась к штофу с водкой Его дрожащая рука. За преступленья и пороки Его винить я не хочу. Чуть осветит он мрак глубокий, Как буйным вихрем рок жестокий Задует разума свечу… Но те мне, Русь, противны люди, Те из твоих отборных чад, Что, колотя в пустые груди, Всё о любви к тебе кричат. Противно в них соединенье Гордыни с низостью в борьбе И к русским гражданам презренье С подобострастием к тебе. Противны затхлость их понятий, Шумиха фразы на лету И вид их пламенных объятий, Всегда простертых в пустоту. И отвращения, и злобы Исполнен к ним я с давних лет. Они — «повапленные» гробы… Лишь настоящее прошло бы, А там — им будущего нет…21 апреля 1884
Рунторт
Отдых при дороге
На мураве присев кудрявой, Я в одиночестве счастлив; И все любуюсь — то направо Сребристой гладью сжатых нив, То милым зрелищем налево, Как нежной зеленью взошли Ростки озимого посева На черном бархате земли. Смотрю, как тучки в небе тают; Как тени их, при блеске дня, Окрестность дымкой застилают — И будто меркнут зеленя; Иль как несутся тени эти За горизонт поверх полей… Что проще может быть на свете И что же может быть милей?..1886
Придорожная береза
В поле пустынном, у самой дороги, береза, Длинные ветви раскинув широко и низко, Молча дремала, и тихая снилась ей греза; Но встрепенулась, лишь только подъехал я близко. Быстро я ехал; она свое доброе дело Всё же свершила: меня осенила любовно; И надо мной, шелестя и дрожа, прошумела, Наскоро что-то поведать желая мне словно — Словно со мной поделилась тоской безутешной, Вместе с печальным промолвя и нежное что-то… Я, с ней прощаясь, назад оглянулся поспешно,— Но уже снова ее одолела дремота.1895
Петербург
Николай Алексеевич Некрасов
1821–1878
Перед дождем
Заунывный ветер гонит Стаю туч на край небес, Ель надломленная стонет, Глухо шепчет темный лес. На ручей, рябой и пестрый, За листком летит листок, И струей, сухой и острой, Набегает холодок. Полумрак на все ложится; Налетев со всех сторон, С криком в воздухе кружится Стая галок и ворон. Над проезжей таратайкой Спущен верх, перед закрыт; И «пошел!» — привстав с нагайкой, Ямщику жандарм кричит…1846
Несжатая полоса
Поздняя осень. Грачи улетели, Лес обнажился, поля опустели, Только не сжата полоска одна… Грустную думу наводит она. Кажется, шепчут колосья друг другу: «Скучно нам слушать осеннюю вьюгу, Скучно склоняться до самой земли, Тучные зерна купая в пыли! Нас, что ни ночь, разоряют станицы{263} Всякой пролетной прожорливой птицы, Заяц нас топчет, и буря нас бьет… Где же наш пахарь? чего еще ждет? Или мы хуже других уродились? Или недружно цвели-колосились? Нет! мы не хуже других — и давно В нас налилось и созрело зерно. Не для того же пахал он и сеял, Чтобы нас ветер осенний развеял…» Ветер несет им печальный ответ: — Вашему пахарю моченьки нет. Знал, для чего и пахал он и сеял, Да не по силам работу затеял. Плохо бедняге — не ест и не пьет, Червь ему сердце больное сосет, Руки, что вывели борозды эти, Высохли в щепку, повисли как плети, Очи потускли и голос пропал, Что заунывную песню певал, Как, на соху налегая рукою, Пахарь задумчиво шел полосою.1854
На родине
Роскошны вы, хлеба заповедные Родимых нив — Цветут, растут колосья наливные, А я чуть жив! Ах, странно так я создан небесами, Таков мой рок, Что хлеб полей, возделанных рабами, Нейдет мне впрок!1855
Забытая деревня
1
У бурмистра Власа бабушка Ненила Починить избенку лесу попросила. Отвечал: —Нет лесу, и не жди — не будет!— «Вот приедет барин — барин нас рассудит, Барин сам увидит, что плоха избушка, И велит дать лесу», — думает старушка.2
Кто-то по соседству, лихоимец жадный, У крестьян землицы косячок изрядный Оттягал, отрезал плутовским манером— «Вот приедет барин: будет землемерам! — Думают крестьяне: — скажет барин слово — И землицу нашу отдадут нам снова».3
Полюбил Наташу хлебопашец вольный, Да перечит девке немец сердобольный, Главный управитель. «Погоди, Игнаша, Вот приедет барин!» — говорит Наташа. Малые, большие — дело чуть за спором — «Вот приедет барин!» — повторяют хором…4
Умерла Ненила; на чужой землице У соседа-плута — урожай сторицей; Прежние парнишки ходят бородаты; Хлебопашец вольный угодил в солдаты, И сама Наташа свадьбой уж не бредит… Барина все нету… барин все не едет!5
Наконец однажды середи дороги Шестернею цугом показались дроги: На дрогах высоких гроб стоит дубовый, А в гробу-то барин; а за гробом — новый. Старого отпели, новый слезы вытер, Сел в свою карету — и уехал в Питер.1855
Школьник
— Ну, пошел же, ради бога! Небо, ельник и песок — Невеселая дорога… Эй! садись ко мне, дружок! Ноги босы, грязно тело, И едва прикрыта грудь… Не стыдися! что за дело? Это многих славный путь. Вижу я в котомке книжку. Так, учиться ты идешь… Знаю, батька на сынишку Издержал последний грош. Знаю, старая дьячиха Отдала четвертачок, Что проезжая купчиха Подарила на чаек. Или, может, ты дворовый. Из отпущенных?.. Ну что ж! Случай тоже уж не новый — Не робей, не пропадешь! Скоро сам узнаешь в школе, Как архангельский мужик По своей и божьей воле Стал разумен и велик. Не без добрых душ на свете — Кто-нибудь свезет в Москву, Будешь в университете— Сон свершится наяву! Там уж поприще широко: Знай работай да не трусь… Вот за что тебя глубоко Я люблю, родная Русь. Не бездарна та природа, Не погиб еще тот край, Что выводит из народа Столько славных то и знай,— Столько добрых, благородных Сильных любящей душой Посреди тупых, холодных И напыщенных собой!1856
«В столицах шум, гремят витии…»
В столицах шум, гремят витии, Кипит словесная война, А там, во глубине России,— Там вековая тишина. Лишь ветер не дает покою Вершинам придорожных ив, И выгибаются дугою, Целуясь с матерью-землёю, Колосья бесконечных нив…1857
«Что ни год — уменьшаются силы…»
Что ни год — уменьшаются силы, Ум ленивее, кровь холодней… Мать-отчизна! дойду до могилы, Не дождавшись свободы твоей! Но желал бы я знать, умирая, Что стоишь ты на верном пути, Что твой пахарь, поля засевая, Видит ведряный день впереди; Чтобы ветер родного селенья Звук единый до слуха донес, Под которым не слышно кипенья Человеческой крови и слез.1861
Похороны
Меж высоких хлебов затерялося Небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялося И на нас невзначай набрело. Ой, беда приключилася страшная! Мы такой не знавали вовек: Как у нас — голова бесшабашная— Застрелился чужой человек! Суд приехал… допросы… — тошнехонько! Догадались деньжонок собрать: Осмотрел его лекарь скорехонько И велел где-нибудь закопать. И пришлось нам нежданно-негаданно Хоронить молодого стрелка, Без церковного пенья, без ладана, Без всего, чем могила крепка… Без попов!..{264} Только солнышко знойное, Вместо ярого воску свечи, На лицо непробудно-спокойное, Не скупясь, наводило лучи; Да высокая рожь колыхалася, Да пестрели в долине цветы; Птичка божья на гроб опускалася И, чирикнув, летела в кусты. Поглядим; что ребят набирается! Покрестились и подняли вой… Мать о сыне рекой разливается, Плачет муж по жене молодой,— Как не плакать им? Диво велико ли? Своему-то свои хороши! А по ком ребятишки захныкали, Тот, наверно, был доброй души! Меж двумя хлебородными нивами, Где прошел неширокий долок, Под большими плакучими ивами Упокоился бедный стрелок. Что тебя доканало, сердешного? Ты за что свою душу сгубил? Ты захожий, ты роду нездешнего, Но ты нашу сторонку любил: Только минут морозы упорные И весенних гостей налетит,— «Чу! — кричат наши детки проворные — Прошлогодний охотник палит!» Ты ласкал их, гостинцу им нашивал, Ты на спрос отвечать не скучал. У тебя порошку{265} я попрашивал, И всегда ты нескупо давал. Почивай же, дружок! Память вечная! Не жива ль твоя бедная мать? Или, может, зазноба сердечная Будет таять, дружка поджидать? Мы пойдем, повестим твою милую: Может быть, и приедет любя, И поплачет она над могилою, И расскажем мы ей про тебя. Почивай себе с миром, с любовию Почивай! Бог тебе судия, Что обрызгал ты грешною кровию Неповинные наши поля! Кто дознает, какою кручиною Надрывалося сердце твое Перед вольной твоею кончиною, Перед тем, как спустил ты ружье?.._______
Меж двумя хлебородными нивами, Где прошел неширокий долок, Под большими плакучими ивами Упокоился бедный стрелок. Будут песни к нему хороводные Из села по заре долетать, Будут нивы ему хлебородные Безгреховные сны навевать…1861
Зеленый шум[20]
Идет-гудет Зеленый Шум, Зеленый Шум, весенний шум! Играючи расходится Вдруг ветер верховой: Качнет кусты ольховые, Подымет пыль цветочную, Как облако: всё зелено, И воздух и вода! Идет-гудет Зеленый Шум, Зеленый Шум, весенний шум! Скромна моя хозяюшка Наталья Патрикеевна, Водой не замутит! Да с ней беда случилася, Как лето жил я в Питере… Сама сказала, глупая, Типун ей на язык! В избе сам-друг с обманщицей Зима нас заперла, В мои глаза суровые Глядит, — молчит жена. Молчу… а дума лютая Покоя не дает: Убить… так жаль сердечную! Стерпеть — так силы нет! А тут зима косматая Ревет и день и ночь: «Убей, убей изменницу! Злодея изведи! Не то весь век промаешься, Ни днем, ни долгой ноченькой Покоя не найдешь. В глаза твои бесстыжие Соседи наплюют!..» Под песню-вьюгу зимнюю Окрепла дума лютая— Припас я вострый ноле… Да вдруг весна подкралася… Идет-гудет Зеленый Шум, Зеленый Шум, весенний шум! Как молоком облитые, Стоят сады вишневые, Тихохонько шумят; Пригреты теплым солнышком, Шумят повеселелые Сосновые леса; А рядом новой зеленью Лепечут песню новую И липа бледнолистая, И белая березонька С зеленою косой! Шумит тростинка малая, Шумит высокий клен… Шумят они по-новому, По-новому, весеннему… Идет-гудет Зеленый Шум, Зеленый Шум, весенний шум! Слабеет дума лютая, Нож валится из рук, И все мне песня слышится Одна — в лесу, в лугу: «Люби, покуда любится, Терпи, покуда терпится, Прощай, пока прощается, И — бог тебе судья!»1862
«В полном разгаре страда деревенская…»
В полном разгаре страда деревенская… Доля ты! — русская долюшка женская! Вряд ли труднее сыскать. Не мудрено, что ты вянешь до времени, Всевыносящего русского племени Многострадальная мать! Зной нестерпимый: равнина безлесная, Нивы, покосы да ширь поднебесная— Солнце нещадно палит. Бедная баба из сил выбивается, Столб насекомых над ней колыхается. Жалит, щекочет, жужжит! Приподнимая косулю тяжелую, Баба порезала ноженьку голую— Некогда кровь унимать! Слышится крик у соседней полосыньки, Баба туда — растрепалися косыньки.— Надо ребенка качать! Что же ты стала над ним в отупении? Пой ему песню о вечном терпении, Пой, терпеливая мать!.. Слезы ли, пот ли у ней над ресницею, Право, сказать мудрено. В жбан этот, заткнутый грязной тряпицею, Канут они — все равно! Вот она губы свои опаленные Жадно подносит к краям… Вкусны ли, милая, слезы соленые С кислым кваском пополам?..1862–1863
«Надрывается сердце от муки…»
Надрывается сердце от муки, Плохо верится в силу добра, Внемля в мире царящие звуки Барабанов, цепей, топора. Но люблю я, весна золотая, Твой сплошной, чудно-смешанный шум; Ты ликуешь, на миг не смолкая, Как дитя, без заботы и дум. В обаянии счастья и славы, Чувству жизни ты вся предана,— Что-то шепчут зеленые травы, Говорливо струится волна; В стаде весело ржет жеребенок, Бык с землей вырывает траву, А в лесу белокурый ребенок— Чу! кричит: «Парасковья, ау!» По холмам, по лесам, над долиной Птицы севера вьются, кричат, Разом слышны — напев соловьиный И нестройные писки галчат, Грохот тройки, скрипенье подводы, Крик лягушек, жужжание ос, Треск кобылок, в просторе свободы Все в гармонию жизни слилось… Я наслушался шума иного… Оглушенный, подавленный им, Мать-природа! иду к тебе снова Со всегдашним желаньем моим — Заглуши эту музыку злобы! Чтоб душа ощутила покой И прозревшее око могло бы Насладиться твоей красотой.1863
Калистрат
Надо мной певала матушка, Колыбель мою качаючи: «Будешь счастлив, Калистратушка! Будешь жить ты припеваючи!» И сбылось, по воле божией, Предсказанье моей матушки: Нет богаче, нет пригожее, Нет нарядней Калистратушки! В ключевой воде купаюся, Пятерней чешу волосыньки, Урожаю дожидаюся С непосеянной полосыньки! А хозяйка занимается На нагих детишек стиркою, Пуще мужа наряжается— Носит лапти с подковыркою!..1863
«Умру я скоро. Жалкое наследство…»
Посвящается неизвестному другу,
приславшему мне стихотворение
«Не может быть».
Умру я скоро. Жалкое наследство, О родина! оставлю я тебе. Под гнетом роковым провел я детство И молодость — в мучительной борьбе. Недолгая нас буря укрепляет, Хоть ею мы мгновенно смущены, Но долгая — навеки поселяет В душе привычки робкой тишины. На мне года гнетущих впечатлений Оставили неизгладимый след. Как мало знал свободных вдохновений, О родина! печальный твой поэт! Каких преград не встретил мимоходом С своей угрюмой музой на пути?.. За каплю крови, общую с народом, И малый труд в заслугу мне сочти! Не торговал я лирой, но бывало, Когда грозил неумолимый рок, У лиры звук неверный исторгала Моя рука… Давно я одинок; Вначале шел я с дружною семьею, Но где они, друзья мои, теперь? Одни давно рассталися со мною, Перед другими сам я запер дверь; Те жребием постигнуты жестоким, А те прешли уже земной предел… За то, что я остался одиноким, Что я ни в ком опоры не имел, Что я, друзей теряя с каждым годом, Встречал врагов все больше на пути — За каплю крови, общую с народом, Прости меня, о родина! прости!.. Я призван был воспеть твои страданья, Терпеньем изумляющий народ! И бросить хоть единый луч сознанья На путь, которым бог тебя ведет, Но, жизнь любя, к ее минутным благам Прикованный привычкой и средой, Я к цели шел колеблющимся шагом, Я для нее не жертвовал собой, И песнь моя бесследно пролетела, И до народа не дошла она. Одна любовь сказаться в ней успела К тебе, моя родная сторона! За то, что я, черствея с каждым годом, Ее умел в душе моей спасти, За каплю крови, общую с народом, Мои вины, о родина! прости!..1867
Элегия
(А. Н. Еракову{266})
Пускай нам говорит изменчивая мода, Что тема старая — «страдания народа» И что поэзия забыть ее должна,— Не верьте, юноши! не стареет она. О, если бы ее могли состарить годы! Процвел бы божий мир!.. Увы! пока народы Влачатся в нищете, покорствуя бичам, Как тощие стада по скошенным лугам, Оплакивать их рок, служить им будет Муза, И в мире нет прочней, прекраснее союза!.. Толпе напоминать, что бедствует народ В то время, как она ликует и поет, К народу возбуждать вниманье сильных мира— Чему достойнее служить могла бы лира?.. Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру неведомый ему, Но я ему служил — и сердцем я спокоен… Пускай наносит вред врагу не каждый воин, Но каждый в бой иди! А бой решит судьба… Я видел красный день: в России нет раба! И слезы сладкие я пролил в умиленье… «Довольно ликовать в наивном увлеченье,— Шепнула Муза мне: —Пора идти вперед: Народ освобожден, но счастлив ли народ?..» Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою, Старик ли медленный шагает за сохою, Бежит ли по лугу, играя и свистя, С отцовским завтраком довольное дитя, Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы,— Ответа я ищу на тайные вопросы, Кипящие в уме: «В последние года Сносней ли стала ты, крестьянская страда? И рабству долгому пришедшая на смену Свобода, наконец, внесла ли перемену В народные судьбы? в напевы сельских дев? Иль так же горестен нестройный их напев?..» Уж вечер настает. Волнуемый мечтами, По нивам, по лугам, уставленным стогами, Задумчиво брожу в прохладной полутьме, И песнь сама собой слагается в уме, Недавних, тайных дум живое воплощенье: На сельские труды зову благословенье, Народному врагу проклятия сулю, А другу у небес могущества молю, И песнь моя громка!.. Ей вторят долы, нивы, И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы, И лес откликнулся… Природа внемлет мне, Но тот, о ком пою в вечерней тишине, Кому посвящены мечтания поэта,— Увы! не внемлет он — и не дает ответа…1874
Сеятелям
Сеятель знанья на ниву народную! Почву ты, что ли, находишь бесплодную, Худы ль твои семена? Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами? Труд награждается всходами хилыми, Доброго мало зерна! Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами, Где же вы, с полными жита кошницами? Труд засевающих робко, крупицами, Двиньте вперед! Сейте разумное, доброе, вечное, Сейте! Спасибо вам скажет сердечное Русский народ…1876
Лев Александрович Мей{267}
1822–1862
Запевка
Ох, пора тебе на волю, песня русская, Благовестная, победная, раздольная, Погородная, посельная, попольная, Непогодою-невзгодою повитая, Во крови, в слезах крещеная-омытая! Ох, пора тебе на волю, песня русская! Не сама собой ты спелася-сложилася: С пустырей тебя намыло снегом-дождиком, Нанесло тебя с пожарищ дымом-копотью, Намело тебя с сырых могил метелицей…1856
Тройка
Посвящается
Николаю Егоровичу Сверчкову{268}
Вся в инее морозном и в снегу, На спуске под гору, в разгоне на бегу, Постромки опустив и перегнув дугу, Остановилась бешеная тройка Под заскорузлыми вожжами ямщика… Что у коней за стати!.. Что за стойка… Ну!.. знать, у ямщика бывалая рука, Что клубом удила осеребрила пена… И в сторону, крестясь, свернул свой возик сена Оторопевший весь со страху мужичок, И с лаем кинулся на переём Волчок. Художник! удержи ты тройку на мгновенье: Позволь еще продлить восторг и наслажденье, За тридевять земель покинуть грусть-печаль И унестись с тобой в желанную мне даль…1861
Аполлон Александрович Григорьев{269}
1822–1864
Город
Да, я люблю его, громадный, гордый град. Но не за то, за что другие; Не здания его, не пышный блеск палат И не граниты вековые Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой Я прозираю в нем иное— Его страдание под ледяной корой, Его страдание больное. Пусть почву шаткую он заковал в гранит И защитил ее от моря, И пусть сурово он в самом себе таит Волненье радости и горя, И пусть его река к стопам его несет И роскоши, и неги дани,— На них отпечатлен тяжелый след забот, Людского пота и страданий. И пусть горят светло огни его палат, Пусть слышны в них веселья звуки,— Обман, один обман! Они не заглушат Безумно страшных стонов муки! Страдание одно привык я подмечать В окне ль с богатою гардиной Иль в темном уголку — везде его печать! Страданье — уровень единый! И в те часы, когда на город гордый мой Ложится ночь без тьмы и тени, Когда прозрачно все, мелькает предо мной Рой отвратительных видений… Пусть ночь ясна, как день, пусть тихо все вокруг, Пусть все прозрачно и спокойно,— В покое том затих на время злой недуг, И то — прозрачность язвы гнойной.1 января 1845
«Когда колокола торжественно звучат…»
Когда колокола торжественно звучат Иль ухо чуткое услышит звон их дальний, Невольно думою печальною объят, Как будто песни погребальной, Веселым звукам их внимаю грустно я, И тайным ропотом полна душа моя. Преданье ль темное тайник взволнует груди, Иль точно в звуках тех таится звук иной, Но, мнится, колокол я слышу речевой, Разбитый, может быть, на тысячи орудий, Властям когда-то роковой. Да, умер он, давно замолк язык народа, Склонившего главу под тяжкий царский кнут; Но встанет грозный день, но воззовет свобода, И камни вопли издадут, И расточенный прах и кости исполина Совокупит опять дух божий воедино. И звучным голосом он снова загудит, И в оный судный день, в расплаты час кровавый, В нем новгородская душа заговорит Московской речью величавой… И весело тогда на башнях и стенах Народной вольности завеет красный стяг…1 марта 1846
Москва
Иван Сергеевич Аксаков
1823–1886
Русскому поэту
Поэт, взгляни вокруг! Напрасно голос твой Выводит звуки стройных песен: Немое множество стоит перед тобой, А круг внимающих — так тесен! Для них ли носишь ты в душе своей родник Прекрасных, чистых вдохновений? Для них! Народу чужд искусственный язык Твоих бесцветных песнопений, На иноземный лад настроенные сны С тоскою лживой и бесплодной… Не знаешь ты тебя взлелеявшей страны, Ты не певец ее народный! Не вдохновлялся ты в источнике живом С народом общей тайной духа, Не изучимого ни взором, ни умом, Неуловимого для слуха! Ты чужд его богатств! Как жалкий ученик, Без самородного закала, Растратишь скоро все, чем полон твой родник, Чем жизнь заемная питала! Пусть хор ценителей за робкий песен склад Тебя и хвалит и ласкает!.. Немое множество не даст тебе наград: Народ поэта не признает!11 июня 1846
Юлия Валериановна Жадовская{270}
1824–1883
Нива
Нива, моя нива, Нива золотая! Зреешь ты на солнце, Колос наливая. По тебе от ветру — Словно в синем море — Волны так и ходят, Ходят на просторе. Над тобою с песней Жаворонок вьется, Над тобой и туча Грозно пронесется. Зреешь ты и спеешь, Колос наливая, О людских заботах Ничего не зная. Унеси ты, ветер, Тучу градовую. Сбереги нам, боже, Ниву трудовую!..Между 1856 и 1859
«Грустная картина!..»
Грустная картина! Облаком густым Вьется из овина За деревней дым. Незавидна местность: Скудная земля, Плоская окрестность, Выжаты поля. Все как бы в тумане, Все как будто спит… В худеньком кафтане Мужичок стоит, Головой качает — Умолот плохой, Думает-гадает: Как-то быть зимой? Так вся жизнь проходит С горем пополам; Там и смерть приходит, С ней конец трудам. Причастит больного Деревенский поп; Принесут сосновый От соседа гроб; Отпоют уныло… И старуха мать Долго над могилой Будет причитать…<1857>
Посев
Сеятель вышел с кошницею в поле, Семя бросает направо, налево; Тучная пашня его принимает; Падают зерна куда ни попало: Много их пало на добрую землю, Много в глубокие борозды пало, Многие ветер отнес на дорогу, Много под глыбы заброшено было. Сеятель, труд свой окончив, оставил Поле, и ждал изобильной он жатвы. Зерна почуяли жизнь и стремленье; Быстро явились зеленые всходы, К солнцу тянулися гибкие стебли И достигали назначенной цели — Плод принести и обильный, и зрелый. Те же, что в борозды, иль на дорогу, Или под глыбы заброшены были, Тщетно стремятся к назначенной цели, Сгибли, завяли в борьбе безысходной… Солнце и влага им были не в пользу! Жатва меж тем налилась и созрела; Жатели вышли веселой толпою, Сноп за снопом набирают ретиво; Радостно смотрит хозяин на ниву, Видит созревшие в меру колосья И золотистые, полные зерна; Тех же, что пали в бесплодную землю, Тех, что увяли в тяжелой истоме, Он и не ведает, он и не помнит!..1857
Иван Саввич Никитин
1824–1861
Юг и север
Есть сторона, где все благоухает; Где ночь, как день безоблачный, сияет Над зыбью вод и моря вечный шум Таинственно оковывает ум; Где в сумраке садов уединенных, Сияющей луной осеребренных, Подъемлется алмазною дугой Фонтанный дождь над сочною травой; Где статуи безмолвствуют угрюмо, Объятые невыразимой думой; Где говорят так много о былом Развалины, покрытые плющом; Где на коврах долины живописной Ложится тень от рощи кипарисной; Где все быстрей и зреет, и цветет; Где жизни пир беспечнее идет. Но мне милей роскошной жизни Юга Седой зимы полуночная вьюга, Мороз, и ветр, и грозный шум лесов, Дремучий бор по скату берегов, Простор степей и небо над степями С громадой туч и яркими звездами. Глядишь кругом, — все сердцу говорит: И деревень однообразный вид, И городов обширные картины. И снежные безлюдные равнины, И удали размашистый разгул, И русский дух, и русской песни гул, То глубоко-беспечной, то унылой, Проникнутой невыразимой силой… Глядишь вокруг — и на душе легко, И зреет мысль так вольно, широко, И сладко песнь в честь родины поется, И кровь кипит, и сердце гордо бьется, И с радостью внимаешь звуку слов: «Я Руси сын! здесь край моих отцов!»1851
Русь
Под большим шатром Голубых небес, Вижу, даль степей Зеленеется. И на гранях их, Выше темных туч, Цепи гор стоят Великанами. По степям, в моря, Реки катятся. И лежат пути Во все стороны. Посмотрю на юг: Нивы зрелые, Что камыш густой, Тихо движутся; Мурава лугов Ковром стелется, Виноград в садах Наливается. Гляну к северу: Там, в глуши пустынь, Снег, что белый пух, Быстро кружится; Подымает грудь Море синее, И горами лед Ходит по морю; И пожар небес Ярким заревом Освещает мглу Непроглядную… Это ты, моя Русь державная, Моя родина Православная! Широко ты, Русь, По лицу земли В красе царственной Развернулася! У тебя, ли нет Поля чистого, Где б разгул нашла Воля смелая? У тебя ли нет Про запас казны, Для друзей стола, Меча недругу? У тебя ли нет Богатырских сил, Старины святой, Громких подвигов? Перед кем себя Ты унизила? Кому в черный день Низко кланялась? На полях своих, Под курганами, Положила ты Татар полчища. Ты на жизнь и смерть Вела спор с Литвой И дала урок Ляху гордому. И давно ль было, Когда с Запада Облегла тебя Туча темная? Под грозой ее Леса падали, Мать сыра-земля Колебалася, И зловещий дым От горевших сел Высоко вставал Черным облаком! Но лишь кликнул царь Свой народ на брань,— Вдруг со всех концов Поднялася Русь. Собрала детей, Стариков и жен, Приняла гостей На кровавый пир. И в глухих степях, Под сугробами, Улеглися спать Гости навеки. Хоронили их Вьюги снежные, Бури севера О них плакали!.. И теперь среди Городов твоих Муравьем кишит Православный люд. По седым морям, Из далеких стран, На поклон к тебе Корабли идут. И поля цветут, И леса шумят, И лежат в земле Груды золота. И во всех концах Света белого Про тебя идет Слава громкая. Уж и есть за что, Русь могучая, Полюбить тебя, Назвать матерью, Стать за честь твою Против недруга, За тебя в нужде Сложить голову!1851
Утро
Звезды меркнут и гаснут. В огне облака. Белый пар по лугам расстилается. По зеркальной воде, покудрям лозняка От зари алый свет разливается. Дремлет чуткий камыш. Типь — безлюдье вокруг. Чуть приметна тропинка росистая. Куст заденешь плечом, — на лицо тебе вдруг С листьев брызнет роса серебристая. Потянул ветерок, — воду морщит-рябит. Пронеслись утки с шумом и скрылися. Далеко, далеко колокольчик звенит, Рыбаки в шалаше пробудилися. Сняли сети с шестов, весла к лодкам несут… А восток все горит — разгорается. Птички солнышка ждут, птички песни поют, И стоит себе лес, улыбается. Вот и солнце встает, из-за пашен блестит, За морями ночлег свой покинуло, На поля, на луга, на макушки ракит Золотыми потоками хлынуло. Едет пахарь с сохой, едет — песню поет, По плечу молодцу все тяжелое… Не боли ты, душа! отдохни от забот! Здравствуй, солнце да утро веселое!1854
«Уж как был молодец…»
Воздадим хвалу Русской земле.
(Сказание о Мамаевом побоище)
Уж как был молодец — Илья Муромец. Сидел сиднем Илья Ровно тридцать лет,— На тугой лук стрелы Не накладывал, Богатырской руки Не показывал. Как проведал он тут, Долго сидючи, О лихом Соловье, О разбойнике,— Снарядил в путь коня: Его первый скок — Был пять верст, а другой — Пропал из виду. По коню был седок,— К князю в Киев-град Он привез Соловья В тороках живьем. Вот таков-то народ Руси-матушки! Он без нужды не вдруг С места тронется; Не привык богатырь Силой хвастаться, Щеголять удальством, Умом-разумом. Уж зато кто на брань Сам напросится, За живое его Тронет не впору,— Прочь раздумье и лень! После отдыха Он, как буря, встает Против недруга! И поднимется клич С отголосками, Словно гром загремит С перекатами. И за тысячи верст Люд откликнется, И пойдет по Руси Гул без умолку. Тогда все трын-трава Бойцу смелому: На куски его режь,— Не поморщится. Эх, родимая мать, Русь-кормилица! Не пришлось тебе знать Неги-роскоши! Под грозой ты росла Да под вьюгами, Буйный ветер тебя Убаюкивал, Умывал белый снег Лицо полное, Холод щеки твои Подрумянивал. Много видела ты Нужды смолоду, Часто с злыми людьми Насмерть билася. То не служба была, Только службишка; Вот теперь сослужи Службу крепкую. Видишь: тучи несут Гром и молнию, При морях города Загораются. Все друзья твои врозь Порассыпались, Ты одна под грозой… Стой, Русь-матушка! Не дадут тебе пасть Дети-соколы. Встань, послушай их клич Да порадуйся… «Для тебя — все добро, Платье ценное, Наших жен, кровь и жизнь, Все для матери». Пронесет бог грозу, Взглянет солнышко — Шире прежнего, Русь, Ты раздвинешься! Будет имя твое Людям памятно, Пока миру стоять Богом сужено. И уж много могил Наших недругов Порастет на Руси Травой дикою!8 декабря 1854
Пахарь
Солнце за день нагулялося, За кудрявый лес спускается; Лес стоит под шапкой темною, В золотом огне купается. На бугре трава зеленая Спит, вся искрами обрызгана, Пылью розовой осыпана Да каменьями унизана. Не слыхать-то в поле голоса, Молча ворон на меже сидит, Только слышен голос пахаря,— За сохой он на коня кричит. С ранней зорьки пашня черная Бороздами подымается, Конь идет — понурил голову, Мужичок идет — шатается… Уж когда же ты, кормилец наш, Возьмешь верх над долей горькою? Из земли ты роешь золото, Сам-то сыт сухою коркою! Зреет рожь — тебе заботушка: Как бы градом не побилася, Без дождей в жары не высохла, От дождей не положилася. Хлеб поспел — тебе кручинушка: Убирать ты не управишься, На корню-то он осыплется, Без куска-то ты останешься. Урожай — купцы спесивятся; Год плохой — в семье «все мучатся,— Всё твой двор не поправляется, Детки грамоте не учатся. Где же клад твой заколдованный, Где талан твой, пахарь, спрятался? На труды твои да на горе Вдоволь вчуже я наплакался!1856
«Медленно движется время…»
Медленно движется время,— Веруй, надейся и жди… Зрей, наше юное племя! Путь твой широк впереди. Молнии нас осветили, Мы на распутье стоим… Мертвые в мире почили, Дело настало живым. Сеялось семя веками,— Корни в земле глубоко; Срубишь леса топорами,— Зло вырывать не легко: Нам его в детстве привили, Деды сроднилися с ним… Мертвые в мире почили, Дело настало живым. Стыд, кто бессмысленно тужит, Листья зашепчут — он нем! Слава — кто истине служит, Истине жертвует всем! Поздно глаза мы открыли, Дружно на труд поспешим… Мертвые в мире почили, Дело настало живым. Рыхлая почва готова, Сейте, покуда весна: Доброго дела и слова Не пропадут семена. Где мы и как их добыли — Внукам отчет отдадим… Мертвые в мире почили, Дело настало живым.1857
Песня бобыля
Ни кола, ни двора, Зипун — весь пожиток… Эх, живи — не тужи, Умрешь — не убыток! Богачу-дураку И с казной не спится; Бобыль, гол как сокол, Поет-веселится. Он идет да поет, Ветер подпевает; Сторонись, богачи! Беднота гуляет! Рожь стоит по бокам, Отдает поклоны… Эх, присвистни, бобыль! Слушай, лес зеленый! Уж ты плачь ли, не плачь — Слез никто не видит, Оробей, загорюй — Курица обидит. Уж ты сыт ли, не сыт,— В печаль не вдавайся; Причешись, распахнись, Шути-улыбайся! Поживем да умрем,— Будет голь пригрета… Разумей, кто умен, — Песенка допета!1858
«Теперь мы вышли на дорогу…»
Теперь мы вышли на дорогу, Дорога — просто благодать! Уж не сказать ли: слава богу? Труд совершён. Чего желать? Душе — простор, уму — свобода… Да, ум наш многое постиг: О благе бедного народа; Мы написали груду книг. Все эти дымные избенки, Где в полумраке, в тесноте Полунагие ребятенки Растут в грязи и нищете, Где по ночам горит лучина И, раб нужды, при огоньке, Седой как лунь старик-кручина Плетет лаптишки в уголке, Где жница-мать в широком поле, На ветре, в нестерпимый зной, Забыв усталость поневоле, Малютку кормит под копной. Ее уста спеклися кровью, Работой грудь надорвана… Но, боже мой! с какой любовью Малютку пестует она! Все это ныне мы узнали, И наконец — о мудрый век! Как дважды два, мы доказали, Что и мужик наш — человек. Все суета!.. махнем рукою… Нас чернь не слушает, молчит, Упрямо ходит за сохою И недоверчиво глядит. Покамест ум наш созидает Дворцы да башни в облаках, Горячий пот она роняет На нивах, гумнах и дворах, В глухой степи, в лесной трущобе, Средь улиц сел и городов, И, утомясь, в дощатом гробе Опочивает от трудов. Чем это кончится?.. Едва ли, Ничтожной жизни горький плод, Не ждут нас новые печали Наместо прожитых невзгод.1860
«Падет презренное тиранство…»
. Падет презренное тиранство, И цепи с пахарей спадут, И ты, изнеженное барство, Возьмешься нехотя за труд. Не нам — иному поколенью Отдашь ты бич свой вековой И будешь ненавистной тенью, Пятном в истории родной… Весь твой разврат и вероломство, Все козни время обнажит, И просвещенное потомство Тебя проклятьем поразит. Мужик — теперь твоя опора, Твой вол — и больше ничего — Со славой выйдет из позора, И вновь не купишь ты его. Уж всходит солнце земледельца!.. Забитый, он на месть не скор; Но знай: на своего владельца Давно уж точит он топор…Между 1857 и 1861
Жизнь
Жизнь раскинулась вольною степью… Поезжай, да гляди — не плошай! За холмов зеленеющей цепью Ты покоя найти не желай. Хорошо под грозою-метелью, Хорошо под дождем проливным По степям, в бесконечном веселье, Тройкой бешеной мчаться по ним! Ну ж, ямщик! Пристегни коренную, Что насупился? Вдаль погляди: Что за ширь! Ну-ка песню родную, Чтобы сердце заныло в груди, Чтобы вышли проклятые слезы, Те, что гнетом легли над душой, Чтобы в даль, под небесные грозы Нам лететь бесконечно с тобой.Алексей Николаевич Плещеев
1825–1895
«Вперед, без страха и сомненья…»
Вперед, без страха и сомненья На подвиг доблестный, друзья! Зарю святого искупленья Уж в небесах завидел я! Смелей! Дадим друг другу руки И вместе двинемся вперед, И пусть под знаменем науки Союз наш крепнет и растет! Жрецов греха и лжи мы будем Глаголом истины карать, И спящих мы от сна разбудим, И поведем на битву рать! Не сотворим себе кумира Ни на земле, ни в небесах; За все дары и блага мира Мы не падем пред ним во прах!.. Провозглашать любви ученье Мы будем нищим, богачам, И за него снесем гоненье, Простив озлобленным врагам! Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой, В заботах тяжких истощил; Как раб ленивый и лукавый, Талант свой в землю не зарыл! Пусть нам звездою путеводной Святая истина горит; И, верьте, голос благородный Недаром в мире прозвучит! Внемлите ж, братья, слову брата, Пока мы полны юных сил: Вперед, вперед и без возврата, Что б рок вдали нам ни сулил!1846
Весна
Песни жаворонков снова Зазвенели в вышине. «Гостья милая, здорово!» — Говорят они весне. Уж теплее солнце греет, Стали краше небеса… Скоро все зазеленеет — Степи, рощи и леса. Позабудет бедный горе, Расцветет душой старик… В каждом сердце, в каждом взоре Радость вспыхнет хоть на миг. Выйдет пахарь на дорогу, Взглянет весело вокруг; Помолясь усердно богу, Бодро примется за плуг. С кротким сердцем, с верой сильной Весь отдался он трудам — И пошлет господь обильный Урожай его полям!1861
«Блажен не ведавший труда…»
Блажен не ведавший труда, Но щедро взысканный от неба. Блажен не евший никогда Слезами смоченного хлеба. Вольней и легче дышит он, Здоров и телом, и душою, И не поникнет головою, Сомненьем ранним удручен. Светло, разумно и прекрасно Все в мире кажется ему; Он волноваться понапрасну Не даст ни сердцу, ни уму. Он не растратит духа силы Средь мелких, будничных забот И безмятежно до могилы, Не спотыкаясь, добредет. Но сколько бедных и голодных Свой черствый хлеб, свой тяжкий труд За эту жизнь без скал подводных — За этот рай не отдадут!1861
«Отдохну-ка, сяду у лесной опушки…»
Отдохну-ка, сяду у лесной опушки; Вон вдали — соломой крытые избушки, И бегут над ними тучи вперегонку Из родного края в дальнюю сторонку. Белые березы, жидкие осины, Пашни да овраги — грустные картины; Не пройдешь без думы, без тяжелой, мимо. Что же к ним все тянет так неодолимо? Ведь на свете белом всяких стран довольно, Где и солнце ярко, где и жить привольно. Но и там, при блеске голубого моря, Наше сердце ноет от тоски и горя, Что не видят взоры ни берез плакучих, Ни избушек этих сереньких, как тучи. Что же в них так сердцу дорого и мило? И какая манит тайная к ним сила?1861
Родное
Свесилась уныло Над оврагом ива, И все дно оврага Поросло крапивой. В стороне могила Сиротеет в поле: Кто-то сам покончил С горемычной долей! Вон вдали чернеют, Словно пни, избушки; Не из той ли был он Бедной деревушки? Там, чай, труд да горе, Горе без исхода… И кругом такая Скудная природа! Рытвины да кочки, Даль полей немая; И летит над ними С криком галок стая… Надрывает сердце Этот вид знакомый… Грустно на чужбине, Тяжело и дома!1862
Отчизна
Природа скудная родимой стороны, Ты дорога душе моей печальной! Когда-то, в дни моей умчавшейся весны, Манил меня чужбины берег дальный… И пылкая мечта, бывало, предо мной Рисует все блестящие картины: Я вижу свод небес прозрачно-голубой, Громадных гор зубчатые вершины… Облиты золотом полуденных лучей, Казалось, мирт, платаны и оливы Зовут меня под сень раскидистых ветвей, И розы мне кивают молчаливо… То были дни, когда о цели бытия Мой дух, среди житейских обольщений, Ещё не помышлял… и, легкомыслен, я Лишь требовал у жизни наслаждений. Но быстро та пора исчезла без следа, И скорбь меня нежданно посетила… И многое, чему душа была чужда, Вдруг стало ей и дорого и мило. Покинул я тогда заветную мечту О стороне волшебной и далекой… И в родине моей узрел я красоту, Незримую для суетного ока… Поля изрытые, колосья желтых нив, Простор степей, безмолвно величавый, Весеннею порой широких рек разлив, Таинственно шумящие дубравы, Святая тишина убогих деревень, Где труженик, задавленный невзгодой, Молился небесам, чтоб новый, лучший день Над ним взошел — великий день свободы, Вас понял я тогда. И сердцу та близка Вдруг стала песнь моей страны родимой — Звучала ль в песне той глубокая тоска Иль слышался разгул неудержимый. Отчизна! Не пленишь ничем ты чуждый взор… Но ты мила красой своей суровой Тому, кто сам рвался на волю и простор, Чей дух носил гнетущие оковы…1859–1869
Михаил Ларионович Михайлов
1829–1865
Помещик
Когда-то и я в Петербурге живал, Писателей всех у себя принимал И с гордой улыбкой являлся на балах… Стихи мои очень хвалили в журналах: Я в них и свободу и истину пел, Но многих представить в ценсуру не смел. Эй, Ванька! скорее собак собирай! Эй, Сенька! живее мне лошадь седлай! Политикой также заняться любил — В кондитерских все я журналы следил… Читал я философов… Сам рассужденье Писал о народном у нас просвещеньи… Потом за границей я долго блуждал, Палаты, Жорж Санда, Гизо посещал. Эй, Ванька! скорее собак собирай! Эй, Сенька! живее мне лошадь седлай! В чужбине о родине я сожалел, Скорей воротиться домой все хотел — И начал трактат (не окончил его я) О том, как нам дорого вчуже родное. Два года я рыскал по странам чужим: Все видел — Париж, Вену, Лондон и Рим. Эй, Ванька! скорее собак собирай! Эй, Сенька! живее мне лошадь седлай! Приехавши в Питер, соскучился я… Казна истощилась порядком моя. Поехал в деревню поправить делишки, Да все разорились мои мужичишки!.. Сначала в деревне я очень скучал И все перебраться в столицу желал. Эй, Ванька! скорее собак собирай! Эй, Сенька! живее мне лошадь седлай! А нынче так, право, меня калачом Туда не заманишь. И славный здесь дом, И повар обед мне готовит прекрасный; Дуняшке наделал я платьев атласных. Пойдешь погулять — вкруг мальчишки бегут… (Пострелы! они меня тятей зовут.) Эй, Ванька! скорее собак собирай! Эй, Сенька! живее мне лошадь седлай! С соседями езжу я зайцев травить; Сойдемся ль — за карты, а после попить… Прекрасные люди мои все соседи, Хоть прежде твердил я с презреньем: «Медведи!» Политику бросил — и только «Пчелу» Читаю от скуки всегда поутру. Эй, Ванька! скорее собак собирай! Эй, Сенька! живее мне лошадь седлай! Однажды я как-то письмо получил: Писал мне приятель мой, славянофил, Чтоб ехал скорее к нему я в столицу — Тащить меня вздумал опять за границу… Но я отвечал ему: «Милый мой друг! В себе воскресил я народный наш дух!» Эй, Ванька! скорее собак собирай! Эй, Сенька! живее мне лошадь седлай! «Мне ладно в деревне: здесь сладко я сплю, Гоняться с собаками в поле люблю. С житьем не расстануся патриархальным, Дышу теперь духом я национальным!.. Ко мне, братец, лучше сюда приезжай: Народность в деревне моей изучай!» Что ж, Ванька-каналья! чего же ты ждешь? Да скоро ль ты, Сенька, Гнедка приведешь? С тех пор мой приятель ко мне не писал… И слышал я, нынче известен он стал Своими трудами. Знакомцы другие — Все люди теперь тоже очень большие… А все отчего? Нет деревни своей: А то бы гонялись за зайцами в ней!! Мерзавцы! уж сколько я вам говорю!.. Постойте! ужо я вам спину вспорю.1847
«Те же все унылые картины…»
Те же все унылые картины, Те же все унылые места: Черный лес да белые равнины, По селеньям голь и нищета. А кругом все будто стоном стонет… И вопрос тоскливый' сердце жмет: Лес ли то со стоном сосны клонит, Или вьюга твой мне стон несет, Изнемогший в вековом томленьи, Искушенный в вековом терпеньи, Мой родной, несчастный мой народ?1861
«Смело, друзья! Не теряйте…»
Смело, друзья! Не теряйте Бодрость в неравном бою, Родину-мать защищайте, Честь и свободу свою! Пусть нас по тюрьмам сажают, Пусть нас пытают огнем, Пусть в рудники посылают, Пусть мы все казни пройдем! Если погибнуть придется В тюрьмах и шахтах сырых,— Дело, друзья, отзовется На поколеньях живых. Стонет и тяжко вздыхает Бедный забитый народ; Руки он к нам простирает, Нас он на помощь зовет. Час обновленья настанет — Воли добьется народ, Добрым нас словом помянет, К нам на могилу придет. Если погибнуть придется В тюрьмах и шахтах сырых,— Дело, друзья, отзовется На поколеньях живых.1861
Савва Яковлевич Дерунов{271}
1830(?)-1909
Думы пахаря
Каплет дождичек, брызжет кругом, Облака потемнели, сбегаются, Из них грянул раскатами гром, Небеса полосой растворяются. В поле пахарь на лошадь кричит, Она встала в бороздке, усталая; Пахарь поднял косулю, стучит, На лице грусть-забота немалая. «Ну, родная», — лошадку махнул, Пошла лошадь вперед, закачалася, Пахарь молвил, глубоко вздохнул: «Что за горе за жизнь навязалася. Сколько силы работай, положь — Прибыль к осени выйдет бросовая, И сбивайся с копейки на грош. Не поймешь, что за жизнь бестолковая! Отчего же такое житье Мужик терпит и с ним не справляется, Неисходное горе свое Разрешить, извести не старается? Иль незнанье всему голова, Или люди?» Гроза разразилася, Принагнулась с цветами трава, Под дождем полегла, наклонилася.1872
Иван Ефимович Тарусин{272}
1834–1885
Невзгода
У стола пустого Праздничной порою Думает крестьянин Думу сам с собою. Думает он думу Про лихую долю, Что нужды и горя Натерпелся вволю. Поедом заела Мужика невзгода, И бедняк не видит Из нее исхода. Первое — с женою Доля не клеится; Делает, что хочет, Мужа не боится. Не рачит о доме, Бросила трудиться; На уме лишь только Как бы нарядиться. Как бы в хороводе Павою пройтися, А изба, хозяйство — Всё хоть провалися. А второе — в лето Хлеб не уродился, Хоть не хуже прочих В поле он трудился… Третье ж — срок подушным, Староста тревожит; Просто отовсюду Злое горе гложет. Занял у соседа Хлеб в зерне к посевам, А отдать не в силах; Тот стращает гневом. Уведет, вишь, лошадь, Сам хоть в воз впрягайся; За неверность слову На себя и кайся… У стола пустого Долго сам с собою Думал горемыка, Как тут быть с бедою.1872
Дмитрий Дмитриевич Минаев{273}
1836–1889
«В стихах и в прозе, меньший брат…»
В стихах и в прозе, меньший брат, Мы о судьбе твоей кричали; О, в честь тебе каких тирад Мы в кабинетах не слагали! А там, среди убогих хат, За лямкой, в темном сеновале, Все те же жалобы звучат И песни, полные печали. Все та же бедность мужиков; Все так же в лютые морозы, В глухую ночь, под вой волков, Полями тянутся обозы… Терпенье то же, те же слезы… Хлеб не растет от нашей прозы, Не дешевеет от стихов.1870
Сон великана
В степи, на кургане склонясь, Спит старый, седой великан; Спит старый, седой великан, И стаями птицы, кружась, Глядят с высоты на курган. В кольчуге, в стальном шишаке Он спит, в мертвый сон погружен; Он спит, в мертвый сон погружен, Меч стиснув в железной руке, Сыпучим песком занесен. Он долгие годы проспал, В недвижности самой могуч; В недвижности самой могуч, Он бурь над собой не слыхал, Не жег его солнечный луч. Над ним разрасталась трава, Песком занесен он до плеч; Песком занесен он до плеч, И только одна голова Осталась открытой да меч. Сном скованный много веков, Однажды раскрыл он глаза; Однажды раскрыл он глаза, И в них, как во тьме облаков, Казалось, сверкнула гроза. Казалось, один поворот — И вспрянет опять великан; И вспрянет опять, великан, Насевшую землю стряхнет, Покинет песчаный курган. Дохнул он и — дрогнула степь, Неведомых звуков полна; Неведомых звуков полна… Как будто рассыпалась цепь Волшебного долгого сна. Но вежды сомкнулись опять И — спит великан прежним сном; И спит великан прежним сном, И снова его засыпать Стал ветер сыпучим песком.Начало 1873
Пейзаж
Грустная картина: Степь да небеса, Голая равнина, Чахлые леса. Десятиной скудной Тащится мужик, За работой трудной Над сохой поник. С мужика пот льется, Слез и крови пот, Лошадь чуть плетется, Солнце в темя жжет. Вот лихая тройка Усача промчит, Он на труд твой только Тупо поглядит. И чужая повесть, Вечный труд и гнет — Дремлющую совесть В нем не шевельнет.Николай Александрович Добролюбов
1856–1861
«Синее небо, зеленое поле…»
Синее небо, зеленое поле… В белой рубахе с сохой селянин… Он размышляет о выданной воле,— Здесь, на просторе, с природой один. Знаю я — труд ему весел и сладок… Что же? Смягчилась земля пред сохой? Сил стало больше у тощих лошадок? Иль не печет его солнечный зной? Нет, его поле по-прежнему в кочках, Лошади — клячи, и солнце печет… Но уже зрит он в таинственных почках Воли грядущей живительный плод…1861
«Милый друг, я умираю…»
Милый друг, я умираю Оттого, что был я честен; Но зато родному краю Верно буду я известен. Милый друг, я умираю, Но спокоен я душою… И тебя благословляю: Шествуй тою же стезею.1861
Константин Константинович Случевский
1837–1904
«Полдневный час. Жара гнетет дыханье…»
Полдневный час. Жара гнетет дыханье; Глядишь прищурясь — блеск глаза слезит, И над землею воздух, в колебанье, Мигает быстро, будто бы кипит; И тени нет. Повсюду искры, блестки; Трава слегла, до корня прожжена. В ушах шумит, как будто слышны всплески, Как будто где-то подле бьет волна… Ужасный час! Везде оцепененье: Жмет лист к ветвям нагретая верба, Укрылся зверь, затем, что жжет движенье, По щелям спят, приткнувшись, ястреба. А в поле труд… Обычной чередою Идет косьба; хлеба не будут ждать! Но это время названо страдою, Другого слова нет его назвать… Кто испытал огонь такого неба, Тот без труда раз навсегда поймет, Зачем игру и шутку с крошкой хлеба За тяжкий грех считает наш народ!«Какие здесь всему великие размеры…»
Какие здесь всему великие размеры! Вот хоть бы лов классической трески! На крепкой бечеве, верст в пять иль больше меры, Что ни аршин, навешаны крючки; Насквозь проколота, на каждом рыбка бьется… Пять верст страданий! Это ль не длина! Порою бечева китом, белугой рвется — Тогда страдать артель ловцов должна. В морозный вихрь и снег, — а это ль не напасти? — Не день, не два, с терпеньем без границ Артель в морской волне распутывает снасти, Сбивая лед с промерзлых рукавиц. И завтра то же, вновь…. В дому помору хуже: Тут, как и в море, вечно сир и нищ, Живет он впроголодь, а спит во тьме и стуже На гнойных нарах мрачных становищ.В Заонежье
Верст сотни на три одинокий, Готовясь в дебрях потонуть, Бежит на север неширокий, Почти всегда пустынный путь. Порою, по часам по целым, Никто не едет, не идет; Трава под семенем созрелым Между колей его растет. Унылый край в молчаньи тонет… И, в звуках медленных, без слов, Одна лишь проволока стонет С пронумерованных столбов… Во имя чьих, каких желаний Ты здесь, металл заговорил? Как непрерывный ряд стенаний, Твой звук задумчив и уныл! Каким пророчествам тут сбыться, Когда, решившись заглянуть, Жизнь стонет раньше, чем родиться, И стоном пролагает путь?!.«С простым толкую человеком…»
С простым толкую человеком… Телега, лошадь, вход в избу… Хвалю порядок в огороде, Хвалю оконную резьбу. Все — дело рук его… Какая В нем скромных мыслей простота! Не может пошатнуться вера, Не может в рост пойти мечта. Он тридцать осеней и весен К работе землю пробуждал; Вопрос о том: зачем все это — В нем никогда не возникал. О, как жестоко подавляет Меня спокойствие его! Обидно, что признанье это Не изменяет ничего… Ему раёк в театре жизни И слез, и смеха простота: Мне — злобы дня, сомненья, мудрость — И — на вес золота места!«Заката светлого пурпурные лучи…»
Заката светлого пурпурные лучи Стремятся на гору с синеющей низины, И ярче пламени в открывшейся печи Пылают сосен темные вершины… Не так ли в Альпах горные снега Горят, когда внизу синеет тьма тенями… Жизнь родины моей! О, как ты к нам строга, Как не балуешь нас роскошными дарами! Мы силами мечты должны воссоздавать И дорисовывать, чего мы не имеем; То, что другим дано, нам надо отыскать, Нам часто не собрать того, что мы посеем! И в нашем творчестве должны мы превозмочь И зиму долгую с тяжелыми снегами, И безрассветную, томительную ночь, И тьму безвременья, сгущенную веками…«О, неужели же на самом деле правы…»
О, неужели же на самом деле правы Глашатаи добра, красот и тишины, Что так испорчены и помыслы, и нравы, Что надобно желать всех ужасов войны? Что дальше нет путей, что снова проступает Вся дикость прежняя, что, не спросясь, сплеча, Работу тихую мышленья прерывает И неожиданный, и злой удар бича… Что воздух жизни затхл, что ржавчина и плесень Так в людях глубоки и так тлетворна гниль, Что нужны: пушек рев, разгул солдатских песен, Полей встревоженных мерцающая пыль… Людская кровь нужна! И стон, и бред больницы, И сироты в семьях, и скорби матерей, Чтоб чистую слезу вновь вызвать на ресницы Не вразумляемых другим путем людей,— Чтоб этим их поднять, и жизни цель поставить, И дать задачу им по силам, по плечу, Чтоб добрый пастырь мог прийти и мирно править И на торгующих не прибегать к бичу…«Стоит народ за молотьбою…»
Стоит народ за молотьбою; Гудит высокое гумно; Как бы молочною струею Из молотилки бьет зерно. Как ярок день, как солнце жгуче! А пыль работы так грузна, Что люди ходят, будто в туче, Среди дрожащего гумна.Рассвет в деревне
Огонь, огонь! На небесах огонь! Роса дымится, в воздух отлетая; По грудь в реке стоит косматый конь, На ранний ветер уши навостряя. По длинному селу, сквозь дымку темноты, Идет обоз с богатой кладью жита; А за селом погост и низкие кресты, И церковь древняя чешуйками покрыта… Вот ставней хлопнули; в окне старик седой Глядит и крестится на первый луч рассвета; А вот и девушка извилистой тропой Идет к реке, огнем зари пригрета. Готово солнце встать в мерцающей пыли, Крепчает пенье птиц под бесконечным сводом, И тянет от полей гвоздикою и медом И теплой свежестью распаханной земли…1874
«Горячий день. Мой конь проворно…»
Горячий день. Мой конь проворно Идет над мягкой пахотой; Белеют брошенные зерна, Еще не скрытые землей. Прилежной кинуты рукою, Как блестки в пахотной пыли, Где в одиночку, где семьею, Они узором полегли… Я возвращаюсь ночью бором; Вверху знакомый взору вид: Что зерна звезды! Их узором Вся глубь небесная горит…1883
Леонид Николаевич Трефолев{274}
1839–1905
«Лошаденки за оврагом…»
Лошаденки за оврагом Изнуренные плетутся, Выступая робким шагом, Под кнутом хозяйским жмутся. И хозяева их, кстати, Приуныли и устали; Мало счастья, благодати Эти люди испытали. Говорит один (я слышу): «Эки, братцы, неудачи! Всю соломенную крышу Съели дома наши клячи».— «Верно, к зимнему Николе Нам глодать кору придется».— «Ни зерна на целом поле!» — Третий голос раздается. Тут четвертый, пятый сразу Закричали, зашумели: «Мы в сибирскую заразу Обнищали в две недели!» — «И меня, — сказал Ванюха,— Посетила вражья сила; Ядовитая, знать, муха Спину крепко укусила. Сшил себе я саван белый, В церкви божьей причастился, Гроб купил, с деревней целой Пред кончиною простился. Да на ум меня наставил Коновал один любезный: Прямо к спинушке приставил Раскаленный прут железный…» Все хохочут… Смейся дружно, Своротив с дороги узкой, Люд страдающий, недужный, Терпеливый брат мой русский! Много милости у бога, Жизнь не вся в тебе убита, И широкая дорога Пред тобой вдали открыта.1864
Осень
Осень настала — печальная, темная, С мелким, как слезы, дождем; Мы же с тобой, ненаглядная, скромная, Лета и солнышка ждем. Это безумно: румяною зорькою Не полюбуемся мы; Вскоре увидим, с усмешкою горькою, Бледное царство зимы. Вскоре снежок захрустит под обозами, Холодно будет, темно; Поле родное скуется морозами… Скоро ль растает оно? Жди и терпи! Утешайся надеждою, Будь упованьям верна: И под тяжелою снежной одеждою Всходит зародыш зерна.8 августа 1881
Нива
С молитвою пахарь стоял у порога Покинутой хаты: «Война к нам близка, Одной благодати прошу я у бога, Чтоб ниву мою не топтали войска. Тогда пропадет мой ленок волокнистый, На саван не хватит тогда полотна…» И с верой молился он деве пречистой, Чтоб ниву его сохранила она. Но враг наступал… И послышался грохот Из сотни орудий. Как демонский хохот, Носился по воздуху рев батарей; И люди — ужасное стадо зверей — Безбожно, жестоко терзали друг друга, И брызгала теплая кровь, как вода, И ядра взорали все поле без плуга, И хаты крестьянской не стало следа… …Но милости много у вечного бога: Построилась новая хата-жилье, И пахарь-хозяин опять у порога С молитвою смотрит на поле свое. Себя он не мучит напрасной тоскою, Что нива упитана кровью людскою — Чужой ли, родной ли: не все ли равно? Ведь кровью и потом не пахнет зерно, Ведь свежая рожь не пошлет нам проклятья, Не вымолвит явных и тайных угроз?.. И будем мы сыты (О люди! О братья!), Питаяся хлебом — из крови и слез!1899
Первый гром
Я весеннее раннее утро люблю: Чудно всходит оно над землею родной, И о том только бога усердно молю, Чтобы гром, первый гром загремел надо мной. Оживится земля со своими детьми; Бедный пахарь на ниве вздохнет веселей… Первый гром, чудный гром, в небесах загреми И пошли дождь святой для засохших полей! Как раскинется туча на небе шатром,— Всколыхнется душа, заволнуется грудь… Первый гром, чудный гром, благодетельный гром, Для отцов и детей ты убийцей не будь! Никого не убей, ничего не спали, Лишь засохшие нивы дождем ороси, Благодетелем будь для родимой земли, Для голодной, холодной, но милой Руси.Алексей Николаевич Апухтин
1840–1893
К родине
Далёко от тебя, о родина святая, Уж целый год я жил в краях страны чужой И часто о тебе грустил, воспоминая Покой и счастие, минувшее с тобой. И вот в стране зимы, болот, снегов глубоких, Где, так же одинок, и я печалью жил, Я сохранил в душе остаток чувств высоких, К тебе всю прежнюю любовь я сохранил. Теперь опять увижусь я с тобою, В моей груди вновь запылает кровь, Я примирюсь с своей судьбою, И явится мне вдохновенье вновь! Уж близко, близко… Всё смотрю я вдаль, С волнением чего-то ожидаю И с каждою тропинкой вспоминаю То радость смутную, то тихую печаль. И вспоминаю я свои былые годы, Как мирно здесь и счастливо я жил, Как улыбался я всем красотам природы И в дебрях с эхом говорил. Уж скоро, скоро… Лошади бегут, Ямщик летит, вполголос напевая, И через несколько минут Увижу я тебя, о родина святая!15 июня 1853
Желание славянина{275}
Дайте мне наряд суровый, Дайте мурмолку мою, Пред скамьею стол дубовый, Деревянную скамью. Дайте с луком буженины, Псов ужасных на цепях Да лубочные картины На некрашеных стенах. Дайте мне большую полку Всевозможных древних книг, Голубую одноколку, Челядинцев верховых. Пусть увижу в доме новом Золотую старину Да в кокошнике парчовом Белобрысую жену. Чтоб подруга дорогая Всё сидела бы одна, Полотенце вышивая У закрытого окна, А на пир с лицом смиренным Выходила бы она И огромный кубок с пенным Выпивала бы до дна…5 июля 1855
Русские песни
Как сроднились вы со мною, Песни родины моей, Как внемлю я вам порою Если вечером с полей Вы доноситесь, живые, И в безмолвии ночном Мне созвучья дорогие Долго слышатся потом. Не могучий дар свободы, Не монахи-мудрецы,— Создавали вас невзгоды Да безвестные певцы. Но в тяжелые годины Весь народ, до траты сил, Весь — певец своей кручины — Вас в крови своей носил. И как много в этих звуках Непонятного слилось! Что за удаль в самых муках, Сколько в смехе тайных слез! Вечным рабством бедной девы, Вечной бедностью мужей Дышат грустные напевы Недосказанных речей… Что за речи, за герои! То — бог весть какой поры — Молодецкие разбои, Богатырские пиры; То Москва, татарин злобный, Володимир, князь святой… То, журчанью вод подобный, Плач княгини молодой. Годы идут чередою… Песни нашей старины Тем же рабством и тоскою, Той же жалобой полны; А подчас всё так же вольно Славят солнышко-царя, Да свой Киев богомольный, Да Илью богатыря.1 июля 1857
Проселок
По Руси великой, без конца, без края, Тянется дорожка, узкая, кривая, Чрез леса да реки, по степям, по нивам, Всё бежит куда-то шагом торопливым, И чудес хоть мало встретишь той дорогой, Но мне мил и близок вид ее убогой. Утро ли займется на небе румяном — Вся она росою блещет под туманом; Ветерок разносит из поляны сонной Скошенного сена запах благовонный; Всё молчит, всё дремлет, — в утреннем покое Только ржи мелькает море золотое, Да куда ни глянешь освеженным взором, Отовсюду веет тишью и простором. На гору ль въезжаешь — за горой селенье С церковью зеленой видно в отдаленьи. Вот и деревенька, барский дом повыше… Покосились набок сломанные крыши. Ни садов, ни речки; в роще невысокой Липа да орешник разрослись широко, А вдали, над прудом, высится плотина… Бедная картина! Милая картина!.. Уж с серпами в поле шумно идут жницы Между лип немолчно распевают птицы, За клячонкой жалкой мужичок шагает, С диким воплем стадо путь перебегает. Жарко… День, краснея, всходит понемногу… Скоро на большую выедем дорогу. Там скрипят обозы, там стоят ракиты. Из краев заморских к нам тропой пробитой Там идет крикливо всякая новинка… Там ты и заглохнешь, русская тропинка! По Руси великой, без конца, без края, Тянется дорожка, узкая, кривая. На большую съехал — впереди застава, Сзади пыль да версты… Смотришь, а направо Снова вьется путь мой лентою узорной — Тот же прихотливый, тот же непокорный!6 июля 1858
Из поэмы «Село Колотовка»
1
На родине моей картины величавой Искать напрасно будет взор. Ни пышных городов, покрытых громкой славой, Ни цепи живописных гор,— Нет, только хижины; овраги да осины среди желтеющей травы… И стелются кругом унылые равнины, Необозримы… и мертвы. На родине моей не светит просвещенье Лучами мирными нигде, Коснеют, мучатся и гибнут поколенья В бессмысленной вражде; Все грезы юности, водя сурово бровью, Поносит старый сибарит, А сын на труд отца, добытый часто кровью, С насмешкою глядит. На родине моей для женщины печально Проходят лучшие года; Весь век живет она рабынею опальной Под гнетом тяжкого труда; Богата — ну так будь ты куклою пустою, Бедна — мученьям нет конца… И рано старятся под жизнью трудовою Черты прелестного лица. На родине моей не слышно громких песен, Ликующих стихов; Как древний Вавилон, наш край угрюм и тесен Для звуков пламенных певцов. С погостов да из хат несется песня наша, Нуждою сложена, И льется через край наполненная чаша, Тоскою жгучею полна. На родине моей невесело живется С нуждой и горем пополам; Умрем — и ничего от нас не остается На пользу будущим векам. Всю жизнь одни мечты о счастии, о воле Среди тупых забот… И бедны те мечты, как бедно наше поле, Как беден наш народ.2
Огонек в полусгнившей избенке Посреди потемневших полей, Да плетень полусгнивший в сторонке, Да визгливые стоны грачей,— Что вы мне так нежданно предстали В этот час одинокий ночной, Что вы сердце привычное сжали Безысходною старой тоской? Еле дышат усталые кони, Жмет колеса сыпучий песок, Словно жду я какой-то погони, Словно путь мой тяжел и далек! Огонек в полусгнившей избенке, Ты мне кажешься плачем больным По родимой моей по сторонке, По бездольным по братьям моим. И зачем я так жадно тоскую, И зачем мне дорога тяжка? Видно, въелася в землю родную Ты, родная кручина-тоска! Тобой вспахана наша землица, Тобой строены хата и дом, Тебя с рожью усталая жница Подрезает тяжелым серпом; Ты гнетешь богатырскую силу, Ты всю жизнь на дороге сидишь, Вместе с заступом роешь могилу, Из могилы упреком глядишь. С молоком ты играешь в ребенке, С поцелуем ты к юноше льнешь… Огонек в полусгнившей избенке, Старых ран не буди, не тревожь!1864
Солдатская песня о Севастополе{276}
Не веселую, братцы, вам песню спою, Не могучую песню победы, Что певали отцы в Бородинском бою, Что певали в Очакове{277} деды. Я спою вам о том, как от южных полей Поднималося облако пыли, Как сходили враги без числа с кораблей И пришли к нам, и нас победили. А и так победили, что долго потом Не совались к нам с дерзким вопросом, А и так победили, что с кислым лицом И с разбитым отчалили носом. Я спою, как, покинув и дом и семью, Шел в дружину помещик богатый, Как мужик, обнимая бабенку свою, Выходил ополченцем из хаты. Я спою, как росла богатырская рать, Шли бойцы из железа и стали, И как знали они, что идут умирать, И как свято они умирали! Как красавицы наши сиделками шли К безотрадному их изголовью, Как за каждый клочок нашей русской земли Нам платили враги своей кровью; Как под грохот гранат, как сквозь пламя и дым, Под немолчные, тяжкие стоны Выходили редуты один за другим, Грозной тенью росли бастионы; И одиннадцать месяцев длилась резня, И одиннадцать месяцев целых Чудотворная крепость, Россию храня, Хоронила сынов ее смелых… Пусть не радостна песня, что вам я пою, Да не хуже той песни победы, Что певали отцы в Бородинском бою, Что певали в Очакове деды.1869
Всеволод Владимирович Крестовский{278}
1840–1895
Полоса
Полоса ль ты моя полоса! Не распахана ты, сиротинка, И тебе не колосья краса, Не колосья краса, а былинка… А кругом-то, кругом поглядишь — Так и зреют могучие нивы! И стоит благодатная тишь, И волнуются ржи переливы. Но горька мне твоя нагота, Как взгляну я на ниву-то божью: Отчего ж ты одна, сирота, Не красуешься матушкой-рожью? Знать хозяин-то твой в кабаке Загулял не одну уж неделю, Иль от горя — в гробовой доске Отыскал на погосте постелю. А быть может и то: в кандалах По Владимирке пахаря гонят, За широкий, за вольный размах Богатырскую силу хоронят. И шагает он в синюю даль, Сам шагает да слезы глотает: Все-то ниву свою ему жаль, Все полоску свою вспоминает… Зарастай же, моя полоса, Частым ельничком ты да березкой, И пускай же ни серп, ни коса Не сверкают отсель над полоской!Иван Захарович Суриков{279}
1841–1880
«Осень… Дождик ведром…»
Осень… Дождик ведром С неба хмурого льет; На работу чуть свет Молодчина идет. На плечах у него Кафтанишка худой; Он шагает в грязи По колена, босой. Он идет да поет, Над погодой смеясь; Из-под ног у него Брызжет в стороны грязь. Холод, голод, нужду Сносит он до конца.— И не в силах беда Сокрушить молодца. Иль землею его, Иль бревном пришибет, Или старость его На одре пригнетет. Да и смерть-то придет — Не спугнет молодца; С ней он кончит расчет, Не поморщив лица. Эх, родимый мой брат! Много силы в тебе! Эту силу твою Сокрушить ли судьбе!..1866
Казнь Стеньки Разина
Точно море в час прибоя, Площадь Красная гудит. Что за говор? что там против Места лобного стоит? Плаха черная далека От себя бросает тень… Нет ни облачка на небе… Блещут главы… Ясен день. Ярко с неба светит солнце На кремлевские зубцы, И вокруг высокой плахи В два ряда стоят стрельцы. Вот толпа заколыхалась,— Проложил дорогу кнут: Той дороженькой на площадь Стеньку Разина ведут. С головы казацкой сбриты Кудри черные, как смоль; Но лица не изменили Казни страх и пытки боль. Так же мрачно и сурово, Как и прежде, смотрит он,— Перед ним былое время Восстает, как яркий сон: Дона тихого приволье, Волги-матушки простор, Где с судов больших и малых Брал он с вольницей побор; Как он с силою казацкой Рыскал вихорем степным И кичливое боярство Трепетало перед ним. Душит злоба удалого, Жгет огнем и давит грудь. Но тяжелые колодки С ног не в силах он смахнуть. С болью тяжкою оставил В это утро он тюрьму: Жаль не жизни, а свободы, Жалко волюшки ему. Не придется Стеньке кликнуть Клич казацкой голытьбе И призвать ее на помощь С Дона тихого к себе. Не удастся с этой силой Силу ратную тряхнуть,— Воевод, бояр московских В три погибели согнуть. «Как под городом Симбирском (Думу думает Степан) Рать казацкая побита, Не побит лишь атаман. Знать, уж долюшка такая, Что на Дон казак бежал, На родной своей сторонке Во поиманье попал. Не больна мне та обида, Та истома не горька, Что московские бояре Заковали казака, Что на помосте высоком Поплачусь я головой За разгульные потехи С разудалой голытьбой. Нет, мне та больна обида, Мне горька истома та, Что изменною неправдой Голова моя взята! Вот сейчас на смертной плахе Срубят голову мою, И казацкой алой кровью Черный помост я полью… Ой ты, Дон ли мой родимый! Волга-матушка река! Помяните добрым словом Атамана казака!..» Вот и помост перед Стенькой… Разин бровью не повел. И наверх он по ступеням Бодрой поступью взошел. Поклонился он народу, Помолился на собор… И палач в рубахе красной Высоко взмахнул топор… «Ты прости, народ крещеный! Ты прости-прощай, Москва!..» И скатилась с плеч казацких Удалая голова.1877
Рябина
— Что стоишь, качаясь, Тонкая рябина, Низко наклоняясь Головою к тыну? — С ветром речь веду я О своей невзгоде, Что одна расту я В этом огороде. Грустно, сиротинка, Я стою, качаюсь, Что к земле былинка, К тыну нагибаюсь. Там, за тыном, в поле, Над рекой глубокой, На просторе, в воле, Дуб растет высокий. Как бы я желала К дубу перебраться; Я б тогда не стала Гнуться да качаться. Близко бы ветвями Я к нему прижалась И с его листами День и ночь шепталась. Нет, нельзя рябинке К дубу перебраться! Знать, мне, сиротинке, Век одной качаться.1864
Детство
Вот моя деревня; Вот мой дом родной; Вот качусь я в санках По горе крутой; Вот свернулись санки И я на бок — хлоп! Кубарем качуся Под гору, в сугроб. И друзья-мальчишки, Стоя надо мной, Весело хохочут Над моей бедой. Всё лицо и руки Залепил мне снег… Мне в сугробе горе, А ребятам смех! Но меж тем уж село Солнышко давно; Поднялася вьюга, На небе темно. Весь ты перезябнешь,— Руки не согнешь,— И домой тихонько, Нехотя бредешь. Ветхую шубенку Скинешь с плеч долой; Заберешься на печь К бабушке седой, И сидишь, ни слова… Тихо всё кругом; Только слышишь: воет Вьюга за окном. В уголке согнувшись, Лапти дед плетет; Матушка за прялкой Молча лен прядет. Избу освещает Огонек светца; Зимний вечер длится, Длится без конца. И начну у бабки Сказки я просить; И начнет мне бабка Сказку говорить: Как Иван-царевич Птицу-жар поймал, Как ему невесту Серый волк достал. Слушаю я сказку — Сердце так и мрет; А в трубе сердито Ветер злой поет. Я прижмусь к старушке… Тихо речь журчит, И глаза мне крепко Сладкий сон смежит. И во сне мне снятся Чудные края. И Иван-царевич — Это будто я. Вот передо мною Чудный сад цветет; В том саду большое Дерево растет. Золотая клетка На сучке висит; В этой клетке птица Точно жар горит; Прыгает в той клетке, Весело поет, Ярким, чудным светом Сад весь обдает. Вот я к ней подкрался И за клетку — хвать! И хотел из сада С птицею бежать. Но не тут-то было! Поднялся шум, звон; Набежала стража В сад со всех сторон. Руки мне скрутили И ведут меня… И, дрожа от страха, Просыпаюсь я. Уж в избу, в окошко, Солнышко глядит; Пред иконой бабка Молится, стоит. Весело текли вы, Детские года! Вас не омрачали Горе и беда.<1865 или 1866>
Бедность
Бедность ты, бедность, Нуждою убитая,— Радости, счастья Ты дочь позабытая! Век свой живешь ты — Тоской надрываешься, Точно под ветром Былинка, шатаешься. Мерзнешь зимой ты В морозы трескучие, Жаришься в лето Горячее, жгучее. Ох! нелегко-то Твой хлеб добывается; Потом кровавым, Слезой омывается! Где ж твоя радость, Куда подевалася? Где ж твое счастье?.. Другим, знать, досталося.1872
Утро в деревне
Занялась заря на небе, В поле ясно и тепло; Звонко ласточки щебечут; Просыпается село. Просыпается забота, Гонит сон и будит лень. Здесь и там скрипят ворота — Настает рабочий день. Из ворот пастух выходит, Помолившись на восток, Он рожок берет — и звонко Залился его рожок. Побрело на выгон стадо, Звук рожка замолк вдали, И крестьяне на работу На поля свои пошли. Зреет рожь и колосится, Славный плод дала земля! Солнце встало, разливая Свет на хлебные поля. И глядя на них, крестьяне Жарко молятся, чтоб бог Эти пажити от града И засухи уберег; Чтобы мог удачно пахарь Все посеянное сжать И не стал бы в эту зиму Горевать и голодать.1875
Спиридон Дмитриевич Дрожжин{280}
1848–1930
Родина
Кругом поля раздольные, Широкие поля, Где Волга многоводная — Там родина моя. Покрытые соломою Избушки у реки, Идут-бредут знакомые, И едут мужики. Ребята загорелые На улице шумят. И, словно вишни спелые. Их личики горят. Вдали село, и сельский храм Приветливо глядит, А там опять к родным полям Широкий путь лежит. Идешь, идешь — и края нет Далекого пути, И хочется мне белый свет Обнять и обойти.Август 1871
Петербург
В страду
Солнце жарко палит, А работа кипит: Под косою трава нагибается И ложится волной; Над скошенной травой Жарче солнце горит-разгорается. От раздольных лугов Сильных запах цветов И душистого сена разносится. Где-то птичка поет. Но не слышит народ Звонкой песни, — работать торопится. «Травку нужно сушить, К ночи в копны сложить И убрать, чтоб дождем не смочилася», — Говорят мужики, И от взмаха руки Полоса за полоской ложилася… И прошел сенокос, Скоро рожь и овес Золотистым зерном наливается; Много жниц и жнецов С деревень-хуторов Грозной ратью тогда ополчается… Жнут полоски подряд, Лишь серпами звенят, — Нипочем им работа тяжелая, И вечерней порой По дороге большой Долго слышится песня веселая.5 июля 1875
Смерть Коня-пахаря
Полдень. Жаркое солнце высоко взошло, И ясна неба даль голубая, В поле тихо кругом, и тепло, и светло, Лишь чернеет опушка лесная… Ходит пахарь межой, кафтанишко на нем Весь в пыли и худая шапчонка. Ходит он за сохой, то и дело кнутом Изнуренную бьет лошаденку. Перед ним и над ним утомительный зной, Словно пламя пожара пылает, Слышно, овод жужжит, комаров целый рой В ясном воздухе тучей летает. Льется с пахаря пот, с каждым часом длинней Тень на рыхлую землю ложится, Ветерок не шумит, на раздолье полей Только жаркое солнце глядится. Много лет мужику была сивка верна, Вместе голод и труд выносила, Вдруг в тяжелой сохе пошатнулась она И на пашне свой дух испустила. Тут склонился мужик, стал безумно рыдать, Разводя безнадежно руками… Дальше горе его ни пером описать И не высказать больше словами.30 июня 1877
Первая борозда
Вышел внук на пашню к деду В рубашонке, босиком, Улыбнулся и промолвил: «Здравствуй, дедушка Пахом! Ты, я вижу, притомился, Научи меня пахать, Как зимой, в избе, бывало, По складам учил читать!» «Что ж, изволь, коли охота И силенка есть в руках, Поучися, будь помощник Деду старому в трудах!» И Пахом к сохе с любовью Внука за руку подвел; Внук тихонько бороздою За лошадкою пошел… Бодро, весело лошадка Выступает впереди, А у пахаря-то сердце Так и прыгает в груди. «Вот, — он думает, — вспашу я Эту полосу, потом Из кошницы дед засеет Золотым ее зерном; Уродится рожь густая; А весною благодать, Как начнет она по зорькам Желтый колос наливать; Уберется васильками, Словно море, зашумит, Выйдут жницы на покоску, Серп на солнце заблестит. Мы приедем на телеге И из связанных снопов На гумне намечем много Золотых тогда скирдов». Долго издали на внука Смотрит дедушка седой И любуется глубоко Проведенной бороздой.1884
Песня пахаря
Распашу я рано Полосу родную, Распашу, посею И забороную! Надо мною песней Пташечка зальется, И никто, как пахарь, Дню не улыбнется. Всходы яровые Солнышко пригреет, И цветы и травку Вырастит-взлелеет. Весело тогда мне Выходить с косою Иль с серпом зубчатым Встать над полосою; Накошу я сена, Намечу стогами, Соберу колосья Полными снопами; Смолочу, провею Да сгребу лопатой. Вот я и счастливый, Вот я и богатый!1891
«Я для песни задушевной…»
Я для песни задушевной Взял лесов зеленых шепот, А у Волги в жар полдневный Темных струй подслушал ропот, Взял у осени ненастье, У весны благоуханье; У народа взял я счастье И безмерное страданье.1891
Родине
Как не гордиться мне тобой, О родина моя! Когда над Волгою родной Стою недвижим я, Когда молитвенно свой взор Бросаю в небеса, На твой чарующий простор, На темные леса. Как хороша ты в теплый день На празднике весны, Среди приветных деревень Родимой стороны! Как бодро дышится, когда На поле весь народ Среди свободного труда Все силы отдает! Каким восторгом мою грудь Ты наполняешь мне, Когда хочу я отдохнуть С тобой наедине!.. Я в каждом шелесте листов Твой голос узнаю. Хожу среди твоих лугов, Мечтаю и пою. Во всей в тебе и мощь видна, И сила с красотой, Недаром ты и названа Великой и святой.1904
Летний вечер в деревне
А. А. Коринфскому{281}
В деревне, чуть заря вечерняя займется, Играет молодежь, сплетаясь в хоровод, Звучит гармоника, и песня раздается Такая грустная, что за сердце берет. Но грусть сроднилася с крестьянскою душою, Она всегда в груди измученной живет И разгоняется лишь песнею родною. Отпряжен от сохи, средь поля конь усталый Пасется в табуне; вхожу я тихо в дом, Чтоб за ночь отдохнуть и чтоб на зорьке алой Проснуться и опять с товарищем-конем На поле целый день трудиться с силой новой, Взрывая борозды, иль, срезав рожь серпом, Душистые снопы возить на ток готовый. А теплый вечер так порой душист и ясен, Когда разносится народной песни стих. О, как ее язык и звучен и прекрасен, Как много слышится в ней мук пережитых.14 октября 1906
Владимир Сергеевич Соловьев
1853–1900
«Земля-владычица…»
Земля-владычица! К тебе чело склонил я, И сквозь покров благоуханный твой Родного сердца пламень ощутил я, Услышал трепет жизни мировой. В полуденных лучах такою негой жгучей Сходила благодать сияющих небес, И блеску тихому несли привет певучий И вольная река, и многошумный лес. И в явном таинстве вновь вижу сочетанье Земной души со светом неземным, И от огня любви житейское страданье Уносится, как мимолетный дым.1886
Ex Oriente Lux [21]
«С Востока свет, с Востока силы!» И, к вседержительству готов, Ирана царь{282} под Фермопилы{283} Нагнал стада своих рабов. Но не напрасно Прометея Небесный дар{284} Элладе дан. Толпы рабов бегут, бледнея, Пред горстью доблестных граждан. И кто ж до Инда и до Ганга Стезею славною прошел? То македонская фаланга{285}, То Рима царственный орел{286}. И силой разума и права — Всечеловеческих начал — Воздвиглась Запада держава, И миру Рим единство дал. Чего ж еще недоставало? Зачем весь мир опять в крови? — Душа вселенной тосковала О духе веры и любви! И слово вещее не ложно, И свет с Востока засиял{287}, И то, что было невозможно, Он возвестил и обещал. И, разливаяся широко, Исполнен знамений и сил, Тот свет, исшедший от Востока, С Востоком Запад примирил. О, Русь! в предвиденьи высоком Ты мыслью гордой занята; Каким же хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса иль Христа?1890
Панмонголизм{288}
Панмонголизм! Хоть слово дико, Но мне ласкает слух оно, Как бы предвестием великой Судьбины божией полно. Когда в растленной Византии Остыл божественный алтарь, И отреклися от Мессии Иерей и князь, народ и царь, Тогда он поднял от Востока Народ безвестный и чужой, И под орудьем тяжким рока Во прах склонился Рим второй{289}. Судьбою павшей Византии Мы научиться не хотим, И все твердят льстецы России: Ты — третий Рим, ты — третий Рим. Пусть так! Орудий божьей кары Запас еще не истощен. Готовит новые удары Рой пробудившихся племен. От вод малайских до Алтая Вожди с Восточных островов У стен поникшего Китая Собрали тьмы своих полков. Как саранча неисчислимы И ненасытны, как она, Нездешней силою хранимы, Идут на север племена. О, Русь! забудь былую славу: Орел двуглавый сокрушен, И желтым детям на забаву Даны клочки твоих знамен. Смирится в трепете и страхе, Кто мог завет любви забыть… И третий Рим лежит во прахе, А уж четвертому не быть.1894
Леонид Петрович Радин{290}
1860–1900
«Снова я слышу родную «Лучину»…»
Снова я слышу родную «Лучину». Сколько в ней горя, страданий и слез,— Видно, свою вековую кручину Пахарь в нее перенес. Сидя за прялкой, в осеннюю вьюгу, Пела, быть может, крестьянка в тиши И поверяла той песне, как другу, Жгучую скорбь наболевшей души. Полно! Довольно про горе ты пела… Прочь этот грустный, унылый напев,— Надо, чтоб песня отвагой гремела, В сердце будила спасительный гнев! Зреет в народе могучая сила, Край наш стоит на широком пути, То, что страдалица-мать выносила, Сын-богатырь не захочет снести. Мысли живой не задушит в нем голод, С ил молодых не надломит борьба. Смело возьмет он тяжелый свой молот И разобьет им оковы раба.1898
Семен Яковлевич Надсон
1862–1887
Похороны
Слышишь — в селе, за рекою зеркальной, Глухо разносится звон погребальный В сонном затишьи полей,— Грозно и мерно, удар за ударом, Тонет в дали, озаренной пожаром Алых вечерних лучей… Слышишь — звучит похоронное пенье: Это — апостол труда и терпенья — Честный рабочий почил… Долго он шел трудовою дорогой, Долго родимую землю с тревогой Потом и кровью поил. Жег его полдень горячим сияньем, Ветер знобил леденящим дыханьем, Туча мочила дождем… Вьюгой избенку его заметало, Градом на нивах его побивало Колос, взращенный трудом. Много он вынес могучей душою, С детства привыкшей бороться с судьбою. Пусть же, зарытый землей, Он отдохнет от забот и волненья — Этот апостол труда и терпенья Нашей отчизны родной.1878
В тихой пристани
На берег радостный выносит
Ладью мою девятый вал.
Пушкин Вот наш старый с колоннами серенький дом, С красной крышей, с массивным балконом. Темный сад на просторе разросся кругом, И поля, утопая во мраке ночном, С отдаленным слились небосклоном. По полям, извиваясь блестящей струей, Льется речка студеной волною. И беседка, одетая сочной листвой, Наклонясь над лазурной ее глубиной, Отражается гладью речною. Тихо шепчет струя про любовь и покой И, во мраке звеня, замирает, И душистый цветок над кристальной струей, Наклонившись лукавой своей головой, Нежным звукам в раздумье внимает. Здравствуй, родина-мать! Полный веры святой, Полный грез и надежды на счастье, Я покинул тебя — и вернулся больной, Закаленный в нужде, изнуренный борьбой, Без надежд, без любви и участья. Здравствуй, родина-мать! Убаюкай, согрей, Оживи меня лаской святою, Лаской глуби лесной, лаской темных ночей, Лаской синих небес и безбрежных полей, Соловьиною песнью живою. Дай поплакать хоть раз далеко от людей, Не боясь их насмешки жестокой, Отдохнуть на груди на зеленой твоей, Позабыть о загубленной жизни моей, Полной муки и грусти глубокой!1878
«Художники ее любили воплощать…»
Художники ее любили воплощать В могучем образе славянки светлоокой, Склоненною на меч, привыкший побеждать, И с думой на челе, спокойной и высокой. Осенена крестом, лежащим на груди, С орлом у сильных ног и радостно сияя, Она глядит вперед, как будто впереди Обетованный рай сквозь сумрак прозревая. Мне грезится она иной: томясь в цепях, Порабощенная, несчастная Россия,— Она не на груди несет, а на плечах Свой крест, свой тяжкий крест, как нес его Мессия. В лохмотьях нищеты, истерзана кнутом, Покрыта язвами, окружена штыками, В тоске она на грудь поникнула челом, А на груди, дымясь, струится кровь ручьями… О, лесть холопская! ты миру солгала!1882
«Как каторжник влачит оковы за собой…»
Как каторжник влачит оковы за собой, Так всюду я влачу среди моих скитаний Весь ад моей души, весь мрак пережитой, И страх грядущего, и боль воспоминаний… Бывают дни, когда я жалок сам себе, Так я беспомощен, так робок я, страдая, Так мало сил во мне в лицо моей судьбе Взглянуть без ужаса, очей не опуская… Не за себя скорблю под жизненной грозой: Не я один погиб, не находя исхода; Скорблю, что я не мог всей страстью, все душой Служить тебе, печаль родимого народа! Скорблю, что слабых сил беречь я не умел, Что, полон святостью заветного стремленья,— Я не раздумывал, я не жил, — а горел, Богатствами души соря без сожаленья,— И в дни, когда моя родная сторона Полна уныния, смятенья и испуга, Чтоб в песне вылиться, душа моя должна Красть редкие часы у жадного недуга. И больно мне, что жизнь бесцельно догорит, Что посреди бойцов — я не боец суровый, А только стонущий, усталый инвалид, Смотрящий с завистью на их венец терновый…1884
В ответ
(Из случайных песен)
Нам часто говорят, родная сторона, Что в наши дни, когда от края и до края Тобой владеет гнет бессилия и сна, Под тяжкое ярмо чело твое склоняя, Когда повсюду рознь, все глохнет и молчит, Унынье, как недуг, сердцами овладело, И холод мрачных дум сомнением мертвит И пламенный порыв и начатое дело,— Что в эти дни рыдать постыдно и грешно, Что наша песнь должна звучать тебе призывом, Должна святых надежд бросать в тебя зерно, Быть ярким маяком во мраке молчаливом!.. Слова, слова, слова!.. Не требуй от певцов Величия души героев и пророков! В узорах вымысла, в созвучьях звонких строф Разгадок не ищи и не ищи уроков!.. Мы только голос твой, и если ты больна — И наша песнь больна!.. В ней вопль твоих страданий, Виденья твоего болезненного сна, Кровь тяжких ран твоих, тоска твоих желаний… Учить невластны мы!.. Учись у мудрецов, На жадный твой вопрос у них ищи ответа: Им повторяй свой крик голодных и рабов: «Свободы, воздуха и света!.. Больше света!» Мы наши голоса с твоим тогда сольем; Как медный благовест, как мощный божий гром, Широко пронесем тот крик мы над тобою! Мы каждую твою победу воспоем, На каждую слезу откликнемся слезою. Но указать тебе спасительный исход — Не нам, о родина!.. Исхода мы не знаем: Ночь жизни, как тебя, и нас собой гнетет, Недугом роковым, как ты, и мы страдаем!..1886
Константин Михайловч Фофанов{291}
1862–1911
Голод
Кто костлявою рукою В двери хижины стучит? Кто увядшею травою И соломой шелестит? То не осень с нив и пашен Возвращается хмельна,— Этот призрак хмур и страшен, Как кошмар больного сна. Всемертвящ и всепобеден, В ветхом рубище своем, Он идет без хмеля бледен И хромает с костылем. Скудной жертвою измаян, Собирая дань свою, Как докучливый хозяин, Входит в каждую семью. Всё вывозит из амбара До последнего зерна. Коли зернами нет дара, То скотина убрана. Смотришь, там исчезнет телка, Там савраска пропадет… Тяжела его метелка, Да легко зато метет! С горькой жалобой и с гневом Этот призрак роковой Из гумна идет по хлевам, От амбаров к кладовой. Тащит сено и солому, Лихорадкою знобит, И опять, рыдая, к дому Поселянина спешит. В огородах, по задворкам, Он шатается, как тень, И ведет по черствым коркам Счет убогих деревень: Где на нивах колос выжжен, Поздним градом смят овес. И стоит, дрожа, у хижин Разрумяненный мороз…1891
Наш домовой
Люблю тебя, наш русский домовой! Волшебным снам, как старине, послушный; Ты веешь мне знакомой стариной, Пою тебя, наш демон простодушный; Ты близок мне, волшебник дорогой. Доверчивый, ты скромные угодья Моих отцов как сторож охранял, Их зернами и хмелем осыпал… Ты близок мне: я — внук простонародья! И первый ты в младенческой тиши Дохнул теплом мне родственной души. И слышался тогда твой вздох печальный; Он как вопрос звучал из тишины, А может быть, из тьмы первоначальной: Не правда ли, все люди? Все равны? И стал ты мне как откровенье сладок; И полюбил я тихий твой приход — То с негою пленительных загадок, То с мукою язвительных забот. Народ живет, народ еще не вымер… Ты помнишь ли, как Солнышко-Владимир, Твой добрый князь, крестился у Днепра? Ты бражничал у княжего двора, Ты сторожил и мел его хоромы… И девичьи мечты тебе знакомы. Как часто ты доверчивой княжне Внушал любовь к докучной тишине, Когда дрожал лампадный луч в часовне. В бессонный час, при ласковой луне, Она, дитя, мечтала о неровне… Ты был один свидетель нежных чар, Ты разжигал, сердечной страсти жар, Ей навевал влюбленную истому, Сон отгонял — и наконец она, Дыханием твоим обожжена, Лебяжий пух меняла на солому… И между тем как старый князь дрожал,— Влюбленных след ты нежно заметал И колдовал над милою деревней, Где страсть полней и песни задушевней. Ты дорог мне, таинственный кумир,— Моих страстей и грез моих наперсник, По-своему ты любишь грешный мир. Родных полей и дымных хат ровесник, Веди меня в седую глушь лесов, К полям, к труду, к замедленному плугу… Не измени неопытному другу, Дай руку мне!.. Ты видишь, я готов Сменить тоску нарядных лестью горниц, Где зреет страсть завистливых затворниц, Лукавых жен, холодных дочерей,— Кичащихся лишь немощью своей,— На скромный дар заветных огородов, На золото колеблющихся нив… Там ты вдохнешь мне силу новых всходов, И стану я по-твоему счастлив! И грешный вопль раскаянья забуду, И радостью труда исполнен буду, Свой новый путь, как жизнь, благословив!..1891
Чудище
Идет по свету чудище, Идет, бредет, шатается, На нем дерьмо и рубище, И чудище-то, чудище Идет — и улыбается! Идет, не хочет кланяться: «Левей!», — кричит богатому. В руке-то зелья скляница; Идет, бредет — растянется, И хоть бы что косматому! Ой, чудище, ой, пьяница, Тебе ли не кобениться, Тебе ли не кричать И конному и пешему: «Да ну вас, черти, к лешему — На всех мне наплевать!»1910
Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников)
1863–1927
«Где грустят леса дремливые…»
3. Н. Гиппиус{292}
Где грустят леса дремливые, Изнуренные морозами, Есть долины молчаливые, Зачарованные грозами. Как чужда непосвященному, В сны мирские погруженному, Их краса необычайная, Неслучайная и тайная! Смотрят ивы суковатые На пустынный берег илистый. Вот кувшинки, сном объятые, Над рекой немой, извилистой. Вот березки захирелые Над болотною равниною. Там, вдали, стеной несмелою Бор с раздумьем и кручиною. Как чужда непосвященному, В сны мирские погруженному, Их краса необычайная, Неслучайная и тайная!5 января 1895
Неурожай
Над полями ходит и сердито ропщет Злой Неурожай, Взором землю сушит и колосья топчет,— Стрибог{293}, помогай! Ходит, дикий, злобный, хлеб и мнет и душит, Обошел весь край И повсюду землю гневным взором сушит,— Стрибог, помогай! Губит наших деток неподвижным взором Злой Неурожай. Голодом томимы, молим хриплым хором: Стрибог, помогай!11 октября 1894
Гимны родине
1
О Русь! в тоске изнемогая, Тебе слагаю гимны я. Милее нет на свете края, О родина моя! Твоих равнин немые дали Полны томительной печали, Тоскою дышат небеса, Среди болот, в бессильи хилом, Цветком поникшим и унылым, Восходит бледная краса. Твои суровые просторы Томят тоскующие взоры И души, полные тоской. Но и в отчаяньи есть сладость. Тебе, отчизна, стон и радость, И безнадежность, и покой. Милее нет на свете края, О Русь, о родина моя. Тебе, в тоске изнемогая, Слагаю гимны я.6 апреля 1903
2
Люблю я грусть твоих просторов, Мой милый край, святая Русь. Судьбы унылых приговоров Я не боюсь и не стыжусь. И все твои пути мне милы, И пусть грозит безумный путь И тьмой, и холодом могилы, Я не хочу с него свернуть. Не заклинаю духа злого, И, как молитву наизусть, Твержу все те ж четыре слова: «Какой простор! Какая грусть!»8 апреля 1903
3
Печалью, бессмертной печалью Родимая дышит страна. За далью, за синею далью Земля весела и красна. Свобода победы ликует В чужой лучезарной дали, Но русское сердце тоскует Вдали от родимой земли. В безумных, напрасных томленьях Томясь, как заклятая тень, Тоскует о скудных селеньях, О дыме родных деревень.10 апреля 1903
Земле
В блаженном пламени восстанья Моей тоски не утоля, Спешу сказать мои желанья Тебе, моя земля. Производительница хлеба, Разбей оковы древних меж И нас, детей святого Феба{294}, Простором вольности утешь. Дыханьем бури беспощадной, Пожаром ярым уничтожь Заклятья собственности жадной, Заветов хитрых злую ложь. Идущего за тяжким плугом Спаси от долга и от клятв, И озари его досугом За торжествами братских жатв. И засияют светлой волей Труда и сил твои поля Во всей безгранности раздолий Твоих, моя земля.20 ноября 1905
Россия
Еще играешь ты, еще невеста ты. Ты, вся в предчувствии высокого удела, Идешь стремительно от роковой черты, И жажда подвига в душе твоей зардела. Когда поля твои весна травой одела, Ты в даль туманную стремишь свои мечты, Спешишь, волнуешься, и мнешь, и мнешь цветы, Таинственной рукой из горнего предела Рассыпанные здесь, как дар благой тебе. Вчера покорная медлительной судьбе, Возмущена ты вдруг, как мощная стихия, И чувствуешь, что вот пришла твоя пора, И ты уже не та, какой была вчера, Моя внезапная, нежданная Россия.12 марта 1915
Константин Дмитриевич Бальмонт
1867–1942
Безглагольность
Есть в русской природе усталая нежность, Безмолвная боль затаенной печали, Безвыходность горя, безгласность, безбрежность, Холодная высь, уходящие дали. Приди на рассвете на склон косогора,— Над зябкой рекою дымится прохлада, Чернеет громада застывшего бора, И сердцу так больно, и сердце не радо. Недвижный камыш. Не трепещет осока. Глубокая тишь. Безглагольность покоя. Луга убегают далёко-далёко. Во всем утомленье — глухое, немое. Войди на закате, как в свежие волны, В прохладную глушь деревенского сада,— Деревья так сумрачно-странно-безмолвны, И сердцу так грустно, и сердце не радо. Как будто душа о желанном просила, И сделали ей незаслуженно больно. И сердце простило, но сердце застыло, И плачет, и плачет, и плачет невольно.1900
К славянам
Славяне, вам светлая слава — За то, что вы сердцем открыты, Веселым младенчеством нрава С природой весеннею слиты. К любому легко подойдете, С любым вы смеетесь как с братом, И всё, что чужого возьмете, Вы топите в море богатом. Враждуя с врагом поневоле, Сейчас помириться готовы, Но если на бранном вы поле — Вы тверды и молча суровы. И снова мечтой расцвечаясь, Вы — где-то, забывши об узком, И светят созвездья, качаясь, В сознании польском и русском. Звеня, разбиваются цепи, Шумит, зеленея, дубрава, Славянские души — как степи, Славяне, вам светлая слава!К рабочему
Рабочий, странно мне с тобою говорить: По виду я — другой. О, верь мне, лишь по виду. В фабричном грохоте свою ты крутишь нить, Я в нить свою, мой брат, вкручу твою обиду. Оторван, как и ты, от тишины полей, Которая душе казалася могильной, Я в шумном городе, среди чужих людей, Не раз изнемогал в работе непосильной. Я был как бы чужой в своей родной семье, Меж торгашами слов я был чужой бесспорно. По морю вольному я плыл в своей ладье — И море ширилось безбрежно, кругозорно. Мне думать радостно, что прадеды мои Блуждали по морям на Севере туманном. В моей душе всегда поют, журчат ручьи, Растут, чтоб в море впасть в стремленьи необманном. В болотных низостях ликующих мещан Тоскует вольный дух, безумствует, мятётся. Но тот — отмеченный, кто помнит океан, Освобожденья ждет — и бури он дождётся. Она скорей пришла, чем я бы думать мог, Ты встал — и грянул гром, все вышли из преддверья. На перекрестке всех скрестившихся дорог Лишь к одному тебе я чувствую доверье. Я знаю, что в тебе стальная воля есть,— Недаром ты стоишь близ пламени и стали. Ты в судьбах Родины сумел слова прочесть, Которых мудрые, читая, не видали. Я знаю, можешь ты соткать красиво ткань, Раз что задумаешь — так выполнишь, что надо. Ты мирных пробудил, ты трупу молвил: «Встань»,— Труп — жив, идут борцы, встает, растет громада. Кругами мощными растет водоворот, Напрасны лепеты, напрасны вопли страха,— Теперь уж он в себя всё, что кругом, вберет, Осуществит себя всей силою размаха.1905
Наш царь
Наш царь — Мукден{295}, наш царь — Цусима{296}, Наш царь — кровавое пятно, Зловонье пороха и дыма, В котором разуму — темно. Наш царь — убожество слепое, Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел, Царь-висельник, тем низкий вдвое, Что обещал, но дать не смел. Он трус, он чувствует с запинкой, Но будет, — час расплаты ждет. Кто начал царствовать Ходынкой{297}, Тот кончит, встав на эшафот.1906
Вопль к ветру
Суровый ветр страны моей родной, Гудящий ветр средь сосен многозвонных, Поющий ветр меж пропастей бездонных, Летящий ветр безбрежности степной. Хранитель верб свирельною весной, Внушитель снов в тоске ночей бессонных, Сказитель дум и песен похоронных, Шуршащий ветр, услышь меня, я твой. Возьми меня, развей, как снег мятельный, Мой дух, считая зимы, поседел, Мой дух пропел весь полдень свой свирельный. Мой дух устал от слов и снов и дел. Всевластный ветр пустыни беспредельной, Возьми меня в последний свой предел.Те же
Те же дряхлые деревни, Серый пахарь, тощий конь. Этот сон уныло-древний Легким говором не тронь. Лучше спой здесь заклинанье Или молви заговор, Чтоб окончилось стенанье, Чтоб смягчился давний спор. Эта тяжба человека С неуступчивой землей, Где рабочий, как калека, Мает силу день-деньской. Год из года здесь невзгода, И беда из века в век. Здесь жестокая природа, Здесь обижен человек. Этим людям злое снится, Разум их затянут мхом, Спит — и разве озарится Ночью красным петухом.1914
Иван Алексеевич Бунин
1870–1955
Родине
Они глумятся над тобою, Они, о родина, корят Тебя твоею простотою, Убогим видом черных хат… Так сын, спокойный и нахальный, Стыдится матери своей — Усталой, робкой и печальной Средь городских его друзей, Глядит с улыбкой состраданья На ту, кто сотни верст брела И для него, ко дню свиданья, Последний грошик берегла.1891
На проселке
Веет утро прохладой степною… Тишина, тишина на полях! Заросла повиликой-травою Полевая дорога в хлебах. В мураве колеи утопают, А за ними, с обеих сторон, В сизых ржах васильки зацветают, Бирюзовый виднеется лен, Серебрится ячмень колосистый, Зеленеют привольно овсы, И в колосьях брильянты росы Ветерок зажигает душистый, И вливает отраду он в грудь, И свевает с души он тревоги… Весел мирный проселочный путь, Хороши вы, степные дороги!1895
«Старик у хаты веял, подкидывал лопату…»
Старик у хаты веял, подкидывал лопату, Как раз к святому Спасу покончив с молотьбой. Старуха в черной плахте белила мелом хату И обводила окна каймою голубой. А солнце, розовея, в степную пыль садилось — И тени ног столбами ложились на гумно, А хата молодела — зарделась, застыдилась — И празднично блестело протертое окно.1903
«Уж подсыхает хмель на тыне…»
Уж подсыхает хмель на тыне. За хуторами, на бахчах, В нежарких солнечных лучах Краснеют бронзовые дыни. Уж хлеб свезен, и вдалеке, Над старою степною хатой, Сверкает золотой заплатой Крыло на сером ветряке.1903
Пахарь
Легко и бледно небо голубое, Поля в весенней дымке. Влажный пар Взрезаю я — и лезут на подвои Пласты земли, бесценный божий дар. По борозде спеша за сошниками, Я оставляю мягкие следы,— Так хорошо разутыми ногами Ступать на бархат теплой борозды! В лилово-синем море чернозема Затерян я. И далеко за мной, Где тусклый блеск лежит на кровле дома, Струится первый зной.<1903–1906>
Донник
Брат в запыленных сапогах Швырнул ко мне на подоконник Цветок, растущий на парах, Цветок засухи — желтый донник. Я встал от книг и в степь пошел… Ну да, все, поле — золотое, И отовсюду точки пчел Плывут в сухом вечернем зное. Толчется сеткой мршкара, Шафранный свет над полем реет — И, значит, завтра вновь жара И вновь сухмень. А хлеб уж зреет. Да, зреет и грозит нуждой, Быть может, голодом… И все же Мне этот донник золотой На миг всего, всего дороже!<1903–1906>
Пустошь
Мир вам, в земле почившие! — За садом Погост рабов, погост дворовых наших: Две десятины пустоши, волнистой От бугорков могильных. Ни креста, Ни деревца. Местами уцелели Лишь каменные плиты, да и то Изъеденные временем, как оспой… Теперь их скоро выберут — и будут Выпахивать то пористые кости, То суздальские черные иконки… Мир вам, давно забытые! — Кто знает Их имена простые? Жили — в страхе, В безвестности — почили. Иногда В селе ковали цепи, засекали, На поселенье гнали. Но стихал Однообразный бабий плач — и снова Шли дни труда, покорности и страха… Теперь от этой жизни уцелели Лишь каменные плиты. А пройдет Железный плуг — и пустошь всколосится Густою рожью. Кости удобряют… Мир вам, неотомщенные! — Свидетель Великого и подлого, бессильный Свидетель зверств, расстрелов, пыток, казней, Я, чье чело отмечено навеки Клеймом раба, невольника, холопа, Я говорю почившим: «Спите, спите! Не вы одни страдали: внуки ваших Владык и повелителей испили Не меньше вас из горькой чаши рабства!»1901
Вечер
О счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье всюду. Может быть, оно — Вот этот сад осенний за сараем И чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем Встает, сияет облако: давно Слежу за ним… Мы мало видим, знаем, А счастье только знающим дано. Окно открыто. Пискнула и села На подоконник птичка. И от книг Усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело. Гул молотилки слышен на гумне… Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.1909
Максим Леонович Леонов{298}
1872–1929
Песня крестьянская
Я песню крестьянскую вам пропою, Послушайте, братья, вы песню мою: Та песня в крестьянской избе рождена, В ней только лишь правда и правда одна. Мы света не знаем, во тьме мы живем, Работаем много, но с голода мрем, А с нами скотина от голода мрет — Не знаем, кто лучше на свете живет. И землю мы пашем, и косим, и жнем, Одна лишь забота и ночью и днем — О хлебе, чтоб только себя прокормить, Да подать исправно казне заплатить. О, подать! Зачем это все и на что? Мы платим, но сами не знаем мы то. Плати! Не заплатишь — корову сведут, И лошадь и все у тебя продадут. Какое им дело, что с голоду мрешь, Что по миру скоро с сумою пойдешь? Оброк им скорее давай-подавай, А сам ты с семьею ложись умирай. Слыхали мы часто и слышим сейчас, Что деньги, которые грабят у нас, Идут на обжорство и пьянство вельмож. На них не придет никогда вот падёж! Какое им дело, что голодны мы, Что мы задохнулись от мрака и тьмы? Им только оброки давай-подавай, А сам ты с семьею ложись умирай. Да где ж справедливость законов твоих, Мой боже! Ведь создал злодеев ты их, Ведь дал ты им образ не хищных зверей, А твой, в доброте бесконечной твоей. За что же так терпим мы голод, нужду, Мы трудимся вечно (и слава труду!) — Они же, как трутни, в довольстве живут И, словно клопы, кровь крестьянскую пьют. О боже! Да где же законы твои, Когда же придут для нас светлые дни? Им только оброки давай-подавай, А сам ты с семьею ложись умирай.<1906>
Валерий Яковлевич Брюсов
1873–1924
Каменщик
— Каменщик, каменщик, в фартуке белом, Что ты там строишь? кому? — Эй, не мешай нам, мы заняты делом, Строим мы, строим тюрьму. — Каменщик, каменщик, с верной лопатой, Кто же в ней будет рыдать? — Верно, не ты и не твой брат, богатый. Незачем вам воровать. — Каменщик, каменщик, долгие ночи Кто ж проведет в ней без сна? — Может быть, сын мой, такой же рабочий, Тем наша доля полна. — Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй, Тех он, кто нес кирпичи. — Эй, берегись! под лесами не балуй… Знаем все сами, молчи!1901
У земли
Я б хотел забыться и заснуть.
М. Лермонтов Помоги мне, мать-земля! С тишиной меня сосватай! Глыбы черные деля, Я стучусь к тебе лопатой. Ты всему живому — мать, Ты всему живому — сваха! Перстень свадебный сыскать Помоги мне в комьях праха! Мать, мольбу мою услышь, Осчастливь последним браком! Ты венчаешь с ветром тишь, Луг с росой, зарю со мраком. Помоги сыскать кольцо!.. Я об нем без слез тоскую И, упав, твое лицо В губы черные целую. Я тебя чуждался, мать, На асфальтах, на гранитах… Хорошо мне здесь лежать На грядах, недавно взрытых. Я — твой сын, я тоже — прах, Я, как ты, — звено созданий. Так откуда — страсть, и страх, И бессонный бред исканий? В синеве плывет весна, Ветер вольно носит шумы… Где ты, дева-тишина, Жизнь без жажды и без думы?.. Помоги мне, мать! К тебе Я стучусь с последней силой! Или ты, в ответ мольбе, Обручишь меня — с могилой?1902
Грядущие гунны
Топчи их рай, Аттила.
Вяч. Иванов Где вы, грядущие гунны, Что тучей нависли над миром! Слышу ваш топот чугунный По еще не открытым Памирам. На нас ордой опьянелой Рухните с темных становий — Оживить одряхлевшее тело Волной пылающей крови. Поставьте, невольники воли, Шалаши у дворцов, как бывало, Всколосите веселое поле На месте тронного зала. Сложите книги кострами, Пляшите в их радостном свете, Творите мерзость во храме,— Вы во всем неповинны, как дети! А мы, мудрецы и поэты, Хранители тайны и веры, Унесем зажженные светы В катакомбы, в пустыни, в пещеры. И что, под бурей летучей, Под этой грозой разрушений, Сохранит играющий Случай Из наших заветных творений? Бесследно все сгибнет, быть может, Что ведомо было одним нам, Но вас, кто меня уничтожит, Встречаю приветственным гимном.1905
По меже
Как ясно, как ласково небо! Как радостно реют стрижи Вкруг церкви Бориса и Глеба! По горбику тесной межи Иду и дышу ароматом И мяты, и зреющей ржи. За полем усатым, не сжатым, Косами стучат косари. День медлит пред ярким закатом… Душа, насладись и умри! Все это так странно знакомо, Как сон, что ласкал до зари. Итак, я вернулся, я — дома? Так здравствуй, июльская тишь, И ты, полевая истома, Убогость соломенных крыш И полосы желтого хлеба! Со свистом проносится стриж Вкруг церкви Бориса и Глеба.Белкино, июль 1910
Век за веком
Взрывают весенние плуги Корявую кожу земли,— Чтоб осенью снежные вьюги Пустынный простор занесли. Краснеет лукаво гречиха, Синеет младенческий лен… И вновь все бело и все тихо, Лишь волки проходят как сон. Колеблются нивы от гула, Их топчет озлобленный бой… И снова безмолвно Микула Взрезает им грудь бороздой. А древние пращуры зорко Следят за работой сынов, Ветлой наклоняясь с пригорка, Туманом вставая с лугов. И дальше тропой неизбежной, Сквозь годы и бедствий и смут, Влечется суровый, прилежный, Веками завещанный труд.Январь 1907
Работа
Единое счастье — работа, В полях, за станком, за столом, Работа до жаркого пота, Работа без лишнего счета,— Часы за упорным трудом. Иди неуклонно за плугом, Рассчитывай взмахи косы, Клонись к лошадиным подпругам, Доколь не заблещут над лугом Алмазы вечерней росы! На фабрике, в шуме стозвонном Машин, и колес, и ремней, Заполни с лицом непреклонным Свой день в череду миллионном Рабочих, преемственных дней! Иль — согнут над белой страницей,— Что сердце диктует, пиши; Пусть небо зажжется денницей,— Всю ночь выводи вереницей Заветные мысли души!? Посеянный хлеб разойдется По миру; с гудящих станков Поток животворный польется; Печатная мысль отзовется Во глуби бессчетных умов. Работай! Незримо, чудесно Работа, как сев, прорастет. Что станет с плодами, — безвестно, Но благостно, влагой небесной, Труд всякий падет на народ! Великая радость — работа, В полях, за станком, за столом! Работай до жаркого пота, Работай без лишнего счета,— Все счастье земли — за трудом!18 сентября 1917
Максим Александрович Волошин
1877–1952
«Быть черною землей. Раскрыв покорно грудь…»
Александре Михайловне Петровой{299}Петрова А. М. (1871–1921) — искусствовед, знакомая Волошина.
Быть черною землей. Раскрыв покорно грудь, Ослепнуть в пламени сверкающего ока И чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко В живую плоть, ведет священный путь. Под серым бременем небесного покрова Пить всеми ранами потоки темных вод. Быть вспаханной землей… И долго ждать, что вот В меня сойдет, во мне распнется Слово. Быть Матерью-Землей. Внимать, как ночью рожь Шуршит про таинства возврата и возмездья, И видеть над собой алмазных рун{300} чертеж: По небу черному плывущие созвездья.1906
Богдановщина
Стенькин суд
У великого моря Хвалынского{301}, Заточенный в прибрежный шихан,{302} Претерпевый от змея Горынского, Жду вестей из полунощных стран. Все ль, как прежде, сияет — не сглазена Православных церквей лепота? Проклинают ли Стеньку{303} в них Разина В воскресенье, в начале поста? Зажигают ли свечки, да сальные В них заместо свечей восковых? Воеводы порядки охальные Все ль блюдут в воеводствах своих? Благолепная да многохрамная, А из ней хоть святых выноси… Что-то чую, приходит пора моя Погулять по Святой по Руси. Как, бывало, казацкая, дерзкая, На Царицын, Симбирск, на Хвалынь — Гребенская, донская да терская Собиралась ватажить Сарынь{304}, Да на первом на струге{305}, на «Соколе», С полюбовницей — пленной княжной, Разгулявшись, свистали да цокали, Да неслись по-над Волгой стрелой. Да как кликнешь сподрушных-приспешников: «Васька Ус, Шелудяк{306} да Кабан! Вы ступайте пощупать помещиков, Воевод, да попов, да дворян. Позаймитесь-ка барскими гнездами, Припустите к ним псов полютей! На столбах с перекладиной гроздами Поразвесьте собачьих детей». Хорошо на Руси я попраздновал: Погулял, и поел, и попил, А за всё, что творил неуказного, Лютой смертью своей заплатил. Принимали нас с честью и с ласкою, Выходили хлеб-солью встречать, Как в священных цепях да с опаскою Привезли на Москву показать{307}. Уж по-царски уважили пыткою: Разымали мне каждый сустав Да крестили смолой меня жидкою, У семи хоронили застав. И как вынес я муку кровавую, Да не выдал казацкую Русь, Так за то на расправу, на правую, Сам судьей на Москву ворочусь, Рассужу, развяжу — не помилую,— Кто хлопы, кто попы, кто паны… Так узнаете: как пред могилою, Так пред Стенькой все люди равны. Мне к чему царевать да насиловать, А чтоб равен был всякому всяк — Тут пойдут их, голубчиков, миловать, Приласкают московских собак. Уж попомнят, как нас по Остоженке Шельмовали для ихних утех, Поотрубят им рученьки-ноженьки: Пусть поползают людям на смех. И за мною не токмо что драная Голытьба, а казной расшибусь — Вся великая, темная, пьяная, Окаянная двинется Русь. Мы устроим в стране благолепье вам, Как, восставши из мертвых с мечом, Три угодника — с Гришкой Отрепьевым{308} Да с Емелькой придем Пугачом.22 декабря 1917
Коктебель
Европа
Держа в руке живой и влажный шар, Клубящийся и дышащий, как пар, Лоснящийся здесь зеленью, там костью, Струящийся, как жидкий хризолит{309}, Он говорил, указывая тростью: «Пойми земли меняющийся вид: Материков живые сочетанья, Их органы, их формы, их названья Водами Океана рождены. И вот она — подобная кораллу, Приросшая к Кавказу и к Уралу, Земля морей и полуостровов, Здесь вздутая, там сдавленная узко, В парче лесов и в панцире хребтов, Жемчужница огромного моллюска, Атлантикой рожденная из пен,— Опаснейшая из морских сирен. Страстей ее горючие сплетенья Мерцают звездами на токах вод — Извилистых и сложных, как растенья, Она водами дышит и живет. Ее провидели в лучистой сфере Блудницею{310}, сидящею на звере, На водах многих с чашею в руке, И девушкой, лежащей на быке{311}. Полярным льдам уста ее открыты, У пояса, среди сапфирных влаг, Как пчельный рой{312} у чресел Афродиты, Раскинул острова Архипелаг. Сюда ведут страстных желаний тропы, Здесь матерние органы Европы, Здесь, жгучие дрожанья затая,— В глубоких влуминах укрытая стихия, Чувствилище и похотник ея,— Безумила народы Византия. И здесь, как муж, поял ее Ислам: Воль Азии вершитель и предстатель, Сквозь Бычий Ход{313} Махмут-завоеватель{314} Проник к ее заветным берегам. И зачала и понесла во чреве Русь — третий Рим{315} — слепой и страстный плод: Да зачатое в пламени и гневе Собой Восток и Запад сопряжет! Но, роковым охвачен нетерпеньем, Все исказил неистовый Хирург{316}, Что кесаревым вылущил сеченьем Незрелый плод Славянства — Петербург. Пойми великое предназначенье Славянством затаенного огня: В нем брезжит солнце завтрашнего дня, И крест его — всемирное служенье. Двойным путем ведет его судьба — Она и в имени его двуглава: Пусть зскуиз — раб, но Славия есть Слава: Победный нимб над головой раба! В тисках войны сейчас еще томится Все, что живет, и все, что будет жить: Как солнца бег нельзя предотвратить — Зачатое не может не родиться. В крушеньях царств, в самосожженьях зла Душа народов ширилась и крепла: России нет — она себя сожгла, Но Славия воссветится из пепла!»20 мая 1918
Коктебель
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев)
1880–1934
Тройка
Ей, помчались! Кони бойко Бьют копытом в звонкий лед; Разукрашенная тройка Закружит и унесет. Солнце, над равниной кроясь, Зарумянится слегка. В крупных искрах блещет пояс Молодого ямщика. Будет вечер: опояшет Небо яркий багрянец. Захохочет и запляшет Твой валдайский бубенец. Ляжет скатерть огневая На холодные снега. Загорится расписная Золотистая дуга. Кони встанут. Ветер стихнет. Кто там встретит на крыльце? Чей румянец ярче вспыхнет На обветренном лице? Сядет в тройку. Улыбнется. Скажет: «Здравствуй, молодец…» И опять в полях зальется Вольным смехом бубенец.Июнь 1904
Серебряный Колодезь
Деревня
Г. А. Ранинскому{317}
Снова в поле, обвеваем Легким ветерком. Злое поле жутким лаем Всхлипнет за селом. Плещут облаком косматым По полям седым Избы, роем суковатым Изрыгая дым. Ощетинились их спины, Как сухая шерсть. День и ночь струят равнины В них седую персть. Огоньками злых поверий Там глядят в простор, Как растрепанные звери Пав на лыс-бугор. Придавила их неволя, Вы — глухие дни. За бугром с пустого поля Мечут головни. И над дальним перелеском Просверкает пыл: Будто змей взлетает блеском Искрометных крыл. Журавель кривой подъемлет, Словно палец, шест. Сердце оторопь объемлет, Очи темень ест. При дороге в темень сухо Чиркает сверчок. За деревней тукнет глухо Дальний колоток. С огородов над полями Взмоется лоскут. Здесь встречают дни за днями: Ничего не ждут. Дни за днями, год за годом: Вновь за годом год. Недород за недородом. Здесь — немой народ. Пожирают их болезни, Иссушает глаз… Промерцает в синей бездне — Продрожит — алмаз, Да заря багровым краем Над бугром стоит. Злое поле жутким лаем Всхлипнет; и молчит.1908
Песенка комаринская
Шел калика, шел неведомой дороженькой: — Тень ползучую бросал своею ноженькой. Протянулись страны хмурые, мордовские — Нападали силы-прелести бесовские. Приключилось тут с каликою мудреное: Уж и кипнем закипала степь зеленая. Тень возговорит калике гласом велием: «Отпусти меня, калика, со веселием. Опостылело житье мне мое скромное, Я пройдусь себе повадочкою темною». Да и втапоры калику опрокидывала; Кафтанишко свой по воздуху раскидывала. Кулаками-тумаками бьет лежачего — Вырастает выше облака ходячего. Над рассейскими широкими раздольями Как пошла кидаться в люд хрестьянский кольями. Мужикам, дьякам, попам она поповичам Из-под ног встает лихим Сморчом-Сморчовичем. А и речи ее дерзкие, бесовские: «Заведу у вас порядки не таковские; Буду водочкой опаивать-угащивать: Свое брюхо на напастиях отращивать. Мужичище-кулачище я почтеннейший: Подпираюсь я дубиной здоровеннейшей!» Темным вихорем уносит подорожного Со пути его прямого да не ложного. Засигает он в кабак кривой дорожкою; Загуторит, засвистит свое гармошкою: «Ты такой-сякой комаринский дурак: Ты ходи-ходи с дороженьки в кабак. Ай люли-люли люли-люли-люди: Кабаки-то по всея Руси пошли!..»_______
А и жизнь случилась втапоры дурацкая: Только ругань непристойная, кабацкая. Кабаки огнем моргают ночкой долгою Над Сибирью, да над Доном, да над Волгою. То и свет, родимый, видеть нам прохожего — Видеть старого калику перехожего. Всё-то он гуторит, всё-то сказы сказывает, Всё-то посохом, сердешный, вдаль указывает: На житье-бытье-де горькое да оховое Нападало тенью чучело гороховое.Июнь 1907
Петровское
Отчаянье
3. Н. Гиппиус
Довольно: не жди, не надейся — Рассейся, мой бедный народ! В пространство пади и разбейся За годом мучительный год! Века нищеты и безволья. Позволь же, о родина мать, В сырое, в пустое раздолье, В раздолье твое прорыдать: — Туда, на равнине горбатой,— Где стая зеленых дубов Волнуется купой подъятой, В косматый свинец облаков, Где по полю Оторопь рыщет, Восстав сухоруким кустом, И в ветер пронзительно свищет Ветвистым своим лоскутом, Где в душу мне смотрят из ночи, Поднявшись над сетью бугров, Жестокие, желтые очи Безумных твоих кабаков,— Туда, — где смертей и болезней Лихая прошла колея,— Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя!Июль 1908
Серебряный Колодезь
Из окна вагона
Эллису{318}
Поезд плачется. В дали родные Телеграфная тянется сеть. Пролетают поля росяные. Пролетаю в поля: умереть. Пролетаю: так пусто, так голо… Пролетают — вон там и вон здесь — Пролетают — за селами села, Пролетает — за весями весь; И кабак, и погост, и ребенок, Засыпающий там у грудей: — Там — убогие стаи избенок, Там — убогие стаи людей. Мать Россия! Тебе мои песни,— О немая, суровая мать! — Здесь и глуше мне дай, и безвестней Непутевую жизнь отрыдать. Поезд плачется. Дали родные. Телеграфная тянется сеть — Там — в пространства твои ледяные С буреломом осенним гудеть.Август 1908
Суйда
Русь
Поля моей скудной земли Вон там преисполнены скорби. Холмами пространства вдали Изгорби, равнина, изгорби! Косматый, далекий дымок. Косматые в далях деревни. Туманов косматый поток. Просторы голодных губерний. Просторов простертая рать: В пространствах таятся пространства. Россия, куда мне бежать От голода, мора и пьянства? От голода, холода тут И мерли, и мрут миллионы. Покойников ждали и ждут Пологие скорбные склоны. Там Смерть протрубила вдали В леса, города и деревни, В поля моей скудной земли, В просторы голодных губерний.1908
Серебряный Колодезь
Родине
В годины праздных испытаний, В годины мертвой суеты — Затверденей алмазом брани В перегоревших углях — Ты. Восстань в сердцах, сердца исполни! Произрастай, наш край родной, Неопалимой блеском молний, Неодолимой купиной. Из моря слез, из моря муки Судьба твоя — видна, ясна: Ты простираешь ввысь, как руки, Свои святые пламена — Туда, — в развалы грозной эры И в визг космических стихий,— Туда, — в светлеющие сферы, В грома летящих иерархий.Октябрь 1916
Москва
Александр Александрович Блок
1880–1921
Фабрика
В соседнем доме окна жолты. По вечерам — по вечерам Скрипят задумчивые болты, Подходят люди к воротам. И глухо заперты ворота, А на стене — а на стене Недвижный кто-то, черный кто-то Людей считает в тишине. Я слышу все с моей вершины: Он медным голосом зовет Согнуть измученные спины Внизу собравшийся народ. Они войдут и разбредутся, Навалят на спины кули. И в жолтых окнах засмеются, Что этих нищих провели.24 ноября 1903
Осенняя воля
Выхожу я в путь, открытый взорам, Ветер гнет упругие кусты, Битый камень лег по косогорам, Желтой глины скудные пласты. Разгулялась осень в мокрых долах, Обнажила кладбища земли, Но густых рябин в проезжих селах Красный цвет зареет издали. Вот оно, мое веселье, пляшет И звенит, звенит, в кустах пропав! И вдали, вдали призывно машет Твой узорный, твой цветной рукав. Кто взманил меня на путь знакомый, Усмехнулся мне в окно тюрьмы? Или — каменным путем влекомый Нищий, распевающий псалмы? Нет, иду я в путь никем не званный, И земля да будет мне легка! Буду слушать голос Руси пьяной, Отдыхать под крышей кабака. Запою ли про свою удачу, Как я молодость сгубил в хмелю… Над печалью нив твоих заплачу, Твой простор навеки полюблю… Много нас — свободных, юных, статных — Умирает, не любя… Приюти ты в далях необъятных! Как и жить и плакать без тебя!Июль 1905
Роганевское шоссе
«Я ухо приложил к земле…»
Я ухо приложил к земле. Я муки криком не нарушу. Ты слишком хриплым стоном душу Бессмертную томишь во мгле! Эй, встань и загорись и жги! Эй, подними свой верный молот, Чтоб молнией живой расколот Был мрак, где не видать ни зги! Ты роешься, подземный крот! Я слышу трудный, хриплый голос… Не медли. Помни: слабый колос Под их секирой упадет… Как зерна, злую землю рой И выходи на свет. И ведай: За их случайною победой Роится сумрак гробовой. Лелей, пои, таи ту новь, Пройдет весна — над этой новью, Вспоенная твоею кровью, Созреет новая любовь.3 июня 1901
Осенний день
Идем по жнивью, не спеша, С тобою, друг мой скромный, И изливается душа, Как в сельской церкви темной. Осенний день высок и тих, Лишь слышно — ворон глухо Зовет товарищей своих, Да кашляет старуха. Овин расстелет низкий дым, И долго под овином Мы взором пристальным следим За летом журавлиным… Летят, летят косым углом, Вожак звенит и плачет… О чем звенит, о чем, о чем? Что плач осенний значит? И низких нищих деревень Не счесть, не смерить оком, И светит в потемневший день Костер в лугу далеком… О, нищая моя страна, Что ты для сердца значишь? О, бедная моя жена, О чем ты горько плачешь?1 января 1909
Новая Америка{319}
Праздник радостный, праздник великий, Да звезда из-за туч не видна… Ты стоишь под метелицей дикой, Роковая, родная страна. За снегами, лесами, степями, Твоего мне не видно лица. Только ль страшный простор пред очами, Непонятная ширь без конца? Утопая в глубоком сугробе, Я на утлые санки сажусь. Не в богатом покоишься гробе Ты, убогая финская Русь! Там прикинешься ты богомольной, Там старушкой прикинешься ты, Глас молитвенный, звон колокольный, За крестами — кресты да кресты… Только ладан твой синий и росный Просквозит мне порою иным… Нет, не старческий лик и не постный Под московским платочком цветным! Сквозь земные поклоны да свечи, Ектеньи{320}, ектеньи, ектеньи — Шепотливые, тихие речи, Запылавшие щеки твои… Дальше, дальше… И ветер рванулся, Черноземным летя пустырем… Куст дорожный по ветру метнулся, Словно дьякон взмахнул орарем…{321} А уж там, за рекой полноводной, Где пригнулись к земле ковыли, Тянет гарью горючей, свободной, Слышны гуды в далекой дали… Иль опять это — стан половецкий И татарская буйная крепь{322}? Не пожаром ли фески турецкой Забуянила дикая степь? Нет, не видно там княжьего стяга, Не шеломами черпают Дон, И прекрасная внучка варяга Не клянет половецкий полон… Нет, не вьются там по ветру чубы, Не пестреют в степях бунчуки…{323} Там чернеют фабричные трубы, Там заводские стонут гудки. Путь степной — без конца, без исхода, Степь, да ветер, да ветер, — и вдруг Многоярусный корпус завода, Города из рабочих лачуг… На пустынном просторе, на диком Ты все та, что была, и не та, Новым ты обернулась мне ликом, И другая волнует мечта… Черный уголь — подземный мессия{324}, Черный уголь — здесь царь и жених, Но не страшен, невеста, Россия, Голос каменных песен твоих! Уголь стонет, и соль забелелась, И железная воет руда… То над степью пустой загорелась Мне Америки новой звезда!12 декабря 1913
Скифы
Панмойголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Владимир Соловьев Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы,— С раскосыми и жадными очами! Для вас — века, для нас — единый час. Мы, как послушные холопы, Держали щит меж двух враждебных рас — Монголов и Европы! Века, века ваш старый горн ковал И заглушал грома лавины, И дикой сказкой был для вас провал И Лиссабона, и Мессины!{325} Вы сотни лет глядели на Восток, Копя и плавая наши перлы, И вы, глумясь, считали только срок, Когда наставить пушек жерла! И — срок настал. Крылами бьет беда, И каждый день обиды множит, И день придет — не будет и следа От ваших Пестумов{326}, быть может! О, старый мир! Пока ты не погиб, Пока томишься мукой сладкой, Остановись, премудрый, как Эдип{327}, Пред Сфинксом с древнею загадкой!.. Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя, И обливаясь черной кровью, Она глядит, глядит, глядит в тебя И с ненавистью, и с любовью!.. Да, так любить, как любит наша кровь, Никто из вас давно не любит! Забыли вы, что в мире есть любовь, Которая и жжет, и губит! Мы любим все — и жар холодных числ, И дар божественных видений, Нам внятно все — и острый галльский{328} смысл, И сумрачный германский гений… Мы помним все — парижских улиц ад, И венецьянские прохлады, Лимонных рощ далекий аромат, И Кельна дымные громады… Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет, И душный, смертный плоти запах… Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет В тяжелых, нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая под уздцы Играющих коней ретивых, Ломать коням тяжелые крестцы И усмирять рабынь строптивых… Придите к нам! От ужасов войны! Придите в мирные объятья! Пока не поздно — старый меч в ножны, Товарищи! Мы станем — братья! А если нет — нам нечего терять, И нам доступно вероломство! Века, века — вас будет проклинать Больное позднее потомство! Мы широко по дебрям и лесам Перед Европою пригожей Расступимся! Мы обернемся к вам Своею азиатской рожей! Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою Стальных машин, где дышит интеграл, С монгольской дикою ордою! Но сами мы — отныне — вам не щит, Отныне в бой не вступим сами! Мы поглядим, как смертный бой кипит, Своими узкими глазами! Не сдвинемся, когда свирепый гунн{329} В карманах трупов будет шарить, Жечь города, и в церковь гнать табун, И мясо белых братьев жарить!.. В последний раз — опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз — на светлый братский пир Сзывает варварская лира!30 января 1918
Евгений Михайлович Тарасов{330}
1882–1943
Меж хлебов
Я бродил бесконечными нивами, Меж хлебов, от межи до межи,— Тех цветов, что зовутся счастливыми, Я не встретил в поникнувшей ржи. Убегали волнистые линии Утомительно пыльных дорог… «Где вы, милые, нежные, синие, Не знававшие темных тревог? Васильки, что зовутся счастливыми, Отчего средь колосьев вас нет?» Многознающий ветер порывами На лету прошептал мне ответ: «В эти годы меж зрелыми жатвами Не ищи — не найдешь васильков. Нивы скованы чьими-то клятвами И не помнят лазурных цветов. Зреют медленно грезы неясные, Нивы жаждут иной красоты, И в хлебах распускаются красные, Напоенные кровью цветы».1906
Быть урожаю
С каждым днем весны сияющей С каждой ночью отлетающей Больше жизни по полям. Меньше пятен снега талого — Там и здесь как будто алого,— Чуть живого, запоздалого По оврагам, по низам. Скоро съест его туманами, Съест его лучами пьяными Беспощадная весна. Легкой дымкой пар потянется — В поле пахарь не оглянется, Как от-снега не останется Даже тени, даже сна. Только там, где в зиму мглистую Был он смочен кровью чистою, Глянут пятна потемней. Только там, где в землю талую Кровь прошла то каплей малою, То струей, когда-то алою, Будут озими пышней. Колос гуще там подымется, Колос с колосом обнимется, Думать станет заодно. От раздумья невеселого Там колосья склонят головы И тяжелое, как олово, Затаят в себе зерно.<1908>
Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов)
1883–1945
О Демьяне Бедном, мужике вредном
Поемный низ порос крапивою; Где выше, суше — сплошь бурьян. Пропало все! Как ночь, над нивою Стоит Демьян. В хозяйстве тож из рук все валится: Здесь — недохватка, там — изъян… Ревут детишки, мать печалится… Ох, брат Демьян! Строчит урядник донесение: «Так што нееловских селян, Ваш-бродь, на сходе в воскресение Мутил Демьян: Мол, не возьмем — само не свалится,— Один конец, мол, для крестьян. Над мужиками черт ли сжалится…» Так, так, Демьян! Сам становой примчал в Неелово, Рвал и метал: «Где? Кто смутьян? Сгною… Сведу со света белого!» Ох, брат Демьян! «Мутить народ? Вперед закается!.. Связать его! Отправить в стан!.. Узнаешь там, что полагается!» Ась, брат Демьян? Стал барин чваниться, куражиться: «Мужик! Хамье! Злодей! Буян!» Буян!.. Аль не стерпеть, отважиться? Ну ж, брат Демьян!..1909
Кларнет и рожок
Однажды летом У речки, за селом, на мягком бережку Случилось встретиться пастушьему рожку С кларнетом. «Здорово!» — пропищал кларнет. «Здорово, брат, — рожок в ответ,— Здорово! Как вижу — ты из городских… Да не пойму: из бар аль из каких?» «Вот это ново,— Обиделся кларнет. — Глаза вперед протри Да лучше посмотри, Чем задавать вопрос мне неуместный. Кларнет я, музыкант известный. Хоть, правда, голос мой с твоим немного схож, Но я за свой талант в места какие вхож?! Сказать вам, мужикам, и то войдете в страх вы. А все скажу, не утаю: Под музыку мою Танцуют, батенька, порой князья и графы! Вот ты свою игру с моей теперь сравни: Ведь под твою — быки с коровами одни Хвостами машут!» «То так, — сказал рожок, — нам графы не сродни. Одначе помяни: Когда-нибудь они Под музыку и под мою запляшут!»1912
«Полна страданий наших чаша…»
Полна страданий наших чаша, Слились в одно и кровь и пот. Но не угасла сила наша: Она растет, она растет! Кошмарный сон — былые беды, В лучах зари — грядущий бой. Бойцы в предчувствии победы Кипят отвагой молодой. Пускай шипит слепая злоба, Пускай грозит коварный враг, Друзья, мы станем все до гроба За правду — наш победный стяг!1912
Николай Алексеевич Клюев{331}
1884–1937
«Весна отсияла… Как сладостно больно…»
Весна отсияла… Как сладостно больно, Душой отрезвяся, любовь схоронить. Ковыльное поле дремуче-раздольно, И рдяна заката огнистая нить. И серые избы с часовней убогой, Понурые ели, бурьяны и льны Суровым безвестьем, печалию строгой — «Навеки», «Прощаю» — как сердце, полны. О матерь-отчизна, какими тропами Бездольному сыну укажешь пойти: Разбойную ль удаль померить с врагами Иль робкой былинкой кивать при пути? Былинка поблекнет, и удаль обманет, Умчится, как буря, надежды губя,— Пусть ветром нагорным душа моя станет Пророческой сказкой баюкать тебя. Баюкать безмолвье и бури лелеять, В степи непогожей шуметь ковылем, На спящие села прохладою веять И в окна стучаться дозорным крылом.<1911>
«Вы обещали нам сады…»
Я обещаю вам сады… К. Бальмонт
Вы обещали нам сады В краю улыбчиво-далеком, Где снедь — волшебные плоды, Живым питающие соком. Вещали вы: «Далеких зла, Мы вас от горестей укроем, И прокаженные тела В ручьях целительных омоем». На зов пошли: Чума, Увечье, Убийство, Голод и Разврат, С лица — вампиры, по наречью — В глухом ущелье водопад. За ними следом Страх тлетворный С дырявой Бедностью пошли,— И облетел ваш сад узорный, Ручьи отравой потекли. За пришлецами напоследок Идем неведомые Мы,— Наш аромат смолист и едок, Мы освежительней зимы. Вскормили нас ущелий недра, Вспоил дождями небосклон, Мы — валуны, седые кедры, Лесных ключей и сосен звон.<1912>
«Сготовить деду круп, помочь развесить сети…»
Сготовить деду круп, помочь развесить сети, Лучину засветить и, слушая пургу, Как в сказке, задремать на тридевять столетий, В Садко оборотясь иль в вещего Вольгу{332}. «Гей, други! Не в бою, а в гуслях нам удача,— Соловке-игруну претит вороний грай…» С полатей смотрит Жуть, гудит, как било, Лаче{333}, И деду под кошмой приснился красный рай. Там горы-куличи и сыченые реки, У чаек и гагар по мисе яйцо… Лучина точит смоль, смежив печурки-веки, Теплынью дышит печь — ночной избы лицо. Но уж рыжеет даль, пурговою метлищей Рассвет сметает темь, как из сусека сор, И слышно, как сова, спеша засесть в дуплище, Гогочет и шипит на солнечный костер. Почуя скитный звон, встает с лежанки бабка, Над ней пятно зари, как венчик у святых, А Лаче ткет валы размашисто и хлябко, Теряяся во мхах и в далях ветровых.1912
«Правда ль, други, что на свете…»
Правда ль, други, что на свете Есть чудесная страна, Где ни бури и ни сети Не мутят речного дна; Где не жнется супостатом Всколосившаяся новь И сумой да казематом Не карается любовь, Мать не плачется о сыне, Что безвременно погиб И в седой морской пучине Стал добычей хищных рыб; Где безбурные закаты Не мрачат сиянья дня, Благосенны кущи-хаты И приветны без огня. Поразмыслите-ка, други, Отчего ж в краю у нас Застят таежные вьюги Зори красные от глаз? От невзгод черны избушки, В поле падаль и навоз Да вихрастые макушки Никлых, стонущих берез? Да маячат зубья борон, Лебеду суля за труд, Облака, как черный ворон, Темь ненастную несут?<1913>
«Вот и я — суслон овсяный…»
Вот и я — суслон{334} овсяный, Шапка набок, весь в поту, Тишиною безымянной Славлю лета маету. Эво, лес, а вот проселок, Талый воск березняка, Журавлиный, синий волок Взбороздили облака. Просиял за дальним пряслом Бабий ангел Гавриил{335}, Животворным, росным маслом Вечер жнивье окропил: Излечите стебли раны — Курослеп, смиренный тмин; Сытен блин, кисель овсяный На крестинах и в помин. Благовейный гость недаром В деревушку правит лёт — Быть крестинам у Захара В золотистый умолот{336}. Я суслон, кривой, негожий, Внемлю тучке и листу. И моя солома — ложе Черносошному Христу.1915
«Обозвал тишину глухоманью…»
Обозвал тишину глухоманью, Надругался над белым «молчи», У креста простодушною данью Не поставил сладимой свечи. В хвойный ладан дохнул папиросой И плевком незабудку обжег. Зарябило слезинками плесо, Сединою заиндевел мох. Светлый отрок — лесное молчанье, Помолясь за заплаканный крест, Закатилось в глухое скитанье До святых, незапятнанных мест. Заломила черемуха руки, К норке путает след горностай… Сын железа и каменной скуки Попирает берестяный рай.1915 или 1916
«От кудрявых стружек тянет смолью…»
От кудрявых стружек тянет смолью, Духовит, как улей, белый сруб. Крепкогрудый плотник тешет колья, На слова медлителен и скуп. Тепел паз, захватисты кокоры, Крутолоб тесовый шоломок. Будут рябью писаны подзоры. И лудянкой выпестрен конек. По стене, как зерць, пройдут зарубки: Сукрест, лапки, крапица, рядки, Чтоб избе-молодке в красной шубке Явь и сонь мерещились — легки. Крепкогруд строитель-тайновидец, Перед ним щепа как письмена: Запоет резная пава с крылец, Брызнет ярь с наличника окна. И когда оческами кудели Над избой взлохматится дымок — Сказ пойдет о красном древоделе По лесам, на запад и восток.<1915 или 1916>
Сказ грядущий
Кабы молодцу узорчатый кафтан, На сапожки с красной опушью сафьян, На порты бы мухояровый камлот — Дивовался бы на доброго народ. Старики бы помянули старину, Бабки — девичью, зеленую весну, Мужики бы мне-ка воздали поклон: «Дескать, в руку был крестьянский дивный сон, Будто белая престольная Москва Не опальная кручинная вдова…» В тихом Угличе поют колокола, Слышны клекоты победного орла: Быть Руси в златоузорчатой парче, Как пред образом заутренней свече! Чтобы девичья умильная краса Не топталась, как на травушке роса, Чтоб румяны были зори-куличи, Сытны варева в муравчатой печи, Чтоб родная черносошная изба Возглашала бы, как бранная труба: «Солетайтесь, белы кречеты, на пир, На честное рукобитие да мир!» Буй-Тур Всеволод{337} и Темный Василько{338}, С самогудами Чурило{339} и Садко, Александр Златокольчужный{340}, Невский страж, И Микулушка{341} — кормилец верный наш, Радонежские Ослябя{342}, Пересвет,— Стяги светлые столетий и побед! Не забыты вы народной глубиной, Ваши облики схоронены избой, Смольным бором, голубым березняком, Призакрыты алым девичьим платком!.. Тише, Волга, Днепр Перунов{343}, не гуди,— Наших батырей до срока не буди!1917
Песнь солнценосца
Три огненных дуба на пупе земном, От них мы три желудя-солнца возьмем: Лазоревым — облачный хворост спалим, Павлиньим — грядущего даль озарим, А красное солнце — мильонами рук Подымем над миром печали и мук. Пылающий кит взбороздит океан, Звонарь преисподний ударит в Монблан{344}, То колокол наш — непомерный язык, Из рек бечеву свил архангелов лик. На каменный зык отзовутся миры, И демоны выйдут из адской норы, В потир отольются металлов пласты, Чтоб солнца вкусили народы-Христы. О демоны-братья, отпейте и вы Громовых сердец, поцелуйной молвы! Мы — рать солнценосцев на пупе земном — Воздвигнем стобашенный, пламенный дом: Китай и Европа, и Север и Юг Сойдутся в чертог хороводом подруг, Чтоб Бездну с Зенитом в одно сочетать, Им бог — восприемник, Россия же — мать. Из пупа вселенной три дуба растут: Премудрость, Любовь и волхвующий Труд… О, молот-ведун, чудотворец-верстак, Вам ладан стиха, в сердце сорванный мак, В ваш яростный ум, в многострунный язык Я пчелкою-рифмой, как в улей, проник, Дышу восковиной, медынью цветов, Сжигающих Индий и Волжских лугов!.. Верстак — Назарет{345}, наковальня — Немврод{346}, Их слил в песнозвучье родимый народ: «Вставай, подымайся» и «Зелен мой сад» — В кровавом окопе и в поле звучат… «Вставай, подымайся», — старуха поет, В потемках телега и петли ворот, За ставнем береза и ветер в трубе Гадают о вещей народной судьбе… Три желудя-солнца досталися нам — Засевный подарок взалкавшим полям: Свобода и Равенство, Братства венец — Живительный выгон для ярых сердец. Тучнейте, отары голодных умов, Прозрений телицы и кони стихов! В лесах диких грив, звездных рун и вымян Крылатые боги раскинут свой стан, По струнным лугам потечет молоко, И певчей калиткою стукнет Садко: «Пустите Бояна — Рублевскую Русь{347}, Я тайной умоюсь, а песней утрусь, Почестному пиру отвешу поклон, Румянее яблонь и краше икон: Здравствуешь, Волюшка-мать, Божьей Земли благодать, Белая Меря, Сибирь, Ладоги хлябкая ширь! Здравствуйте, Волхов-гусляр, Степи Великих Бухар, Синий моздокский туман, Волга и Стенькин курган! Чай стосковались по мне, Красной поддонной весне, Думали — злой водяник Выщербил песенный лик? Я же — в избе и в хлеву Ткал золотую молву, Сирин мне вести носил С плах и бескрестных могил. Рушайте ж лебедь-судьбу, В звон осластите губу, Киева сполох-уста Пусть воссияют, где Мета. Чмок городов и племен В лике моем воплощен, Я — песноводный жених, Русский яровчатый стих!»1911
Пахарь
Вы на себя плетете петли И навостряете мечи. Ищу вотще: меж вами нет ли Рассвета алчущих в ночи? На мне убогая сермяга, Худая обувь на ногах, Но сколько радости и блага Сквозит в поруганных чертах. В мой хлеб мешаете вы пепел, Отраву горькую в вино, Но я, как небо, мудро-светел И неразгадан, как оно. Вы обошли моря и сушу, К созвездьям взвили корабли, И лишь меня — мирскую душу, Как жалкий сор, пренебрегли. Работник родины свободной На ниве жизни и труда, Могу ль я вас, как терн негодный, Не вырвать с корнем навсегда?1911, 1918
Белая повесть
Памяти матери
То было лет двадцать назад, И столько же зим, листопадов, Четыре морщины на лбу И сизая стежка на шее — Невесты-петли поцелуй. Закроешь глаза, и Оно Родимою рябкой кудахчет, Морщинистым древним сучком С обиженной матицы смотрит, Метлою в прозябшем углу На пальцы ветловые дует. Оно не микроб, не Толстой, Не Врубеля мозг ледовитый, Но в победья час мировой, Когда мои хлебы пекутся, И печка мурлычет, пьяна Хозяйской, бобыльною лаской, В печурке созвездья встают, Поет Вифлеемское небо, И Мать пеленает меня — Предвечность в убогий свивальник. Оно подрастает, как в темь Измученный, дальний бубенчик, Ныряет в укладку, в платок, Что сердцу святее иконы, И там серебрит купола, Сплетает захватистый невод, Чтоб выловить камбалу-душу, И к груди сынишком прижать, В лесную часовню повесть, Где Боженька книгу читает, И небо в окно подает Лучистых зайчат и свистульку. Потом черноусьем идти, Как пальчику в бороду тятьке, В пригоршне зайчонка неся — Часовенный, жгучий гостинец. Есть остров — Великий Четверг С изюмною, лакомой елью, Где Ангел в кутейном дупле Поет золотые амини,— Туда меня кличет Оно Воркующим, бархатным громом, От Ангела перышко дать Сулит — щекотать за кудряшкой, Чтоб Дедушка-Сон бородой Согрел дорогие колешки. Есть град с восковою стеной, С палатой из титл и заставок, Где вдовы Ресницы живут С привратницей — Родинкой доброй, Где коврик молитвенный расшит Субботней страстною иглою, Туда меня кличет Оно Куличевым, сдобным трезвоном Христом разговеться и всласть Наслушаться вешних касаток, Что в сердце слепили гнездо Из ангельских звонких пушинок. То было лет десять назад, И столько же весен простудных, Когда, словно пух на губе, Подснежная лоснилась озимь, И Месяц — плясун водяной Под ольхами правил мальчишник, В избе, под распятьем окна За прялкой Предвечность сидела, Вселенскую душу и мозг В певучую нить выпрядая. И Тот, кто во мне по ночам О печень рогатину точит, Стучится в лобок, как в притон, Где Блуд и Чума потаскуха,— К Предвечности Солнце подвел Для жизни в лучах белокурых, Для зыбки в углу избяном, Где мозг мирозданья прядется. Туда меня кличет Оно Пророческим шелестом пряжи, Лучом за распятьем окна, Старушьей блаженной слезинкой, Сулится кольцом подарить С бездонною брачной подушкой, Где остров — ржаное гумно Снопами, как золотом, полон. И в каждом снопе аромат Младенческой яблочной пятки, В соломе же вкус водяной И шелест крестильного плата… То было сегодня… Вчера… Назад миллионы столетий,— Не скажут ни святцы, ни стук Височной кровавой толкуши, Где мерно глухие песты О темя Земли ударяют,— В избу Бледный Конь прискакал, И свежестью горной вершины Пахнуло от гривы на печь,— И печка в чертог обратилась: Печурки — пролеты столпов, А устье — врата огневые. Конь лавку копытом задел, И дерево стало дорогой, Путем меж алмазных полей, Трубящих и теплящих очи, И каждое око есть мир, Сплав жизней и Душ отошедших. «Изыди» — воззвали Миры, И вышло Оно на дорогу… В миры меня кличет Оно Нагорным пустынным сияньем, Свежительной гривой дожди С сыновних ресниц отряхает. И слезные ливни, как сеть, Я в памяти глубь погружаю, Но вновь неудачлив улов, Как хлеб, что пеку я без Мамы,— Мучнист стихотворный испод И соль на губах от созвучий, Знать, в замысла ярый раствор Скатилась слеза дождевая.До 1919 г.
Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников
1885–1922
«Свобода приходит нагая…»
Свобода приходит нагая, Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, Беседуем с небом на «ты». Мы, воины, строго ударим Рукой по суровым щитам: Да будет народ государем Всегда, навсегда, здесь и там! Пусть девы споют у оконца Меж песен о древнем походе, О верноподданном Солнца Самодержавном народе.Апрель 1911
Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев)
1887–1941
Памяти Н. А. Некрасова
Помните вечно заветы почившего, К свету и правде Россию будившего, Страстно рыдавшего, Тяжко страдавшего С гнетом в борьбе. Сеятель! Зерна взошли светозарные: Граждане, вечно тебе благодарные, Живы заветами, Солнцу обетами! Слава тебе!1907
В июле
В полях созрел ячмень. Он радует меня! Брожу я целый день По волнам ячменя. Смеется мне июль, Кивают мне поля. И облако — как тюль, И солнце жжет, паля. Блуждаю целый день В сухих волнах земли, Пока ночная тень Не омрачит стебли. Спущусь к реке, взгляну На илистый атлас; Взгрустнется ли, — а ну, А ну печаль от глаз. Теперь ли тосковать, Когда поспел ячмень? Я всех расцеловать Хотел бы в этот день!1909
Родник
Восемь лет эту местность я знаю. Уходил, приходил, — но всегда В этой местности бьет ледяная Неисчерпываемая вода. Полноструйный родник, полнозвучный, Мой родной, мой природный родник, Вновь к тебе (ты не можешь наскучить!) Неотбрасываемо я приник. И светло мне глаза оросили Слезы гордого счастья, и я Восклицаю: ты — символ России, Изнедривающаяся струя!Июль 1914
Поэза последней надежды
Не странны ли поэзовечера, Бессмертного искусства карнавалы, В стране, где «завтра» хуже, чем «вчера», Которой, может быть, не быть пора, В стране, где за обвалами — обвалы? Но не странней ли этих вечеров Идущие на них? Да кто вы? — дурни, В разгар чумы кричащие: «Пиров!», Или и впрямь фанатики даров Поэзии, богини всех лазурней!.. Поэт — всегда поэт. Но вы-то! Вы! Случайные иль чающие? Кто вы? Я только что вернулся из Москвы, Где мне рукоплескали люди-львы, Кто за искусство жизнь отдать готовы! Какой шампанский, искристый экстаз! О, сколько в лицах вдохновенной дрожи! Вы, тысячи воспламененных глаз,— Благоговейных, скорбных, — верю в вас: Глаза крылатой русской молодежи! Я верю в вас, а значит — и в страну. Да, верю я, наперекор стихии, Что вал растет, вздымающий волну, Которая всё-всё сольет в одну, А потому — я верю в жизнь России!..Ноябрь 1917
Петр Васильевич Орешин{348}
1887–1938
Золотая соха
Плохо денется, плохо косится, И лежат ряды неровные. Знать бы, скоро ли износятся На душе обиды кровные? Тяжко в пору нам покосную, Весь до косточки сломаешься. Ах, зачем ты, жизнь несносная, К нам, как мачеха, ласкаешься! Темен лес, темнее — хижины, Злой тоской-соломой крытые. Не судьбой ли мы обижены, В чистом поле позабытые? Есть у нас тропинка алая, Путь-дороженька заветная. Есть головушка удалая, Сила-удаль несусветная. Мы поспорим с злыми чарами, С колдовством, судьбой и холодом. Будут нищие боярами, Медный грош — червонным золотом. Обрастет густыми травами Вековечная кручинушка, И пойдет гулять заставами С золотой сохой детинушка.1913
«Я знаю шорохи и звоны…»
Я знаю шорохи и звоны Колосьев зреющих во сне, Душистой ржи полупоклоны Моей родимой стороне. Дорог изгибы мне знакомы, Испытан жатвы знойный день. Люблю я золото соломы На крыше русских деревень! И только грустно-нестерпимо Висит над хижинами ночь. Смогу ли я непогрешимо Тоску немую превозмочь?1913
Ночь
Глянет месяц из-за гор, Вспыхнет конской гривой, И запахнет темный двор Сеном и крапивой. Скажет теплая земля, И услышит небо: — Вы ль не мучили меня, Люди, из-за хлеба? Вы ли грудь мою сохой Не избороздили? Вы ли брата в час лихой Хлебом накормили? Тихо в сумраке ночном С края и до края. Над распаханным бугром Зорька золотая.1914
С обозом
Загуляли над лесом снега, Задымилась деревня морозом. И несет снеговая пурга, Заметая следы за обозом. Поседел вороной меринок: Растрепалась кудлатая грива. Снежный путь бесконечно далек, А в душе — и темно и тоскливо. Без нужды опояшешь ремнем Меринку дуговатые ноги. По колена в снегу, и кругом Не видать ни тропы, ни дороги. До зари хорошо бы домой. На столе — разварная картошка. — Но-о, воронушка, трогай, родной… Занесет нас с тобой заварошка! В поле вихрится ветер-зимач, За бураном — вечерние зори. Санный скрип — недоплаканный плач, Дальний путь — безысходное горе!1914
Страда
Рожь густая недожата, Осыпается зерно. Глянешь в небо через хаты: Небо в землю влюблено! Зной палит. В крови ладони. Рожь, как камень, под серпом. Руки жнут, а сердце стонет, Сердце сохнет об одном! Тяжко, думы, тяжко с вами, Серп не держится в руках. Мил лежит под образами, Точно колос на полях! Рожь густая — не одюжишь Ни косою, ни серпом. И поплачешь, и потужишь Над несвязанным снопом!1914
Кто любит родину
Кто любит родину, Русскую землю с худыми избами, Чахлое поле, Градом побитое? Кто любит пашню, Соху двужильную, соху-матушку? Выйдь только в поле В страдные дни подневольные. Сила измызгана, Потом и кровью исходит силушка, А избы старые, И по селу ходят нищие. Вешнее солнце В светлой сермяге Плачет над Русью Каждое утро росой серебряной. Кто любит родину? Ветер-бродяга ответил красному: — Кто плачет осенью Над нивой скошенной и снова Под вешним солнцем В поле — босой и без шапки— Идет за сохой,— Он, лапотный, больше всех любит родину! Ведь кровью и потом Полил он, кормилец, каждую глыбу И каждый рыхлый И теплый ломоть скорбной земли своей!1915
Александр Васильевич Ширяевец{349} (Абрамов)
1887–1924
«Говорил ты мне, что мало у меня удалых строк…»
Николаю Клюеву
Говорил ты мне, что мало у меня удалых строк: Удаль в городе пропала, — замотался паренек… А как девица-царевна, светом ласковых очей, Душу вывела из плена — стали песни позвончей. А как только домекнулся: кинуть город мне пора, Всколыхнулся, обернулся в удалого гусляра!1909–1910 гг.
Старь
Месяц, глянь ушкуйным оком! Кистенем стальным взмахни! Понесусь я быстрым скоком На татарские огни. Надо мной воронья стая Зачернеет — ждет беда. Предо мною Золотая Пораскинется Орда. — Ой, летите, стрелы злые, В басурманские шатры! Нам хвататься не впервые За мечи и топоры! Я рубиться лихо стану, Сдвинет враг со всех сторон, И, иссеченного, к хану Отведут меня в полон. Долго-долго, дни и ночи Будут лязгать кандалы. Будет сниться терем отчий, Волги буйные валы. Запылит с Руси дружина, На Орду ударит вскачь, Я опять на волю хлыну Для удач и неудач… Час настанет, и на склоны Упаду я из седла, Как вопьется в грудь со стоном Закаленная стрела…2 января 1917 г.
Сергей Антонович Клычков{350}
1889–1940
«Милей, милей мне славы…»
Милей, милей мне славы Простор родных полей, И вешний гул дубравы, И крики журавлей. Нет таинства чудесней, Нет красоты иной, Как сеять зерна с песней Над вешней целиной. Ой, лес мой, луг мой, поле!.. Пусть так всю жизнь и пусть Не сходят с рук мозоли, А с тихой песни грусть.1911–1913 гг.
Дедова пахота
Бел туман спадает с выси, На селе кричат грачи, В седины его вплелися Солнца раннего лучи! Коня ивинкой сухою Понукает он порой… Славны думы за сохою! Светлы очи пред зарей! Запахал дед озимое, Поясной поклон сложил, Обошел кругом с сумою, Хлебной крошкой обсорил. За день дед не сел у пашни, Распрямился и окреп… Тепел вечер был вчерашний, Мягок будет черный хлеб! Не с того ли яровая В поле скатерть за селом… Будет всем по караваю! Всем по чарке за столом!..1911–1913 гг.
Подпасок
Над полем туманит, туманит, В тумане мигает грудок, А за лесом гаснет и манит Меж туч заревой городок. Сегодня я в поле ночую, Лежу, притаясь за скирдой, Вон в высь голубую, ночную Катится звезда за звездой… И нехотя месяц всплывает Над ширью покосов и нив, И ряски свои одевают Ряды придорожные ив… И кто-то под голос волынки Незримо поет в вышине, И никнет былинка к былинке, И грустно от песенки мне. И то ли играет подпасок, Поет ли волынка сама— Ах, беден на нем опоясок И с боку убога сума!.. Но в полночь, когда он на кочке Сидит в голове табуна, В кафтан с золотой оторочкой Его наряжает луна… А в сумку, пропахшую хлебом, Волшебную дудку кладет, И тихо под песенку небом За облаком облак плывет… Плывет он и смотрит с опаской, Что скоро потухнет грудок,— Замолкнет волынка подпаска, Зальется фабричный гудок.1914–1917 гг.
Вечер
Над низким полем из болота На пашню тянут кулики, Уж камышами вдоль реки Плывет с волною позолота. Туман ложится в отдаленье, Земля горбом — свежа, черна, В меже соха, как привиденье, И вверх зубцами борона. Вдали леса, и словно лица, Глядят над нами купола… И тихо бродит вкруг села Серебряная мглица… Встает луна за крайней хатой, И, словно латы, возле хат На травке, мокрой и хохлатой, У окон лужицы лежат…Пастух
Я все пою, ведь я певец, Не вывожу пером строки: Брожу в лесу, пасу овец В тумане раннем у реки. Прошел по селам дальний слух: И часто манят на крыльцо, И улыбаются в лицо Мне очи зорких молодух… Но я печаль мою таю, И в певчем сердце — тишина… И так мне жаль печаль мою, Не зная кто и где она… И часто, слушая рожок, Мне говорят: пастух! пастух!.. Покрыл мне щеки смуглый пух, И полдень брови мне ожег… И я пастух, и я певец, И все гляжу из-под руки: — И песни, как стада овец, В тумане раннем у реки!..Предчувствие
Золотятся ковровые нивы И чернеют на пашнях комли… Отчего же задумались ивы, Словно жаль им родимой земли?.. Как и встарь, месяц облаки водит, Словно древнюю рать богатырь, И за годами годы проходят, Пропадая в безвестную ширь. Та же Русь без конца и без края, И над нею дымок голубой — Что ж и я не пою, а рыдаю Над людьми, над собой, над судьбой? И мне мнится: в предутрии пламя Пред бедою затеплила даль, И сгустила туман над полями Небывалая в мире печаль…1914
Лада у окна
Мокрый снег поутру выпал, Каплет с крыши у окна. На оконницу насыпал Дед поутру толокна… Толокно объяло пламя, Толокно петух клюет И в окно стучит крылами, И, нахохлившись, поет. Ленту алую вплетая, Села Лада у окна: — Здравствуй, тучка золотая, Солнце-странничек, весна!.. Светит перстень на оконце: За окном бегут ручьи, Высоко гуляет солнце, Кружат стаями грачи… Далеко ж в дали веселой, Словно вешние стада, Разбеглись деревни, села И большие города!.. А оконце все в узоре: За туманной пеленой, Словно сон, синеет море, А за морем край земной…Гость чудесный
Свет вечерний мерцает вдоль улиц, Словно призрак, в тумане плетень, Над дорогою ивы согнулись, И крадется от облака тень. Уж померкли за сумраком хвои, И сижу я у крайней избы, Где на зори окно локовое И крылечко из тонкой резьбы. А в окно, может, горе глядится И хозяйка тут — злая судьба, Уж слетают узорные птицы, Уж спадает с застрехи резьба. Может быть, здесь в последней надежде Все ж, трудясь и страдая, живут, И лампада пылает, как прежде, И все гостя чудесного ждут. Вон сбежали с огорка овины, Вон согнулся над речкою мост— И так сказочен свист соловьиный! И так тих деревенский погост! Все он видится старой старухе За туманом нельющихся слез, Ждет и ждет, хоть недобрые слухи Ветер к окнам с чужбины принес. Будто вот полосой некошеной Он идет с золотою косой И пред ним рожь, и жито, и пшены Серебристою брызжат росой! И, как сторож, всю ночь стороною Ходит месяц и смотрит во мглу, И в закуте соха с бороною Тоже грезят — сияют в углу.1914–1917 гг.
Марина Ивановна Цветаева
1892–1941
Из цикла «Стихи о Москве»
1
Облака — вокруг, Купола — вокруг. Надо всей Москвой— Сколько хватит рук! — Возношу тебя: бремя лучшее, Деревцо мое Невесомое! В дивном граде сем, В мирном граде сем, Где и мертвой мне Будет радостно,— Царевать тебе, горевать тебе, Принимать венец, О мой первенец! Ты постом — говей, Не сурьми бровей, И все сорок — чти — Сороков церквей. Исходи пешком — молодым шажком! — Всё привольное Семихолмие. Будет твой черед: Тоже — дочери Передашь Москву С нежной горечью. Мне же — вольный сон, колокольный звон, Зори ранние На Ваганькове.31 марта 1916
6
Над синевою подмосковных рощ Накрапывает колокольный дождь. Бредут слепцы Калужскою дорогой — Калужской — песенной — привычной, и она Смывает и смывает имена Смиренных странников, во тьме поющих бога. И думаю: когда-нибудь и я, Устав от вас, враги, от вас, друзья, И от уступчивости речи русской,— Надену крест серебряный на грудь, Перекрещусь — и тихо тронусь в путь По старой по дороге по Калужской.1916
8
Москва! Какой огромный Странноприимный дом! Всяк на Руси — бездомный. Мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, За голенищем — нож. Издалека-далече — Ты все же позовешь. На каторжные клейма, На всякую болесть — Младенец Пантелеймон{351} У нас, целитель, есть. А вон за тою дверцей, Куда народ валит,— Там Иверское{352} сердце, Червонное, горит. И льется аллилуйя На смуглые поля. — Я в грудь тебя целую, Московская земля!8 июля 1916
9
Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья. Я родилась. Спорили сотни Колоколов. День был субботний: Иоанн Богослов. Мне и доныне Хочется грызть Жаркой рябины Горькую кисть.16 августа 1916
Из цикла «Стихи к Блоку»
5
У меня в Москве — купола горят, У меня в Москве — колокола звонят, И гробницы, в ряд, у меня стоят,— В них царицы спят и цари. И не знаешь ты, что зарей в Кремле Легче дышится — чем на всей земле! И не знаешь ты, что зарей в Кремле Я молюсь тебе — до зари. И проходишь ты над своей Невой О ту пору, как над рекой-Москвой Я стою с опущенной головой, И слипаются фонари. Всей бессонницей я тебя люблю, Всей бессонницей я тебе внемлю— О ту пору, как по всему Кремлю Просыпаются звонари. Но моя река — да с твоей рекой, Но моя рука — да с твоей рукой Не сойдутся, Радость моя, доколь Не догонит заря — зари.7 мая 1916
7
Должно быть — за той рощей Деревня, где я жила, Должно быть — любовь проще И легче, чем я ждала. — Эй, идолы, чтоб вы сдохли! — Привстал и занес кнут, И окрику вслед — охлест, И вновь бубенцы поют. Над валким и жалким хлебом За жердью встает — жердь, И проволока под небом Поет и поет смерть.13 мая 1916
8
И тучи оводов вокруг равнодушных кляч, И ветром вздутый калужский родной кумач, И посвист перепелов, и большое небо, И волны колоколов над волнами хлеба, И толк о немце, доколе не надоест, И желтый-желтый — за синею рощей — крест, И сладкий жар, и такое на всем сиянье, И имя твое, звучащее словно: ангел.18 мая 1916
«Белое солнце и низкие, низкие тучи…»
Белое солнце и низкие, низкие тучи, Вдоль огородов — за белой стеною — погост. И на песке вереницы соломенных чучел Под перекладинами в человеческий рост. И, перевесившись через заборные колья, Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд. Старая баба — посыпанный крупной солью Черный ломоть у калитки жует и жует… Чем прогневили тебя эти серые хаты,— Господи! — и для чего стольким простреливать грудь? Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты, И запылил, запылил отступающий путь… — Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше, Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же Нынче солдаты! О господи боже ты мой!3 июля 1916
«Благословляю ежедневный труд…»
Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженощный сон. Господню милость — и господен суд, Благой закон — и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр… И пыльный посох свой, где все лучи! Еще, господь, благословляю — мир В чужом дому — и хлеб в чужой печи.21 мая 1918
Сергей Александрович Есенин
1895–1925
Русь
1
Потонула деревня в ухабинах, Заслонили избенки леса. Только видно на кочках и впадинах, Как синеют кругом небеса. Воют в сумерки долгие, зимние, Волки грозные с тощих полей. По дворам в погорающем инее Над застрехами храп лошадей. Как совиные глазки, за ветками Смотрят с шали пурги огоньки. И стоят за дубовыми сетками, Словно нечисть лесная, пеньки. Запугала нас сила нечистая, Что ни прорубь — везде колдуны. В злую заморозь в сумерки мглистые На березках висят галуны.2
Но люблю тебя, родина кроткая! А за что — разгадать не могу. Весела твоя радость короткая С громкой песней весной на лугу. Я люблю над покосной стоянкою Слушать вечером гуд комаров. А как гаркнут ребята тальянкою, Выйдут девки плясать у костров. Загорятся, как черна смородина, Угли-очи в подковах бровей. Ой ты, Русь моя, милая родина, Сладкий отдых в шелку купырей.3
Понакаркали черные вороны: Грозным бедам широкий простор. Крутит вихорь леса во все стороны, Машет саваном пена с озер. Грянул гром, чашка неба расколота, Тучи рваные кутают лес. На подвесках из легкого золота Закачались лампадки небес. Повестили под окнами сотские Ополченцам идти на войну. Загыгыкали бабы слободские, Плач прорезал кругом тишину. Собиралися мирные пахари Без печали, без жалоб и слез, Клали в сумочки пышки на сахаре И пихали на кряжистый воз. По селу до высокой околицы Провожал их огулом народ. Вот где, Русь, твои добрые молодцы, Вся опора в годину невзгод.4
Затомилась деревня невесточкой — Как-то милые в дальнем краю? Отчего не уведомят весточкой,— Не погибли ли в жарком бою? В роще чудились запахи ладана, В ветре бластились стуки костей. И пришли к ним нежданно-негаданно С дальней волости груды вестей. Сберегли по ним пахари памятку, С потом вывели всем по письму. Подхватили тут родные грамотку, За ветловую сели тесьму. Собралися над четницей Лушею Допытаться любимых речей. И на корточках плакали, слушая, На успехи родных силачей.5
Ах, поля мои, борозды милые, Хороши вы в печали своей! Я люблю эти хижины хилые С поджиданьем седых матерей. Припаду к лапоточкам берестяным, Мир вам, грабли, коса и соха! Я гадаю по взорам невестиным На войне о судьбе жениха. Помирился я с мыслями слабыми, Хоть бы стать мне кустом у воды. Я хочу верить в лучшее с бабами, Тепля свечку вечерней звезды. Разгадал я их думы несметные, Не спугнет их ни гром и ни тьма. За сохою под песни заветные Не причудится смерть и тюрьма. Они верили в эти каракули, Выводимые с тяжким трудом, И от счастья и радости плакали, Как в засуху над первым дождем. А за думой разлуки с родимыми В мягких травах, под бусами рос, Им мерещился в далях за дымами Над лугами веселый покос. Ой ты, Русь, моя родина кроткая, Лишь к тебе я любовь берегу. Весела твоя радость короткая С громкой песней весной на лугу.1914
«Край любимый! Сердцу снятся…»
Край любимый! Сердцу снятся Скирды солнца в водах лонных. Я хотел бы затеряться В зеленях твоих стозвонных. По меже, на переметке, Резеда и риза кашки. И вызванивают в четки Ивы — кроткие монашки. Курит облаком болото, Гарь в небесном коромысле. С тихой тайной для кого-то Затаил я в сердце мысли. Все встречаю, все приемлю, Рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на эту землю, Чтоб скорей ее покинуть.1914
В хате
Пахнет рыхлыми драченами; У порога в дежке квас, Над печурками точеными Тараканы лезут, в паз. Вьется сажа над заслонкою, В печке нитки попелиц, А на лавке за солонкою — Шелуха сырых яиц. Мать с ухватами не сладится, Нагибается низко, Старый кот к махотке крадется На парное молоко. Квокчут куры беспокойные Над оглоблями сохи, На дворе обедню стройную Запевают петухи. А в окне на сени скатые, От пугливой шумоты, Из углов щенки кудлатые Заползают в хомуты.1914
«По селу тропинкой кривенькой…»
По селу тропинкой кривенькой В летний вечер голубой Рекрута ходили с ливенкой Разухабистой гурьбой. Распевали про любимые Да последние деньки: «Ты прощай, село родимое, Темна роща и пеньки». Зори пенились и таяли. Все кричали, пяча грудь: «До рекрутства горе маяли, А теперь пора гульнуть». Размахнув кудрями русыми, В пляс пускались весело. Девки брякали им бусами, Зазывали за село. Выходили парни бравые За гуменные плетни, А девчоночки лукавые Убегали, — догони! Над зелеными пригорками Развевалися платки. По полям, бредя с кошелками, Улыбались старики. По кустам, в траве над лыками, Под пугливый возглас сов, Им смеялась роща зыками С переливом голосов. По селу тропинкой кривенькой, Ободравшись о пеньки, Рекрута играли в ливенку Про остольние деньки.1914
«Гой ты, Русь, моя родная…»
Гой ты, Русь, моя родная, Хаты — в ризах образа… Не видать конца и края — Только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, Я смотрю твои поля. А у низеньких околиц Звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом По церквам твой кроткий Спас. И гудит за корогодом На лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке На приволь зеленых лех, Мне навстречу, как сережки, Прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» — Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою».1914
«Край ты мой заброшенный…»
Край ты мой заброшенный, Край ты мой, пустырь, Сенокос некошеный, Лес да монастырь. Избы забоченились, А и всех-то пять. Крыши их запенились В заревую гать. Под соломой-ризою Выструги стропил, Ветер плесень сизую Солнцем окропил. В окна бьют без промаха Вороны крылом, Как метель, черемуха Машет рукавом. Уж не сказ ли в прутнике Жисть твоя и быль, Что под вечер путнику Нашептал ковыль?1914
«Черная, потом пропахшая выть!..»
Черная, потом пропахшая выть! Как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, К сердцу вечерняя льнет благодать. Серым веретьем стоят шалаши, Глухо баюкают хлюпь камыши. Красный костер окровил таганы, В хворосте белые веки луны. Тихо, на корточках, в пятнах зари Слушают сказ старика косари. Где-то вдали, на кукане реки, Дремную песню поют рыбаки. Оловом светится лужная голь… Грустная песня, ты — русская боль.1914
«В том краю, где желтая крапива…»
В том краю, где желтая крапива И сухой плетень, Приютились к вербам сиротливо Избы деревень. Там в полях, за синей гущей лога, В зелени озер, Пролегла песчаная дорога До сибирских гор. Затерялась Русь в Мордве и Чуди, Нипочем ей страх. И идут по той дороге люди, Люди в кандалах. Все они убийцы или воры, Как судил им рок. Полюбил я грустные их взоры С впадинами щек. Много зла от радости в убийцах, Их сердца просты, Но кривятся в почернелых лицах Голубые рты. Я одну мечту, скрывая, нежу, Что я сердцем чист. Но и я кого-нибудь зарежу Под осенний свист. И меня по ветряному свею, По тому ль песку, Поведут с веревкою на шее Полюбить тоску. И когда с улыбкой мимоходом Распрямлю я грудь, Языком залижет непогода Прожитой мой путь.1915
Табун
В холмах зеленых табуны коней Сдувают ноздрями златой налет со дней. С бугра высокого в синеющий залив Упала смоль качающихся грив. Дрожат их головы над тихою водой, И ловит месяц их серебряной уздой. Храпя в испуге на свою лее тень, Зазастить гривами они ждут новый день.*
Весенний день звенит над конским ухом С приветливым желаньем к первым мухам. Но к вечеру уж кони над лугами Брыкаются и хлопают ушами. Все резче звон, прилипший на копытах, То тонет в воздухе, то виснет на ракитах. И лишь волна потянется к звезде, Мелькают мухи пеплом по воде.*
Погасло солнце. Тихо на лужке. Пастух играет песню на рожке. Уставясь лбами, слушает табун, Что им поет вихрастый гамаюн. А эхо резвое, скользнув по их губам, Уносит думы их к неведомым лугам. Любя твой день и ночи темноту, Тебе, о родина, сложил я песню ту.1915
Молотьба
Вышел зараня дед На гумно молотить: — Выходи-ка, сосед, Старику подсобить. Положили гурьбой Золотые снопы. На гумне вперебой Зазвенели цепы. И ворочает дед Немолоченый край: — Постучи-ка, сосед, Выбивай каравай. И под сильной рукой Вылетает зерно. Тут и солод с мукой И на свадьбу вино. За тяжелой сохой Эта доля дана. Тучен колос сухой — Будет брага хмельна.1915–1916
«За темной прядью перелесиц…»
За темной прядью перелесиц, В неколебимой синеве, Ягненочек кудрявый — месяц Гуляет в голубой траве. В затихшем озере с осокой Бодаются его рога,— И кажется, с тропы далекой — Вода качает берега. А степь под пологом зеленым Кадит черемуховый дым И за долинами по склонам Свивает полымя над ним. О сторона ковыльной пущи, Ты сердцу ровностью близка, Но и в твоей таится гуще Солончаковая тоска. И ты, как я, в печальной требе, Забыв, кто друг тебе и враг, О розовом тоскуешь небе И голубиных облаках. Но и тебе из синей шири Пугливо кажет темнота И кандалы твоей Сибири, И горб Уральского хребта.<1916>
«Я снова здесь, в семье родной…»
Я снова здесь, в семье родной, Мой край, задумчивый и нежный! Кудрявый сумрак за горой Рукою машет белоснежной. Седины пасмурного дня Плывут всклокоченные мимо, И грусть вечерняя меня Волнует непреодолимо. Над куполом церковных глав Тень от зари упала ниже. О други игрищ и забав, Уж я вас больше не увижу! В забвенье канули года, Вослед и вы ушли куда-то. И лишь по-прежнему вода Шумит за мельницей крылатой. И часто я в вечерней мгле, Под звон надломленной осоки, Молюсь дымящейся земле О невозвратных и далеких.Июнь 1916 г.
«Не бродить, не мять в кустах багряных…»
Не бродить, не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных Отоснилась ты мне навсегда. С алым соком ягоды на коже, Нежная, красивая, была На закат ты розовый похожа И, как снег, лучиста и светла. Зерна глаз твоих осыпались, завяли, Имя тонкое растаяло, как звук, Но остался в складках смятой шали Запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, Как котенок, моет лапкой рот, Говор кроткий о тебе я слышу Водяных поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, Что была ты песня и мечта, Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, К светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных Отоснилась ты мне навсегда.<1916>
«Гляну в поле, гляну в небо…»
Гляну в поле, гляну в небо — И в полях и в небе рай. Снова тонет в копнах хлеба Незапаханный мой край. Снова в рощах непасеных Неизбывные стада, И струится с гор зеленых Златоструйная вода. О, я верю — знать, за муки Над пропащим мужиком Кто-то ласковые руки Проливает молоком.1917
«О Русь, взмахни крылами…»
О Русь, взмахни крылами, Поставь иную крепь! С иными именами Встает иная степь. По голубой долине, Меж телок и коров, Идет в златой ряднине Твой Алексей Кольцов. В руках — краюха хлеба, Уста — вишневый сок. И вызвездило небо Пастушеский рожок. За ним, с снегов и ветра, Из монастырских врат, Идет, одетый светом, Его середний брат. От Вытегры до Шуи Он избродил весь край И выбрал кличку — Клюев, Смиренный Миколай. Монашьи мудр и ласков, Он весь в резьбе молвы, И тихо сходит пасха С бескудрой головы. А там, за взгорьем смолым, Иду, тропу тая, Кудрявый и веселый, Такой разбойный я. Долга, крута дорога, Несчетны склоны гор; Но даже с тайной бога Веду я тайно спор. Сшибаю камнем месяц И на немую дрожь Бросаю, в небо свесясь, Из голенища нож. За мной незримым роем Идет кольцо других, И далеко по селам Звенит их бойкий стих. Из трав мы вяжем книги, Слова трясем с двух пол И сродник наш, Чапыгин, Певуч, как снег и дол. Сокройся, сгинь ты, племя Смердящих снов и дум! На каменное темя Несем мы звездный шум. Довольно гнить и ноять, И славить взлетом гнусь — Уж смыла, стерла деготь Воспрянувшая Русь. Уж повела крылами Ее немая крепь! С иными именами Встает иная степь1.<1917>
Кантата
Спите, любимые братья. Снова родная земля Неколебимые рати Движет под стены Кремля. Новые в мире зачатья, Зарево красных зарниц… Спите, любимые братья, В свете нетленных гробниц. Солнце златою печатью Стражем стоит у ворот… Спите, любимые братья, Мимо вас движется ратью К зорям вселенским народ.1918
Словарь
Алчба — жадность.
Батыр, батырь — богатырь, удалец.
Бесталанный — бессчастный.
Блата — болота.
Бразды — борозды.
Брашна — кушанья.
Бремена — тягости.
Вежды — веки.
Вертоград — сад.
Велегласно — громогласно.
Вече — общенародное собрание, решавшее важные вопросы общественной жизни (в средневековых Новгороде и Пскове).
Влумина — впадина.
Вран — ворон.
Выть — участь, судьба.
Выя — шея.
Галл — француз.
Гать — настил.
Денница — заря.
Длани — ладони, кисти рук.
Днесь — сегодня.
Довлеть — быть достаточным.
Дреколье — дубины, палки, колья.
Елей — масло, употребляемое в церковной службе.
Елень — олень.
Завидя — завидуя.
Запона — занавес.
Иерей — священник.
Камена — то же, что и муза.
Класы — колосья.
Клеврет — пособник.
Клир — духовенство, священнослужители.
Ков — злой умысел.
Кошница — корзина.
Кунак — слуга у восточных народов.
Купно — вместе.
Кутас — шнур с кистями, украшение конской сбруи.
Ланиты — щеки.
Лепота — красота.
Ливенка — гармонь из города Ливны.
Ловитва — ловля, охота.
Митра — позолоченный головной убор высшего духовенства.
Мраз — мороз.
Мурмолка — меховая или бархатная шапка с плоским верхом.
Мя — меня.
Наперсник — доверенный друг.
Натура — природа.
Обоюду — с двух сторон.
Околоток — подразделение полицейского городского участка.
Оратай, оратель — пахарь.
Орать — пахать.
Отторгнуть — отнять.
Остольный — остающийся.
Паки — опять, снова.
Пенаты — боги домашнего очага, покровители домашнего уюта.
Пепелище — очаг, дом; погорелье.
Переем — перехват.
Перун — молния.
Печурка — часть русской печи, небольшое отверстие, где сохраняются угли для растопки.
Пламенник — факел.
Плесканье — хлопанье, рукоплесканье.
Поднебесная, подсолнечная — Вселенная.
Полдень — юг.
Полунощный — северный.
Понт — море.
Порфира — торжественное одеяние, символ царской власти.
Праг — порог.
Пригожество — красота.
Пря — ссора.
Раек — народная форма стихосложения с неравным количеством слогов в строках; галерка, верхние места в театре.
Рифей — поэтическое название Уральских гор.
Сармат — поэтическое наименование поляков.
Свивальник — длинная узкая полоска материи для пеленания младенцев.
Стогна — городские улицы и площади.
Суслон — несколько снопов, поставленных стоймя для просушки.
Схима — высшая степень монашества.
Сыченый — подслащенный.
Ти — тебе.
Толикий — столь великий.
Торока — седельные сумы.
Травник — настойка на целебных травах.
Туга — печаль.
Тщиться — пытаться.
Убо — итак, ради, потому что.
Улус — становище.
Усугубить — удвоить.
Ушкуйник — речной разбойник.
Фиал — сосуд.
Харита — богиня красоты и изящества.
Цевница — свирель.
Эгид, эгида — волшебный щит богини Афины Паллады.
Примечания
1
Писано в царствование Екатерины. (Прим. автора.)
(обратно)2
То есть суда с хлебом и с другими плодами земли. (Прим. автора.)
(обратно)3
Мысль, что Природа стареется, есть не только пиитическая мысль, самые философы и натуралисты не отвергают ее. (Прим. автора.)
(обратно)4
Господь с вами! (лат.)
(обратно)5
Вместо имен действующих лиц поставлены здесь нумера, ибо отрывок сей не принадлежит ни к какому целому, а написан только для опыта, чтобы узнать, могут ли стихи такой меры заменить александрийские и монотонию рифмы, которая едва ли свойственна языку страстей.
(обратно)6
Это, я полагаю, крестьяне г-жи Бурдюковой (фр.).
(обратно)7
Проведите в переднюю и скажите им, чтобы подождали (фр.).
(обратно)8
Здравствуйте, здравствуйте, добрые мои друзья. Чего вы от меня хотите? (фр.)
(обратно)9
Однако о чем же идет речь? О чем? или, вернее, о ком? (фр.)
(обратно)10
Ну, не кричите так громко (фр.).
(обратно)11
Прекрасно, прекрасно! Как вы поживаете? (фр.)
(обратно)12
Вон, вон! К черту, наплевать! (фр.)
(обратно)13
Что вы говорите? Что вы говорите? Мне кажется, вы ворчите?(фр.)
(обратно)14
Это мне безразлично, это мне безразлично. Вы глупцы (фр.)
(обратно)15
Хорошо! Превосходно, кузина! (фр.)
(обратно)16
Что поделаешь! Русского языка не знают (фр.)
(обратно)17
Hamlet (прим. А. С. Пушкина).
(обратно)18
Это не может относиться ни к гекзаметрам Жуковского, ни Гнедича, потому что они не зазубрены спондеями. (Прим. Шевырева.)
(обратно)19
Безделье (ит.).
(обратно)20
Так народ называет пробуждение природы весной. (Прим. Н. А. Некрасова.)
(обратно)21
С Востока свет (лат.).
(обратно)Комментарии
1
Василий Кириллович Тредиаковский родился в Астрахани в семье священника. Учился в школе католических монахов-капуцинов. Оставив церковную службу, бежал в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию. Затем отправился за границу, учился в Сорбонне (1727–1730). Вернувшись в Россию, опубликовал перевод романа П. Тальмана «Езда в остров Любви» и свои стихи. В трактате «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) предложил силлабо-тоническую систему взамен господствовавшей силлабической.
В 1745 году Тредиаковский стал академиком. Поздние годы жизни заняты научными трудами (поэтика, грамматика, теория языка), а также многочисленными переводами. Деятельность Тредиаковского, одного из первых русских просветителей, не нашла поддержки у современников. В 1759 году он был уволен из Академии, испытывал нужду и лишения. Философская поэма «Феоптия», стихотворное переложение Псалтыри и ряд стихов остались в рукописях.
(обратно)2
Стихи написаны в Париже, где поэт учился в Сорбоннском университете.
(обратно)3
Ей — ей-богу! Клянусь!
(обратно)4
Изводство божье — творение бога.
(обратно)5
Веры двойные — двоеверие, т. е. соединение христианства с язычеством.
(обратно)6
Звезды здравьем блещут — отголосок астрологических воззрений о влиянии небесных светил на жизнь людей.
(обратно)7
Шувалов И. И. (1727–1797) — фаворит императрицы Елизаветы, покровитель Ломоносова.
(обратно)8
Цейлон и в севере цветет — описываются оранжерея Царского Села и (далее) фонтаны Петергофа.
(обратно)9
Меж стен и при огне — в это время Ломоносов упорно занимался опытами по изготовлению цветных стекол в химической лаборатории.
(обратно)10
Анакреон — древнегреческий поэт (ок. 570–478 до н. э.), воспевавший в стихах чувственные радости.
(обратно)11
Мастер в живопистве первой — легендарный древнегреческий художник Апеллес
(обратно)12
Ты первой в нашей стороне — предполагается, что Ломоносов здесь подразумевает замечательного русского художника Ф. С. Рокотова (1735–1808).
(обратно)13
Повели войнам престать — прекрати войны (намек на Семилетнюю войну, в которой Россия участвовала с 1756 по 1763 г.).
(обратно)14
Дитирамб (дифирамб) — здесь: торжественная песнь.
(обратно)15
В начале 1763 года в Москве по случаю коронации Екатерины II было организовано огромное уличное зрелище. Сумароков писал тексты для хоров. Данный текст не прозвучал на празднестве, видимо, по цензурным соображениям.
(обратно)16
Сократы — очевидно, подразумеваются церковники.
(обратно)17
Цук (цуг) — упряжка в несколько лошадей попарно, знак высокого положения в обществе.
(обратно)18
Сахар подьячий, покупает — а не получает его в виде взятки.
(обратно)19
Откуп — порядок сбора налогов, согласно которому богатый человек (откупщик) платил казне определенную сумму денег, а затем сам собирал налог с населения, причем забирал себе все излишки сверх выплаченной суммы. Система откупов была крайне обременительна для народа.
(обратно)20
Завтрем там истца не питают — дела решают быстро.
(обратно)21
Росту заказного не емлют — не берут запрещенных процентов сверх долга, не занимаются ростовщичеством.
(обратно)22
Бредить, колобродить — здесь: сплетничать, заводить ссоры.
(обратно)23
Смучают — подбивают на смуты, на мятеж.
(обратно)24
Пред больших бояр лампад не ставят — не молятся на них, как на иконы.
(обратно)25
Там язык отцовский не в презреньи — Сумароков обличает распространившуюся моду говорить по-французски.
(обратно)26
Ябеды — сутяжничество.
(обратно)27
Приказный крюк — ухищрение, плутня чиновников.
(обратно)28
Хитрости — здесь: искусства, художества.
(обратно)29
Метресса — любовница.
(обратно)30
Стихотворение помещено, как образчик идиллической, пасторальной поэзии, популярной у читателей XVIII века.
(обратно)31
Негде — где-то.
(обратно)32
Михаил Григорьевич Собакин происходил из старинного дворянского рода. Окончив Сухопутный шляхетский корпус, недолго пробыл в армии, затем перешел в Коллегию иностранных дел, где служил до самой смерти, дослужившись до звания тайного советника и сенатора. Был одним из образованнейших людей своего времени.
Стихотворений М. Г. Собакина до нас дошло немного. Большая часть из них силлабические и лишь несколько написаны по новым канонам силлабо-тонического стиха, вводимым Тредиаковским. Со старой виршевой традицией связано употребление акростихов, отрывков слов, принимающих второе значение и т. д.
(обратно)33
«Выслушай мой вопРОС, СИЯюща в свете…». Написанные прописными буквами слоги образуют новые слова, имевшие злободневный политический смысл: Россия, Анна (императрица Анна Иоанновна), Азов (крепость, взятая русскими в 1736 г.), Крым, хан, тысяща семсот трицат семой (год).
(обратно)34
Переложение 81-го псалма из Библии.
(обратно)35
Земных богов — царей, властителей.
(обратно)36
Рек — сказал.
(обратно)37
Покрыты мздою очеса — ослеплены подачками очи.
(обратно)38
Измаил — сильно укрепленная турецкая крепость, которая была взята штурмом под предводительством А. В. Суворова 11 декабря 1790 г.
(обратно)39
Из трех сот жерл огнем дышали — русские войска взяли в Измаиле 285 пушек.
(обратно)40
Воспящает — препятствует.
(обратно)41
Пастырь вдохновенный — священник одного из полков, первым поднявшийся на стены Измаила.
(обратно)42
Всяк Курций, Деций, Буароз! — «Первый — всадник римский, бросившийся в разверзтую бездну, чтоб утишить в Риме моровое поветрие; второй — полководец римский, бросившийся в первые ряды, чтоб одержать победу над неприятелем; третий — капитан французский, влез во время бури на скалу вышиною в 80 сажень по веревочной лестнице и взял крепость» (объяснение Державина).
(обратно)43
Рог — сила, могущество.
(обратно)44
Прей — бурь.
(обратно)45
Крин — лилия.
(обратно)46
Тьмы — множества.
(обратно)47
Персть — прах, пыль.
(обратно)48
Мармора — Мраморное море.
(обратно)49
Костры — здесь: груды.
(обратно)50
Приступ славен к Тиру — «Александр Великий, отправившийся для покорения Персии, когда не мог взять на пути лежащего города Тира, то, чтоб ближе подвесть стенобитные машины или тараны, запрудил он Тирский залив и взял город приступом» (объяснение Державина).
(обратно)51
Я вижу страшную годину — речь идет о татарском иге.
(обратно)52
Лжецарь — самозванец Лжедмитрий.
(обратно)53
Вервь — путы.
(обратно)54
Монархий света разрушитель — (Разрушили Римскую монархию племена татарские и прочие северные обитатели, которые покорены напоследок россиянами» (объяснение Державина).
(обратно)55
Лишь твой орел луну затмил. — «Герб российский — Орел, а турецкий — Луна».
(обратно)56
Хин — китаец.
(обратно)57
Тавр — Крым.
(обратно)58
Среда Вселенной — Византия, почитавшаяся древними за центр Вселенной.
(обратно)59
Эвксин — Черное море.
(обратно)60
Плывут дремучи рощи — подразумеваются парусные корабли.
(обратно)61
Тень седая — по-видимому, образ «северного исполина», России.
(обратно)62
Рында — Державин так назвал палицу.
(обратно)63
Царица — Екатерина.
(обратно)64
Олег — киевский князь, покоривший Царьград.
(обратно)65
Ольга — киевская княгиня, принявшая в Царьграде (Константинополе) христианство.
(обратно)66
Ахеян спасть, агарян стерть — «Ахеяне — греки, агаряне — турки» (объяснение Державина).
(обратно)67
Пророки, камни возглашают… — «В Византии находятся камни с надписями древних восточных народов, которые пророчествуют о взятии северными народами Константинополя; мистики находят о том пророчество в самом священном писании» (объяснение Державина).
(обратно)68
О вы, что в мыслях суетитесь — имеются в виду Англия и Пруссия, противостоявшие России в ее борьбе с Турцией.
(обратно)69
Темир (Тимур, Тамерлан) — среднеазиатский полководец (1336–1405), жестокий завоеватель.
(обратно)70
Омар — зять Магомета; сжег знаменитую Александрийскую библиотеку.
(обратно)71
Отмстить крестовые походы — продолжавшиеся в течение нескольких столетий попытки европейского воинства захватить Иерусалим и «освободить священный гроб господень» оканчивались неизменным поражением.
(обратно)72
Афинам возвратить Афину — «т. е. город Афины возвратить богине его Минерве, под которою разумеется императрица Екатерина» (объяснение Державина).
Минерва — богиня искусств и ремесел у древних римлян. В древнегреческой мифологии ей соответствовала Афина.
(обратно)73
Град Константинов Константину — «Константинополь подвергнуть державе великого князя Константина Павловича, к чему покойная государыня все мысли свои устремляла» (объяснение Державина).
(обратно)74
Афет — Иафет, сын Ноя, по Библии — родоначальник арийских племен. Имеются в виду народы Европы.
(обратно)75
Обращено к Пелагее Михайловне Бакуниной, родственнице поэта, игравшей на арфе. Написано в то время, когда в Казани, родном городе Державина, находился Павел I.
(обратно)76
Певец Тииский — Анакреон. Подражания Анакреону (анакреонтика) были широко распространены в русской поэзии XVIII — начала XIX века.
(обратно)77
Бычок — крестьянский танец.
(обратно)78
Эрот — древнегреческий бог любви (у римлян — Амур).
(обратно)79
Кобас — простонародный музыкальный инструмент.
(обратно)80
Званский — по названию имения Державина Званки, где поэт проводил каждое лето.
(обратно)81
Курамшите — куралесьте.
(обратно)82
Троп — хлоп.
(обратно)83
Не зря на ветреных французов… — И т. д. — речь идет о французской революций и последовавших наполеоновских войнах.
(обратно)84
Пьют кровь немецкую разбоем — подразумевается война 1806–1807 гг., в которой Наполеон разбил Пруссию.
(обратно)85
Милиция — ополчение, набиравшееся в виду войны с Францией, преимущественно из крестьян.
(обратно)86
Василий Васильевич Капнист родился в селе Верхняя Обуховка Полтавской области в семье богатого украинского помещика. В 1770–1775 гг. служил в гвардии в Петербурге, был членом поэтического кружка, группировавшегося вокруг Державина. Затем вернулся на родину. Известность Капнисту принесла его «Сатира первая и последняя» (1780), обличавшая правящую верхушку. В «Оде на рабство» (1783) звучит резкий протест против закрепощения крестьян на Украине. Комедия Капниста «Ябеда» (1793–1798) — одно из лучших произведений русской драматургии XVIII века. Лирика Капниста запечатлела помещичий быт, картины природы Украины.
(обратно)87
Это произведение является одним из самых ярких обличений крепостничества в русской литературе XVIII века, непосредственно предваряющее радищевскую оду «Вольность», пушкинскую «Деревню». Оно было злободневным откликом на изданный Екатериной указ, согласно которому крестьяне Киевского, Черниговского и Новгород-Северского наместничеств объявлялись крепостными людьми тех помещиков, на землях которых застал их новый закон. Трагизм ситуации усугублялся тем, что народу не был понятен смысл нового указа, поэтому люди с ликованием встретили всеобщую перепись, обратившую их в рабов.
Возможно, Капнист думал обратиться с этой одой к Екатерине, но по совету Державина удержался от этого, как и от публикации произведения.
(обратно)88
Входило в состав утопической повести «Афинская жизнь».
(обратно)89
Кодр — мифический царь Аттики, пожертвовавший собой ради блага отечества.
(обратно)90
Леонид — спартанский царь, покрывший себя неувядаемой славой в битве при Фермопилах (48 г. до н. э.), с тремястами воинов защищая горный проход от армии персов.
(обратно)91
Алексей Федорович Мерзляков родился на Урале, в семье мелкого купца. Написанная тринадцатилетним мальчиком ода на мир со Швецией обратила на себя внимание в столице. Мерзляков был переведен в Москву, в университетскую гимназию, стал затем студентом университета, и двигался по университетской лестнице, заняв впоследствии должность декана. В творчестве Мерзлякова противоборствуют книжность, высокие моральные и — общественные установки словесности XVIII века и демократизм новой литературы, особенно сказавшийся в замечательных песнях, созданных поэтом на народной основе. Песни эти были высоко оценены современниками и заслужили одобрительные слова Белинского.
(обратно)92
Это самое известное произведение Мерзлякова, ставшее народной русской песней.
(обратно)93
Перун — здесь: пучок молний.
(обратно)94
Перун и эгида — атрибуты Зевса, верховного бога греческой мифологии.
(обратно)95
Иван Иванович Козлов родился в Москве в знатной дворянской семье. Получил отличное домашнее образование. Служил в гвардии, вел светскую жизнь. Перейдя на гражданскую службу, делал успешную карьеру. Внезапная тяжелая болезнь искалечила Козлова: он ослеп, отнялись ноги. В это время он обращается к поэзии: пишет стихи, в которых сильно сказывается влияние его друга Жуковского, много переводит. Литературный заработок помогает поэту спасаться от подступившей нужды. Многие из современников стремились оказать Козлову всяческую поддержку. Его поэма «Чернец» (1825) ценилась современниками наряду с пушкинскими поэмами. Для стихов Козлова характерны мелодичность, музыкальность, романтический колорит.
(обратно)96
Перевод стихотворения ирландского поэта Томаса Мура «Колокола Санкт-Петербурга». Стихотворение посвящено Татьяне (Темире) Семеновне Вейдемейер (ок. 1792–1868), переводчице, знакомой Жуковского, Пушкина и Козлова.
(обратно)97
Переложение стихотворения английского поэта Томаса Кэмпбелла (1777–1844). Описывается взятие турецкой крепости Варны в сентябре 1828 г.
(обратно)98
Дерзкая луна — полумесяц, символ мусульманства.
(обратно)99
Перевод стихотворения И. В. Гете.
(обратно)100
Вольный перевод стихотворения французского писателя-романтика Ф. Р. Шатобриана (1768–1848). По свидетельству современников, Жуковский передал в стихах черты пейзажа села Мишенского, где он родился.
(обратно)101
Жуковский выступает защитником политики царизма, которая в период революционного подъема в Европе подвергалась критике как вне, так и внутри страны.
(обратно)102
Орел — эмблема царской России.
(обратно)103
Первоначально, в рукописи, входило в стихотворение «Партизан».
(обратно)104
Современники видели за многими персонажами этой «песни» реальных лиц. Например, Филипп Филиппин.
(обратно)105
Филипп Филиппин — известный мемуарист Ф. Ф. Вигель, непременный посетитель московских салонов.
(обратно)106
Маленький аббатик — Петр Яковлевич Чаадаев, передовой мыслитель, автор «Философических писем». Прозван аббатиком за симпатии к католицизму.
(обратно)107
Федор Николаевич Глинка принимал участие в войне с Наполеоном в 1805–1806 годах и Отечественной войне 1812 г. Участник сражений под Аустерлицем и Бородином, он создал замечательную книгу «Письма русского офицера», в которой чуть ли не впервые говорится о народном характере войны 1812 г. Глинка активно выступал как поэт в послевоенные годы, следуя высоким заветам русского классицизма. Он принимал участие в деятельности декабристских обществ, показав себя мастером печатной пропаганды. Однако он не принадлежал к радикальному крылу революционеров и в восстании на Сенатской площади не участвовал. Через несколько месяцев Ф. Глинка был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, затем сослан в Карелию. Впоследствии он связал свою деятельность с литературными ретроградами, в мировоззрении его произошел постепенный поворот к консерватизму и мистицизму. В истории русской поэзии Ф. Глинка остался благодаря своим стихам периода Отечественной войны и подготовки декабрьского восстания.
(обратно)108
Ссылаясь на чисто формальное значение «Опытов», Глинка маскирует их тираноборческий дух, их революционную направленность.
(обратно)109
Отрывок из этого стихотворения под названием «Тройка» вскоре стал популярной народной песней.
(обратно)110
Напольный — полевой, здесь: пехотный.
(обратно)111
Икона Владычица — богоматерь Смоленская, одна из самых чтимых русских икон.
(обратно)112
Седой орел — Кутузов.
(обратно)113
Смурые — хмурые.
(обратно)114
В эпиграмме осмеян чисто внешний, показной «патриотизм», характерный для части русского дворянства времен войн с Наполеоном.
(обратно)115
Филарет (1550-е годы—1653) — патриарх русской церкви; отец Михаила Федоровича, первого царя из династии Романовых.
(обратно)116
Ферязь — старинная верхняя одежда.
(обратно)117
Сальмис — французское кушанье.
(обратно)118
Д а ш к о в Дмитрий Васильевич (1784–1839) — член литературного общества «Арзамас», дипломат, приятель Батюшкова.
В начале стихотворения Батюшков описывает страдания русских беженцев из разоренных городов и сел. Поэт наблюдал эти ужасы войны по дороге из Москвы в Нижний Новгород, куда он уехал в сентябре 1812 г.
(обратно)119
Трикраты с ужасом потом Бродил в Москве опустошенной. — В 1812–1813 г. Батюшков трижды посещал сожженную Москву, которая произвела на него потрясающее впечатление.
(обратно)120
Цевница — свирель.
(обратно)121
Армида — прекрасная волшебница из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим».
(обратно)122
Цирцея — волшебница из «Одиссеи» Гомера. В романтической поэзии оба эти имени употреблялись дли обозначения коварных прелестниц.
(обратно)123
Израненный герой — генерал А. Н. Бахметев (1774–1841), герой Отечественной войны 1812 г., потерявший ногу в Бородинском сражении. Во время написания этого стихотворения Батюшков рассчитывал стать адъютантом Бахметева.
(обратно)124
Прообразом героя этого стихотворения стал Лев Васильевич Давыдов, брат поэта-партизана Дениса Давыдова.
(обратно)125
Яворы — тополя.
(обратно)126
В этом неоконченном стихотворении сказался интерес к народным песням, пробудившийся у Батюшкова в позднюю пору его творчества. Поэт передает думы солдата (может быть, раненого или инвалида), пробирающегося по России в родные места.
(обратно)127
Петр Александрович Плетнев родился в Твери в семье священника. Окончил Санкт-Петербургский педагогический институт, с восемнадцати лет преподавал в Лицее. В 1816 или 1817 году знакомится с Пушкиным и его лицейскими друзьями. Печатается с 1818 года, стихи отмечены сильным влиянием Жуковского и Батюшкова. Активно выступает как критик, поддерживая романтическую поэзию. В начале 1820-х годов пишет ряд стихотворных посланий литературным сподвижникам, занимается издательской деятельностью. К концу 20-х годов прекращает поэтическую деятельность, помогает Дельвигу в издании «Северных цветов» и «Литературной газеты», а затем — Пушкину в работе над «Современником». В поздние годы — автор литературно-библиографических очерков — портретов современников (Пушкин, Баратынский, Крылов, Жуковский).
(обратно)128
Написано после возвращения Вяземского в разоренную Москву; Жуковский в это время находился в Белеве. Ряд строк стихотворения поправлен Жуковским.
(обратно)129
Летит теперь, отмщеньем вдохновенный и т. д. — Возможно, эти строки относятся к К. Н. Батюшкову, который в июле 1813 г. отправился в Германию, где русская армия сражалась с французами.
(обратно)130
Видимо, связано с поездками Вяземского в принадлежавшее ему село Красное Костромской губернии.
(обратно)131
Нестор — старейший из греческих вождей в «Илиаде» Гомера.
(обратно)132
Державин, Нестор муз, и мудрый Карамзин, И Дмитриев, харит счастливый обожатель. — Все три писателя были уроженцами Поволжья.
(обратно)133
Стихотворение широко расходилось в списках. Впервые опубликовано Герценом в Вольной русской типографии. В бумагах К. Маркса сохранился сделанный для него Н. Сазоновым немецкий перевод этого стихотворения.
(обратно)134
Душ, представленных в залог — намек на разорение дворянства, вследствие которого значительная часть помещичьих имений с крепостными «душами» была заложена государству.
(обратно)135
Бригадирш обоих полов. — В комедии Фонвизина «Бригадир» выведена глупая провинциальная барыня-бригадирша.
(обратно)136
Бог бродяжных иноземцев и т. д. — Эта строфа направлена против царской бюрократии, в которой видную роль играли прибалтийские немцы.
(обратно)137
Стихотворение связано с «Бесами» Пушкина.
(обратно)138
Пряник мой однофамилец. — Сходство фамилии поэта и названия известных вяземских пряников дало повод к многочисленным шуткам и эпиграммам.
(обратно)139
Вдовушка Клико — имеется в виду знаменитое французское шампанское.
(обратно)140
Знакомый пруд, знакомый дом. — Вяземский вспоминает свое имение Остафьево.
(обратно)141
Потомка новой Элоизы. — П о т о м к а здесь: женский род от потомок; «Н о в а я Э л о и з а» — знаменитый, роман Руссо.
(обратно)142
Жан-Жак — Руссо, проповедовавший возвращение к безыскусной простоте сельской жизни.
(обратно)143
Муханов П. А. (1799–1852) — литератор, член Союза благоденствия, друг Рылеева.
(обратно)144
Она для России спасла Михаила. — Для Рылеева было небезразлично, что Михаил, первый царь из династии Романовых, был избран на престол Земским собором. Поэтому Сусанин предстает как спаситель народного избранника.
(обратно)145
Герой думы — Артемий Петрович Волынский (1689–1740) русский государственный деятель и дипломат, инициатор заговора против «бироновщины». Рылеев показал его жертвой «пришлецов иноплеменных», пламенным борцом за Россию.
(обратно)146
Долгорукий Я. Ф. (1659–1720) — сподвижник Петра I, известен своим твердым характером. Неоднократно оспаривал мнения царя.
(обратно)147
Храм Самсона — место погребения Волынского.
(обратно)148
Наливайко Павел (казнен в 1597 г.) — украинский гетман, руководивший восстанием против шляхетской Польши. Для Рылеева Наливайко — идеальный борец за свободу народа.
(обратно)149
Видимо написано незадолго до восстания декабристов.
(обратно)150
Брут Марк Юний, — римский патриций, возглавивший заговор против Гая Юлия Цезаря, стал символом тираноборства.
(обратно)151
Риего — вождь испанских революционеров, казнен в 1823 году.
(обратно)152
Агитационные песни создавались будущими декабристами на популярные в народе мотивы.
(обратно)153
Синюха — пятирублевая ассигнация; намек на взяточничество судей.
(обратно)154
Под царским орлом — вывески кабаков украшались царским гербом с изображением орла.
(обратно)155
Аракчеев К. А. (1769–1834) — всесильный фаворит Александра I, прославившийся своей жестокостью, организатор и главный начальник военных поселений.
(обратно)156
Иван Петрович Мятлев родился в Петербурге в семье богатого помещика, сенатора. Получил домашнее образование. В светских кругах приобрел репутацию острослова, стихотворца-любителя. Из уст в уста передавались его каламбуры, экспромты, куплеты, стихи «на случай». Напротив, лирические стихотворения, вошедшие в сборники под названием «Уговорили выпустить» успеха не имели. Главное произведение Мятлева — юмористическая поэма «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей — дан л'этранже» (1840–1844), высмеивающая невежественное и спесивое русское барство. В ней автор широко пользуется так называемой «макаронической речью» — комической мешаниной из русских и иностранных слов и выражений.
(обратно)157
Написан народным раешным стихом, с использованием образов русских народных театральных действ.
(обратно)158
Приведенные стихи — образец характерной для Мятлева «макаронической речи», смеси двух языков.
(обратно)159
Василь — видимо, уездный город Васильсурск.
(обратно)160
Хлебный магазин — амбар для зерна.
(обратно)161
И пал туман и на чело певцу — в сибирской ссылке Кюхельбекер ослеп. Данное стихотворение — последнее, записанное им собственноручно.
(обратно)162
Ода Пушкина, непосредственно связанная с одой Радищева «Вольность», широко распространялась в списках и послужила поводом для ссылки Пушкина.
(обратно)163
Возвышенного галла… — не установлено, кого из французских поэтов подразумевает здесь Пушкин.
(обратно)164
Мученик ошибок славных — Людовик XVI, французский король, казненный по приговору Конвента. Пушкин считает, что он пал искупительной жертвой за бесчисленные преступления, совершенные его предками — королями из династии Бурбонов.
(обратно)165
Злодейская порфира — имеется в виду Наполеон, короновавшийся императором.
(обратно)166
Пустынный памятник тирана — Михайловский дворец в Петербурге, где в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. группой заговорщиков из высшей знати был задушен император Павел I.
(обратно)167
Клио — муза истории.
(обратно)168
Калигулы последний час — Пушкин сближает Павла I с одним из самых жестоких императоров Древнего Рима, Калигулой (I в. н. э.), который также был убит в своем дворце заговорщиками.
(обратно)169
Янычары — турецкая «гвардия», известная своей жестокостью. Пушкин выражает свое отрицательное отношение к заговорщикам.
(обратно)170
Чаадаев П. Я. (1794–1856) — офицер лейб-гвардии гусарского полка, ближайший друг Пушкина. Впоследствии — участник тайного Союза благоденствия, писатель и философ.
(обратно)171
Написано в Михайловском.
(обратно)172
Оракулы веков — великие писатели прошлого.
(обратно)173
Друг человечества — выражение, часто встречавшееся в просветительской философии XVIII века.
(обратно)174
Осипова Прасковья Александровна (1781–1859) — помещица, соседка Пушкина; ее имение Тригорское находилось близ Михайловского.
(обратно)175
Написано под впечатлением расправы над декабристами.
(обратно)176
Послание декабристам было переслано с А. Г. Муравьевой, уехавшей к мужу в Сибирь. См. ответ А. И. Одоевского «Струн вещих пламенные звуки…».
(обратно)177
Борей — северный ветер.
(обратно)178
Индейская зараза — холера. На обратном пути из Арзрума Пушкин провел три дня у ворот угрюмого Кавказа в карантине в Гумрах.
(обратно)179
После подавления польского восстания 1830–1831 года в западной прессе была развязана ожесточенная антирусская кампания. Против «клеветников, врагов России», мечтавших о реванше за 1812 год, направлено стихотворение Пушкина.
(обратно)180
Волнения Литвы — польское восстание.
(обратно)181
Прага — укрепленное предместье Варшавы.
(обратно)182
Того, под кем дрожали вы — Наполеона.
(обратно)183
Измаильский штык — напоминание о взятии русскими войсками турецкой крепости Измаил, считавшейся неприступной.
(обратно)184
Написано в связи с последним в жизни поэта посещением Михайловского осенью 1835 года.
(обратно)185
Иные берега, иные волны — воспоминания о Крыме и Одессе.
(обратно)186
Ссылка на итальянского поэта И. Пиндемонти сделана по цензурным соображениям — на самом деле стихотворение полностью принадлежит Пушкину.
(обратно)187
Слова, слова, слова — цитата из трагедии Шекспира «Гамлет».
(обратно)188
Эпиграф — из оды Горация «К Мельпомене».
(обратно)189
Александрийский столп — огромная гранитная колонна, сооруженная в 1834 году в память Александра I.
(обратно)190
Богиня пажитей признательней фортуны… — поэт имеет в виду, что богиня земледелия («пажитей») Церера с гораздо большим постоянством воздает людям за их труды, нежели богиня удачи Фортуна, чья благосклонность зависит от слепого случая.
(обратно)191
Судьбой наложенные цепи… — Баратынский имеет в виду девять лет своей солдатчины.
(обратно)192
Родные степи — имение Мара Тамбовской губернии, где родился Баратынский.
(обратно)193
Я братьев знал… — имеются в виду писатели-декабристы В. К. Кюхельбекер, А. А. Бестужев, К. Ф. Рылеев, с которыми Баратынский близко сошелся в Петербурге.
(обратно)194
В стихотворении рассказывается о Муранове, подмосковном имении, где Баратынский провел несколько лет.
(обратно)195
Армида — героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», обольстительная владычица волшебных садов.
(обратно)196
Она, которой нет — Н. Л. Энгельгардт, сестра жены Баратынского.
(обратно)197
Хрящ другой — здесь: другая почва.
(обратно)198
Ответ на послание в Сибирь А. С. Пушкина.
(обратно)199
Божественная дева — олицетворение вольности.
(обратно)200
Боян — легендарный древнерусский певец.
(обратно)201
Моголов бич — монголо-татарское иго.
(обратно)202
Написано по случаю перевода части декабристов из Читинского острога в Петровский завод.
(обратно)203
Рона — река на юго-востоке Франции.
(обратно)204
Альбион — древнее название Англии.
(обратно)205
Арминий (18 или 16 г. до н. э. — 19 или 21 г. н. э.) — вождь древнегерманского племени херусков, возглавил восстание против римлян.
(обратно)206
Туискон — орут из богов древних германцев.
(обратно)207
Бард — Оссиан, легендарный поэт древних кельтов, живший, по преданию, в III в. н. э. в Ирландии. Сочинения его, чрезвычайно популярные в конце XVIII — начале XIX века, оказались подделкой шотландского фольклориста Дж. Макферсона.
(обратно)208
Баяны—у Языкова: певцы-сказители древнекиевских времен.
(обратно)209
Вы, страшные грекам — древнерусские князья, не раз вторгавшиеся в пределы Византии.
(обратно)210
Наш Арминий — по-видимому, Александр Невский.
(обратно)211
Сокрушитель татарских цепей — скорее всего, Иван III Васильевич (1440–1505), великий князь Московский, при котором было окончательно свергнуто монголо-татарское иго.
(обратно)212
Победивший врагов и пустыни — по-видимому, Иван Грозный, подчинивший Москве Казанское и Астраханское ханства и Ногайскую орду.
(обратно)213
Стихотворение перелагает древнерусскую легенду (изложенную в «Повести о разорении Рязани») об отважном воине Евпатии Коловрате.
(обратно)214
Яковлева Арина Родионовна (1758–1828) — крепостная крестьянка, няня А. С. Пушкина. Бывала в Тригорском, принимала Языкова и Вульфа, когда они посещали Пушкина в Михайловском.
(обратно)215
Сей град профессоров и скуки — Дерпт (ныне г. Тарту в Эстонской ССР), где Языков учился в университете.
(обратно)216
Приятель давний твой — А. Н. Вульф, сын П. А. Осиповой.
(обратно)217
Ареевы науки — военные науки (по имени древнегреческого бога войны Арея).
(обратно)218
Стихотворение обращено к поэтессе Каролине Карловне Павловой, урожденной Яниш (1807–1893). См. ее стихи в данном собрании.
(обратно)219
Самогудный — от фольклорного определения гусли-самогуды, т. е. играющие сами собой
(обратно)220
Шенье Андре (1702–1794) — французский поэт.
(обратно)221
Гете И. В. (1779–1832) — великий немецкий писатель; К. К. Павлова была с ним знакома. К. К. Павлова переводила стихи русских поэтов на французский и немецкий языки.
(обратно)222
Стихотворение вызвало ожесточенную полемику, приведшую к дальнейшему размежеванию партий «западников» и «славянофилов».
(обратно)223
Написано в связи с антирусской кампанией, развязанной официальными кругами Австрии, Англии и Франции после подавления польского восстания.
(обратно)224
Стихотворение посвящено столетию со смерти М. В. Ломоносова. По свидетельству одного современника, перед смертью Ломоносов высказал опасение, что все его начинания умрут вместе с ним.
(обратно)225
Борец ветхозаветный — библейский Иаков, боровшийся с богом.
(обратно)226
Написано в связи с восстанием критских славян против турецкого владычества.
(обратно)227
Алексей Степанович Хомяков родился в селе Ивановское Липецкой губернии в богатой дворянской семье. Получил домашнее образование. Печатался с 1821 года. Был связан с кружком «любомудров», после его распада становится центральной фигурой среди славянофилов. Стихи его большей частью носят публицистический характер, выражая идеи единения славян, морального преобразования государства и т. д. Автор многих работ по богословию, философии, истории. Стихотворные трагедии Хомякова «Ермак» (1827) и «Димитрий Самозванец» (1833) ставились современниками на одну доску с пушкинским «Борисом Годуновым».
(обратно)228
Стихотворение написано в связи с катастрофическими поражениями николаевской России в Крымской войне.
(обратно)229
Чрез волны гневного Дуная — имеется в виду Болгария, томящаяся под гнетом османской Турции.
(обратно)230
Андрей Иванович Подолинский родился в Киеве в небогатой дворянской семье. Учился в частном пансионе в Киеве, затем окончил Благородный пансион при Петербургском университете. Первая публикация Подолинского — поэма «Див и Пери» — принесла ему широкую известность. Он широко печатается в альманахах, сводит знакомство с Дельвигом и Пушкиным. Однако следующие поэмы Подолинского реакционная критика использовала в своей борьбе против пушкинской плеяды в литературе. Получив повышение по службе, поэт уехал в Одессу и постепенно утратил связи с ведущими писателями. Впоследствии он предпринимал попытки вернуться в литературу, выпустил поэму «Смерть Пери» (1837), двухтомное собрание сочинений (1860), но чувствовалось, что он безнадежно отстал от времени.
Подолинский — последователь романтической поэзии Жуковского и Козлова. Усвоив высокую стихотворческую культуру начала века, он не смог наполнить свои стихи сколько-нибудь серьезным общественным или психологическим содержанием. Ныне его творчество представляет лишь историко-литературный интерес.
(обратно)231
Степан Петрович Шевырев родился в Саратове, в дворянской семье. Окончил Благородный пансион при Московском университете. Был близок к обществу «любомудров». Как поэт выступал преимущественно во второй половине 20-х годов, стремясь создать особую «поэзию мысли». Одновременно выступал как критик и теоретик литературы. В 1832–1857 годах преподавал историю русской литературы в Московском университете. Последние годы жизни провел за границей, где читал лекции о русской литературе. Стихи Шевырева, иногда сознательно усложненные по смыслу, относятся к философской лирике, главная тема его — взаимоотношения человека и природы.
(обратно)232
В стихотворении проводится сопоставление России и Италии («красавицы давно известной»), которая находилась тогда под властью Австрии (в стихотворении — «любовник докучный»).
(обратно)233
Анжело — великий скульптор, живописец, поэт Микеланджело Буонаротти (1475–1564).
(обратно)234
Рыбарь — имеется в виду Ломоносов.
(обратно)235
Родной земли и льдистых Альп певцом — Державиным.
(обратно)236
История российского народа — сочинение М. Погодина, полемически заостренное против «Истории Государства Российского» Н. Карамзина.
(обратно)237
Гальскою диэтою замучен — речь идет о галломании, преклонении перед всем французским, что было характерно для русского дворянства той поры.
(обратно)238
Визирь — восточный царедворец.
(обратно)239
Сибарит — изнеженный человек.
(обратно)240
Мурза — восточный царедворец.
(обратно)241
Заезжий иностранец — Ф. Булгарин, по национальности поляк.
(обратно)242
Зазубренный спондеем гекзаметр — речь идет о дискуссиях о применении русского шестистопного стиха (гекзаметра), об употреблении в его составе двухсложных двухударных стоп (спондеев).
(обратно)243
Поэта — имеется в виду Н. Языков.
(обратно)244
Иракл — Геракл, герой древнегреческих мифов.
(обратно)245
Из меди лит рифейской — уральской.
(обратно)246
(обратно)247
Мед сыченый — растворенный.
(обратно)248
Гуторить — говорить.
(обратно)249
Бова — удалец, герой лубочной повести.
(обратно)250
И. И. Панаев — разносторонний писатель, близкий друг Белинского, соратник Некрасова по журналам «Отечественные записки» и «Современник». Автор сатирических стихов и многочисленных пародий (под псевдонимом Новый поэт).
(обратно)251
Написано в апреле 1841 г. в Петербурге перед отъездом во вторую ссылку на Кавказ.
(обратно)252
Мундиры голубые — офицеры корпуса жандармов носили форму голубого цвета.
(обратно)253
Фарнгаген фон Энзе К. А. (1785–1858) — немецкий историк, критик и дипломат, знакомый многих русских писателей. Накануне революционных событий 1848 года немецкие либеральные круги опасались агрессивных действий русского царизма. Ответом на такие опасения и стало стихотворение Тургенева.
(обратно)254
Стихи Нежданова, героя романа «Новь».
(обратно)255
Обращено к дочери придворного архитектора А. И. Штакеншнейдера Екатерине.
(обратно)256
В первых строках стихотворения говорится о Киево-Печерской лавре, где Нестор писал в начале XII века летопись «Повесть временных лет».
(обратно)257
Хитрый иезуит — итальянский историк и публицист Николо Макиавелли (1469–1527), автор трактата «О государстве».
(обратно)258
Гус Ян (1369–1415) — великий чешский патриот и реформатор; под «чашей» подразумевается одно из требований Гуса и его последователей — о причащении мирян и хлебом, и вином.
(обратно)259
Жижка Ян (ум. в 1424 г.) — чешский полководец и политический деятель времен гуситских войн.
(обратно)260
Пантеон — место захоронения выдающихся людей.
(обратно)261
Катков М. Н. (1818–1887) — русский журналист. В 50-е годы придерживался умеренно либеральных взглядов, в 60-е перешел на резко реакционные позиции.
(обратно)262
Ермоген (Гермоген, до 1530–1612) — патриарх, русский церковный и политический деятель. Во время нашествия поляков был ими заточен в монастырь, а затем уморен голодом
(обратно)263
Станицы — стаи перелетных птиц.
(обратно)264
Без попов — самоубийц хоронили без церковного обряда
(обратно)265
Порошок — порох.
(обратно)266
Ераков А. Н. (1817–1886) — инженер, друг Некрасова.
(обратно)267
Лев Александрович Мей родился в Москве в семье офицера. Учился в Московском дворянском училище, затем в Царскосельском лицее. Некоторое время пытался служить, но вскоре отдался полностью журнальной деятельности. Всю жизнь испытывал тяжелую нужду, вел богемную жизнь. Большое влияние на творчество Мея оказал русский фольклор, народная фантастика. Его перу принадлежат две драмы в стихах — «Царская невеста» (1849) и «Псковитянка» (1859), на основе которых впоследствии были созданы знаменитые оперы Н. А. Римского-Корсакова. Много занимался Мей и стихотворными переводами.
(обратно)268
Сверчков Н. Е. (1817–1898) — живописец, мастерски изображавший лошадей.
(обратно)269
Аполлон Александрович Григорьев родился в Москве в семье состоятельного чиновника. Окончил Московский университет (в котором он тесно общался с Фетом, Полонским, Станкевичем). Недолгое время служил, потом занялся литературной работой. Сотрудничал в журналах славянофильского направления, завоевал авторитет как литературный критик. В поэзии Григорьева заметно сильное влияние Лермонтова, а также попытки воплотить удалую разгульную стихию русской песни. Наиболее известны его стихотворения «Цыганская венгерка» и «О, говори хоть ты со мной…», ставшие народными песнями. Ряд стихов Григорьева посвящен обличению пороков современного ему общества — они появились впервые посмертно в заграничной русской прессе.
(обратно)270
Юлия Валериановна Жадовская родилась в селе Толстикове Костромской губернии в семье помещика. Получила домашнее образование. Лучшее в наследии Жадовской — любовная и пейзажная лирика. Стихотворение «Нива, моя нива, нива золотая!..» входило во многие дореволюционные учебники и хрестоматии. В поздний период творчества поэтесса испытывала ощутимое воздействие гражданской музы Некрасова. Перу Жадовской принадлежат и прозаические произведения (роман «В стороне от большого света» и др.).
(обратно)271
Савва Яковлевич Дерунов родился в деревне Большие Ветхи Ярославской губернии в крестьянской семье. Десяти лет мальчика отдали прислужником в кабак. Через несколько лет он перебрался в Москву, служил в пивных лавках, позже приобрел свою «портерную». Самостоятельно овладел грамотой, приохотился к чтению, а затем к сочинению песен и собиранию фольклорных материалов. В конце 1850-х годов уехал в село Козьмодемянское Пошехонского уезда, где провел остальные годы жизни. Много сил уделял работе земских учреждений, боролся за совершенствование обучения крестьян. Автор многих трудов по этнографии, сельскому хозяйству, кустарной промышленности. Сотрудничал в печати, в сборниках крестьянских поэтов. Стихи печатал с начала 1860-х годов. Произведения поэта не раз запрещались цензурой.
(обратно)272
Иван Ефимович Тарусин родился в селе Дедикове Рязанской губернии, самоучкой выучился грамоте. В конце 1850-х годов приехал в Москву, служил половым в трактире, затем несколько лет прожил в Петербурге. Литературными наставниками Тарусина стали поэты А. Н. Плещеев и Л. А. Мей. В 1874 году Тарусин перенес удар паралича, сделавший его калекой. Последние годы жизни провел в родном селе. Писал стихи и прозу, печатался с середины 1860-х годов очень редко.
(обратно)273
Дмитрий Дмитриевич Минаев родился в Симбирске в небогатой дворянской семье. Отец его в свое время был известен как поэт и переводчик. Д. Д. Минаев окончил высшее военное заведение в Петербурге, затем несколько лет служил. С 1857 г. — профессиональный литератор. Д. Минаев обладал удивительным даром поэта-фельетониста. Стихи его — отклики на злобу дня, насыщенные остротами, каламбурами, виртуозно зарифмованные. Поэт печатался в прогрессивных журналах под многочисленными псевдонимами. Его сатиры и пародии относятся к лучшим образцам этих жанров в отечественной литературе.
(обратно)274
Леонид Николаевич Трефолев родился в городе Любиме Ярославской губернии в небогатой помещичьей семье. Окончил ярославскую гимназию и почти всю жизнь прожил в этом городе. Он поэт некрасовского направления, публицист и сатирик, возвышавший голос в защиту угнетенного народа. Творчество Трефолева отображало крестьянскую жизнь, было тесно связано с фольклором.
(обратно)275
Перепев стихотворения М. Лермонтова «Узник». Стихотворение направлено против идеализации русской старины, характерной для славянофилов.
(обратно)276
Во время Крымской войны 1853–1856 гг. России противостояла коалиция Англии, Франции, Турции и Сардинии. Главным сражением войны стала героическая оборона Севастополя, длившаяся одиннадцать месяцев (с сентября 1854 по август 1855 г.).
(обратно)277
Очаков — турецкая крепость, которую русские войска успешно осаждали во время русско-турецкой войны 1787–1791 гг.
(обратно)278
Всеволод Владимирович Крестовский родился в селе Малая Березанка Киевской губернии в семье помещика. Крестовский известен прежде всего как романист («Петербургские трущобы», 1864–1867). Стихи писал в ранний период творчества, в конце 1850 — начале 1860-х годов, когда он еще придерживался прогрессивно-демократических взглядов и не перешел на реакционные позиции
(обратно)279
Иван Захарович Суриков родился в деревне Новоселовке Угличского уезда Ярославской губернии, в семье крепостного крестьянина. Восьми лет попал в Москву, где помогал отцу вести мелочную торговлю. Урывками учился грамоте. Начал писать стихи, вызывая жестокие насмешки окружающих. В 1862 году познакомился с поэтом Плещеевым, который оценил талант юноши и помог ему опубликовать свои стихи. Впоследствии Суриков стал известным поэтом, создателем кружка писателей из народа. Большинство стихов его посвящены горестной доле простого крестьянина. Однако широта взгляда на мир позволила критике назвать поэта «крестьянским Тютчевым». Многие стихи Сурикова стали народными песнями («Рябина», «В степи», «Доля бедняка»). Значительны его исторические поэмы. Всю жизнь поэт провел в тяжелой нужде, умер от чахотки
(обратно)280
Спиридон Дмитриевич Дрожжин родился в селе Низовке Тверской губернии в семье крепостных крестьян. Одиннадцати лет от роду отправился в Петербург на заработки. Работал половым в трактирах, лакеем, приказчиком и т. д. Много странствовал по России, в 1896 году вернулся на родину, жил в родном селе, занимаясь крестьянским трудом. Стихи писал с шестнадцати лет. Издал более тридцати поэтических сборников. Поэзия Дрожжина посвящена труду, быту и чувствам простого крестьянина, испытала сильное влияние песенного фольклора. Поэт радостно приветствовал Октябрьскую революцию, его стихи входили во многие антологии первых послереволюционных лет
(обратно)281
Коринфский К. А. (1868–1937) — поэт, друг С. Д. Дрожжина
(обратно)282
Ирана царь — Ксеркс (486–465 до н. э.), персидский царь, ведший кровопролитную войну с греческими городами-государствами.
(обратно)283
Фермопилы — ущелье на севере полуострова Пелопоннес, место первой битвы персов с греками.
(обратно)284
Прометея небесный дар — по античному мифу, титан Прометей похитил для людей божественный огонь.
(обратно)285
Македонская фаланга — войско Александра Македонского, дошедшее с боями до пределов Индии.
(обратно)286
Рима царственный орел — орел — знак римских легионов, здесь: римские войска
(обратно)287
И свет с Востока засиял — имеется в виду зарождение христианства.
(обратно)288
В стихотворении используется «пророчество» старца Филофея (XVI в.): Москва — третий Рим, а четвертому не быть.
(обратно)289
Рим второй — Византия.
(обратно)290
Леонид Петрович Радин — выдающийся революционер-марксист, ученый-химик, литератор. Революционную деятельность начал в 1880-х годах как пропагандист-народник. Уехал за границу, тщательно изучал марксистскую литературу. Вернувшись, становится активным марксистом, создает подпольную типографию. В 1896 году был арестован, после тюремного заключения сослан в Вятку, затем в Якутск. В тюрьме у него развился туберкулез, который привел его к гибели. Видимо, большая часть поэтического наследия Л. П. Радина была уничтожена после его смерти царскими охранниками
(обратно)291
Константин Михайлович Фофанов родился в Петербурге в семье небогатого купца. Учился в дешевых пансионах. Печататься начал с 1881 года и вскоре завоевал широкую известность. Стихам его присущи музыкальность, богатство оттенков, минорные настроения. Главная тема поэта — противоречие между изысканно красивой мечтой и грубой прозой жизни. Поэту пришлось изведать нужду, невзгоды. Умер он в нищете
(обратно)292
Гиппиус 3. Н. (1869–1945) — поэтесса, беллетристка, литературный критик. После Октябрьской революции эмигрантка
(обратно)293
Стрибог — бог ветра у древних славян.
(обратно)294
Феб (Аполлон) — у древних греков — бог солнечного света, покровитель искусств.
(обратно)295
Мукден — город в Маньчжурии, в сражении под которым во время русско-японской войны (11–25 февраля 1905 г.) русская армия потерпела поражение по вине бездарного командования.
(обратно)296
Цусима — Цусимский пролив, где 14–15 мая 1905 года японский флот потопил большую часть русской 2-й Тихоокеанской эскадры.
(обратно)297
Ходынка — катастрофа на Ходынском поле во время коронационных торжеств при восшествии на престол Николая И. Из-за халатности властей в давке погибло около 2000 человек.
(обратно)298
Крестьянин Калужской губернии, поэт-самоучка, организатор движения писателей из народа. Издавал и редактировал их коллективные сборники. Выступал как прозаик, публицист, журналист. Отец Л. М. Леонова
(обратно)299
(обратно)300
Руны — древние германские письмена
(обратно)301
Море Хвалынское — Черное море
(обратно)302
Шихан — курган, холм
(обратно)303
Проклинают ли Стеньку… — Степан Разин был предан анафеме (проклятию) русской православной церковью.
(обратно)304
Сарынь — толпа, ватага.
(обратно)305
Струг — плоскодонное гребное судно.
(обратно)306
Ус и Федор Шелудяк — сподвижники Разина.
(обратно)307
Привезли на Москву показать — Степана Разина и его брата Фрола привезли в Москву и после жестоких пыток казнили 6 июля 1671 г.
(обратно)308
Гришка Отрепьев — по одной из версий, беглый монах Чудова монастыря, затем — авантюрист Лжедмитрий I.
(обратно)309
Хризолит — зеленый полудрагоценный камень.
(обратно)310
Блудница — образ из Апокалипсиса, символизирует собою Вавилон.
(обратно)311
Девушка, лежащая на быке — намек на древнегреческий миф о похищении красавицы Европы Зевсом, который принял вид быка.
(обратно)312
Пчелиный рой — согласно древнегреческому мифу, вокруг бедер богини любви и красоты Афродиты вьется пчелиный рой.
(обратно)313
Бычий Ход — пролив Босфор.
(обратно)314
Махмут-завоеватель — Мехмед II, турецкий султан (1451–1481), захвативший Константинополь. Этим был положен конец существованию Византийской империи.
(обратно)315
Русь — третий Рим — см. выше комментарий к стихотворению В. Соловьева.
(обратно)316
Неистовый Хирург — Петр I
(обратно)317
Рачинский Г. А. (1853–1939) — председатель Московского Религиозно-философского общества, оказавший большое влияние на Андрея Белого
(обратно)318
Эллис — псевдоним Льва Львовича Кобылинского, поэта-символиста, переводчика, литературного критика, близкого друга А. Белого
(обратно)319
Для Блока образ Новой Америки — это поэтический символ будущего мира, сочетающего промышленную мощь и демократическое устройство.
(обратно)320
Ектенья — одна из молитв православного богослужения
(обратно)321
Орарь — длинная лента, перекинутая через плечо, принадлежность облачения дьякона
(обратно)322
Крепь — здесь: в смысле крепость, неприступное место.
(обратно)323
Бунчук — конский хвост на древке, знак власти и достоинства украинских гетманов.
(обратно)324
Мессия — религиозный образ ожидаемого избавителя.
(обратно)325
СКИФЫ (с. 378). Провал и Лиссабона и Мессины. — Столица Португалии Лиссабон была разрушена землетрясением в XIV и XVIII веках. В 1908 г. сильнейшим землетрясением была разрушена Мессина, город в Южной Италии.
(обратно)326
Пестум — древнегреческая колония в Южной Италии, разгромленная в IX веке арабами.
(обратно)327
Эдип — герой древнегреческого мифа, разгадавший загадку чудовища-Сфинкса.
(обратно)328
Галльский — французский.
(обратно)329
Гунн — представитель кочевого тюркского племени, в IV–V веках опустошившего страны Западной Европы.
(обратно)330
Е. М. Тарасов — пролетарский поэт, революционер-большевик. Еще в студенческие годы был арестован за агитацию среди рабочих, бежал за границу. Принимал участие в Московском вооруженном восстании, сражался в рядах дружинников на Пресне. В годы реакции отошел от революционной, а затем и от литературной деятельности. В советские годы занимался работой в области экономических наук
(обратно)331
Николай Алексеевич Клюев родился в деревне Коштуге, близ Вытегры в Олонецкой губернии. Учился в церковноприходской школе, вытегорском городском училище. Впоследствии самоучкой достиг огромных познаний. Жил в старообрядческих скитах, был связан с сектантами, обошел и объездил всю Россию. Печатался с 1904 года. Принимал участие в революции 1905 года, в январе 1906 года был арестован, полгода просидел в тюрьме. Первая книга Клюева «Сосен перезвон» вышла в 1911 году, за ней последовали другие. Творчество поэта было в центре внимания многих представителей интеллигенции, таких как Блок и Брюсов. В стихах он выступал как «крестьянский мессия», указующий пути к возвращению в прежний утраченный патриархальный рай. Густая, цветистая, словно настоянная на лесных ароматах, поэзия Клюева оказала большое влияние на Сергея Есенина и близких к нему поэтов. Революцию Клюев приветствовал, в 1918–1919 годах опубликовал ряд ярких публицистических статей в газете «Звезда Вытегры». Однако в дальнейшем он не смог обрести своего места в молодой советской литературе. Рапповская критика навесила на Клюева неизгладимое клеймо кулацкого поэта. Большинство созданных в советский период произведений Клюева не было опубликовано при его жизни. Поэт испытывал тяжелые лишения, жизнь его трагически оборвалась. Посмертные публикации раскрыли перед читателем подлинный облик одного из крупнейших русских поэтов начала XX века
(обратно)332
Вольга— былинный богатырь.
(обратно)333
Лаче — озеро в Архангельской области.
(обратно)334
Суслон — несколько снопов, составленных вместе для просушки.
(обратно)335
Гавриил — архангел, предрекший деве Марии рождение Христа.
(обратно)336
Умолот — жатва.
(обратно)337
Всеволод — храбрый князь, герой «Слова о полку Игореве».
(обратно)338
Темный Василько — Василий II Васильевич — великий князь Московский (1425–1462), был ослеплен галицким княжичем Дмитрием Шемякой.
(обратно)339
Чурило Пленковин — былинный герой, богатырь — богач и щеголь.
(обратно)340
Александр Златокольчужный — Александр Невский (ок. 1220–1263), князь, выдающийся государственный деятель. Был причислен церковью к лику святых.
(обратно)341
Микулушка — Микула Селянинович, былинный герой, богатырь-пахарь.
(обратно)342
Радонежские Ослябя, Пересвет — иноки-воины Троице-Сергиевой лавры (расположенной возле города Радонежа), герои Куликовской битвы.
(обратно)343
Днепр Перунов — Во времена язычества в Киеве над берегом Днепра стоял идол Перуна, бога грома и молнии.
(обратно)344
Монблан — самая высокая вершина Альпийских гор.
(обратно)345
Назарет — город в Палестине, где, по преданию, прошло детство Христа.
(обратно)346
Немврод — библейский силач, основатель Вавилонского царства.
(обратно)347
Рублевская Русь — Русь эпохи Андрея Рублева, великого художника-иконописца (XIV в.).
(обратно)348
Родился в Саратове в бедной крестьянской семье. Скитался по России в поисках заработка. Печататься начал с 1911 года. Сражался на фронтах первой мировой войны. В 1917 году знакомится с Есениным, Клюевым и другими поэтами из крестьян. В советское время вышло более пятидесяти сборников стихов и прозы П. Орешина.
(обратно)349
Родился в Симбирской губернии в семье бывшего дворового-крепостного. Недоучился из-за отсутствия средств. Менял много занятий, в 1905 году за участие в революционном движении лишился работы. Уехал в Туркестан, работал чиновником почтово-телеграфного ведомства в Ташкенте, Бухаре, Ашхабаде, Чарджуе. С 1918 года состоял в переписке с Есениным и близкими ему поэтами. Личная их встреча состоялась в 1921 году, во время поездки Есенина в Среднюю Азию. Печатался с 1911 года, в 1916 году вышел первый сборник стихов «Запевка». Скончался в Москве.
(обратно)350
Родился в Тверской губернии в семье кустаря-сапожника. Стихи начал писать с детства. Принимал участие в боях на Пресне в 1905 году. С 1914 года — на фронте империалистической войны. В 1915 году познакомился с С. Есениным. После Октября активно печатался как поэт и прозаик.
(обратно)351
Пантелеймон — православный святой целитель, изображался в облике отрока.
(обратно)352
Иверская — часовня Иверской божьей матери неподалеку от Кремля.
(обратно)



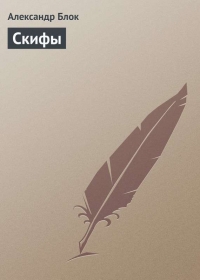



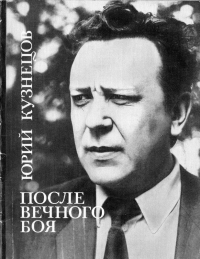
Комментарии к книге «И будет вечен вольный труд», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев