Алексей Константинович Толстой Стихотворения и поэмы
Граф Алексей Константинович Толстой как человек и поэт
Литературное наследие графа Алексея Константиновича Толстого невелико: четыре-пять, ну, шесть томов, если собрать всё-всё, включая письма. Однако наследие это восхищает своим жанровым разнообразием – при высокой художественности им созданного. Толстой писал стихи и прозу – бытовую, историческую, фантастическую. Писал поэмы и юмористику. Писал пьесы – причём стихотворные. Он был одним из создателей Козьмы Пруткова – ярчайшей в истории русской литературы пародийной маски. Да и сама его жизнь была погружена в семейные тайны, сопровождалась многочисленными загадками и невероятными случаями.
С тайны начинается жизнь Алексея Константиновича. Сразу после его рождения в Петербурге 24 августа (5 сентября) 1817 года (даты, кроме связанных с заграничными поездками Толстого, даны по старому стилю, а даты рождения и кончины – в старом и новом стилях) его мать покинула супруга, графа Константина Петровича Толстого (1780–1870), принадлежащего к известной дворянской фамилии, родного брата известного скульптора, ставшего вице-президентом Академии художеств графа Фёдора Петровича Толстого…
Анна Алексеевна с сыном отправилась на родину предков по отцовской линии, в Черниговскую губернию на Украину.
Прапрадед Алексея Константиновича здесь – украинский регистровый казак Григорий Розум. Его старший сын стал фаворитом, а затем морганатическим супругом императрицы Елизаветы Петровны – это хорошо известный граф Алексей Григорьевич Разумовский (1708–1771). Его младший брат, прадед Толстого – граф Кирилл Григорьевич Разумовский (1728–1803), последний «гетман Малыя России» (Украины), президент Императорской Академии наук, генерал-фельдмаршал, прабабка – Екатерина Ивановна Нарышкина (умерла в 1771), внучатая сестра и фрейлина императрицы Елизаветы Петровны. Дед, граф Алексей Кириллович Разумовский (1748–1822), был министром народного просвещения Российской Империи (1810–1816), внёс важные изменения в российское образование, способствовавшие развитию системы начальных школ и гимназий, ввёл богословие (Закон Божий) как основополагающую дисциплину во всех российских учебных заведениях. При нём был открыт Царскосельский лицей.
У Алексея Кирилловича в побочном браке с девицей Марьей Михайловной Соболевской (Денисьевой) родилось несколько детей, а том числе мать Толстого, Анна Алексеевна (1796 или 1799–1857), получившая в 1807 году, вместе со своими братьями и сёстрами от этого союза, дворянство и фамилию Перовская. Дядя по матери, воспитывавший А.К. Толстого с младенчества, – Алексей Алексеевич Перовский (1787–1836), писатель (псевдоним – Антоний Погорельский), автор известной книги «Черная курица, или Подземные жители. Волшебная повесть для детей», первым читателем которой, по основательным предположениям, был его племянник. Другой дядя – Василий Алексеевич Перовский (1795–1857), впоследствии стал оренбургским генерал-губернатором (1851–1857), а дядя Лев Алексеевич Перовский (1792–1856) – министром внутренних дел (1841–1852) и министром уделов (1852–1856).
С давних времён и поныне существует романтическая легенда, печатно поддержанная В.В. Розановым, что Толстой «произошёл от супружеских отношений брата и сестры» (статья «Магическая страница у Гоголя», 1909). Однако один из самых въедливых исследователей биографии Толстого писатель Александр Кондратьев в своей книге «Граф А.К. Толстой: Материалы для истории жизни и творчества», вышедшей в 1912 году, показывает многие изъяны этой версии. Он пишет:
«Благодаря изысканиям профессора Лилльского университета (Франция) г-на А. Лиронделя, можно считать установленным день свадьбы родителей поэта. Государственного ассигнационного банка советник, отставной полковник граф Константин Петрович Толстой был обвенчан с дворянкой девицей Анною Алексеевной Перовской 13 ноября 1816 г. в Симеоновской церкви г. С.-Петербурга. Поручителями – по жениху – был «отец его родной, генерал-майор и кавалер граф Петр Толстой», по невесте – действительный тайный советник и кавалер граф Алексей Кириллович Разумовский и уланского полка штабс-ротмистр и кавалер Алексей Перовский. Присутствие на свадьбе человека с такою безукоризненной репутацией, как граф Петр Андреевич Толстой, устраняет всякое сомнение в том, чтобы брак этот мог носить поспешный характер или мог бросить хотя бы малейшую тень на достоинство его сына. Ранняя свадьба молодой шестнадцатилетней девушки объясняется господствовавшим в то время обычаем, а равно желанием А.К. Разумовского выдать свою побочную дочь за лицо титулованное и тем дать ей определенное положение в обществе.
Константину Петровичу Толстому было в то время 36 лет, так что его отнюдь нельзя было назвать пожилым. Семнадцатилетним юношей окончил он Шляхетский кадетский корпус, поступил во Фридрихсгамский полк, участвовал в шведской и французской кампаниях и получил несколько наград и отличий за выдающуюся храбрость. Рана в ногу помешала ему продолжать военную карьеру и заставила перейти на гражданскую службу. В полку граф К. П. Толстой считался лучшим танцором, и имеется указание, что однажды на балу его избрала своим кавалером шведская королева… .. …ни в одном из источников не имеется указаний на непривлекательность наружности графа.
Что касается до нравственных его качеств, то большинство печатных источников указывают почти исключительно на положительные стороны его души…
Алексей Толстой родился 24-го августа 1817 г., т.е. по истечении законного срока со дня свадьбы своих родителей. Мы не располагаем данными, чтобы утверждать, будто сам факт рождения поэта «привел к домашней катастрофе и открытому разрыву»…
Причина семейного разрыва остается, таким образом, для нас неизвестной. По всей вероятности, она заключалась в полном несоответствии характеров не подходивших друг к другу супругов.
Сам Алексей Толстой, по-видимому, долго не был посвящен в подробности семейной драмы. Драма эта от него так хорошо скрывалась, что все первые годы жизни своей он искренно считал и называл своим отцом Алексея Перовского. Последний не считал себя вправе огорчать маленького племянника, к которому сам сердечно привязался и, в свою очередь, называл его сыном. Это обстоятельство и подало, по всей вероятности, повод к той сплетне, которой поверило немало даже серьезных людей. Возможно, что в самой ранней переписке своей Алексей Перовский и его племянник называли друг друга «папочкой» и «сыном», хотя в письмах, нам известных, дядя называет будущего поэта Алешей, Алешенькой, Алиханчиком и другими ласкательными именами. Когда Алексей Толстой подрос, ему, очевидно, объяснено было, кто приходится ему отцом, ибо в дошедших до нас письмах он называет Перовского не отцом, а дядей. Всякий изучавший характер Толстого знает, какою благородною прямотою он обладал, как противна была ему всякая ложь и как, поэтому, невероятно, чтобы он мог в письмах к любимому и любящему его человеку употреблять фальшивое обращение.
В пользу того, что поэт искренно считал себя не Перовским, а Толстым, имеется много доказательств. Например, он всю жизнь свою носил на пальце перстень с резным изображением родового герба графов Толстых, чего ни за что не стал бы делать, если бы хоть сколько-нибудь сомневался в своем происхождении. По словам лица, его близко знавшего, поэт с жаром доказывал в одном споре талантливость, присущую фамилии Толстых. Он поддерживал отношения с дядей своим, известным скульптором Ф.П. Толстым, и позволял своей жене и ее племянницам ездить к самому К.П. Толстому.
В обстоятельства, вызвавшие разрыв его родителей, Толстой был посвящен одною из заинтересованных сторон, и, по-видимому, объяснения матери носили весьма пристрастный характер. Следствием таких объяснений было то, что поэт почти всю свою жизнь избегал встречаться с отцом. Они помирились уже перед самою смертью последнего.
Несмотря на то, что Алексей Толстой считал отца виновником семейного разрыва и не мог ему простить какого-то проступка перед графиней Анной Алексеевной, мы имеем, однако, сведения, что он оказывал графу Константину Петровичу материальную поддержку. Отец поэта был человек слабохарактерный, мягкосердечный, религиозный и никому не отказывавший в денежной помощи. Поэтому он сам постоянно нуждался и не мог отказаться от той пенсии, которую ему назначил его богатый сын.
Портрета К.П. Толстого до нас, к сожалению, пока не дошло. Чертами лица своего поэт походил на родственников как той, так и другой стороны. Глаза, например, у него были голубые, как у Перовских, нос – как у Толстых. Характером своим он также напоминал во многом родственников своих со стороны отца. Артистические же наклонности и художественный вкус были присущи представителям обеих фамилий. Поэтический дар Алексей Константинович мог унаследовать от своего дяди графа Петра Андреевича Толстого, который, по словам М.О. Каменской… отличаясь веселым нравом, не чужд был импровизаторских способностей и, даже готовясь покинуть этот мир, приветствовал шутливым экспромтом пришедших к нему проститься родственников…
Все эти данные заставляют думать, что легенда о романтическом происхождении поэта в лучшем случае представляет собою плод недоразумения…»
Так или иначе, разрыв между супругами Толстыми произошёл, и шестинедельного Алексея Толстого мать перевозит на Черниговщину, в своё имение Блистава, а затем в Красный Рог Мглинского уезда – имение брата, А.А. Перовского.
Первые стихотворные опыты Толстого относятся к 1823–1824 годам, а зимой 1826 года А.А. Перовская с сыном и братом возвращаются в Петербург. Здесь происходит знакомство Алексея с наследником престола, будущим императором Александром II (он на полгода младше Толстого). В том же году становится «товарищем для игр» наследника. Осенью Алексей Перовский встречается в Москве с Пушкиным. Вероятно, с ним был и племянник.
Летом 1827 года, путешествуя по Германии, Перовский, мать Толстого и он сам знакомятся в Веймаре с Гёте. Существует свидетельство, что автор «Фауста» тепло встретил будущего поэта и подарил мальчику обломок бивня мамонта с собственным рисунком фрегата на нём.
Особая часть жизни Толстого – его дружба с наследником престола. Интересная история произошла 30 августа 1829 года, в день ангела Александра. Дед по матери, король прусский Фридрих-Вильгельм III, прислал внуку оловянных солдатиков. Дети – наследник и Толстой – разыгрались. Вошедший в комнату император Николай I увлёкся игрой и в конце концов присоединился к детям.
В 1831 году, отправившись с матерью и дядей в Италию, Толстой ведёт дневник. В Риме знакомится с К.П. Брюлловым, который делает рисунок в альбоме Толстого.
Государственную службу Толстой начал в 1834 году. Он зачислен «студентом» в Московский Главный архив Министерства иностранных дел, в котором в разное время служили многие известные деятели русской культуры – братья Веневитиновы и Киреевские, С.П. Шевырев, А.И. Кошелев… Он продолжает писать стихи, о них одобрительно отзывается В.А. Жуковский. Предполагают, что творческие опыты юного поэта поддержал и Пушкин. В начале декабря 1835 года Толстой подаёт прошение в Московский университет о допущении к сдаче университетского экзамена – «из предметов, составляющих курс словесного факультета, для получения учёного аттестата на право чиновников первого разряда», а 4 января 1936 года Совет Московского университета выдаёт Толстому аттестат на вступление в первый разряд чиновников государственной службы.
В это же время Толстой влюбился в княжну Елену Мещерскую, но обстоятельства жизни не способствовали развитию этого чувства: против выступает мать, а в июне он уезжает в Ниццу, сопровождая А.А. Перовского, больного «грудной болезнью» (очевидно, туберкулёзом). Но поездка обрывается в Варшаве: здесь 9 июля Алексей Алексеевич умирает на руках племянника… Толстой наследует всё состояние дяди, в том числе имение Погорельцы в Новозыбковском уезде Черниговской губернии.
25 ноября 1837 года после хлопот Толстого и его матери он переводится в Петербург в Департамент хозяйственных и счётных дел. Представлен к чину коллежского регистратора.
Вскоре Толстой назначен «к миссии нашей во Франкфурте-на-Майне, сверх штата». Он живёт в Германии, Италии, Франции. Пишет первые рассказы (на французском языке) – «Семья вурдалака», «Встреча через триста лет». Идёт служебный рост. В октябре 1839 года произведен в губернские секретари, 9 марта 1840 года пожалован в коллежские секретари, а в декабре того же года по Высочайшему повелению перемещён «младшим чиновником» во Второе Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
В следующем году состоялся литературный дебют Толстого-прозаика: 15 мая 1841 года цензура дала разрешение на издание книги «Упырь. Сочинение Краснорогского» (СПб); псевдоним – от имения Толстого «Красный Рог».
26 января 1842 года Толстой пожалован в титулярные советники. В «Журнале Коннозаводства и Охоты» (№5) он публикует очерк «Два дня в Киргизской степи». Служебный и творческий рост Толстого в те годы шли наперегонки. Вообще в 1840-е годы он ведёт жизнь, обычную для светского человека той поры: частые отпуска со службы, путешествия, балы, охота, мимолётные романы… Современник описывает его как «красивого молодого человека, с белокурыми волосами и румянцем во всю щёку». Толстой славится своей силой: «свёртывал в трубку столовые ложки и вилки, вгонял пальцем в стену гвозди и разгибал подковы».
В мае 1843 года Толстой – камер-юнкер, а осенью он дебютирует как поэт – в «Листке для светских людей» (№40) без подписи опубликовано его стихотворение «Серебрянка» («Бор сосновый в стране одинокой стоит…»).
В 1845 году Толстой пожалован в коллежские ассесоры. В литературном сборнике графа В.А. Соллогуба «Вчера и сегодня» публикует рассказ «Артемий Семенович Бервенковский».
1846 год, январь: Толстой – надворный советник. Во второй книге сборника «Вчера и сегодня» появляется «Амена» – фрагмент из романа Толстого «Стебеловский». Правда, больше ничего об этом произведении не известно.
В 1847–1849 годах Толстой работает над балладами из русской истории, задумывает роман «Князь Серебряный». Бурная светская жизнь продолжается: в феврале 1848 года Толстой становится членом Петербургского Яхт-Клуба. Когда в апреле 1850 года его командируют в Калужскую губернию для участия в комиссии по её обревизованию, в одном из писем он называет эту обычную в общем для чиновника такого ранга командировку «изгнанием». Но зато в Калуге в губернаторском доме, где ведёт салон его жена А.О. Смирнова-Россет, Толстой встречается и близко знакомится с Гоголем. Более того, читает здесь свои стихотворения и отрывки из «Князя Серебряного». Одновременно решает свои имущественные дела: приобретает имение Пустынька близ Петербурга. Вскоре после возвращения Толстого в столицу, в январе 1850 года вспыхивает скандал после премьеры его пьесы «Фантазия» в Александринском театре – постановка не понравилась Николаю I и была снята с репертуара. К этому же времени относится знакомство на маскараде в Большом театре с женой конногвардейского полковника Софьей Андреевной Миллер (урождённая Бахметьева; 1825–1892). Эта женщина с завораживающим голосом, прекрасной фигурой и пышными волосами, умная, волевая, прекрасно образованная (знала 14 языков) с юности была обуреваема сильными страстями. Рассказывали, что её брат Пётр погиб на дуэли с одним из князей Вяземских, ввязавшись в запутанную историю любовных отношений сестры с князем. Писатель Дмитрий Григорович до старости вспоминал свой бурный роман с Софьей Андреевной («Она была необыкновенно страстной и всё просила нового»).
Софья Андреевна становится самым сильным сердечным увлечением и Алексея Толстого. С той поры он постоянно ищет встреч с ней.
19 мая 1851 года Толстому высочайше пожаловано звание церемониймейстера двора. В зиму 1851–1852 года он едет к дяде В.А. Перовскому в Оренбургскую губернию и посещает по дороге туда и обратно имение Смальково в Пензенской губернии, где в семье своего брата, П.А. Бахметева, живёт расставшаяся с мужем Софья Андреевна… Возвратившись весной в Петербург, Толстой хлопочет о смягчении участи И.С. Тургенева, арестованного в апреле 1852 года за статью памяти Гоголя.
В 1854 году в журнале «Современник» печатаются стихотворения Толстого и «Досуги Козьмы Пруткова», а летом Толстой предпринимает усилия по созданию партизанского отряда на балтийском побережье – идёт Восточная война. 28 марта 1855 года высочайшим приказом младший чиновник II Отделения статский советник и церемониймейстер граф Толстой определён майором в Стрелковый полк Императорской Фамилии, расквартированный в селе Медведь под Новгородом. Зачислен в списки первой роты первого батальона. В последующие месяцы Толстой довольно часто отлучается из полка по личным и литературным причинам, пока в декабре, уже в Одессе, не присоединяется к своей части. В феврале 1856 года Толстой, исполняющий обязанности батальонного командира, заболевает тифом. Александру II, недавно вступившему на престол, ежедневно докладывают телеграммами о состоянии его здоровья За ним ухаживает приехавшая в Одессу С.А. Миллер. Выздоровев, Толстой отправляется с возлюбленной в путешествие по Крыму, а в августе приезжает в Москву для участия в коронационных торжествах. Толстой вместе с штаб-офицерами полка «назначен для принятия балдахинов в день коронования». 26 августа он произведён в подполковники и назначен флигель-адъютантом к императору. К осени того же года относится сближение с А.С. Хомяковым и К.С. Аксаковым. В октябре при переформировании Стрелкового полка в б а т а л и о н по распоряжению императора оставлен в его штате с правом бессрочного отпуска в мирное время. Тогда же назначается делопроизводителем в Комитете по делам о раскольниках. 10 ноября умирает дядя, Лев Алексеевич Перовский, с которым Толстой находился в тёплых родственных отношениях. В это же время он знакомится с Л.Н. Толстым.
2 июня 1857 года умирает Анна Алексеевна – мать Толстого. Сын и отец, К.П. Толстой, проводят ночь у гроба графини. А.К. Толстой с этой поры высылает отцу ежемесячную пенсию (около 4000 р. в год). Толстой телеграфирует о смерти матери в Париж Софье Андреевне Миллер (Анна Алексеевна была против этого союза, как, впрочем, и вообще очень ревниво относилась к любой сыновней избраннице).
Вскоре Толстой и С.А. Миллер вместе с семьей и прислугой её брата поселяются в Пустыньке, близ Петербурга. Когда в ноябре скончался ещё один дядя Толстого, генерал-адъютант Василий Алексеевич Перовский, по наследству Перовскому досталось имение Мелас в Крыму.
1 января 1858 года Толстой возвратился в Петербург, где произошло окончательное воссоединение с Софьей Андреевной, которая в это время ведёт дело о разводе с мужем. В журнале «Русская беседа» (№1) публикуется его поэма «Иоанн Дамаскин». 17 апреля Толстому пожалован орден Св. Станислава 2-й степени, а летом этот упоённый жизнью человек присутствует в Петербурге на спиритических сеансах знаменитого Юма.
1859 год Толстой и Софья Андреевна провели в Погорельцах. 11 марта он уволен в бессрочный отпуск от обязанностей флигель-адъютанта. В этом же году принят в Общество Любителей Российской Словесности, работает над поэмой «Дон Жуан». 15 ноября открывает в своём селе Пьяный Рог училище для мальчиков. С.А. Миллер устраивает в Погорельцах школу для девочек.
В следующем году Толстой и Софья Андреевна много путешествуют: Франция, Англия, где в августе на острове Уайт Алексей Константинович встречается с Тургеневым, Герценом, Огарёвым и др. Собравшиеся основывают «Общество для распространения грамотности и первоначального обучения» (Тургенев пишет программу). Вместе с тем продолжается увлечение спиритизмом, Толстой часто встречается с Юмом. В сентябре – октябре 1860 года возлюбленные вновь живут в Пустыньке, а в ноябре он уже в Дрездене, где знакомится с поэтессой Каролиной Павловой, ставшей переводчицей на немецкий язык его «Дон Жуана».
1861 год. Реформы императора Александра II развиваются. В марте Толстой приезжает в Красный Рог и читает своим крестьянам манифест об освобождении. Затем раздаёт собравшимся деньги на угощение. Оглашение манифеста завершается долгим пьяным пиром. В конце лета того же года Толстой пишет Александру II письмо с прошением об отставке. 28 сентября он «уволен от службы, по домашним обстоятельствам, прежним чином статского советника, которым он служил до поступления на военную службу, с назначением на должность егермейстера». 15 октября уволен из Стрелкового баталиона. В декабре и до половины января 1862 года читает с огромным успехом на вечерних собраниях у императрицы роман «Князь Серебряный». По окончании чтений получает от императрицы массивный золотой брелок в форме книги, на одной стороне славянским шрифтом выведено её имя – «Мария», на другой – «В память Князя Серебряного». Внутри, на раскрывавшихся золотых пластинках-страницах – миниатюрные фотографии слушательниц. Весну 1862 года Толстой проводит с родными в Пустыньке. В журнале «Русский вестник» публикуется его «драматическая поэма» «Дон Жуан». В №№ 8–10 «Русского вестника» печатается роман «Князь Серебряный». Осенью Толстой уезжает в Германию.
3 апреля 1863 года в православной церкви Дрездена Толстой венчается с С.А. Миллер. Жена возвращается на родину. В этом же году открываются первые признаки астмы у Толстого, он лечится на курортах Германии.
В июне 1864 года в Карлсбаде Толстой встречается с И.А. Гончаровым. В июле в Швальбахе читает императрице и ея свите трагедию «Смерть Иоанна Грозного». В это же время любовная идиллия Толстого испытывает новые потрясения: у него продолжается охлаждение отношений с родственниками жены, которые, пользуясь добротой и нерасчётливостью Алексея Константиновича, становятся, по сути, его содержанцами.
Зимой 1865 года во время царской охоты в Новгородской губернии Толстой пытается заступиться перед Александром II за сосланного в Сибирь Чернышевского. Но – неудача и размолвка с императором.
В январе 1866 года в журнале «Отечественные записки» (№ 1) печатается «трагедия в пяти действиях» «Смерть Иоанна Грозного». Весной Толстой путешествует по Италии, а в августе лечится в Карлсбаде.
12 января 1867 года состоялась премьера «Царя Фёдора Иоанновича» в Александринском театре. В Петербурге выходит единственное прижизненное издание сочинений А.К.Толстого – «Стихотворения»; в него включено 131 стихотворение.
30 января 1868 года по приглашению Великого герцога Веймарского Толстой присутствует на премьере «Смерти Иоанна Грозного» на сцене придворного театра в Веймаре (перевод Каролины Павловой). В мае журнал «Вестник Европы» (№ 5) публикует «трагедию в пяти действиях» «Царь Фёдор Иоаннович».
В феврале – марте 1869 года совершает с женой поездку в Одессу, где Софья Андреевна лечится от бессоницы. Весну и лето Толстой проводит в Красном Роге, но и на природе болезнь обостряется. В июле у Толстого гостит А.А. Фет.
В 1870 году в «Вестнике Европы» (№ 3) печатается «трагедия в пяти действиях» «Царь Борис». Летом Толстой задумывает пьесу «Посадник» и начинает работать над ней.
Весной 1871 года во время охоты на вальдшнепов Толстой простужается. У него происходит новое обострение болезни, и в течение года он ездит на лечение в Германию. В этом году он пишет стихотворение «На тяге».
Вновь необходимо указать на удивительное жанровое многообразие наследия А.К. Толстого! Кажется, не было такой литературной формы, в которой он бы себя не испытал. Даже в афористике – одновременно и разрабатывая поэтику мудрого слова и пародируя её (Козьма Прутков). Даже в комиксах («Басня о том, что, дискать, как один философ остался без огурцов») – если, конечно, тогда такое понятие существовало, но вот, сделал. А письма Толстого! – поистине шедевры эпистолярного жанра, вровень с письмами Гоголя, Чехова, того же Льва Толстого…
Конечно, и Алексею Константиновичу Толстому досталась своя порция хрестоматийности – но какая! Едва ли не в букваре печатается его: «Колокольчики мои…», но всего-навсего начальная строфа большого стихотворения! И это не столь безобидное сокращение. Не только потому, что любое покушение на авторскую волю малопочтенно. Это стихотворение Толстого занимает особое место в его творческой биографии. Он писал «Колокольчики» долго, есть их ранний вариант – с иной, четырёхстрочной строфикой, с иной, грустной тональностью:
Я прислушаюся к вам, Цветики степные, Русским людям передам Я дела былые!Здесь степные колокольчики – только хранители памяти о родной старине, в то время как в окончательной редакции тихое шелестение качающихся цветов постепенно перерастает в другой звук – набатный:
Громче звон колоколов, Гусли раздаются, Гости сели вкруг столов, Мёд и брага льются…Идея «честного пира», мирного славянского союза в полный голос звучит в этом стихотворении 1840-х годов, определяя, следует заметить, важнейшую тему русской лирики на многие и многие десятилетия, вплоть до блоковских «Скифов» с их завершающим:
На братский пир труда и мира, В последний раз на светлый братский пир Сзывает варварская лира!Однако, считая «Колокольчики» одной из своих «самых удачных вещей», Толстой, тем не менее, словно предупредил тех, кто хотел бы свести его лирическое переживание к политическим декларациям, написав знаменитое также восьмистишие «Двух станов не боец, но только гость случайный…»
Союза полного не будет между нами — Не купленный никем, под чьё б ни стал я знамя, Пристрастной ревности друзей не в силах снесть, Я знамени врага отстаивал бы честь!Толстой по всему строю своего творчества, по знанию и владению родным языком был русским писателем, поэтом. Но свое назначение он понимал особым образом, что не всегда осознавалось даже его собратьями по литературному труду. Ими тоже, не только публицистами и чиновными идеологами.
В речи на знаменательном вечере памяти Блока 26 сентября 1921 года Андрей Белый, также и поэт и прозаик, говорил: «Поэт национальный – что есть? Национализм есть абстракция; это рассудочное ощупывание задач народа; и – писание в духе этих задач. Таким поэтом можно назвать А.Толстого. Вот национальный поэт, но он не народник, не поэт из народа; и менее всего – народный поэт»[1]. Суждения парадоксальные, имеющие, без сомнения, подтверждения в истории литературы, но, кажется, именно по отношению к А.К. Толстому непригодные.
Во-первых, его трудно назвать поэтом рассудка – и, конечно, не из-за строчки «Коль любить, так без рассудку»! Толстой, по своим мировоззренческим принципам явно тяготевший к философии высокого романтизма, как видно, вообще довольно скептически относился к превозношениям разума, очевидно, не только чувствуя, но и понимая сложную устроенность человеческого сознания. В стихотворении «Он водил по струна́м; упадали…» (начало 1857), одном из самых трудных для толкования не только в лирике Толстого, но и во всей русской поэзии, звучат строки:
И бессильная воля боролась С возрастающей бурей желанья…Среди строк других, которые вызывают почти обвал ассоциаций, обращённый не только к стихам, написанным до 1857 года, но и возникшим много позже, эти выглядят как какой-то полупародийный кич рубежа веков, нечто среднее между Надсоном и каким-нибудь «сатириконцем». А, может быть, вписал их сюда от щедрот своих управитель Пробирной Палатки?!
Но пересмеёмся. Разве даром Толстой приобрёл непоколебимую славу сатирика? Не усмехнулся ли он здесь над нами, над теми, кто выше всего ставит свою Волю (через два десятилетия любивший Толстого Лесков напишет свою притчу на ту же тему – «Железная воля»)?!
Желание! Также совсем не простое слово в толстовском художественном словаре, однажды доверенное даже Козьме Пруткову («Желание быть испанцем»). Желание для Толстого не инстинктивный порыв, это нечто, направляющее человека в жизни, помогающее ему избежать всеобщего расчёта, который рано или поздно приведёт к своей противоположности – абсурду.
Темнота и туман застилают мне путь, Ночь на землю всё гуще ложится, Но я верю, я знаю: живёт где-нибудь, Где-нибудь да живёт царь-девица! Как достичь до неё – не ищи, не гадай, Тут расчёт никакой не поможет, Ни догадка, ни ум, но безумье в тот край, Но удача принесть меня может…Однако и здесь Толстой не обещает успеха, но он предпочитает «не ждать», «не гадать», а действовать, пусть «наудачу» – может, получится (цитирую заключительную, третью строфу этого же стихотворения).
Этот поэт, которого не раз упрекали в провалах вкуса, в потере чувства меры, кажется порой, посмеивался над своими критиками. Ведь они исходили из собственных представлений о предназначении воли, о том, что позволено, из литературных канонов, наконец, а он предпочитал – свободное желание. Хочется написать так – и напишу.
В поэме «Иоанн Дамаскин» (1859), названной по имени греческого богослова и гимнографа 8-го века, получившего прозвание Златоструйного и канонизированного Православной церковью, Толстой уже привычным для него – парадоксальным образом – рассматривает феномен творческого начала личности. Он многократно именует своего героя «певцом»; не скрывает автобиографических мотивов произведения[2]. Центральный конфликт поэмы связан с проблемой моральной состоятельности «броженья деятельных сил, свободы творческого слова». Бесстыдно проданному «глаголу», «бессовестному слову» в поэме противопоставляется «певца живая речь», расторгающая «убийственный сон бытия», своим светом громящая, «что созиждено тьмою». Богородица, являющаяся суровому гонителю Иоанна и вразумляющая его, предстаёт в поэме Толстого олицетворением боговдохновенной красоты земной жизни, призывом к отказу от «бесплодного истязания».
В мажорном финале поэмы («Воспой же, страдалец, воскресную песнь!..») развивается мысль, уже заявленная в предыдующих главах, – мысль о единстве человека с земным миром, о воплощении в песенном слове осознания чуда Божественного Промысла.
Что, впрочем, не отводило взгляда Толстого от земных козней сатанинских. Впрочем, сатанинское, по Толстому, это, если воспользоваться известным выражением, – земное, слишком земное. В замечательном «Послании к М.Н. Лонгинову о дарвинисме» (1872) поэт обращается к своему хорошему знакомцу, председателю Главного управления по делам печати, то есть к верховному российскому цензору с ироническими, но полными поистине доброго сожаления словами:
С Ломоносовым наука Положив у нас зачаток, Проникает к нам без стука Мимо всех твоих рогаток, Льёт на мир потоки света И, следя, как в тьме лазурной Ходят Божии планеты Без инструкции цензурной, Кажет нам, как та же сила, Всё в иную плоть одета, В область разума вступила, Не спросясь у Комитета.Но Толстой не был бы Толстым, если бы не обозначил своё, науки место в общем миропорядке, причём делая это именно в те времена, когда новый рационализм – научно-технический, опирающийся на философию позитивизма, воцарялся в Европе и в России. В балладе «Поток-богатырь» достаётся именно тем, кто, как
…какой-то аптекарь, не то патриот, Пред толпою ученье проводит: Что, мол, нету души, а одна только плоть И что если и впрямь существует Господь, То он только есть вид кислорода, Вся же суть в безначалье народа.Как уже было отмечено, романтик по своему философскому мировосприятию, Толстой жёстко отделял мир дольный от мира горнего. Его сатира это не обличение государственного устройства, которое всегда и везде заведомо несовершенно (этого ли не знать любому романтику?!).
Что вижу я! Лишь в сказках Мы зрим такой наряд; На маленьких салазках Министры все катят. Их много, очень много, Припомнить всех нельзя, И вниз одной дорогой Летят они, скользя.Чем не стихи на злобу дня, на события, имевшие место быть, например, в современной, посткоммунистической России?! Однако, думается, здесь важно видеть не просто картинку на темы правительственного кризиса, но образ любой власти, любого управления, скатывающегося из пространства истории в бездну небытия. Наряду с Салтыковым-Щедриным, Толстой показал глубинную однородность, повторяемость любой правительственной системы, воспроизводящей самое себя, только под разными знамёнами и лозунгами.
«…России предстоит, Соединив прошедшее с грядущим, Создать, коль смею выразиться, вид, Который называется присущим Всем временам; и, став на свой гранит, Имущим, так сказать, и неимущим Открыть родник взаимного труда. Надеюсь, вам понятно, господа?»Вам понятно, господа, кто это говорит и когда? Гадать можно долго, и все догадки будут правильными, поскольку в этой речи министра из поэмы «Сон Попова» Толстой предложил всеобщую модель речи «чиновника» («бюрократа» и т.д.) перед «народом» («массами» и т.д.). И потому его сатира, переполненная подробностями эпохи реформ императора Александра II, доныне современна и таковой останется впредь, новым качеством «соединив прошедшее с грядущим».
Да, Толстой не классик в обыденном понимании этого слова (есть ли точное литературоведческое определение «классика»?!). Но он интересен, он силён своим умением всегда сохранить собственный взгляд на мир, на его явления, на человека. И, конечно, на литературу. По счастью, не завися от заработка писательством, ни дня не быв литературным подёнщиком, он получил возможность совершенно свободного отношения к свершениям словесности – любым, даже считавшимся каноническими.
Гармония… Иногда Алексея Константиновича Толстого называли самым гармоничным писателем в русской литературе. Это справедливо, если говорить о его стиле, соразмерность которого сочетается с удивительной художественной энергией слова. И не совсем точно, если, перелистывая его произведения страница за страницей, вспоминать, как остро чувствовал он не только тяготы и лишения, – саму высокую драму земной жизни.
А его собственная жизнь шла на убыль. 23 декабря 1873 года, в один день с Л.Н. Толстым Алексея Константиновича избрали членом-корреспондентом Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности. Но невралгические боли усиливались, Толстой пытался спастись от них в тишине Красного Рога, затем, в конце сентября 1874 года отправился в новое заграничное путешествие.
Увы, перемена мест помогла ненадолго – весной следующего года Толстой почувствовал себя хуже. Он начал принимать морфин, препарат, который в те времена становился всё популярнее, а о его наркотических свойствах мало кто задумывался. Но ни морфин, ни поездка в Карлсбад в начале лета уже не помогли. Более того, в августе болезнь обострилась, и 28 сентября (10 октября) 1875 года Алексей Константинович после чрезмерной инъекции морфина скончался в Красном Роге. Мы с горечью должны признать, что этот могучий человек, ещё далёкий от возраста старости и телесной дряхлости, пал жертвой наркотической зависимости. Всего за несколько месяцев убийца-наркотик покончил с ним.
Толстой завещал похоронить себя в дубовом долбленом гробу, но, когда его доставили из Брянска, он оказался слишком коротким. Гроб был сожжён, а поэта похоронили в гробу сосновом – в фамильном склепе близ Успенской церкви в Красном Роге. Могила сохранилась, сейчас в селе (ныне Почепского района Брянской области) существует литературно-мемориальный музей имени А.К. Толстого.
По свидетельству Лескова, Толстой, страдая от болей, воскликнул незадолго до рокового часа: «О, как тяжело разлагаться на стихийные начала»[3]. Но и в этих словах он, великий жизнелюбец, остался самим собой – художником, всегда соизмерявшим бренное с вечным.
Много лет спустя князь Дмитрий Шаховской, ставший в изгнании иеромонахом Иоанном, настоятелем Свято-Владимирской церкви в Берлине (впоследствии архиепископ Сан-Францисский), писал в своей книге «Пророческий дух в русской поэзии. Лирика А.К. Толстого» (1938):
«Иоанн Дамаскин оттого так удался Толстому, что в сущности Толстой писал о себе. Так совпали в вышнем плане дары и дороги двух поэтов…
Там – апофеоз любви ко Христу, в слове выражаемый.
Здесь – этот же апофеоз, но выраженный еще и в поэме – об апофеозе этой любви.
«Тропарь» Иоанна – лучшее поэтическое переложение погребальных песнопений Православной Церкви. Здесь гениально передана «духовная перекличка» молящихся, живущих на земле людей, с отшедшей душою, которая из того мира открывает реальность своей плотской смерти, а живущие на земле, отвлекшиеся своими песнопениями от суеты призрачной жизни, умоляют Господа об ушедшем человеке…
«Лишь именем Христа» хочет говорить поэт. «Именем Христа» – это значит Его правдой, в Его любви…
Пушкин написал о Пророке, глагол которого остался неизвестен…
Алексей Толстой явил этого Пророка в его глаголе. Явил то, что пророк этот призван был сказать русскому народу»[4].
В этих словах выдающегося религиозного мыслителя и незаурядного поэта очевидно указано направление, которое приведёт нас к пониманию особого единства в многообразном творчестве Алексея Константиновича Толстого, поможет раскрыть его главную и единственно важную для всех тайну – тайну неиссякаемой жизненности и красоты его творений.
Сергей Дмитренко
Стихотворения
* * *
Как филин поймал летучую мышь, Когтями сжал ее кости, Как рыцарь Амвросий с толпой удальцов К соседу сбирается в гости. Хоть много цепей и замков у ворот, Ворота хозяйка гостям отопрет. «Что ж, Марфа, веди нас, где спит твой старик? Зачем ты так побледнела? Под замком кипит и клубится Дунай, Ночь скроет кровавое дело. Не бойся, из гроба мертвец не встает, Что будет, то будет, – веди нас вперед!» Под замком бежит и клубится Дунай, Бегут облака полосою; Уж кончено дело, зарезан старик, Амвросий пирует с толпою. В кровавые воды глядится луна, С Амвросьем пирует злодейка жена. Под замком бежит и клубится Дунай, Над замком пламя пожара. Амвросий своим удальцам говорит: «Всех резать – от мала до стара! Не сетуй, хозяйка, и будь веселей, Сама ж ты впустила веселых гостей!» Сверкая, клубясь, отражает Дунай Весь замок, пожаром объятый; Амвросий своим удальцам говорит: «Пора уж домой нам, ребята! Не сетуй, хозяйка, и будь веселей, Сама ж ты впустила веселых гостей!» Над Марфой проклятие мужа гремит, Он проклял ее, умирая: «Чтоб сгинула ты и чтоб сгинул твой род, Сто раз я тебя проклинаю! Пусть вечно иссякнет меж вами любовь, Пусть бабушка внучкину высосет кровь! И род твой проклятье мое да гнетет, И места ему да не станет Дотоль, пока замуж портрет не пойдет, Невеста из гроба не встанет И, череп разбивши, не ляжет в крови Последняя жертва преступной любви!» Как филин поймал летучую мышь, Когтями сжал ее кости, Как рыцарь Амвросий с толпой удальцов К соседу нахлынули в гости. Не сетуй, хозяйка, и будь веселей, Сама ж ты впустила веселых гостей!* * *
Бор сосновый в стране одинокой стоит; В нем ручей меж деревьев бежит и журчит. Я люблю тот ручей, я люблю ту страну, Я люблю в том лесу вспоминать старину. «Приходи вечерком в бор дремучий тайком, На зеленом садись берегу ты моем! Много лет я бегу, рассказать я могу, Что случилось когда на моем берегу. Из сокрытой страны я сюда прибежал, Я чудесного много дорогой узнал! Когда солнце зайдет, когда месяц взойдет И звезда средь моих закачается вод, Приходи ты тайком, ты узнаешь о том, Что бывает порой здесь в тумане ночном!» Так шептал, и журчал, и бежал ручеек; На ружье опершись, я стоял одинок, И лишь говор струи тишину прерывал, И о прежних я грустно годах вспоминал.* * *
Колокольчики мои, Цветики степные! Что глядите на меня, Темно-голубые? И о чем звените вы В день веселый мая, Средь некошеной травы Головой качая? Конь несет меня стрелой На поле открытом; Он вас топчет под собой, Бьет своим копытом. Колокольчики мои, Цветики степные! Не кляните вы меня, Темно-голубые! Я бы рад вас не топтать, Рад промчаться мимо, Но уздой не удержать Бег неукротимый! Я лечу, лечу стрелой, Только пыль взметаю; Конь несет меня лихой, — А куда? не знаю! Он ученым ездоком Не воспитан в холе, Он с буранами знаком, Вырос в чистом поле; И не блещет как огонь Твой чепрак узорный, Конь мой, конь, славянский конь, Дикий, непокорный! Есть нам, конь, с тобой простор! Мир забывши тесный, Мы летим во весь опор К цели неизвестной. Чем окончится наш бег? Радостью ль? кручиной? Знать не может человек — Знает бог единый! Упаду ль на солончак Умирать от зною? Или злой киргиз-кайсак, С бритой головою, Молча свой натянет лук, Лежа под травою, И меня догонит вдруг Медною стрелою? Иль влетим мы в светлый град Со кремлем престольным? Чудно улицы гудят Гулом колокольным, И на площади народ, В шумном ожиданье, Видит: с запада идет Светлое посланье. В кунтушах и в чекменях, С чубами, с усами, Гости едут на конях, Машут булавами, Подбочась, за строем строй Чинно выступает, Рукава их за спиной Ветер раздувает. И хозяин на крыльцо Вышел величавый; Его светлое лицо Блещет новой славой; Всех его исполнил вид И любви и страха, На челе его горит Шапка Мономаха. «Хлеб да соль! И в добрый час! — Говорит державный, — Долго, дети, ждал я вас В город православный!» И они ему в ответ: «Наша кровь едина, И в тебе мы с давних лет Чаем господина!» Громче звон колоколов, Гусли раздаются, Гости сели вкруг столов, Мед и брага льются, Шум летит на дальний юг К турке и к венгерцу — И ковшей славянских звук Немцам не по сердцу! Гой вы, цветики мои, Цветики степные! Что глядите на меня, Темно-голубые? И о чем грустите вы В день веселый мая, Средь некошеной травы Головой качая?1840-е годы
* * *
Ты знаешь край, где все обильем дышит, Где реки льются чище серебра, Где ветерок степной ковыль колышет, В вишневых рощах тонут хутора, Среди садов деревья гнутся долу И до земли висит их плод тяжелый? Шумя, тростник над озером трепещет, И чист, и тих, и ясен свод небес, Косарь поет, коса звенит и блещет, Вдоль берега стоит кудрявый лес, И к облакам, клубяся над водою, Бежит дымок синеющей струею? Туда, туда всем сердцем я стремлюся, Туда, где сердцу было так легко, Где из цветов венок плетет Маруся, О старине поет слепой Грицко, И парубки, кружась на пожне гладкой, Взрывают пыль веселою присядкой! Ты знаешь край, где нивы золотые Испещрены лазурью васильков, Среди степей курган времен Батыя, Вдали стада пасущихся волов, Обозов скрып, ковры цветущей гречи И вы, чубы – остатки славной Сечи? Ты знаешь край, где утром в воскресенье, Когда росой подсолнечник блестит, Так звонко льется жаворонка пенье, Стада блеят, а колокол гудит, И в божий храм, увенчаны цветами, Идут казачки пестрыми толпами? Ты помнишь ночь над спящею Украйной, Когда седой вставал с болота пар, Одет был мир и сумраком и тайной, Блистал над степью искрами стожар, И мнилось нам: через туман прозрачный Несутся вновь Палей и Сагайдачный? Ты знаешь край, где с Русью бились ляхи, Где столько тел лежало средь полей? Ты знаешь край, где некогда у плахи Мазепу клял упрямый Кочубей И много где пролито крови славной В честь древних прав и веры православной? Ты знаешь край, где Сейм печально воды Меж берегов осиротелых льет, Над ним дворца разрушенные своды, Густой травой давно заросший вход, Над дверью щит с гетманской булавою?.. Туда, туда стремлюся я душою!1840-е годы
Цыганские песни
Из Индии дальной На Русь прилетев, Со степью печальной Их свыкся напев, Свободные звуки, Журча, потекли, И дышат разлукой От лучшей земли. Не знаю, оттуда ль Их нега звучит, Но русская удаль В них бьет и кипит; В них голос природы, В них гнева язык, В них детские годы, В них радости крик; Желаний в них знойный Я вихрь узнаю, И отдых спокойный В счастливом краю, Бенгальские розы, Свет южных лучей, Степные обозы, Полет журавлей, И грозный шум сечи, И шепот струи, И тихие речи, Маруся, твои!1840-е годы
* * *
Ты помнишь ли, Мария, Один старинный дом И липы вековые Над дремлющим прудом? Безмолвные аллеи, Заглохший, старый сад, В высокой галерее Портретов длинный ряд? Ты помнишь ли, Мария, Вечерний небосклон, Равнины полевые, Села далекий звон? За садом берег чистый, Спокойный бег реки, На ниве золотистой Степные васильки? И рощу, где впервые Бродили мы одни? Ты помнишь ли, Мария, Утраченные дни?1840-е годы
Благовест
Среди дубравы Блестит крестами Храм пятиглавый С колоколами. Их звон призывный Через могилы Гудит так дивно И так уныло! К себе он тянет Неодолимо, Зовет и манит Он в край родимый, В край благодатный, Забытый мною, — И, непонятной Томим тоскою, Молюсь и каюсь я, И плачу снова, И отрекаюсь я От дела злого; Далеко странствуя Мечтой чудесною, Через пространства я Лечу небесные, И сердце радостно Дрожит и тает, Пока звон благостный Не замирает...1840-е годы
* * *
Шумит на дворе непогода, А в доме давно уже спят; К окошку, вздохнув, подхожу я — Чуть виден чернеющий сад; На небе так темно, так темно, И звездочки нет ни одной; А в доме старинном так грустно Среди непогоды ночной! Дождь бьет, барабаня, по крыше, Хрустальные люстры дрожат; За шкапом проворные мыши В бумажных обоях шумят; Они себе чуют раздолье: Как скоро хозяин умрет, Наследник покинет поместье, Где жил его доблестный род — И дом навсегда запустеет, Заглохнут ступени травой... И думать об этом так грустно Среди непогоды ночной!..1840-е годы
* * *
Дождя отшумевшего капли Тихонько по листьям текли, Тихонько шептались деревья, Кукушка кричала вдали. Луна на меня из-за тучи Смотрела, как будто в слезах; Сидел я под кленом и думал, И думал о прежних годах. Не знаю, была ли в те годы Душа непорочна моя? Но многому б я не поверил, Не сделал бы многого я. Теперь же мне стали понятны Обман, и коварство, и зло, И многие светлые мысли Одну за другой унесло. Так думал о днях я минувших, О днях, когда был я добрей; А в листьях высокого клена Сидел надо мной соловей, И пел он так нежно и страстно, Как будто хотел он сказать: «Утешься, не сетуй напрасно — То время вернется опять!»1840-е годы
* * *
Ой стоги́, стоги́. На лугу широком! Вас не перечесть, Не окинуть оком! Ой стоги́, стоги́, В зеленом болоте, Стоя на часах, Что вы стережете? «Добрый человек, Были мы цветами, — Покосили нас Острыми косами! Раскидали нас Посредине луга, Раскидали врозь, Дале друг от друга! От лихих гостей Нет нам обороны, На главах у нас Черные вороны! На главах у нас, Затмевая звезды, Галок стая вьет Поганые гнезда! Ой орел, орел, Наш отец далекий, Опустися к нам, Грозный, светлоокий! Ой орел, орел, Внемли нашим стонам, Доле нас срамить Не давай воронам! Накажи скорей Их высокомерье, С неба в них ударь, Чтоб летели перья. Чтоб летели врозь, Чтоб в степи широкой Ветер их разнес Далеко, далёко!»1840-е годы
* * *
По гребле[5] неровной и тряской, Вдоль мокрых рыбачьих сетей, Дорожная едет коляска, Сижу я задумчиво в ней, — Сижу и смотрю я дорогой На серый и пасмурный день, На озера берег отлогий, На дальний дымок деревень. По гребле, со взглядом угрюмым, Проходит оборванный жид, Из озера с пеной и шумом Вода через греблю бежит. Там мальчик играет на дудке, Забравшись в зеленый тростник; В испуге взлетевшие утки Над озером подняли крик. Близ мельницы старой и шаткой Сидят на траве мужики; Телега с разбитой лошадкой Лениво подвозит мешки... Мне кажется все так знакомо, Хоть не был я здесь никогда: И крыша далекого дома, И мальчик, и лес, и вода, И мельницы говор унылый, И ветхое в поле гумно... Все это когда-то уж было, Но мною забыто давно. Так точно ступала лошадка, Такие ж тащила мешки, Такие ж у мельницы шаткой Сидели в траве мужики, И так же шел жид бородатый, И так же шумела вода... Все это уж было когда-то, Но только не помню когда!1840-е годы
* * *
Где гнутся над омутом лозы, Где летнее солнце печет, Летают и пляшут стрекозы, Веселый ведут хоровод. «Дитя, подойди к нам поближе, Тебя мы научим летать, Дитя, подойди, подойди же, Пока не проснулася мать! Под нами трепещут былинки, Нам так хорошо и тепло, У нас бирюзовые спинки, А крылышки точно стекло! Мы песенок знаем так много, Мы так тебя любим давно — Смотри, какой берег отлогий, Какое песчаное дно!» Дитя побежало проворно На голос манящих стрекоз, Там ил был глубокий и чёрный И тиною омут порос. Стрекозы на пир поскорее Приятелей чёрных зовут, Из нор своих жадные раки С клешнями к добыче ползут, Впилися в ребёнка и тащат, И тащат на самое дно, Болото под ним расступилось И вновь затянулось оно. И вновь, где нагнулися лозы От солнца палящих лучей, Летают и пляшут стрекозы, Зовут неразумных детей.1840-е годы
* * *
Милый друг, тебе не спится, Душен комнат жар, Неотвязчивый кружится Над тобой комар. Подойди сюда, к окошку, Все кругом молчит, За оградою дорожку Месяц серебрит. Я пройду близ дикой вишни, Около плетня, У разрушенной кирпични Ты найдёшь меня! Встань, приют тебя со мною Там спокойный ждет; Сторож там, звеня доскою, Мимо не пройдет. Не скрыпят в сенях ступени, И в саду темно, Чуть заметно в полутени Дальнее гумно. Дергачи кричат по нивам, Перепел во ржи, Час настал нам быть счастливым, Друг, не откажи!1840-е годы
Пустой дом
Стоит опустелый над сонным прудом, Где ивы поникли главой, На славу Растреллием строенный дом, И герб на щите вековой. Окрестность молчит среди мертвого сна, На окнах разбитых играет луна. Сокрытый кустами, в забытом саду Тот дом одиноко стоит; Печально глядится в зацветшем пруду С короною дедовский щит... Никто поклониться ему не придет, — Забыли потомки свой доблестный род! В блестящей столице иные из них С ничтожной смешались толпой; Поветрие моды умчало других Из родины в мир им чужой. Там русский от русского края отвык, Забыл свою веру, забыл свой язык! Крестьян его бедных наемник гнетет, Он властвует ими один; Его не пугают роптанья сирот... Услышит ли их господин? А если услышит – рукою махнет... Забыли потомки свой доблестный род! Лишь старый служитель, тоской удручен, Младого владетеля ждет, И ловит вдали колокольчика звон, И ночью с одра привстает... Напрасно! все тихо средь мертвого сна, Сквозь окна разбитые смотрит луна, Сквозь окна разбитые мирно глядит На древние стены палат; Там в рамах узорчатых чинно висит Напудренных прадедов ряд. Их пыль покрывает, и червь их грызет. Забыли потомки свой доблестный род!1849
Поэт
В жизни светской, в жизни душной Песнопевца не узнать! В нём личиной равнодушной Скрыта Божия печать. В нём таится гордый гений, Душу в нём скрывает прах, Дремлет буря вдохновений В отдыхающих струнах. Жизни ток его спокоен, Как река среди равнин, Меж людей он добрый воин Или мирный гражданин. Но порой мечтою странной Он томится, одинок; В час великий, в час нежданный Пробуждается пророк. Свет чела его коснётся, Дрожь по жилам пробежит, Сердце чутко встрепенётся — И исчезнет прежний вид. Ангел, богом вдохновенный, С ним беседовать слетел, Он умчался дерзновенно За вещественный предел... Уже, вихрями несомый, Позабыл он здешний мир, В облаках под голос грома Он настроил свой псалтырь, Мир далекий, мир незримый Зрит его орлиный взгляд, И от крыльев херувима Струны мощные звучат!1850
* * *
Пусто в покое моем. Один я сижу у камина, Свечи давно погасил, но не могу я заснуть. Бледные тени дрожат на стене, на ковре, на картинах, Книги лежат на полу, письма я вижу кругом. Книги и письма! Давно ль вас касалася ручка младая? Серые очи давно ль вас пробегали, шутя? Медленно катится ночь надо мной тяжелою тканью, Грустно сидеть одному. Пусто в покое моем! Думаю я про себя, на цветок взирая увядший: «Утро настанет, и грусть с темною ночью пройдет!» Ночь прокатилась, и весело солнце на окнах играет, Утро настало, но грусть с тенью ночной не прошла!15 января 1851 г.
* * *
Средь шумного бала, случайно, В тревоге мирской суеты, Тебя я увидел, но тайна Твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, А голос так дивно звучал, Как звон отдаленной свирели, Как моря играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий И весь твой задумчивый вид, А смех твой, и грустный и звонкий, С тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи Люблю я, усталый, прилечь — Я вижу печальные очи, Я слышу веселую речь; И грустно я так засыпаю, И в грезах неведомых сплю... Люблю ли тебя – я не знаю, Но кажется мне, что люблю!1851
* * *
С ружьем за плечами, один, при луне, Я по полю еду на добром коне. Я бросил поводья, я мыслю о ней, Ступай же, мой конь, по траве веселей! Я мыслю так тихо, так сладко, но вот Неведомый спутник ко мне пристает, Одет он, как я, на таком же коне, Ружье за плечами блестит при луне. «Ты, спутник, скажи мне, скажи мне, кто ты? Твои мне как будто знакомы черты. Скажи, что тебя в этот час привело? Чему ты смеешься так горько и зло?» «Смеюсь я, товарищ, мечтаньям твоим, Смеюсь, что ты будущность губишь; Ты мыслишь, что вправду ты ею любим? Что вправду ты сам ее любишь? Смешно мне, смешно, что, так пылко любя, Ее ты не любишь, а любишь себя. Опомнись, порывы твои уж не те! Она для тебя уж не тайна, Случайно сошлись вы в мирской суете, Вы с ней разойдетесь случайно. Смеюся я горько, смеюся я зло Тому, что вздыхаешь ты так тяжело». Все тихо, объято молчаньем и сном, Исчез мой товарищ в тумане ночном, В тяжелом раздумье, один, при луне, Я по полю еду на добром коне...1851
* * *
Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость! Жизнью твоею я жил и слезами твоими я плакал; Мысленно вместе с тобой прострадал я минувшие годы, Все перечувствовал вместе с тобой, и печаль и надежды, Многое больно мне было, во многом тебя упрекнул я; Но позабыть не хочу ни ошибок твоих, ни страданий; Дороги мне твои слезы и дорого каждое слово! Бедное вижу в тебе я дитя, без отца, без опоры; Рано познала ты горе, обман и людское злословье, Рано под тяжестью бед твои преломилися силы! Бедное ты деревцо, поникшее долу головкой! Ты прислонися ко мне, деревцо, к зеленому вязу: Ты прислонися ко мне, я стою надежно и прочно!21 октября 1851 г.
* * *
Ты не спрашивай, не распытывай, Умом-разумом не раскидывай: Как люблю тебя, почему люблю, И за что люблю, и надолго ли? Ты не спрашивай, не распытывай: Что сестра ль ты мне, молода ль жена Или детище ты мне малое? И не знаю я, и не ведаю, Как назвать тебя, как прикликати. Много цветиков во чисто́м поле, Много звезд горит по поднебесью, А назвать-то их нет умения, Распознать-то их нету силушки. Полюбив тебя, я не спрашивал, Не разгадывал, не распытывал; Полюбив тебя, я махнул рукой, Очертил свою буйну голову!30 октября 1851 г.
* * *
Мне в душу, полную ничтожной суеты, Как бурный вихорь, страсть ворвалася нежданно, С налета смяла в ней нарядные цветы И разметала сад, тщеславием убранный. Условий мелкий сор крутящимся столбом Из мысли унесла живительная сила И током теплых слез, как благостным дождем, Опустошенную мне душу оросила. И над обломками безмолвен я стою, И, трепетом еще неведомым объятый, Воскреснувшего дня пью свежую струю И грома дальнего внимаю перекаты...1851 или 1852
* * *
Не ветер, вея с высоты, Листов коснулся ночью лунной; Моей души коснулась ты — Она тревожна, как листы, Она, как гусли, многострунна. Житейский вихрь ее терзал И сокрушительным набегом, Свистя и воя, струны рвал И заносил холодным снегом. Твоя же речь ласкает слух, Твое легко прикосновенье, Как от цветов летящий пух, Как майской ночи дуновенье...1851 или 1852
* * *
Меня, во мраке и в пыли Досель влачившего оковы, Любови крылья вознесли В отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, И стал мне виден мир незримый, И слышит ухо с этих пор, Что для других неуловимо. И с горней выси я сошел, Проникнут весь ее лучами, И на волнующийся дол Взираю новыми очами. И слышу я, как разговор Везде немолчный раздается, Как сердце каменное гор С любовью в темных недрах бьется, С любовью в тверди голубой Клубятся медленные тучи, И под древесною корой, Весною свежей и пахучей, С любовью в листья сок живой Струей подъемлется певучей. И вещим сердцем понял я, Что все рожденное от Слова, Лучи любви кругом лия, К нему вернуться жаждет снова; И жизни каждая струя, Любви покорная закону, Стремится силой бытия Неудержимо к божью лону; И всюду звук, и всюду свет, И всем мирам одно начало, И ничего в природе нет, Что бы любовью не дышало.1851 или 1852
* * *
Коль любить, так без рассудку, Коль грозить, так не на шутку, Коль ругнуть, так сгоряча, Коль рубнуть, так уж сплеча! Коли спорить, так уж смело, Коль карать, так уж за дело, Коль простить, так всей душой, Коли пир, так пир горой!Колодники
Спускается солнце за степи, Вдали золотится ковыль, — Колодников звонкие цепи Взметают дорожную пыль. Идут они с бритыми лбами, Шагают вперед тяжело, Угрюмые сдвинули брови, На сердце раздумье легло. Идут с ними длинные тени, Две клячи телегу везут, Лениво сгибая колени, Конвойные с ними идут. «Что, братцы, затянемте песню, Забудем лихую беду! Уж, видно, такая невзгода Написана нам на роду!» И вот повели, затянули, Поют, заливаясь, они Про Волги широкой раздолье, Про даром минувшие дни, Поют про свободные степи, Про дикую волю поют, День меркнет все боле, – а цепи Дорогу метут да метут...Первая половина 1850-х годов
Стрелковые песни
1
Слава на небе солнцу высокому! Слава! На земле государю великому Слава! Слава на небе светлым звездам, Слава! На земле государевым стрелкам Слава! Чтобы рука их была всегда тверда, Слава! Око быстрее, светлей соколиного, Слава! Чтобы привел бог за матушку-Русь постоять, Слава! Наших врагов за рубеж провожать, Слава! Чтобы нам дума была лишь о родине, Слава! Ину ж печаль мы закинем за синюю даль, Слава! Чтобы не было, опричь Руси, царства сильней, Слава! Нашего ласкова государя добрей, Слава! Чтобы не было русского слова крепчей, Слава! Чтобы не было русской славы громчей, Слава! Чтобы не было русской песни звучней, Слава! Да чтоб не было царских стрелков удалей, Слава!2
Уж как молодцы пируют Вкруг дубового стола; Их кафтаны нараспашку, Их беседа весела. По столу-то ходят чарки, Золоченые звенят. Что же чарки говорят? Вот что чарки говорят: Нет! Нет! Не бывать, Не бывать тому, Чтобы мог француз Нашу Русь завоевать! Нет!1855
* * *
Уж ты мать-тоска, горе-гореваньице! Ты скажи, скажи, ты поведай мне: На добычу-то как выходишь ты? Как сживаешь люд божий со свету? Ты змеей ли ползешь подколодною? Ты ли бьешь с неба бурым коршуном? Серым волком ли рыщешь по полю? Аль ты, горе, богатырь могуч, Выезжаешь со многой силою, Выезжаешь со гридни и отроки? Уж вскочу в седло, захвачу тугой лук, Уж доеду тебя, горе горючее, Подстрелю тебя, тоску лютую! «Полно, полно, добрый молодец, Бранью на ветер кидатися, Неразумны слова выговаривать! Я не волком бегу, не змеей ползу, Я не коршуном бью из поднебесья, Не с дружиною выезжаю я! Выступаю-то я красной девицей, Подхожу-то я молодицею, Подношу чару, в пояс кланяюсь; И ты сам слезешь с коня долой, Красной девице отдашь поклон, Выпьешь чару, отуманишься, Отуманишься, сердцем всплачешься, Ноги скорые-то подкосятся, И тугой лук из рук выпадет!..»* * *
Вот уж снег последний в поле тает, Теплый пар восходит от земли, И кувшинчик синий расцветает, И зовут друг друга журавли. Юный лес, в зеленый дым одетый, Теплых гроз нетерпеливо ждет; Всё весны дыханием согрето, Всё кругом и любит и поет; Утром небо ясно и прозрачно, Ночью звезды светят так светло; Отчего ж в душе твоей так мрачно И зачем на сердце тяжело? Грустно жить тебе, о друг, я знаю, И понятна мне твоя печаль: Отлетела б ты к родному краю И земной весны тебе не жаль... О, пожди, пожди, ещё немного, Дай и мне уйти туда с тобой, Легче нам покажется дорога, Пролетим её рука с рукой!* * *
Уж ты нива моя, нивушка, Не скосить тебя с маху единого, Не связать тебя всю во единый сноп! Уж вы думы мои, думушки, Не стряхнуть вас разом с плеч долой, Одной речью-то вас не высказать! По тебе ль, нива, ветер разгуливал, Гнул колосья твои до земли, Зрелые зерна все разметывал! Широко вы, думы, порассыпались... Куда пала какая думушка, Там всходила люта печаль-трава, Вырастало горе горючее!* * *
Край ты мой, родимый край. Конский бег на воле, В небе крик орлиных стай, Волчий голос в поле! Гой ты, родина моя! Гой ты, бор дремучий! Свист полночный соловья, Ветер, степь да тучи!* * *
Грядой клубится белою Над озером туман; Тоскою добрый молодец И горем обуян. Не до́веку белеется Туманная гряда, Рассеется, развеется, А горе никогда!* * *
Колышется море; волна за волной Бегут и шумят торопливо... О друг ты мой бедный, боюся, со мной Не быть тебе долго счастливой: Во мне и надежд и отчаяний рой, Кочующей мысли прибой и отбой, Приливы любви и отливы!* * *
О, не пытайся дух унять тревожный, Твою тоску я знаю с давних пор, Твоей душе покорность невозможна, Она болит и рвется на простор. Но все ее невидимые муки, Нестройный гул сомнений и забот, Все меж собой враждующие звуки Последний час в созвучие сольет, В один порыв смешает в сердце гордом Все чувства, врозь которые звучат, И разрешит торжественным аккордом Их голосов мучительный разлад.* * *
Смеркалось, жаркий день бледнел неуловимо, Над озером туман тянулся полосой, И кроткий образ твой, знакомый и любимый, В вечерний тихий час носился предо мной. Улыбка та ж была, которую люблю я, И мягкая коса, как прежде, расплелась, И очи грустные, по-прежнему тоскуя, Глядели на меня в вечерний тихий час.* * *
Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала! Кабы можно, братцы, начать жить сначала! Ой, кабы зимою цветы расцветали! Кабы мы любили да не разлюбляли! Кабы дно морское достать да измерить! Кабы можно, братцы, красным девкам верить! Ой, кабы все бабы были б молодицы! Кабы в полугаре[6] поменьше водицы! Кабы всегда чарка доходила до рту! Да кабы приказных[7] по боку, да к черту! Да кабы звенели завсегда карманы! Да кабы нам, братцы, да свои кафтаны! Да кабы голодный всякий день обедал! Да батюшка б царь наш всю правду бы ведал!Крымские очерки
1
Над неприступной крутизною Повис туманный небосклон; Там гор зубчатою стеною От юга север отделен. Там ночь и снег; там, враг веселья, Седой зимы сердитый бог Играет вьюгой и метелью, Ярясь, уста примкнул к ущелью И воет в их гранитный рог. Но здесь благоухают розы, Бессильно вихрем снеговым Сюда он шлет свои угрозы, Цветущий берег невредим. Над ним весна младая веет, И лавр, Дианою храним, В лучах полудня зеленеет Над морем вечно голубым.2
Клонит к лени полдень жгучий, Замер в листьях каждый звук, В розе пышной и пахучей, Нежась, спит блестящий жук; А из камней вытекая, Однозвучен и гремуч, Говорит, не умолкая, И поет нагорный ключ.3
Всесильной волею аллаха, Дающего нам зной и снег, Мы возвратились с Чатырдаха Благополучно на ночлег. Все налицо, все без увечья: Что значит ловкость человечья! А признаюсь, когда мы там Ползли, как мухи, по скалам, То мне немного было жутко: Сорваться вниз плохая шутка! Гуссейн, послушай, помоги Стащить мне эти сапоги, Они потрескались от жара; Да что ж не видно самовара? Сходи за ним; а ты, Али, Костер скорее запали. Постелим скатерти у моря. Достанем ром, заварим чай, И все возляжем на просторе Смотреть, как пламя, с ночью споря. Померкнет, вспыхнет невзначай И озарит до половины Дубов зеленые вершины, Песчаный берег, водопад, Крутых утесов грозный ряд, От пены белый и ревущий Из мрака выбежавший вал И перепутанного плюща Концы, висящие со скал.4
Ты помнишь ли вечер, как море шумело, В шиповнике пел соловей, Душистые ветки акации белой Качались на шляпе твоей? Меж камней, обросших густым виноградом, Дорога была так узка; В молчанье над морем мы ехали рядом, С рукою сходилась рука. Ты так на седле нагибалась красиво, Ты алый шиповник рвала, Буланой лошадки косматую гриву С любовью ты им убрала; Одежды твоей непослушные складки Цеплялись за ветви, а ты Беспечно смеялась – цветы на лошадке, В руках и на шляпе цветы! Ты помнишь ли рев дождевого потока И пену и брызги кругом; И как наше горе казалось далёко, И как мы забыли о нем!5
Вы всё любуетесь на скалы, Одна природа вас манит, И возмущает вас немало Мой деревенский аппетит. Но взгляд мой здесь иного рода, Во мне лицеприятья нет; Ужели вишни не природа И тот, кто ест их, не поэт? Нет, нет, названия вандала От вас никак я не приму: И Ифигения едала, Когда она была в Крыму!6
Туман встает на дне стремнин, Среди полуночной прохлады Сильнее пахнет дикий тмин, Гремят слышнее водопады. Как ослепительна луна! Как гор очерчены вершины! В сребристом сумраке видна Внизу Байдарская долина. Над нами светят небеса, Чернеет бездна перед нами, Дрожит блестящая роса На листьях крупными слезами... Душе легко. Не слышу я Оков земного бытия, Нет места страху, ни надежде, — Что будет впредь, что было прежде — Мне все равно – и что меня Всегда как цепь к земле тянуло, Исчезло все с тревогой дня, Все в лунном блеске потонуло... Куда же мысль унесена? Что ей так видится дремливо? Не средь волшебного ли сна Мы едем вместе вдоль обрыва? Ты ль это, робости полна, Ко мне склонилась молчаливо? Ужель я вижу не во сне, Как звезды блещут в вышине, Как конь ступает осторожно, Как дышит грудь твоя тревожно? Иль при обманчивой луне Меня лишь дразнит призрак ложный И это сон? О, если б мне Проснуться было невозможно!7
Как чудесно хороши вы, Южной ночи красоты: Моря синего заливы, Лавры, скалы и цветы! Но мешают мне немножко Жизнью жить средь этих стран: Скорпион, сороконожка И фигуры англичан.8
Обычной полная печали, Ты входишь в этот бедный дом, Который ядра осыпали Недавно пламенным дождем; Но юный плющ, виясь вкруг зданья, Покрыл следы вражды и зла — Ужель еще твои страданья Моя любовь не обвила?9
Приветствую тебя, опустошенный дом, Завядшие дубы, лежащие кругом, И море синее, и вас, крутые скалы, И пышный прежде сад – глухой и одичалый! Усталым путникам в палящий летний день Еще даешь ты, дом, свежительную тень, Еще стоят твои поруганные стены, Но сколько горестной я вижу перемены! Едва лишь я вступил под твой знакомый кров, Бросаются в глаза мне надписи врагов, Рисунки грубые и шутки площадные, Где с наглым торжеством поносится Россия; Всё те же громкие, хвастливые слова Нечестное врагов оправдывают дело. Вздохнув, иду вперед; мохнатая сова Бесшумно с зеркала разбитого слетела; Вот в угол бросилась испуганная мышь... Везде обломки, прах; куда ни поглядишь, Везде насилие, насмешки и угрозы; А из саду в окно вползающие розы, За мраморный карниз цепляясь там и тут, Беспечно в красоте раскидистой цветут, Как будто на дела враждебного народа Набросить свой покров старается природа; Вот ящерица здесь меж зелени и плит, Блестя как изумруд, извилисто скользит, И любо ей играть в молчании могильном, Где на пол солнца луч столбом ударил пыльным... Но вот уж сумерки; вот постепенно мгла На берег, на залив, на скалы налегла; Все больше в небе звезд, в аллеях все темнее, Душистее цветы, и запах трав сильнее; На сломанном крыльце сижу я, полон дум; Как тихо все кругом, как слышен моря шум...10
Тяжел наш путь, твой бедный мул Устал топтать терновник злобный; Взгляни наверх: то не аул, Гнезду орлиному подобный; То целый город; смолкнул гул Народных празднеств и торговли, И ветер тления подул На богом проклятые кровли. Во дни глубокой старины (Гласят народные скрижали), Во дни неволи и печали. Сюда Израиля сыны От ига чуждого бежали, И град возник на высях гор. Забыв отцов своих позор И горький плен Ерусалима, Здесь мирно жили караимы; Но ждал их давний приговор, И пала тяжесть божья гнева На ветвь караемого древа. И город вымер. Здесь и там Остатки башен по стенам, Кривые улицы, кладбища, Пещеры, рытые в скалах, Давно безлюдные жилища, Обломки, камни, пыль и прах, Где взор отрады не находит; Две-три семьи как тени бродят Средь голых стен; но дороги Для них родные очаги, И храм отцов, от моха черный, Над коим плавные круги, Паря, чертит орел нагорный...11
Где светлый ключ, спускаясь вниз, По серым камням точит слезы, Ползут на черный кипарис Гроздами пурпурные розы. Сюда когда-то, в жгучий зной, Под темнолиственные лавры, Бежали львы на водопой И буро-пегие кентавры; С козлом бодался здесь сатир; Вакханки с криками и смехом Свершали виноградный пир, И хор тимпанов, флейт и лир Сливался шумно с дальним эхом. На той скале Дианы храм Хранила девственная жрица, А здесь над морем по ночам Плыла богини колесница... Но уж не та теперь пора; Где был заветный лес Дианы, Там слышны звуки топора, Грохочут вражьи барабаны; И все прошло; нигде следа Не видно Греции счастливой, Без тайны лес, без плясок нивы, Без песней пестрые стада Пасет татарин молчаливый...12
Солнце жжет; перед грозою Изменился моря вид: Засверкал меж бирюзою Изумруд и малахит. Здесь на камне буду ждать я, Как, вздымая корабли, Море бросится в объятья Изнывающей земли, И, покрытый пеной белой, Утомясь, влюбленный бог Снова ляжет, онемелый, У твоих, Таврида, ног.13
Смотри, все ближе с двух сторон Нас обнимает лес дремучий; Глубоким мраком полон он, Как будто набежали тучи, Иль меж деревьев вековых Нас ночь безвременно застигла, Лишь солнце сыплет через них Местами огненные иглы. Зубчатый клен, и гладкий бук, И твердый граб, и дуб корнистый Вторят подков железный звук Средь гама птичьего и свиста; И ходит трепетная смесь Полутеней в прохладе мглистой, И чует грудь, как воздух весь Пропитан сыростью душистой. Вон там украдкой слабый луч Скользит по липе, мхом одетой, И дятла стук, и близко где-то Журчит в траве незримый ключ...14
Привал. Дымяся, огонек Трещит под таганом дорожным, Пасутся кони, и далек Весь мир с его волненьем ложным. Здесь долго б я с тобою мог Мечтать о счастии возможном! Но, очи грустно опустив И наклонясь над крутизною, Ты молча смотришь на залив, Окружена зеленой мглою... Скажи, о чем твоя печаль? Не той ли думой ты томима, Что счастье, как морская даль, Бежит от нас неуловимо? Нет, не догнать его уж нам, Но в жизни есть еще отрады; Не для тебя ли по скалам Бегут и брызжут водопады? Не для тебя ль в ночной тени Вчера цветы благоухали? Из синих волн не для тебя ли Восходят солнечные дни? А этот вечер? О, взгляни, Какое мирное сиянье! Не слышно в листьях трепетанья, Недвижно море: корабли, Как точки белые вдали, Едва скользят, в пространстве тая; Какая тишина святая Царит кругом! Нисходит к нам Как бы предчувствие чего-то; В ущельях ночь; в тумане там Дымится сизое болото, И все обрывы по краям Горят вечерней позолотой...Лето 1856 г.– 1858 г.
* * *
Как здесь хорошо и приятно, Как запах дерев я люблю! Орешника лист ароматный Тебе я в тени настелю. Я там, у подножья аула, Тебе шелковицы нарву, А лошадь и бурого мула Мы пустим в густую траву. Ты здесь у фонтана приляжешь, Пока не минуется зной, Ты мне улыбнешься и скажешь, Что ты не устала со мной.Лето 1856 г.
* * *
Растянулся на просторе И на сонных берегах, Окунувши морду в море, Косо смотрит Аюдаг[8]. Обогнуть его мне надо, Но холмов волнистый рой, Как разбросанное стадо, Все толпится предо мной. Добрый конь мой, долго шел ты, Терпеливо ношу нес; Видишь там лилово-желтый, Солнцем тронутый утес? Добрый конь мой, ободрися, Ускори ленивый бег, Там под сенью кипариса Ждет нас ужин и ночлег! Вот уж час, как в ожиданье Конь удваивает шаг, Но на прежнем расстоянье Косо смотрит Аюдаг. Тучи море затянули, Звезды блещут в небесах, Но не знаю, обогну ли Я до утра Аюдаг?Лето 1856 г.
* * *
Войдем сюда; здесь меж руин Живет знакомый мне раввин; Во дни прошедшие, бывало, Видал я часто старика; Для поздних лет он бодр немало, И перелистывать рука Старинных хартий не устала. Когда вдали ревут валы И дикий кот, мяуча, бродит, Талмуда враг и Каббалы, Всю ночь в молитве он проводит; Душистей нет его вина, Его улыбка добродушна, И, слышал я, его жена Тиха, прекрасна и послушна; Но недоверчив и ревнив Седой раввин, Он примет странников радушно. Но не покажет им супруг Своей чудесной половины Ни за янтарь, ни за жемчуг, Ни за звенящие цехины!Лето 1856 г.
* * *
Если б я был богом океана, Я б к ногам твоим принес, о друг, Все богатства царственного сана, Все мои кораллы и жемчуг! Из морского сделал бы тюльпана Я ладью тебе, моя краса; Мачты были б розами убраны, Из чудесной ткани паруса! Если б я был богом океана, Я б любил тебя, моя душа; Я б любил без бури, без обмана, Я б носил тебя, едва дыша! Но беда тому, кто захотел бы Разлучить меня с тобою, друг! Всклокотал бы я и закипел бы! Все валы свои погнал бы вдруг! В реве бури, в свисте урагана Враг узнал бы бога океана! Всюду, всюду б я его сыскал! Со степей сорвал бы я курганы! Доплеснул волной до синих скал, Чтоб добыть тебя, моя циана, Если б я был богом океана!Лето 1856 г.
* * *
Что за грустная обитель И какой знакомый вид! За стеной храпит смотритель, Сонно маятник стучит; Стукнет вправо, стукнет влево, Будит мыслей длинный ряд, В нем рассказы и напевы Затверженные звучат. А в подсвечнике пылает Догоревшая свеча; Где-то пес далеко лает, Ходит маятник, стуча; Стукнет влево, стукнет вправо, Все твердит о старине; Грустно так; не знаю, право, Наяву я иль во сне? Вот уж лошади готовы — Сел в кибитку и скачу, — Полно, так ли? Вижу снова Ту же сальную свечу, Ту же грустную обитель, И кругом знакомый вид, За стеной храпит смотритель, Сонно маятник стучит...Лето 1856 г.
* * *
Не верь мне, друг, когда, в избытке горя, Я говорю, что разлюбил тебя, В отлива час не верь измене моря, Оно к земле воротится, любя. Уж я тоскую, прежней страсти полный, Мою свободу вновь тебе отдам, И уж бегут с обратным шумом волны Издалека к любимым берегам!Лето 1856 г.
* * *
Острою секирой ранена береза, По коре сребристой покатились слезы; Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй! Рана не смертельна, вылечится к лету, Будешь красоваться, листьями убрана... Лишь больное сердце не залечит раны!Лето 1856 г.
* * *
Усни, печальный друг, уже с грядущей тьмой Вечерний алый свет сливается все боле; Блеящие стада вернулися домой, И улеглася пыль на опустелом поле. Да снидет ангел сна, прекрасен и крылат, И да перенесет тебя он в жизнь иную! Издавна был он мне в печали друг и брат, Усни, мое дитя, к нему я не ревную! На раны сердца он забвение прольет, Пытливую тоску от разума отымет И с горестной души на ней лежащий гнет До нового утра незримо приподымет. Томимая весь день душевною борьбой, От взоров и речей враждебных ты устала, Усни, мое дитя, меж ними и тобой Он благостной рукой опустит покрывало!Август 1856 г.
* * *
Да, братцы, это так, я не под пару вам, То я весь в солнце, то в тумане, Веселость у меня с печалью пополам, Как золото на черной ткани. Вам весело, друзья, пируйте ж в добрый час, Не враг я песням и потехам, Но дайте погрустить, и, может быть, я вас Еще опережу неудержимым смехом!Август 1856 года
* * *
Когда кругом безмолвен лес дремучий И вечер тих; Когда невольно просится певучий Из сердца стих; Когда упрек мне шепчет шелест нивы Иль шум дерев; Когда кипит во мне нетерпеливо Правдивый гнев; Когда вся жизнь моя покрыта тьмою Тяжелых туч; Когда вдали мелькнет передо мною Надежды луч; Средь суеты мирского развлеченья, Среди забот, Моя душа в надежде и в сомненье Тебя зовет; И трудно мне умом понять разлуку, Ты так близка, И хочет сжать твою родную руку Моя рука!Август или сентябрь 1856 г.
* * *
Сердце, сильней разгораясь от году до году, Брошено в светскую жизнь, как в студеную воду. В ней, как железо в раскале, оно закипело: Сделала, жизнь, ты со мною недоброе дело! Буду кипеть, негодуя, тоской и печалью, Все же не стану блестящей холодною сталью!Август или сентябрь 1856 г.
* * *
В стране лучей, незримой нашим взорам, Вокруг миров вращаются миры; Там сонмы душ возносят стройным хором Своих молитв немолчные дары; Блаженством там сияющие лики Отвращены от мира суеты, Не слышны им земной печали клики, Не видны им земные нищеты; Все, что они желали и любили, Все, что к земле привязывало их, Все на земле осталось горстью пыли, А в небе нет ни близких, ни родных. Но ты, о друг, лишь только звуки рая Как дальний зов в твою проникнут грудь, Ты обо мне подумай, умирая, И хоть на миг блаженство позабудь! Прощальный взор бросая нашей жизни, Душою, друг, вглядись в мои черты, Чтобы узнать в заоблачной отчизне Кого звала, кого любила ты, Чтобы не мог моей молящей речи Небесный хор навеки заглушить, Чтобы тебе, до нашей новой встречи, В стране лучей и помнить и грустить!Август или сентябрь 1856 г.
* * *
Лишь только один я останусь с собою, Меня голоса призывают толпою. Которому ж голосу отповедь дам? В сомнении рвется душа пополам. Советов, угроз, обещаний так много, Но где же прямая, святая дорога? С мучительной думой стою на пути — Не знаю, направо ль, налево ль идти? Махни уж рукой да иди, не робея, На голос, который всех манит сильнее, Который немолчно, вблизи, вдалеке, С тобой говорит на родном языке!Август или сентябрь 1856 г.
* * *
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель! Вечно носились они над землею, незримые оку. Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса! Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву, Ласковый, царственный взор из-под мрака бровей громоносных? Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который, В древнегерманской одежде, но в правде глубокой, вселенской, С образом сходен предвечным своим от слова до слова. Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный, Брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов, Плач неутешной души над погибшей великою мыслью, Рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса? Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве, Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданья. Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков, Много чудесных в нем есть сочетаний и слова и света, Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать, Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово, Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный. О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем, Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен, Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье, И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки Вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины, Выйдут из мрака всё ярче цвета, осязательней формы, Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье... Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье, И, созидая потом, мимолетное помни виденье!Октябрь 1856 г.
* * *
Что ты голову склонила? Ты полна ли тихой ленью? Иль грустишь о том, что было? Иль под виноградной сенью Начертания сквозные Разгадать хотела б ты, Что на землю вырезные Сверху бросили листы? Но дрожащего узора Нам значенье непонятно — Что придет, узнаешь скоро, Что прошло, то невозвратно! Час полуденный палящий, Полный жизни огневой, Час веселый настоящий, Этот час один лишь твой! Не клони ж печально взора На рисунок непонятный — Что придет, узнаешь скоро. Что прошло, то невозвратно!Ноябрь 1856 г.
Б.М. Маркевичу
Ты прав; мой своенравный гений Слетал лишь изредка ко мне; Таясь в душевной глубине, Дремала буря песнопений; Меня ласкали сон и лень, Но, цепь житейскую почуя, Воспрянул я; и, негодуя, Стихи текут. Так в бурный день, Прорезав тучи, луч заката Сугубит блеск своих огней, И так река, скалами сжата, Бежит сердитей и звучней!Осень 1856 г.
* * *
И у меня был край родной когда-то; Со всех сторон Синела степь; на ней белели хаты — Все это сон! Я помню дом и пестрые узоры Вокруг окон, Под тенью лип душистых разговоры — Все это сон! Я там мечтою чистой, безмятежной Был озарен, Я был любим так искренно, так нежно — Все это сон! И думал я: на смерть за край родимый Я обречен! Но гром умолк; гроза промчалась мимо — Все было сон! Летучий ветр, неси ж родному краю, Неси поклон; В чужбине век я праздно доживаю — Все было сон!1856
* * *
Он водил по струнам; упадали Волоса на безумные очи, Звуки скрыпки так дивно звучали, Разливаясь в безмолвии ночи. В них рассказ убедительно-лживый Развивал невозможную повесть, И змеиного цвета отливы Соблазняли и мучили совесть; Обвиняющий слышался голос, И рыдали в ответ оправданья, И бессильная воля боролась С возрастающей бурей желанья, И в туманных волнах рисовались Берега позабытой отчизны, Неземные слова раздавались И манили назад с укоризной, И так билося сердце тревожно, Так ему становилось понятно Все блаженство, что было возможно И потеряно так невозвратно, И к себе беспощадная бездна Свою жертву, казалось, тянула, А стезею лазурной и звездной Уж полнеба луна обогнула; Звуки пели, дрожали так звонко, Замирали и пели сначала, Беглым пламенем синяя жженка[9] Музыканта лицо освещала...Начало 1857 г.
* * *
Господь, меня готовя к бою, Любовь и гнев вложил мне в грудь, И мне десницею святою Он указал правдивый путь; Одушевил могучим словом, Вдохнул мне в сердце много сил, Но непреклонным и суровым Меня Господь не сотворил. И гнев я свой истратил даром, Любовь не выдержал свою, Удар напрасно за ударом Я отбивая устаю. Навстречу их враждебной вьюги Я вышел в поле без кольчуги И гибну, раненный в бою.* * *
Порой, среди забот и жизненного шума, Внезапно набежит мучительная дума И гонит образ твой из горестной души. Но только лишь один останусь я в тиши И суетного дня минует гул тревожный, Смиряется во мне волненье жизни ложной, Душа, как озеро, прозрачна и сквозна, И взор я погрузить в нее могу до дна; Спокойной мыслию, ничем не возмутимой, Твой отражаю лик желанный и любимый И ясно вижу глубь, где, как блестящий клад, Любви моей к тебе сокровища лежат.* * *
Не Божиим громом горе ударило, Не тяжелой скалой навалилося; Собиралось оно малыми тучками, Затянули тучки небо ясное, Посеяло горе мелким дождичком, Мелким дождичком осенниим. А и сеет оно давным-давно, И сечет оно без умолку, Без умолку, без устали, Без конца сечет, без отдыха; Проняло насквозь добра молодца, Проняло дрожью холодною, Лихорадкою, лихоманкою, Сном-дремотою, зевотою. – Уже полно, горе, дуб ломать по прутикам, Щипати по листикам! А и бывало же другим счастьице: Налетало горе вихрем-бурею, Ворочало горе дубы с корнем вон!* * *
Ой, честь ли то молодцу лён прясти? А и хвала ли боярину кичку носить? Воеводе по воду ходить? Гусляру-певуну во приказе сидеть? Во приказе сидеть, потолок коптить? Ой, коня б ему! гусли б звонкие! Ой, в луга б ему, во зеленый бор! Через реченьку да в темный сад, Где соловушка на черемушке Целу ноченьку напролет поет!* * *
Ты неведомое, незнамое, Без виду, без образа, Без имени-прозвища! Полно гнуть меня ко сырой земле, Донимать меня, добра молодца! Как с утра-то встану здоровёшенек, Здоровёшенек, кажись гору сдвинул бы, А к полудню уже руки опущаются, Ноги словно ко земле приросли. А подходит оно без оклика, Меж хотенья и дела втирается, Говорит: «Не спеши, добрый молодец, Еще много впереди времени!» И субботу называет пятницей, Фомину неделю светлым праздником. Я пущуся ли в путь-дороженьку, Ан оно повело проселками, На полпути корчмой выросло; Я за дело примусь, ан оно мухою Перед носом снует, извивается; А потом тебе же насмехается: «Ой, удал, силен, добрый молодец! Еще много ли на боку полёжано? Силы-удали понакоплено? Отговорок-то понахожено? А и много ли богатырских дел, На печи сидючи, понадумано? Вахлаками других поругано? Себе спину почёсано?»* * *
У приказных ворот собирался народ Густо; Говорит в простоте, что в его животе Пусто! «Дурачье! – сказал дьяк, – из вас должен быть всяк В теле; Еще в Думе вчера мы с трудом осетра Съели!» На базар мужик вез через реку обоз Пакли; Мужичок-то, вишь, прост, знай везет через мост, Так ли? «Вишь, дурак! – сказал дьяк, – тебе мост, чай, пустяк, Дудки? Ты б его поберег, ведь плыли ж поперек Утки!» Как у Васьки Волчка вор стянул гусака. Вишь ты! В полотенце свернул, да поймал караул, Ништо! Дьяк сказал: «Дурачье! Полотенце-то чье? Васьки? Стало, Васька и тать, стало, Ваське и дать Таску!» Пришел к дьяку больной; говорит: «Ой, ой, ой, Дьяче! Очень больно нутру, а уж вот поутру Паче! И не лечь, и не сесть, и не можно мне съесть Столько!» «Вишь, дурак! – сказал дьяк, – ну не ешь натощак; Только!» Пришел к дьяку истец, говорит: «Ты отец Бедных; Кабы ты мне помог – видишь денег мешок Медных, — Я б те всыпал, ей-ей, в шапку десять рублей, Шутка!» «Сыпь сейчас, – сказал дьяк, подставляя колпак, — Ну-тка!»* * *
Уж ласточки, кружась, над крышей щебетали, Красуяся, идет нарядная весна: Порою входит так в дом скорби и печали В цветах красавица, надменна и пышна. Как праздничный мне лик весны теперь несносен! Как грустен без тебя дерев зеленых вид! И мыслю я: когда ж на них повеет осень И, сыпля желтый лист, нас вновь соединит!Весна 1857 г.
* * *
Деревцо мое миндальное Все цветами убирается, В сердце думушка печальная Поневоле зарождается: Деревцом цветы обронятся, И созреет плод непрошеный, И зеленое наклонится До земли под горькой ношею!1857 или 1858
* * *
Мой строгий друг, имей терпенье И не брани меня так зло; Не вдруг приходит вдохновенье, Земное бремя тяжело; Простора нет орлиным взмахам; Как Этны темное жерло, Моя душа покрыта прахом. Но в глубине уж смутный шум, И кратер делается тесен Для раскалившихся в нем дум, Для разгорающихся песен. Пожди еще, и грянет гром, И заклубится дым кудрявый, И пламя, вырвавшись столпом, Польётся вниз звенящей лавой.1857 или 1858?
* * *
Двух станов не боец, но только гость случайный, За правду я бы рад поднять мой добрый меч, Но спор с обоими досель мой жребий тайный, И к клятве ни один не мог меня привлечь; Союза полного не будет между нами — Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя, Пристрастной ревности друзей не в силах снесть, Я знамени врага отстаивал бы честь!* * *
Как селянин, когда грозят Войны тяжелые удары, В дремучий лес несет свой клад От нападенья и пожара, И там во мрачной тишине Глубоко в землю зарывает, И на чешуйчатой сосне Свой знак с заклятьем зарубает, Так ты, певец, в лихие дни, Во дни гоненья рокового, Под темной речью хорони Свое пророческое слово.* * *
Запад гаснет в дали бледно-розовой, Звезды небо усеяли чистое, Соловей свищет в роще березовой, И травою запахло душистою. Знаю, что́ к тебе в думушку вкралося, Знаю сердца немолчные жалобы, Не хочу я, чтоб ты притворялася И к улыбке себя принуждала бы! Твое сердце болит безотрадное, В нем не светит звезда ни единая — Плачь свободно, моя ненаглядная, Пока песня звучит соловьиная, Соловьиная песня унылая, Что как жалоба катится слезная, Плачь, душа моя, плачь, моя милая, Тебя небо лишь слушает звездное!* * *
Ты почто, злая кручинушка, Не вконец извела меня, бедную, Разорвала лишь душу надвое? Не сойтися утру с вечером, Не ужиться двум добрым молодцам; Из-за меня они ссорятся, А и оба меня корят, бранят. Уж как станет меня брат корить: «Ты почто пошла за боярина? Напросилась в родню неровную? Отщепенница, переметчица, От своей родни отступница!» «Государь ты мой, милый братец мой, Я в родню к ним не напрашивалась, И ты сам меня уговаривал, Снаряжал меня, выдавал меня!» Уж как станет меня муж корить: «Из какого ты роду-племени? Еще много ли за тобой приданого? Еще чем меня опоила ты, Приговорщица, приворотница, Меня с нашими разлучница?» «Государь ты мой, господин ты мой, Я тебя не приворачивала, И ты взял меня вольной волею, А приданого за мной немного есть, И всего-то сердце покорное, Голова тебе, сударь, поклонная!» Перекинулся хмель через реченьку, С одного дуба на другой дуб, И качается меж обоими, Над быстрой водой зеленеючи, Злой кручинушки не знаючи, Оба дерева обнимаючи.* * *
Рассевается, расступается Грусть под думами под могучими, В душу темную пробивается Словно солнышко между тучами! Ой ли, молодец? Не расступится, Не рассеется ночь осенняя, Скоро сведаешь, чем искупится Непоказанный миг веселия! Прикачнулася, привалилася К сердцу сызнова грусть обычная, И головушка вновь склонилася, Бесталанная, горемычная...* * *
Что ни день, как поломя со влагой, Так унынье борется с отвагой, Жизнь бежит то круто, то отлого, Вьется вдаль неровною дорогой, От беспечной удали к заботам Переходит пестрым переплетом, Думы ткут то в солнце, то в тумане Золотой узор на темной ткани.* * *
Звонче жаворонка пенье, Ярче вешние цветы, Сердце полно вдохновенья, Небо полно красоты. Разорвав тоски оковы, Цепи пошлые разбив, Набегает жизни новой Торжествующий прилив, И звучит свежо и юно Новых сил могучий строй, Как натянутые струны Между небом и землей.* * *
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, Листья пожелтелые по ветру летят; Лишь вдали красуются, там на дне долин, Кисти ярко-красные вянущих рябин. Весело и горестно сердцу моему, Молча твои рученьки грею я и жму, В очи тебе глядючи, молча слезы лью, Не умею высказать, как тебя люблю.* * *
Источник за вишневым садом, Следы голых девичьих ног, И тут же оттиснулся рядом Гвоздями подбитый сапог. Все тихо на месте их встречи, Но чует ревниво мой ум И шепот, и страстные речи, И ведер расплесканных шум...* * *
О друг, ты жизнь влачишь, без пользы увядая. Пригнутая к земле, как тополь молодая; Поблекла свежая ветвей твоих краса, И листья кроет пыль и дольная роса. О, долго ль быть тебе печальной и согнутой? Смотри, пришла весна, твои не крепки путы, Воспрянь и подымись трепещущим столбом, Вершиною шумя в эфире голубом!* * *
В совести искал я долго обвиненья, Горестное сердце вопрошал довольно — Чисты мои мысли, чисты побужденья, А на свете жить мне тяжело и больно. Каждый звук случайный я ловлю пытливо, Песня ли раздастся на селе далеком, Ветер ли всколышет золотую ниву — Каждый звук неясным мне звучит упреком. Залегло глубоко смутное сомненье, И душа собою вечно недовольна: Нет ей приговора, нет ей примиренья, И на свете жить мне тяжело и больно! Согласить я силюсь, что несогласимо, Но напрасно разум бьется и хлопочет, Горестная чаша не проходит мимо, Ни к устам зовущим низойти не хочет!* * *
Минула страсть, и пыл ее тревожный Уже не мучит сердца моего. Но разлюбить тебя мне невозможно, Все, что не ты, – так суетно и ложно, Все, что не ты, – бесцветно и мертво. Без повода и права негодуя, Уж не кипит бунтующая кровь, Но с пошлой жизнью слиться не могу я, Моя любовь, о друг, и не ревнуя, Осталась та же прежняя любовь. Так от высот нахмуренной природы, С нависших скал сорвавшийся поток Из царства туч, грозы и непогоды В простор степей выносит те же воды И вдаль течет, спокоен и глубок.* * *
Когда природа вся трепещет и сияет, Когда ее цвета ярки и горячи, Душа бездейственно в пространстве утопает И в неге врозь ее расходятся лучи. Но в скромный, тихий день, осеннею погодой, Когда и воздух сер, и тесен кругозор, Не развлекаюсь я смиренною природой, И немощен ее на жизнь мою напор. Мой трезвый ум открыт для сильных вдохновений, Сосредоточен я живу в себе самом, И сжатая мечта зовет толпы видений, Как зажигательным рождая их стеклом. Винтовку сняв с гвоздя, я оставляю дом, Иду меж озимей, чернеющей дорогой; Смотрю на кучу скирд, на сломанный забор, На пруд и мельницу, на дикий косогор, На берег ручейка болотисто-отлогий, И в ближний лес вхожу. Там покрасневший клен, Еще зеленый дуб и желтые березы Печально на меня свои стряхают слезы; Но дале я иду, в мечтанья погружен, И виснут надо мной полунагие сучья, А мысли между тем слагаются в созвучья, Свободные слова теснятся в мерный строй, И на душе легко, и сладостно, и странно, И тихо все кругом, и под моей ногой Так мягко мокрый лист шумит благоуханный.* * *
Ты знаешь, я люблю там, за лазурным сводом, Ряд жизней мысленно отыскивать иных И, путь свершая мой, с улыбкой мимоходом Смотрю на прах забот и горестей земных. Зачем же сердце так сжимается невольно, Когда твой встречу взор, и так тебя мне жаль, И каждая твоя мгновенная печаль В душе моей звучит так долго и так больно?* * *
Замолкнул гром, шуметь гроза устала, Светлеют небеса; Меж черных туч приветно засияла Лазури полоса. Еще дрожат цветы, полны водою И пылью золотой, О, не топчи их с новою враждою Презрительной пятой.* * *
Змея, что по скалам влечешь свои извивы И между трав скользишь, обманывая взор, Помедли, дай списать чешуйный твой узор: Хочу для девы я холодной и красивой Счеканить по тебе причудливый убор. Пускай, когда она, скользя зарей вечерней, К сопернику тайком счастливому пойдет, Пускай блестит, как ты, и в золоте и в черни, И пестрый твой в траве напоминает ход!* * *
Ты жертва жизненных тревог, И нет в тебе сопротивленья, Ты, как оторванный листок, Плывешь без воли по теченью; Ты как на жниве сизый дым: Откуда ветер ни повеет, Он только стелется пред ним И к облакам бежать не смеет; Ты словно яблони цветы, Когда их снег покрыл тяжелый: Стряхнуть тоску не можешь ты, И жизнь тебя погнула долу; Ты как лощинка в вешний день: Когда весь мир благоухает, Соседних гор ложится тень И ей одной цвести мешает; И как с вершин бежит в нее Снегов растаявшая груда, Так в сердце бедное твое Стекает горе отовсюду!* * *
Бывают дни, когда злой дух меня тревожит И шепчет на ухо неясные слова, И к небу вознестись душа моя не может, И отягченная склоняется глава. И он, не ведая ни радости, ни веры, В меня вдыхает злость – к кому, не знаю сам — И лживым зеркалом могучие размеры Лукаво придает ничтожным мелочам. В кругу моих друзей со мной сидит он рядом, Веселость им у нас надолго отнята, И сердце он мое напитывает ядом И речи горькие влагает мне в уста. И все, что есть во мне порочного и злого, Клубится и растет все гуще и мрачней И застилает тьмой сиянье дня родного, И неба синеву, и золото полей, В пустыню грустную и в ночь преобразуя Все то, что я люблю, чем верю и живу я.* * *
С тех пор как я один, с тех пор как ты далеко, В тревожном полусне когда забудусь я, Светлей моей души недремлющее око И близость явственней духовная твоя. Сестра моей души! с улыбкою участья Твой тихий кроткий лик склоняется ко мне, И я, исполненный мучительного счастья, Любящий чую взор в тревожном полусне. О, если в этот час ты также им объята, Мы думою, скажи, проникнуты ль одной? И видится ль тебе туманный образ брата, С улыбкой грустною склоненный над тобой?* * *
Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре, О, не грусти, ты все мне дорога, Но я любить могу лишь на просторе, Мою любовь, широкую как море, Вместить не могут жизни берега. Когда Глагола творческая сила Толпы миров воззвала из ночи, Любовь их все, как солнце, озарила, И лишь на землю к нам ее светила Нисходят порознь редкие лучи. И порознь их отыскивая жадно, Мы ловим отблеск вечной красоты; Нам вестью лес о ней шумит отрадной, О ней поток гремит струею хладной И говорят, качаяся, цветы. И любим мы любовью раздробленной И тихий шепот вербы над ручьем, И милой девы взор, на нас склоненный, И звездный блеск, и все красы вселенной, И ничего мы вместе не сольем. Но не грусти, земное минет горе, Пожди еще, неволя недолга — В одну любовь мы все сольемся вскоре, В одну любовь, широкую как море, Что не вместят земные берега!* * *
Я вас узнал, святые убежденья, Вы спутники моих минувших дней, Когда, за беглой не гоняясь тенью, И думал я и чувствовал верней, И юною душою ясно видел Всё, что любил, и всё, что ненавидел! Средь мира лжи, средь мира мне чужого, Не навсегда моя остыла кровь; Пришла пора, и вы воскресли снова, Мой прежний гнев и прежняя любовь! Рассеялся туман и, слава богу, Я выхожу на старую дорогу! По-прежнему сияет правды сила, Ее сомненья боле не затмят; Неровный круг планета совершила И к солнцу снова катится назад, Зима прошла, природа зеленеет, Луга цветут, весной душистой веет!* * *
О, не спеши туда, где жизнь светлей и чище Среди миров иных; Помедли здесь со мной, на этом пепелище Твоих надежд земных! От праха отрешась, не удержать полета В неведомую даль! Кто будет в той стране, о друг, твоя забота И кто твоя печаль? В тревоге бытия, в безбрежном колыханье Без цели и следа, Кто в жизни будет мне и радость, и дыханье, И яркая звезда? Слиясь в одну любовь, мы цепи бесконечной Единое звено, И выше восходить в сиянье правды вечной Нам врозь не суждено!Мадонна Рафаэля
Склоняся к юному Христу, Его Мария осенила; Любовь небесная затмила Ее земную красоту. А он, в прозрении глубоком, Уже вступая с миром в бой, Глядит вперед – и ясным оком Голгофу видит пред собой.* * *
Дробится, и плещет, и брызжет волна Мне в очи соленою влагой; Недвижно на камне сижу я – полна Душа безотчетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, И пена их гребни покрыла; О море, кого же мне вызвать на бой, Изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша, Вы, волны, размыкали горе, От грома и плеска проснулась душа, Сродни ей шумящее море!* * *
Не пенится море, не плещет волна, Деревья листами не двинут, На глади прозрачной царит тишина, Как в зеркале мир опрокинут. Сижу я на камне, висят облака Недвижные в синем просторе; Душа безмятежна, душа глубока, Сродни ей спокойное море.* * *
Не брани меня, мой друг, Гнев твой выразится худо, Он мне только нежит слух, Я слова ловить лишь буду. Как они польются вдруг, Так посыпятся, что чудо, — Точно падает жемчуг На серебряное блюдо!* * *
Я задремал, главу понуря, И прежних сил не узнаю; Дохни, Господь, живящей бурей На душу сонную мою. Как глас упрека, надо мною Свой гром призывный прокати, И выжги ржавчину покоя, И прах бездействия смети. Да вспряну я, тобой подъятый, И, вняв карающим словам, Как камень от удара млата, Огонь таившийся издам!* * *
Горними тихо летела душа небесами, Грустные долу она опускала ресницы; Слезы, в пространство от них упадая звездами, Светлой и длинной вилися за ней вереницей. Встречные тихо ее вопрошали светила: «Что ты грустна? и о чем эти слезы во взоре?» Им отвечала она: «Я земли не забыла, Много оставила там я страданья и горя. Здесь я лишь ликам[10] блаженства и радости внемлю. Праведных души не знают ни скорби, ни злобы — О, отпусти меня снова, Создатель, на землю, Было б о ком пожалеть и утешить кого бы!»* * *
Ты клонишь лик, о нем упоминая, И до чела твоя восходит кровь — Не верь себе! Сама того не зная. Ты любишь в нем лишь первую любовь; Ты не его в нем видишь совершенства, И не собой привлечь тебя он мог — Лишь тайных дум, мучений и блаженства Он для тебя отысканный предлог; То лишь обман неопытного взора, То жизни луч из сердца ярко бьет И золотит, лаская без разбора, Все, что к нему случайно подойдет.* * *
Вырастает дума, словно дерево, Вроет в сердце корни глубокие, По поднебесью ветвями раскинется, Задрожит, зашумит тучей листиев. Сердце знает ту думу крепкую, Что оно взрастило, взлелеяло, Разум сможет ту думу окинути, Сможет слово ту думу высказать. А какая то другая думушка, Что́ ни высказать, ни вымерить, Ни обнять умом, ни окинути? Промелькнет она без образа, Вспыхнет дальнею зарницею, Озарит на миг душу темную, Много вспомнится забытого, Много смутного, непонятного В миг тот ясно сердцу скажется; А рванешься за ней, погонишься — Только очи ее и видели, Только сердце ее и чуяло! Не поймать на лету ветра буйного, Тень от облака летучего Не прибить гвоздем ко сырой земле.* * *
Тебя так любят все! Один твой тихий вид Всех делает добрей и с жизнию мирит. Но ты грустна; в тебе есть скрытое мученье, В душе твоей звучит какой-то приговор; Зачем твой ласковый всегда так робок взор И очи грустные так молят о прощенье, Как будто солнца свет, и вешние цветы, И тень в полдневный зной, и шепот по дубравам. И даже воздух тот, которым дышишь ты, Все кажется тебе стяжанием неправым?* * *
Хорошо, братцы, тому на свете жить, У кого в голове добра не много есть, А сидит там одно-одинешенько, А и сидит оно крепко-накрепко, Словно гвоздь обухом вколоченный. И глядит уж он на свое добро, Все глядит на него, не спуская глаз, И не смотрит по сторонушкам, А знай прет вперед, напролом идет, Давит встречного-поперечного. А беда тому, братцы, на свете жить, Кому Бог дал очи зоркие, Кому видеть дал во все стороны, И те очи у него разбегаются; И кажись, хорошо, а лучше есть, А и худо, кажись, не без доброго! И дойдет он до распутьица, Не одну видит в поле дороженьку, И он станет, призадумается, И пойдет вперед, воротится, Начинает идти сызнова, А дорогою-то засмотрится На луга, на леса зеленые. Залюбуется на божьи цветики И заслушается вольных пташечек. И все люди его корят, бранят: «Ишь идет, мол, озирается! Ишь стоит, мол, призадумался! Ему б мерить всё да взвешивать, На все боки бы поворачивать! Не бывать ему воеводою, Не бывать ему посадником, Думным дьяком не бывать ему, Ни торговым делом не правити!»* * *
Кабы знала я, кабы ведала, Не смотрела бы из окошечка Я на молодца разудалого, Как он ехал по нашей улице, Набекрень заломивши мурмолку[11], Как лихого коня буланого, Звонконогого, долгогривого, Супротив окон на дыбы вздымал! Кабы знала я, кабы ведала, Для него бы я не рядилася, С золотой каймой ленту алую В косу длинную не вплетала бы, Рано до свету не вставала бы, За околицу не спешила бы, В росе ноженьки не мочила бы, На проселок тот не глядела бы, Не проедет ли тем проселком он, На руке держа пестра сокола! Кабы знала я, кабы ведала, Не сидела бы поздно вечером, Пригорюнившись, на завалине, На завалине, близ колодезя, Поджидаючи да гадаючи, Не придет ли он, ненаглядный мой, Напоить коня студеной водой!Е.И.В. государыне императрице Марии Александровне
К твоим, царица, я ногам Несу и радость и печали, Мечты, что сердце волновали, Веселье с грустью пополам. Припомни день, когда ты, долу Склонясь задумчивой главой, Внимала русскому глаголу Своею русскою душой; Я мыслил, песни те слагая: Они неведомо замрут — Но ты дала им, о благая, Свою защиту и приют. Встречай же в солнце и в лазури, Царица, радостные дни, И нас, певцов, в годину бури В своих молитвах помяни!1858
* * *
Нет, уж не ведать мне, братцы, ни сна, ни покою! С жизнью бороться приходится, с бабой-ягою. Старая крепко меня за бока ухватила, Сломится, так и гляжу, молодецкая сила. Пусть бы хоть молча, а то ведь накинулась с бранью. Слух утомляет мне, сплетница, всякою дрянью. Ох, насолили мне дрязги и мелочи эти! Баба, постой, погоди, не одна ты на свете: Сила и воля нужны мне для боя иного — После, пожалуй, с тобою мы схватимся снова!* * *
Сижу да гляжу я всё, братцы, вон в эту сторонку, Где катятся волны, одна за другой вперегонку. Волна погоняет волну среди бурного моря, Что день, то за горем все новое валится горе. Сижу я и думаю: что мне тужить за охота, Коль завтра прогонит заботу другая забота? Ведь надобно ж место все новым да новым кручинам, Так что же тужить, коли клин выбивается клином?* * *
Есть много звуков в сердца глубине, Неясных дум, непетых песней много; Но заглушает вечно их во мне Забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошеный напор, Издавна сердце с жизнию боролось — Но жизнь шумит, как вихорь ломит бор, Как ропот струй, так шепчет сердца голос!* * *
К страданиям чужим ты горести полна, И скорбь ничья тебя не проходила мимо; К себе лишь ты одной всегда неумолима, Всегда безжалостна и вечно холодна! Но если б видеть ты любящею душою Могла со стороны хоть раз свою печаль — О, как самой себя тебе бы стало жаль И как бы плакала ты грустно над собою!* * *
О, если б ты могла хоть на единый миг Забыть свою печаль, забыть свои невзгоды! О, если бы хоть раз я твой увидел лик, Каким я знал его в счастливейшие годы! Когда в твоих глазах засветится слеза, О, если б эта грусть могла пройти порывом, Как в теплую весну пролётная гроза, Как тень от облаков, бегущая по нивам!* * *
Нас не преследовала злоба, Не от вражды иль клеветы — От наших дум ушли мы оба, Бежали вместе, я и ты. Зачем же прежний глас упрека Опять твердит тебе одно? Опять пытующее око Во глубь души устремлено? Смотри: наш день восходит чисто, Ночной рассеялся туман, Играя далью золотистой, Нас манит жизни океан, Уже надутое ветрило Наш челн уносит в новый край... Не сожалей о том, что было, И взор обратно не кидай!* * *
Исполать тебе, жизнь – баба старая. Привередница крикливая, Что ты, лаючись, накликнулась. Растолкала в бока добра молодца, Растрепала его думы тяжкие! Что ты сердца голос горестный Заглушила бранью крупною! Да не голос один заглушила ты — Заглушила ты тот гуслярный звон, Заглушила песни многие, Что в том голосе раздавалися, Затоптала все божьи цветики, Что сквозь горести пробивалися! Пропадай же, жизнь – баба старая! Дай разлиться мне по поднебесью, Разлететься душой свободною, Песней вольною, бесконечною!И.С. Аксакову
Судя меня довольно строго, В моих стихах находишь ты, Что в них торжественности много И слишком мало простоты. Так. В беспредельное влекома, Душа незримый чует мир, И я не раз под голос грома, Быть может, строил мой псалтырь[12]. Но я не чужд и здешней жизни; Служа таинственной отчизне, Я и в пылу душевных сил О том, что близко, не забыл. Поверь, и мне мила природа, И быт родного нам народа — Его стремленья я делю, И всё земное я люблю, Все ежедневные картины: Поля, и села, и равнины, И шум колеблемых лесов, И звон косы в лугу росистом, И пляску с топаньем и свистом Под говор пьяных мужичков; В степи чумацкие ночлеги, И рек безбережный разлив, И скрып кочующей телеги, И вид волнующихся нив; Люблю я тройку удалую, И свист саней на всем бегу, На славу кованную сбрую, И золоченую дугу; Люблю тот край, где зимы долги, Но где весна так молода, Где вниз по матушке по Волге Идут бурлацкие суда; И все мне дороги явленья, Тобой описанные, друг, Твои гражданские стремленья И честной речи трезвый звук. Но всё, что чисто и достойно, Что на земле сложилось стройно, Для человека то ужель, В тревоге вечной мирозданья, Есть грань высокого призванья И окончательная цель? Нет, в каждом шорохе растенья И в каждом трепете листа Иное слышится значенье, Видна иная красота! Я в них иному гласу внемлю И, жизнью смертною дыша, Гляжу с любовию на землю, Но выше просится душа; И что ее, всегда чаруя, Зовет и манит вдалеке — О том поведать не могу я На ежедневном языке.Январь 1859 г.
* * *
Пусть тот, чья честь не без укора, Страшится мнения людей; Пусть ищет шаткой он опоры В рукоплесканиях друзей! Но кто в самом себе уверен, Того хулы не потрясут — Его глагол нелицемерен, Ему чужой не нужен суд. Ни пред какой земною властью Своей он мысли не таит, Не льстит неправому пристрастью, Вражде неправой не кадит; Ни пред венчанными царями, Ни пред судилищем молвы Он не торгуется словами, Не клонит рабски головы. Друзьям в угодность, боязливо Он никому не шлет укор; Когда ж толпа несправедливо Свой постановит приговор, Один, не следуя за нею, Пред тем, что чисто и светло, Дерзает он, благоговея, Склонить свободное чело!Январь 1859 г.
* * *
На нивы желтые нисходит тишина; В остывшем воздухе от меркнущих селений, Дрожа, несется звон. Душа моя полна Разлукою с тобой и горьких сожалений. И каждый мой упрек я вспоминаю вновь, И каждое твержу приветливое слово, Что мог бы я сказать тебе, моя любовь, Но что внутри себя я схоронил сурово!* * *
Вздымаются волны как горы И к тверди возносятся звездной, И с ужасом падают взоры В мгновенно разрытые бездны. Подобная страсти, не знает Средины тревожная сила, То к небу, то в пропасть бросает Ладью без весла и кормила. Не верь же, ко звездам взлетая, Высокой избранника доле, Не верь, в глубину ниспадая, Что звезд не увидишь ты боле. Стихии безбрежной, бездонной Уймется волненье, и вскоре В свой уровень вступит законный Души успокоенной море.Против течения
1
Други, вы слышите ль крик оглушительный: «Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли Вымыслы ваши в наш век положительный? Много ли вас остается, мечтатели? Сдайтеся натиску нового времени, Мир отрезвился, прошли увлечения — Где ж устоять вам, отжившему племени, Против течения?»2
Други, не верьте! Все та же единая Сила нас манит к себе неизвестная, Та же пленяет нас песнь соловьиная, Те же нас радуют звезды небесные! Правда все та же! Средь мрака ненастного Верьте чудесной звезде вдохновения, Дружно гребите, во имя прекрасного, Против течения!3
Вспомните: в дни Византии расслабленной, В приступах ярых на божьи обители, Дерзко ругаясь святыне награбленной, Так же кричали икон истребители[13]: «Кто воспротивится нашему множеству? Мир обновили мы силой мышления — Где ж побежденному спорить художеству Против течения?»4
В оные ж дни, после казни спасителя, В дни, как апостолы шли вдохновенные, Шли проповедовать слово учителя, Книжники так говорили надменные: «Распят мятежник! Нет проку в осмеянном, Всем ненавистном, безумном учении! Им ли убогим идти галилеянам Против течения!»5
Други, гребите! Напрасно хулители Мнят оскорбить нас своею гордынею — На берег вскоре мы, волн победители, Выйдем торжественно с нашей святынею! Верх над конечным возьмет бесконечное, Верою в наше святое значение Мы же возбудим течение встречное Против течения!* * *
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа!
Ф. Тютчев Одарив весьма обильно Нашу землю, царь небесный Быть богатою и сильной Повелел ей повсеместно. Но чтоб падали селенья, Чтобы нивы пустовали — Нам на то благословенье Царь небесный дал едва ли! Мы беспечны, мы ленивы, Все у нас из рук валится, И к тому ж мы терпеливы — Этим нечего хвалиться!Февраль 1869 г.
<И. А. Гончарову>
Не прислушивайся к шуму Толков, сплетен и хлопот, Думай собственную думу И иди себе вперед! До других тебе нет дела, Ветер пусть их носит лай! Что в душе твоей созрело — В ясный образ облекай! Тучи черные нависли — Пусть их виснут – черта с два! Для своей живи лишь мысли, Остальное трын-трава!1870
* * *
Темнота и туман застилают мне путь, Ночь на землю все гуще ложится, Но я верю, я знаю: живет где-нибудь, Где-нибудь да живет царь-девица! Как достичь до нее – не ищи, не гадай, Тут расчет никакой не поможет, Ни догадка, ни ум, но безумье в тот край, Но удача принесть тебя может! Я не ждал, не гадал, в темноте поскакал В ту страну, куда нету дороги, Я коня разнуздал, наудачу погнал И в бока ему втиснул остроги!Август 1870 г.
* * *
В монастыре пустынном близ Кордовы Картина есть. Старательной рукой Изобразил художник в ней суровый, Как пред кумиром мученик святой Лежит в цепях и палачи с живого Сдирают кожу... Вид картины той, Исполненный жестокого искусства, Сжимает грудь и возмущает чувство. Но в дни тоски, мне все являясь снова, Упорно в мысль вторгается она, И мука та казнимого святого Сегодня мне понятна и родна: С моей души совлечены покровы. Живая ткань ее обнажена, И каждое к ней жизни прикасанье Есть злая боль и жгучее терзанье.Осень 1870 г.
* * *
Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо, В полуденных лучах следы недавней стужи Дымятся. Теплый ветр повеял нам в лицо И морщит на полях синеющие лужи. Еще трещит камин, отливами огня Минувший тесный мир зимы напоминая, Но жаворонок там, над озимью звеня, Сегодня возвестил, что жизнь пришла иная. И в воздухе звучат слова, не знаю чьи, Про счастье, и любовь, и юность, и доверье, И громко вторят им бегущие ручьи, Колебля тростника желтеющие перья. Пускай же, как они по глине и песку Растаявших снегов, журча, уносят воды, Бесследно унесет души твоей тоску Врачующая власть воскреснувшей природы!25 декабря 1870 г.
* * *
Про подвиг слышал я Кротонского бойца, Как, юного взвалив на плечи он тельца, Чтоб силу крепких мышц умножить постепенно, Вкруг городской стены ходил, под ним согбенный, И ежедневно труд свой повторял, пока Телец тот не дорос до тучного быка. В дни юности моей, с судьбой в отважном споре, Я, как Милон[14], взвалил себе на плечи горе, Не замечая сам, что бремя тяжело; Но с каждым днем оно невидимо росло, И голова моя под ним уж поседела, Оно же все растет без меры и предела!Май 1871 г.
На тяге
Сквозит на зареве темнеющих небес И мелким предо мной рисуется узором В весенние листы едва одетый лес, На луг болотистый спускаясь косогором. И глушь и тишина. Лишь сонные дрозды Как нехотя свое доканчивают пенье; От луга всходит пар... мерцающей звезды У ног моих в воде явилось отраженье; Прохладой дунуло, и прошлогодний лист Зашелестел в дубах... Внезапно легкий свист Послышался; за ним, отчетисто и внятно, Стрелку знакомый хрип раздался троекратно, И вальдшнеп протянул – вне выстрела. Другой Летит из-за лесу, но длинною дугой Опушку обогнул и скрылся. Слух и зренье Мои напряжены, и вот через мгновенье, Свистя, еще один, в последнем свете дня, Чертой трепещущей несется на меня. Дыханье притаив, нагнувшись под осиной, Я выждал верный миг – вперед на пол-аршина Я вскинул – огнь блеснул, по лесу грянул гром — И вальдшнеп падает на землю колесом. Удара тяжкого далекие раскаты, Слабея, замерли. Спокойствием объятый, Вновь дремлет юный лес, и облаком седым В недвижном воздухе висит ружейный дым. Вот донеслась еще из дальнего болота Весенних журавлей ликующая нота — И стихло все опять – и в глубине ветвей Жемчужной дробию защелкал соловей. Но отчего же вдруг, мучительно и странно, Минувшим на меня повеяло нежданно И в этих сумерках, и в этой тишине Упреком горестным оно предстало мне? Былые радости! Забытые печали! Зачем в моей душе вы снова прозвучали И снова предо мной, средь явственного сна, Мелькнула дней моих погибшая весна?Май 1871 г.
* * *
To было раннею весной, Трава едва всходила, Ручьи текли, не парил зной, И зелень рощ сквозила; Труба пастушья поутру Еще не пела звонко, И в завитках еще в бору Был папоротник тонкий. То было раннею весной, В тени берез то было, Когда с улыбкой предо мной Ты очи опустила. То на любовь мою в ответ Ты опустила вежды — О жизнь! о лес! о солнца свет! О юность! о надежды! И плакал я перед тобой, На лик твой глядя милый. — То было раннею весной, В тени берез то было! То было в утро наших лет — О счастие! о слезы! О лес! о жизнь! о солнца свет! О свежий дух березы!Май 1871 г.
* * *
Прозрачных облаков спокойное движенье, Как дымкой солнечный перенимая свет, То бледным золотом, то мягкой синей тенью Окрашивает даль. Нам тихий свой привет Шлет осень мирная. Ни резких очертаний, Ни ярких красок нет. Землей пережита Пора роскошных сил и мощных трепетаний; Стремленья улеглись; иная красота Сменила прежнюю; ликующего лета Лучами сильными уж боле не согрета, Природа вся полна последней теплоты; Еще вдоль влажных меж красуются цветы, А на пустых полях засохшие былины Опутывает сеть дрожащей паутины; Кружася медленно в безветрии лесном, На землю желтый лист спадает за листом; Невольно я слежу за ними взором думным, И слышится мне в их падении бесшумном: – Всему настал покой, прими ж его и ты, Певец, державший стяг во имя красоты; Проверь, усердно ли ее святое семя Ты в борозды бросал, оставленные всеми, По совести ль тобой задача свершена И жатва дней твоих обильна иль скудна?Сентябрь 1874 г.
* * *
Земля цвела. В лугу, весной одетом, Ручей меж трав катился, молчалив; Был тихий час меж сумраком и светом. Был легкий сон лесов, полей и нив; Не оглашал их соловей приветом; Природу всю широко осенив, Царил покой; но под безмолвной тенью Могучих сил мне чуялось движенье. Не шелестя над головой моей, В прозрачный мрак деревья улетали; Сквозной узор их молодых ветвей, Как легкий дым, терялся в горней дали; Лесной чебёр и полевой шалфей, Блестя росой, в траве благоухали, И думал я, в померкший глядя свод: Куда меня так манит и влечет? Проникнут весь блаженством был я новым. Исполнен весь неведомых мне сил: Чего в житейском натиске суровом Не смел я ждать, чего я не просил — То свершено одним, казалось, словом, И мнилось мне, что я лечу без крыл, Перехожу, подъят природой всею, В один порыв неудержимый с нею! Но трезв был ум, и чужд ему восторг, Надежды я не знал, ни опасенья... Кто ж мощно так от них меня отторг? Кто отрешил от тягости хотенья? Со злобой дня души постыдный торг Стал для меня без смысла и значенья, Для всех тревог бесследно умер я И ожил вновь в сознанье бытия... Тут пронеслось как в листьях дуновенье, И как ответ послышалося мне: Задачи то старинной разрешенье В таинственном ты видишь полусне! То творчества с покоем соглашенье, То мысли пыл в душевной тишине... Лови же миг, пока к нему ты чуток, — Меж сном и бденьем краток промежуток!Май – сентябрь 1875 г.
* * *
Во дни минувшие бывало, Когда являлася весна, Когда природа воскресала От продолжительного сна, Когда ручьи текли обильно И распускалися цветы, Младое сердце билось сильно, Кипели весело мечты; С какою радостию чистой Я вновь встречал в бору сыром Кувшинчик синий и пушистый С его мохнатым стебельком; Какими чувствами родными Меня манил, как старый друг, Звездами полный золотыми Еще никем не смятый луг! Потом пришла пора иная, И с каждой новою весной, Былое счастье вспоминая, Грустней я делался; порой, Когда темнели неба своды, Едва шептались тростники, Звучней ручья катились воды, Жужжали поздние жуки, Казалось мне, что мне недаром Грустить весною суждено, Что неожиданным ударом Блаженство кончиться должно. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* * *
Как часто ночью в тишине глубокой Меня тревожит тот же дивный сон: В туманной мгле стоит дворец высокий И длинный ряд дорических колонн, Средь диких гор от них ложатся тени, К реке ведут широкие ступени. И солнце там приветливо не блещет, Порой сквозь тучи выглянет луна, О влажный брег порой лениво плещет, Катяся мимо, сонная волна, И истуканов рой на плоской крыше Стоит во тьме один другого выше. Туда, туда неведомая сила Вдоль по реке влечет мою ладью, К высоким окнам взор мой пригвоздила, Желаньем грудь наполнила мою. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Я жду тебя. Я жду, чтоб ты склонила На темный дол свой животворный взгляд, — Тогда взойдет огнистое светило, В алмазных искрах струи заблестят, Проснется замок, позлатятся горы И загремят невидимые хоры. Я жду, но тщетно грудь моя трепещет, Лишь сквозь туман виднеется луна, О влажный берег лишь лениво плещет, Катяся мимо, сонная волна, И истуканов рой на плоской крыше Стоит во тьме один другого выше.Гаральд Свенгольм
His voice it was deep
like the wave of the sea[15].
Его голос звучал как морская волна, Мрачен взор был грозящих очей, И была его длань как погибель сильна, Сердце зыблемой трости слабей. Не в кровавом бою он врагами убит, Не грозою повержен он в прах, Под могильным холмом он без раны лежит, Сам себе разрушитель и враг. Струны мощные арфы певец напрягал, Струны жизни порвалися в нем, И начатую песню Гаральд не скончал, И лежит под могильным холмом. И сосна там раскинула силу ветвей, Словно облик его, хороша, И тоскует на ней по ночам соловей, Словно песню кончает душа.В альбом
Стрелок, на той поляне Кто поздно так бежит? Что там в ночном тумане Клубится и кипит? Что значит это пенье, И струн в эфире звон, И хохот, и смятенье, И блеск со всех сторон? – Друзья, то вереница Волшебниц и сильфид; Пред ними их царица Воздушная бежит; Бежит глухой дорожкой, Мелькает вдоль реки, — Под маленькою ножкой Не гнутся стебельки. Ей нет красавиц равных, Ее чудесен вид, И много бардов славных Любовью к ней горит; Но бойся, путник смелый, В ее попасться сеть Иль кончик ножки белой Нечаянно узреть. Когда луна златая Глядит в зерцало вод, В лучах ее играя, Как сон она плывет; Наступит ли денница, Она спешит уж прочь; Пушок – ей колесница, Ее отчизна – ночь. Лишь в сумерках застанет В лесу она стрелка, Зовет его и манит К себе издалека; Скользит над влагой зыбкой Среди глухих болот И странника с улыбкой Над пропастию ждет. Сильфид она всех краше, Волшебниц всех милей; Седые барды наши Горят любовью к ней; Но бойся, путник смелый, В ее попасться сеть Иль кончик ножки белой Нечаянно узреть.Поэмы, баллады, былины
Волки
Когда в селах пустеет, Смолкнут песни селян И седой забелеет Над болотом туман, Из лесов тихомолком По полям волк за волком Отправляются все на добычу. Семь волков идут смело. Впереди их идет Волк осьмой, шерсти белой; А таинственный ход Заключает девятый. С окровавленной пятой Он за ними идет и хромает. Их ничто не пугает. На село ли им путь, Пес на них и не лает; А мужик и дохнуть, Видя их, не посмеет: Он от страху бледнеет И читает тихонько молитву. Волки церковь обходят Осторожно кругом, В двор поповский заходят И шевелят хвостом, Близ корчмы водят ухом И внимают всем слухом, Не ведутся ль там грешные речи? Их глаза словно свечи, Зубы шила острей. Ты тринадцать картечей Козьей шерстью забей И стреляй по ним смело, Прежде рухнет волк белый, А за ним упадут и другие. На селе ж, когда спящих Всех разбудит петух, Ты увидишь лежащих Девять мертвых старух. Впереди их седая, Позади их хромая, Все в крови... с нами сила господня!1840-е годы
* * *
Ходит Спесь, надуваючись, С боку на бок переваливаясь. Ростом-то Спесь аршин с четвертью, Шапка-то на нем во целу сажень, Пузо-то его все в жемчуге, Сзади-то у него раззолочено. А и зашел бы Спесь к отцу, к матери, Да ворота некрашены! А и помолился б Спесь во церкви божией, Да пол не метён! Идет Спесь, видит: на небе радуга; Повернул Спесь во другую сторону: Не пригоже-де мне нагибатися!Курган
В степи, на равнине открытой. Курган одинокий стоит; Под ним богатырь знаменитый В минувшие веки зарыт. В честь витязя тризну свершали, Дружина дралася три дня, Жрецы ему разом заклали Всех жен и любимца коня. Когда же его схоронили И шум на могиле затих, Певцы ему славу сулили, На гуслях гремя золотых: «О витязь! делами твоими Гордится великий народ, Твое громоносное имя Столетия все перейдет! И если курган твой высокий Сровнялся бы с полем пустым, То слава, разлившись далеко, Была бы курганом твоим!» И вот миновалися годы. Столетия вслед протекли, Народы сменили народы, Лицо изменилось земли. Курган же с высокой главою, Где витязь могучий зарыт, Еще не сровнялся с землею, По-прежнему гордо стоит. А витязя славное имя До наших времен не дошло... Кто был он? венцами какими Свое он украсил чело? Чью кровь проливал он рекою? Какие он жег города? И смертью погиб он какою? И в землю опущен когда? Безмолвен курган одинокий... Наездник державный забыт, И тризны в пустыне широкой Никто уж ему не свершит! Лишь мимо кургана мелькает Сайгак, через поле скача, Иль вдруг на него налетает, Крилами треща, саранча. Порой журавлиная стая, Окончив подоблачный путь, К кургану шумит подлетая, Садится на нем отдохнуть. Тушканчик порою проскачет По нем при мерцании дня, Иль всадник высоко маячит На нем удалого коня; А слезы прольют разве тучи, Над степью плывя в небесах, Да ветер лишь свеет летучий С кургана забытого прах...1840-е годы
Правда
Ах ты гой еси, правда-матушка! Велика ты, правда, широка стоишь! Ты горами поднялась до поднебесья, Ты степями, государыня, раскинулась, Ты морями разлилася синими, Городами изукрасилась людными, Разрослася лесами дремучими! Не объехать кругом тебя во сто лет, Посмотреть на тебя – шапка валится! Выезжало семеро братиев, Семеро выезжало добрых молодцев, Посмотреть выезжали молодцы, Какова она, правда, на свете живет? А и много про нее гово́рено, А и много про нее писано, А и много про нее лыгано. Поскакали добры молодцы, Все семеро братьев удалыих, И подъехали к правде со семи концов, И увидели правду со семи сторон. Посмотрели добры молодцы, Покачали головами уда́лыми И вернулись на свою родину; А вернувшись на свою родину, Всяк рассказывал правду по-своему; Кто горой называл ее высокою, Кто городом людным торговыим, Кто морем, кто лесом, кто степию. И поспорили братья промеж собой, И вымали мечи булатные, И рубили друг друга до смерти, И, рубяся, корились, ругалися, И брат брата звал обманщиком. Наконец полегли до единого Все семеро братьев удалыих; Умирая ж, каждый сыну наказывал, Рубитися наказывал до смерти, Полегти за правду за истину; То ж и сын сыну наказывал, И доселе их внуки рубятся, Все рубятся за правду за истину, На великое себе разорение. А сказана притча не в осуждение, Не в укор сказана – в поучение, Людям добрым в уразумение.Василий Шибанов
Князь Курбский от царского гнева бежал, С ним Васька Шибанов, стремянный[16]. Дороден был князь. Конь измученный пал. Как быть среди ночи туманной? Но рабскую верность Шибанов храня, Свого отдает воеводе коня: «Скачи, князь, до вражьего стану, Авось я пешой не отстану». И князь доскакал. Под литовским шатром Опальный сидит воевода, Стоят в изумленье литовцы кругом, Без шапок толпятся у входа, Всяк русскому витязю честь воздает; Недаром дивится литовский народ, И ходят их головы кругом: «Князь Курбский нам сделался другом». Но князя не радует новая честь, Исполнен он желчи и злобы; Готовится Курбский царю перечесть Души оскорбленной зазнобы[17]: «Что долго в себе я таю и ношу, То все я пространно к царю напишу, Скажу напрямик, без изгиба, За все его ласки спасибо». И пишет боярин всю ночь напролет, Перо его местию дышит, Прочтет, улыбнется, и снова прочтет, И снова без отдыха пишет, И злыми словами язвит он царя, И вот уж, когда занялася заря, Поспело ему на отраду Послание, полное яду. Но кто ж дерзновенные князя слова Отвезть Иоанну возьмется? Кому не люба на плечах голова, Чье сердце в груди не сожмется? Невольно сомненья на князя нашли... Вдруг входит Шибанов в поту и в пыли: «Князь, служба моя не нужна ли? Вишь, наши меня не догнали!» И в радости князь посылает раба, Торопит его в нетерпенье: «Ты телом здоров, и душа не слаба. А вот и рубли в награжденье!» Шибанов в ответ господину: «Добро! Тебе здесь нужнее твое серебро, А я передам и за муки Письмо твое в царские руки». Звон медный несется, гудит над Москвой; Царь в смирной одежде[18] трезвонит; Зовет ли обратно он прежний покой Иль совесть навеки хоронит? Но часто и мерно он в колокол бьет, И звону внимает московский народ, И молится, полный боязни, Чтоб день миновался без казни. В ответ властелину гудят терема, Звонит с ним и Вяземский[19] лютый, Звонит всей опрични кромешная тьма, И Васька Грязной, и Малюта, И тут же, гордяся своею красой, С девичьей улыбкой, с змеиной душой, Любимец звонит Иоаннов, Отверженный богом Басманов. Царь кончил; на жезл опираясь, идет, И с ним всех окольных[20] собранье. Вдруг едет гонец, раздвигает народ, Над шапкою держит посланье. И спрянул с коня он поспешно долой, К царю Иоанну подходит пешой И молвит ему, не бледнея: «От Курбского князя Андрея!» И очи царя загорелися вдруг: «Ко мне? От злодея лихого? Читайте же, дьяки, читайте мне вслух Посланье от слова до слова! Подай сюда грамоту, дерзкий гонец!» И в ногу Шибанова острый конец Жезла своего он вонзает, Налег на костыль – и внимает: «Царю, прославляему древле от всех, Но тонущу в сквернах обильных! Ответствуй, безумный, каких ради грех Побил еси добрых и сильных? Ответствуй, не ими ль, средь тяжкой войны, Без счета твердыни врагов сражены? Не их ли ты мужеством славен? И кто им бысть верностью равен? Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас, В небытную ересь прельщенный? Внимай же! Приидет возмездия час, Писанием нам предреченный, И аз, иже[21] кровь в непрестанных боях За тя[22], аки воду, лиях[23] и лиях, С тобой пред судьею[24] предстану!» — Так Курбский писал к Иоанну. Шибанов молчал. Из пронзенной ноги Кровь алым струилася током, И царь на спокойное око слуги Взирал испытующим оком. Стоял неподвижно опричников ряд; Был мрачен владыки загадочный взгляд, Как будто исполнен печали; И все в ожиданье молчали. И молвил так царь: «Да, боярин твой прав, И нет уж мне жизни отрадной, Кровь добрых и сильных ногами поправ, Я пес недостойный и смрадный! Гонец, ты не раб, но товарищ и друг, И много, знать, верных у Курбского слуг, Что выдал тебя за бесценок! Ступай же с Малютой в застенок!» Пытают и мучат гонца палачи, Друг к другу приходят на смену: «Товарищей Курбского ты уличи, Открой их собачью измену!» И царь вопрошает: «Ну что же гонец? Назвал ли он вора друзей наконец?» «Царь, слово его все едино: Он славит свого господина!» День меркнет, приходит ночная пора, Скрыпят у застенка ворота, Заплечные[25] входят опять мастера, Опять зачалася работа. «Ну, что же, назвал ли злодеев гонец?» «Царь, близок ему уж приходит конец, Но слово его все едино, Он славит свого господина: «О князь, ты, который предать меня мог За сладостный миг укоризны, О князь, я молю, да простит тебе бог Измену твою пред отчизной! Услышь меня, боже, в предсмертный мой час. Язык мой немеет, и взор мой угас, Но в сердце любовь и прощенье, Помилуй мои прегрешенья! Услышь меня, боже, в предсмертный мой час, Прости моего господина! Язык мой немеет, и взор мой угас, Но слово мое все едино: За грозного, боже, царя я молюсь, За нашу святую, великую Русь, И твердо жду смерти желанной!» Так умер Шибанов, стремянный.1840-е годы
Богатырь
По русскому славному царству, На кляче разбитой верхом, Один богатырь разъезжает И взад, и вперед, и кругом. Покрыт он дырявой рогожей, Мочалы вокруг сапогов, На брови надвинута шапка, За пазухой пеннику штоф. «Ко мне, горемычные люди, Ко мне, молодцы, поскорей! Ко мне, молодицы и девки, — Отведайте водки моей!» Он потчует всех без разбору, Гроша ни с кого не берет, Встречает его с хлебом-солью, Честит его русский народ. Красив ли он, стар или молод — Никто не заметил того; Но ссоры, болезни и голод Плетутся за клячей его. И кто его водки отведал, От ней не отстанет никак, И всадник его провожает Услужливо в ближний кабак. Стучат и расходятся чарки, Трехпробное льется вино, В кабак, до последней рубахи, Добро мужика снесено. Стучат и расходятся чарки, Питейное дело растет, Жиды богатеют, жиреют, Беднеет, худеет народ. Со службы домой воротился В деревню усталый солдат; Его угощают родные, Вкруг штофа горелки сидят. Приходу его они рады, Но вот уж играет вино, По жилам бежит и струится И головы кружит оно. «Да что, – говорят ему братья, — Уж нешто ты нам и старшой? Ведь мы-то трудились, пахали, Не станем делиться с тобой!» И ссора меж них закипела, И подняли бабы содом; Солдат их ружейным прикладом, А братья его топором! Сидел над картиной художник, Он Божию матерь писал, Любил как дитя он картину, Он ею и жил и дышал; Вперед подвигалося дело, Порой на него с полотна С улыбкой святая глядела, Его ободряла она. Сгрустнулося раз живописцу, Он с горя горелки хватил — Забыл он свою мастерскую, Свою Богоматерь забыл. Весь день он валяется пьяный И в руки кистей не берет — Меж тем, под рогожею, всадник На кляче плетется вперед. Работают в поле ребята, И градом с них катится пот, И им, в умилении, всадник Орленый свой штоф отдает. Пошла между ними потеха! Трехпробное льется вино, По жилам бежит и струится И головы кружит оно. Бросают они свои сохи, Готовят себе кистени, Идут на большую дорогу, Купцов поджидают они. Был сын у родителей бедных; Любовью к науке влеком, Семью он свою оставляет И в город приходит пешком. Он трудится денно и нощно, Покою себе не дает, Он терпит и голод и холод, Но движется быстро вперед. Однажды, в дождливую осень, В одном переулке глухом, Ему попадается всадник На кляче разбитой верхом. «Здорово, товарищ, дай руку! Никак, ты, бедняга, продрог? Что ж, выпьем за Русь и науку! Я сам им служу, видит бог!» От стужи иль от голодухи Прельстился на водку и ты — И вот потонули в сивухе Родные, святые мечты! За пьянство из судной управы Повытчика выгнали раз; Теперь он крестьянам на сходке Читает подложный указ. Лукаво толкует свободу И бочками водку сулит: «Нет боле оброков, ни барщин; Того-де закон не велит. Теперь, вишь, другие порядки. Знай пей, молодец, не тужи! А лучше чтоб спорилось дело, На то топоры и ножи!» А всадник на кляче не дремлет, Он едет и свищет в кулак; Где кляча ударит копытом, Там тотчас стоит и кабак. За двести мильонов Россия Жидами на откуп взята — За тридцать серебряных денег Они же купили Христа. И много Понтийских Пилатов, И много лукавых Иуд Отчизну свою распинают, Христа своего продают. Стучат и расходятся чарки, Рекою бушует вино, Уносит деревни и села И Русь затопляет оно. Дерутся и режутся братья, И мать дочерей продает, Плач, песни, и вой, и проклятья — Питейное дело растет! И гордо на кляче гарцует Теперь богатырь удалой; Уж сбросил с себя он рогожу, Он шапку сымает долой: Гарцует оглоданный остов, Венец на плешивом челе, Венец из разбитых бутылок Блестит и сверкает во мгле. И череп безглазый смеется: «Призванье мое свершено! Недаром же им достается Мое даровое вино!»1849
Грешница
1
Народ кипит, веселье, хохот, Звон лютней и кимвалов грохот, Кругом и зелень, и цветы, И меж столбов, у входа дома, Парчи тяжелой переломы Тесьмой узорной подняты; Чертоги убраны богато, Везде горит хрусталь и злато, Возниц и коней полон двор; Теснясь за трапезой великой, Гостей пирует шумный хор. Идет, сливаяся с музыкой, Их перекрестный разговор. Ничем беседа не стеснима, Они свободно говорят О ненавистном иге Рима, О том, как властвует Пилат, О их старшин собранье тайном, Торговле, мире, и войне, И Муже том необычайном, Что появился в их стране.2
«Любовью к ближним пламенел, Народ смиренью Он учил, Он все законы Моисея Любви закону подчинил; Не терпит гнева Он, ни мщенья, Он проповедует прощенье, Велит за зло платить добром; Есть неземная сила в нем, Слепым Он возвращает зренье, Дарит и крепость и движенье Тому, кто был и слаб и хром; Ему признания не надо, Сердец мышленье отперто, Его пытующего взгляда Еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, Везде Спасителем он был, И всем простер благую руку, И никого не осудил. То, видно, Богом Муж избра́нный! Он там, по о́нпол Иордана, Ходил как посланный небес, Он много там свершил чудес, Теперь пришел Он, благодушный, На эту сторону реки, Толпой прилежной и послушной За ним идут ученики».3
Так гости, вместе рассуждая, За длинной трапезой сидят; Меж ними, чашу осушая, Сидит блудница молодая; Ее причудливый наряд Невольно привлекает взоры, Ее нескромные уборы О грешной жизни говорят; Но дева падшая прекрасна; Взирая на нее, навряд Пред силой прелести опасной Мужи и старцы устоят: Глаза насмешливы и смелы, Как снег Ливана, зубы белы, Как зной, улыбка горяча; Вкруг стана падая широко, Сквозные ткани дразнят око, С нагого спущены плеча. Ее и серьги и запястья, Звеня, к восторгам сладострастья, К утехам пламенным зовут, Алмазы блещут там и тут, И, тень бросая на ланиты, Во всем обилии красы, Жемчужной нитью перевиты, Падут роскошные власы; В ней совесть сердца не тревожит, Стыдливо не вспыхает кровь, Купить за злато всякий может Ее продажную любовь. И внемлет дева разговорам, И ей они звучат укором; Гордыня пробудилась в ней, И говорит с хвастливым взором: «Я власти не страшусь ничьей; Заклад со мной держать хотите ль? Пускай предстанет ваш Учитель, Он не смутит моих очей!»4
Вино струится, шум и хохот, Звон лютней и кимвалов грохот, Куренье, солнце и цветы; И вот к толпе, шумящей праздно, Подходит Муж благообразный; Его чудесные черты, Осанка, поступь и движенья, Во блеске юной красоты. Полны огня и вдохновенья; Его величественный вид Неотразимой дышит властью, К земным утехам нет участья, И взор в грядущее глядит. То Муж на смертных непохожий, Печать избранника на Нем, Он светел, как архангел Божий Когда пылающим мечом Врага в кромешные оковы Он гнал по манию Иеговы. Невольно грешная жена Его величьем смущена И смотрит робко, взор понизив, Но, вспомня свой недавный вызов, Она с седалища встает И, стан свой выпрямивши гибкий И смело выступив вперед, Пришельцу с дерзкою улыбкой Фиал шипящий подает. «Ты тот, что учит отреченью Не верю твоему ученью, Мое надежней и верней! Меня смутить не мысли ныне, Один скитавшийся в пустыне, В посте проведший сорок дней! Лишь наслажденьем я влекома, С постом, с молитвой незнакома, Я верю только красоте, Служу вину и поцелуям, Мой дух тобою не волнуем, Твоей смеюсь я чистоте!» И речь ее еще звучала, Еще смеялася она, И пена легкая вина По кольцам рук ее бежала, Как общий говор вкруг возник, И слышит грешница в смущенье: «Она ошиблась, в заблужденье Ее привел Пришельца лик — То не учитель перед нею, То Иоанн из Галилеи, Его любимый ученик!»5
Небрежно немощным обидам Внимал он девы молодой, И вслед за ним с спокойным видом Подходит к храмине другой. В его смиренном выраженье Восторга нет, ни вдохновенья, Но мысль глубокая легла На очерк дивного чела. То не пророка взгляд орлиный, Не прелесть ангельской красы, Делятся на две половины Его волнистые власы; Поверх хитона упадая, Одела риза шерстяная Простою тканью стройный рост, В движеньях скромен он и прост; Ложась вкруг уст его прекрасных, Слегка раздвоена брада, Таких очей благих и ясных Никто не видел никогда. И пронеслося над народом Как дуновенье тишины, И чудно благостным приходом Сердца гостей потрясены. Замолкнул говор. В ожиданье Сидит недвижное собранье, Тревожно дух переводя. И Он, в молчании глубоком, Обвел сидящих тихим оком И, в дом веселья не входя, На дерзкой деве самохвальной Остановил свой взор печальный.6
И был тот взор как луч денницы, И все открылося Ему, И в сердце сумрачном блудницы Он разогнал ночную тьму; И всё, что было там таимо, В грехе что было свершено, В ее глазах неумолимо До глубины озарено; Внезапно стала ей понятна Неправда жизни святотатной, Вся ложь ее порочных дел, И ужас ею овладел. Уже на грани сокрушенья, Она постигла в изумленье, Как много благ, как много сил Господь ей щедро подарил И как она восход свой ясный Грехом мрачила ежечасно; И, в первый раз гнушаясь зла, Она в том взоре благодатном И кару дням своим развратным, И милосердие прочла. И, чуя новое начало, Еще страшась земных препон, Она, колебляся, стояла... И вдруг в тиши раздался звон Из рук упавшего фиала... Стесненной груди слышен стон, Бледнеет грешница младая, Дрожат открытые уста, И пала ниц она, рыдая, Перед святынею Христа.1857
Старицкий воевода
Когда был обвинен стари́цкий воевода, Что, гордый знатностью и древностию рода, Присвоить он себе мечтает царский сан, Предстать ему велел пред очи Иоанн. И осужденному поднес венец богатый, И ризою облек из жемчуга и злата, И бармы возложил, и сам на свой престол По шелковым коврам виновного возвел. И, взор пред ним склонив, он пал среди палаты, И, в землю кланяясь с покорностью трикраты, Сказал: «Доволен будь в величии своем, Се аз, твой раб, тебе на царстве бью челом!» И, вспрянув тот же час со злобой беспощадной, Он в сердце нож ему вонзил рукою жадной. И, лик свой наклоня над сверженным врагом, Он наступил на труп узорным сапогом И в очи мертвые глядел, и с дрожью зыбкой Державные уста змеилися улыбкой.Иоанн Дамаскин
1
Любим калифом Иоанн; Ему, что день, почет и ласка, К делам правления призван Лишь он один из христиан Порабощенного Дамаска. Его поставил властелин И суд рядить, и править градом, Он с ним беседует один, Он с ним сидит в совете рядом; Окружены его дворцы Благоуханными садами, Лазурью блещут изразцы, Убра́ны стены янтарями; В полдневный зной приют и тень Дают навесы, шелком тканы, В узорных банях ночь и день Шумят студеные фонтаны. Но от него бежит покой, Он бродит сумрачен; не той Он прежде мнил идти дорогой, Он счастлив был бы и убогий, Когда б он мог в тиши лесной, В глухой степи, в уединенье, Двора волнение забыть И жизнь смиренно посвятить Труду, молитве, песнопенью. И раздавался уж не раз Его красноречивый глас Противу ереси безумной. Что на искусство поднялась Грозой неистовой и шумной. Упорно с ней боролся он, И от Дамаска до Царьграда Был, как боец за честь икон И как художества ограда, Давно известен и почтен. Но шум и блеск его тревожит, Ужиться с ними он не может, И, тяжкой думой обуян, Тоска в душе и скорбь на лике, Вошел правитель Иоанн В чертог дамасского владыки. «О государь, внемли! мой сан, Величье, пышность, власть и сила. Все мне несносно, все постыло. Иным призванием влеком, Я не могу народом править: Простым рожден я быть певцом, Глаголом вольным Бога славить! В толпе вельмож всегда один, Мученья полон я и скуки; Среди пиров, в главе дружин, Иные слышатся мне звуки; Неодолимый их призыв К себе влечет меня все боле — О, отпусти меня, калиф, Дозволь дышать и петь на воле!» И тот просящему в ответ: «Возвеселись, мой раб любимый! Печали вечной в мире нет И нет тоски неизлечимой! Твоею мудростью одной Кругом Дамаск могуч и славен. Кто ныне нам величьем равен? И кто дерзнет на нас войной? А я возвышу жребий твой — Недаром я окрест державен — Ты примешь чести торжество, Ты будешь мне мой брат единый: Возьми полцарства моего, Лишь правь другою половиной!» К нему певец: «Твой щедрый дар, О государь, певцу не нужен; С иною силою он дружен; В его груди пылает жар, Которым зиждется созданье; Служить Творцу его призванье; Его души незримый мир Престолов выше и порфир. Он не изменит, не обманет; Все, что других влечет и манит: Богатство, сила, слава, честь — Все в мире том в избытке есть; А все сокровища природы: Степей безбережный простор, Туманный очерк дальних гор И моря пенистые воды, Земля, и солнце, и луна, И всех созвездий хороводы, И синей тверди глубина — То всё одно лишь отраженье, Лишь тень таинственных красот, Которых вечное виденье В душе избранника живет! О, верь, ничем тот не подкупен, Кому сей чудный мир доступен, Кому Господь дозволил взгляд В то сокровенное горнило, Где первообразы кипят, Трепещут творческие силы! То их торжественный прилив Звучит певцу в его глаголе — О, отпусти меня, калиф, Дозволь дышать и петь на воле!» И рек калиф: «В твоей груди Не властен я сдержать желанье, Певец, свободен ты, иди, Куда влечет тебя призванье!» И вот правителя дворцы Добычей сделались забвенья; Оделись пестрые зубцы Травой и прахом запустенья; Его несчетная казна Давно уж нищим раздана, Усердных слуг не видно боле, Рабы отпущены на волю, И не укажет ни один, Куда их скрылся господин. В хоромах стены и картины Давно затканы паутиной, И мхом фонтаны заросли; Плющи, ползущие по хорам, От самых сводов до земли Зеленым падают узором, И мак спокойно полевой Растет кругом на звонких плитах, И ветер, шелестя травой, В чертогах ходит позабытых.2
Благословляю вас, леса, Долины, нивы, горы, воды! Благословляю я свободу И голубые небеса! И посох мой благословляю, И эту бедную суму, И степь от краю и до краю, И солнца свет, и ночи тьму, И одинокую тропинку, По коей, нищий, я иду, И в поле каждую былинку, И в небе каждую звезду! О, если б мог всю жизнь смешать я, Всю душу вместе с вами слить! О, если б мог в свои объятья Я вас, враги, друзья и братья, И всю природу заключить! Как горней бури приближенье, Как натиск пенящихся вод, Теперь в груди моей растет Святая сила вдохновенья. Уж на устах дрожит хвала Всему, что благо и достойно, — Какие ж мне воспеть дела? Какие битвы или войны? Где я для дара моего Найду высокую задачу? Чье передам я торжество Иль чье падение оплачу? Блажен, кто рядом славных дел Свой век украсил быстротечный; Блажен, кто жизнию умел Хоть раз коснуться правды вечной; Блажен, кто истину искал, И тот, кто, побежденный, пал В толпе ничтожной и холодной, Как жертва мысли благородной! Но не для них моя хвала, Не им восторга излиянья! Мечта для песен избрала Не их высокие деянья! И не в венце сияет он, К кому душа моя стремится; Не блеском славы окружен, Не на звенящей колеснице Стоит он, гордый сын побед; Не в торжестве величья – нет, — Я зрю его передо мною С толпою бедных рыбаков; Он тихо, мирною стезею, Идет меж зреющих хлебов; Благих речей своих отраду В сердца простые он лиет, Он правды алчущее стадо К ее источнику ведет. Зачем не в то рожден я время, Когда меж нами, во плоти, Неся мучительное бремя, Он шел на жизненном пути! Зачем я не могу нести, О мой Господь, Твои оковы, Твоим страданием страдать, И крест на плечи Твой приять, И на главу венец терновый! О, если б мог я лобызать Лишь край святой Твоей одежды, Лишь пыльный след Твоих шагов, О мой Господь, моя надежда, Моя и сила и покров! Тебе хочу я все мышленья, Тебе всех песней благодать, И думы дня, и ночи бденья, И сердца каждое биенье, И душу всю мою отдать! Не отверзайтесь для другого Отныне, вещие уста! Греми лишь именем Христа, Мое восторженное слово!3
Часы бегут. Ночная тень Не раз сменяла зной палящий, Не раз, всходя, лазурный день Свивал покров с природы спящей; И перед странником вдали И волновались и росли Разнообразные картины: Белели снежные вершины Над лесом кедровым густым, Иордан сверкал в степном просторе, И Мертвое чернело море, Сливаясь с небом голубым. И вот, виясь в степи широкой, Чертой изогнутой легло Пред ним Кедронского потока Давно безводное русло. Смеркалось. Пар струился синий; Кругом царила тишина; Мерцали звезды; над пустыней Всходила медленно луна. Брегов сожженные стремнины На дно сбегают крутизной, Спирая узкую долину Двойной отвесною стеной. Внизу кресты, символы веры, Стоят в обрывах здесь и там, И видны странника очам В утесах рытые пещеры. Сюда со всех концов земли, Бежав мирского треволненья, Отцы святые притекли Искать покоя и спасенья. С краев до высохшего дна, Где спуск крутой ведет в долину, Руками их возведена Из камней крепкая стена, Отпор степному сарацину. В стене ворота. Тесный вход Над ними башня стережет. Тропинка вьется над оврагом, И вот, спускаясь по скалам, При свете звезд, усталым шагом Подходит странник к воротам. «Тебя, безбурное жилище, Тебя, познания купель, Житейских помыслов кладбище И новой жизни колыбель, Тебя приветствую, пустыня, К тебе стремился я всегда! Будь мне убежищем отныне, Приютом песен и труда! Все попечения мирские Сложив с себя у этих врат, Приносит вам, отцы святые, Свой дар и гусли новый брат!»4
«Отшельники Кедронского потока, Игумен вас сзывает на совет! Сбирайтесь все: пришедший издалека Вам новый брат приносит свой привет! Велики в нем и вера и призванье, Но должен он пройти чрез испытанье. Из вас его вручаю одному: Он тот певец, меж всеми знаменитый, Что разогнал иконоборства тьму, Чьим словом ложь попра́на и разбита, То Иоанн, святых икон защита — Кто хочет быть наставником ему?» И лишь назвал игумен это имя, Заволновался весь монахов ряд, И на певца дивятся и глядят, И пробегает шепот между ними, Главами все поникнувши седыми, С смирением игумну говорят: «Благословен сей славный Божий воин, Благословен меж нас его приход, Но кто же здесь учить того достоин, Кто правды свет вокруг себя лиёт? Чье слово нам как колокол звучало — Того ль приять дерзнем мы под начало?» Тут из толпы один выходит брат; То черноризец был на вид суровый, И строг его пытующий был взгляд, И строгое певцу он молвил слово: «Держать посты уставы нам велят, Служенья ж мы не ведаем иного! — Коль под моим началом хочешь быть, Тебе согласен дать я наставленье, Но должен ты отныне отложить Ненужных дум бесплодное броженье; Дух праздности и прелесть песнопенья Постом, певец, ты должен победить! Коль ты пришел отшельником в пустыню, Умей мечты житейские попрать, И на уста, смирив свою гордыню, Ты наложи молчания печать! Исполни дух молитвой и печалью — Вот мой устав тебе в новоначалье». – Замолк монах. Нежданный приговор Как гром упал средь мирного синклита. Смутились все. Певца померкнул взор, Покрыла бледность впалые ланиты. И неподвижен долго он стоял, Безмолвно опустив на землю очи, Как будто бы ответа он искал, Но отвечать недоставало мочи. И начал он: «Моих всю бодрость сил, И мысли все, и все мои стремленья — Одной я только цели посвятил: Хвалить Творца и славить в песнопенье. Но ты велишь скорбеть мне и молчать — Твоей, отец, я повинуюсь воле: Весельем сердце не взыграет боле, Уста сомкнет молчания печать. Так вот где ты таилось, отреченье, Что я не раз в молитвах обещал! Моей отрадой было песнопенье, И в жертву Ты, Господь, его избрал! Настаньте ж, дни молчания и муки! Прости, мой дар! Ложись на гусли, прах! А вы, в груди взлелеянные звуки, Замрите все на трепетных устах! Спустися, ночь, на горестного брата И тьмой его от солнца отлучи! Померкните, затмитесь без возврата, Моих псалмов звенящие лучи! Погибни, жизнь! Погасни, огнь алтарный! Уймись во мне, взволнованная кровь! Свети лишь ты, небесная любовь, В моей ночи звездою лучезарной! О мой Господь! Прости последний стон, Последний сердца страждущего ропот! Единый миг – замрет и этот шепот, И встану я, тобою возрожден! Свершилось. Мрака набегают волны. Взор гаснет. Стынет кровь. Всему конец! Из мира звуков ныне в мир безмолвный Нисходит к вам развенчанный певец!»5
В глубоком ущелье, Как гнезда стрижей, По желтым обрывам темнеют пустынные кельи, Но речи не слышно ничьей; Все тихо, пока не сберется к служенью Отшельников рой; И вторит тогда их обрядному пенью Один отголосок глухой. А там, над краями долины, Безлюдной пустыни царит торжество, И пальмы не видно нигде ни единой, Все пусто кругом и мертво. Как жгучее бремя, Так небо усталую землю гнетет, И кажется, будто бы время Свой медленный звучно свершает над нею полет. Порой отдаленное слышно рычанье Голодного льва; И снова наступит молчанье, И снова шумит лишь сухая трава, Когда из-под ка́мней змея выползая Блеснет чешуей; Крилами треща, саранча полевая Взлетит иногда. Иль случится порой, Пустыня проснется от дикого клика, Посыпятся камни, и там, в вышине, Дрожа и колеблясь, мохнатая пика Покажется в небе. На легком коне Появится всадник; над самым оврагом Сдержав скакуна запененного лёт, Проедет он мимо обители шагом Да инокам сверху проклятье пошлет. И снова все стихнет. Лишь в полдень орлицы На крыльях недвижных парят, Да вечером звезды горят, И скучною тянутся длинные дни вереницей.6
Порою в тверди голубой Проходят тучи над долиной; Они картину за картиной, Плывя, свивают меж собой. Так, в нескончаемом движенье, Клубится предо мной всегда Воспоминаний череда, Погибшей жизни отраженья; И льнут, и вьются без конца, И вечно волю осаждают, И онемевшего певца, Ласкаясь, к песням призывают. И казнью стал мне праздный дар, Всегда готовый к пробужденью; Так ждет лишь ветра дуновенья Под пеплом тлеющий пожар — Перед моим тревожным духом Теснятся образы толпой, И, в тишине, над чутким ухом Дрожит созвучий мерный строй; И я, не смея святотатно Их вызвать в жизнь из царства тьмы, В хаоса ночь гоню обратно Мои непетые псалмы. Но тщетно я, в бесплодной битве, Твержу уставные слова И заучённые молитвы — Душа берет свои права! Увы, под этой ризой черной, Как в оны дни под багрецом, Живым палимое огнем, Мятется сердце непокорно! Юдоль, где я похоронил Броженье деятельных сил, Свободу творческого слова — Юдоль молчанья рокового! О, передай душе моей Твоих стремнин покой угрюмый! Пустынный ветер, о развей Мои недремлющие думы!7
Тщетно он просит и ждет от безмолвной юдоли покоя, Ветер пустынный не может недремлющей думы развеять. Годы проходят один за другим, всё бесплодные годы! Всё тяжелее над ним тяготит роковое молчанье. Так он однажды сидел у входа пещеры, рукою Грустные очи закрыв и внутренним звукам внимая. К скорбному тут к нему подошел один черноризец, Пал на колени пред ним и сказал: «Помоги, Иоанне! Брат мой по плоти преставился; братом он был по душе мне! Тяжкая горесть снедает меня; я плакать хотел бы — Слезы не льются из глаз, но скипаются в горестном сердце. Ты же мне можешь помочь: напиши лишь умильную песню, Песнь погребальную милому брату, ее чтобы слыша, Мог я рыдать, и тоска бы моя получила ослабу!» Кротко взглянул Иоанн и печально в ответ ему молвил: «Или не ведаешь ты, каким я связан уставом? Строгое старец на песни мои наложил запрещенье!» Тот же стал паки его умолять, говоря: «Не узнает Старец о том никогда; он отсель отлучился на три дня, Брата ж мы завтра хороним; молю тебя всею душою, Дай утешение мне в беспредельно горькой печали!» Паки ж отказ получив: «Иоанне! – сказал черноризец, — Если бы был ты телесным врачом, а я б от недуга Так умирал, как теперь умираю от горя и скорби, Ты ли бы в помощи мне отказал? И не дашь ли ответа Господу Богу о мне, если ныне умру безутешен?» Так говоря, колебал в Дамаскине он мягкое сердце. Собственной полон печали, певец дал жалости место; Черною тучей тогда на него низошло вдохновенье, Образы мрачной явились толпой, и в воздухе звуки Стали надгробное мерно гласить над усопшим рыданье. Слушал певец, наклонивши главу, то незримое пенье, Долго слушал, и встал, и, с молитвой вошедши в пещеру, Там послушной рукой начертал, что ему прозвучало. Так был нарушен устав, так прервано было молчанье. – Над вольной мыслью Богу неугодны Насилие и гнет: Она, в душе рожденная свободно, В оковах не умрет! Ужели вправду мнил ты, близорукий, Сковать свои мечты? Ужель попрать в себе живые звуки Насильно думал ты? С Ливанских гор, где в высоте лазурной Белеет дальний снег, В простор степей стремяся, ветер бурный Удержит ли свой бег? И потекут ли вспять струи потока, Что между скал гремят? И солнце там, поднявшись от востока, Вернется ли назад?8
Колоколов унылый звон С утра долину оглашает. Покойник в церковь принесен; Обряд печальный похорон Собор отшельников свершает. Свечами светится алтарь, Стоит певец с поникшим взором, Поет напутственный тропарь, Ему монахи вторят хором:Т р о п а р ь
«Какая сладость в жизни сей Земной печали непричастна? Чье ожиданье не напрасно? И где счастливый меж людей? Все то превратно, все ничтожно, Что мы с трудом приобрели, — Какая слава на земли Стоит тверда и непреложна? Все пепел, призрак, тень и дым, Исчезнет все как вихорь пыльный, И перед смертью мы стоим И безоружны и бессильны. Рука могучего слаба, Ничтожны царские веленья — Прими усопшего раба, Господь, в блаженные селенья! Как ярый витязь смерть нашла, Меня как хищник низложила, Свой зев разинула могила И все житейское взяла. Спасайтесь, сродники и чада, Из гроба к вам взываю я, Спасайтесь, братья и друзья, Да не узрите пламень ада! Вся жизнь есть царство суеты, И, дуновенье смерти чуя, Мы увядаем, как цветы, — Почто же мы мятемся всуе? Престолы наши суть гроба, Чертоги наши – разрушенье, — Прими усопшего раба, Господь, в блаженные селенья! Средь груды тлеющих костей Кто царь? кто раб? судья иль воин? Кто царства Божия достоин? И кто отверженный злодей? О братья, где сребро и злато? Где сонмы многие рабов? Среди неведомых гробов Кто есть убогий, кто богатый? Все пепел, дым, и пыль, и прах, Все призрак, тень и привиденье — Лишь у тебя на небесах, Господь, и пристань и спасенье! Исчезнет все, что было плоть, Величье наше будет тленье — Прими усопшего, Господь, В твои блаженные селенья! И Ты, Предстательница всем! И Ты, Заступница скорбящим! К Тебе о брате, здесь лежащем, К Тебе, Святая, вопием! Моли Божественного Сына, Его, Пречистая, моли, Дабы отживший на земли Оставил здесь свои кручины! Все пепел, прах, и дым, и тень! О други, призраку не верьте! Когда дохнет в нежданный день Дыханье тлительное смерти, Мы все поляжем, как хлеба, Серпом подрезанные в нивах, — Прими усопшего раба, Господь, в селениях счастливых! Иду в незнаемый я путь, Иду меж страха и надежды; Мой взор угас, остыла грудь, Не внемлет слух, сомкнуты вежды; Лежу безгласен, недвижим, Не слышу братского рыданья, И от кадила синий дым Не мне струит благоуханье; Но вечным сном пока я сплю. Моя любовь не умирает, И ею, братья, вас молю, Да каждый к Господу взывает: Господь! В тот день, когда труба Вострубит мира преставленье, — Прими усопшего раба В Твои блаженные селенья!»9
Так он с монахами поет. Но вот меж ними, гость нежданный, Нахмуря брови, предстает Наставник старый Иоанна. Суровы строгие черты, Главу подъемля величаво: «Певец, – он молвит, – так ли ты Блюдешь и чтишь мои уставы? Когда пред нами братний прах, Не петь, но плакать нам пристойно! Изыди, инок недостойный, — Не в наших жить тебе стенах!» И, гневной речью пораженный, Виновный пал к его ногам: «Прости, отец! не знаю сам, Как преступил твои законы! Во мне звучал немолчный глас, В неодолимой сердца муке Невольно вырвалися звуки, Невольно песня полилась!» И ноги старца он объемлет: «Прости вину мою, отец!» Но тот раскаянью не внемлет, Он говорит: «Беги, певец! Досель житейская гордыня Еще жива в твоей груди — От наших келий отойди, Не оскверняй собой пустыни!»10
Прошла по лавре роковая весть, Отшельников смутилося собранье: «Наш Иоанн, Христовой церкви честь, Наставника навлек негодованье! Ужель ему придется перенесть, Ему, певцу, позорное изгнанье?» И жалостью исполнились сердца, И все собором молят за певца. Но, словно столб, наставник непреклонен, И так в ответ просящим молвит он: «Устав, что мной однажды узаконен, Не будет даром ныне отменен. Кто к гордости и к ослушанью склонен, Того как терн мы вырываем вон. Но если в нем неложны сожаленья, Эпитимьей он выкупит прощенье: Пусть он обходит лавры черный двор, С лопатою обходит и с метлою; Свой дух смирив, пусть всюду грязь и сор Он непокорной выметет рукою. Дотоль над ним мой крепок приговор, И нет ему прощенья предо мною!» Замолк. И, вняв безжалостный отказ, Вся братия в печали разошлась. – Презренье, други, на певца, Что́ дар священный унижает, Что́ пред кумирами склоняет Красу лаврового венца! Что́ гласу истины и чести Внушенье выгод предпочел, Что́ угождению и лести Бесстыдно продал свой глагол! Из века в век звучать готово, Ему на казнь и на позор, Его бессовестное слово, Как всенародный приговор. Но ты, иной взалкавший пищи, Ты, что молитвою влеком, Высокий сердцем, духом нищий, Живущий мыслью со Христом, Ты, что пророческого взора Пред блеском мира не склонял, — Испить ты можешь без укора Весь унижения фиал! И старца речь дошла до Дамаскина. Эпитимьи условия узнав, Певец спешит свои загладить вины, Спешит почтить неслыханный устав. Сменила радость горькую кручину: Без ропота лопату в руки взяв, Певец Христа не мыслит о пощаде, Но униженье терпит Бога ради. – Тот, кто с вечною любовию Воздавал за зло добром — Избиен, покрытый кровию, Венчан те́рновым венцом — Всех, с собой страданьем сближенных, В жизни долею обиженных, Угнетенных и униженных, Осенил своим крестом. Вы, чьи лучшие стремления Даром гибнут под ярмом, Верьте, други, в избавление — К Божью свету мы грядем! Вы, кручиною согбенные, Вы, цепями удрученные, Вы, Христу сопогребенные, Совоскреснете с Христом!11
Темнеет. Пар струится синий; В ущелье мрак и тишина; Мерцают звезды; и луна Восходит тихо над пустыней. В свою пещеру одинок Ушел отшельник раздраженный. Все спит. Луной посеребренный, Иссякший видится поток. Над ним скалистые вершины Из мрака смотрят там и тут; Но сердце старца не влекут Природы мирные картины; Оно для жизни умерло. Согнувши строгое чело, Он, чуждый миру, чуждый братьям, Лежит, простерт перед распятьем. В пыли седая голова, И смерть к себе он призывает, И шепчет мрачные слова, И камнем в перси ударяет. И долго он поклоны клал, И долго смерть он призывал, И наконец, в изнеможенье, Безгласен, наземь он упал, И старцу видится виденье: Разверзся вдруг утесов свод, И разлилось благоуханье, И от невидимых высот В пещеру падает сиянье. И в трепетных его лучах, Одеждой звездною блистая, Явилась Дева Пресвятая С Младенцем спящим на руках. Из света чудного слиянный, Ее небесно-кроток вид. «Почто ты гонишь Иоанна? — Она монаху говорит. — Его молитвенные звуки, Как голос неба на земли, В сердца послушные текли. Врачуя горести и муки. Почто ж ты, старец, заградил Нещадно тот источник сильный, Который мир бы напоил Водой целебной и обильной? На то ли жизни благодать Господь послал Своим созданьям, Чтоб им бесплодным истязаньем Себя казнить и убивать? Он дал природе изобилье, И бег струящимся рекам, Он дал движенье облакам, Земле цветы и птицам крылья. Почто ж певца живую речь Сковал ты заповедью трудной? Оставь его глаголу течь Рекой певучей неоскудно! Да оросят его мечты, Как дождь, житейскую долину; Оставь земле ее цветы, Оставь созвучья Дамаскину!» Виденье скрылось в облаках, Заря восходит из тумана... Встает встревоженный монах, Зовет и ищет Иоанна — И вот обнял его старик: «О сын смирения Христова! Тебя душою я постиг — Отныне петь ты можешь снова! Отверзи вещие уста, Твои окончены гоненья! Во имя Господа Христа, Певец, святые вдохновенья Из сердца звучного излей, Меня ж, молю, прости, о чадо, Что слову вольному преградой Я был по грубости моей!»12
Воспой же, страдалец, воскресную песнь! Возрадуйся жизнию новой! Исчезла коснения долгая плеснь, Воскресло свободное слово! Того, кто оковы души сокрушил, Да славит немолчно созданье! Да хвалят торжественно Господа Сил И солнце, и месяц, и хоры светил, И всякое в мире дыханье! Блажен, кому ныне, Господь, пред Тобой И мыслить и молвить возможно! С бестрепетным сердцем и с теплой мольбой Во имя Твое он выходит на бой Со всем, что неправо и ложно! Раздайся ж, воскресная песня моя! Как солнце взойди над землею! Расторгни убийственный сон бытия И, свет лучезарный повсюду лия, Громи, что созиждено тьмою! Не с диких падает высот, Средь темных скал, поток нагорный; Не буря грозная идет; Не ветер прах вздымает черный; Не сотни гнущихся дубов Шумят главами вековыми; Не ряд морских бежит валов, Качая гребнями седыми, — То Иоанна льется речь, И, сил исполненная новых, Она громит, как Божий меч, Во прах противников Христовых. Не солнце красное встает; Не утро светлое настало; Не стая лебедей взыграла Весной на лоне ясных вод; Не соловьи, в стране привольной, Зовут соседних соловьев; Не гул несется колокольный От многохрамных городов, — То слышен всюду плеск народный, То ликованье христиан, То славит речию свободной И хвалит в песнях Иоанн, Кого хвалить в своем глаголе Не перестанут никогда Ни каждая былинка в поле, Ни в небе каждая звезда.1858
Пантелей-целитель
Пантелей-государь ходит по полю, И цветов и травы ему по пояс, И все травы пред ним расступаются, И цветы все ему поклоняются. И он знает их силы сокрытые, Все благие и все ядовитые, И всем добрым он травам, невредныим. Отвечает поклоном приветныим, А которы растут виноватые, Тем он палкой грозит суковатою. По листочку с благих собирает он, И мешок ими свой наполняет он, И на хворую братию бедную Из них зелие варит целебное. Государь Пантелей! Ты и нас пожалей. Свой чудесный елей В наши раны излей, В наши многие раны сердечные; Есть меж нами душою увечные, Есть и разумом тяжко болящие, Есть глухие, немые, незрящие, Опоенные злыми отравами, — Помоги им своими ты травами! А еще, государь, — Чего не было встарь — И такие меж нас попадаются, Что лечением всяким гнушаются. Они звона не терпят гуслярного, Подавай им товара базарного! Всё, чего им не взвесить, не смеряти, Всё, кричат они, надо похерити; Только то, говорят, и действительно, Что для нашего тела чувствительно; И приемы у них дубоватые, И ученье-то их грязноватое, И на этих людей, Государь Пантелей, Палки ты не жалей, Суковатыя!Февраль 1866 г.
Чужое горе
В лесную чащу́ богатырь при луне Въезжает в блестящем уборе; Он в остром шеломе, в кольчатой броне И свистнул беспечно, бочась на коне: «Какое мне деется горе!» И едет он рысью, гремя и звеня, Стучат лишь о корни копыты; Вдруг с дуба к нему кто-то прыг на коня! «Эй, кто за плечами там сел у меня? Со мной, берегись, не шути ты!» И щупает он у себя за спиной, И шарит, с досадой во взоре; Но внемлет ответ: «Я тебе не чужой, Ты, чай, об усобице слышал княжой, Везешь Ярослава ты горе!» «Ну, ври себе! – думает витязь, смеясь, — Вот, подлинно, было бы диво! Какая твоя с Ярославом-то связь? В Софийском соборе спит киевский князь, А горе небось его живо?» Но дале он едет, гремя и звеня, С товарищем боле не споря; Вдруг снова к нему кто-то прыг на коня И на ухо шепчет: «Вези ж и меня, Я, витязь, татарское горе!» «Ну, видно, не в добрый я выехал час! Вишь, притча какая бывает! Что шишек еловых здесь падает вас!» Так думает витязь, главою склонясь, А конь уже шагом шагает. Но вот и ступать уж ему тяжело, И стал спотыкаться он вскоре, А тут кто-то сызнова прыг за седло! «Какого там черта еще принесло?» «Ивана Васильича горе!» «Долой вас! И места уж нет за седлом! Плеча мне совсем отдавило!» «Нет, витязь, уж сели, долой не сойдем!» И едут они на коне вчетвером, И ломится конская сила. «Эх, – думает витязь, – мне б из лесу вон Да в поле скакать на просторе! И как я без боя попался в полон? Чужое, вишь, горе тащить осужден, Чужое, прошедшее горе!»Змей Тугарин
1
Над светлым Днепром, средь могучих бояр, Близ стольного Киева-града, Пирует Владимир, с ним молод и стар, И слышен далеко звон кованых чар — Ой ладо, ой ладушки-ладо!2
И молвит Владимир: «Что ж нету певцов? Без них мне и пир не отрада!» И вот незнакомый из дальних рядов Певец выступает на княжеский зов — Ой ладо, ой ладушки-ладо!3
Глаза словно щели, растянутый рот, Лицо на лицо не похоже, И выдались скулы углами вперед, И ахнул от ужаса русский народ: «Ой рожа, ой страшная рожа!»4
И начал он петь на неведомый лад: «Владычество смелым награда! Ты, княже, могуч и казною богат, И помнит ладьи твои дальний Царьград — Ой ладо, ой ладушки-ладо!5
Но род твой не вечно судьбою храним, Настанет тяжелое время, Обнимут твой Киев и пламя и дым, И внуки твои будут внукам моим Держать золоченое стремя!»6
И вспыхнул Владимир при слове таком, В очах загорелась досада — Но вдруг засмеялся – и хохот кругом В рядах прокатился, как по небу гром, — Ой ладо, ой ладушки-ладо!7
Смеется Владимир, и с ним сыновья, Смеется, потупясь, княгиня, Смеются бояре, смеются князья. Удалый Попович, и старый Илья, И смелый Никитич Добрыня.8
Певец продолжает: «Смешна моя весть И вашему уху обидна? Кто мог бы из вас оскорбление снесть? Бесценное русским сокровище честь, Их клятва: «Да будет мне стыдно!»9
На вече народном вершится их суд, Обиды смывает с них поле[26] — Но дни, погодите, иные придут, И честь, государи, заменит вам кнут, А вече – каганская[27] воля!»10
«Стой! – молвит Илья, – твой хоть голос и чист, Да песня твоя не пригожа! Был вор Соловей, как и ты, голосист, Да я пятерней приглушил его свист — С тобой не случилось бы то же!»11
Певец продолжает: «И время придет, Уступит наш хан христианам, И снова подымется русский народ, И землю единый из вас соберет, Но сам же над ней станет ханом!12
И в тереме будет сидеть он своем, Подобен кумиру средь храма, И будет он спины вам бить батожьем, А вы ему стукать да стукать челом — Ой срама, ой горького срама!»13
«Стой! – молвит Попович, – хоть дюжий твой рост, Но слушай, поганая рожа: Зашла раз корова к отцу на погост, Махнул я ее через крышу за хвост — Тебе не было́ бы того же!»14
Но тот продолжает, осклабивши пасть: «Обычай вы наш переймете, На честь вы поруху научитесь класть, И вот, наглотавшись татарщины всласть, Вы Русью ее назовете!15
И с честной поссоритесь вы стариной, И, предкам великим на сором, Не слушая голоса крови родной, Вы скажете: «Станем к варягам спиной, Лицом повернемся к обдорам[28]!»16
«Стой! – молвит, поднявшись, Добрыня, – не смей Пророчить такого нам горя! Тебя я узнал из негодных речей: Ты старый Тугарин, поганый тот змей, Приплывший от Черного моря!17
На крыльях бумажных, ночною порой, Ты часто вкруг Киева-града Летал и шипел, но тебя не впервой Попотчую я каленою стрелой — Ой ладо, ой ладушки-ладо!»18
И начал Добрыня натягивать лук, И вот, на потеху народу, Струны богатырской послышавши звук, Во змея певец перекинулся вдруг И с шипом бросается в воду.19
«Тьфу, гадина! – молвил Владимир и нос Зажал от несносного смрада, — Чего уж он в скаредной песни не нес, Но, благо, удрал от Добрынюшки, пес, — Ой ладо, ой ладушки-ладо!»20
А змей, по Днепру расстилаясь, плывет, И, смехом преследуя гада, По нем улюлюкает русский народ: «Чай, песни теперь уже нам не споет — Ой ладо, ой ладушки-ладо!»21
Смеется Владимир: «Вишь, выдумал нам Каким угрожать он позором! Чтоб мы от Тугарина приняли срам! Чтоб спины подставили мы батогам! Чтоб мы повернулись к обдорам!22
Нет, шутишь! Живет наша русская Русь! Татарской нам Руси не надо! Солгал он, солгал, перелетный он гусь, За честь нашей родины я не боюсь — Ой ладо, ой ладушки-ладо!23
А если б над нею беда и стряслась, Потомки беду перемогут! Бывает, – примолвил свет-солнышко-князь, — Неволя заставит пройти через грязь — Купаться в ней свиньи лишь могут!24
Подайте ж мне чару большую мою, Ту чару, добытую в сече, Добытую с ханом хозарским в бою, — За русский обычай до дна ее пью, За древнее русское вече!25
За вольный, за честный славянский народ! За колокол пью Новаграда! И если он даже и в прах упадет, Пусть звон его в сердце потомков живет — Ой ладо, ой ладушки-ладо!26
Я пью за варягов, за дедов лихих, Кем русская сила[29] подъята, Кем славен наш Киев, кем грек приутих, За синее море, которое их, Шумя, принесло от заката!»27
И выпил Владимир – и разом кругом, Как плеск лебединого стада, Как летом из тучи ударивший гром, Народ отвечает: «За князя мы пьем! Ой ладо, ой ладушки-ладо!28
Да правит по-русски он русский народ, А хана нам даром не надо! И если настанет година невзгод, Мы верим, что Русь их победно пройдет, — Ой ладо, ой ладушки-ладо!»29
Пирует Владимир со светлым лицом, В груди богатырской отрада, Он верит: победно мы горе пройдем, И весело слышать ему над Днепром: «Ой ладо, ой ладушки-ладо!»30
Пирует с Владимиром сила бояр, Пируют посадники града, Пирует весь Киев, и молод и стар, И слышен далеко звон кованых чар — Ой ладо, ой ладушки-ладо!Вторая половина 1867 г.
Поток-богатырь
1
Зачинается песня от древних затей, От веселых пиров и обедов, И от русых от кос, и от черных кудрей, И от тех ли от ласковых дедов, Что с потехой охотно мешали дела; От их времени песня теперь повела, От того ль старорусского краю, А чем кончится песня – не знаю.2
У Владимира Солнышка праздник идет, Пированье идет, ликованье, С молодицами гридни[30] ведут хоровод, Гуслей звон и кимвалов[31] бряцанье. Молодицы что светлые звезды горят, И под топот подошв, и под песенный лад, Изгибаяся, ходят красиво, Молодцы выступают на диво.3
Но Поток-богатырь[32] всех других превзошел: Взглянет – искрами словно обмечет: Повернется направо – что сизый орел, Повернется налево – что кречет; Подвигается мерно и взад и вперед, То притопнет ногою, то шапкой махнет, То вдруг станет, тряхнувши кудрями, Пожимает на месте плечами.4
И дивится Владимир на стройную стать, И дивится на светлое око: «Никому, – говорит, – на Руси не плясать Супротив молодого Потока!» Но уж поздно, встает со княгинею князь, На три стороны в пояс гостям поклонясь, Всем желает довольным остаться — Это значит: пора расставаться.5
И с поклонами гости уходят домой, И Владимир княгиню уводит, Лишь один остается Поток молодой, Подбочася, по-прежнему ходит, То притопнет ногою, то шапкой махнет, Не заметил он, как отошел хоровод, Не слыхал он Владимира ласку, Продолжает по-прежнему пляску.6
Вот уж месяц из-за́ лесу кажет рога, И туманом подернулись балки, Вот и в ступе поехала баба-яга, И в Днепре заплескались русалки, В Заднепровье послышался лешего вой, По конюшням дозором пошел домовой, На трубе ведьма пологом машет, А Поток себе пляшет да пляшет.7
Сквозь царьградские окна[33] в хоромную сень Смотрят светлые звезды, дивяся, Как по белым стенам богатырская тень Ходит взад и вперед, подбочася. Перед самой зарей утомился Поток, Под собой уже резвых не чувствует ног, На мостницы[34] как сноп упадает, На полтысячи лет засыпает.8
Много снов ему снится в полтысячи лет: Видит славные схватки и сечи, Красных девиц внимает радушный привет И с боярами судит на вече; Или видит Владимира вежливый двор, За ковшами веселый ведет разговор. Иль на ловле со князем гуторит, Иль в совете настойчиво спорит.9
Пробудился Поток на Москве на реке, Пред собой видит терем дубовый; Под узорным окном, в закутно́м цветнике, Распускается розан махровый; Полюбился Потоку красивый цветок, И понюхать его норовится Поток, Как в окне показалась царевна, На Потока накинулась гневно:10
«Шеромыжник[35], болван, неученый холоп! Чтоб тебя в турий рог искривило! Поросенок, теленок, свинья, эфиоп, Чертов сын, неумытое рыло! Кабы только не этот мой девичий стыд, Что иного словца мне сказать не велит, Я тебя, прощелыгу, нахала, И не так бы еще обругала!»11
Испугался Поток, не на шутку струхнул: «Поскорей унести бы мне ноги!» Вдруг гремят тулумбасы[36]; идет караул. Гонит палками встречных с дороги; Едет царь на коне, в зипуне из парчи, А кругом с топорами идут палачи, — Его милость сбираются тешить, Там кого-то рубить или вешать.12
И во гневе за меч ухватился Поток: «Что за хан на Руси своеволит?» Но вдруг слышит слова: «То земной едет бог. То отец наш казнить нас изволит!» И на улице, сколько там было толпы, Воеводы, бояре, монахи, попы, Мужики, старики и старухи — Все пред ним повалились на брюхи.13
Удивляется притче Поток молодой: «Если князь он, иль царь напоследок, Что ж метут они землю пред ним бородой? Мы честили князей, но не эдак! Да и полно, уж вправду ли я на Руси? От земного нас бога господь упаси! Нам Писанием велено строго Признавать лишь небесного бога!»14
И пытает у встречного он молодца: «Где здесь, дядя, сбирается вече?» Но на том от испугу не видно лица: «Чур меня, – говорит, – человече!» И пустился бежать от Потока бегом; У того ж голова заходила кругом, Он на землю как сноп упадает, Лет на триста еще засыпает.15
Пробудился Поток на другой на реке[37], На какой? не припомнит преданье. Погуляв себе взад и вперед в холодке, Входит он во просторное зданье, Видит: судьи сидят, и торжественно тут Над преступником гласный свершается суд. Несомненны и тяжки улики, Преступленья ж довольно велики:16
Он отца отравил, пару теток убил, Взял подлогом чужое именье Да двух братьев и трех дочерей задушил — Ожидают присяжных решенья. И присяжные входят с довольным лицом: «Хоть убил, – говорят, – не виновен ни в чем!» Тут платками им слева и справа Машут барыни с криками: браво!17
И промолвил Поток: «Со присяжными суд Был обычен и нашему миру, Но когда бы такой подвернулся нам шут, В триста кун[38] заплатил бы он виру[39]!» А соседи, косясь на него, говорят: «Вишь, какой затесался сюда ретроград! Отстало́й он, то видно по платью, Притеснять хочет меньшую братью!»18
Но Поток из их слов ничего не поймет, И в другое он здание входит; Там какой-то аптекарь, не то патриот, Пред толпою ученье проводит: Что, мол, нету души, а одна только плоть И что если и впрямь существует господь, То он только есть вид кислорода, Вся же суть в безначалье народа.19
И, увидя Потока, к нему свысока Патриот обратился сурово: «Говори, уважаешь ли ты мужика?» Но Поток вопрошает: «Какого?» «Мужика вообще, что смиреньем велик!» Но Поток говорит: «Есть мужик и мужик: Если он не пропьет урожаю, Я тогда мужика уважаю!»20
«Феодал! – закричал на него патриот, — Знай, что только в народе спасенье!» Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ, Так за что ж для меня исключенье?» Но к нему патриот: «Ты народ, да не тот! Править Русью призва́н только черный народ! То по старой системе всяк равен, А по нашей лишь он полноправен!»21
Тут все подняли крик, словно дернул их бес, Угрожают Потоку бедою. Слышно: почва, гуманность, коммуна, прогресс, И что кто-то заеден средою. Меж собой в перерыв, наподобье галчат, Все об общем каком-то о деле кричат, И Потока с язвительным тоном Называют остзейским бароном.22
И подумал Поток: «Уж, господь борони, Не проснулся ли слишком я рано? Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они Обожали московского хана, А сегодня велят мужика обожать! Мне сдается, такая потребность лежать То пред тем, то пред этим на брюхе На вчерашнем основана духе!»23
В третий входит он дом, и объял его страх: Видит, в длинной палате вонючей, Все острижены вкруг, в сюртуках и в очках, Собралися красавицы кучей. Про какие-то женские споря права, Совершают они, засуча рукава, Пресловутое общее дело[40]: Потрошат чье-то мертвое тело.24
Ужаснулся Поток, от красавиц бежит, А они восклицают ехидно: «Ах, какой он пошляк! ах, как он неразвит! Современности вовсе не видно!» Но Поток говорит, очутясь на дворе: «То ж бывало у нас и на Лысой Горе, Только ведьмы хоть голы и босы, Но, по крайности, есть у них косы!»25
И что видеть и слышать ему довелось: И тот суд, и о боге ученье, И в сиянье мужик, и девицы без кос — Всё приводит его к заключенью: «Много разных бывает на свете чудес! Я не знаю, что значит какой-то прогресс, Но до здравого русского веча Вам еще, государи, далече!»26
И так сделалось гадко и тошно ему, Что он на́земь как сноп упадает И под слово прогресс, как в чаду и дыму, Лет на двести еще засыпает. Пробужденья его мы теперь подождем; Что, проснувшись, увидит, о том и споем, А покудова он не проспится, Наудачу нам петь не годится.Начало 1871 г.
Илья Муромец
1
Под броней с простым набором, Хлеба кус жуя, В жаркий полдень едет бором Дедушка Илья;2
Едет бором, только слышно, Как бряцает бронь, Топчет папоротник пышный Богатырский конь.3
И ворчит Илья сердито: «Ну, Владимир, что ж? Посмотрю я, без Ильи-то Как ты проживешь?4
Двор мне, княже, твой не диво! Не пиров держусь! Я мужик неприхотливый, Был бы хлеба кус!5
Но обнес меня ты чарой В очередь мою — Так шагай же, мой чубарый, Уноси Илью!6
Без меня других довольно: Сядут – полон стол! Только лакомы уж больно, Любят женский пол!7
Все твои богатыри-то, Значит, молодежь; Вот без старого Ильи-то Как ты проживешь!8
Тем-то я их боле стою, Что забыл уж баб, А как тресну булавою, Так еще не слаб!9
Правду молвить, для княжого Не гожусь двора; Погулять по свету снова Без того пора!10
Не терплю богатых сеней, Мраморных тех плит; От царьградских от курений[41] Голова болит!11
Душно в Киеве, что в скрине[42], Только киснет кровь! Государыне-пустыне Поклонюся вновь!12
Вновь изведаю я, старый, Волюшку мою — Ну же, ну, шагай, чубарый, Уноси Илью!»13
И старик лицом суровым Просветлел опять, По нутру ему здоровым Воздухом дышать;14
Снова веет воли дикой На него простор, И смолой и земляникой Пахнет темный бор.Май 1871 г.
* * *
1
Порой весёлой мая По лугу вертограда, Среди цветов гуляя, Сам-друг идут два лада[43].2
Он в мурмолке червленой, Каменьем корзно шито, Тесьмою золоченой Вкрест голени обвиты;3
Она же, молодая, Вся в ткани серебристой; Звенят на ней, сверкая, Граненые мониста,4
Блестит венец наборный, А хвост ее понявы, Шурша фатой узорной, Метет за нею травы.5
Ей весело, невесте, «О милый! – молвит другу, — Не лепо[44] ли нам вместе В цветах идти по лугу?»6
И взор ее он встретил, И стан ей обнял гибкий. «О милая! – ответил Со страстною улыбкой, —7
Здесь рай с тобою сущий! Воистину все лепо! Но этот сад цветущий Засеют скоро репой!»8
«Как быть такой невзгоде! — Воскликнула невеста, — Ужели в огороде Для репы нету места?»9
А он: «Моя ты лада! Есть место репе, точно, Но сад испортить надо Затем, что он цветочный!»10
Она ж к нему: «Что ж будет С кустами медвежины, Где каждым утром будит Нас рокот соловьиный?»11
«Кусты те вырвать надо Со всеми их корнями, Индеек здесь, о лада, Хотят кормить червями!»12
Подняв свои ресницы, Спросила тут невеста: «Ужель для этой птицы В курятнике нет места?»13
«Как месту-то не быти! Но соловьев, о лада, Скорее истребити За бесполезность надо!»14
«А роща, где в тени мы Скрываемся от жара, Ее, надеюсь, мимо Пройдет такая кара?»15
«Ее порубят, лада, На здание такое, Где б жирные говяда[45] Кормились на жаркое;16
Иль даже выйдет проще, О жизнь моя, о лада, И будет в этой роще Свиней пастися стадо».17
«О друг ты мой единый! — Спросила тут невеста, — Ужель для той скотины Иного нету места?»18
«Есть много места, лада, Но наш приют тенистый Затем изгадить надо, Что в нем свежо и чисто!»19
«Но кто же люди эти, — Воскликнула невеста, — Хотящие, как дети, Чужое гадить место?»20
«Чужим они, о лада, Не многое считают: Когда чего им надо, То тащут и хватают».21
«Иль то матерьялисты, — Невеста вновь спросила, — У коих трубочисты Суть выше Рафаила[46]?»22
«Им имена суть многи, Мой ангел серебристый, Они ж и демагоги, Они ж и анархисты.23
Толпы их все грызутся, Лишь свой откроют форум[47], И порознь все клянутся In verba вожакорум[48].24
В одном согласны все лишь: Коль у других именье Отымешь и разделишь, Начнется вожделенье.25
Весь мир желают сгладить И тем внести раве́нство, Что всё хотят загадить Для общего блаженства!»26
«Поведай, шуток кроме, — Спросила тут невеста, — Им в сумасшедшем доме Ужели нету места?»27
«О свет ты мой желанный! Душа моя ты, лада! Уж очень им пространный Построить дом бы надо!28
Вопрос: каким манером Такой им дом построить? Дозволить инженерам — Премного будет стоить;29
А земству[49] предоставить На их же иждивенье, То значило б оставить Постройку без движенья!»30
«О друг, что ж делать надо, Чтоб не погибнуть краю?» «Такое средство, лада, Мне кажется, я знаю:31
Чтоб русская держава Спаслась от их затеи, Повесить Станислава[50] Всем вожакам на шеи!32
Тогда пойдет все гладко И станет все на место!» «Но это средство гадко!» — Воскликнула невеста.33
«Ничуть не гадко, лада, Напротив, превосходно: Народу без наклада, Казне ж весьма доходно[51]«.34
«Но это средство скверно!» — Сказала дева в гневе. «Но это средство верно!» — Жених ответил деве.35
«Как ты безнравствен, право! — В сердцах сказала дева, — Ступай себе направо, А я пойду налево!»36
И оба, вздевши длани, Расстались рассержены, Она в сребристой ткани, Он в мурмолке червленой.37
«К чему ж твоя баллада?» — Иная спросит дева. – О жизнь моя, о лада, Ей-ей, не для припева!38
Нет, полн иного чувства, Я верю реалистам: Искусство для искусства Равняю с птичьим свистом;39
Я, новому ученью Отдавшись без раздела, Хочу, чтоб в песнопенье Всегда сквозило дело.40
Служите ж делу, струны! Уймите праздный ропот! Российская коммуна, Прими мой первый опыт!Июнь 1871 г.
Юмористические стихотворения
Благоразумие
Поразмыслив аккуратно, Я избрал себе дорожку И иду по ней без шума, Понемножку, понемножку! Впрочем, я ведь не бесстрастен, Я не холоден душою, И во мне ведь закипает Ретивое, ретивое! Если кто меня обидит, Не спущу я, как же можно! Из себя как раз я выйду, Осторожно, осторожно! Без ума могу любить я, Но любить, конечно, с толком, Я готов и правду резать, Тихомолком, тихомолком! Если б брат мой захлебнулся, Я б не стал махать руками, Тотчас кинулся бы в воду, С пузырями, с пузырями! Рад за родину сразиться! Пусть услышу лишь картечь я, Грудью лягу в чистом поле, Без увечья, без увечья! Послужу я и в синклите, Так чтоб ведали потомки; Но уж если пасть придется — Так соломки, так соломки! Кто мне друг, тот друг мне вечно, Все родные сердцу близки, Всем союзникам служу я, По-австрийски, по-австрийски!Конец 1853 или начало 1854 г.
Весенние чувства необузданного древнего
Дождусь ли той истории, Когда придет весна И молодой цикории Засветит желтизна! Уже любовной жаждою Вся грудь моя горит, И вспрыгнуть щепка каждая На щепку норовит. Земля цветами новыми Покрылася опять, Пошли быки с коровами В зеленый луг гулять, И, силой обаятельной За стадом их влеком, Готов я бессознательно Сам сделаться быком!Февраль 7859 г.
История государства Российского от Гостомысла до Тимашева
Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет.
Нестор, летопись, стр. 81
Послушайте, ребята, Что вам расскажет дед. Земля наша богата, Порядка в ней лишь нет.2
А эту правду, детки, За тысячу уж лет Смекнули наши предки: Порядка-де, вишь, нет.3
И стали все под стягом, И молвят: «Как нам быть? Давай пошлем к варягам: Пускай придут княжить.4
Ведь немцы тороваты, Им ведом мрак и свет, Земля ж у нас богата, Порядка в ней лишь нет».5
Посланцы скорым шагом Отправились туда И говорят варягам: «Придите, господа!6
Мы вам отсыплем злата, Что киевских конфет; Земля у нас богата, Порядка в ней лишь нет».7
Варягам стало жутко, Но думают: «Что ж тут? Попытка ведь не шутка — Пойдем, коли зовут!»8
И вот пришли три брата, Варяги средних лет, Глядят – земля богата, Порядка ж вовсе нет.9
«Ну, – думают, – команда! Здесь ногу сломит черт, Es ist ja eine Schande, Wir mussen wieder fort»[52].10
Но братец старший Рюрик «Постой, – сказал другим, — Fortgeh’n wär’ ungebürlich, Vielleicht ist’s nicht so schlimm[53].11
Хоть вшивая команда, Почти одна лишь шваль; Wir bringen’s schon zustande, Versuchen wir einmal»[54].12
И стал княжить он сильно, Княжил семнадцать лет, Земля была обильна, Порядка ж нет как нет!13
За ним княжил князь Игорь, А правил им Олег, Das war ein groвer Krieger[55] И умный человек.14
Потом княжила Ольга, А после Святослав; So ging die Reihenfolge[56] Языческих держав.15
Когда ж вступил Владимир На свой отцовский трон, Da endigte für immer Die alte Religion[57].16
Он вдруг сказал народу: «Ведь наши боги дрянь, Пойдем креститься в воду!» И сделал нам Иордань.17
«Перун уж очень гадок! Когда его спихнем, Увидите, порядок Какой мы заведем!»18
Послал он за попами В Афины и Царьград, Попы пришли толпами, Крестятся и кадят,19
Поют себе умильно И полнят свой кисет; Земля, как есть, обильна, Порядка только нет.20
Умре Владимир с горя, Порядка не создав. За ним княжить стал вскоре Великий Ярослав.21
Оно, пожалуй, с этим Порядок бы и был; Но из любви он к детям Всю землю разделил.22
Плоха была услуга, А дети, видя то, Давай тузить друг друга: Кто как и чем во что!23
Узнали то татары: «Ну, – думают, – не трусь!» Надели шаровары, Приехали на Русь.24
«От вашего, мол, спора Земля пошла вверх дном, Постойте ж, мы вам скоро Порядок заведем».25
Кричат: «Давайте дани!» (Хоть вон святых неси.) Тут много всякой дряни Настало на Руси.26
Что день, то брат на брата В Орду несет извет; Земля, кажись, богата — Порядка ж вовсе нет.27
Иван явился Третий; Он говорит: «Шалишь! Уж мы теперь не дети!» Послал татарам шиш.28
И вот земля свободна От всяких зол и бед И очень хлебородна, А все ж порядка нет.29
Настал Иван Четвертый, Он Третьему был внук; Калач на царстве тертый И многих жен супруг.30
Иван Васильич Грозный Ему был имярек За то, что был серьезный, Солидный человек.31
Приемами не сладок, Но разумом не хром; Такой завел порядок, Хоть покати шаром!32
Жить можно бы беспечно При этаком царе; Но ах! ничто не вечно — И царь Иван умре!33
За ним царить стал Федор, Отцу живой контраст; Был разумом не бодор, Трезвонить лишь горазд.34
Борис же, царский шурин, Не в шутку был умен, Брюнет, лицом недурен, И сел на царский трон.35
При нем пошло всё гладко, Не стало прежних зол, Чуть-чуть было порядка В земле он не завел.36
К несчастью, самозванец, Откуда ни возьмись, Такой задал нам танец, Что умер царь Борис.37
И, на Бориса место Взобравшись, сей нахал От радости с невестой Ногами заболтал.38
Хоть был он парень бравый И даже не дурак, Но под его державой Стал бунтовать поляк.39
А то нам не по сердцу; И вот однажды в ночь Мы задали им перцу И всех прогнали прочь.40
Взошел на трон Василий, Но вскоре всей землей Его мы попросили, Чтоб он сошел долой.41
Вернулися поляки, Казаков привели; Пошел сумбур и драки: Поляки и казаки,42
Казаки и поляки Нас паки бьют и паки; Мы ж без царя как раки Горюем на мели.43
Прямые были страсти — Порядка ж ни на грош. Известно, что без власти Далёко не уйдешь.44
Чтоб трон поправить царский И вновь царя избрать, Тут Минин и Пожарский Скорей собрали рать.45
И выгнала их сила Поляков снова вон, Земля же Михаила Взвела на русский трон.46
Свершилося то летом; Но был ли уговор — История об этом Молчит до этих пор.47
Варшава нам и Вильна Прислали свой привет; Земля была обильна — Порядка ж нет как нет.48
Сев Алексей на царство, Тогда роди Петра. Пришла для государства Тут новая пора.49
Царь Петр любил порядок, Почти как царь Иван, И так же был не сладок, Порой бывал и пьян.50
Он молвил: «Мне вас жалко, Вы сгинете вконец; Но у меня есть палка, И я вам всем отец!..51
Не далее как к святкам Я вам порядок дам!» И тотчас за порядком Уехал в Амстердам.52
Вернувшися оттуда, Он гладко нас обрил, А к святкам, так что чудо, В голландцев нарядил.53
Но это, впрочем, в шутку, Петра я не виню: Больному дать желудку Полезно ревеню.54
Хотя силён уж очень Был, может быть, прием; А все ж довольно прочен Порядок стал при нем.55
Но сон объял могильный Петра во цвете лет, Глядишь, земля обильна, Порядка ж снова нет.56
Тут кротко или строго Царило много лиц, Царей не слишком много, А более цариц.57
Бирон царил при Анне; Он сущий был жандарм, Сидели мы как в ванне При нем, daß Gott erbarm![58]58
Веселая царица Была Елисавет: Поет и веселится, Порядка только нет.59
Какая ж тут причина И где же корень зла, Сама Екатерина Постигнуть не могла.60
«Madame, при вас на диво Порядок расцветет, — Писали ей учтиво Вольтер и Дидерот, —61
Лишь надобно народу, Которому вы мать, Скорее дать свободу, Скорей свободу дать».62
«Messieurs, – им возразила Она, – vous me comblez»[59], — И тотчас прикрепила Украинцев к земле.63
За ней царить стал Павел, Мальтийский кавалер, Но не совсем он правил На рыцарский манер.64
Царь Александер Первый Настал ему взамен, В нем слабы были нервы, Но был он джентльмен.65
Когда на нас в азарте Стотысячную рать Надвинул Бонапарте, Он начал отступать.66
Казалося, ну, ниже Нельзя сидеть в дыре, Ан глядь: уж мы в Париже, С Louis le Désiré[60].67
В то время очень сильно Расцвел России цвет, Земля была обильна, Порядка ж нет как нет.68
Последнее сказанье Я б написал мое, Но чаю наказанье, Боюсь monsieur Veillot.69
Ходить бывает склизко По камешкам иным, Итак, о том, что близко, Мы лучше умолчим.70
Оставим лучше троны, К министрам перейдем. Но что я слышу? стоны, И крики, и содом!71
Что вижу я! Лишь в сказках Мы зрим такой наряд; На маленьких салазках Министры все катят.72
С горы со криком громким In corpore[61], сполна, Скользя, свои к потомкам Уносят имена.73
Се Норов, се Путятин, Се Панин, се Метлин, Се Брок, а се Замятнин, Се Корф, се Головнин.74
Их много, очень много, Припомнить всех нельзя, И вниз одной дорогой Летят они, скользя.75
Я грешен: летописный Я позабыл свой слог; Картине живописной Противостать не мог.76
Лиризм, на все способный, Знать, у меня в крови; О Нестор преподобный, Меня ты вдохнови.77
Поуспокой мне совесть. Мое усердье зря, И дай мою мне повесть Окончить не хитря.78
Итак, начавши снова, Столбец кончаю свой От Рождества Христова В год шестьдесят восьмой.79
Увидя, что всё хуже Идут у нас дела, Зело изрядна мужа Господь нам ниспосла.80
На утешенье наше Нам, аки свет зари, Свой лик яви Тимашев — Порядок водвори.81
Что аз же многогрешный На бренных сих листах Не дописах поспешно Или переписах,82
То, спереди и сзади Читая во все дни, Исправи правды ради, Писанья ж не кляни.83
Составил от былинок Рассказ немудрый сей Худый смиренный инок, Раб божий Алексей.1868
Мудрость жизни
1
Если хочешь быть майором, То в сенате не служи. Если ж служишь, то по шпорам Не вздыхай и не тужи.2
Будь доволен долей малой, Тщись расходов избегать, Руки мой себе, пожалуй, Мыла ж на ноги не трать.3
Будь настойчив в правом споре, В пустяках уступчив будь, Жилься докрасна в запоре, А поноса вспять не нудь.4
Замарав штаны малиной Иль продрав их назади, Их сымать не смей в гостиной, Но в боскетную поди.5
Если кто невольным звуком Огласит твой кабинет, Ты не вскакивай со стуком, Восклицая: «Много лет!»6
Будь всегда душой обеда, Не брани чужие щи И из уха у соседа Дерзко ваты не тащи.7
Восхищаяся соседкой, По груди ее не гладь И не смей ее салфеткой Потный лоб свой обтирать.8
От стола коль отлучиться Повелит тебе нужда, Тем пред дамами хвалиться Ты не должен никогда.9
Коль сосед болит утробой, Ты его не осуждай, Но болящему без злобы Корша ведомость подай.10
Изучай родню начальства, Забавлять ее ходи, Но игривость до нахальства Никогда не доводи:11
Не проси у тещи тряпки Для обтирки сапогов И не спрашивай у бабки, Много ль есть у ней зубов?12
Помни теток именины, Чти в кузинах благодать И не вздумай без причины Их под мышки щекотать.13
Будь с невестками попроще, Но приличия блюди И червей, гуляя в роще, Им за шею не клади.14
Не зови за куст умильно Дочерей на пару слов И с племянницы насильно Не тащи ее чулков.15
На тебя коль смотрят люди, Не кричи: «Катай-валяй!» И кормилицыной груди У дити не отбивай.16
Всем девицам будь отрада, Рви в саду для них плоды, Не показывай им зада Без особенной нужды.17
Проводя в деревне лето, Их своди на скотный двор: Помогает много это Расширять их кругозор;18
Но, желаньем подстрекаем Их сюрпризом удивить, Не давай, подлец, быка им В виде опыта доить.19
Также было б очень гадко Перст в кулак себе совать Под предлогом, что загадка Им дается отгадать.20
Вообще знай в шутках меру, Сохраняй достойный вид, Как прилично офицеру И как служба нам велит.21
Если мать иль дочь какая У начальника умрет, Расскажи ему, вздыхая, Подходящий анекдот;22
Но смотри, чтоб ловко было, Не рассказывай, грубя: Например, что вот кобыла Также пала у тебя;23
Или там, что без потерей Мы на свете не живем И что надо быть тетерей, Чтоб печалиться о том;24
Потому что, если пылок Твой начальник и сердит, Проводить тебя в затылок Он курьеру повелит.25
Предаваясь чувствам нежным, Бисер свиньям не мечи — Вслед за пахарем прилежным Ходят жадные грачи.Вторая половина 1870 г.
Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме
Я враг всех так называемых вопросов.
Один из членов Государственного советаЕсли у тебя есть фонтан, заткни его.
Козьма Прутков1
Правда ль это, что я слышу? Молвят овамо и семо: Огорчает очень Мишу Будто Дарвина система?2
Полно, Миша! Ты не сетуй! Без хвоста твоя ведь ...., Так тебе обиды нету В том, что было до потопа.3
Всход наук не в нашей власти, Мы их зерна только сеем; И Коперник ведь отчасти Разошелся с Моисеем.4
Ты ж, еврейское преданье С видом нянюшки лелея, Ты б уж должен в заседанье Запретить и Галилея.5
Если ж ты допустишь здраво, Что вольны в науке мненья — Твой контроль с какого права? Был ли ты при сотворенье?6
Отчего б не понемногу Введены во бытиё мы? Иль не хочешь ли уж богу Ты предписывать приемы?7
Способ, как творил создатель, Что считал он боле кстати — Знать не может председатель Комитета о печати.8
Ограничивать так смело Всесторонность божьей власти — Ведь такое, Миша, дело Пахнет ересью отчасти!9
Ведь подобные примеры Подавать – неосторожно, И тебя за скудость веры В Соловки сослать бы можно!10
Да и в прошлом нет причины Нам искать большого ранга, И, по мне, шматина глины Не знатней орангутанга.11
Но на миг положим даже: Дарвин глупость порет просто — Ведь твое гоненье гаже Всяких глупостей раз во сто!12
Нигилистов, что ли, знамя Видишь ты в его системе? Но святая сила с нами! Что меж Дарвином и теми?13
От скотов нас Дарвин хочет До людской возвесть средины — Нигилисты же хлопочут, Чтоб мы сделались скотины.14
В них не знамя, а прямое Подтвержденье дарвинисма, И сквозят в их диком строе Все симптомы атависма:15
Грязны, неучи, бесстыдны, Самомнительны и едки, Эти люди очевидно Норовят в свои же предки.16
А что в Дарвина идеи Оба пола разубраны — Это бармы архирея Вздели те же обезьяны.17
Чем же Дарвин тут виновен? Верь мне: гнев в себе утиша, Из-за взбалмошных поповен Не гони его ты, Миша!18
И еще тебе одно я Здесь прибавлю, многочтимый: Не китайскою стеною От людей отделены мы;19
С Ломоносовым наука Положив у нас зачаток, Проникает к нам без стука Мимо всех твоих рогаток,20
Льет на мир потоки света И, следя, как в тьме лазурной Ходят божии планеты Без инструкции ценсурной,21
Кажет нам, как та же сила, Всё в иную плоть одета, В область разума вступила, Не спросясь у Комитета.22
Брось же, Миша, устрашенья, У науки нрав не робкий, Не заткнешь ее теченья Ты своей дрянною пробкой!Конец 1872 г.
Сон Попова
1
Приснился раз, бог весть с какой причины, Советнику Попову странный сон: Поздравить он министра в именины В приемный зал вошел без панталон; Но, впрочем, не забыто ни единой Регалии; отлично выбрит он; Темляк на шпаге; всё по циркуляру — Лишь панталон забыл надеть он пару.2
И надо же случиться на беду, Что он тогда лишь свой заметил промах, Как уж вошел. «Ну, – думает, – уйду!» Не тут-то было! Уж давно в хоромах Народу тьма; стоит он на виду, В почетном месте; множество знакомых Его увидеть могут на пути — «Нет, – он решил, – нет, мне нельзя уйти!3
А вот я лучше что-нибудь придвину И скрою тем досадный мой изъян; Пусть верхнюю лишь видят половину, За нижнюю ж ответит мне Иван!» И вот бочком прокрался он к камину И спрятался по пояс за экран. «Эх, – думает, – недурно ведь, канальство! Теперь пусть входит высшее начальство!»4
Меж тем тесней все становился круг Особ чиновных, чающих карьеры; Невнятный в зале раздавался звук, И все принять свои старались меры, Чтоб сразу быть замеченными. Вдруг В себя втянули животы курьеры, И экзекутор рысью через зал, Придерживая шпагу, пробежал.5
Вошел министр. Он видный был мужчина, Изящных форм, с приветливым лицом, Одет в визитку: своего, мол, чина Не ставлю я пред публикой ребром. Внушается гражданством дисциплина, А не мундиром, шитым серебром. Все зло у нас от глупых форм избытка, Я ж века сын – так вот на мне визитка!6
Не ускользнул сей либеральный взгляд И в самом сне от зоркости Попова. Хватается, кто тонет, говорят, За паутинку и за куст терновый. «А что, – подумал он, – коль мой наряд Понравится? Ведь есть же, право слово, Свободное, простое что-то в нем! Кто знает? Что ж? Быть может! Подождем!»7
Министр меж тем стан изгибал приятно: «Всех, господа, всех вас благодарю! Прошу и впредь служить так аккуратно Отечеству, престолу, алтарю! Ведь мысль моя, надеюсь, вам понятна? Я в переносном смысле говорю: Мой идеал полнейшая свобода — Мне цель народ – и я слуга народа!8
Прошло у нас то время, господа, — Могу сказать: печальное то время, — Когда наградой пота и труда Был произвол. Его мы свергли бремя. Народ воскрес – но не вполне – да, да! Ему вступить должны помочь мы в стремя, В известном смысле сгладить все следы И, так сказать, вручить ему бразды.9
Искать себе не будем идеала, Ни основных общественных начал В Америке. Америка отстала: В ней собственность царит и капитал. Британия строй жизни запятнала Законностью. А я уж доказал: Законность есть народное стесненье, Гнуснейшее меж всеми преступленье!10
Нет, господа! России предстоит, Соединив прошедшее с грядущим, Создать, коль смею выразиться, вид, Который называется присущим Всем временам; и, став на свой гранит, Имущим, так сказать, и неимущим Открыть родник взаимного труда. Надеюсь, вам понятно, господа?»11
Раздался в зале шепот одобренья, Министр поклоном легким отвечал, И тут же, с видом, полным снисхожденья, Он обходить обширный начал зал: «Как вам? Что вы? Здорова ли Евгенья Семеновна? Давно не заезжал Я к вам, любезный Сидор Тимофеич! Ах, здравствуйте, Ельпидифор Сергеич!»12
Стоял в углу, плюгав и одинок, Какой-то там коллежский регистратор. Он и к тому, и тем не пренебрег: Взял под руку его: «Ах, Антипатор Васильевич! Что, как ваш кобелек? Здоров ли он? Вы ездите в театор? Что вы сказали? Все болит живот? Ах, как мне жаль! Но ничего, пройдет!»13
Переходя налево и направо, Свои министр так перлы расточал; Иному он подмигивал лукаво, На консоме другого приглашал И ласково смотрел и величаво. Вдруг на Попова взор его упал, Который, скрыт экраном лишь по пояс, Исхода ждал, немного беспокоясь.14
«Ба! Что я вижу! Тит Евсеич здесь! Так, так и есть! Его мы точность знаем! Но отчего ж он виден мне не весь? И заслонен каким-то попугаем? Престранная выходит это смесь! Я любопытством очень подстрекаем Увидеть ваши ноги. Да, да, да! Я вас прошу, пожалуйте сюда!»15
Колеблясь меж надежды и сомненья: Как на его посмотрят туалет, Попов наружу вылез. В изумленье Министр приставил к глазу свой лорнет. «Что это? Правда или наважденье? Никак, на вас штанов, любезный, нет?» И на чертах изящно-благородных Гнев выразил ревнитель прав народных.16
«Что это значит? Где вы рождены? В Шотландии? Как вам пришла охота Там, за экраном, снять с себя штаны? Вы начитались, верно, Вальтер Скотта? Иль классицизмом вы заражены? И римского хотите патриота Изобразить? Иль, боже упаси, Собой бюджет представить на Руси?»17
И был министр еще во гневе краше, Чем в милости. Чреватый от громов Взор заблестел. Он продолжал: «Вы наше Доверье обманули. Много слов Я тратить не люблю». – «Ва-ва-ва-ваше Превосходительство! – шептал Попов. — Я не сымал... Свидетели курьеры, Я прямо так приехал из квартеры!»18
«Вы, милостивый, смели, государь, Приехать так? Ко мне? На поздравленье? В день ангела? Безнравственная тварь! Теперь твое я вижу направленье! Вон с глаз моих! Иль нету – секретарь! Пишите к прокурору отношенье: Советник Тит Евсеев сын Попов Все ниспровергнуть власти был готов.19
Но, строгому благодаря надзору Такого-то министра – имярек — Отечество спаслось от заговору И нравственность не сгинула навек. Под стражей ныне шлется к прокурору Для следствия сей вредный человек, Дерзнувший снять публично панталоны, Да поразят преступника законы!20
Иль нет, постойте! Коль отдать под суд, По делу выйти может послабленье, Присяжные-бесштанники спасут И оправдают корень возмущенья! Здесь слишком громко нравы вопиют — Пишите прямо в Третье отделенье: Советник Тит Евсеев сын Попов Все ниспровергнуть власти был готов.21
Он поступил законам так противно, На общество так явно поднял меч, Что пользу можно б административно Из неглиже из самого извлечь. Я жертвую агентам по две гривны, Чтобы его – но скрашиваю речь — Чтоб мысли там внушить ему иные. Затем ура! Да здравствует Россия!»22
Министр кивнул мизинцем. Сторожа Внезапно взяли под руки Попова. Стыдливостью его не дорожа, Они его от Невского, Садовой, Средь смеха, крика, чуть не мятежа, К Цепному мосту привели, где новый Стоит, на вид весьма красивый, дом, Своим известный праведным судом.23
Чиновник по особым порученьям, Который их до места проводил, С заботливым Попова попеченьем Сдал на руки дежурному. То был Во фраке муж, с лицом, пылавшим рвеньем, Со львиной физьономией, носил Мальтийский крест и множество медалей, И в душу взор его влезал всё далей!24
В каком полку он некогда служил, В каких боях отличен был как воин, За что свой крест мальтийский получил И где своих медалей удостоен — Неведомо. Ехидно попросил Попова он, чтобы тот был спокоен, С улыбкой указал ему на стул И в комнату соседнюю скользнул.25
Один оставшись в небольшой гостиной, Попов стал думать о своей судьбе: «А казус вышел, кажется, причинный! Кто б это мог вообразить себе? Попался я в огонь, как сноп овинный! Ведь искони того еще не бе, Чтобы меня кто в этом виде встретил, И как швейцар проклятый не заметил!»26
Но дверь отверзлась, и явился в ней С лицом почтенным, грустию покрытым, Лазоревый полковник. Из очей Катились слезы по его ланитам. Обильно их струящийся ручей Он утирал платком, узором шитым, И про себя шептал: «Так! Это он! Таким он был едва лишь из пелён!27
О юноша! – он продолжал, вздыхая (Попову было с лишком сорок лет), — Моя душа для вашей не чужая! Я в те года, когда мы ездим в свет, Знал вашу мать. Она была святая! Таких, увы! теперь уж боле нет! Когда б она досель была к вам близко, Вы б не упали нравственно так низко!28
Но, юный друг, для набожных сердец К отверженным не может быть презренья, И я хочу вам быть второй отец, Хочу вам дать для жизни наставленье. Заблудших так приводим мы овец Со дна трущоб на чистый путь спасенья. Откройтесь мне, равно как на духу: Что привело вас к этому греху?29
Конечно, вы пришли к нему не сами, Характер ваш невинен, чист и прям! Я помню, как дитёй за мотыльками Порхали вы средь кашки по лугам! Нет, юный друг, вы ложными друзьями Завлечены! Откройте же их нам! Кто вольнодумцы? Всех их назовите И собственную участь облегчите!30
Что слышу я? Ни слова? Иль пустить Уже успело корни в вас упорство? Тогда должны мы будем приступить Ко строгости, увы! и непокорство, Сколь нам ни больно, в вас искоренить! О юноша! Как сердце ваше черство! В последний раз: хотите ли всю рать Завлекших вас сообщников назвать?»31
К нему Попов достойно и наивно: «Я, господин полковник, я бы вам Их рад назвать, но мне, ей-богу, дивно... Возможно ли сообщничество там, Где преступленье чисто негативно? Ведь панталон-то не надел я сам! И чем бы там меня вы ни пугали — Другие мне, клянусь, не помогали!»32
«Не мудрствуйте, надменный санкюлот! Свою вину не умножайте ложью! Сообщников и гнусный ваш комплот Повергните к отечества подножью! Когда б вы знали, что теперь вас ждет, Вас проняло бы ужасом и дрожью! Но дружбу вы чтоб ведали мою, Одуматься я время вам даю!33
Здесь, на столе, смотрите, вам готово Достаточно бумаги и чернил: Пишите же – не то, даю вам слово: Чрез полчаса вас изо всех мы сил...» Тут ужас вдруг такой объял Попова, Что страшную он подлость совершил: Пошел строчить (как люди в страхе гадки!) Имен невинных многие десятки!34
Явились тут на нескольких листах: Какой-то Шмидт, два брата Шулаковы, Зерцалов, Палкин, Савич, Розенбах, Потанчиков, Гудим-Бодай-Корова, Делаверганж, Шульгин, Страженко, Драх, Грай-Жеребец, Бабков, Ильин, Багровый, Мадам Гриневич, Глазов, Рыбин, Штих, Бурдюк-Лишай – и множество других.35
Попов строчил сплеча и без оглядки, Попались в список лучшие друзья; Я повторю: как люди в страхе гадки — Начнут как бог, а кончат как свинья! Строчил Попов, строчил во все лопатки, Такая вышла вскоре ектенья, Что, прочитав, и сам он ужаснулся, Вскричал: фуй! фуй! задрыгал – и проснулся.36
Небесный свод сиял так юн и нов, Весенний день глядел в окно так весел, Висела пара форменных штанов С мундиром купно через спинку кресел; И в радости уверился Попов, Что их Иван там с вечера повесил — Одним скачком покинул он кровать И начал их в восторге надевать.37
«То был лишь сон! О, счастие! о, радость! Моя душа, как этот день, ясна! Не сделал я Бодай-Корове гадость! Не выдал я агентам Ильина! Не наклепал на Савича! О, сладость! Мадам Гриневич мной не предана! Страженко цел, и братья Шулаковы Постыдно мной не ввержены в оковы!»38
Но ты, никак, читатель, восстаешь На мой рассказ? Твое я слышу мненье: Сей анекдот, пожалуй, и хорош, Но в нем сквозит дурное направленье. Всё выдумки, нет правды ни на грош! Слыхал ли кто такое обвиненье, Что, мол, такой-то – встречен без штанов, Так уж и власти свергнуть он готов?39
И где такие виданы министры? Кто так из них толпе кадить бы мог? Я допущу: успехи наши быстры, Но где ж у нас министер-демагог? Пусть проберут все списки и регистры, Я пять рублей бумажных дам в залог; Быть может, их во Франции немало, Но на Руси их нет и не бывало!40
И что это, помилуйте, за дом, Куда Попов отправлен в наказанье? Что за допрос? Каким его судом Стращают там? Где есть такое зданье? Что за полковник выскочил? Во всем, Во всем заметно полное незнанье Своей страны обычаев и лиц, Встречаемое только у девиц.41
А наконец, и самое вступленье: Ну есть ли смысл, я спрашиваю, в том. Чтоб в день такой, когда на поздравленье К министру все съезжаются гуртом, С Поповым вдруг случилось помраченье И он таким оделся бы шутом? Забыться может галстук, орден, пряжка — Но пара брюк – нет, это уж натяжка!42
И мог ли он так ехать? Мог ли в зал Войти, одет как древние герои? И где резон, чтоб за экран он стал, Никем не зрим? Возможно ли такое? Ах, батюшка-читатель, что пристал? Я не Попов! Оставь меня в покое! Резон ли в этом или не резон — Я за чужой не отвечаю сон!Лето 1873 г.
Стихотворения Козьмы Пруткова
Эпиграмма № 1
«Вы любите ли сыр?» – спросили раз ханжу. «Люблю, – он отвечал, – я вкус в нем нахожу».Письмо из Коринфа Греческое стихотворение
Я недавно приехал в Коринф... Вот ступени, а вот колоннада! Я люблю здешних мраморных нимф И истмийского шум водопада! Целый день я на солнце сижу, Трусь елеем вокруг поясницы, Между камней паросских слежу За извивом слепой медяницы; Померанцы растут предо мной, И на них в упоенье гляжу я; Дорог мне вожделенный покой, «Красота, красота!» – все твержу я... А когда ниспускается ночь... Мы в восторгах с рабынею млеем... Всех рабов высылаю я прочь И... опять натираюсь елеем...Из Гейне
Вянет лист, проходит лето, Иней серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета Хочет застрелиться. Погоди, безумный! снова Зелень оживится... Юнкер Шмидт! честно́е слово, Лето возвратится.Желание быть испанцем
Тихо над Альямброй, Дремлет вся натура, Дремлет замок Памбра, Спит Эстремадура! Дайте мне мантилью, Дайте мне гитару. Дайте Инезилью, Кастаньетов пару. Дайте руку верную, Два вершка булату, Ревность непомерную, Чашку шоколаду. Закурю сигару я, Лишь взойдет луна... Пусть дуэнья старая Смотрит из окна. За двумя решетками Пусть меня клянет, Пусть шевелит четками, Старика зовет. Слышу на балконе Шорох платья... чу! Подхожу я к донне, Сбросил епанчу. Погоди, прелестница, Поздно или рано Шелковую лестницу Выну из кармана! О сеньора милая! Здесь темно и серо... Страсть кипит унылая В вашем кавальеро. Здесь, перед бананами, — Если не наскучу, — Я между фонтанами Пропляшу качучу. И на этом месте, Если вы мне рады, — Будем петь мы вместе Ночью серенады. Будет в нашей власти. Толковать о мире, О вражде, о страсти, О Гвадалквивире, Об улыбках, взорах, Вечном идеале, О тореадорах И об Эскурьяле... Тихо над Альямброй, Дремлет вся натура, Дремлет замок Памбра, Спит Эстремадура.* * * (Подражание Гейне)
На взморье, у самой заставы, Я видел большой огород: Растет там высокая спаржа, Капуста там скромно растет. Там утром всегда огородник Лениво проходит меж гряд; На нем неопрятный передник, Угрюм его пасмурный взгляд. Польет он из лейки капусту, Он спаржу небрежно польет, Нарежет зеленого луку И после глубоко вздохнет. Намедни к нему подъезжает Чиновник на тройке лихой; Он в теплых, высоких галошах, На шее лорнет золотой. «Где дочка твоя?» – вопрошает Чиновник, прищурясь в лорнет; Но, дико взглянув, огородник Махнул лишь рукою в ответ. И тройка назад поскакала, Сметая с капусты росу; Стоит огородник угрюмо И пальцем копает в носу.Осада Памбы (Романсеро. С испанского)
Девять лет дон Педро Гомец, По прозванью: Лев Кастильи, Осаждает замок Памбу, Молоком одним питаясь. И все войско дона Педра — Девять тысяч кастильянцев — Все, по данному обету, Не касаются мясного, Ниже хлеба не снедают, Пьют одно лишь молоко... Всякий день они слабеют, Силы тратя попустому, Всякий день дон Педро Гомец О своем бессилье плачет, Закрываясь епанчою. Настает уж год десятый, — Злые мавры торжествуют, А от войска дона Педра Налицо едва осталось Девятнадцать человек! Их собрал дон Педро Гомец И сказал им: «Девятнадцать! Разовьем свои знамена, В трубы громкие взыграем И, ударивши в литавры, Прочь от Памбы мы отступим! Хоть мы крепости не взяли, Но поклясться можем смело Перед совестью и честью, Не нарушили ни разу Нами данного обета: Целых девять лет не ели, Ничего не ели ровно, Кроме только молока!» Ободренные сей речью, Девятнадцать кастильянцев, Все, качаяся на седлах, В голос слабо закричали: «Sancto Jago Compostello![62] Честь и слава дону Педру! Честь и слава Льву Кастильи!» А каплан его Диего Так сказал себе сквозь зубы: «Если б я был полководцем, Я б обет дал есть лишь мясо, Запивая сантуринским!» И, услышав то, дон Педро Произнес со громким смехом: «Подарить ему барана — Он изрядно подшутил!»Пластический грек
Люблю тебя, дева, когда золотистый И солнцем облитый ты держишь лимон, И юноши зрю подбородок пушистый Меж листьев аканфа и белых колонн! Красивой хламиды тяжелые складки Упали одна за другой: Так в улье шумящем вкруг раненой матки Снует озабоченный рой.Из Гейне
Фриц Вагнер, студьозус из Иены, Из Бонна Иеронимус Кох Вошли в кабинет мой с азартом, — Вошли, не очистив сапог. «Здорово, наш старый товарищ! Реши поскорее наш спор: Кто доблестней, Кох или Вагнер?» — Спросили с бряцанием шпор. «Друзья! Вас и в Иене и в Бонне Давно уже я оценил. Кох логике славно учился, А Вагнер искусно чертил». Ответом моим недовольны, «Решай поскорее наш спор!» — Они повторяли с азартом И с тем же бряцанием шпор. Я комнату взглядом окинул И, будто узором прельщен, «Мне нравятся очень обои!» — Сказал им и выбежал вон. Понять моего каламбура Из них ни единый не мог, И долго стояли в раздумье Студьозусы Вагнер и Кох.Звезда и брюхо Басня
На небе вечерком светилася Звезда. Был постный день тогда: Быть может, пятница, быть может, середа. В то время по саду гуляло чье-то Брюхо И рассуждало так с собой, Бурча и жалобно и глухо: «Какой Хозяин мой Противный и несносный! Затем что день сегодня постный, Не станет есть, мошенник, до звезды! Не только есть! Куды! Не выпьет и ковша воды! Нет, право, с ним наш брат не сладит... Знай бродит по саду, ханжа, На мне ладони положа... Совсем не кормит, – только гладит!» Меж тем ночная тень мрачней кругом легла. Звезда, прищурившись, глядит на край окольный: То спрячется за колокольней, То выглянет из-за угла, То вспыхнет ярче, то сожмется... Над животом исподтишка смеется. Вдруг Брюху ту Звезду случилось увидать, Ан хвать! Она уж кубарем несется С небес долой Вниз головой И падает, не удержав полета, Куда ж? в болото! Как Брюху быть! кричит: ахти да ах! И ну ругать Звезду в сердцах! Но делать нечего! другой не оказалось... И Брюхо, сколько ни ругалось, Осталось Хоть вечером, а натощах. _________ Читатель! басня эта Нас учит не давать без крайности обета Поститься до звезды, Чтоб не нажить себе беды. Но если уж пришло тебе хотенье Поститься для душеспасенья, То мой совет — Я говорю тебе из дружбы — Спасайся! слова нет! Но главное: не отставай от службы! Начальство, день и ночь пекущеесь о нас, Коли сумеешь ты прийтись ему по нраву, Тебя, конечно, в добрый час Представит к ордену Святого Станислава. Из смертных не один уж в жизни испытал, Как награждают нрав почтительный и скромный. Тогда в день постный, в день скоромный, Сам будучи степенный генерал, Ты можешь быть и с бодрым духом, И с сытым брюхом, Ибо кто ж запретит тебе всегда, везде Быть при звезде?1854
К моему портрету (который будет издан вскоре при полном собрании моих сочинений)
Когда в толпе ты встретишь человека, Который наг[63]; Чей лоб мрачней туманного Казбека, Неровен шаг; Кого власы подъяты в беспорядке, Кто, вопия, Всегда дрожит в нервическом припадке, — Знай – это я! Кого язвят со злостью, вечно новой Из рода в род; С кого толпа венец его лавровый Безумно рвет; Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, — Знай – это я: В моих устах спокойная улыбка, В груди – змея!..Память прошлого (как будто из Гейне)
Помню я тебя ребенком, — Скоро будет сорок лет! — Твой передничек измятый, Твой затянутый корсет... Было так тебе неловко!.. Ты сказала мне тайком: «Распусти корсет мне сзади, — Не могу я бегать в нем!» Весь исполненный волненья, Я корсет твой развязал, — Ты со смехом убежала, Я ж задумчиво стоял...* * *
В борьбе суровой с жизнью душной Мне любо сердцем отдохнуть, Смотреть, как зреет хлеб насущный Иль как мостят широкий путь. Уму легко, душе отрадно, Когда увесистый, громадный, Блестящий искрами гранит В куски под молотом летит! Люблю подчас подсесть к старухам, Смотреть на их простую ткань, Люблю я слушать русским ухом На сходках уличную брань! Вот собрались. – Эй, ты, не мешкай! – Да ты-то что ж? Небось устал! – А где Ермил? – Ушел с тележкой! – Эх, чтоб его! – Да чтоб провал....! – Где тут провал? – Вот я те, леший! – Куда полез? Знай, благо пеший! – А где зипун? – Какой зипун? – А мой! – Как твой? – Эх, старый лгун! – Смотри задавят! – Тише, тише! – Бревно несут! – Эй вы, на крыше! – Вороны! – Митька! Амельян! – Слепой! – Свинья! – Дурак! – Болван! И все друг друга с криком вящим Язвят в колене восходящем. Ну что же, родные? Довольно ругаться! Пора нам за дело Благое приняться! Подымемте дружно Чугунную бабу! Всё будет досужно, Лишь песня была бы! Вот дуются жилы, Знать, чуют работу! И сколько тут силы! И сколько тут поту! На славу терпенье, А нега на сором! И дружное пенье Вдруг грянуло хором: «Как на сытном-то на рынке Утонула баба в крынке, Звали Мишку на поминки, Хоронить ее на рынке, Ой, дубинушка, да бухни! Ой, зеленая, сама пойдет! Да бум! Да бум! Да бум!» Вот поднялась стопудовая баба, Всё выше, выше, медленно, не вдруг... – Тащи, тащи! Эй, Федька, держишь слабо! – Тащи еще! – Пускай! – И баба: бух! Раздался гул, и, берег потрясая, На три вершка ушла в трясину свая! Эх бабобитье! Всем по нраву! Вот этак любо работать! Споем, друзья, еще на славу! И пенье грянуло опять: «Как на сытном-то на рынке Утонула баба в крынке» и пр. Тащи! Тащи! – Тащи еще, ребята! Дружней тащи! Еще, и дело взято! Недаром в нас могучий русский дух! Тащи еще! – Пускай! – И баба: бух! Раздался гул, и, берег потрясая, На два вершка ушла в трясину свая!Начало 1860-х годов
Комментарии
Произведения А.К. Толстого расположены в жанрово-хронологическом порядке. В первую часть включено большинство его лирических стихотворений, во вторую – баллады, былины, притчи, в третью – сатирические и юмористические стихотворения: в заключение её помещены стихотворные сочинения Козьмы Пруткова, написанные А.К. Толстым. Завершают книгу избранные переводы А.К. Толстого. Историко-культурные понятия и устаревшие слова, толкуемые в доступных справочных изданиях, не комментировались.
При подготовке издания использованы разыскания и материалы А.А. Кондратьева, И.Г. Ямпольского, Д.А. Жукова, Е.И. Прохорова, А.К. Бабореко, О. Субтельного, других исследователей, мемуаристов. Особая признательность – историку Алексею Леонидовичу Савельеву, дружеская помощь которого усовершила содержательность этой книги.
Тексты печатаются по изданию: Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х томах: Под редакцией И.Г.Ямпольского. Т. 1. М., 1969 с дополнениями из других изданий произведений писателя.
Стихотворения
«Бор сосновый в стране одинокой стоит…» Первоначально стихотворение было напечатано под названием «Серебрянка», по имени ручья в Блистово – имении матери А.К. Толстого в Черниговской губернии. Положено на музыку А.Г. Рубинштейном.
«Колокольчики мои…» Впервые стихотворение напечатано в журнале «Современник», 1854, № 4, без 6–11-й строф. В письме к С.А. Миллер (27 октября 1856) Толстой отнёс стихотворение к числу своих «самых удачных вещей». Положено на музыку П.П. Булаховым и В.И. Ребиковым.
Чепрак – украшенная подстилка под седло, поверх потника. Киргиз-кайсак – тогдашнее название казахов. Кунтуш – старинная украинская одежда наподобие кафтана с широкими откидными рукавами. Чекмень – суконный мужской полукафтан в талию со сборками сзади. Булава – жезл с серебряным (вызолоченным) шаром, украшенным драгоценными камнями, символ власти украинских гетманов.
«Ты знаешь край, где все обильем дышит…» Впервые напечатано в журнале «Современник», 1854, № 4 (в окончательный вариант не вошло несколько строф). Композиционно стихотворение Толстого вдохновлено стихотворением «Песня Миньоны» Гёте из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». Последнее, по мнению В.М. Жирмунского, используется Толстым «как композиционная канва», а не как материал для перевода или подражания. Слова из «Песни Миньоны» «Ты знаешь край? Цветут лимоны в нём…» Гейне взял эпиграфом к Главе XXVI части «Путешествие от Мюнхена до Генуи» цикла «Путевые картины».
Пожня – целина, залежь. Сечь (Запорожская Сечь) – организация украинского казачества в нижнем течении Днепра, за речными порогами (1-я половина XVI в. – 1775); своеобразная казачья республика. Стожары – название созвездия Плеяды у восточных славян. Палей (Палий) Семён Филиппович (1640-е гг. – 1710) – полковник, руководитель украинского правобережного казачества. Борец с польской шляхтой, участник Полтавской битвы. Сагайдачный Петро Кононович (ум. в 1622) – кошевой атаман, а затем гетман украинского казачества, выдающийся военный и политический деятель. Способствовал религиозной и общественной консолидации украинского народа. В его жизни были и сражения на стороне Польши с русскими войсками. Мазепу клял упрямый Кочубей – Гетман левобережной Украины Иван Степанович Мазепа (1639–1709) – опытный политический деятель, немало сделавший для развития украинской культуры. Первоначально был союзником молодого Петра I, состоял с ним в дружеских отношениях. Но после угрозы вторжения Польши на украинские земли и отказа Петра от военной помощи Мазепе, последний заключает союз со шведским королём Карлом XII. Генеральный судья Левобережной Украины Василий Леонтьевич Кочубей (1640–1708), бывший в сложном конфликте с Мазепой и сообщавший Петру о его злоумышлениях, настоящих и мнимых, был казнён по распоряжению царя. Дворца разрушенные своды — – речь идёт о дворце последнего украинского гетмана Кирилы Григорьевича Разумовского (1728–1803), прадеда А.К.Толстого. Он строился в 1799–1803 годах в Батурине, столице левобережной Украины, резиденции украинских гетманов в 1669–1708 и в 1750–1764 гг. (архитектор Чарльз Камерон). После смерти Разумовского в 1803 году работы были прекращены, дворец остался недостроенным. Признан крупным памятником архитектуры классицизма.
Цыганские песни. В строфах слышны отзвуки стихотворения Лермонтова «Есть речи – значенье…»
«Ой стоги́, стоги́…» Как и в стихотворении «Колокольчики мои…» здесь вновь главенствует идея о славянском единстве под водительством России. Стоги – славянские народы, орёл символизирует Россию.
«По гребле неровной и тряской…» Гребля (укр.) – насыпь, дамба.
«Где гнутся над омутом лозы…» Баллада печатается здесь в первоначальной редакции (Толстой при публикации убрал из него последние четыре строфы). Таким образом, полагал И.Г. Ямпольский, поэт хотел избежать видимой связи своего стихотворения с «Лесным царём» Гёте (в переводе В.А. Жуковского). По мнению В.А. Кошелева, ««открытость», недосказанность производила более сильное эстетическое впечатление на читателя, чем нагнетённый ужас гибели младенца». Теперь читатель сам может высказать предположения о причинах сделанного сокращения.
Баллада положена на музыку Н.А. Римским-Корсаковым и В.И. Ребиковым.
«Милый друг, тебе не спится…» Стихотворение печатается в первоначальной редакции. Впоследствии, при публикациях поэт приглушил эротичность звучания этого своего шедевра, вероятно, следуя тогдашним литературным традициям.
Пустой дом. Как полагают исследователи, в стихотворении, как и в стихотворениях «Шумит на дворе непогода…» и «Ты помнишь ли, Мария…», отразились впечатления Толстого от какого-то родового дома Разумовских. Упоминание имени архитектора Растрелли свидетельствует о том, что здесь речь идёт не о батуринском дворце Разумовского (см. стихотворение «Ты знаешь край…»).
«Средь шумного бала, случайно…» Как и другие любовные стихотворения, начиная с 1851 года, это посвящено Софье Андреевне Миллер, впоследствии жене поэта, с которой Толстой познакомился на святочном маскараде в Петербурге (конец 1850 – начало 1851 годов). Стихотворение перекликается со стихотворением Лермонтова «Из-под таинственной холодной полумаски…», а строка «В тревоге мирской суеты» напоминает о пушкинской строке «В тревогах шумной суеты» («Я помню чудное мгновенье…»). Положено на музыку П.И. Чайковским.
«С ружьем за плечами, один, при луне…» Написано под впечатлением знакомства с С.А. Миллер.
«Меня, во мраке и в пыли…» В стихотворении очевидна перекличка с пушкинским «Пророком».
Горняя высь – небо. Твердь – небо. Слово – иносказательно: Бог.
«Коль любить, так без рассудку…» Положено на музыку А.Г. Рубинштейном, Ц.А. Кюи, Р.М. Глиэром.
Колодники. Стихотворение положено на музыку А.Т. Гречаниновым. Стало популярной песней в среде политкаторжан и ссыльных.
«Уж ты мать-тоска, горе-гореваньице!..» Первая строка может напомнить начало народной песни «Ох, в горе жить – не кручинну быть!..». Гридни и отроки – в Древней Руси члены младшей дружины князя, его телохранители и слуги.
«Вот уж снег последний в поле тает…» Печатается по первопубликации в журнале «Отечественныя записки», 1856, № 5.
«Уж ты нива моя, нивушка…» Это и последующие пять стихотворений А.К. Толстого не раз привлекали внимание русских композиторов, они положены на музыку Ц.А. Кюи, С.В. Рахманиновым и др.
«Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала!..» Полугар – водка низкого качества, сивуха. Приказный – мелкий чиновник.
Крымские очерки. Цикл вдохновлён поездкой А.К. Толстого вместе с С.А. Миллер по Крыму в мае – июне 1856 года, вскоре после окончания Восточной войны.
5. «Вы всё любуетесь на скалы…» – В греческой мифологии Ифигения – дочь аргосского царя Агамемнона, давшего обет принести ее в жертву богине Артемиде. Однако Артемида заменила ее на жертвеннике ланью и перенесла в Тавриду (древнее название Крымского полуострова).
9. «Приветствую тебя, опустошенный дом…» – Стихотворение навеяно двухнедельным пребыванием Толстого в имении его дяди, министра уделов графа Л.А. Перовского.
12. «Солнце жжет; перед грозою…» – Влюбленный бог – Древнегреческий бог морей Посейдон.
«Войдем сюда; здесь меж руин…» Строка 17-я осталась недописанной. О прототипе героя этого стихотворения (поэт называет его «раввином» и явно состаривает), караимском священнослужителе и ученом Соломоне Абрамовиче Бейме (1819–1867), Толстой отзывался как об «одном из образованнейших и приятнейших людей» (письмо к Н.М. Жемчужникову от 28 ноября 1858 г.).
«Если б я был богом океана…» Циана – декоративное растение из семейства лилий.
«Что за грустная обитель…» Впервые напечатано в журнале «Русская беседа», 1857, №3, под заглавием «Станция».
«Не верь мне, друг, когда, в избытке горя…» Впервые опубликовано в журнале «Современник», 1857, № 1. Сам Толстой перевёл это стихотворение на немецкий язык. Положено на музыку П.И. Чайковским, Н.А. Римским-Корсаковым, А.С. Танеевым, С.В. Рахманиновым.
«Острою секирой ранена береза…» Предполагают, что это стихотворение написано под впечатлением пребывания Толстого у матери в имении Красный Рог летом 1856 года и вызвано недовольством последней его связью с С.А. Миллер. Об этом, в частности, пишет в своих воспоминаниях бывший в это время в Красном Роге его двоюродный брат Л.М. Жемчужников.
«Когда кругом безмолвен лес дремучий…» Вариация на мотивы стихотворения Гете «Nдhe des Geliebten» («Близость любимого»).
«В стране лучей, незримой нашим взорам…» В первопубликации («Современник», 1857, № 1) стихотворение имело подзаголовок: «Из Сведенборга», который в книжном издании Толстой снял. Эмманул Сведенборг (1688–1772) – известный шведский учёный-естествоиспытатель, теософ.
«Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..» «Очень странно развивать теорию в стихах, – писал Толстой С.А. Миллер 6 октября 1856 года об этом стихотворении, – но я думаю, что это мне удастся. Так как этот сюжет требует много анализа, я выбрал гекзаметр – самые легкие стихи… а вместе с тем это стихотворение дает мне много труда, – так легко впасть в педантизм». Через два месяца поэт вновь сообщает ей, что любит это стихотворение, «несмотря на его genre».
Б.М. Маркевичу («Ты прав: мой своенравный гений…»). Болеслав Михайлович Маркевич (1822–1884) – писатель и публицист, государственный служащий высокого ранга, приятель Толстого, который, однако, не разделял многих взглядов Маркевича.
«И у меня был край родной когда-то…» Вариации на мотивы стихотворения Генриха Гейне «Ich hatte einst ein chцnes Vaterland…» из цикла «На чужбине». Но гром умолк; гроза промчалась мимо. – По-видимому, речь идет о Крымской войне.
«Господь, меня готовя к бою…» В первых строках, как и в стихотворении «Меня, во мраке и в пыли…», очевидно влияние пушкинского «Пророка». И хотя здесь есть даже словесные заимствования из «Пророка», Толстой в целом сумел дать своё толкование темы поэта-пророка.
«Ты неведомое, незнамое…» Фомина неделя – первая неделя после пасхальной, Светлой недели.
«Он водил по струнам; упадали…» Впервые опубликовано в журнале «Русский вестник», 1857, апрель, кн. 1, без последних восьми строк. Предполагается, что в стихотворении, как и в рассказе Льва Толстого «Альберт», описана игра одного и того же музыканта – Георга Кизеветтера. Есть вероятность, что 5 января 1857 года Толстые вместе слушали игру Кизеветтера.
Жжёнка – коньяк или ром с пряностями, фруктами и сахаром, поджигаемый перед подачей к столу.
«Деревцо мое миндальное…» Первоначально стихотворение входило в цикл «Крымские очерки».
«Двух станов не боец, но только гость случайный…» Впервые напечатано в издании «Стихотворения графа А.К. Толстого». СПб, 1867. Ранее, в 1858 году было послано И.С. Аксакову под заглавием «Галифакс». Возможно, именно размышления о политической позиции английского государственного деятеля, писателя Джорджа Сэвила Галифакса (1633–1695) послужили началом работы Толстого над этим, программным для него стихотворением.
«Как селянин, когда грозят…» Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы», 1882, № 1, под заглавием «Певцу».
«Что ни день, как поломя со влагой…» Это стихотворение Толстой перевёл на немецкий. Положено на музыку Б.В. Асафьевым.
«Звонче жаворонка пенье…» Стихотворение положено на музыку Ц.А. Кюи, Н.А. Римским-Корсаковым, А.Г. Рубинштейном.
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…» Cтихотворение положено на музыку П.И. Чайковским.
Глагол – здесь: Божье слово.
«Дробится, и плещет, и брызжет волна…» Это и следующее стихотворение между собой сюжетно связаны. Оба положены на музыку Н.А. Римским-Корсаковым и Ц.Е. Кюи.
«Не брани меня, мой друг…» Положено на музыку Ференцем Листом.
«Горними тихо летела душа небесами…» Вариация на тему лермонтовского «Ангела». Лики – здесь слово дано в старинном значении: радостные клики, возгласы.
«Ты клонишь лик, о нем упоминая…» Стихотворение сходно по замыслу и поэтическому пафосу с лермонтовским «Нет, не тебя так пылко я люблю…»
«Кабы знала я, кабы ведала…» Стихотворение восходит к народной песне «Как бы знала, как бы ведала…» Мурмолка – старинная меховая или бархатная шапка.
Е.И.В. государыне императрице Марии Александровне. Мария Александровна (1824–1880), урождённая Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария, принцесса Гессен-Дармштадтская – дочь великого герцога Гессенского Людовика II, с 1841 года жена наследника российского престола, с 1855 года – императора Александра II; русская императрица.
И.С. Аксакову. Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886) – поэт, публицист, крупнейший деятель русского славянофильства. Стихотворение написано в ответ на критические замечания Аксакова о поэмах Толстого «Грешница» и «Иоанн Дамаскин». Печатая стихотворение в журнале «Русская беседа», Аксаков хотел заменить свою фамилию в заглавии буквами NN, против чего Толстой возражал. «Подумают, – писал он 28 февраля 1859 г., – что я боюсь обращаться к Вам открыто, потому что Вы под опалой». Строки, выделенные курсивом, – цитата из стихотворения Лермонтова «Родина»; в соседних строках также видны тематические и словесные совпадения с ним. Псалтырь – здесь: древний струнный музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого пелись псалмы.
«Пусть тот, чья честь не без укора…» У этого стихотворения своя история. Работая над поэмой «Иоанн Дамаскин», Толстой хотел завершить её стихотворным посланием к императрице. Но Н.М. Жемчужников стал его отговаривать от этого поступка, опасаясь отрицательного отношения читателей. На это Толстой ответил настоящим стихотворением, хотя всё же от послания-эпилога к «Дамаскину» отказался.
«На нивы желтые нисходит тишина…» Стихотворение положено на музыку А.Т. Гречаниновым, Ц.А. Кюи, Н.А. Римским-Корсаковым, П.И. Чайковским, А.С. Аренским, М.Ф. Гнесиным, Н.Н. Черепниным.
Против течения. Икон истребители – в первой половине VIII века в Византии возникло движение против почитания икон, продолжавшееся почти до середины IX века.
«Одарив весьма обильно…» «Если б Вы знали, какой я плохой хозяин! – писал Толстой М.М. Стасюлевичу 19 февраля 1869 года. – Ничего не понимаю, а вижу, что всё идет плохо. Это сознание внушило мне следующий ответ на известное стихотворение Тютчева: «Эти бедные селенья, Эта скудная природа!..» Тогда в Красном Роге был повальный голод.
<И.А. Гончарову> («Не прислушивайся к шуму…») Послание отчасти вызвано критическими отзывами о романе Гончарова «Обрыв».
«Про подвиг слышал я Кротонского бойца…» Милон из Кротоны (VI в. до Р.Х.) – прославленный греческий атлет.
«Прозрачных облаков спокойное движенье…» История создания этого стихотворения рассказана А.К. Толстым в письме к княгине Каролине Сайн-Витгенштейн 5(17) февраля 1875 года: «…со мной случилась странная вещь <…>: во время моей большой болезни в деревне, так как я не мог ни лечь, ни спать сидя, я как-то ночью принялся писать маленькое стихотворение, которое мне пришло в голову. Я уже написал почти страницу, когда вдруг мои мысли смутились, и я потерял сознание. Пришедши в себя, я хотел прочесть то, что написал; бумага лежала перед мной, карандаш тоже, ничего в обстановке, окружающей меня, не изменилось, – и вместе с тем я не узнал ни одного слова в моём стихотворении. Я начал искать, переворачивать все мои бумаги, и не находил моего стихотворения. Пришлось признаться, что писал бессознательно <…> В том, что я написал, есть какого-то рода предчувствие – близкой смерти. Но, как видите, это не сбылось…» (в переводе с французского).
Гаральд Свенгольм. Происхождение эпиграфа пока не установлено.
Поэмы, баллады, былины
Волки. В первопубликации с подзаголовком «Баллада». Положено на музыку А.Г. Рубинштейном и А.С. Аренским.
«Ходит Спесь, надуваючись…» К.С. Аксаков писал, что это стихотворение, «или, лучше, русская песня,» так «хороша, что уже кажется не подражанием песне народной, а самою этою народною песнею. Чувствуешь, что вдохновение поэта само облеклось в эту народную форму, которая одела его как собственная одежда…» Положено на музыку А.П. Бородиным, М.П. Мусоргским, В.С. Калинниковым, Н.М. Стрельниковым.
Курган. «Курган» в первоначальной редакции имел ещё шесть финальных строф. По мнению И.Г. Ямпольского, в них отчётливо сказалось воздействие «Воздушного корабля» Лермонтова – свободного переложения баллады австрийского поэта-романтика Й.К. Зейдлица «Geisterschiff» («Корабль призраков»).
«У приказных ворот собирался народ…» Первоначально было: «У Арбатских ворот». Приказы – органы центрального управления в России XVI – начале XVIII вв., а также местные органы дворцового управления в XVI – XVII вв. Дьяк – начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств в России до XVIII в. Думный дьяк – 4-й, низший чин членов Боярской думы с правом голоса. Тать – вор. Пече – особенно, более всего.
Положено на музыку С.Н. Василенко.
Василий Шибанов. Первая публикация – в журнале «Русский вестник», 1858, сентябрь, кн. 1, с подзаголовком «Баллада». Источником сюжета стал эпизод из «Истории государства Российского» Карамзина, хотя Толстой допускает некоторое смещение событий: Курбский бежал в Литву (1564) до введения опричнины (1565). Также поэт использовал подлинное письмо Курбского к Ивану Грозному.
Баллада пользовалась у российских читателей широчайшим успехом. В частности, как установил И.Г. Ямпольский, в статье «Пушкин, Лермонтов и Некрасов» («Дневник писателя». 1877. Декабрь) Достоевский пересказывает соответствующие исторические факты именно по балладе Толстого.
Свод различных трактовок образа Шибанова дан в диссертации Н.А.Лобковой «Баллады А.К. Толстого» (Л., 1970).
Стремянный – сопровождавший барина слуга-конюх. Зазнобы – здесь: печали, огорчения. Смирная одежда – траурная. Вяземский, Грязной, Малюта, Басманов – известные опричники. Окольные – приближенные. Аз, иже – я, который. За тя – за тебя. Лиях – лил. Судья – Бог. Заплечные… мастера – палачи.
Богатырь. Орлёный – клеймённый казённым клеймом с изображением государственного герба Российской Империи. Повытчик – делопроизводитель в суде. За двести мильонов Россия… – Речь идёт о системе винных откупов, существовавшей до 1863 года, когда частное лицо за определённую плату получало право от государства на производство и продажу алкоголя. В строфе отражено расхожее стремление людей винить во всех бедах кого-то стороннего, но никогда не самих себя.
Грешница. Отвечая поэту и публицисту И.С. Аксакову (см. о нём выше) на его замечания по поводу поэм «Грешница» и «Иоанн Дамаскин», А.К. Толстой писал ему 31 декабря 1858 года: «…когда я писал «Грешницу», передо мной носился отчасти Paolo Veronese … Вообще эпическая сторона мне не даётся, всё тянет меня в лирисм, а иногда и в драматисм». На сюжет поэмы Толстого художник Г.И. Семирадский написал картину «Христос и женщина» (1873). Чтение «Грешницы» было очень популярно на публичных и домашних литературных вечерах вплоть до 1910-х годов, что творчески отражено Чеховым в рассказе «Лишние люди» и в комедии «Вишнёвый сад».
Законы Моисея – каноны иудаизма. По онпол – на противоположном берегу.
Старицкий воевода. Баллада написана на основе рассказа о гибели конюшего и начальника Казённого приказа Ивана Петровича Челяднина-Фёдорова из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина.
Иоанн Дамаскин. Главный герой поэмы, православный богослов – историческое лицо, хотя сведения о его жизни скудны. Жил в 8 веке, очевидно, уроженец Дамаска, умер в Иерусалиме. Иоанн Дамаскин прославлен своим трудом «Источник знания», где были заложены основы догматического богословия. Отстаивал необходимость иконопочитания. Вселенский собор 787 года прославил Дамаскина «глашатаем истины». Признан Церковью выдающимся гимнографом (пасхальный канон, каноны на Рождество Христово, на Богоявление, на Вознесение, воскресные службы и др.); был прозван «Златоструйным». О своей поэме Толстой подробно писал Б.М. Маркевичу 4 февраля 1859 года – очевидно, что для него важнейшим является творчество Иоанна, которого он постоянно называет «певцом». Современники усматривали в поэме автобиографические мотивы, во всяком случае очевидно стремление Толстого передать в образе Иоанна черты творчески свободного человека, при этом осознающего силу морального воздействия словесного искусства на человека и общество.
Отрывок из поэмы «Благославляю вас, леса…» положен на музыку П.И. Чайковским. С.И. Танеев и В.С. Калинников написали кантаты «Иоанн Дамаскин».
Противу ереси безумной. Имеется в виду иконоборчество, насаждавшееся в то время императором Львом Исавром. Прелесть – соблазн. Юдоль – жизнь, земное существование человека с его тяготами; участь, судьба. Преставился – скончался. Паки – снова. Сонм – множество. Мира преставленье – конец света. Эпитимья (епитимья) – церковное наказание верующих за нарушения канонов и др. Осуществляется в виде продолжительной молитвы, усиленного поста, земных поклонов перед иконой, крестом и др. Перси – грудь.
Пантелей-целитель. Первая строка баллады восходит к народной песне «Пантелей-государь ходит по двору…» В балладе иронически изображаются российские социал-радикалы 1860-х годов с их «грязноватым» учением революционного, разрушительного «переустройства» страны.
Положено на музыку С.В. Рахманиновым.
Змей Тугарин. Впервые было опубликовано в журнале «Вестник Европы», 1868, № 2, под заглавием «Былина». Сам Толстой считал «Змея Тугарина» «лучшей из своих баллад».
Поле – в Древней Руси: судебный поединок, а также место, где он проходит. Каганская – власть пришлых правителей-захватчиков (далее: хан). К обдорам – Обдорский край в Сибири, дальние российские земли. Сила – много.
Поток-богатырь. Впервые – в журнале «Русский вестник», 1871, № 7, под заглавием «Песня о Потоке-богатыре». В балладе Толстой продолжает своё литературное противостояние российским социал-радикалам, демагогически прикрывавшими свою разрушительную деятельность рассуждениями о прогрессе, гуманности и т.д. По свидетельству Б.М. Маркевича, стихотворение ещё в рукописи имело «громадный успех во всех слоях общества». Уже в ХХ веке в парижском журнале «Возрождение» (1949, тетрадь первая), издававшемся эмигрантами из России, появилось продолжение «Поток-богатырь в Зарубежьи», подписанное «Изгой» (псевдоним раскрыть не удалось).
Поток (Потык, Потаня) – герой былин. Гридни – в Древней Руси княжеские дружинники, его телохранители. Кимвал – старинный музыкальный инструмент, две медные тарелки или чаши. Царьградские окна – застеклённые окна; в средние века Византия была центром стеклоделия. Мостницы – половицы. Шеромыжник – попрошайка. Тулумбасы – старинный ударный музыкальный инструмент, род литавр. На другой на реке – на Неве. Куна (название происходит от шкурки куницы; у восточных славян меха использовались как деньги) – так в Киевской Руси вообще называли серебряные монеты. Вира – штраф в пользу князя за убийство свободного человека по древнерусскому праву. Суд присяжных был введён в России по судебной реформе 1864 года. Общее дело – так в те времена нередко называли антисамодержавную, антиправительственную и вообще оппозиционную по отношению к властям деятельность. Называют остзейским бароном – прибалтийские (остзейские) помещики были известны своими консервативными взглядами.
Илья Муромец. Поэму высоко ценили Н.С. Лесков, Ф.М. Достоевский, В.Я. Брюсов.
От царьградских от курений – из Царьграда в Киевскую Русь везли, в частности, благовония. Скриня – сундук, ларь.
«Порой веселой мая…» Впервые – в журнале «Русский вестник», 1871, № 10, под заглавием «Баллада с тенденцией». Принадлежит к числу баллад Толстого против радикальных преобразований в России, пророчески показывающих их бесплодность и разрушительность, если учесть опыт нашего кровавого двадцатого века под водительством большевиков.
В журнале вместо строф 21–24 были даны следующие шесть строф:
«Они, вишь, коммунисты, Честнейшие меж всеми, И на руку нечисты По строгой лишь системе; Системы их дешевле Другая есть едва ли, Станичниками древле У нас их называли. Они ж и реалисты, Изящного не любят, Знать сами неказисты, Затем красу и губят; Они ж матерьялисты, От имени прогресса Кричат, что трубочисты Суть выше Апеллеса…» «Не те ль то нигилисты, — Невеста вопросила, — В честь коих журналисты Качают так кадила?» «Те самые, о лада, Так точно, нигилисты; Ни толку в них, ни склада, Но бойки и речисты».Лада – супруга, возлюбленная. Лепо – хорошо, красиво. Говяда – коровы, быки. Рафаил – Рафаэль. Форум – городская площадь, место народных сходок в Древнем Риме. In verba вожакорум – от латинского: словами вожаков. Земство – система местного самоуправления в России, введенная в 1864 году. Повесить Станислава – награжить орденом Святого Станислава. Казне ж весьма доходно. – В императорской России награждённые орденами вносили в казну определенную сумму.
Юмористические стихотворения
Благоразумие. Впервые – в журнале «Современник», 1854, № 4, под заглавием «Умеренность», без последней строфы, с небольшим изменением 21-й строки: «Хоть сейчас пойду на турку».
Синклит – собрание высших сановников. По-австрийски – бывшая союзницей России, Австрия во время Восточной (Крымской) войны неожиданно предъявила ей ультиматум, потребовав вывода русских войск из Молдавии и Валахии и следом оккупировав эти территории.
История государства Российского от Гостомысла до Тимашева.
Впервые – в журнале «Русская старина», 1883, № 11, под заглавием «Русская история от Гостомысла. 862–1868». Сам автор употреблял и другие названия, в том числе настоящее, предложенное в своё время И.Г. Ямпольским как предпочтительное. Впоследствии эта популярнейшая русская сатирическая поэма находила новых «летописцев». Например, поэт и переводчик Алексей Васильчиков продолжил «Историю…» от Николая I до 1991 года (опубликовано в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты», 1992, № 40).
Гостомысл (ок. 1-й половины IX в.) – первый новгородский посадник или князь, по летописи, завещавший призвать варягов правителями на Русь. Тимашев Александр Егорович (1818–1893) – российский государственный деятель. В 1856–1861 годах начальник штаба Корпуса жандармов, управляющий Третьим отделением. В 1868–1878 годах – министр внутренних дел. Был известен своими консервативными воззрениями. Нестор – монах Киево-Печерского монастыря, летописец, составитель «Повести временных лет» (1-е десятилетие XII в.). Пришли три брата – по летописям, во главе варяжской дружины, приглашённой на Русь в 862 году для прекращения междоусобиц, стояли три брата – Рюрик, Синеус и Трувор. Кисет – здесь: кошелёк. Всю землю разделил – князь Ярослав разделил свои земли между сыновьями, что после его смерти привело к распрям, ослабившим Русь. Многих жен супруг – женами Ивана Грозного были Анастасия Захарьина, Мария Темрюковна, Марфа Собакина, Анна Колтовская, Анна Васильчикова, Василиса Мелентьева, Мария Нагая. Имярек – по имени. Так в документах обозначалось место для вставки необходимого имени. Трезвонить лишь горазд – известный как слабый правитель царь Фёдор Иоаннович (1557–1598) любил игру на церковных колоколах. Паки – опять, снова. Но был ли уговор – то есть обуславливались ли ограничения власти Михаила Романова при его вступлении на престол. Писали ей… Вольтер и Дидерот – создавая себе репутацию просвещённой монархини, Екатерина II переписывалась с французскими философами Вольтером и Дидро. Прикрепила Украинцев к земле – в 1775 году была ликвидирована Запорожская Сечь и закрепощены украинцы; указом Екатерины 3 мая 1783 года крепостничество было юридически установлено на Левобережной Украине. Мальтийский кавалер – император Павел I был гроссмейстером духовного ордена мальтийских рыцарей. Louis le Désiré (Людовик Желанный) – роялистское прозвище короля Франции Людовика XVIII, возведённого на престол при поддержке Александра I. Veillot – барон И.О. Велио (1830–1899) был директором почтового департамента министерства внутренних дел в 1868–1880 гг. Толстой не раз упоминает его в письмах и стихах, высмеивая плохую работу почтового ведомства и негодуя на чиновника за организацию перлюстрации (тайного просмотра) переписки. Норов А.С. – в 1854–1858 гг. министр народного просвещения. Путятин Е.В. – граф, в 1861 году министр народного просвещения. Панин В.Н. – граф, в 1841–1862 гг. министр юстиции. Метлин Н.Ф. – управляющий морским министерством. Брок П.Ф. – в 1852–1858 гг. министр финансов. Замятнин Д.Н. – в 1862–1867 гг. министр юстиции. Корф М.А. – барон, в 1864–1872 гг. председатель департамента законов Государственного совета. Головнин А.В. – в 1861–1866 гг. министр народного просвещения. Столбец – старинный рукописный свиток. Зело – очень. Яви – явил. Водвори – водворил. Не дописах поспешно… – Сходно с обыкновенной формой обращения к читателю у летописцев и переписчиков. Ср. у Нестора: «Отцы и братия! Иже где переписах или недописах, чтите исправляя Бога для, а не кляните».
Послание к М.Н. Лонгинову о дарвинисме. Михаил Николаевич Лонгинов (1823–1875) – библиограф и историк литературы, в молодости член кружка, группировавшегося вокруг редакции «Современника», и либерал; с конца 1850-х годов придерживался консервативных взглядов; в 1871–1875 годах был начальником Главного управления по делам печати. Лонгинов ответил Толстому стихотворным посланием, в котором утверждал, что слухи о запрещении книги Дарвина не соответствуют действительности. Толстой на это писал М.М. Стасюлевичу: «Он отрекается от преследования Дарвина. Тем лучше, но и прочего довольно» (письмо от 3 января 1873 года). Первый эпиграф взят также из Козьмы Пруткова. Овамо и семо – там и здесь. Шматина глины – ком глины, из которого, согласно Священному Писанию, был создан человек. Бармы – принадлежность праздничного наряда русских князей и царей, надевавшаяся на плечи; также: ризы священника или оплечья на них.
Сон Попова. Впервые – отдельной брошюрой в Берлине: Сон статского советника Попова. Сатирическая поэма графа А.К. Толстого. Берлин, 1878. В России – в журнале «Русская старина», 1882, №12. Поэма получила всеобщее признание. Интересно свидетельство Льва Толстого, не относящегося к поклонникам поэзии А.К. Толстого, но не раз с восторгом отзывавшегося о «Сне Попова» и читавшего поэму своим близким: «Во сне <…> когда сознание работает не так последовательно и логично», как наяву, состояние человека «сказывается соответствующим чувством, часто без всякого внешнего повода. Например, во сне часто бывает невыразимо стыдно, а когда проснёшься и увидишь, что штаны спокойно висят на стуле, чувствуешь радость необыкновенную. Вот поэтому я и люблю так «Сон Попова». Так удивительно изображено это состояние стыда во сне, и, кроме того, прекрасно описаны все лица. Несмотря на форму шутки – это истинно художественное произведение» (см.: Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 1922. Т. 1. С. 104–105).
Статский советник – по Табели о рангах чиновник пятого класса, по военным чинам располагается между полковником и генерал-майором. Темляк – кисть на рукоятке холодного оружия, украшалась лентой ордена, которым награждён владелец оружия. Экран – декоративный щит перед камином, украшенный вышивкой или рисунком. Экзекутор – чиновник, ведающий хозяйственными делами в учреждении. Визитка – одежда особого покроя для утренних визитов, полуфрак. Коллежский регистратор – чиновник последнего, 14-го класса; в военных чинах – прапорщик. Консоме – крепкий бульон. В Шотландии – имеется в виду кильт, мужская юбка – шотландская национальная одежда. Третье отделенье – управление жандармерией, политическая полиция. Гривна – здесь: гривенник. К Цепному мосту – у Цепного моста в Петербурге (в советское время – мост Пестеля) помещалось Третье отделение. Причинный казус – неприятный случай. Не бе – не было. Лазоревый полковник – жандармская форма была тёмно-голубого цвета. Санкюлот (от франц. sans-culotte, букв. «бесштанник») – пренебрежительное именование бедноты, данное ей французскими аристократами в годы революции конца XVIII века. В русском обиходе – бунтовщик, смутьян. Комплот – заговор (франц.). Ектинья – заздравное моление; здесь слову придан иронический смысл. Пряжка – здесь: нагрудный знак, выдававшийся за беспорочную службу.
Стихотворения Козьмы Пруткова
В разделе печатаются сочинения Пруткова, принадлежащие перу А.К. Толстого. Стихотворение «Желание быть испанцем» написано в соавторстве с А.М. Жемчужниковым.
Примечания
1
ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 91, л. 20.
(обратно)2
Свидетельство Н.С. Лескова// «Русская старина». 1895. № 12. С. 212
(обратно)3
Письмо П.К. Щебальскому // Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. Т. 10. М., 1958. С. 428.
(обратно)4
Иоанн, архимандрит (Д.А. Шаховской). Пророческий дух в русской поэзии: Лирика Алексея Толстого. Берлин: За церковь, 1938. С. 40.
(обратно)5
Гребля – насыпь, дамба (укр.)
(обратно)6
Полугар – водка низкого качества, сивуха.
(обратно)7
Приказный – мелкий чиновник.
(обратно)8
Аюдаг – Медведь-гора.
(обратно)9
Жжёнка – коньяк или ром с пряностями, фруктами и сахаром, поджигаемый перед подачей к столу.
(обратно)10
Лики – здесь слово дано в старинном значении: радостные клики, возгласы.
(обратно)11
Мурмолка – старинная меховая или бархатная шапка.
(обратно)12
Псалтырь – здесь: древний струнный музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого пелись псалмы.
(обратно)13
Икон истребители – в Византии VIII—IX веков существовало движение иконоборцев, направленное против иконопочитания.
(обратно)14
Милон из Кротоны (VI в. до Р.Х.) – прославленный греческий атлет.
(обратно)15
Происхождение эпиграфа пока не установлено.
(обратно)16
Стремянный – сопровождавший барина слуга-конюх.
(обратно)17
Зазнобы – здесь: печали, огорчения.
(обратно)18
Смирная одежда – траурная.
(обратно)19
Вяземский, Грязной, Малюта, Басманов – известные опричники.
(обратно)20
Окольные – приближенные.
(обратно)21
Аз, иже – я, который.
(обратно)22
За тя – за тебя.
(обратно)23
Лиях – лил.
(обратно)24
Судья – Бог.
(обратно)25
Заплечные... мастера – палачи.
(обратно)26
Поле – в Древней Руси: судебный поединок, а также место, где он проходит.
(обратно)27
Каганская – власть пришлых правителей-захватчиков (далее: хан).
(обратно)28
К обдорам – Обдорский край в Сибири, дальние российские земли.
(обратно)29
Сила – много.
(обратно)30
Гридни – в Древней Руси княжеские дружинники, его телохранители.
(обратно)31
Кимвал – старинный музыкальный инструмент, две медные тарелки или чаши.
(обратно)32
Поток (Потык, Потаня) – герой былин.
(обратно)33
Царьградские окна – застеклённые окна; в Средние века Византия была центром стеклоделия.
(обратно)34
Мостницы – половицы.
(обратно)35
Шеромыжник – попрошайка.
(обратно)36
Тулумбасы – старинный ударный музыкальный инструмент, род литавр.
(обратно)37
На другой на реке – на Неве.
(обратно)38
Куна (название происходит от шкурки куницы; у восточных славян меха использовались как деньги) – так в Киевской Руси вообще называли серебряные монеты.
(обратно)39
Вира – штраф в пользу князя за убийство свободного человека по древнерусскому праву. Суд присяжных был введён в России по судебной реформе 1864 года.
(обратно)40
Общее дело – так в те времена нередко называли антисамодержавную, антиправительственную и вообще оппозиционную по отношению к властям деятельность.
(обратно)41
От царьградских от курений – из Царьграда в Киевскую Русь везли, в частности, благовония.
(обратно)42
Скриня – сундук, ларь.
(обратно)43
Лада – супруга, возлюбленная.
(обратно)44
Лепо – хорошо, красиво.
(обратно)45
Говяда – коровы, быки.
(обратно)46
Рафаил – Рафаэль.
(обратно)47
Форум – городская площадь, место народных сходок в Древнем Риме.
(обратно)48
In verba вожакорум – от латинского: словами вожаков.
(обратно)49
Земство – система местного самоуправления в России, введенная в 1864 году.
(обратно)50
Повесить Станислава – наградить орденом Святого Станислава.
(обратно)51
В императорской России награждённые орденами вносили в казну определенную сумму.
(обратно)52
Ведь это позор – мы должны убраться прочь (нем.). – Ред.
(обратно)53
Уйти было бы неприлично, может быть, это не так уж плохо (нем.). – Ред.
(обратно)54
Мы справимся, давайте попробуем (нем.). – Ред.
(обратно)55
Это был великий воин (нем.). – Ред.
(обратно)56
Такова была последовательность (нем.). – Ред.
(обратно)57
Тогда пришел конец старой религии (нем.). – Ред.
(обратно)58
Помилуй бог! (нем.). – Ред.
(обратно)59
Господа, вы слишком добры ко мне (франц.). – Ред.
(обратно)60
Louis de Désiré (Людовик Желанный) – роялистское прозвище короля Франции Людовика XVIII.
(обратно)61
В полном составе (лат.). – Ред.
(обратно)62
Святой Иаков Компостельский! – Ред.
(обратно)63
Вариант: на коем фрак. – Прим. Козьмы Пруткова.
(обратно)



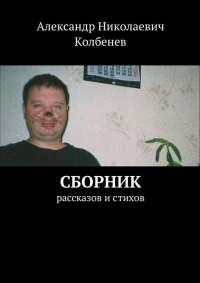


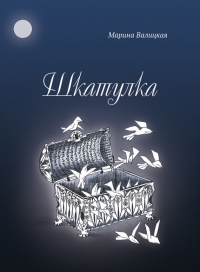

Комментарии к книге «Стихотворения и поэмы», Алексей Константинович Толстой
Всего 0 комментариев