Игорь Губерман Иерусалимские дневники (сборник)
© Губерман И.М., 2013
© ООО «Издательство АСТ», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Для тех, кому это интересно
Очень маленькое предисловие нужно мне для посвящения читателя в нехитрую арифметическую тайну моей лени и разгильдяйства. Издав первый, второй и третий иерусалимские дневники, я решил, что всё-таки более пристойно давать сборникам стихов какое-нибудь название. В результате сложных умственных усилий появились «Закатные гарики» и «Гарики предпоследние» (то есть четвёртый и пятый дневники). После этого мой творческий пыл угас, и в результате перед вами, уважаемый читатель, – шестой и седьмой иерусалимские дневники. Уже, кстати, вышел и восьмой. А в этот сборник я ещё включил и совершенно новые стишки, которые войдут, Бог даст, в только что начатый девятый дневник. Искренне желаю вам получить удовольствие.
Игорь ГуберманШестой иерусалимский дневник
Тате – с благодарностью за прожитое время
Разговор ангела-хранителя с лирическим героем в день семидесятилетия автора
Герой: Я бабник, пьяница, повеса, я никаких святынь не чту, мой автор вылепил балбеса, чтоб утолить свою мечту. А ты? Зачем и почему ты здесь торчишь, судьбу ругая? Ангел: Меня назначили к нему, меня тошнит от разъебая. Герой: А я живу не без приятства, его лирический герой, — всё время пьянки, много блядства, и философствую порой. Ангел: А я к нему приставлен свыше, чтоб дольше жил на свете он — забавно Богу то, что пишет болтливый этот мудозвон. Герой: Однако пишет он давно, поэт известный, муз любимец… Ангел: Да не поэт он, а гавно, мошенник, плут и проходимец! В поэтах есть парфюм эпохи, у них мечтания и звуки, поэт рождает в людях вздохи, а мой дурак – смешки и пуки. Герой: Однако жулику и жоху — зачем Господь дал певчий дух? Ангел: Его клюёт всё время в жопу на мыслях жаренный петух. Его Сибирь не охладила, опять бумагу стал марать и снова принялся, мудила, херню с помоек собирать. Герой: Оставим дурь его в покое, один интимный есть момент… Ангел: Писать о женщинах такое способен только импотент! Герой: На импотента баба злится, и сразу видно – отчего… Ангел: Она всё терпит, ангелица, она святая у него! Герой: Но, говорят, он весельчак, его гостей от смеха пучит… Ангел: В уборной сядет на стульчак и там чужие шутки учит. А днём читает и лежит, бранит евреев, если жарко… Нет, он пока ещё мужик… Герой: Дай Бог, а то ведь бабу жалко. Но так хулить его нельзя, твои сужденья угловаты, его ведь любят все друзья… Ангел: Да все они мудаковаты. Герой: А утром он задумчив, тих? Ангел: И вялый, будто инвалид. Герой: Наверно, пишет новый стих… Ангел: Или желудок барахлит. Чужой придёт и не заметит его присутствие в квартире: он до обеда – в кабинете, потом до ужина – в сортире. А утром ест угрюмо кашку, сопит, как десять хомяков… Герой: Постой, так ты про старикашку! А молодой он был каков? Ангел: Да я с небес недавно спущенный, и мне уже нехорошо, а все коллеги предыдущие — кто спился, кто с ума сошёл. Недолго ангелы-хранители могли прожить при этом падле, теперь больниц небесных жители, да только вылечатся вряд ли. Герой: Сейчас я выпить нам найду, мне жребий твой прозрачно ясен, ты, ангел мой, попал в беду, старик ещё весьма опасен. Ангел: Да! То лежит, как пень-колода, то захуячит, как трамвай, а я мечусь, ища урода… Герой: Так пить не будешь? Ангел: Наливай!Год Собаки
Кто-то замечательно сказал однажды (кажется, Давид Самойлов), что писатель более всего похож на каракатицу: при каждом раздражении он выпускает из себя чернила. И ничего более точного я о нашем цехе не читал. А так как раздражений у меня хватало в этот год, не грех начать именно с них, поскольку я, как и в иное время, сочинял стихи попутно им, а не по дикому порыву вдохновения.
Начну с того, что я едва не стал богатым человеком. Вдруг из Минусинска донеслась благая весть, что местный водочный завод снабжает Красноярский край не менее чем миллионом в год бутылок с этикетками, где напечатаны мои стишки о пользе выпивки. Пиратские издания не внове для меня: двенадцать книжек, изданных по всей Руси добытчиками лёгких денег, уже много лет пылятся у меня на полках, молчаливо умоляя о возмездии. Когда-то я хотел сыскать этих пиратов, и приятель мой носил эти книжонки к адвокату (я ему в Москву их переправил). Адвокат сперва ужасно оживился и заверил моего приятеля, что сыщет нам немалый гонорар да плюс со штрафом, но уже дня через два упавшим тоном отказался от участия.
– Первые же три, – сказал он грустно и обиженно, – издало общество афганских ветеранов. Если я им позвоню, то жить останется мне только минут сорок, это время, что займёт у них дорога до моей конторы, я прикинул. Поищите более отважного самоубийцу.
Так я и оставил это попечение. Пиратские издания вернулись на мою большую полку и порою даже радуют мой взгляд: ведь выбрали же всё-таки меня, чтоб заработать, – значит, я чего-то стою на капризном книжном рынке. А вот водочный завод! Во-первых, это настоящее признание моей народности, но главное – тираж, ведь миллионами мои стишки ещё не издавались. «Если даже по копейке с этикетки, – радостно горланили приятели на пьянках, – да ещё за много лет, куда ты денешь столько денег?» А как раз мне предстояла длинная гастроль, где Красноярск удачно числился в маршруте. И я задолго до приезда попросил, чтоб местный импресарио сыскал координаты главного владельца этого завода.
Приехав (прилетев, точнее), я немедленно о нём спросил.
– А он сюда из Минусинска уже едет, – сказал мне импресарио, – он так по телефону мне кричал, что ваш поклонник и что счастлив будет ближе познакомиться, приятно было слышать.
– Ну-ну, – буркнул я воинственно и чуть растерянно, такой удачи я не ожидал.
И вечером, за полчаса примерно до начала, в артистическую быстро и уверенно вошёл чуть седоватый, невысокий и отменно симпатичный человек. Он радостно пожал мне руку и сказал:
– Я столько лет мечтаю выпить с вами, сразу же после концерта сядем рядом в ресторане, ладно?
– Нет, не могу с тобой я выпивать, – ответил я с какой-то хамской злобой. Я вообще с большим трудом перехожу на «ты», не знаю, что со мной происходило, очень уж приятным оказался этот человек. – Я засудить тебя на деньги собираюсь.
Его лицо выразило приветливое недоумение.
– За этикетки, – пояснил я тупо. – Кража интеллектуальной собственности.
– Но это ж вам во славу, – удивился он, – реклама же какая! Вы хоть посмотрите.
Он обернулся к здоровенному амбалу с двумя или тремя авоськами в руках. Бутылок оказалось семь сортов с какими-то названиями, явно предназначенными для широких масс трудящихся. Дня через два мы эту водку в небольшой компании распили – кошмарным оказалась она пойлом, но прекрасно и со вкусом были выполнены этикетки со стишками.
– Мне причитается за это гонорар, я в суд подам, – сказал я тоном идиотским и прескверно себя чувствуя.
– Ну в суд, так в суд, – ответил он доброжелательно. – Учтите только, что у нас всё в Минусинске крепко схвачено, ваш адвокат навряд ли и до города доедет.
– Я в Страсбург обращусь, – сказал я злобно и надменно.
Тут он повернулся и ушёл не попрощавшись. Время было начинать, и я собрался тоже. Было мне нехорошо и смутно.
А после выступления он больше не зашёл. Напрасно: я бы напрочь отказался от своих нелепых вожделений, и прекрасно мы бы выпили за глупые мои надежды.
Этикетки под водой горячей быстро отошли, и я все семь привёз с собой в Москву. И позвонил приятелю, который жутко знаменитый адвокат. «Ату их!» – лаконично и решительно ответил он, и этот клич охотничий опять вернул меня в мажорный мир иллюзий. А потом несколько месяцев приятель сочинял исковую бумагу, и ушла она по месту назначения, и вскоре я (поскольку в качестве истца имел право на копию) в Израиле читал ответ суда. Провинциальное крапивное семя оказалось поядрёней, чем столичное. Я веселился, как безумный: этот жалкий суд сибирский отыскал в заяве знаменитого российского сутяги столько чисто юридических ошибок и несообразностей, что впору бы ему сменить профессию. Но этого при встрече я ему не сообщил. А он меня заверил, что нашёл иной, заведомо победный путь к оплате.
Однако же спустя ещё полгода по нечаянной случайности (иначе это не назвать) узнал я, что питейный комбинат, который я собрался разорить, – себя банкротом объявил. Нет, видит Бог, не я тому причиной оказался, но мечта разбогатеть навеки лопнула. И я был даже рад: ну что б я, правду говоря, с такою кучей денег делал?
Я собрался это предисловие писать о злосчастном для меня годе Собаки, но поскольку начал с предыдущего, то и продолжу про гастроль ту по России. В Красноярске я впервые в жизни стоял у памятника моему ровеснику, давнишнему приятелю, художнику Андрею Поздееву. Он умер несколько лет назад, и вот уже отлили его в бронзе – с зонтиком, мольбертом, словно собирался на этюды. Как его травили в этом городе! Как тяжко и самоотверженно он жил, ни разу от своей манеры видеть и раскрашивать не отказавшись! А когда в России непривычным воздухом свободы вдруг запахло, как-то сразу появились почитатели. Умер он, уже известности достигнув, что ничуть его не изменило. Я погладил эту бронзу, с ним здороваясь, отпил из фляжки (сколько же с ним было выпито!) и закурил, нелепо думая, кого ещё мне доведётся видеть уже памятником.
Не прошло и получаса, как я вскрикнул, попросив остановить машину. В перекрестье улиц, величаво сидя в кресле, на прохожих и немного вдаль смотрел бронзовый Войно-Ясенецкий, великий хирург, и он же – епископ Лука. Всего-то года три прожил он в этом городе, хотя за предыдущие шесть лет тюрьмы и ссылок он поколесил изрядно по Красноярскому краю. Даже за Полярным кругом побывав, где был не раз на грани смерти от голода и замерзания. А всему причиной была стойкость: будучи давно уже хирургом и религиозным человеком, он году в двадцатом принял сан священника – не самое удачное для этого время в России. И с тех пор хранил верность Церкви с непреклонной твёрдостью. Он протопопа Аввакума этой твёрдостью напоминал. И все гонения переносил с такой же гордостью и со смирением таким же. Но спасал его талант хирурга. Впрочем, бывший земский врач, не только скальпелем он пользовал больных, но и народными лекарствами, которые ещё не знала или отвергала медицина. И всюду, где он делал операции, висела на стене икона. По легенде, он перед началом операции рисовал йодом крест на теле больного – на месте разреза и, короткую молитву сотворив, лишь после этого пускал в ход скальпель. Какое это впечатление производило на советское начальство того времени, излишне говорить. И в Красноярске был он ссыльным, между прочим, и еженедельно в унизительной толпился очереди, чтоб отметиться в комендатуре. Шла уже война, поэтому его и допустили в этот город из посёлка Большая Мурта. И был назначен этот ссыльнопоселенец главным консультантом всех госпиталей Красноярского края. Непрерывно текли с фронта эшелоны с ранеными, десять тысяч коек насчитывали несколько десятков подопечных ссыльному священнику госпиталей. А он ютился в крохотной, сырой и тёмной комнатушке, бывшем обиталище дворника. И часто голодал – блатного продовольствия ему не полагалось. И тайком его подкармливали санитарки. А чуть после Сталин снял удавку с шеи Церкви, справедливо рассудив, что в эти времена она полезна для империи, и всюду стали открываться донельзя уже загаженные храмы, и спустя два года хирург Войно-Ясенецкий был уже по совместительству – епископ Красноярский. И в этом облачении сидел теперь он, бронзовый, почти что в центре города.
Что ж, если так пойдёт и дальше, подумал я благодарно, совершенно новыми памятниками обрастёт Россия, возле них экскурсоводы будут загибать истории совсем иные, и года сплошного лихолетья запахнут правдой. Только вряд ли это будет для потомков интересно, вот что жалко. Уже собственные будут у потомков и герои, и мученики.
Весь переезд от Красноярска до Иркутска я в купе почти не заходил: то в тамбуре курил, то в коридоре у окна торчал. Давно уже заметил я, что знаменитые слова мудреца Гилеля («Если не я, то кто? И если не сейчас, то когда?») сполна относятся к выпивке, и в поездах с первой минуты ощущаю эту мудрость как неотложное житейское попечение. Виски я прихлёбывал из чайного стакана и на перекуры в тамбур уносил его с собой. Уж больно памятные за окном текли места. Я к ночи ближе рухнул, обессилев, и наверняка забыл бы напрочь эту половину дня, но обнаружил по возвращении, что я в рубашечном кармане содержал блокнот. В который закорючками (всё неразборчивей от часа к часу они делались) какие-то пометки заносил. Поэтому я приблизительно могу восстановить эту дорогу.
Ну, во-первых, ко мне люди подходили. Как только поезд тронулся, в купе пришла к нам проводница взять билеты. Прочитав мою фамилию, она спросила утвердительно:
– Вы ведь писатель?
– Да, – кивнул я удивлённо.
– Трудная судьба, – сказала она с пафосом осведомлённости.
Тут я расхохотался, чем немедля потерял её расположение. Но по купе соседним она явно это растрезвонила, и три или четыре человека то ходили со мной в тамбур покурить, то вежливо беседовали в коридоре. Их я начисто не помню, но блокнот – свидетель достоверный. Большинство заметок я не разобрал, но по доступным закорючкам часть пути могу восстановить.
Конечно, в Канске я изрядно заколдобился. Сюда в тюрьму нас привезли из лагеря, чтобы наутро перебросить к месту ссылки. Я всю ночь не спал, и дрожь меня трясла, никак не мог поверить, что свободен буду завтра. А когда в автобусе везли нас (девять или десять человек), то и охранники (все четверо) приветливые были, и овчарки обе словно чувствовали в нас уже не зэков: не рычали, на загривках шерсть не дыбилась – наверно, запах загнанности, страха и ещё чего-то рабского в нас разом поубавился, а их натаскивали именно на этот запах. Я попросил у одного из конвоиров сигарету, и, протягивая мне её, он снисходительно сказал:
– Что, блядь, волю почуял?
Станция Решоты. Здесь когда-то был один из самых крупных по империи пересыльный лагерь. Тут умер дед моей жены. Знак обреченности своей он на визитной карточке упрямо сохранял в годы уже советской власти: «Граф Борис Дмитриевич Толстой». Много сотен тысяч жизней утекло в никуда сквозь эти Решоты. А стоянка здесь – одна минута, крохотная станция.
Потом есть запись лаконичная: «Что уцелел – Испания». И тут я вспомнил чувство, всю дорогу переполнявшее меня. Куда-то за окно, в унылое пространство это мне хотелось то ли крикнуть, то ли прошептать, что жив я, уцелел, в пространстве этом гиблом побывав, и вот я еду мимо, пью любимый свой напиток и курю, а завтра буду веселить огромный зал стишками личного изготовления. И про Испанию тогда я вспомнил не случайно. Годом раньше мы с женою Татой были на экскурсии в Испании. И в городе Гранада, убежав на час от нашей группы, мы пошли в усыпальницу короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Там красиво, интересно и величественно – нету слов, но я туда поплёлся не за красотой и интересностью, я утолить свою мечту пришёл туда. Дождавшись, когда рядом не было туристов, я на купол усыпальницы кинул две монеты по шекелю. Чтоб Фердинанд и Изабелла знали, что евреи, некогда навеки изгнанные ими из Испании, – не просто уцелели, но и собственной страной обзавелись. Уверен был я почему-то, что такая весточка до них дойдёт. С похожим чувством я смотрел в Сибири на мелькающий беспамятный простор.
Вот с каким-то я беседовал интеллигентом, почему-то речь о Сахарове шла. Наверняка меня спросил он, был ли я знаком с этим великим человеком. Я давно уже столкнулся с повсеместной убеждённостью смешной, что все, с режимом несогласные, друг с другом тесно сообщались, мыслями делясь и общую отвагу стимулируя. Я сам когда-то огорчён был, от кого-то услыхав, что ни Сахаров, ни Солженицын не питали начисто расположения взаимного и не хотели видеться совсем. Но этот собеседник рассказал мне байку дивную. Что будто когда в ссылке в Горьком академик жил, у них с водопроводом что-то приключилось, а не то – с канализацией. И вызвали они знакомого сантехника. Тот повозился, что-то починил, а после сокрушённо сказал Сахарову:
– Больше ничего не сделаю, Андрей Дмитрич, тут надо всю систему поменять.
И будто бы ужасно восхитился академик совпадением с собственными мыслями и на всю квартиру закричал:
– Ты слышишь, Люся?! Даже и Валера полагает, что менять необходимо всю систему!
После этой байки я, скорей всего, и обнаружил, что давно уже весь пепел стряхиваю в виски. Впрочем, он исправно оседал.
А вот тут рядом и стишок. Должно быть, мой, поскольку правлен в паре мест:
В стране серпа и молота живу и тихо вою, другие моют золото, а я и ног не мою.Все мысли мои – лагерные были, я уверен, только записи уже пошли и вовсе как шифровки. Взором мысленным, изрядно подогретым от количества испитого, я всюду видел трофические язвы бывших зон, особо изобильных в этом крае. А если поточней сказать, употребляя физиков словарь, – те чёрные дыры, сквозь которые навеки утекла значительная, лучшая, поскольку мыслящая и активная, часть российского народонаселения. Нет, я уверен, что в таких высоких терминах не думал я, торча возле окна, но думал я о лагерях, тут едучи, – всё время, неотрывно, словно под гипнозом находясь. Прочитанное всё давало себя знать. Не зря о лагерях так мизерна литература нынче – отравляться знанием о днях вчерашних никому сегодня неохота, я-то просто много раньше отравился.
Подходивших собеседников я вряд ли в эту тему вовлекал, о чём-нибудь пустом и лёгком коротко болтали мы наверняка. А вот и подтверждение в блокноте. О самом рассказчике, наверно, этот диалог (а может быть – расхожий анекдот). Его приятель пригласил в субботу на подлёдную рыбалку.
– Не умею я с-подо льда рыбу ловить, – отказался рассказчик.
– А чего же тут уметь? – настаивал приятель. – Наливай и пей.
Иркутск, Биробиджан, Хабаровск. Я, кстати, в этих поездах ещё и потому тюрьму всё время вспоминал, что снова я часами вынужденно слушал радио. Господи, за что ж такое вешают на уши россиянам! Это бодрое, бездарное, нахрапистое хулиганство я не выражу словами, но его отравность – безусловна. Где-то около Иркутска (ехали уже мы долго) я даже стишок об этом написал – нескладный, злобный, но по делу:
В России всё отнюдь не глухо, уже на Данию похоже: там жертве яд вливали в ухо, здесь научились делать то же.В аду, подумал я, одной из пыток-наказаний непременно будет круглосуточное радио, а так как там деления на сутки нет, то – вечное.
С Иркутска сразу и заметно участились разговоры о ползучем и безостановочном нашествии китайцев. Их число уже никак не опускалось ниже миллиона и заметно вырастало у энтузиастов этого грядущего порабощения. И многие из этих натекающих пришельцев благодаря феноменальному, забытому в России трудолюбию уже достигли процветания. Что раздражает, как известно, россиян куда сильнее, чем любые недостатки в личном облике. И ещё одна забавная услышалась мне нота – услыхать такое от хотя и местного, однако же еврея, я никак не ожидал. Но очень, очень пожилой мой соплеменник удручённо мне поведал, горестно стуча ладонью о худую грудь в районе сердца:
– Вы меня в квасном патриотизме ведь никак не заподозрите, ведь правда? Но когда я вижу, как китаец со своим товаром к нам на городской приходит рынок, а тележку с этим его грузом позади него везёт наш русский алкоголик, у меня вот тут вот делается горько!
То, как он выговаривал букву «р», делало эту печаль особенно впечатляющей.
В Хабаровске я прямо с самолёта забран был раввином местным, чтобы выступить перед еврейской общиной города. А по дороге этот симпатичный молодой раввин, чтоб как-то учинить беседу с чужеродным пришлым фраером, изысканно спросил меня:
– О вас, наверно, много пишут? И уже давно, наверно?
О, как давно, подумал я сентиментально и блаженно. В сентябре шестидесятого в «Московском комсомольце» был мерзкий фельетон «Жрецы помойки номер восемь». Посвящался он художнику Оскару Рабину, одна из его картин так называлась – «Помойка номер восемь», дивная была работа и наверняка в музее где-нибудь сейчас висит, а в фельетоне – дикому подверглась поношению. А вместе с ней – и те ничтожные людишки, что по воскресеньям ездили к Оскару в Лианозово. Там обо мне были прекрасные слова, я помню их и буду вечно помнить: «Этот деятель, дутый, как пустой бочонок, надменный и самовлюблённый, не умеющий толком связать двух слов, тоже мечтает о всеобщем признании».
А вслух я в это время говорил:
– Да, пишут иногда с недавних пор. По большей части всё доброжелательно.
А после выступления я выпил водки с шумными и полнокровными евреями разных лет и вышел, чтобы ехать на ночлег. А у дверей на улице меня ждал молодой мужчина с хилой разночинской бородёнкой, молча мне вручивший лист бумаги, а затем негромко попросивший, чтобы я его письмо в гостинице прочёл. Это было вежливое приглашение на завтрашний обед, если найдётся время. Автор был в таком восторге от книжки Саши Окуня «О вкусной и здоровой жизни», что хотел меня порадовать (как этой книжицы соавтора) фазаном с запечёнными внутри него дарами уссурийской тайги. Тут передо мной мелькнула тень Дерсу Узала (и тут же – комиссара Левинсона из «Разгрома») – отказаться было невозможно. Я наутро позвонил, сказал, что часа два свободно можно выкроить, но есть такая закавыка – нас довольно много: две устроительницы моего концерта, импресарио, приехавший со мной, а также и водитель, не торчать же ему это время за баранкой. Ничего страшного, успокоил меня приглашатель, у меня здесь тоже некая накладка: не сумел найти фазана, будет изумительный сазан, начинка та же.
Мы приехали в небольшую квартиру, где начальная закуска с выпивкой были расставлены на подоконнике – стола там не было. Три сорта водки были настояны на каких-то местных травах, пились изумительно легко, а два приятеля, зазвавших нас, и очень оказались симпатичны, и приятно разговорчивы. Так мы толпились возле подоконника, и о сазане не было ни слова. Спохватился первым я, поскольку до концерта должен был поспать немного, и поэтому минут нам только сорок оставалось. Я невежливо напомнил. Всё готово, успокоили меня хозяева, вы только на минуту отвернитесь все к окну. Мы послушно отвернулись. Позади нас лёгкое случилось шевеление, и нас позвали обернуться. Посреди комнаты лежала на спине на коврике обнажённая напрочь молодая женщина, на животе которой высился таз со скрученной огромной рыбой. Диковинно и как-то неприкаянно смотрелась рядом с ним, пониже, чахлая растительность лобка. И не могу сказать, чтоб это было аппетитно. Я вовсе не ханжа, и уверять в этом читателя мне вовсе ни к чему, но стало мне ужасно дискомфортно. Впрочем, растерялись все, и все это старательно скрывали. А девица изредка на нас поглядывала, что неуюта только добавляло. Так гуляли русские купцы с актёрками, подумал я, но те купали их в шампанском, а про сазана, поедаемого с живота, мне никогда читать не приходилось. Впрочем, делать было нечего, и с возгласами вежливого восхищения мы приступили к трапезе. И вкус-то этой явно вкусной рыбы я не очень ощутил, а фарш из уссурийских трав и ягод мне и вовсе не понравился. Но водка оставалась столь же дивной. А девице не давали ничего, она была подставкой – манекеном. Лёгкое стеснение мы чувствовали даже выйдя и ни словом этот пир не обсудили. Впрочем, все слова благодарности были исправно сказаны, а девушка нас провожала светлым взглядом, ждущим, кажется, аплодисментов. Мы были способны только на «спасибо», «до свидания». Мне картина эта вспоминается порой, и снова ничего, кроме неловкости, она во мне не вызывает. Конечно, есть во всём, что я сейчас пишу, почти что хамская неблагодарность этим симпатичным людям, но ничего поделать не могу: иная выпечка у наших вкусов, до купеческого шика мы уже не дорастём.
А где-то по дороге мы проехали тоннель, никак не отмечаемый глазами пассажиров, но имевший поразительной прекрасности историю – её уже я позже прочитал и был почти готов вернуться в это место. История была из тех кошмарных лет, унесших миллионы жизней: зэки некогда построили тоннель этот, как почти всё в здешних краях. В конце тридцатых это было (а не то в сороковых уже? – не записал). С двух концов вгрызались в гору две огромные бригады, пользуясь взрывчаткой, отбойными молотками, остальное всё вручную. Одна бригада из мужского лагеря была, одна – из женского. И хитроумное начальство посулило им неслыханную премию: хоть на день раньше планового срока если выроют тоннель, то время это – ваше полностью, охрана разделять мужчин и женщин, вообще чему-нибудь препятствовать – не будет. На три дня досрочно был пробит этот тоннель. Я не хочу и не могу вообразить чудовищную оргию истощённой жуткой жизнью плоти, но три коротких дня там люди были заново людьми. Благословенна память этих несчастных!
Владивосток меня отменно поразил насыщенным и ясно различимым запахом густого криминала и отсюда – процветания заметного. А так как впереди был Магадан, то я только о нём и думал. Побывать на Колыме по собственной воле и с обратным билетом – истинное счастье для бывалого советского человека. Но время уже начисто размыло, растворило и засыпало следы кошмарного былого этих мест. И то, что двести тысяч зэков ежегодно привозили пароходы из бухты Ванино, чтоб в этой мерзлоте они остались навсегда, успев добыть империи урана, олова, вольфрама, кобальта и золота, – звучало глухо и уже не ужасало, будто несколько веков назад это случилось. Но что-то добывали и сейчас, а плюс ещё икра и рыба шли отсюда, и всю погоду местной жизни делали братки блатные, изобильно появившиеся здесь. Роскошная стояла в городе словно вчера возведенная церковь, необузданной отделкой вычурной напоминая храм Василия Блаженного в Москве, но только вход в неё зиял ещё не крашенным цементом, заставляя думать, что внутри она тоже порядком не доделана. Тут оказалась дивная история, уж не ручаюсь за её фактическую достоверность, но правдоподобие сквозило явное, поскольку так во всей России нынче происходит. Церковь эту якобы замыслил прошлый губернатор. У братков он был в большом авторитете, и поэтому, когда он их призвал немедля скинуться, чтобы на эти миллионы церковь возвести, они откликнулись охотно и немедленно. Так и возникла эта красота. Но деньги кончились, а губернатора в Москве убили – явно заказное было дело и, естественно, зависло в пустоте. А новый у братков в авторитете не был, и поэтому, когда собрал их, чтобы скинулись ещё, они хотя не возражали вслух, но как-то слитно промолчали. А когда уже к своим машинам расходились, то негромко перекинулись отрывистыми фразами, в которых общий смысл – к давнишней лагерной сводился поговорке: «Хуй тебе на рыло, чтобы в нос не дуло». Деньги так и не явились.
Покурил я возле здания театра магаданского – тут некогда отменные российские артисты выступали, когда были в рабстве лагерном, и знаменитый Козин пел тут много лет, поскольку не хотел на материк вернуться после освобождения, а нынче и музей открыт в его квартире. Но я по недостатку времени пошёл в музей города.
Как я был прав! Тут охватило меня чувство – следует, наверно, радостью его назвать, но поводом для этой радости такое зрелище служило, что не стану лучше я искать слова, а изложу, что видел. Ни в одном музее по России ещё нет такого, а должно быть – в каждом непременно. В аккуратных выгородках, изнутри обитых чёрной тканью (так обычно золотую утварь древнюю в музеях выставляют) были собраны одежда зэков и те инструменты, те орудия труда, с которыми они одолевали мерзлоту и камень. Изношенные, трёпаные, ветхие, прожжённые штаны и ватники соседствовали здесь с лопатами, кирками, ломом и отбойным молотком. Погнутые от долгого употребления (скорее – искорёженные) миски с кружками такой чисто музейной драгоценностью смотрелись тут, как будто археологи на уникально первобытную культуру здесь наткнулись и её предметы быта бережно собрали. Нет у меня слов, да и найти их, очевидно, невозможно. Хотя всё было под стеклом, такой кошмарный запах зоны в зале этом повисал над посетителем, что я недолго тут ходил и вышел потрясённый. У меня и посейчас стоит перед глазами этот зал. Директору музея этого я дал бы высшую награду – премию страны, а что он вынес, пробивая по начальству эту экспозицию, легко себе представить даже без расспросов нетактичных. Сохраняя память о невинно убиенных, мы хоть как-то свои души очищаем, это так банально, что писать об этом мне неловко, только вот никак уразуметь я не могу, как могут этого не понимать – или не чувствовать хотя бы – те, кто управляет памятью России. Впрочем, не моё ведь это дело.
Мне бы про Биробиджан уместнее писать – такое тут количество евреев перебито, из энтузиастов, из поверивших, из эту землю по2том поливавших, из таких же, что в Израиле болота осушали почти в то же время. Только здесь, в Биробиджане, ничего не получилось, и убожество сегодняшней тут жизни было мне обидно и давило ощутимо, хотя дивные меня там принимали люди, пусть они мне мои чувства извинят.
И ещё на Магадане услыхал я (и прочёл потом) о самой восточной стройке, задуманной усатым гением и уже начавшей осуществляться, – о тоннеле на остров Сахалин. Длиной в одиннадцать километров, он тянуться должен был ниже уровня морского дна, на глубине почти пятьдесят метров. Эдакий российский Ла-Манш. И для бомбардировок он недосягаем был бы, что особо веско предусматривал проект – подробность очень яркая для времени борьбы за мир, которой так была увлечена советская империя. И шахту изначальную уже пробить успели до намеченной тоннелю глубины, и был насыпан остров – дамба, чтобы укротить течение, и тюбинги стальные, девятиметровые в диаметре (как те, которыми тоннели метрополитена выложены) уже начали сюда везти. И сорок тысяч зэков здесь уже работало, но как только стратег загнулся, так немедленно затею эту прекратили, очень уж безумен и бессмыслен был проект. А может быть, с рабочей силой были затруднения. Ведь бесчисленные северные стройки с дикой, сумасшедшей скоростью перемалывали поступающих рабов. И недаром ещё в сорок пятом, за три месяца до окончания войны, когда на Ялтинской конференции уже писался протокол, что каждая из победивших стран возьмёт с Германии, оговорил стратег усатый некое диковинное (Средними веками пахнувшее) право для империи советской: использовать немецкое население для восстановления советского народного хозяйства. Во вкусе рабского труда он как никто был сведущ в это время. И первые такие лагеря уже возникли, и не военнопленные в них были, а гражданские, прихваченные как попало в разных городах на оккупированной зоне. А потом эта идея как-то незаметно выдохлась и сникла – очевидно, было проще и дешевле набирать рабов из собственных немереных просторов. А году в сорок девятом – отпустили всех гражданских немцев, кто ещё в живых остался. Думается мне, что досаждал Международный Красный Крест, а собственной империи невольники гуманный внешний мир не волновали. Только не хватало их – отсюда и посадки массовые, что пошли в конце сороковых, когда повсюду брали «повторников», то есть некогда уже сидевших, но оплошно выпущенных по окончании срока. Уже нисколько не политика это была, а экономика рабовладельческой империи.
В Москве я задержался дня на три-четыре, и случился у меня там дивный лаконичный разговор. Я ехал на какое-то выступление, и к нам в метро (мы ехали с женой товарища, она же – мой московский импресарио) прибавился немолодой сутулый человек с лицом изрядно измождённым. А то ли от духовных воспарений это было, то ли от недавних возлияний, я не разобрался. Мне наскоро шепнула импресарио моя, что он – поэт очень хороший (или бард, уже не помню) и ещё, что у него есть магазин, который его кормит. Но про магазин он очень говорить не любит. Будучи по типу личности нахалом любопытным, я его, конечно же, незамедлительно и неназойливо спросил:
– А вы, если не тайна, чем торгуете?
– Россию продаю, – ответил он малоприветливо.
Уж тут я упустить своё никак не мог.
– А я слыхал и читывал, – сказал я вкрадчиво, – что уже продали Россию.
Тут он откликнулся охотно и немедленно:
– А у меня лавчонка секонд-хенд, вторые руки, – пояснил он пожилому несмышлёнышу. И стал мне очень симпатичен.
А назавтра я уже летел в Архангельск и попутно побывал в Северодвинске. Этот город многие года был засекречен: тут и база, и строительство подводных лодок, и, как водится, полным-полно технической интеллигенции советской. Очень хорошо там выступалось. А ещё мне предложили задержаться, посуливши покатать в подводной лодке.
– Из того же поколения, что «Курск»? – спросил я нетактично, но на меня не обиделись.
Что же касается Архангельска, то он отныне навсегда останется у меня в памяти простой и замечательной запиской, присланной из зала:
«Дорогой Игорь Миронович, в нашем крае тоже много лагерей, и если с Вами что случится, будем рады считать Вас нашим земляком».
Я знаю, почему я так отвязно разболтался: очень тяжко мне переноситься в год Собаки, когда резко на меня свалилась неожиданная хворь. Об этом, собственно (хотя о многом и другом), дальнейшие стихи, я потому и предисловие затеял, только всё попутное охота изложить, поскольку забывается уж очень быстро.
А тут ещё история внезапно подвернулась, тихой радостью меня наполнив. У моего приятеля был дальний родственник, почти они не виделись по жизни, только знали, что такие существуют. Беня Фридман (за фамилию, признаться, не ручаюсь, но типичная донельзя и простая). В раннем детстве привезли его родители в Москву из некоего захолустного местечка. Беня вырос, кончил школу, армию исправно отслужил, а после много-много лет работал на заводе «Серп и молот», в горячем цеху. Таскал он раскалённые отливки, пышущие жаром полосы железа, силы был неимоверной. За стопкой он любил поговорить, но говорил косноязычно, очень этого стеснялся, и от этого стеснения сгибал и разгибал, бывало, пальцами случайно подвернувшийся пятак. Так он жил и жил, двух дочек маленьких завёл и ощутил – жена, вернее, подтолкнула, – что в одной убогой комнатёнке стало тесно. И пошёл тогда он по начальству, упирая на горячий цех и два десятка лет работы, чтоб ему прибавили жилплощадь. Кто-то из начальства сообщил ему, не удержавшись, что с такой фамилией напрасно будет он ходить до самой пенсии, и Беня глубоко и пламенно обиделся. Характер у него был мягкий, но внезапно отвердел, и Беня подал заявление на выезд. Отпустили его быстро, на дворе стояло время попустительства (в семидесятых это было). Оказалась вся его семья в Америке, где Беню приняли мгновенно на какой-то небольшой завод – в горячий цех, естественно. Там Бене денежку платили, соответственную цеху, вскоре они дом купили, дочки вырастали уже чистыми американками. И быстро выросли, одна уже сынком обзавелась, а Беня заболел – впервые в жизни – и скончался очень быстро. Вероятнее всего, от удивления, что хворь какая-то ничтожная смогла погнуть его могучий организм. Однако же успел он попросить, чтобы его останки в виде праха – не в Америке захоронили, а в России, где уже давно его родители лежали. Посмертное желание любимого отца с готовностью взялись исполнить дочери. И так в Москве возникли две солидные американские матроны, загодя по телефону разыскавшие своих забытых дальних родственников, и мой приятель взялся их вести на кладбище. Заехав за ними в гостиницу, он был приятно удивлён их благодарной приветливостью, их еле-еле сохранившимся, но различимым русским языком и дивной способностью почти в каждую фразу вставлять незатейливую матерщину. Очевидно, Беня выражался дома как в цеху, и дочери считали мат естественным придатком русской речи. Младшая взяла с собой в поездку сына, молчаливый мальчик лет пяти с минуты, как уселся на заднем сиденье, неотрывно играл в какую-то игру на своём мобильном телефоне. Мать даже один раз с раздражением ему сказала:
– Зачем я, блядь, в Москву тебя везла? Ты даже Кремль не повидаешь!
Мальчик на мгновение оставил телефон и послушно посмотрел в окно. Они проезжали здание университета на Ленинских горах. Приятель мой тактично промолчал.
Часа за полтора они доехали до кладбища, но, вылезая из машины, старшая раскрыла молнию на сумке и сказала огорошенно:
– Ебёна мать, мы папу-то забыли!
– В Нью-Йорке? – удивилась младшая.
– В Хуйорке! – огрызнулась старшая. – В гостинице не ту взяла я сумку.
Обе виновато и просительно смотрели на шофёра. Он пожал плечами и уселся за баранку. Пробки на дороге рассосались к тому времени, и съездили они туда-обратно очень быстро. Но зато вся процедура оформления текла отменно хорошо, и сестры почему-то очень веселились. Кто-то их, наверно, испугал, что это будет тягомотно и медлительно. Им даже было весело, когда кладбищенские двое работяг умело стали вымогать ещё двести долларов за выкапывание ямки под урну, хотя была эта нехитрая работа уже только что оплачена в конторе. После они чуть слезу пустили, но немедля вновь заулыбались. А, садясь в машину, старшая сказала:
– Жалко, папа этого не видел, он бы со смеху уссался.
И чем-то жутко симпатичным на меня повеяло от этой бытовой житейской эпопеи. Ты покойся с миром, Беня Фридман, замечательно и с толком прожил ты свою простую жизнь.
Но тут пора и в год Собаки обратиться.
Сейчас пошло естественное время расставаний в нашем оголтелом поколении, и в феврале ушёл из жизни Сева Вильчек. Мы с ним продружили почти сорок лет. Умнее человека в жизни я ещё не повстречал. Нет, я неправильное выбрал слово: ум – понятие практическое, прикладное, Сева Вильчек – мудрым был. Той генетической, наследственной, национальной мудростью, которая так подвела евреев в обезумевшее время, наступившее в России. Сева хоть родился много позже, но и комсомольское, а после и партийное очарование – сполна и бурно пережил. А как очнулся, замечательную книгу написал, вся суть её понятна из названия: «Прощание с Марксом». Он, разумеется, тайком её писал, и свет она увидела не сразу и не скоро. Говорили мне, что даже в университетах как учебное пособие она читается, а при издании – почти что незамеченной прошла, у всех уже кружились головы от позднего, дозволенного сверху понимания трагедии вчерашней. А после он её переписал, назвал иначе («Алгоритмы истории»), но уже вся жизнь его катилась по пути не письменного творчества. Он был мозговым центром тех каналов телевизионных (НТВ, а после – ТВ-6), которые так поспешили задушить хозяева сегодняшней российской жизни. А ушёл он истинно по-римски. У него такой букет болезней был, что каждая мешала вылечить другую, и выбраться из этого узла врачи не знали как. А Сева уже встать не мог и голову с трудом приподнимал. Тогда жену он снарядил поехать по делам куда-то, санитарку отослал из комнаты своей и дотянулся до ружья, висевшего в ногах возле кровати.
Месяца за три до его смерти мы с ним выпивали, вспоминая, как у него обыск был, когда меня арестовали, и как нам было интересно в те шальные времена. И он рассказывал, как он сейчас, глубокий инвалид, летает непрерывно в Грузию, налаживая (с полного нуля) телеканал по прихоти живущего в Тбилиси олигарха.
Я обязан Севе Вильчеку не только многолетней дружбой, но и многими четверостишиями, сочинёнными в те годы. А точнее – за то время, что читал он мне куски из книги, о которой я уже упоминал. Севино чтение – а слушал я внимательно и напряжённо, потому что многое не сразу понимал, – меня ввергало в странное и благостное состояние: пассивным вдохновением назвал бы я его, не бойся я высоких оборотов речи. Какие-то отдельные слова меня вдруг властно побуждали записать их на клочке бумаги наскоро, поскольку непреложно ощущал я, что они мне скоро пригодятся для какого-то стишка. А чуть позже – к ночи ближе или утром – непременно вылеплялись новые стишки с записанными этими словами. Как будто суть и соль стишка тянулись к запаху и звуку этих одиноких слов, стремясь обволокнуть их четырьмя строками текста. Да, конечно, выпивали мы в процессе чтения, но очень понемногу, и не эти две-три рюмки так меня прекрасно заводили.
Кстати, Сева сам отменно рифмовал. На его в конце концов вышедшей и подаренной нам с Татой книжке была такая надпись:
Мы теперь с великими на «ты», и судьбой дарована отныне нам взамен публичной немоты — гласность вопиющего в пустыне.А даря нам уже третье её издание (полным-полно там было новых идей), он глумливо писал:
Не будь я евреем преклонных годов, без тени сомнения, братцы, я русский подвызубрить был бы готов, чтоб в мыслях своих разобраться.Я от него за годы дружбы услыхал настолько много разного и всякого, что до сих пор спохватываюсь изредка: а я откуда это знаю? И немедля вспоминаю, что от Севы. Нет, это касается не только всяческих идей и фактов, но и забавных баек, в Севиных устах звучавших со значительностью притчи. Господи, а сколько их я вставил в мои книжки! И ни разу их происхождение от Севы я не обозначил. Не по свинству дружеского небрежения, а просто это был фольклор, неотличимый от всего, что слышал я от поездных попутчиков, соседей по гостиничному номеру, в бесчисленных застольях тех годов.
А ещё мы очень много спорили. Почти что обо всём, чего касались в разговоре. На стороне Севы были логика и знания незаурядные (не зря дружили с ним отменные философы московские), а на моей – упрямство и нахрап. От острой и парадоксальной точности его суждений много раз я приходил в завистливый восторг. Сейчас, уже давно живя в Израиле, я часто балуюсь нехитрой умственной игрой: смотрю на собеседника, гадая, кем он был бы, уродись он много лет назад в каком-нибудь местечке захудалом. Сева Вильчек – в этом я уверен – был бы идеологом (задатков лидера в нём не было нисколько) какой-нибудь заметно еретической хасидской секты. И его полемика со всеми несогласными достойно бы пополнила талмудическую литературу. Но время ему выпало другое.
Почему-то вспомнил, как однажды Сева мне хвалился. Он был консультантом у какой-то аспирантки, защищавшей диссертацию по социологии, в которой Сева знатоком был выдающимся и признанным. Я почти уверен, что и диссертацию девице написал он сам или легко надиктовал. Уж очень не случайно после состоявшейся защиты прилетел из Тбилиси, чтоб его благодарить, отец этой девицы. Оказался он директором известного «Самтреста» – огромного и знаменитого коньячного производства. И выпить он, конечно же, привёз в достатке. И вот, когда они уже изрядно напились и обсуждали всё на свете, Сева этого коньячного магната сговорил объединить финансы «Самтреста» и самиздата, о котором этому директору напел великую хвалу. От зависти к такой отменной шутке я занудливо сказал:
– Но, Сева, он же об этом забыл уже назавтра!
– Да забыл, конечно, – Сева продолжал сиять и улыбаться, – только главное, что я его уговорил!
И до сих пор я помню потрясение своё, когда от Севы услыхал идею, навсегда определившую мой взгляд на всё происходящее в России много раньше и совсем теперь. Все неустройства и все горести российские, сказал мне Сева, происходят оттого, что многие века Россия существует как колониальная страна, сама же у себя в порабощении. Хозяева российской жизни к ней относятся как к некоему завоёванному пространству, почитая соплеменников своих как бы туземным покорённым населением. Отсюда – небрежение полнейшее, грабёж, насилие, бесправие и прочие бесчисленные прелести колониального владения. Настолько это объясняло прошлое и настоящее России, что и сегодня этот взгляд мне высветляет многое происходящее.
А позже чуть, когда уже в Сибири остужал я свой кипучий оптимизм, мы с Севой продолжали наши споры: он – единственный, кому писал я длинно и серьёзно. Интересно, Сева, мы ещё увидимся с тобой? Мне очень бы хотелось.
А весной поехал я в гастроли по Германии. Кружным путём поехал, по дороге залетев в Баку. Одна прекрасная супружеская пара (я в их симпатичности уже на месте убедился не без радости) решила именно в Баку отпраздновать свою серебряную свадьбу. Глава этой семьи писал четверостишия, в силу чего меня своим коллегой почитал, и один из его друзей решил меня преподнести живым подарком на затейный этот праздник. Я, чуть покобенясь, согласился. И ничуть потом не пожалел. А так как я сюрпризом был, то накануне целый день таился в своём номере гостиницы, куда мне приносили пить и есть, чтоб я не обозначился до срока. А потом я прятался за дверью, как пресловутый рояль – в кустах, и появился на условленных словах ведущего. Со вкусом это было сделано, и мне там было очень хорошо. К тому же выступал я в замечательной компании – бакинские соратники по бизнесу поставили на это торжество своих артистов: первый зажигал большие факелы и тут же глубоко засовывал себе их в горло, а второй недвижно и с невозмутимостью стоял, босой, на остриях больших и устрашающих ножей. И получился настоящий праздник.
В Германии шестнадцать городов мне предстояло посетить, меня это нисколько не пугало. По точному созвучию с названием рабочих, нанимаемых из-за границы, я себе и мне подобным изобрёл давно уже именование – гастрольбайтер. Тем более что у меня, порою думал я, чтоб дух свой поддержать, – не просто шоу-бизнес, у меня с игрой ума, у меня – Бернард Шоу-бизнес. Я люблю свои вояжи потому ещё, что многое попутно вижу. Но уже болезнь моя развилась, очевидно, я всё время слабосильство ощущал, отлёживаясь вместо беготни, которую себе наметил. Я в Мюнхене в музей не выбрался, а в Нюрнберге не покурил возле любимого мной здания, где некогда творился знаменитый тот процесс над видными фашистскими убийцами. Меня там каждый раз одна мечта одолевает: если бы такой же был в России, вся её дальнейшая история светлей была бы несравненно. Не собрался.
В Хемнице (по-моему, не записал я город, раздолбай ленивый) чу2дное преподнесли мне назидание. После концерта подошла ко мне старушка и застенчиво сказала:
– Игорь, я совсем вас поучать не собираюсь, но вы слишком часто упрощённый путь предпочитаете.
– О чём вы? – спросил я вежливо и сухо, сразу же поняв, о чём сейчас мне скажут далеко не в первый раз. Однако же услышал небанальный вариант.
– У меня был знакомый поэт, – пояснила старушка, – он однажды написал четверостишие, которое вам всё и сразу объяснит.
И чуть зардевшись, прочитала:
Я раньше славил поцелуй, сиянье глаз, души томление, потом заметил: скажешь «хуй», и сразу в зале оживление.Я искренне сказал своё спасибо и заверил собеседницу, что впредь буду удерживать себя от лёгкого пути.
Ещё я услыхал одну историю (не помню города), вполне пригодную, чтобы собой украсить по советской психологии учебник. Лет десять (как не более) тому назад посольство Казахстана довело до сведения уехавших оттуда, ныне жителей Германии, сухую и категорическую весть. Отныне Казахстан не признаёт двойного гражданства, и тот, кто хочет оставаться подданным немецким, должен за отказ от казахстанского гражданства уплатить пятьсот марок. Уехало в Германию два с чем-то миллиона человек, из них побольше половины – именно из Казахстана. И покорно принялись платить недавние советские люди. А отец жены моего приятеля спросил у зятя, что он думает об этом. Зять вопросом на вопрос ему ответил: а когда бы объявили, что ты должен левое яйцо послать в посольство, – ты послал бы? Хотят они лишить нас казахстанского гражданства – пусть лишают, почему за это мы ещё должны платить? Но здравомыслие такое считаные проявили единицы, и могучий денежный поток от сохранивших старое советское покорство – оправдал эту мудрую аферу, детище чьего-то тонкого ума.
И навсегда теперь запомню город Аугсбург. Я был там впервые, поэтому накрепко взял себя в руки и поплёлся в местный, очень древний собор. И был вознаграждён: там два таких портрета кисти Лукаса Кранаха Старшего висели по бокам алтарной части, что изменил я своему всегдашнему пижонскому пренебрежению и закупил две репродукции – открытки. И заодно поймал себя на искреннем поползновении мошенника – в этих непуганых краях царило полное доверие: ты брал открытки и кидал их стоимость в коробочку, приставленную сбоку. Так что мог и не кидать. И я желание не тратить свою мелочь испытал настолько острое, что очень взвеселился. А в соборе этом некогда служил – подумать только! – сам великий Лютер, и была даже его мемориальная комната со множеством причиндалов, пару мелких из которых можно было стибрить запросто. И я это влечение своим нутром старьевщика немедля тоже ощутил. Ну, словом, это был прекрасный час самопознания. А возле входа в тот собор висела за стеклом картина местного (и современного) какого-то не чересчур умелого художника. Сперва я мимо пробежал, но, уходя, – всмотрелся повнимательней, и так мне стало хорошо, что я там сигареты три, наверно, выкурил, усердно изучая это творчество. Там явно был изображён читальный зал: на фоне книжных стеллажей столы теснились, а за ними разные сидели люди. Впрочем, и стояли несколько. И тётка шла в очках, по виду – явная библиотекарша. А ближе всех сидел, и цветом выделялся, и других был покрупней – прекрасно узнаваемый Мартин Лютер. Я присмотрелся к остальным, и радость несусветная меня постигла: это вовсе были не читатели, а мои великие коллеги из веков и стран различных. Рядом с Лютером, сверкая маленькими яростными глазками, сидел сам Лев Толстой в одноимённого названия рубашке. И Мольер там был, и был Шекспир, Хемингуэя я узнал (хотя и без гарантии), и Чехов там поблёскивал пенсне, стоял Сервантес, а неопознанных десятка полтора давали полную свободу для догадок. Этой выдающейся картиной Лютер как бы зачислялся в ряд великих сочинителей, теперь уж с этим не поспоришь.
В силу перечисленного выше я в весьма прекрасном настроении вернулся в мой ночлежный номер, и теперь последнее, из-за чего я навсегда запомню город Аугсбург. Заранее простите мне распахнутую эту, мало аппетитную подробность, но я ведь вознамерился открыто всё назвать и объяснить. Пойдя в уборную, уже сливать собравшись воду, оглянулся я вполне случайно (у меня такой привычки нету) вниз на унитаз – и обнаружил кровь. И весь остаток дня уже с тоскою думал о врачах, к которым мне теперь ходить придётся, об анализах докучных (я к тому же их боюсь безумно) и о прочих, мало симпатичных перспективах. И не сбылось предвестие удачности гастролей, хотя было явное. Ко мне, когда я только что вошёл в аэропорт, кинулся упитанный немолодой еврей, восторженно забормотав прекрасные слова:
– Игорь Миронович, вы не можете меня не помнить, я вам года три назад звонил из Тель-Авива!
И засмеялся я тогда, и с радостью подумал, что гастроли начинаются отменно – значит, так оно и будет до конца. Но не сбылось. О крови я забыть уже не мог, она мне каждый день теперь напоминала о себе, но каждодневность выступлений-переездов целиком и начисто заглатывает всё, что не относится к гастролям. А ещё я помню, как стоял в тамбуре какого-то очередного поезда, смотрел на маленький экран, где отмечалась скорость и ближайший город, и о давнем-давнем прошлом вспоминал. Я первую издал когда-то книжку (тонкую, верней, брошюру), из моей прямой профессии истёкшую, – «Локомотивы настоящего и будущего». А там я, в частности, писал (не сам придумал, вычитал в журнале), что в Германии и Франции уже вот-вот наладят поезда со скоростью до километров двести в час. Шестидесятый с небольшим тогда был год, и мне редактор эту перспективу резко вычеркнул. Во-первых, это явная фантастика, сказал он мне, а во-вторых и главных – не фига пропагандировать мифический успех отсталой иностранной техники. А на спидометре экранном ярко проступала цифра скорости на данную минуту – двести восемьдесят километров. И я вздохнул, стараясь более не вспоминать о горестях своих тогдашних дней счастливых.
Мелькали города. Я простодушно радуюсь уже который год, когда я вижу многолюдный зал. В том, что ходят меня слушать, есть какая-то таинственная, чисто витаминная подпитка чувству, что живу оправданной и полноценной жизнью. И ни к гонорарам, ни к гордыне эта радость не имеет отношения. Не силой же их гонят в этот зал. Я часто вспоминаю дивные слова какого-то прожжённого и явно пожилого (с несомненностью – еврея) театрального директора: «А если зритель не идёт, его не остановишь».
Я в Кёльне жил не в городе самом, а в получасе от него езды, у давних замечательных приятелей. Хозяин дома был проктолог с многолетним опытом, и мне было бы уместно у него спросить про эту кровь, но мы так изобильно и прекрасно пили виски, что мне это и в голову ни разу не пришло.
А в Дюссельдорфе чисто театральная произошла со мной накладка. Шло уже к концу первое отделение, когда вдруг в задней правой части зала громко засмеялись несколько десятков зрителей. А ничего смешного я не говорил и вроде глупости не отморозил никакой – тогда бы засмеялись все, и я, недоуменно туда глянув, продолжал крутить свою программу. Выяснилось всё в антракте. У какой-то женщины зазвонил в сумочке мобильный телефон, она поспешно вынула его и сказала, голоса не рассчитав и всем соседям слышно:
– Я сейчас не могу с тобой разговаривать, я сижу на Губермане.
В маленьком немецком городе Ростоке и вовсе я душой воспрянул: всего два выступления осталось. Там наутро перед поездом в Ганновер меня взялись покатать по городу две новые знакомки. И уже в соборе местном на огромные часы, шестой (или седьмой) век идущие без остановки и ремонта, поглазел я тупо и почтительно, когда внезапно у меня звонок раздался на мобильном телефоне. Год Собаки о себе напоминал весомо и угрюмо: умерла в Москве моя тёща, Лидия Борисовна Либединская. И через час уже в Берлин я ехал, чтобы там в Россию визу получить, и утром был в Москве, жена чуть позже прилетела.
Мне писать о Лидии Борисовне и тяжело, и странно, потому что более чем сорок лет был рядом я с уникально сложным человеком. В ней сочетались властность и покладистость, невероятный эгоизм – с распахнутым доброжелательством и щедростью, способность к светскому поверхностному трёпу – с мудрым пониманием людей и ситуаций. Ну, а главное, конечно, – яркая, глубинная, острейшая (животная, сказал бы я для точности) любовь к жизни – в её крупных и мельчайших проявлениях. Гостевальные её застолья будет ещё долго помнить множество людей. А как она для этого нещадно применяла своих дочек, а потом и внучек – сразу же забылось дочками и внучками, осталось только обожание и восхищение. Какое дикое количество ничтожных мелочей она приобретала, будучи у нас в Израиле (недаром было сказано, что ходит она здесь со скоростью сто шекелей в час), и как она потом раздаривала это! С какими яркими и интересными людьми она дружила – трудно перечислить, и они её любили, что меня порою поражало, потому что личности такие – мало склонны к близости сердечной. А со своим старением борясь, поскольку жизнь от этого тускнела и скудела, тёща делала усилия неимоверные. Так, она где-то прочитала, что кроссворды помогают сохранить память и отдаляют склероз, и два-три часа в день она разгадывала кроссворды, радуясь по-детски, если почти всё одолевала. И непрерывные её повсюду выступления, и путешествия далёкие («Пока можешь ходить, надо ездить», – говорила она) уже не только жажду полнокровной жизни утоляли, но и были вызовом дряхлению. Она и умерла, вернувшись накануне из Сицилии. Как праведница умерла – спокойно и мгновенно, не проснувшись. С изумлением сказал я в эти дни кощунство некое: мол, надо много в этой жизни с удовольствием грешить, чтоб умереть как праведник, – и это было точно в отношении Лидии Борисовны. А, впрочем, грех – понятие настолько непонятное и относительное очень, что касаться этой части её жизни просто ни к чему.
И была ещё одна черта у тёщи – знак отменной человеческой породы, я никак не мог найти ей точное определение и вдруг наткнулся в повести у Виктора Конецкого:
«Человеческое изящество… Этакое сложное и тончайшее качество, когда есть аристократичность повадки, но безо всякого высокомерия, и есть полнейшая демократичность без тени панибратства».
Она осталась в памяти моей обрывками случайных разговоров и поступками, которые забыть нельзя. Я в самолёте вспоминал какие-то смешные её реплики – чуть позже изложил я это вслух на многолюдных поминках, тёщу бы порадовало это гостевание и то, что над столами смех висел, а не уныние торжественной печали.
Как-то у неё в гостях на кухне (где по стенам триста досок расписных висят, не повторяясь по рисунку) сидел Витя Шендерович, и в застольном трёпе я ему сказал, что у меня и тёщи нет его последних книг.
– Как же вы живёте? – театрально изумился Витя. – Что читаете?
– Пушкиным пробавляемся, – елейно пояснила тёща.
Её не меньшего калибра фразами закончил я мои три книги баек и воспоминаний, только тут важнее рассказать о нескольких её поступках, благодарно мной хранимых в памяти.
Когда меня посадили, Тата сразу и естественно кинулась к матери. Не ясно было, как себя вести: посажен я ведь был по делу уголовному – как будто бы скупал я краденую живопись (к тому же – не простую, а иконы), только одновременно понятно было, что исходит дело от Лубянки. И чекист-посланец после моего ареста сразу повстречался с Лидией Борисовной, открыто упредив, что только полное молчание семьи – залог моей сохранности и наказания некрупного. Попытка тёщи посоветоваться с близкими друзьями тоже принесла полярный результат. Давид Самойлов сдержанно сказал, что, в государстве проживая, надо соблюдать его законы, то есть всё, что совершалось, следовало вынести покорно и молчком. А мудрый столь же (и по жизни тихий) Соломон Апт сказал с горячностью, ему несвойственной, что все подлейшие дела творятся в тишине, молчать не следует ни в коем случае. И Тата, не колеблясь, выбрала второе – хоть и несравненно более опасное, но столь же и достойное решение. И тёща с этим боязливо согласилась. Большую роль ещё сыграло то, что познакомилась она с семьёй моих друзей Браиловских (делали они журнал «Евреи в СССР», а на него и шла охота) – в человеках Лидия Борисовна отменно разбиралась. Навсегда остались они ей любимыми и близкими людьми.
Только раз она сорвалась и в сердцах сказала Тате:
– Почему ты не скандалила, чтоб он икон не собирал? Придраться было б не к чему!
И тут же спохватилась:
– Икон не собирать, стихов не писать – совсем тогда другая жизнь была бы… Уж такой он есть.
В Сибирь она к нам приезжала каждое лето. И сколько водки было выпито, настоянной на кедровых орехах!
А каждый год (и много лет) седьмого января устраивала тёща ёлку. Думаю, что приключись какой тайфун или трясение земли – не отменилась бы та памятная ёлка. Что в восторге были дети (двадцать – минимум), так это ясно, только с ними неуклонно и восторженно сюда же приплетались их родители – в количестве заметно большем. Всем детям приносил подарки Дед Мороз, потом их загоняли в самую большую комнату – беситесь, как хотите. Уверен я, что, выросши с тех пор, те дети помнят сладостное чувство полной (и неповторимой при взрослении) свободы. А в соседней комнате с таким же детским упоением гуляли взрослые. Был даже случай, когда папа без ребёночка приехал: сын наказан за проступок, объяснил смущённо папа, только я такого праздника никак не мог лишиться. Но теперь – зачем и почему я это вспоминаю. Много лет я был там Дед Мороз. А все пять лет, что я в Сибири прохлаждался, – отменён был по указу тёщи Дед Мороз, и детям попросту подарки раздавали, объясняя, что сейчас ужасно далеко и неотложно занят Дед Мороз, но шлёт привет и обещает скоро обязательно приехать. А пока что – пожелаем и ему, и всей его семье здоровья и терпения – уже для взрослых добавлялось за столом. Такое, согласитесь, человек забыть не может.
Как она любила всякое удачное и подвернувшееся вовремя враньё! Изрядно и сама присочиняла, украшая полинялую реальность, и охотно поощряла в этом остальных. В моей коллекции был замечательный старушечий портрет начала девятнадцатого века. Чудом уцелел он, когда всё у нас конфисковали, и, вернувшись из Сибири, я хотел его повесить. Тата непривычно резко запретила это делать. «У старухи этой – злобное лицо, – сказала она мне, – это старуха нам накликала беду, я не хочу всё время её видеть в нашем доме». И портрет я тёще подарил. Он дивно уместился на стене среди других полотен и рисунков, даже и лицом старуха явно подобрела. Мне обидно было, что такая историческая вещь висит без никакой истории, и я придумал миф. Вполне правдоподобный, кстати. Посмотрел я генеалогическое дерево Льва Толстого (тёща ему дальней, но потомицей была) и отыскал дворянку (кажется, Щетинину – лень уточнять), которая по времени как раз портрету подходила. О своей находке рассказал я тёще, тёща посмеялась одобрительно и как бы всё это забыла. Но однажды был у неё пир, и очень сведущие люди там сидели, а меня отправили на кухню им готовить кофе. Очевидно, я его сварил быстрее, чем рассчитывала тёща, потому что, когда я вернулся, она плавно и вальяжно говорила:
– А портрет этой Щетининой, моей далёкой пра-пра-пра, – он издавна у нас в семье хранится, чистая семейная реликвия.
И тон её ничуть не изменился, когда я вошёл, и я, известный правдолюб и сам не враль нисколько (тех, кто меня знает, попрошу не улыбаться), – никакого ущемления души не испытал. А после в интервью каком-то (Лидия Борисовна давала их несметно) прочитал я и развитие истории. Что будто тёща, будучи по крайней младости врагом замшелой старины, портрет этот когда-то выбросила даже, но ее отец, с работы возвратясь, безмерно огорчился, на помойку кинулся стремглав, а там лежала эта предка оскорблённая, никто не покусился на неё. Теперь я знаю, как творятся родословные литературные легенды.
И нету её больше. Интересно, что на панихиде (и поминках тоже) большинство из выступавших говорили о её достоинствах гораздо меньше, чем о собственной осиротелости и как бы опустелости существования в связи с её уходом. А все-все слабости её несчётные – растаяли мгновенно и бесследно, лишь любовь и восхищение остались в памяти у всех.
А под каким её жестоким обаянием (в чисто гипнотическом значении этого слова) мы жили, близкие, могу я на простом примере рассказать, из собственного опыта давнишнего. Когда в конце восьмидесятых свежим воздухом запахло и железный занавес растаял, разом поднялись, собравшись уезжать, отказники семидесятых. Я на их вопросы – ты чего же медлишь? – только смутно и невразумительно мемекал, что пишу роман, мол, и со стариками нужно мне ещё немного пообщаться, лагерных историй подсобрать. Я врал: уже написан был роман «Штрихи к портрету», но уехать я не мог, торчал я, словно жук на булавке, собственным приколот обещанием. Мы после ссылки жили всей семьёй у тёщи, что-нибудь с полгода это длилось. И однажды утром, за совместным завтраком изрядно засидевшись (дети уже в школе были), мы заговорили об отъездах. Лидия Борисовна сказала вдруг спокойно и обыденно:
– А кстати, Игорь, я давно уже хотела вам сказать, что если вы уедете, то я приму снотворные таблетки, я давно их припасла.
Беспомощно взглянув на Тату, ни секунды не помедлив, я ответил коротко и просто:
– Я вам обещаю, тёщинька.
И мы продолжили пустяшный разговор о чём-то, больше к этой теме никогда не возвращаясь. Года два спустя советской властью был разрублен этот узел: нам было вежливо, но настоятельно предложено уехать. Ни слова не сказав (уж тут судьбой запахло), Лидия Борисовна нам подписала в те года необходимую бумагу, что она не возражает. Как сейчас, я помню этот день, поскольку сохранилось от него одно прекрасное материальное свидетельство характера моей любимой тёщи. Молча шли мы с ней в нотариальную контору, чтобы заверить подпись на бумаге: я терзался ощущением вины, а тёща думала о чём-то. Мы вошли в большой замызганный двор, ища вход в контору, и вдруг Лидия Борисовна сказала:
– Игорь, посмотрите, вон в углу помойка, там лежит какой-то абажур.
В иное время я и сам бы абажур этот заметил, обожаю я помойные находки, просто ничего тогда вокруг не видело моё расстроенное зрение. И целый час ещё, как не поболее, хмурая конторская очередь с недоуменным осуждением рассматривала наши радостные лица. И уже почти что двадцать лет венчает этот абажур почтенный бронзовый торшер в квартире тёщи.
А кого она действительно любила, для меня загадкой остаётся. Герцена, скорей всего. И знала о нём всё, что можно было вызнать из монблана напечатанных материалов. И, наверно, декабристов, о которых она столько знала, будто современницей была. Когда короткие воспоминания о ней прислал из Кёльна её давний приятель, прозаик Владимир Порудоминский, прочитал я там историю, в которой гениально всё сказал о тёще некий совершенно неизвестный человек. Порудоминский с тёщей выступали как-то в некоем украинском городке, где была усадьба одного из декабристов и где многие из них бывали, и отменный памятник им там поставлен, тёща очень высоко его ценила и часами там сидела на скамейке. А начальство, принимавшее столичных этих выступателей, устраивало выпивки ежевечерне и, на грудь приняв для настроения, украинские им певало песни. Лидия Борисовна старалась ускользнуть с попоек этих, и когда её хватились как-то, пояснил один из выпивавших, что она наверняка сидит сейчас у памятника, ей так полюбившегося. И тут-то произнесена была точнейшая о тёще фраза:
– К своим ушла.
И лучше об уходе тёщи не сказать.
Я на одной из пьянок поминальных (несколько их было) отозвал в другую комнату приятеля-врача и о своём недомогании спросил.
– Кровь розовая, светлая? – осведомился он.
Я подтвердил.
– Ну, значит, это всё неглубоко, – сказал он облегчённо, – только ты не расслабляйся и в Израиле к врачу немедленно иди. Поскольку все эти херни перерождаются довольно быстро.
Так я приблизительно и поступил. В июне я пошёл к врачу, и дивной симпатичности молодая докторша мне вставила – уж не скажу куда – оптический прибор колоноскоп, через который высветился мой кишечник на большом экране. Даже я (с немалым омерзением) мог посмотреть, что происходит у меня внутри.
Спустя всего неделю я услышал некую историю об этом медицинском инструменте. Году примерно в шестьдесят втором начинающий врач Эдик Шифрин (он Божьей милостью хирург, весьма известный) в московской клинике профессора Рыжих (был некогда такой знаменитый проктолог) вставлял этот двусмысленный прибор, исследуя заболевшего тогда поэта Светлова. А так как врач о неприятных ощущениях от этой процедуры знал прекрасно, то заботливо спросил по окончании:
– Вы как, Михаил Аркадьевич?
И царственно Светлов ему ответил:
– Эдик, после того, что между нами было, можешь звать меня на «ты».
А кстати, упомянутый выше профессор Рыжих был славен некой замечательной привычкой: осмотрев больного, он величественно поднимал (вздымал, скорее) указательный палец правой руки и говорил торжественно:
– А палец этот, между прочим, побывал в жопе английской королевы!
И не врал ничуть профессор: в разгар войны его, уже тогда весьма известного проктолога, в бомбардировщике возили в Лондон – консультировать принцессу Елизавету. Королевой она стала много лет спустя, но это для истории не важно.
А внутри меня таилась неожиданная пакость. Я-то опознать её не мог, но понял сразу, что хорошего не надо ждать, поскольку докторша отошла к телефону и быстрым шёпотом поговорила с кем-то. Нашему семейному врачу она звонила, своей и нашей приятельнице, меня сюда отправившей, – мне ясно это было и вполне поэтому понятно, что во мне сыскал колоноскоп (уже, по счастью, вынутый). Покуда длился этот краткий телефонный разговор, успел я две начальных строчки сочинить для грустного высокого стишка: «Колоноскоп, гонец судьбы, принёс дурную весть». Но чем продолжить, я пока не знал и принялся бездумно одеваться. Через полчаса мне был уже вручён диагноз: рак прямой кишки.
Приятельница наша, в тот же вечер к нам зайдя, сказала мне слова, настолько точные при всей их простоте, что как-то глубоко они в меня запали и весьма мне помогли:
– Смотрите, Игорь, это всё не страшно, только вам полгода или год совсем иная жизнь предстоит, и это время надо просто пережить.
И стал я этот срок переживать. А тут как раз приспело время юбилея, переход в восьмой десяток глупо было не отпраздновать: мы с Татой, начисто о подлой хворости забыв, отменный учинили праздник человек на пятьдесят друзей и близких. Вёл юбилей мой сын, и я с приятным чувством ждал сюрпризов. На прошлый юбилей он пригласил девицу, так исполнившую танец живота, что за столами ярким пламенем горели глазки старичков. На этот раз явился фейерверк (гуляли, благо, на большой террасе), и дружно вскрикивали мы при каждом извержении замысловатого и разноцветного огня, испытывая первобытную радость. Ещё сметливый сын задолго обзвонил моих друзей, и мне читались поздравления в стихах и прозе. Мой давний друг Саша Горелик и гостивший у него в Москве Юз Алешковский мне прислали краткое напутствие: «Дай Бог, дорогой Гарик, чтобы ты подольше не становился бедным Йориком». А из посланий зарифмованных я приведу стих Саши Городницкого, поскольку он со щедрым пафосом возвёл меня в борцы-герои, кем я, по счастью, не был никогда. Но стих польстил мне, грех его не напечатать.
Дружно чокнемся, как встарь. Час свиданья краток. Убегает календарь на восьмой десяток. Но не старится талант в Игоревом теле: на эстраде он гигант и гигант в постели. Много силы, не забудь, в этом человеке: он прошёл великий путь из евреев в зэки. Всемогущее гавно обличал он гневно, у него Бородино было ежедневно. Погулявший в те года около барака, он уехал навсегда к Пересу с Бараком. И за это упрекнуть мы его не вправе: он прошёл великий путь от забвенья к славе. Горьким смехом знаменит будет он в России, как сказал антисемит Николай Васильич.Очень восхитила меня смелость последней рифмы. Но моя старинная подруга Люся (я уже её с полвека знаю) тоже рифму далеко не слабую нашла. Она мне написала стих от как бы трёх поэтов – Заболоцкого, Ахматовой, Цветаевой, – используя, естественно, их строки, ловко приплетая к ним свои. И я от вот каких пришёл в восторг:
Я стихи написала бы с матом Вам, но нельзя мне, я Анна Ахматова.Старый друг Володя Файвишевский длинный стих свой завершил существенным для меня в те дни пожеланием (признаться честно, за столом ни на минуту я не забывал о вдруг свалившейся напасти):
Будут жить твои стишата вечно — средство от хандры и от тоски; резюме: желаю я сердечно — будь здоров до гробовой доски.А Юлик Ким мне вот что написал:
Как чистокровный полукровка, скажу тебе в лицо и громко: в тебе всегда я замечал явленье также двух начал: слиянье русской, блин, иронии с еврейской, бляха, широтой! Пример неслыханной гармонии — вот что являешь ты собой! И дальше, ёптыть, будь таким до самых меа ее эсрим!Своим ивритом щегольнув (а это пожелание – жить до ста двадцати), Ким давнее во мне затронул чувство: не хочу я и боюсь прожить излишне долго. По моему глубокому убеждению, жить надо до поры, пока ты полноценен и сохранен умственно – не дольше. Только как почувствовать границу? Впрочем, эта тема – начисто чужая дню рождения.
Все много пили, говорили поздравительную чушь, плясали что придётся и с немалым воодушевлением пели множество советских песен. И моя Тата (я с опаской искоса поглядывал) вела себя невозмутимо и со всеми вместе веселилась. Только под конец, когда уже и расходиться начали, безудержно и бурно зарыдала: сорвалась многочасовая выдержка.
Назавтра я покорно обратился к новой предстоящей жизни.
Тут последуют различные подробности, которые чувствительный (и впечатлительный) читатель может пропустить без всякого урона – мне, однако, изложить их интересно и душевно как бы даже нужно. Для начала мою опухоль подвергли облучению из огромной электронной пушки. Более всего она была похожа на слона с подвижным и вращающимся хоботом. От излучения, как объяснили мне врачи, калечатся и погибают раковые клетки, а здоровые – способны оклематься. Весь низ моей спины расчертили разноцветными фломастерами, и эту нарисованную мишень велели по возможности не мыть. И двадцать девять раз, изо дня в день ложился я на некую подставку, и машинный хобот трижды огибал моё распластанное тело, по мишени этой неслышно выстреливая целительным излучением гамма-поля. Я вскорости прознал, что тут же, рядом, в специальной комнате сидят пять физиков, с утра до вечера высчитывая траекторию облучения, чтобы попало под него как можно менее живой здоровой ткани, обречённой пострадать невинно. Только ведь издержки в этих играх неминуемы, и мне изрядно обожгли слизистую оболочку в месте, где недавно побывал колоноскоп. И начались такие боли, что словами их никак не описать. Вернее, это я угрюмо думал, что слова не отыщу, пока однажды вечером в боевике американском (обожаю их под выпивку смотреть) не услыхал точнейшую формулировку. Пожилой матёрый гангстер со злорадством излагал, что будет чувствовать предатель их святого дела, когда будет он отловлен и покаран пулей в зад.
– И тогда, пока не сдохнет, – говорил рассказчик, медленно прихлёбывая виски, – у него такое чувство будет, будто срёт он раскалёнными бритвами.
Я от радости аж вскрикнул и наверняка подпрыгнул бы, но телевизор я смотрел, неловко на бок привалясь: сидеть я к тому времени уже не мог. А впрочем, и ходить я мог не очень, ибо именно такие ощущения испытывал и при ходьбе. И ездить на машине я уже не мог бы, только помогла сообразительность и выручка российских юмористов. Привезли мне два толстенных тома мастеров российского юмора, и я их подложил под обе ягодицы – стала выносимей боль, и можно было снова ездить на сеансы облучения. Забавна здесь моя кретинская наивность: эти муки простодушно полагал я неизбежным следствием лечения, а про снимающие боль снадобья мне врачи не рассказали, считая, очевидно, что нормальный человек и сам про это знает. Какую-то бессмысленную мазь дала мне, правда, медсестра, но боль ничуть не унималась.
Мне очень не хотелось, чтобы о болезни и о мытарствах моих все были осведомлены и говорили мне слова пустые, только властно примешался случай. Когда мы с женой в какой-то третий день хождений по врачам сидели в отделении радиологии (во мне искали метастазы), к нам изящно подпорхнула дама чрезвычайно средних лет, откуда-то знакомая, но смутно и неявно. И с тональностью подружки закадычной у меня спросила, почему я тут сижу.
– А мы с женой гуляем тут, – ответил я невежливо. – Мы утром как позавтракаем, сразу приезжаем погулять сюда немного.
Она мгновенно испарилась, но своё предназначение исполнила немедля: мне уже назавтра начали звонить и выражать сочувственные чувства. Так что затаиться мне не удалось. Но все довольно быстро поняли, что соболезновать жене ещё покуда рано, а меня опасно утешать и ободрять, поскольку лучезарно улыбается мерзавец, чем нахально обижает ободрителей. И стал я жить спокойно в этом смысле.
Тут ещё добавить надо, что меня одновременно химией травили: сразу после облучения мне через вену заливали в организм какую-то лекарственную гадость, тоже гибельную для растущих быстро клеток. Только эта химия влияла и на многие другие клетки, и возможные последствия были изложены на специальной бумажонке, мне вручённой, – там такое обещали, что рука не поднимается перечислять. По счастью, эти радости не выпали моему организму. Потому, возможно, пощадили меня мерзкие последствия от этого превратного лечения, что я на химии – уже второй раз в жизни был. Когда-то выдумщик Хрущёв вообразил, что всю советскую империю спасёт от загнивания цветущей экономики – промышленность, увязанная с химией. И холуи его развили сумасшествие, подобно кукурузному: повсюду стали строиться заводы всякого химического производства. А туда нужны были рабочие в количестве неимоверном, и холуи (а то и сам Никита) всё сообразили гениально: из бесчисленных российских лагерей досрочно стали зэков отпускать. Но не домой, а на заводы эти. Называлось это условно-досрочным освобождением с направлением на предприятия большой химии. И я безмерно ликовал, когда из лагеря мне удалось в такого рода ссылку просочиться. Вроде крепостного права это было. Жили химики в построенных для них бараках-общежитиях, но при наличии семьи пускали жить отдельно. Я три года наслаждался там иллюзией почти свободы. При слове «химия» я до сих пор блаженно жмурюсь. Потому она меня и пощадила. Только слабость мне досталась, но её лечил я непрерывным сном – как только удавалось, я валился, отключаясь, как младенец.
Все эти месяцы повсюду Тата ездила со мной и ни на шаг меня не отпускала. Ей наверняка пришлось потяжелей, чем мне, но я, замшелый эгоист, воспринимал это как должное. И лишь чуть позже спохватился, осознав, какую встряску ей пришлось перенести. С достоинством, спокойно – как когда-то в ссылке, посреди холодной и заведомо враждебной непонятности.
А сколько снадобий лекарственных я заглотал за те злосчастные полгода! Один приятель мой когда-то дивно пошутил. Он издавна ходил с большой спортивной сумкой – там и книги помещались, и бумаги, даже продовольствие при случае влезало. И однажды, будучи в присутствии каком-то и оттуда уходя, он эту сумку взять забыл. И был уже у двери окликом насмешливым настигнут:
– Саша, вы оставили у нас свой кошелёк!
Тут мой приятель обернулся и с печальной элегичностью сказал:
– Это не кошелёк, это аптечка.
И повторить его слова по праву мог бы я. Как и слова одной четырёхлетней девочки, внучки моего приятеля другого. Бедную девчушку приводили полечиться от чего-то, и уже на выходе из поликлиники увидела она идущую ко входу сверстницу. И замечательно сказала маленькая гуманистка:
– Девочка, не ходи туда, там доктор!
А после дали отдохнуть мне месяц или полтора, и я довольно быстро оклемался, на что, честно говоря, уже не очень-то рассчитывал. А дальше операция была, и через шесть часов очнулся я, лишась прямой кишки. Уже и Тата была рядом, на меня приветливо смотрела и не плакала. Все шесть часов они с её сестрой сидели возле операционной, изредка пускаясь побродить невдалеке, чтоб как-то скоротать медлительно тянувшееся время. И с радостью я ощутил, что снова жив.
Я многое из этих замечательных переживаний изложил стишками, отчего и предисловие затеял, чтобы понятно было, о какой болезни речь идёт. Сохрани тебя Господь, читатель, от такого опыта житейского.
А между прочим, шесть часов наркоза даром не прошли. Я обнаружил, что читать могу не больше часа в день, и голова была пуста, как сумка вышедшего за продуктами. Явилась мне печальная научная идея, что мыслительные центры человека и его все творческие нервные узлы – располагаются в прямой кишке. И собеседники сочувственно со мною соглашались. Из этого мучительного ступора меня однажды вывела история, наполнившая меня тихой радостью.
Ещё в совсем глухие времена рассказывали старые евреи, что в Войне за независимость Израиля участвовало множество советских офицеров, неизвестно как попавших в Палестину. Даже слышал я такую версию, что это по приказу Сталина туда их завезли – усатый гений будто бы надеялся тогда, что станет это государство чем-то вроде Польши и Болгарии и превратится таким образом в ручной форпост империи советской. Но, как известно, не сбылась его мечта, а про военных этих – не писалось вроде бы нигде, и рассосалась эта интересная легенда. И вдруг с моим приятелем разговорился очень-очень пожилой еврей (какое-то у них там было заседание какого-то совета), который шестьдесят лет назад участвовал в одном безумном, как ему сперва казалось, предприятии. Летом сорок пятого года Бен-Гурион призвал к себе десяток молодых людей, владевших русским языком (хотя бы кое-как, остатки от родителей), и рассказал им некую идею. В побеждённой и разрушенной Германии сейчас сплошной бардак творится, сказал он. И армия российских победителей не по казармам квартирует, а расселена по сохранившимся домам, то есть доступны для общения евреи – офицеры и солдаты, многим из которых некуда после войны вернуться. Ни родни у них, ни дома не осталось в белорусских и украинских городах и местечках, разутюженных нашествием немецким. Если рассказать им, что у нас вот-вот еврейское возникнет государство и что защищать его немедленно придётся, то оживёт у них душа, и многие приехать согласятся. Безумную идею эту выслушав, разъехались посланцы по немецким городам. И оказалось – вовсе не напрасно. Интересно (и ужасно странно), что никто им не мешал и не препятствовал. А особисты всех мастей – наверняка ведь мигом сообщили по начальству, что какие-то сомнительные люди, не скрываясь, всех расспрашивают о евреях, подбивая найденных уехать в Палестину. Никак такое не могло бы долго в тайне оставаться. Но в ответ на эти все сигналы кто-то очень-очень сверху посоветовал не обращать внимания на палестинских агитаторов. Кто именно – гадать не стоит. Важно только, что несколько сот (до тысячи, сказал старик) евреев-офицеров с незаурядным военным опытом – с великой радостью (и страхом, думаю, не меньшим) согласились ехать в Палестину. А в армейских ведомостях разных записали их, скорей всего, – пропавшими без вести. Вот откуда взялись в армии Израиля танкисты, лётчики, артиллеристы, отменно воевавшие во вскоре разразившейся Войне за независимость. И многие года свирепая печать секретности лежала на прекрасном этом факте, а из каких соображений, горестно сказал старик, сегодня даже непонятно.
Я всегда немалую испытываю радость, натыкаясь на следы российского еврейства в основании и обустройстве нашего невиданного государства. Легенда это или быль – мне совершенно безразлично. Сама же байка – сколько бы в ней ни было загадочных вопросов – очень освежающе сказалась на моём душевно-умственном затмении. И я её немедля раззвонил по всем друзьям.
Наверно, все мы (так мне кажется) испытываем удовольствие, когда вдруг повезёт какой-то новый факт или историю в застолье рассказать или приятелям по случаю. И тут нельзя не вспомнить, как когда-то Тоник Эйдельман рассказывал о городе Торжке. Приехал он туда какую-то прочесть заказанную лекцию (а может быть, в архиве покопаться). И к нему, поскольку фраер-то столичный, заглянул в гостиницу сам третий секретарь горкома партии, задвинутый начальством на культуру. Ну, перекинулись они взаимно вежливыми фразами, и секретарь, слегка помявшись, Тоника спросил:
– А вот вопрос у меня к вам, довольно тонкий. Тут у нас в Торжке жила Анна Петровна Керн, и, говорят, у неё с Пушкиным роман был – это правда?
Тоник жутко оживился от такого школьного вопроса и подробно перечислил – от «Я помню чудное мгновенье» до цитат из писем, по которым достоверно выходило, что роман и в самом деле был.
– Спасибо вам за информацию! – сказал с восторгом секретарь и крепко руку Тонику пожал. – Сейчас у нас идёт пленум горкома, я пойду – порадую товарищей.
А тут во мне ещё и тромб явился под коленкой, властно узаконив сильной болью мою лень из дома вылезать. Мне прописали ежедневные уколы, я их взялся делать сам и честно делал. Я сам себе был и больной, и медсестра. Я сам себя колол, потом я сам себя щипал за попку, сам себе сердито говорил: «Прошу без хамства, пациент!» – и тут мы на день расходились. Медсестра растаивала в воздухе, а пациент закуривал и продолжал читать.
А год Собаки ещё длился, истекая. Попадались вдруг и мелкие приятности. Так, позвонил мне незнакомый человек, чтобы сказать спасибо, из Москвы. Пять лет он просидел в тюрьме в Арабских Эмиратах, запёк его туда партнёр по бизнесу, такая бытовая ситуация. И он пять лет читал мои стишки, которые с собой у него были, и они ему немало помогли. Я благодарность эту принял с превеликой радостью. Хоть вообще мне только что докучны всякие хвалебные слова. Тут некогда к нам переехал жить в Израиль очень и в империи известный советский писатель. Почему-то он решил, что я здесь – местный Михалков, в силу чего стал поздравлять меня со всеми праздниками, присовокупляя всякую хвалу. Я свирепел от каждого звонка, но он, по счастью, вскоре выяснил, что Михалковы тут – совсем иные люди, и отстал. А вот мне как-то молодая женщина в антракте на концерте рассказала, что она рожала под мои стихи: ей муж читал их, и она смеялась, отчего гораздо легче были роды, – тут я радость подлинную испытал. И гордость – чувство низкое, но донельзя приятное. Здесь я слегка споткнулся, застеснявшись, но сурово сам себя одёрнул: когда скромничают слишком, это хуже хвастовства, так лучше буду я хвалиться ненароком. Столько человек уже рассказывали мне, как помогли им некогда мои стишки во время тягостной депрессии, что грех об этом умолчать, а с радостью упомянуть – не грех.
А тут и Юлий Ким перевалил за семьдесят и снова стал моим ровесником. Забавно, что люблю его я так же, как и остальных моих друзей, но не могу преодолеть почтения перед его немыслимым талантом: когда он играет на гитаре и поёт, моя душа изнемогает от блаженства. И я на юбилей послал ему стишок:
Такого мировая вся культура не видела с тех пор, как родилась: певучая корейская натура с российским скоморошеством слилась. И, новую внеся лихую ноту, усилив гармоническую ясность, к изысканному этому компоту добавилась израильская страстность. Живи легко и долго, мудрый Ким, корми коня Пегаса свежим сеном, и счастье, что родился ты таким, спасибо, что не стал ты Ким Ир Сеном!И тут я ощутил, что мне пора бы предисловие заканчивать. Поскольку наступил, по счастью, год Свиньи. Мы Новый год отпраздновали, как всегда, в большой компании друзей, собравшихся у нас, и всем вручал подарки длинноносый Дед Мороз. А что касается Кима-Снегурочки, то в затрапезном пёстреньком халате (под которым две подушки убедительно выказывали грудь) и в лёгкой летней шляпке – чистой она выглядела старой блядью из какого-нибудь порта Сингапур.
И потянулся год Свиньи, неслышно обещая радости выздоровления. Я даже накропал стишок об этом дивном ощущении:
Сошёл на землю год Свиньи, судьба сулит потечь иной, и все мечтания мои житейской станут ветчиной.Заметно Тата приободрилась и снова стала надо мной подшучивать, чего уже примерно с год по женской жалости не делала. Ко мне в окошко залетел тут как-то голубь и по комнате всполошно заметался. Тата закричала:
– Гони, гони его скорей, а то он на тебя насрёт, как на литературный памятник!
За время, что болел, я перешёл на тихое и незаметное существование. Бурные события кипящей в мире жизни занимают меня мало – я ведь житель прошлого не только века, но тысячелетия. Блаженная старческая лень обволакивает мой тихий закат. Хотя, признаться, я и в молодости был таким же. Вообще, мне кажется уже давно, что человек произошёл от обезьяны, которая во сне свалилась с пальмы, а карабкаться обратно – поленилась. Так что это свойство в нас – глубинное. Я читаю книги, нехотя гуляю по району, мало с кем общаюсь и по вечерам отыскиваю на экране боевик. От беспорядочного чтения во мне уже образовался целый холм мыслительного хлама, с ним я разберусь попозже, чуть потом. А виски нам привозит сын, удачный получился мальчик. Он с женой и дочка наша навещают нас по пятницам, а с ними – трое дивных внучек и отменный внук. Такое эти четверо устраивают в доме, пока взрослые степенно выпивают, – надо видеть, ибо невозможно описать. Я вспоминаю каждый раз про старого и одинокого еврея, который так сказал в ответ на предложение куда-то переехать в другой город:
– У меня остались в жизни две всего лишь радости: когда ко мне приходят дети и когда они уходят, я без этого никак не проживу.
А про другого старика я вспоминаю с тихой завистью. Ровесник мой (а то и чуть постарше), он – успешный и гонористый художник. И вот однажды после пьянки, на которой он изрядно освежился, посадили собутыльники его в такси, и вежливо спросил водитель:
– Вас куда вести, папаша?
И папаша дивные (по самочувствию) слова ему сказал:
– Вези, куда захочешь, я повсюду нарасхват.
На все звонки, как поправляется моё здоровье, отвечаю фразой, некогда придуманной евреями во времена Христа (одну лишь букву изменив): «Что может быть хорошего из лазарета?» Все сочувственно и понимающе смеются. И про цех наш литераторский отладил я классическую тоже (пушкинскую) строчку: «Альцхаймер близится, а Нобеля всё нет».
Ну, вот и всё, по-моему. А те стишки, что написал я в год Собаки и немного раньше, я недавно все перечитал – они произвели на меня хорошее впечатление. Надеюсь, мы сойдёмся вкусами, читатель.
Заметки с дороги
* * *
Умом Россию не спасти, она уму не отворяется, в ней куры начали нести крутые яйца.* * *
Месяц ездил я в лязге и хрусте по струенью стальной колеи, и пространство пронзительной грусти остужало надежды мои.* * *
В чаду российских лихолетий, когда людей расчеловечили, то их отнюдь не только плети, но больше пряники увечили.* * *
Ездил по российским я просторам, пил и ел вагонные обеды, я путями ехал, по которым ехали на смерть отцы и деды.* * *
Умельцы на российском карнавале то с шиком, то втихую за углом торгуют, как и прежде торговали, — духовностью и старым барахлом.* * *
В российской протекающей истории с её периодической провальностью тем лучше воплощаются теории, чем хуже они связаны с реальностью.* * *
И те, что сидели, и те, что сажали, хотя и глаза у них были, и уши, — как Бога-отца, горячо обожали того, кто калечил их жизни и души.* * *
Мечте сплотить народ и власть в России холодно и тяжко, поскольку меньше врать и красть никак не может власть-бедняжка.* * *
С поры кафтанов и лаптей жива традиция в отчизне: Россия ест своих детей, чтобы не мучались от жизни.* * *
В сегодняшней России есть пустяк, типичный для империи Востока: величие взошло тут на костях, а кости убиенных мстят жестоко.* * *
Тот факт, что нас Россия не схарчила, не высушила в лагерную пыль, по пьянке на глушняк не замочила, — изрядно фантастическая быль.* * *
Напрасность всех попыток и усилий наметить нечто ясное и путное — похоже, не случайна, и России полезней и нужнее время смутное.* * *
Варяги, печенеги и хазары, умелые в торговом ремесле, захватывают русские базары и дико умножаются в числе.* * *
Орать налево и направо о пришлых лиц переполнении — извечно русская забава в исконно хамском исполнении.* * *
Что у России нет идеи, на чём воспитывать внучат, весьма виновны иудеи, что затаились и молчат.* * *
Всё невпопад и наобум, по всей Руси гуляет нелюдь, а в людях совесть, честь и ум живут, как щука, рак и лебедь.* * *
Россия – это всё же царство, свободный дух пылится зря, а вольнодумное бунтарство — лишь поиск доброго царя.* * *
Гармонь, сарафан и берёза, а с ветки – поёт соловей; всей роскоши этой угроза — незримый повсюдный еврей.* * *
Тянет русского туриста полежать на солнце жарящем, потому что стало мглисто у начальства под седалищем.* * *
Думаю, что в нынешней России вовсе не исчезла благодать: Божий дух витает, но бессилен с мерзостью и мразью совладать.* * *
Мне кажется, покорное терпение — не лучшая особенность народа: сперва оно приводит в отупение, а после – вырождается порода.* * *
Я отродясь локтей не грыз, я трезвый оптимист, сейчас в России время крыс, но близок и флейтист.* * *
А если Русь растормошит герой, по младости курчавый, она расстроится, что – жид, и в сон вернётся величавый.* * *
Как патриотов понимать? Уж больно с логикой негладко: ведь если им Россия – мать, то красть у матери? Загадка.* * *
Евреи так укоренились, вольясь в судьбу Руси затейную, что матерятся, обленились и пьют любую дрянь питейную.* * *
Жили мы в потёмках недоумия, с радостью дыша самообманом, нас поила ленинская мумия дивным, если вдуматься, дурманом.* * *
Причина имперского краха проста, как букварная строчка: лишённая обручей страха, распалась державная бочка.* * *
Россия – страна многоликая, в ней море людей даровитых, она ещё столь же великая по части семян ядовитых.* * *
Любовь к России без взаимности — весьма еврейское страдание, но нет уже былой активности, и хворь пошла на увядание.* * *
Иные на Руси цветут соцветия, повсюду перемены и новации, а я – из очень прошлого столетия, по сути – из другой цивилизации.* * *
Где сотни взыгравших козлов гуляют с утра до потёмок, там сотни дичайших узлов распутывать будет потомок.* * *
Бурлит не хаотически тусовка: незримая случайным попрошайкам, активно протекает расфасовка по гильдиям, сословиям и шайкам.* * *
Всё это было бы не грустно, когда бы не было так гнусно.* * *
Народа российского горе с уже незапамятных пор — что пишет он «хуй» на заборе, ещё не построив забор.* * *
Мне кажется, российская земля, ещё не отойдя от мерзлоты, скучает без конвоя, патруля и всяческой надзорной сволоты.* * *
Когда б еврей умел порхать, фонтан пустив, уйти под воду или в саду благоухать — любезен был бы он народу.* * *
Россию всё же любит Бог: в ней гены живости упорны, а там, где Хармс явиться мог, абсурд и хаос жизнетворны.* * *
Переживя свободы шок, Россия вновь душой окрепла, согрела серый порошок, и Феликс вмиг восстал из пепла.* * *
Когда надвигается темень и тонут мечты в окаянстве, убийц полустёртые тени маячат в затихшем пространстве.* * *
Нет подобного в мире явления, и диковинней нет ничего: власть российская – враг населения и без устали морит его.* * *
Люблю Россию чувством непонятным, с угрюмым за дела её стыдом, брезгливостью к её родимым пятнам и болью за испакощенный дом.* * *
Владеет мыслями моими недоуменная досада: народы сами править ими зовут питомцев зоосада.* * *
Россия как ни переменчива, а злоба прежняя кругом, Россия горестно повенчана с несуществующим врагом.* * *
Чем темней и пасмурней закаты гнусно увядающих эпох, тем оптимистичнее плакаты о большой удаче в ловле блох.* * *
В России нынче правят бал торжественный три личности: подонок, лгун и вор, и царственно свирепствует естественный, но противоестественный отбор.* * *
Свободы дивный фейерверк не зря взрывается над нами, и пусть огонь уже померк, но искры теплятся годами.* * *
У всех вождей Руси увеселением и творчеством у всех до одного — была война с российским населением во имя вразумления его.* * *
Чтобы долю горемычную без печали принимать, укрепляют люди личную веру в Бога, душу, мать.* * *
В России не закончилась эпоха предательства и рабского молчания, порой ещё кричат, но слышно плохо, а громко – лишь согласное мычание.* * *
Всегда евреи за свободу стояли твердо – с целью вредной внедрять отраву, гнусь и шкоду в невинный дух России бедной.* * *
Стирается на время если грань — условия, критерии, барьеры, — то сразу же немыслимая срань стремительные делает карьеры.* * *
С российским начальством контакты похожи в любой из моментов на очень интимные акты, где женская роль – у клиентов.* * *
Бессильные кремлёвские призывы припасть к патриотизму как опоре напрасны, как натужные позывы, томящие страдальца при запоре.* * *
Какую бы ни гнали мы волну, каких ни сочинили наворотов, никак не скрыть еврейскую вину в бездарности российских патриотов.* * *
Кого я ни припомню, все подряд убийцы – в унисон, как на заказ, — твердили, что не знали, что творят, и плакали, что был такой приказ.* * *
Трепеща как осиновый лист и прохожим кивая приветно, по России бредёт сионист и евреев зовёт безответно.* * *
От юных кудрей и до тягостной сенильной поры облысения висит над евреями сладостный и вязкий соблазн обрусения.* * *
Такая в ней мечта и пластика, что, ни за что не извиняясь, опять вернулась к жизни свастика, по месту видоизменяясь.* * *
Пишу я о России без лукавства и выстудив душевное смятение: повсюдное цветение мерзавства — кошмарное, но всё-таки цветение.* * *
Светлы юнцов тугие лица с печатью сметки и проворности, и так духовность в них дымится, что явно требует соборности.* * *
Мне кажется – куда я взгляд ни кину, фортуна так Россию подвела в отместку, что икону и дубину строгали здесь из общего ствола.* * *
России вновь не повезло, никто не ждал такой напасти: разнокалиберное зло опять взошло к вершине власти.* * *
Мне боль несёт российской жизни эхо с ожоговым стыдом наполовину; похоже, из России я уехал, не смогши перерезать пуповину.Шестой иерусалимский дневник
Часть первая
* * *
В любой мелькающей эпохе, везде стуча о стену лбами, мы были фраеры и лохи, однако не были жлобами.* * *
Не то чтобы печален я и грустен, а просто стали мысли несуразны: мир личности настолько захолустен, что скукой рождены его соблазны.* * *
Реальность этой жизни так паскудна, что рвется, изнывая, на куски душа моя, слепившаяся скудно из жалости, тревоги и тоски.* * *
Свободно я орудую ключом к пустому головы моей сосуду: едва решу не думать ни о чём, как тут же лезут мысли отовсюду.* * *
Накалялся до кровопролития вечный спор, существует ли Бог, но божественность акта соития атеист опровергнуть не мог.* * *
Мессия вида исполинского сойдёт на горы и долины, когда на свадьбе папы римского раввин откушает свинины.* * *
Я и откликнувшийся Бог — вот пара дивных собеседников, но наш возможный диалог зашумлен воплями посредников.* * *
Все мы перед Богом ходим голыми, а пастух – следит за организмами: счастье дарит редкими уколами, а печали – длительными клизмами.* * *
Людей ничуть я не виню за удивительное свойство — плести пугливую хуйню вокруг любого беспокойства.* * *
Мне стены комнаты тесны, сегодня в путь я уложусь, а завтра встречу три сосны и в них охотно заблужусь.* * *
Ушли мечты, погасли грёзы, усохла роль в житейской драме, но, как и прежде, рифма «розы» меня тревожит вечерами.* * *
Забавно мне: среди ровесников по ходу мыслей их таинственных — полно пугливых буревестников и туча кроликов воинственных.* * *
С утра душа моя взъерошена, и, чтоб шуршанье улеглось, я вспоминаю, что хорошего вчера мне в жизни удалось.* * *
Нашёл я для игры себе поляну, играю с интересом и без фальши: в далёких городах, куда ни гляну, — я думаю о тех, кто жил тут раньше.* * *
Живу не в тоске и рыдании, а даже почти хорошо, я кайфа ищу в увядании, но что-то пока не нашёл.* * *
А на зовы прелестного искуса я с отмеченных возрастом пор то смотрю с отчуждением искоса, то и вовсе – не вижу в упор.* * *
Душа моя однажды переселится в застенчивого тихого стыдливца, и сущая случится с ним безделица — он будет выпивать и материться.* * *
Истории слепые катаклизмы, хотя следить за ними интересно, весьма калечат наши организмы — душевно даже больше, чем телесно.* * *
В дому моих воспоминаний нигде – с подвала по чердак — нет ни терзаний, ни стенаний, так был безоблачен мудак.* * *
Я ободрял интеллигенцию, как песней взбадривают воинство, я сочинял им индульгенцию на сохранение достоинства.* * *
Так часто под загадочностью сфинкса — в предчувствии, томительном и сладком, — являлись мне бездушие и свинство, что стал я подозрителен к загадкам.* * *
Он оставался ловелас, когда весь пыл уже пропал, он клал на девку мутный глаз и тут же сидя засыпал.* * *
Кто верил истово и честно, в конце концов, на ложь ощерясь, почти всегда и повсеместно впадал в какую-нибудь ересь.* * *
Я мучу всех и гибну сам под распорядок и режим: не в силах жить я по часам, особенно – чужим.* * *
Всё в мире любопытно и забавно, порой понятно, чаще – не вполне, а замыслы Творца уж и подавно — чем дальше, тем загадочнее мне.* * *
Благодарю, благоговея, — за смех, за грусть, за свет в окне — того безвестного еврея, душа которого во мне.* * *
Я на сугубо личном случае имею смелость утверждать, что бытия благополучие в душе не селит благодать.* * *
Ко мне стишки вернулись сами, чем я тайком весьма горжусь: мой автор, скрытый небесами, решил, что я ещё гожусь.* * *
Забавно мне моё еврейство как разных сутей совмещение: игра, привычка, лицедейство, и редко – самоощущение.* * *
В жестоких эпохах весьма благотворным я вижу (в утеху за муки), что белое – белым, а чёрное – чёрным узрят равнодушные внуки.* * *
Все темы в наших разговорах кипят заведомым пристрастием, и победить в застольных спорах возможно только неучастием.* * *
Сегодня старый сон меня тревожил, обидой отравив ночной уют: я умер, но довольно скоро ожил, а близкие меня не узнают.* * *
С судьбой не то чтоб я дружил, но глаз её всегда был точен: в её побоях (заслужил) ни разу не было пощёчин.* * *
Я на гастролях – в роли попугая, хотя иные вес и габарит: вот новый город, публика другая, и попка увлечённо говорит.* * *
Наше бытовое трепыхание зря мы свысока браним за водкой, это благородное дыхание жизни нашей, зыбкой и короткой.* * *
А премий – ряд бесчисленный, но я не награждаем: мой голос легкомысленный никем не уважаем.* * *
Весьма в ходу сейчас эрзацы — любви, привязанности, чести, чем умножаются мерзавцы, легко клубящиеся вместе.* * *
К долгой славе сделал я шажок, очень хитрый (ибо не дебил): новые стихи я с понтом сжёг и про это всюду раструбил.* * *
Сопит надежда в кулачке, приборы шкалит на грозу; забавно жить на пятачке, который всем – бельмо в глазу.* * *
Кто много ездил, скажет честно и подтвердит, пускай беззвучно, что на планете нету места, где и надёжно, и не скучно.* * *
Когда, восторжен и неистов, я грею строчку до кипения, то на обрез попутных смыслов нет у меня уже терпения.* * *
Моя задорная трепливость — костюм публичности и членства, а молчаливость и сонливость — халат домашнего блаженства.* * *
Так редок час душевного прилива, ласкающего старческую сушь, что я минуты эти торопливо использую на письменную чушь.* * *
Пока живу, звучит во мне струна — мучительная, жалобная, лестная; увы, есть похоть творчества – она живучей, чем сестра её телесная.* * *
Шушера, шваль, шантрапа со шпаной — каждый, однако, с пыльцой дарования — шляются в памяти смутной толпой из неразборчивых лет созревания.* * *
С утра весь день хожу смурной, тоской дыханье пропиталось, как будто видел сон дурной и ощущение – осталось.* * *
Движение по небу облаков, какая станет баба кем беременна, внезапную активность мудаков — Создатель расчисляет одновременно.* * *
Скоморошество, фиглярство, клоунада, шутовство — мастерства живое царство и свободы торжество.* * *
Пусть ходит почва ходуном, грохочет гром, разверзлись хляби, но кто родился блядуном — идёт под молниями к бабе.* * *
Пространство жизни нами сужено (опаска, сытость, нет порыва), а фарта тёмная жемчужина всегда гнездится у обрыва.* * *
С утра умылся, выпил кофе и обволокся дымом серым; к любой готов я катастрофе, любым распахнут я химерам.* * *
В какой ни скроемся пещере, пока лихие годы минут, лихое время сыщет щели, через которые нас вынут.* * *
Конторское в бумагах копошение и снулая семейная кровать — великое рождают искушение чего-нибудь поджечь или взорвать.* * *
Свобода, красота и справедливость не зря одушевляли нас веками, мне только неприятна их плешивость от лапания подлыми руками.* * *
Когда мы жалуемся, хныча, мы – бесов лёгкая добыча.* * *
Кто светел, чист и непорочен, исполнен принципов тугих, обычно тяжко заморочен мечтой улучшить и других.* * *
Где плоти воздаётся уважение, и духу достаётся ублажение.* * *
По жизни всей отпетый грешник и всехних слабостей свидетель, отменный быть я мог насмешник, но я – печальник и жалетель.* * *
Дивным фактом, что, канув во тьму, мы в иных обретаемся кущах, не случилось пока никому достоверно утешить живущих.* * *
Взойдёт огонь большой войны, взыграет бойня дикая, по чувствам каждой стороны — святая и великая.* * *
Где теперь болтуны и задиры, посылавшие времени вызов? Занимают надолго сортиры и дремотно глядят в телевизор.* * *
Жестокость жизни беспредельна, слезу не грех смахнуть украдкой, а вместе с этим нераздельно — блаженство пьесы этой краткой.* * *
В пространстве духа тьмой кустисты углы за светлыми дворами, там оборотни-гуманисты стоят обычно с топорами.* * *
Пока наш век неслышно тает, душа – болит, а дух – витает.* * *
Похоже, я немного раздвоился, при этом не во сне, а наяву: я тот люблю дурдом, где я родился, и тот люблю дурдом, где я живу.* * *
По виду несходства раздор наш понятен, и зряшны резоны цветистые: за грязные руки он мне неприятен, а я ему мерзок – за чистые.* * *
Чепуху и ахинею сочиняя на ходу, я от радости пьянею — я на выпивку иду.* * *
Безжалостно двуногое создание, и если изнутри, не напоказ в душе у нас родится сострадание — то кто-то им одаривает нас.* * *
Со склона круче понесло, теперь нужны и ум, и чувства, поскольку старость – ремесло с изрядной порцией искусства.* * *
У жизни остаются наслаждения: ещё перо в чернила я макаю, и праздные леплю свои суждения, и слабостям посильно потакаю.* * *
Мы вместе пили, спорили, курили, и в радости встречались, и в печали… Недообщались, недоговорили и просто мало рядом помолчали.* * *
Укрыть себя, прильнуть и слиться, деля душевность и уют, — как мы везде хотим! Но лица нас беспощадно выдают.* * *
Увы, когда покинула потенция, её не заменяет элоквенция.* * *
Когда бы вдруг вернуть я смог то, что терял или пропил, то царской выделки чертог я б даже с мебелью купил.* * *
Есть мысли – очень часто из известных, несущие заметные следы, настолько отпечатались на текстах их авторов чугунные зады.* * *
Мне кажется, в устройство мироздания, где многому Творец расчислил норму, заранее заложены страдания, а время в них меняет вид и форму.* * *
Повеял тёмным и нездешним летучий шёпот мысли грешной, но дуновением не внешним, а из душевной тьмы кромешной.* * *
В повадке, мимике и жесте, а также в умственной наличности всегда есть сведенья о месте, где место этой милой личности.* * *
Я много раз давал зарок являть недвижную солидность, но верю я – наступит срок, её придаст мне инвалидность.* * *
Из массы зрительных явлений люблю я девок на экране: игра их нежных сочленений бодрит меня, как соль на ране.* * *
Витиевато, вяло, выспренно, косноязыча суть и слово, пытался высказать я искренно, как дивно всё и как хуёво.* * *
Время сыплет медленный песок, будущим заведуют гадалки, муза Клио катит колесо и сама в него вставляет палки.* * *
Если в мыслях разброд и шатание — значит, выпивкой скудно питание.* * *
Совсем уже бедняга – не герой, а выглядел когда-то победительно, кого-то ещё трахает порой, однако же не очень убедительно.* * *
Нас не тянет в неведомый рай, наша участь и тут не бедна: всё, что нам наливают по край, мы легко выпиваем до дна.* * *
В утопшей Атлантиде мне таинственно, что если бы и впрямь она была, её бы помянули многолиственно еврейские торговые дела.* * *
Играет крупно Сатана, спустившийся с небес: часть жизни Богом нам дана, а часть нам дарит бес.* * *
Нелепо – сразу от порога судить и предопределять: чем нынче строже недотрога, тем послезавтра круче блядь.* * *
Цветы прельстительного зла обычно так однообразны, что только пыльного козла влекут их жухлые соблазны.* * *
Хотя я в меру разума и сил судьбу свою клонил к увеселению, у Бога я подачек не просил, а сам Он не давал их, к сожалению.* * *
Кому-то являясь то быдлом, то сбродом, надежды вселяя в кого-то, народ очень редко бывает народом, он чаще – толпа и болото.* * *
Мы часто в чаяньях заветных нуждаемся в совете Божьем, но знаков от Него ответных постичь не можем.* * *
Как волк матёрый на ягнят взирает издали из леса, на наших шумных жиденят тепло глядят глаза прогресса.* * *
Ни разу я за жизнь мою не помню злобного порыва и гнева мутного, пускай враги мои в раю сто лет поют без перерыва, даже минутного.* * *
Себя трудом я не морочу, высокий образ не леплю, и сплю охотно днём. А ночью весьма охотно тоже сплю.* * *
Теченье жизни нашей плавное благодаря скупым мыслишкам приобрело журчанье славное, нам ничего не надо слишком.* * *
По жизни дороги окольные, изгойства надменные корчи и тёмные мысли подпольные — рассудка блаженные порчи.* * *
Уча Талмуд, евреи стрёмные наглеют в ходе обучения и Богу шлют не просьбы скромные, а деловые поручения.* * *
Прочёл я море умных книг (хотя люблю я – ахинею), ни на секунду не возник во мне восторг, что я умнею.* * *
Сегодня с мудаками на обеде я сидел невозмутимо и спокойно; достоинство участника трагедии — в умении вести себя достойно.* * *
Лихой типаж – унылая сиротка. В компаниях такие молчаливы. Улыбчивы, но коротко и кротко. Застенчивы. И дьявольски ебливы.* * *
Мне кажется давным уже давно, и мне от понимания приятно: мы вставлены в какое-то кино, а кто его снимает – непонятно.* * *
Мы затем и склонны к окаянству дёргаться, лететь куда-то страстно, что, перемещаясь по пространству, время проживаем не напрасно.* * *
Чего-то кажется мне, Господи, (сужу я зряче, без поспешности), что рай – большой недолгий госпиталь по излечению безгрешности.* * *
По городской живя погоде, набит повадкой городской, я отношусь к живой природе с почтеньем, тактом и тоской.* * *
Бумагу, девственно пустую, не зря держу я под рукой, сейчас я чушь по ней густую пущу рифмованной строкой.* * *
Когда-то мчался на рысях я на своих на двух; теперь едва плетусь – иссяк и в них задора дух.* * *
Что делать с обузданием урода? Плюя на все укоры и сентенции, еврей, потенциальный враг народа, ничуть не расположен к импотенции.* * *
Мы понимали плохо смолоду, что зря удача не является: кто держит Господа за бороду, тот держит дьявола за яйца.* * *
Вполне, конечно, молодость права, что помнить об ушедших нет обычая, но даже загулявшая вдова — и та порою плачет для приличия.* * *
Когда я был совсем бедняк — а так оно порой бывало, то всё же не было и дня, чтоб я не выпил мало-мало.* * *
Поэты разных уровней, ступеней и звучностей – в одном ужасно схожи: пронзительность последних песнопений морозом отзывается по коже.* * *
Святые книги умолчали о важной вещи: и в малой мудрости печали — ничуть не меньше.* * *
Есть почему-то чувство кражи, когда разносится слушок о медицинской запродаже печёнок, почек и кишок.* * *
В любом горемычном событии со временем блекнет основа: его вспоминая в подпитии, находишь немало смешного.* * *
То на душе как будто гири, то вдруг опять она легка — везде тоска в подлунном мире течёт сквозь нас, как облака.* * *
Беженец, пришлый, чужак — могут прижиться в народе, только до смерти свежа память у них об исходе.* * *
Так безумна всеобщая спешка, словно жизни лежат на весах, и незримая Божья усмешка над кишеньем висит в небесах.* * *
Я главным образом от жажды страдал десятки дивных лет, я заливал её многажды, но утоленья нет как нет.* * *
Когда сидит гавна мешок и смачно сеет просвещение, я нюхом чувствую душок и покидаю помещение.* * *
По возрасту я вышел на вираж последний и не столь уже крутой, хотел бы сохранить я свой кураж до полного слиянья с темнотой.* * *
Очень часто нам от разных наших бед — и обида в их числе, и поражение — помогает своевременный обед, возлияние и словоизвержение.* * *
Уютно и славно живётся в курятнике; что нужно мне? – стол и кровать; порой к нам орлы залетают стервятники — духовную плоть поклевать.* * *
Я издаю стихи не даром и вою их, взойдя на сцену, своим актёрским гонораром я им удваиваю цену.* * *
Пускай любой поёт, как кочет, учить желая и внушать, но проклят будь, кто всуе хочет нам нынче выпить помешать.* * *
Нынче думал о России в полусне: там весной везде кудрявятся берёзки, а впитав тепло свободы по весне, распускаются лихие отморозки.* * *
Любое в мире текстов появление таланта между гнили и мудил — в такое меня вводит умиление, как если б это я его родил.* * *
По жизни моё достижение — умение вмиг и заранее надеть на лицо выражение, пристойное духу собрания.* * *
О чём предупредить они стремятся? Зачем уже который раз подряд ушедшие друзья мне ночью снятся и что-то непонятно говорят?* * *
Любая дребедень и залепуха, придуманная сочно и не бледно, влетая в оттопыренное ухо, уже не растворяется бесследно.* * *
Рутины болотная ряска взрывается вдруг и некстати, но всякая нервная встряска — полезна душе в результате.* * *
Российский нецензурный лексикон — великое богатство русской речи, и счастлив я, что капнул в сей флакон ту каплю, что не долили предтечи.* * *
Боюсь я, вот-вот прекратится во мне клокотание звука, и там, где курлыкала птица, поселится тёмная скука.* * *
Я столь же к женским чарам восприимчив, но менее, чем раньше, предприимчив.* * *
Смешно слегка для пишущего матом, но очень ощущенья эти часты: я чувствую себя аристократом из некой неоформившейся касты.* * *
Нет, судьба не лепится сама, много в ней и лично моего: смолоду не нажил я ума, а состарясь – выжил из него.* * *
Еврею строить на песке — вполне удобно и привычно, а что висит на волоске, то долговременно обычно.* * *
Когда я на прогулки пешие внутри себя порой хожу, то там такие бродят лешие, что криком я себя бужу.* * *
Когда-нибудь люди посмотрят иначе на всё, что мы видели рядом, — текущее время намного богаче доступного нынешним взглядам.* * *
Ввиду гигиенических мотивов любых я избегаю коллективов.* * *
Есть и радость у старости чинной, когда всё невозвратно ушло: перестав притворяться мужчиной, видишь лучше, как это смешно.* * *
Мы часто принимаем за харизму готовность всем на свете вставить клизму.* * *
Никем, конечно, это не доказано, однако может чувство подтвердить: умение терять интимно связано с умением и даром находить.* * *
Не часто судьба посылает нам вызов, и смелость нужна для понятия, что шанс на удачу высок или низок — не важно для факта принятия.* * *
Всё-таки сибирские морозы вдули в меня лаской милицейской гомеопатические дозы тухлой осторожности житейской.* * *
Когда бы человечеству приспичило, а я как раз такое изобрёл, душой бы воспарил я, как орёл, и чтоб изобретение фурычило.* * *
Ещё душа в мечтах и звуках, и крепко мы ещё грешны, а ген бурлит уже во внуках, и внукам мы уже смешны.* * *
Сексуальной игры виртуозы весь их век до почтенных седин увлечённо варьируют позы, но итог – неизменно один.* * *
Перемешай желток в белке, и суть блеснёт сама: в любом отпетом дураке — полным-полно ума.* * *
Жаль, не освоил я наук и не достиг учёных званий, а жил бы важно, как паук, на паутине тонких знаний.* * *
Мышления азартное безделье — целительно для думающей личности: всегда в удачной мысли есть веселье — и даже в постижении трагичности.* * *
У подряхления убогого есть утешение лишь то, что нет уже довольно многого, но меньше хочется зато.* * *
Чем были яростней метели, чем был надрывней ветра вой, тем чаще я дремал в постели и укрывался с головой.* * *
По счастью, мы не полными калеками из долгой темноты вошли в потёмки, а в полном смысле слова человеками уже, возможно, станут лишь потомки.* * *
Ведя за миром наблюдение, живу рассеянно и наспех, великое произведение создам я позже курам на смех.* * *
В пространстве умозаключений, где всюду – чистая страница, такой простор для приключений, что и реальности не снится.* * *
Тупая и пожизненная страсть отыскивать слова, ловя созвучия, меня так истрепала и замучила, что лучше бы умел я деньги красть.* * *
В синклит учёных я не вхож, но видно мне без разъяснений: еврейский гений с русским схож — они цветут от утеснений.* * *
Печальный и злокачественный случай, зовущий собутыльников к терпению: я мыслящий тростник, но не певучий, а выпивка меня склоняет к пению.* * *
Конечно, мы сгораем не дотла, и что-то после нас ещё витает, но времени суровая метла и воздух беспощадно подметает.* * *
Привычка думать головой — одна из черт сугубо личных, поскольку ум как таковой у разных лиц – в местах различных.* * *
Нет, я не наслажусь уже моментом, когда не станет злобы воспалённой, и выпьют людоед с интеллигентом, и веточкой занюхают зелёной.* * *
Со всеми слабостями нашими душой мы выше в годы низкие, а беззащитность и бесстрашие — друзья и верные, и близкие.* * *
Такие случаются дни весеннего света и неги, что даже трухлявые пни пускают живые побеги.* * *
Моё существование двояко: вкушаю дивной жизни благодать, чтоб тут же с упоением маньяка бумаге эту радость передать.* * *
По лесу в тусклом настроении я брёл, печалясь о старении, а меж белеющих берёз витал рассеянный склероз.* * *
С утра свободен завтра буду, ещё запрусь на всякий случай, и сладостно предамся блуду словосмесительных созвучий.* * *
Духом усохли, прибавились в теле бывшие фавны, былые сатиры; прежде – забавы, застолья, постели, нынче – аптеки, врачи и сортиры.* * *
Увы, жестока наша участь: у века – злобы дух густой, у денег – малость и текучесть, у мыслей – вялость и застой.* * *
В моей читательской игре — пустые траты, но вдруг на мёртвом пустыре — цветок цитаты.* * *
Стукнет час оборваться годам, и вино моё будет допито, а немедля, как дуба я дам, и Пегас мой откинет копыта.* * *
С эпохой долгое соседство мне по крупинке нанесло всё, что оставлю я в наследство — моё там только ремесло.* * *
Нет, я не изменяюсь, не расту, живу себе ни шатко и ни валко, но видно и слепому за версту, что я не улучшаюсь, – вот ведь жалко.* * *
Текла, кипела и сочилась моя судьба – то гнев, то нежность; со мною всё уже случилось, осталась только неизбежность.* * *
Может, мы и неприятней основного населения, но хула Творцу занятней, чем корыстные моления.* * *
Моё пространство жизни сужено, о чём печалюсь я не очень: ведь мы всегда во время ужина уже вполне готовы к ночи.* * *
В небо глядя, чтоб развеяться, я подумал нынче вечером: если не на что надеяться, то бояться тоже нечего.* * *
Много книжек я в жизни прочёл, и печаль мою каждый поймёт: мы гораздо бездарнее пчёл — я лишь горечь собрал, а не мёд.* * *
Все плоды святого вдохновения — илистое дно реки забвения.* * *
Весь мир вокруг уже иной, у нас – эпоха провожаний, а бедный стих, зачатый мной, утонет в море подражаний.* * *
Не тот мужчина, кто скулит, что стал постыдный инвалид, а тот мужчина, кто ни звука о том, какая это мука.* * *
Когда впадаешь в созерцание любых камней, извечно местных, душе является мерцание каких-то смыслов бессловесных.* * *
Бродя по жизненным аллеям, со вкусом я на свете пожил, полит был дёгтем и елеем и сам гавно метал я тоже.* * *
Боюсь давно уже заранее и разобрался в сути я: мне вязкий ужас умирания страшней, чем страх небытия.* * *
На стыке пошлости и свинства сочней кудрявится единство.* * *
Навряд ли буду удостоен я с бодрым будущим свидания — мой стих на жалости настоян и на печали сострадания.* * *
Когда-то были темой споров — свобода, равенство и братство, сегодня стержень разговоров — погода, празднество и блядство.* * *
Прости, жена, прощайте, дети, мы с вами встретимся потом, я вас любил на этом свете, рад буду свидеться на том.* * *
Я за удачное словцо, печалям жизни гармоничное, готов пожертвовать яйцо — но разумеется, не личное.* * *
Во всех земных иллюзиях изверясь, я в полной пустоте себя застал; явись какая дерзостная ересь, я с радостью фанатиком бы стал.* * *
Езжу по миру и смехом торгую — словно купец при незримом товаре; сам я сыскал себе долю такую, редкую даже для мыслящей твари.* * *
Какая бы и где ни тлела смута, раздоры и кровавая охота, настолько это выгодно кому-то, что пламя раздувают эти кто-то.* * *
Если жизнь безупречно отлажена и минует любое ненастье, непременно объявится скважина, сквозь которую вытекло счастье.* * *
Нам жажда свойственна густая — с толпою слиться заодно, а стадо это или стая, понять не сразу нам дано.* * *
Вчера ко мне забрёл ходячий бред и жарко бормотал про вред безверия, на что я возражал, что главный вред растёт из темноты и лицемерия.* * *
Дряхлением не слишком озабочен, живу без воздыханий и стенаний, чердак мой обветшалый стал непрочен и сыпется труха воспоминаний.* * *
Меня почти не беспокоя, душа таит себя и прячет, и только утром с перепоя она во мне болит и плачет.* * *
Как бы ни орудовало знанием наше суетливое мышление, правило и правит мирозданием хаоса слепое копошение.* * *
Когда мы ни звонков, ни писем уже не ждём, то в эти годы ещё сильнее мы зависим от нашей внутренней погоды.* * *
Увы, прервётся в миг урочный моё земное бытиё — и, не закончив пир полночный, я отойду в непитиё.* * *
В нас долго бились искры света, но он погас; могила праведника – это любой из нас.* * *
Мужчины с женщиной слияние, являясь радостью интимной, имеет сильное влияние на климат жизни коллективной.* * *
И носы у нас обвисли, и глаза печальны очень, камасутренние мысли исчезают ближе к ночи.* * *
Фортуна коварна, капризна и взбалмошна, как молодёжь, и в анус вонзается клизма, когда её вовсе не ждёшь.* * *
Воздержаны в сужденьях старики, поскольку слабосильны и убоги, однако всем резонам вопреки в них тихо пузырятся педагоги.* * *
По счастью, в нас во всех таится глухое чувство бесшабашное: у смерти так различны лица, что нам достанется нестрашное.* * *
Хотя семейный гнёт ослаб и стал теплей уют, но мужики орут на баб, когда их бабы бьют.* * *
Во мне звучит, не умолкая и сердце тиская моё, глухая музыка – толкая на поиск текста под неё.* * *
Где мой гонор, кураж и задор? Где мой пафос, апломб и парение? Я плету ахинею и вздор, не впадая в былое горение.* * *
Итог уже почти я подытожил за время, что на свете я гостил: навряд ли в мире мудрость я умножил, зато и мало скорби напустил.* * *
Кто-то рядом, быть может, и около проживает в полнейшей безвестности, но дыхание духа высокого — благотворно пространству окрестности.* * *
Болезней тяжких испытания, насколько я могу понять, шлёт Бог не в целях воспитания, а чтобы нашу прыть унять.* * *
Хроника лет начинает виток будущей травмы земной: миром испробован первый глоток новой отравы чумной.* * *
Сделался вкус мой богаче оттенками, тоньше, острей, но не строже: раньше любил я брюнеток с шатенками, нынче – и крашеных тоже.* * *
Возле устья житейской реки, где шумы бытия уже глуше, ощущают покой старики, и заметно светлеют их души.* * *
Восьмой десяток, первый день. Сохранна речь, осмыслен взгляд. Уже вполне трухлявый пень, а соки всё ещё бурлят.* * *
Я книжек – дикое количество за срок земной успел испечь; когда не станет электричества, топиться будет ими печь.* * *
Огромность скважины замочной с её экранами цветистыми даёт возможности заочной, но тесной близости с артистами.* * *
Сейчас вокруг иные нравы, ебутся все напропалую, но старики, конечно, правы, что врут про нравственность былую.* * *
Когда накатит явное везение и следует вести себя практично, то совести живое угрызение — помалкивает чутко и тактично.* * *
Склад ума еврейского таков, что раскрыт полярности суждений; тот же склад – у наших мудаков с каменной границей убеждений.* * *
Забавно, как потомки назовут загадочность еврейского томления: евреи любят землю, где живут, ревнивей коренного населения.* * *
А я б во всех газетах тиснул акт для всехнего повсюду любования: «Агрессией является сам факт еврейского на свете пребывания».* * *
Во мне так очевидно графоманство, что я – его чистейшее явление: пишу не ради славы или чванства, а просто совершаю выделение.* * *
Если впрямь существует чистилище, то оно без конца и без края, безразмерно большое вместилище дезертиров из ада и рая.* * *
Любой росток легонько дёрни и посмотри без торопливости: любого зла густые корни — растут из почвы справедливости.* * *
Господь, ценя мышление отважное, не может не беречь мой организм; я в Боге обнаружил нечто важное: глобальный, абсолютный похуизм.* * *
Печальна человеческая карма: с годами нет ни грации, ни шарма.* * *
Прихваченный вопросом графомана, понравилась ли мне его бурда, я мягко отвечаю без обмана, что я читать не стал, однако – да.* * *
Близится, бесшумно возрастая, вязкая дремота в умилении, мыслей улетающая стая машет мне крылами в отдалении.* * *
Что-то я сдурел на склоне лет, строки словоблудствуют в куплет, даже про желудка несварение тянет написать стихотворение.* * *
Сегодня присмотреться если строже, я думал, повесть буйную жуя, страдальцы и насильники – похожи, в них родственность повсюду вижу я.* * *
Уже слетелись к полю вороны, чтоб завтра павших рвать подряд, и «С нами Бог!» – по обе стороны, в обоих станах говорят.* * *
У многих я и многому учился — у жизни, у людей и у традиций, покуда, наконец, не наловчился своим лишь разуменьем обходиться.* * *
С интересом ловлю я детали наступающей старческой слабости: мне стихи мои нравиться стали и хуле я внимаю без радости.* * *
Я никого не обвиняю, но горьки старости уроки: теперь я часто сочиняю свои же собственные строки.* * *
Уверен я: в любые времена, во благе будет мир или в беде, но наши не сотрутся имена — поскольку не написаны нигде.* * *
Согревши воду на огне, когда придёшь домой, не мой, красавица, при мне и при других не мой.* * *
Радость понимать и познавать знают даже нищий и калека, плюс ещё возможность выпивать — тройственное счастье человека.* * *
Сколь ни обоюдна душ истома, как бы пламя ни было взаимно, женщина в её постели дома — более к любви гостеприимна.* * *
Мир земной запущен, дик и сложен, будущее – зыбко и темно, каждый перед хаосом ничтожен, а вмешаться – Богом не дано.* * *
Судьба среди иных капризов, покуда тянется стезя, вдруг посылает жёсткий вызов, и не принять его – нельзя.* * *
Все в мысли сходятся одной насчёт всего одной из наций: еврей, настигнутый войной, обязан не сопротивляться.* * *
Не слушая кипящей жизни шум, минуя лжи возведенный гранит, опавшую листву я ворошу — она остатки памяти хранит.* * *
Для мысли слово – верный друг, дарящий мысли облик дерзкий, но есть слова – от подлых рук, на них следы и запах мерзкий.* * *
Тихо поумнев на склоне лет, я хвалюсь не всем перед гостями: есть и у меня в шкафу скелет — пусть пока побрякает костями.* * *
Ласкали нежные уста нам на весеннем карнавале весьма различные места, но до души – не доставали.* * *
В любую речь для аромата и чтобы краткость уберечь, добавить если каплю мата — намного ярче станет речь.* * *
Давно уж море жизни плещет, неся челнок мой немудрёный, а небо хмурится зловеще, и точит море дух ядрёный.* * *
По мере личного сгорания душе становятся ясней пустые хлопоты старания предугадать, что станет с ней.* * *
Когда несёшься кувырком в потоке чёрных дней, то притворяться дураком становится трудней.* * *
Бог людям сузил кругозор для слепоты как бы отсутствия, чтобы не мучил нас позор и не сжигала боль сочувствия.* * *
Среди всемирных прохиндеев и где клубится крупный сброд — заметно много иудеев: широк талантом наш народ.* * *
Как робко это существо! Он тихий, вдумчивый и грустный. Но гложет жизни вещество, как ест червяк листок капустный.* * *
Когда раздора мелкий вирус неслышно селится меж нас, не замечаешь, как он вырос и стал заразней в сотни раз.* * *
Как это странно: все поэты из той поры, наивно-дымчатой, давно мертвы. Их силуэты уже и в памяти расплывчаты.* * *
Являя и цинизм, и аморальность, я думаю в гордыне и смущении: евреи – объективная реальность, дарованная миру в ощущении.* * *
На свете очевидны территории, охваченные внутренним горением, где плавное течение истории сменяется вдруг диким завихрением.* * *
Я очень тронут и польщён высоким Божьим покровительством, однако сильно истощён своим ленивым долгожительством.* * *
Разъезженная жизни колея не часто вынуждает задыхаться — на мелкие превратности плюя, вполне по ней приятно бултыхаться.* * *
Чтобы сгинула злая хандра и душа организм разбудила, надо вслух удивиться с утра: как ты жив ещё, старый мудила?* * *
Люди молятся, Бога хваля, я могу лишь явить им сочувствие; Бог давно уже знает, что я уважаю Его за отсутствие.* * *
Я в жизни ничего не понимаю — запутана, изменчива, темна, но рюмку ежедневно поднимаю за то, чтобы продолжилась она.* * *
В атаке, в бою, на бегу еврей себя горько ругает: еврей когда страшен врагу, его это тоже пугает.* * *
История капризна и причудлива, симпатии меняет прихотливо, играющий без риска и занудливо — не друг и не любовник музе Клио.* * *
Со времён чечевичной похлёбки каждый стал боязлив и опаслив, но росло и искусство наёбки: тот, кого наебли, нынче счастлив.* * *
Хотя война у нас – локальная, но так еврей за всё в ответе, что извергается фекальная волна эмоций по планете.* * *
Мне близкий друг принёс вино, чтоб тонкий вкус во мне копился, меня растрогало оно, и грубым виски я напился.* * *
Муза тихо бесится, ища, чем и как поэта взволновать, а его, гулящего хлыща, девка затащила на кровать.* * *
Кто своей персоной увлечён, с пылкостью лелея дарование, рано или поздно обречён на тоску и разочарование.* * *
Когда был молод и здоров, когда гулял с людьми лихими, я наломал немало дров — зато теперь топлю я ими.* * *
Домашним покоем доволен, лежу то с журналом, то без, и с ужасом думаю: болен во мне проживающий бес.* * *
С работой не слишком я дружен, таскать не люблю я вериги, но это наркотик не хуже, чем выпивка, бабы и книги.* * *
Браня семейной жизни канитель, поведал мне философ за напитком: супружеская мягкая постель — мечта, осуществлённая с избытком.* * *
Характер наших жизненных потерь похож у всех ровесников вокруг, утраты наши – крупные теперь: обычно это близкий старый друг.* * *
Совсем не зная, что частушки — весьма опасная потеха, я их читал одной толстушке, толстушка лопнула от смеха.* * *
Хотя предчувствие дано и для счастливых потрясений, в нас ограничено оно шуршаньем тёмных опасений.* * *
Реальность соткана из истин такой банальности, что дух, который не корыстен, — изгой реальности.* * *
А пока тебе хворь не грозит, возле денег зазря не торчи, нынче девки берут за визит ровно столько же, сколько врачи.* * *
Натолкнувшись на рифму тугую, подбираю к ней мысли я строго — то одну отберу, то другую, и от этого думаю много.* * *
Любви жестокие флюиды разят без жалости и скидок, весною даже инвалиды себе находят инвалидок.* * *
На небо в полной неизвестности подобно всем я попаду, сориентируюсь на местности и вмиг пойму, что я в аду.* * *
Иллюзия, мираж и наваждение — такое оптимизму подаяние, такое для надежды услаждение, что больно, когда гаснет обаяние.* * *
Ручьи весенние журчат, что даль беременна грозой, на подрастающих внучат старушки смотрят со слезой.* * *
Самые великие открытия, истину даруя напрямик, делались по прихоти наития, разум подменявшего на миг.* * *
Есть люди, чьи натуры певчие — пушинки духа в жизни мчащейся, со всем, что есть, расстаться легче им, чем с этой музыкой сочащейся.* * *
Поблажек у стихии не просил в местах, её безумием простроченных, однако же всегда по мере сил наёбывал её уполномоченных.* * *
С возрастом сильней у нас терпение, выдержан и сдержан аксакал; просто это выдохлось кипение и душевный снизился накал.* * *
У секса очень дальняя граница, но дух у старика – слабей, чем тело, и тянет нас от секса уклониться, поскольку уже просто надоело.* * *
Стали нам застолья не с руки: сердце, нету сил, отёки ног, и звонят друг другу старики, что ещё увидимся, даст Бог.* * *
Подземные гулы и громы слышнее душе на закате, Харон уже строит паромы, ему его лодки – не хватит.* * *
Все текущие беды и сложности сотворяются, эка досада, из-за полной для нас невозможности вынуть шило и пламя из зада.* * *
Мы в юности шустрили, свиристя, дурили безоглядно и отпето, и лишь десятилетия спустя мы поняли, как мудро было это.* * *
Сегодня почему-то без конца я думаю о жизни в райских кущах: как жутко одиночество Творца среди безликих ангелов поющих!* * *
Есть нечто умилительно-сердечное, и просится душа из тела вон, когда во мне разумное и вечное пытается посеять мудозвон.* * *
Всех печатных новинок ты в курсе, и печалит меня лишь одно: у кого заковыка во вкусе — безошибочно любит гавно.* * *
Читал во сне обрывки текста и всей душой торжествовал; и сон исчез; болело место, о коем текст повествовал.* * *
Люди, до глубоких тайн охочие, знают, как устроена игра: или будет Божье полномочие, или не нароешь ни хера.* * *
Иная жизнь вокруг течёт, иной размах, иная норма, нам воздаваемый почёт — прощанья вежливая форма.* * *
Не разбираюсь я во многом, достойном острого внимания, поскольку в разуме убогом нет сил уже для понимания.* * *
К судьбе моё доверие не слепо, и я не фаталист в подвижной клетке, живой душе надеяться нелепо на милости бесчувственной рулетки.* * *
Еврейский Бог весьма ревнив и для Него – любой греховен: ведь даже верность сохранив, ты в тайном помысле виновен.* * *
Я все утраты трезво взвесил, прикинул риск от а до я и стал от дивной мысли весел: теперь законна лень моя.* * *
К России я по-прежнему привязан, хоть ездить без охоты стал туда, теперь я ей чувствительно обязан за чувство непрестанного стыда.* * *
Истории бурлящая вода сметает все преграды и плотины, а думать, что течёт она туда, где лучше, – перестали и кретины.* * *
В игре по типу биржевой судьба не знает махинаций, и я вполне ещё живой, но мой пакет уже без акций.* * *
Духом ощутимо, видно взглядом, как непринуждённо и интимно быт и бытиё здесь ходят рядом и перекликаются взаимно.* * *
Накопленные в доме сбережения, привезенные мной из-за границы, высокого достойны уважения, поскольку разлетаются, как птицы.* * *
Я много думал, подытожа, что понял, чувствуя и видя; о жизни если думать лёжа, она светлей, чем если сидя.* * *
Нас уже не манит неизвестность, а что близко, мы переиначили: всю свою болотистую местность — горными вершинами назначили.* * *
Свой обывательский покой оберегая много лет, я эту жизнь люблю такой — с домашним запахом котлет.* * *
Укрытый от азартной суеты исконно стариковским недоверием, я нюхаю весенние цветы с осенним на лице высокомерием.* * *
Легко могу принять и допустить: божественно Всевидящее Око, мой ум готов немногое вместить, но внятное мне – дьявольски жестоко.* * *
Вчера шепнуло мне сердчишко, заставив лечь и слух напрячь: уже ты, милый, не мальчишка, прижми свой гонор или спрячь.* * *
Я бросил распускать павлиньи перья, держусь подобно хрупкому сосуду, по типу красоты похож теперь я уже на антикварную посуду.* * *
С годами наши дарования ничуть не склонны к убыванию, легко от самооплевания склоняя к самолюбованию.* * *
А жалко мне меня с моим умишком, до многого я им не дотянусь, поэтому и трогает не слишком божественных решений блеск и гнусь.* * *
Пишу не чтобы насладиться, меня томит не страсть, а мука, и я спешу освободиться от распирающего звука.* * *
А вечером, уже под освежение, течёт воспоминательный ручей, и каждое былое поражение становится достойнейшей ничьей.* * *
Банально, заурядно и обыденно — отныне это явь и это есть — подкравшаяся тихо и невидимо нас чёрная прихватывает весть.Часть вторая
* * *
Не видя прелести в фасаде, меня судьба словила сзади.* * *
Пройдя через опасности и гнусь, пока тянулись годы заключения, — ужели я сломаюсь и загнусь от горестных превратностей лечения?* * *
Едва я только вышел на опушку, ища семье для ужина грибы, судьба меня захлопнула в ловушку, чтоб реже я шутил насчёт судьбы.* * *
Годы плавно довели до больничной койки, без меня друзья мои ходят на попойки. Жарят мясо на огне, старость нашу хают, вспоминая обо мне, горестно вздыхают. Я, однако, поднимусь и походкой гордой я в застолье к ним вернусь с той же светлой мордой.* * *
Ещё одно, замеченное мной у хвори, где сюжет недуга сложен: от жизни я невидимой стеной всё время ощутимо отгорожен.* * *
После этой дурной переделки безмятежно займусь я старением, и часов равнодушные стрелки мне ещё подмигнут с одобрением.* * *
Я стойко бои оборонные веду с наступлением сзади, и дроги мои похоронные — лишь доски пока что на складе.* * *
Когда и сам себе я в тягость, и тёмен мир, как дно колодца, то мне живительная благость из ниоткуда часто льётся.* * *
Защита, поддержка, опека, участливой помощи мелочь — любезны душе человека, но дарят ей вялую немочь.* * *
Творится явный перебор при сборе данных к операции: такой мне вставили прибор, что вспомнил я о дефлорации.* * *
Засосанный болезнью, как болотом, но выплыть не лишённый всё же шанса, телесно я сравнялся с Дон Кихотом, но умственно – я прежний Санчо Панса.* * *
Свой лук Амур печально опустил, застыв, как тихий ангел над могилой; напрасно ты, приятель, загрустил, ещё мы поохотимся, мой милый.* * *
Жизненной силы бурление вкупе с душою шальной — лучшее в мире явление из наблюдавшихся мной.* * *
Забавен в нас, однако, дух публичный: примерно через два десятка дней болезнь – уже не факт интимно личный, и хочется рассказывать о ней.* * *
Закинут в медицинское верчение, внутри я подвергаюсь и наружно, лечение – крутое обучение тому, что никому из нас не нужно.* * *
Радость воли, азарт, вожделение — удалились в глухой монастырь, мне осталось болезни глумление и разрушенных планов пустырь.* * *
Гнусная – однако не позорная — выпала от жизни мне награда, горько заскучает беспризорная и осиротелая эстрада.* * *
Стану я слегка другим отныне — словно гонг неслышно прозвучал, столько оплеух моей гордыне — в жизни я ещё не получал.* * *
Придётся мириться, подружка, с печальной моей ситуацией: с утра электронная пушка стреляет мне в зад радиацией. В меня заливается химия, которая травит и косит, уже моя внутренность – синяя, но рак этот цвет не выносит. Судьбу разозлило, наверно, моё в облаках почивание, и послана гнусная скверна, чтоб вытерпел я врачевание.* * *
Сделаться бы собраннее, суше и бронёй укрыться, словно в танке, чтобы не улавливали уши звуков затевающейся пьянки.* * *
Сначала не чувствуешь путы, внутри не пылает свеча, становишься болен с минуты, когда побывал у врача.* * *
Болезнями даётся постижение того, чем не умели дорожить, и есть ещё в болезнях унижение, которое полезно пережить.* * *
Я, благодаря текущей хвори, с радостью и страхом обнаружил, что у Бога я ещё в фаворе, ибо всё могло быть сильно хуже.* * *
Я вынесу густую передрягу, но, если не сдержу я это слово, — отрадно, что над ямой, где залягу, друзья наверняка хлебнут спиртного.* * *
Готовлюсь духом к операции, надеясь тихо и недужно, что у хирурга хватит грации лишь то отрезать, что ненужно.* * *
Когда в халат недуга прочно влез, а душу манит лёгкая беседа, родится нездоровый интерес к течению болезни у соседа.* * *
Всё, что жизни привольно довлело — интересы, азарт, обольщения, — не пропало и не омертвело, а укрылось и ждёт возвращения.* * *
Есть виды очень разного спасения в лихом репертуаре излечения, и скоро я восторгу облысения подвергнусь в результате облучения.* * *
Уверенность, что я перемогнусь, не снизилась в душе ни на вершок, поскольку я, конечно же, загнусь, когда всё будет очень хорошо.* * *
Приметливо следя за настроением, я пристален к любой в себе подробности — как будто занимаюсь измерением оставшейся во мне жизнеспособности.* * *
Забавно, как денно и нощно, до самой могильной плиты старательно, резво и мощно мы гоним поток суеты.* * *
И по безвыходности тоже, и по надрезу на судьбе — с тюрьмой недуги наши схожи, но здесь тюрьма твоя – в тебе.* * *
Узник я, проста моя природа, я не тороплю скольженье дней, в будущем обещана свобода, я пока не думаю о ней.* * *
Отнюдь не в лечебной палате — я дома, гостей угощаю, однако в больничном халате всё время себя ощущаю.* * *
С недугом познакомившись поближе (с тюрьмой не понаслышке я знаком), я сходство обнаружил: хочешь выжить — в тюрьму не погружайся целиком.* * *
Терпению крутое обучение ведут со мною славные ребята; «Мучение – вот лучшее лечение», — учили их наставники когда-то.* * *
Бывают в жизни обстоятельства — другому знать о них негоже, и самолучшее приятельство за эту грань уже не вхоже.* * *
От шуток хорошо бы отучиться: живя без их ехидного коварства, я стал бы эффективнее лечиться, смех сильно ослабляет яд лекарства.* * *
Кошмарный сон тянулся густо, аж голова от пота взмокла: лежу на ложе у Прокруста, а надо мною – меч Дамокла.* * *
Шёл еврей в порыве честном сесть и тихо выпивать, но в углу каком-то тесном рак его за жопу – хвать!* * *
Я справедливо наказан судьбой, вряд ли отмолят раввины, грустный пейзаж я являю собой — радостей жизни руины.* * *
Образ жизни мой шальной стал теперь – кошачий, и не столько я больной, сколько я лежачий.* * *
Но нельзя не подумать, однако, что причина – в рождения дне: я рождён под созвездием Рака, он был должен явиться ко мне.* * *
Мой рак ведёт себя по-свински, поскольку очень жить мешает, а говоря по-медицински, мне дозу кары превышает.* * *
Душа металась, клокотала, бурлила, рвалась и кипела, потом отчаялась, устала и что-то тихое запела.* * *
В болезни есть таинственная хватка — тюремной очевидная сестра: почти уже не мучает нехватка всего, что было радостью вчера.* * *
Согласно процедуре изучения плетусь из кабинета в кабинет, я нынче пациент, объект лечения, а личности – в помине больше нет.* * *
Сейчас мои доброжелатели, пока верчусь я в передряге, — отменных сведений жеватели, я рад, что счастливы бедняги.* * *
Я к вечеру бываю удручён и словно опалён огнём из топки — возможно, потому что облучён, хотя всего скорей – в тоске по стопке.* * *
Читаю. Но глаза ещё следят за очереди медленным течением, вокруг мои соракники сидят, печальные, как рак под облучением.* * *
Сижу поникший, хмурый, молча, какая ж, думаю, ты блядь: в меня вселившаяся порча на душу тянется влиять.* * *
Завидя жизни кутерьму, я прохожу насквозь и мимо, поскольку я для всех незримо несу в себе свою тюрьму.* * *
Послушно принимая курс лечения, покорствую, глаза на всё закрыв, испытывая счастье облегчения, когда мне объявляют перерыв.* * *
Подумал я сегодня на закате: ведь мы, храня достоинство и честь, за многое ещё при жизни платим, что Страшный суд не может не учесть.* * *
На время из житейской выйдя школы, вселился в медицинский я шатёр, и ныне честолюбия уколы сменились на уколы медсестёр.* * *
Тяжелы бесполезные муки, а успехи – пусты и убоги; но когда опускаются руки, то невдолге протянутся ноги.* * *
Да, организм умней меня: ничуть не возмутившись, вся невоздержанность моя исчезла, не простившись.* * *
Встаю теперь я очень рано и не гужуюсь у приятелей, в моей тюрьме я сам – охрана, жена – команда надзирателей.* * *
В период серый и недужный, где страхи вьются у двери, мир делится на мир наружный и сферу вязкой тьмы – внутри.* * *
Дела мои сейчас пока неважные, наездник унитаза я часами, а мысли все – лихие и отважные, и все с кавалерийскими усами.* * *
Судьба жестоко вяжет по канве стандартной для недуга моего, но в каше, что варю я в голове, не в силах она тронуть ничего.* * *
Чужими мыслями пропитан, я, чтоб иметь на них права, — поскольку в честности воспитан — перешиваю их сперва.* * *
На сердце – странные колючки: прошли ведь вовсе не века, но вот в Россию едут внучки, уже не зная языка.* * *
Пока порхал на ветку с ветки, пел гимны солнцу и дерьму, переродившиеся клетки внутри построили тюрьму.* * *
Стариков недовольное племя говорит и в жару, и при стуже, что по качеству позжее время — несравненно, чем раньшее, хуже.* * *
Художник, пророк и юродивый со всем, что сказали в запале, хвалу получают от родины — не раньше, чем их закопали.* * *
«Завидным пользуясь здоровьем», его мы тратили поспешливо, и этим дедовским присловьем былое машет нам усмешливо.* * *
Наивен я: с экрана или рядом — смотрю на лица монстров без опаски, мне кажется всё это маскарадом: да – дикие, да – мерзкие, но – маски.* * *
Сообразив, что не умру, владея времени бюджетом, я превратил болезнь в игру с отменно жалостным сюжетом.* * *
Я знаю, почему люблю лежать: рождён я обывателем и книжником, а лёжа мне легко воображать борцом себя, героем и подвижником.* * *
А время – это всё же мельница, в её бесшумных жерновах настолько всё бесследно мелется — лишь пыль на книгах и словах.* * *
Срама нет в уподоблении: нашей юности поэты всё ещё в употреблении, но истёрты, как монеты.* * *
Ген, как известно, – не водица, там папа, мама, предка примеси; всё, с чем доводится родиться, кипит потом на личном примусе.* * *
В болезни есть одно из проявлений, достойное ухмылки аналитика: печаль моих интимных отправлений мне много интересней, чем политика.* * *
Под гам высоких умозрений молчит, сопя, мой дух опавший, в тени орлиных воспарений он – как телёнок заплутавший.* * *
Я думаю часто сейчас, когда уплотняются тучи, что хаос, бушующий в нас, подземному – брат, но покруче.* * *
Напрасно разум людской хлопочет, раздел положен самой природой: рождённый ползать летать не хочет, опасно мучить его свободой.* * *
Когда мне больно и досадно, то чуть ещё маркиздесадно.* * *
В ответ на все плечами пожимания могу я возразить молве незрячей: мы создали культуру выживания, а это уж никак не хер собачий.* * *
Свои успехи трезво взвесив и пожалев себя сердечно, я вмиг избавился от спеси — хотя и временно, конечно.* * *
Покуда жив, пока дышу, покуда есть и слух и зрение, я весь мой мир в себе ношу, а что снаружи – важно менее.* * *
Мой стих по ритмике классичен, в нём нет новаторства ни пяди, а что он часто неприличен, так есть классические бляди.* * *
Ужели это Божье изуверство для пущей вразумлённости людей? Ведь наши все немыслимые зверства — издержки благороднейших идей.* * *
Гуляло по свету гулящее тело, в нём очень живая душа проживала, Россия его разжевать не успела, хотя увлечённо и долго жевала.* * *
Мне смыслы, связи и значение — важней хмельного сладкозвучия, но счастлив я, по воле случая услышав музыки свечение.* * *
Найти побольше общего желая, я сравниваю часто вхолостую: тюрьмы любой романтика гнилая — отсутствует в болезни подчистую.* * *
Тюрьма: нигде не мучим болями, я, как медлительный слепой, — из-за апатии с безволием на фоне слабости тупой.* * *
Сегодня пьянка вместо дел, сегодня лет минувших эхо — какое счастье, что сидел! — какое счастье, что уехал!* * *
Душе распахнута нирвана и замолкают в мире пушки, когда касаюсь я дивана, тахты, кровати, раскладушки.* * *
Забавное у хвори окаянство: с людьми общаясь коротко и смутно, я выселился в странное пространство, в котором подозрительно уютно.* * *
В размышлениях я не тону, ибо главное вижу пронзительно: жизнь прекрасна уже потому, что врагиня её – омерзительна.* * *
К сожаленью, подлецы очень часто – мудрецы, сладить с ними потому — тяжко прочему дерьму.* * *
В поиске восторгов упоения разум и душа неутомимы, нас не ранят горести гонения, мелкие для чувства, что гонимы.* * *
Душа твоя утешится, философ, не раньше, чем узрит конечный свет, ведь корень всех земных её вопросов — в вопросе, существует ли ответ.* * *
Сегодня думал перед сном, насколько время виновато, что ото всех борцов с дерьмом немного пахнет странновато.* * *
Великая российская словесность, Россию сохраняя как вокзал, сегодня просочилась даже в местность, где житель ещё с веток не слезал.* * *
Случайно выплывает облик давешний, и снова ты забыть его готов, но памяти назойливые клавиши играют киноленту тех годов.* * *
Те, кто жил до нас веками ранее, были нас умами не бедней, разум наш замусорило знание, но оно не делает умней.* * *
Хочу, когда уже я стар и сед, сказать о чувстве времени двояком: я гибельному веку – лишь сосед, хотя в родстве с убийцей и маньяком.* * *
Наш век пошёл на слом, запомнясь полосой — от девушки с веслом до бабушки с косой.* * *
Недуг мой крылья распростёр и грозно вертит пируэты, а я и зритель, и актёр, и сцена этой оперетты.* * *
Состарившись, мы видимся всё реже, а свидевшись, безоблачно судачим, как были хороши и были свежи те розы у Тургенева на даче.* * *
Увы, но даже духа воспарения способны довести до изнурения.* * *
А славно, зная наперёд, что ждут людей гробы и твой вот-вот уже черёд, под водку есть грибы.* * *
Сколько б мы, воспаляясь, ни спорили то изустно, то в текстах несметных — сокровенные нити истории недоступны для зрения смертных.* * *
Верю в точность химических лезвий, но сегодня почувствовал снова, что лекарства, сражая болезни, заодно пришибают больного.* * *
Я стараюсь отойти при умных спорах, в них опасная зараза вероятна: есть умы, от обаяния которых остаются на душе дурные пятна.* * *
Когда-то был я вольнодумец, свободой пылко восхищался, но стал печальник и угрюмец, когда с ней близко пообщался.* * *
Все в мире пьют покоя сок, не чувствуя беды, засунув головы в песок и выставив зады.* * *
Всё, что вытворяется над нами, было бы успешливо едва ли, если бы своими именами всё, что происходит, называли.* * *
Всегда жива надежда, что однажды к нам вылетит божественная птица, получит по заслугам Каин каждый, и Авель каждый к жизни возвратится.* * *
Подпочвенные рокоты и гулы, сулящие губительные вспышки, нисколько не влияют на загулы, целебные для краткой передышки.* * *
Удачи и шедевры – не объекты для пламенной мыслительной игры, охотней полыхают интеллекты вокруг пустого места и дыры.* * *
Старанием умелых докторов от этой лихоманки я оправлюсь и сделаюсь физически здоров, а умственно и так себе я нравлюсь.* * *
Недуг меня уже подпортил малость: я чувствую, едва сойду с крыльца, движений унизительную вялость и слабую приветливость лица.* * *
Способствуя врачу по мере сил, в послушном разговоре о диете про выпивку я просто не спросил, чтоб, выпивши, не думать о запрете.* * *
Поэзия – коварная езда, я сборники порой листаю честно: порожние грохочут поезда, куда, зачем, откуда – неизвестно.* * *
Когда больные пятна запорошены снежком уже беспамятной зимы, сны снятся удивительно хорошие о том, насколько славно жили мы.* * *
Всё-таки друзья меня достали и сидят с уверенной ухмылкой: качеством закалки твёрже стали, мой характер – воск перед бутылкой.* * *
Дом, жена, достаток, дети, а печаль – от малости: в голове гуляет ветер, не пристойный старости.* * *
Как некогда в те годы заключения, когда в тюрьме стихи писал надменно, свидетель я иного злоключения, в котором – и герой одновременно.* * *
Когда нас косит века вероломство и время тапки белые обуть, сильнее в нас надежда на потомство, которое отыщет лучший путь.* * *
А что, скажи по сути, делал ты? Не скромничай, ведь это между нами. Я смыслы извлекал из пустоты и бережно окутывал словами.* * *
Становится тоскливо и ненастно, и жмутся по углам венцы творения везде, где торжествует самовластно конечный результат пищеварения.* * *
Споры стали нам духа опорой, даже с Богом мы спорить не трусили, нету в мире хуйни, над которой не витали бы наши дискуссии.* * *
С моим недугом я расстанусь, одну измену не простив: меня подвёл двуликий анус, врага преступно пропустив.* * *
Чтоб лавры обрести, не суетись, не сетуй на житейские морозы, тебе даны стихи, чтобы спастись в растлительном потоке низкой прозы.* * *
С меня заботы жизни дружно слезли, у взгляда сократилась территория, теперь моя история болезни — единственная личная история.* * *
Я облученьем так потрёпан, что не могу ни встать, ни сесть, и даже дружеского трёпа ещё не в силах перенесть.* * *
Вот на восьмом десятке лет и пишутся стихи, поскольку сил у деда нет на прочие грехи.* * *
Люблю, чтоб шёл жених к невесте, люблю чувствительные сказки, и всей душой мне в каждом тексте счастливой хочется развязки.* * *
Когда-то я мчался на полном скаку и ветры хлестали по мне, сегодня я с кайфом лежу на боку, а как надоест – на спине.* * *
Увижу ли я тех, кого хочу, на небе, недоступном для живого? Я преданно смотрю в лицо врачу, не слыша и не слушая ни слова.* * *
Чтоб не болтать о муках ада, к земным я лучше перейду: врагу – и то желать не надо мою зубную боль в заду.* * *
Какое-то заразное влияние оказывают книги на меня: медлительное словоизлияние томит меня потом к исходу дня.* * *
Дурная боль не сломит лоха, упрямство клонит к терпежу; хожу сейчас я крайне плохо; сижу – едва; но как лежу!* * *
На заре поют зазря соловьи, трели ранние во мне безответны, утром сумеречны чувства мои, а под сумерки – светлы и рассветны.* * *
Сколь у нас ни будь ума и чести, совести, культуры, альтруизма, тайно покурить в запретном месте — счастье для живого организма.* * *
– Послал ему Бог испытание! – А что с ним? – Почти ничего: постигло его процветание, молитесь за душу его.* * *
Всякой боли ненужные муки не имеют себе оправданий, терпят боли пускай только суки, что брехали о пользе страданий.* * *
Повысить о чём-нибудь знание — могу я, хотя и натужно, когда б не предвидел заранее, что это ни на хер не нужно.* * *
Время течёт не беззвучно, время бурлит и журчит, внуки докажут научно факт, что оно не молчит.* * *
Свалился я под сень моих чертогов, овеян медицинским попечением, сейчас уже лечусь я от ожогов, содеянных заботливым лечением.* * *
Перечёл – и по коже мороз, обнаружил я признаки грозные, что уже на пороге склероз: мысли стухли и стали серьёзные.* * *
Сказать про жизнь, её любя, точней нельзя: сапог не парный, и то тюрьма вокруг тебя, то дружной пьянки дух нектарный.* * *
Звучит как скверный анекдот, но, жребий не кляня, я выздоравливаю от лечения меня.* * *
Всё срастается на теле живом, но ещё за стол не сесть, не поврать; выздоравливаю я тяжело; это лучше, чем легко умирать.* * *
Тревожат Бога жалобой, прошением, те молят за себя, те – за других, а я к Нему – с циничным утешением: терпи, Ты всё равно ж не слышишь их.* * *
Невнятное томит меня смущение — с душой, видать, не всё благополучно: с людьми недуг порвал моё общение, а мне ничуть не пусто и не скучно.* * *
Висит над миром шум базарный, печь разногласий жарко топится, и тихо полнятся казармы, и в арсеналах гибель копится.* * *
Всегдашнее моё недоумение — зачем живу, случаен и безбожен, сменилось на уверенное мнение, что этого Творец не знает тоже.* * *
Надо мне известности не боле, чем недавно выпавшая мне: два моих стишка в какой-то школе в женском туалете на стене.* * *
Творец давно уже учёл всего на свете относительность, и кто наукам не учён, у тех острей сообразительность.* * *
Свалясь под уважительную крышу признания, что скорбен и недужен, окрестной жизни гомон я не слышу — похоже, он давно мне был не нужен.* * *
Везде стоят солидные ряды и книги возлежат на них залётные — то мудрости трухлявые плоды, то пошлости порывы искромётные.* * *
Нет, я уже не стану алкоголиком, и я уже не стану наркоманом, как римским я уже не буду стоиком и лондонским не сделаюсь туманом.* * *
Чей разум от обычного отличен — сгорают на огне своём дотла, а мой умишко сильно ограничен, поэтому печаль моя светла.* * *
За все про все идейные течения скажу словами предка моего: «Любого не боюсь вероучения, боюсь только апостолов его».* * *
Одна лишь пагубная линия заметна мне в существовании, по ней ведёт нас блуд уныния, ловитель кайфа в остывании.* * *
Я в молодости часто забывал, как выглядел конец вечерней пьянки, а утром этот памяти провал оказывался девкой с той гулянки.* * *
С той поры, как нашёл этот дивный метод битвы с недугом паскудным, я использую самый активный вид лечения – сном непробудным.* * *
Среди бесчисленных волнений, меня трепавших без конца, всегда была печаль сомнений в доброжелательстве Творца.* * *
Я тщательно, порой до неприличия, найти пытаюсь тайное тавро: у зла ведь очень разные обличия, всех чаще это – светлое добро.* * *
Сам я счастлив бы стал, в человеках сея мысли, как жить хорошо, но в моих закромах и сусеках я такого зерна не нашёл.* * *
Кошмары мучили поэта: напившись, он уже вот-вот касался истины, но это обычной девки был живот.* * *
Что впереди? Родни галдёж, потом наркоз и вся потеха; когда хирург прихватит нож, дай Бог им общего успеха.* * *
Забавно, что у дней бывают лица: угрюмые, задумчивые, строгие, день может улыбаться или злиться, бывают мельтешные и убогие.* * *
Поскольку им непогрешимость дана, как истина сама, в сужденьях равов есть решимость с некрупной примесью ума.* * *
Недолгое от будней отключение по случаю наплыва злоключений — заметное приносит облегчение от суетных и вздорных попечений.* * *
В душе у меня затвердела любимая бабкой присловица: «Родиться евреем – полдела, евреями люди становятся».* * *
Всё нужное, чтоб выжить нам, – единое, для жизни корневое основание, а лишнее и не необходимое — нужнейший эликсир существования.* * *
Прочтя, как полезны страдания, что счастью они не помеха, я слышу за шкафом рыдания — там черти рыдают от смеха.* * *
Обманчиво понурое старение: хотя уже снаружи тело скрючено, внутри творится прежнее горение, на пламя только нет уже горючего.* * *
В палитре боли – очень пёстрой — живут в готовности слепой — от сокрушительной и острой до изнурительной тупой.* * *
Бредя сквозь жизнь, изрядно мглистую, терпя её коловерчение, чесать пером бумагу чистую — весьма большое развлечение.* * *
Висит гипноз бесед манерных, и дикий зреет самосуд, и легионы правоверных мир иноверцев сотрясут.* * *
А славен буду я десятки лет не в памяти у нескольких гурманов, но яркий по себе оставя след на многих поколеньях графоманов.* * *
Случай, на кого-то фарт обрушив, сильно всё меняет в человеке, деньги деформируют нам души, но светлы и счастливы калеки.* * *
Я сидел, но присутствие ложа всё вниманье моё занимало, хорошо себя чувствовать лёжа — это тоже при хвори немало.* * *
Мне по душе оно как есть, земное бытиё, и получи благую весть, я б не понёс её.* * *
В пустой игре моих мыслишек испуг нечаянный возник, что бередит меня излишек херни, почерпнутой из книг.* * *
Меня спасает только сон, однако и во сне поёт сопенью в унисон печаль моя во мне.* * *
По жизни счастлив я, однако скажу как честный старожил: владей я Княжеством Монако, совсем иначе я бы жил.* * *
За мною нет заслуг существенных, но я зачислил бы туда, что я в любых делах общественных не лез на сцену никогда.* * *
Всё, что плодит моё воображение, зачато впечатлением извне, но в то же время это отражение свеченья балаганного во мне.* * *
Я без печали упустить уже из рук удачу мог, я мог понять, могу простить, но чтоб забыть – избави Бог.* * *
Во мне как будто гамма нотная, по вкусу время выбирая, гуляет музыка дурнотная, мотивы гнусные играя.* * *
Порой бывает, что мгновение зависнет в воздухе бесплотно, и словно духа дуновение тебя обвеет мимолётно.* * *
А многое, что ужасом казалось натурам понимающим и чутким, меня как будто вовсе не касалось, настолько разъебаем был я жутким.* * *
Есть образ, некогда печаливший умишко мой, во тьме блуждающий: челнок, от берега отчаливший и цели плаванья не знающий.* * *
Моё некрупное жилище мне словно царские хоромы, сдаётся мне, что только нищим нужны дома-аэродромы.* * *
Люблю, когда в массиве текста — и в книге, и на полотне, как на холме живого теста, игра дрожжей заметна мне.* * *
Сегодня день понурый и больной, сам воздух катит волны утомления, и мутной наплывают пеленой угрюмые о жизни размышления.* * *
В моём химическом сосуде — состав наследственностей двух: жестокий дух еврейских судий и прощелыги лёгкий дух.* * *
Не притворяюсь мудрецом, но я недугу благодарен за то, как больно, всем лицом о стол гуляний был ударен.* * *
У времени различны дарования: несёт оно, не ведая сомнения, то свежее струенье созревания, то душное дыхание дряхления.* * *
Когда стекаются слова, чтобы составить корпус текста, слегка кружится голова, для них отыскивая место.* * *
Везде кипит безумный торг, торгует мир и тьмой, и светом, и каждый день увозят в морг всех надорвавшихся на этом.* * *
Ночь обещала быть тяжёлой, поскольку вечер тёк в тиши, и я подумал: дивной школой хворь обернулась для души.* * *
В момент известий огорчительных, учил высокий эрудит, лишь сок напитков горячительных надёжно ярость охладит.* * *
Украл у местного поэта лихую рифму «нота – квота», и утешал себя, что это он тоже стибрил у кого-то.* * *
Живу я в мире, узко здешнем, имею жалкий кругозор, а далеко в пространстве внешнем творятся слава и позор.* * *
Пора меняться: стану тощий, смурной и горестно молчащий, быть пессимистом сильно проще, поскольку прав гораздо чаще.* * *
Мир так загнил до основания, что посреди жестокой прозы смешны все наши упования, надежды, планы и прогнозы.* * *
Тоской познанья были мучимы и эрудит, и грамотей, а мы, наукам не обучены, усердно делали детей.* * *
С какого-то невнятного вчера я что бы ни читал и что б ни видел, мне слышится: пора, мой друг, пора, и я на этот голос не в обиде.* * *
Тьму парков обожают наши дети — и дурни все, и выросшие дуры — чего им там? А в городе, при свете, — полным-полно искусства и культуры.* * *
Конечно, я уже не молодой, но возраст – не помеха, если страсть… Вот разве что ужасно стал худой — в меня теперь амуру не попасть.* * *
Увы, но взгляд куда ни кину — везде пропорция равна, везде Творец, готовя глину, чуть-чуть подмешивал гавна.* * *
Язычник я: мой разум узкий не принял свыше господина, и мне язык текучий русский — кумир и воздух воедино.* * *
В чаду и вихре наслаждений хиреет пламень убеждений.* * *
У всех висит за сумеречной скукой неведомая финишная дата; забавно, что душа перед разлукой милей и ощутимей, чем когда-то.* * *
За то, что было дней в избытке, благодарю судьбу, природу и алкогольные напитки, таившие живую воду.* * *
Конец тебе, любой герой, когда в души твоей хозяйство прокрался сочный геморрой национального зазнайства.* * *
Помыслы, порывы, побуждения — чистые и светлые, как искра, душу озаряют в миг рождения, но и затухают очень быстро.* * *
Увы, мой мир совсем ещё не светел, я слабости своей не обнаружу, но так меня легко шатает ветер, что я не выхожу пока наружу.* * *
Не счесть уму грехов количества, но, разбираясь в их меню, я, чтоб не впасть в соблазн учительства, себя в невежестве храню.* * *
Я душой тянулся много лет к мыслям этим, тонко прихотливым: знание, что в жизни счастья нет, вовсе не мешает быть счастливым.* * *
Не стоит нам сегодня удивляться, что клонит плиты мрамора, как ветки: на кладбищах надгробия кренятся, когда в гробах ворочаются предки.* * *
Душа смакует облегчение без даже капли скуки пресной, что круто высохло влечение к херне, доселе интересной.* * *
Дохрустывая жизнь, как кочерыжку, я вынужденно думаю о ней: когда ещё бежал по ней вприпрыжку, она была значительно сочней.* * *
Заболев, я укрылся в обитель — тихо ждать и пугливо надеяться, но свихнувшийся ангел-хранитель созывает гостей, чтоб развеяться.* * *
Не то чтобы мы патокой с елеем себя всё время мазали слегка, но сами от себя мы скрыть умеем заметное другим издалека.* * *
Мой путь поплоше и попроще, чем у героев и философов: пасу свои живые мощи, их ублажая массой способов.* * *
Среди интимных мыслей нежных, меня щекочущих приятно, совсем не видно белоснежных — везде моих насмешек пятна.* * *
Творец над нами ставит опыты, насколько прочны дух и тело, но это всё пустые хлопоты — в нас нету явного предела.* * *
Сумерки сгущают ощущения, к ночи вянут мысли деловые, в сумраке пустого помещения сходятся на рюмку домовые.* * *
Лишь тот умён, учил мудрец, кто не от Бога ждёт посылку, а сам находит огурец, когда уже добыл бутылку.* * *
Легко беру я, что мне нужно, из книг, которые читаю, чужое тоже мне не чуждо, но я своё предпочитаю.* * *
На старость очень глупо быть в обиде, беречься надо, только и всего; я в зеркале на днях такое видел, что больше не смотрюсь уже в него.* * *
Не зря сегодня день уныл и скукой стелется зелёной: с утра его я не омыл мыслишкой утренней солёной.* * *
Зло я ощущал кошмарно близко — нюхом и на слух, а больше взглядом, но тогда я падал жутко низко, а сейчас оно повсюду рядом.* * *
Ум быстро шлёт, когда невмочь, нам утешенья скоротечные: болит живот почти всю ночь — я рад, что боли не сердечные.* * *
Потом герои с их попытками враз одолеть земное лихо угрюмо гасят пыл напитками, которым жалуются тихо.* * *
Все рыцари добра полны надежды: отнюдь они не сеют и не пашут, а вырядившись в белые одежды, призывами к добру отважно машут.* * *
У правды нынче выходной: полез я в память, из подвала таща всё то, чего со мной по жизни сроду не бывало.* * *
Я с женским хором был знаком, хористки так меня любили, что часто виделись тайком — в любви они солистки были.* * *
Измучась озверелым врачеванием, я мыслю со стоическим спокойствием: зато теперь гастрольным кочеванием с усиленным займусь я удовольствием.* * *
Мои на мудрость посягательства, мои высокие печали не пережили наплевательства, сбежали вон и одичали.* * *
Мне кажется, я здраво ограничился о доме и о близких беспокойством — меня пугает каждый, кто набычился бороться со всемирным неустройством.* * *
Не знаю, что бы это означало: меня не устаёт терзать и мучить глухое материнское начало: вон ту удочерить, а ту – увнучить.* * *
Когда-то даже в пору повзросления мы духом были – мелкие клопы, забуду ли я муки вылупления из дьявольски уютной скорлупы?* * *
Забавны выплески любви на фоне тягостных событий: меня сейчас друзья мои сильнее любят и открытей.* * *
Певучий сок раблезианский добыл я личными трудами, колодец мой артезианский в себе я сам копал годами.* * *
Всегда приходит Новый год, неся подарки дорогие — освобожденье от невзгод и их замену на другие.* * *
Было дико, но прекрасно, и пока дряхлеть не стала, Леда много лет напрасно снова лебедя искала.* * *
Нас давит жизнь густой нагрузкой, однако дней тяжёлых между мы все на выпивку с закуской имеем право и надежду.* * *
К себе забавно присмотреться, поскольку с миром наши трения то затевает ум, то сердце, а то – разлад пищеварения.* * *
Я слишком щедро облучён и до сих пор ещё болею; рак безусловно обречён, а я, быть может, уцелею.* * *
Не просто я утратил пиетет к ума и интеллекта обаянию, а странный ощутил иммунитет к любому постороннему влиянию.* * *
В организме поближе ко дну — разных гадостей дремлет немало, начинаешь лечить хоть одну — просыпается всё, что дремало.* * *
Я наслажусь ещё не раз гулящей мысли выкрутасами, жизнь хороша и без прикрас, но обаятельна – прикрасами.* * *
Хотя исход у всех – летальный и не бывает исключений, однако этот путь фатальный прекрасен массой приключений.* * *
Легко и по книгам надёргать цитаты, и всюду истории устные: мечты и надежды – легки и крылаты, а сбывшись – хромые и грустные.* * *
Среди крутого мироздания так рад я личному присутствию, что к людям полон сострадания, а сам себе я не сочувствую.* * *
На грешный рай земных утех ещё кошу я светлы очи, а вон у этих и вон тех на даже глянуть нету мочи.* * *
К Богу я не лезу с панибратством, а играть с Ним – дело не простое: чтобы заниматься святотатством, надо тонко чувствовать святое.* * *
Если вдруг пошла потеха, плавя лёд и ржавя сталь, возраст людям – не помеха, а досадная деталь.* * *
Гибкость, лёгкость и живучесть лжи, растёкшейся в повсюдную, обещает миру участь огорчительно паскудную.* * *
Зная дело вдумчиво и туго, правку исповедуя дальнейшую, я совсем не чувствую испуга, если написал херню полнейшую.* * *
Учти, Господь: я не оратор и ни к чему не призывал, я лишь убогий литератор и стих мой личный завывал.* * *
Нет, я не о Толстом сейчас толкую, со многими случалось это так: великие несли хуйню такую, которой постеснялся бы мудак.* * *
В истории ничто уже не внове, а было столько лжи и столько фальши, что слышится в любом высоком слове звучание запачкавшихся раньше.* * *
Российские евреи жили сочно, как будто долго спали и проснулись, копалась ими умственная почва, а к пахотной – они не прикоснулись.* * *
Исконным занимаясь женским делом и полные законной женской гордости, девицы всех мастей торгуют телом, жалея, что товар – со сроком годности.* * *
Моё живое существо уйдёт из жизни утолённой и обратится в вещество породы неодушевлённой.* * *
Забавно остывает голова, когда она работала весь день: кипят ещё какие-то слова, но смыслы заволакивает тень.* * *
История животна и растительна, копируя бездушную природу, однако же злопамятна и мстительна — в подобие двуногому уроду.* * *
Мне если кто и ненавистен, то проповедник заводной: мне прописных высоких истин уже не надо ни одной.* * *
Что-то я из рюмочного текста вышел в непонятное теперь: то ли среди мудрых жажду места, то ли мне в склероз открылась дверь.* * *
Нам ещё охота свиристеть, бравыми прикинувшись парнями: крона продолжает шелестеть над уже усохшими корнями.* * *
Моё глухое беспокойство, когда на девок я гляжу, — весьма сомнительного свойства, и я в руках себя держу.* * *
Обидно, что с огранкой мастерства, когда уже всё выделкой покрылось, уходит легковейность естества, которое шампанским пузырилось.* * *
Легко реальность подменив, тактично, гибко и сердечно в картину мира входит миф и поселяется навечно.* * *
Мне многое сегодня очевидно, целебный опыт жизни мной добыт: ведь нас лягают больно и обидно — всего лишь обладатели копыт.* * *
Забавно, что былое нам открыто не настежь и отнюдь не поминутно: всё то, что совершалось шито-крыто, и помнится сегодня крайне смутно.* * *
Ещё о преимуществах лежания: покой теперь надёжен и упрочен, а в мысли стало больше содержания, поскольку лёжа взгляд сосредоточен.* * *
Я не умею обижаться, но все попытки усмиряю: своей судьбой распоряжаться я и судьбе не доверяю.* * *
Когда бежишь – горят подмётки, и плещет алчности волна, то бедной совести ошмётки болят, как целая она.* * *
Когда всё хрупко, слякотно и зыбко и ждать чего угодно можно вдруг, случайного попутчика улыбка — отменно упрочняет мир вокруг.* * *
Всюду мудрецов сейчас – несметно, я хоть не завистник, но обидно: лично я умнею незаметно, и пока что этого не видно.* * *
К любой судьбе готовы смолоду, в совсем негожую погоду мы с решетом ходили по воду — и приносили эту воду.* * *
Слиянья полного не ищет моё с евреями единство, и я в духовной даже пище люблю умеренное свинство.* * *
Я давно простился с лицемерием и печалюсь, глядя в небосклон: к Богу мы относимся с доверием, бо2льшим, чем заслуживает Он.* * *
Куда-нибудь въехать на белом коне — вот радость и сердцу, и глазу, и жалко, что эта мечта не по мне, поскольку не ездил ни разу.* * *
Создатель, дух даря творению и научая глину жить, способность нашу к озверению навряд ли мог предположить.* * *
Одну мыслишку изреку, мне поделиться больше нечем: не ставьте рюмку дураку, он вам испортит целый вечер.* * *
Науку вольно жить в неволе мы самодельно проходили, довольно часто ветра в поле искали мы – и находили.* * *
Я не питаю подозрения насчёт размеров дарования, мои пустые умозрения — души угрюмой пирования.* * *
Меня постигло озарение, зачем лежу я так помногу: лень – это чистое смирение, и этим я любезен Богу.* * *
Был озарён я где-то в тридцать высоким чувством непорочным, что нежелание трудиться бывает пламенным и прочным.* * *
За то ещё ценю свою свободу, что вижу без полемики и прений желудочно-кишечную природу у множества духовных воспарений.* * *
Однажды гуси Рим спасли от чужеземного коварства, за что их жарить отнесли на пир во славу государства.* * *
Полон я глубокого почтения к автору, навязанному мне: книга изумительна для чтения, третий день я плаваю в гавне.* * *
Еврейской мысли ход текучий ввиду высокой вероятности всегда учитывает случай большой внезапной неприятности.* * *
Ничтожный островок в сухой пустыне евреи превратить сумели в сад, и чудо это всажено отныне в арабский гордый ум, как шило – в зад.* * *
Едва лишь я умру – с кем не бывало? — душа метнётся в небо прямиком, а сброшенное ею покрывало окажется дурацким колпаком.* * *
И я, слабея в час дурной, писал серьёзнейшую скуку, но чувство жанра, правя мной, немедля сковывало руку.* * *
Я чувствую ко всем благоволение, и умного хвалю, и дурака, и только вызывает изумление, что крылышки не чешутся пока.* * *
Обязан если прихоти Творца распущенностью духа моего, не должен я до смертного конца обуздывать и сдерживать его.* * *
Догадка иногда во мне сквозит, что жизненный азарт – весьма игральный, и весь вокруг житейский реквизит — не наш совсем, а вовсе театральный.* * *
Хотя мой ум весьма ничтожен, но в нём шумит разноголосица: туда словарь какой-то вложен, и много слов на волю просится.* * *
Всегда в конце удавшейся пирушки мы чувствуем, рассудку вопреки, что мы – не у судьбы в руках игрушки, а сами – удалые игроки.* * *
Вот мистики простейшие уроки: душа зовёт в минутную отлучку, и полностью законченные строки текут через меня под авторучку.* * *
Уже мы как бы чуть издалека следим, как вырастают наши внуки, а если посмотреть на облака, то думаешь о странности разлуки.* * *
Мне жалко всех, кто ближе к ночи и за ночным уже пределом себя тоской угрюмо точит, что в жизни что-то недоделал.* * *
Не стану глупо отпираться я — да, страх ползёт, как нервный зуд, меня страшит не операция, а то, что там они найдут.* * *
За то, что плохо всё предвидим, такие бедственные мы: кого сегодня мы обидим, тот завтра всем даёт взаймы.* * *
Я счастлив тем, чем я богат, моё богатство – пантомима, и вздев улыбку напрокат, хожу скотов различных мимо.* * *
Приятно думать про возможность, что к Богу явится простак, осмелясь на неосторожность Его спросить: за что нас так?* * *
Всего скорей, что по наитию — мой ум не ладит с вычислением — готов я вечером к распитию с любым народонаселением.* * *
Я так самим собой напичкан и чушь такую горожу, что разве что к небесным птичкам по чик-чирику подхожу.* * *
Мы прочные пустили корешки повсюду в почву, начисто не нашу, — не Бог ли обжигал нам те горшки, в которых мы свою варили кашу?* * *
Шестым каким-то тёмным чувством я к мысли вдруг ловлю толчок, что станет сукой и Прокрустом вот этот милый мужичок.* * *
У жизни всюду есть звучание — при свете, ночью и во мгле, наступит если вдруг молчание, нас дикий страх пригнёт к земле.* * *
Ход жизни рвёт порой плотина, прервав течение и бег, и тут беснуется скотина, и каменеет человек.* * *
В печальных признаках мельчания и мысли свежеоскоплённой видны приметы одичания души, желудком усыплённой.* * *
Мучительное творческое свойство (у всех оно мучительностью разно) — самим собой святое недовольство Сальери утолил своеобразно.* * *
Достойных духом в райских кущах — согласны все, кого ни спрашивал — из поколений предыдущих гораздо больше, чем из нашего.* * *
Он даже в юные года настолько малый был не промах, что успевал туда-сюда резвее многих насекомых.* * *
Мне думать о былом сегодня нравится, пускай былое в памяти продлится, мы были все красавцы и красавицы — наивность озаряла наши лица.* * *
А пока пасёмся мы на воле, Бог нас видит овцами типичными, ибо зеленеющее поле — минами усеяно различными.* * *
Я помню ясно и вполне, как выживал, давимый прессом, и что тюрьма теперь во мне, я наблюдаю с интересом.* * *
Заметил я, что даже хвори присущи слабости мучительства: так у неё весьма в фаворе часы пустого сочинительства.* * *
В моём любом воспоминании — к чему в былом ни прикоснусь — я вечно жил в непонимании, что есть повсюду мразь и гнусь.* * *
Клянусь, пишу не ради рифмы, а наблюдая каждый случай: у разных дней различны ритмы — бегущий, скачущий, текучий.* * *
Есть мысли – только что набухли, уже распустятся вот-вот, но вдруг увяли и пожухли, как будто порча в них живёт.* * *
И разве что не в мелкий микроскоп исследован я был, каков я есть, и дьявольский прибор – колоноскоп — совали мне, куда зазорно лезть.* * *
Со мной у докторов пошла игра, и каждый изгалялся по способности, что тема для высокого пера, поскольку очень низменны подробности.* * *
С ума сошли бы наши предки и закричали: «Боже, Боже!» — пересчитав мои таблетки, которым я не верю тоже.* * *
Творить посильную гулянку нам по любому надо случаю, покуда каждому – подлянку судьба готовит неминучую.* * *
Лишь ненадолго стоит лечь — и стих журчит, уже кристален, — должно быть, есть какая течь во мне, когда горизонтален.* * *
Время не течёт, а испаряется, и, возможно, где-то вдалеке есть оно сгущённое, как яйца, сваренные круто в кипятке.* * *
Мне скорее страшно, чем забавно, как растёт в порыве чрезвычайном то, что нам казалось лишь недавно мелким и едва ли не случайным.* * *
Природы я давно боюсь: когда б я ни был на природе, я чистой свежестью травлюсь и задыхаюсь в кислороде.* * *
Чтоб выдать замуж дочерей и чтобы внуки голосили, готов зятьёв кормить еврей вплоть до пришествия Мессии.* * *
Когда бы нас оповещали про жизни скорое лишение, то мы бы только учащали своё пустое мельтешение.* * *
Смотря в былое взором мысленным, я часто радуюсь тайком, каким я был широколиственным и полным соков мудаком.* * *
Сейчас борьба добра со злом идёт во мне, но я не вхож, и в этой битве перелом содеет нож.* * *
Я не мог получиться священником и врачом бы, наверно, не мог, а случиться отпетым мошенником — очень мог бы, но миловал Бог.* * *
В себе копаясь как-то на досуге, подумал я про тягостный хомут — о глупостях, содеянных в испуге, что иначе неправильно поймут.* * *
Сперва уколов тонкие укусы, а далее – в сознании провал… Я знал давно, что все мужчины – трусы, но что настолько – не подозревал.* * *
Ночью мне приснилось очень ясно — дёрнулись от ужаса зрачки — что хирург зашил меня напрасно, что внутри меня забыл очки.* * *
У смерти очень длинная рука, и часто нас костлявая паскуда свободно достаёт издалека, внезапно и как будто ниоткуда.* * *
Хотя врачи метут пургу и врут о зле спиртном, я столько пользы не могу найти ни в чём ином.* * *
Туда летит моё волнение, где без огреха и греха верша умелое глумление, мне ловко вскроют потроха.* * *
Я выдаю для отсечения хотя и малый, но вершок — поскольку жажду излечения своих единственных кишок.* * *
Лишь ради текста гну я спину, мила неволя мне моя, и если я перо откину, то и коньки откину я.* * *
На выпивке в недавнишние дни я верные слова друзьям нашёл: чтоб жили так же счастливо они, как нам бывало вместе хорошо.* * *
В душе мы очень сиротливы, темны по мироощущению, а то, что дико похотливы, — мы просто тянемся к общению.* * *
Пришла мне в голову вчера мыслишка дьявольски простая: от воцарения добра пошла бы жизнь совсем пустая.* * *
О многом бы ещё подумать надо, готовясь к долгой встрече с тишиной, поскольку одряхления прохлада изрядно уже чувствуется мной.* * *
Есть идея – в ней отравно обаяние, а звучит она – донельзя обаятельно: если ждёт нас после смерти воздаяние, то живым его творить не обязательно.* * *
Мышление моё и примитивно, и нежно, как овечка на лугу, и если что-то сильно мне противно, то я об этом думать не могу.* * *
Вмиг с исчезновением опаски завязи плода в игре интимной ебля стала просто формой ласки, признаком симпатии взаимной.* * *
Я буду и внутри, и духом чист, укроет боль и страх наркоза плёнка, и тут, суров очами и плечист, хирург меня разрежет, как цыплёнка.* * *
Навряд ли, что отделаюсь я дёшево; не веря утешительному блуду, ничуть и ничего не жду хорошего, зато разочарован я не буду.* * *
Чего грустить, пока дышу и кровь податлива бурлению? А дрянь, которую ношу, — полезна позднему взрослению.* * *
Важно для науки лишь начать, и — всё пойдёт с надёжностью будильника: нынче даже семя для зачатия попросту берут из холодильника.* * *
Отрадны мне покой и одинокость, больничный не томит меня уют, печальна только грубая жестокость пословицы – «лежачие не пьют».* * *
Капли у меня сомнений нет, этого и жду я суеверно: сызнова увидя белый свет, я ему обрадуюсь безмерно.* * *
В больничной сумрачной палате решил я так: мой дух ничтожен, и к райской Божьей благодати ещё никак не расположен.* * *
Перспективы душу нежат, ем лекарства, как халву, если завтра не зарежут — послезавтра оживу.* * *
Мне предстоит на склоне лет с ножом интимное свидание, забавно мне, что страха нет, хоть очень давит ожидание.* * *
В еде – кромешный перерыв, я пью слабительную гадость, чтобы хирург, меня раскрыв, мог испытать живую радость.* * *
Не видел я – экая жалость, лежал на спектакле чужом: впервые в меня погружалась рука человека с ножом.* * *
Слегка дышу, глаза смежив, тяну цепочку первых фраз: на этот раз остался жив, посмотрим следующий раз.* * *
Придя в себя после наркоза, я тихо теплил чувство честное, что мне милее жизни проза, чем песнопение небесное.* * *
Тюрьмы, где провёл я много дней, помнятся мне ярко и пронзительно — светлые места судьбы моей выглядели крайне омерзительно.* * *
Я мыт, постригся, гладко выбрит — готов, как юный пионер; из жизни я на время выбит, но я и так пенсионер.* * *
Уже в петле зловещего витка, навязанного мне фортуной хваткой, — о чём томлюсь? О прелести глотка спиртного, раздобытого украдкой.* * *
Судьба права, но не вполне: я тих от завтрака до ужина, перчатка, брошенная мне, была не шибко мной заслужена.* * *
Течёт неспешная беседа без ни единого секрета — я разбудил в себе соседа, горит ночная сигарета.* * *
В нашей маленькой, но солнечной стране каждый житель так умён и так толков, что не может оставаться в стороне от дискуссий оголтелых мудаков.* * *
Мы в театре жизни в полном праве на любой актёрский реквизит, но к чужой приклеиваться славе может лишь заядлый паразит.* * *
Ночные всюдные огни творят нам ночь такой воскресной, что освещают даже дни с их безнадёжной мглой окрестной.* * *
Тиха вечерняя больница, я завтра буду глух и нем, а нынче ночью мне приснится, что я под пиво раков ем.* * *
Сейчас бы капельку хлебнуть — и стихнет мелкий бес, налил бы рюмку кто-нибудь, но в мире нет чудес.* * *
В немом покорстве жду рассвета, по жизни мыслями мечусь, в пространстве крутится планета, а на кровати – я верчусь.* * *
Целительна больничная кровать, и в тянущейся смутности ночей на ней заметно легче уповать на опыт и умение врачей.* * *
Я очень рад вести дневник, внося любой пустяк невзрачный, а рядом бедный мой двойник лежит – разрезанный и мрачный.* * *
Портновской блажью все грешили, кто рядом жил и кто живёт: в России дело мне пришили, тут – перешили весь живот.* * *
Теперь к удачам ветер дует, уже пора вести им счёт: и рак во мне не зазимует, и виски снова потечёт.* * *
Довольно издевательски судьбой на время я премирован отныне: я всюду свой сортир ношу с собой, красиво это только на латыни.* * *
Кончается последняя страница, пора идти за лаврами и нам, так курица, снеся яйцо, гордится и смотрит свысока по сторонам.* * *
Всё стало проще и скудней: ничком валяюсь на тахте, царит покой в душе моей, пока нет болей в животе.* * *
Пусты фантомы ожиданий, они безжалостно подводят, а я мечтал: следы страданий моё лицо облагородят.* * *
Прогнозы мрачны и зловещи, а страх – у всех из-за всего; безумный мир бессильно плещет о стены дома моего.* * *
Наш дух – погрешность достоверности, ибо лишён материальности гибрид летучей эфемерности и ощутительной реальности.* * *
Судьба являет мудрую сноровку, с годами украшая голый срам: в тюрьме я наколол татуировку, теперь имею мужественный шрам.* * *
Туники, тоги, кимоно — футляром выглядят наряды, в которых всё своё кино таскают юные наяды.* * *
Годы утекли, как облака, возраст мой угрюм и осторожен, старость – вроде знамени полка: тяжко воздымать, но честь дороже.* * *
Хожу я плохо: ноги ватные, и нет упругости у чресел, и ощущенья неприятные где врач кишки мои подвесил.* * *
Все мышечные силы будто скисли, диван меня зовёт, как дом – солдата, и хочется прилечь уже от мысли, что надо на минуту встать куда-то.* * *
Ручки-ножки похудели, всё обвисло в талии, и болтаются на теле микрогениталии.* * *
Хотя ещё не стал я пнём застылым, но силами – уже из неимущих: на лестнице немедля жмусь к перилам и нервничаю, глядя на бегущих.* * *
Ужасно это жалко и обидно, что разум, интеллект и юмор мой — гнездились, как отныне очевидно, в отрезанной кишке моей прямой.* * *
С утра сегодня думал целый день о пагубе иных земных растений: живя, еврей отбрасывает тень, а людям мало солнца из-за тени.* * *
Ещё я доживу до лучшей доли, откину медицинскую клюку, пока же я из этой подлой боли печалистую рифму извлеку.* * *
Ходил и свежим воздухом дышал, и радовался листьев колыханию, и дым от сигареты не мешал, а всячески способствовал дыханию.* * *
Пора поставить Богу три свечи: я крепкий новый сборник залудил, болезнь мою затрахали врачи, а я себя немного победил.* * *
В итоге уцелеет белый свет, хотя случится бойня миллионная; забавно, как чума меняет цвет: коричневая, красная, зелёная.* * *
Мой разум полон боли и печали: не мысли в нём, а клочья их и пена, его врачи надолго выключали, бедняга оживёт лишь постепенно.* * *
Понурый и морщинистый, и глазик лопоушистый, я раньше был мущинистый, а сделался – старушистый.* * *
Грустно думать под вечер мужчине о своей догоревшей лучине.* * *
Дедушка всем добродушно поддакивал, всяко слыхав на веку, тихо и тайно дедуля покакивал дырочкой в правом боку.* * *
В том Божья прихоть виновата, хотя заслуга есть и личная, что если в ком ума палата, она всегда слегка больничная.* * *
Я гуляю, сплю и ем, ни про что не думаю, кем я был и стал я кем, прячу боль угрюмую.* * *
Ушли стремления, желания, в душе затихло всё, что пело, поплыло время доживания, но жить – ничуть не надоело.* * *
Я вчера про скудость интересов думал опечаленно и праздно: веря в эльфов, ангелов и бесов, жил бы я насыщенней гораздо.* * *
От рыхлости в период увядания из разума сочатся назидания.* * *
На пире жизни гость давнишний, без куража на нём гуляю, и не скажу, что я здесь лишний, но пир уже не оживляю.* * *
В окно уставя взгляд незрячий и сигарету отложив, я думал: жизненной удачей — кому обязан я, что жив?* * *
Хотя года наш разум сузили, сохранна часть клавиатуры, а также целы все иллюзии, и слёзы льют, седые дуры.* * *
Сегодня всё расплывчато и мутно, чужой и неприглядный вид в окне, и мерзко от того, как неуютно фарфоровым зубам торчать во мне.* * *
Блажен, кто может с полдороги, по делу хлебному спеша, оборотить, присвистнув, ноги и закурить, помедлив шаг.* * *
Я довольно замкнутый мужчина, мысли не дарю я никому, есть на то печальная причина: мне их не хватает самому.* * *
Свобода – тягостное бремя, туманит ум её игра, и долго-долго длится время тоски по ясному вчера.* * *
Кого ни спроси – никогда и нигде, и книги порукой тому — помочь в настоящей душевной беде не может никто никому.* * *
Мной пренебрёг отменный ген, живу я к музыке спиной, а Шуман, Шуберт и Шопен меня обходят стороной.* * *
Разумному рассудку невдомёк, зачем такое тёмное упорство, с которым я лелею стихотворство и теплю этот хилый огонёк.* * *
Не то что жду я неприятностей, но больно много – жди не жди — непредсказуемых превратностей уже зарыто впереди.* * *
Я бываю счастлив, когда сплю, мне целебно сонное отсутствие, а из ощущений я люблю радости нечаянной предчувствие.* * *
Похоже, Божьему суду мне близко время отчитаться, ещё плетусь я и бреду, а скоро буду телепаться.* * *
Благодаря пудам питания и бурным генам нашей нации ко мне вернулись очертания моей былой конфигурации.* * *
И муза, дыша чем-то кислым, вернулась, шалава гулящая, слова зацепляются смыслом, и строчка ползёт настоящая.* * *
Мысли вьются серой тучей — мухи настроения, но сквозит и в них летучий дух благодарения.* * *
Услыша всхлипы и стенания, я часто думаю сурово, что стоны эти – от незнания того, как может быть херово.* * *
Хоть и есть над каждым крыша, все они весьма непрочные, и Творец смеётся, слыша наши планы долгосрочные.* * *
А кто угрюмый и печальный, ходячей выглядит могилой — он жизни смысл изначальный не уловил душой унылой.* * *
Нет ни единой нынче мысли, поем – и вновь на боковую, и потому в каком-то смысле сегодня я не существую.* * *
И что бы с нами дальше ни стряслось, и как бы ни сгущались облака, уверен я, что русское «авось» поможет нам и впредь наверняка.* * *
Такое выпадает наслаждение, когда приснится светлая весна, что злишься на тупое пробуждение, лишающее сладостного сна.* * *
Каждый выбирает сам себе светлые житейские иллюзии, а от них пунктиром по судьбе тянутся душевные контузии.* * *
Я струюсь по жизни еле-еле — как дыханье зайца по траве, — нету совершенно силы в теле и блаженно пусто в голове.* * *
Ко всем я проявляю уважение, но я не безразличный старикан, и теплится во мне расположение к умеющим держать в руке стакан.* * *
Мне к лицу благополучие и покоя покрывало, раньше мысли часто мучили, но прошло, как не бывало.* * *
Я стакан тащу к устам по причинам очень веским: я ведь буду скоро там, где и нечего, и не с кем.* * *
Заметил я очень давно, качаясь по жизненным волнам: жена – это счастье, оно с годами становится полным.* * *
Резался я в карты до утра, в шахматы играл с отвагой русской, лучшая настольная игра — это всё же выпивка с закуской.* * *
Всюду афоризмы в толстой книжке, разума печальное кипение, мудрости такие там излишки, что немедля впал я в отупение.* * *
В восьмой десяток погружаюсь и видно делается мне, что мой мирок, весьма сужаясь, душе достаточен вполне.* * *
Думать и метаться неохота, и не будет пользы всё равно; мы ещё надеемся на что-то, а Творец отчаялся давно.* * *
Подделки, суррогаты и эрзацы — отменным стали рыночным товаром, остались одиночные мерзавцы — шедевры создают они задаром.* * *
Мне с девками уже не интересно, от секса плоть моя освободилась; ища себе незанятое место, в паху теперь духовность угнездилась.* * *
Зло запредельное – оставим на Божий суд, а нам оно — не по уму, и плотный ставень захлопнул узкое окно.* * *
Когда я с толку сбит, растерян, мечусь, томясь и изнывая, я всё равно всегда уверен, что снова вывезет кривая.* * *
Пакостна житейская клоака — беды, унижения, лишения, но она же дарит нам, однако, всяческого рода утешения.* * *
Я хоть и знаю вкус удачи, однако всё же неспроста ни разу не был на раздаче венков лаврового листа.* * *
Когда обжигается ветром лицо, и хрусток от холода снег, и хочется птице обратно в яйцо — не может не пить человек.* * *
Не зря судьба меня вертела, и так и сяк играя мной: гораздо крепче стало тело, и нелюдь чувствую спиной.* * *
Всё в конце концов пошло отлично, слой печали – тоньше волоска, жизнь моя светла и гармонична; только утром – лютая тоска.* * *
Старуха, если миф не врёт, подняв незримую косу, на полуслове оборвёт ту чушь, которую несу.* * *
Когда был молод я и весел, гулял распутно в райских кущах, я сам с беспечностью развесил все вехи лет моих грядущих.* * *
Я учинял не раз попытки исправить дурости дефект, и было умных книг в избытке, но нулевой от них эффект.* * *
Я сделал так: расправил кудри, побрызгал капли восхищения, рубцы и шрамы чуть запудрил — душа готова для общения.* * *
Я подумал сегодня средь полночи, что тревожимся попусту мы, и не стоит обилие сволочи принимать за нашествие тьмы.* * *
А я давно уже заметил, что мысли медленны мои, куда-откуда дует ветер, быстрее знают холуи.* * *
Увы, но очень, очень многие — вполне скоты, хотя двуногие.* * *
Прав разум, когда ищет и стремится, и праведна душа, когда томится; поскольку у души предназначение — томление, предчувствие, свечение.* * *
Мне сладко жить в самообмане, в надежде света и добра, но в историческом тумане пока не видно ни хера.* * *
Живут и дружат через пропасть (наружно – трещина неровная) моя убогая европость и местечковость полнокровная.* * *
Когда беда рекой течёт, когда мы двух несчастий между, то разум, логика, расчёт себе взамен зовут надежду.* * *
Всё утрясётся худо-бедно, и глупо – плакать предварительно, хотя слезу пускать не вредно, а для души – весьма целительно.* * *
Победа неожиданно видна, отсюда у неждавших – нервный тик, победа начинается со дна, которого поверженный достиг.* * *
Живу – как на отменном карнавале, меж тем как на планете, где так дивно, нет места, где бы нас не убивали — семейно, в одиночку, коллективно.* * *
Ничуть не осуждаю мельтешение, оно и не смешно, и не плачевно, кишение приносит утешение тоски, что бытиё твое никчемно.* * *
Судьба течёт моя, а не чужая, Творцу навряд ли стыдно за творение, и счастлив я, легко перемежая писание херни и говорение.* * *
И мудро – учинять посильный пир, хотя не время, ветрено и шумно, а глупо – полагать, что Божий мир задуман был гуманно и разумно.* * *
Теперь пускай уже другие трудом живут богоугодным, и пусть их мускулы тугие лоснятся потом благородньм.* * *
Я часто вспоминаю про тюрьму — про мерзости, про страхи, унижения, я очень ей обязан потому, что понял цену самоуважения.* * *
Каждый день мою жизнь урезает, водку новые пьют поколения, но строка на строку наползает, и слабеют печали дряхления.* * *
Пылая истово и страстно (всё изнутри то жжёт, то душит), не беспокой Творца напрасно — пожаров личных Он не тушит.* * *
Пошли теперь совсем иные песни, и устный трёп мой дух не бередит, а книга мне гораздо интересней, чем самый просвещённый эрудит.* * *
Когда я в мышцах был неслаб и наслаждался бездуховностью, мы приамуривали баб своей немедленной готовностью.* * *
То, что мы теряем без возврата, — всё пустяк и мелочь, милый друг, подлинная личная утрата — это помираешь если вдруг.* * *
Я водку пью, и виски, и вино — в количествах, каких душа запросит; мне выздороветь если суждено, то выпивка судьбу не перекосит.* * *
На улице встретил рекламу свою; забыв поручения спешность, застыл, как безумный, и молча стою: какая достойная внешность!* * *
Не знаешь назначения, названия какой-то вещи, утвари, предмета, но есть, однако, чувство узнавания, как будто в прошлой жизни видел это.* * *
Целители, гадальщицы и знахари, которые с невидимым на «ты», — отменные, признаться надо, пахари на ниве нашей дикой темноты.* * *
Живу, как выжатый лимон, в отдохновении глубоком; отбыв лечебный угомон, опять нальюсь горячим соком.* * *
Усердно ища соответствия, не видит мыслителей каста, как ловко причины и следствия местами меняются часто.* * *
С тех пор, как этот мир содеян, мы ищем путь по бездорожьям, но верим дьявольским идеям гораздо более, чем Божьим.* * *
Болезней нынче выдумано столько — и каждой срок сокрытости дарован, — что век живёшь, не ведая, насколько ты дремлющей взрывчаткой фарширован.* * *
Пишу я то стихи, то мемуары, и с ними же – со сцены выступатель, а к вывеске «Культурные товары» охотно притекает покупатель.* * *
Впитывая жадно, словно губка, всё на свете – что, когда и как, я потом пыхчу, как мясорубка, делая из этого форшмак.* * *
Прохвосты, прохиндеи, проходимцы, заметные по хватке и масштабам, — фортуны вековечные любимцы (нескучность мужиков любезна бабам).* * *
Бывало время взлёта и упадка, бывал еврей иллюзий диких пленником, однако наша главная загадка — в ползучей неприязни к соплеменникам.* * *
Старость – это трудная стезя, много в ней невидимых заборов, и на всё покласть уже нельзя из-за частых старческих запоров.* * *
Таю немногое, а в частности — один существенный момент: в моей публичной безучастности брезгливость – главный компонент.* * *
Люблю полемику по-русски: вразнос, без жалости, крушительно; при должном качестве закуски она влияет освежительно.* * *
В ту полночь рак почуял тоже, что выжить он во мне не сможет; и мне приснились безобразные чудовища ракообразные.* * *
Смотрю на жизнь оптимистически — пусть обвиняют в верхоглядстве, а если глянешь чуть мистически — сакральный свет лежит на блядстве.* * *
Когда б я жил на свете дольше, то и херни наплёл бы больше.* * *
Писать мудрёно – просто неприлично, душе нужна при чтении приятность, мудрёное всегда косноязычно, а мне мила прозрачная понятность.* * *
Радуюсь я, видя жизни буйство, где огонь поганства подзатух, но в чаду холопства и холуйства слабо вызревает вольный дух.* * *
Я получшал в пути тернистом, весь эгоизм во мне примолк, я стал настолько альтруистом, что возвращаю взятый долг.* * *
В культуре всё запутано и сложно: что рушили, чуть позже – невредимо, а многие «нельзя» звучат как «можно» и даже иногда «необходимо».* * *
Моё по долгой жизни обретение — встречал его у старых заключённых, — что выучился жить я, как растение: рад солнышку и мыслей нету чёрных.* * *
Близка вторая операция, и это, в общем, замечательно: в моём устройстве разобраться врачи решили окончательно.* * *
Пишу я не ахти, не чересчур, но так как я от этого торчу, меня прихватит подлый окочур не ранее, чем сам я захочу.* * *
Уже года и не осенние, настала зимняя пора, зато мне снятся сны весенние — в них я гуляю до утра.* * *
Из моих блокнотов и тетрадок — всюду невзначай и между прочим — светится иной миропорядок, нежели Творец накособочил.* * *
Давно на этом свете предпочтение я книгам, не колеблясь, отдаю, поскольку только выпивка и чтение опрыскивают светом жизнь мою.* * *
Были мной не раз уже замечены в наших ощущениях секреты: утром сигарета или вечером — разные по вкусу сигареты.* * *
Только от людей и ждёшь беды, мне страшней торнадо и обвала те из нас, чьи принципы тверды, их вокруг меня, по счастью, мало.* * *
Многие дела теперь подсудны; числя их в разряде пустяков, умные бывают безрассудны чаще осторожных дураков.* * *
Врачи меня подвигнуть норовят, чтоб это я не ел, и это не… Кормясь весьма охотно всем подряд, особенно люблю что вредно мне.* * *
Пение – не голос и не слух (лично я лишён того и этого), пение – волнующийся дух тела, возлиянием согретого.* * *
Склероз, недавний друг мой близкий, велик и грозен, как Аллах, я сам себе пишу записки, напоминая о делах.* * *
Ещё мы не в полной отключке, и нам опасения лестны, чтоб как бы на свадьбе у внучки не трахнуть подругу невесты.* * *
Река и море, лес и горы, и всюду воздух льётся сочно… Люблю природные просторы, но по возможности – заочно.* * *
Пишу я в никуда, ни для чего, что выйдет – я не ведаю заранее, но нечто сотворить из ничего — божественное, в сущности, играние.* * *
Теперь уже где я ни буду, сюда захочу я вернуться, чтоб чувством причастности к чуду опять и опять захлебнуться.* * *
Напрасно – изучать меня извне, хотя копаться попусту приятно, а то, что совершается во мне, и мне по большей части непонятно.* * *
Нет, мы на одиночество не ропщем, уже благополучие важней, но больно колет память: в рабстве общем гораздо жили ярче и дружней.* * *
Мы не склонны сегодня к утопиям, и иллюзии нам ни к чему, но прекрасен и сладостен опиум, и ещё мы вернёмся к нему.* * *
С любой разумной точки зрения, явив сухую рассудительность, — не человек венец творения, а беспощадная растительность.* * *
Увы, но мы стареем, не мудрея, и разве что опасливость глухая, наследственное качество еврея, — растёт, неторопливо разбухая.* * *
Куражимся, бодрясь и не скисая, обильно пузыримся всяким понтом, и тихо приближается косая, умело притворяясь горизонтом.* * *
Чтоб не смущалось разумение патриотическое местное, своё об этом месте мнение я выражаю только лестное.* * *
Много фактов, из коих история лучше знала бы технику зла, поглощает огонь крематория и хоронит архивов зола.* * *
Скисает моё поколение, на домыслы падко дремучие; огонь, обратившийся в тление, мечтает, что вспыхнет при случае.* * *
Пришла весна, тоску снимая, и я воскликнул, жизнь любя: прощай, кишка моя прямая, мне будет грустно без тебя.* * *
Держи, дружок, покрепче кружку вблизи невидимой калитки: ты долго жил на всю катушку, теперь висишь на тонкой нитке.* * *
Как соблазнять, он рано понял, он восхищал и слух, и глаз, и стольких дам окупидонил, что надорвался и угас.* * *
Тут нету рек нектара и елея, темны за горизонтом облака, и жить между евреев тяжелее, чем пылко их любить издалека.* * *
Внезапно как-то стал я стар, сижу, как баржа на мели, а жизни дерзостный нектар сосут подросшие шмели.* * *
С историей еврейства наши встречи в позорное меня повергли бегство: тугой водоворот противоречий кошмарно замутил моё наследство.* * *
Усаживаясь утром за еду, глазами прохожусь по книжным полкам: я мысли там успешливо краду, обычно – из невысказанных толком.* * *
Когда бы приключился семинар — откуда в нас рождается философ, то я, припоминая мерзость нар, ответил бы на множество вопросов.* * *
Хочу, чтоб мы слегка спесиво седой кивали головой: когда стареют некрасиво, то стыдно мне за возраст мой.* * *
Да, я весьма самонадеян и глух ко мнению публичному, к любым вещам, к любым идеям я отношусь по вкусу личному.* * *
Большое в жизни упущение — своё весь век любить болото и не изведать ощущение паденья в пропасть и полёта.* * *
А ночью правит миром тишина: глядит на лица спящих опечаленно, и бродит, очертаний лишена, и цыкает, шумнёшь когда нечаянно.* * *
В этом кратком колыхании на пути к мирам иным наша сила – в потакании нашим слабостям земным.* * *
Нас очень чудно воспитали — семья, учёба, участковый — у нас нервишки твёрже стали и светлый разум подростковый.* * *
Все приметы знают суеверы, вижу в их наиве правоту, ибо нескончаемы примеры пользы суеверия в быту.* * *
С иллюзиями бережен доныне я, любовно их лелея и храня, иллюзии целебны от уныния, а скепсиса боятся как огня.* * *
Душе, когда с возрастом тело убого, теплей от забот бытовых, а мёртвых приятелей больше намного, чем полу– и четверть живых.* * *
Поэзии святая простота способна обнаружить ненароком глухие сокровенные места в душевном заповеднике глубоком.* * *
Гуляют смыслы прихотливо, легко названия кроя: всегда был рак наперсник пива, а нынче это хворь моя.* * *
Сирые, никчемные, убогие, с меткой безнадёжности тупой — самые опасные двуногие, если собираются толпой.* * *
Держав армейские учения должны убойность имитировать, но приступ умопомрачения — зачем ещё и репетировать?* * *
Ещё я мыслю иногда, ища плоды в заглохшей грядке, внизу давно у нас беда, а сверху всё пока в порядке.* * *
И радостно порою мне за голос тихий мой, за клочья пены на волне упрямости живой.* * *
Навряд какой-нибудь философ посмел додумать до конца, что жизнь земная – просто способ самопознания Творца.* * *
Возможно, мой душевный пыл напрасен, но в собственном подворье сам я барин, а с теми, кто со мною не согласен, я тоже безусловно солидарен.* * *
На склоне лет ужасно тянет к душеспасительным мыслишкам — надеюсь я, что Бог не станет ко мне приёбываться слишком.* * *
Знания нам жизненно важны, их растить полезно и беречь, знания затем ещё нужны, чтобы ими круто пренебречь.* * *
Судьба, фортуна, рок и фатум со мною бережны, как няни, когда укрывшийся халатом, я почиваю на диване.* * *
Много у искусства достижений, ибо может всякое вместить; после многих самовыражений очень воду хочется спустить.* * *
Чем печень разрушать, кипя и злобствуя на мерзости вселенских прегрешений, разумней выпить рюмку, философствуя о благости житейских искушений.* * *
Поварясь в человеческой гуще, я до грустной идеи добрёл: нынче каждый на свете живущий — сам себе Прометей и орёл.* * *
Заспорив, я слегка высокомерен, себя не успевая остеречь, поскольку очень часто не уверен, что ведаю, о чём по сути речь.* * *
Дух мой часто пьян от ерунды, можно охмурить меня задёшево, выкормыш баланды и бурды, жадно я клюю любое крошево.* * *
Задворки, тупики и закоулки, которых трезвый разум сторонится, хранят порою пыльные шкатулки, в которых чёрт-те что легко хранится.* * *
Легко сказать могу теперь, Мафусаила одногодок, что чем обильней счёт потерь, тем выше качество находок.* * *
Вздор, галиматья, поливы чуши, брызги непотребной шутки шалой — глубже освежают наши души, чем потоки мудрости увялой.* * *
Проснулся, выпил чаю и прилёг, мне двигаться и лень, и не с руки, колышусь я, как тонкий стебелёк, а в комнате бывают сквозняки.* * *
Опрос общественного мнения, весьма стихиям соприродного, всегда родит во мне сомнения в достоинствах ума народного.* * *
Смиряя порывы желания, хотя и болтливы, как дети, секрет своего выживания евреи содержат в секрете.* * *
Творя житейскую гулянку, я знаю, как себя вести: когда фортуна ставит планку, то лучше прыгать, чем ползти.* * *
Проснулся в ночь – о страхах старых был сон – курить хотелось срочно, и вспомнил: ночь, курю на нарах, и тьма, и счастлив так же точно.* * *
Я лист объявлений в газетах люблю и даже порою читаю: «Ищу, продаётся, меняю, куплю», но нету: «Я жду и мечтаю».* * *
Свойственна снам-утешителям польза душе эффективная, грезится ночью мыслителям с истиной близость интимная.* * *
Какие пошли бы феерии в театре житейском земном, когда б хоть во что-то мы верили и в чём-то сходились в одном!* * *
Когда я принимаюсь, выпив, петь — в заоблачной парю я атмосфере, хотя ступил на ухо не медведь, а мамонт или слон по меньшей мере.* * *
Не флора снилась и не фауна, а спора жаркого арена: дебил, опровергая дауна, цитировал олигофрена.* * *
Фортуна гуляла бы голой и всех возбуждала окрест, но холод и запах тяжёлый текут из общественных мест.* * *
Года сожгли мою свечу, цветные выдохлись туманы, теперь я с девками кручу лишь виртуальные романы.* * *
Туманит память жизни длинность, былое скрыв за пеленой… Когда утратил я невинность? И это было ли со мной?* * *
Нет, я насмешлив не был сроду — унылый нравственный балда, я смех нашёл, ища свободу, и я обрёл её тогда.* * *
Дома, деревья и луна. Коты помоечной породы. Пейзаж я вижу из окна, и мне достаточно природы.* * *
Уже живу, по сути, в келье, порой заходят выпить люди, моё лукавое безделье спустя полгода книгой будет.* * *
Пускай старик нескладно врёт, я не скажу ему ни слова, уже никто не отберёт у нас роскошного былого.* * *
Я запретил себе спешить, я не бегу трусцой противной, хочу я медленно прожить остаток жизни этой дивной.* * *
Любой из нас настолько падок до жаром пышущей дискуссии, что забывает про осадок в её несвежем послевкусии.* * *
В одежде женской я профан и понимать начну едва ли, а юбка или сарафан — едино мне, быстрей бы сняли.* * *
Когда к нам денежки с небес летят, ложась у изголовья, то шлёт их нам, конечно, бес — дай Бог и впредь ему здоровья.* * *
Я зелен был, как лист капустный, и весел был, как солнца луч, потом я стал большой и грустный и потерял к веселью ключ.* * *
Висит полуночная тьма. Чиста моя тетрадь. Я так люблю игру ума! Но некому играть.* * *
Я сам себе колю сейчас уколы прописанной врачами новой мерзости; уколов я боюсь ещё со школы и радуюсь моей отважной дерзости.* * *
Всё то, что вянет, киснет, чахнет внутри, где плесень, мох и тина, — в конце концов неважно пахнет, и это очень ощутимо.* * *
На что я жизнь мою истратил? Уже на тихом берегу, в пижаме, тапках и халате, понять я это не могу.* * *
В любой подкравшейся болезни есть чувство (словно в день ареста) прикосновения к той бездне, которая всегда отверста.* * *
Большие жизненные льготы умелой старостью добыты: мои вчерашние заботы сегодня мной уже забыты.* * *
В года, когда вокруг везде ограды, решётки и колючка на барьере, серьёзность легкомысленной бравады охрана только ценит в полной мере.* * *
Была в моей болезни Божья милость: мне больше о себе теперь известно, и многое во мне переменилось, но к лучшему – навряд ли, если честно.* * *
Наши сплетни, тары-бары, болтовни живые соки, попадая в мемуары, обретают дух высокий.* * *
Боюсь я, будет очень тяжко мне жить в кошмаре предстоящем: во мне унылый старикашка свирепо борется с гулящим.* * *
И тихий опасен был голос на фоне молчащего хора, коль чувствовал глиняный колосс, что где-то ослабла опора.* * *
Конечно, сокрыта большая кручина в том факте, что нас ожидает кончина, однако прекрасно и очень гуманно, что точное время темно и туманно.* * *
Забавно мне: распад, разруха, жестокой мерзости приют — куда питательней для духа, чем полный благости уют.* * *
Никак не овладею я ключом к науке поступать наверняка: сполна узнав по жизни что почём, я запросто клюю на червяка.* * *
Я не слишком нуждаюсь в ответе, но не прочь и услышать ответ: если есть справедливость на свете, почему же тогда её нет?* * *
Гуляет по оконному стеклу весенняя растерянная муха и тянется к заветному теплу, как выжившие в нас росточки духа.* * *
Читатель я усердный и пристрастный, я чтению отдал немало лет, поскольку этот дивный труд напрасный — на вход в чужие души наш билет.* * *
Течёт житейское кино, где роли все давно разучены: кипит и пучится гавно, а сливки – мыслями замучены.* * *
Много времени по жизни протекло, а точнее – улетело, словно птица, стольким людям за душевное тепло я обязан, что вовек не расплатиться.* * *
И столь же мне до лампочки возможные хулители, как порванные тапочки в помоечной обители.* * *
Всё, что сбылось и состоялось, а не ушло в песок обманчиво, совсем иным в мечтах казалось и было более заманчиво.* * *
Про то, что нет прямой кишки у пожилой и грустной личности, я напишу ещё стишки весьма высокой элегичности.* * *
Я сам обманываться рад по поводу людей и вижу чистый маскарад в лихой толпе блядей.* * *
Этот малый убог, но не просто, в голове его что-то испорчено, он какой-то идеи апостол, но гнусавит о ней неразборчиво.* * *
Меня уже не бередит мечтаний пылкая надежда и грусть, что я не эрудит, а много знающий невежда.* * *
Расчислив счёт моих грехопадений, учтёт пускай Всеведущий Свидетель, что я в порыве чистых побуждений порою проявлял и добродетель.* * *
Курортный кончился сезон, и дует ветер в очи, а женских юбочек фасон теперь ещё короче.* * *
Живу сегодня крайне дохло: вчера пил водку на траве, и всё во рту к утру засохло, и сумрак в жухлой голове.* * *
Ещё когда я числился в подростках и только намечал по жизни путь, уже я тайно думал о подмостках, с которых я читаю что-нибудь.* * *
Причаливая к чуждым берегам, еврей на них меняется стремительно, умение молиться всем богам еврею животворно и губительно.* * *
Мы сволочи. Зато по воскресеньям — и ценят это бдительные женщины — мы время посвящаем нашим семьям, замазывая будничные трещины.* * *
Покуда мы по прихотям течения плывём к далёким пристаням конечным, меняются и смыслы, и значения у многого, что выглядело вечным.* * *
Что столько я грешу – ничуть не жаль, на днях мне откровение явилось: я свято соблюдаю ту скрижаль, которая, как помнится, разбилась.* * *
Я снова над пустым сижу листом — никак не сочиню благую весть, уж лучше спать по пьяни под кустом или херню какую изобресть.* * *
Сегодня очевидно и понятно, что будущее зыбко и во мгле: некрозом угрожающие пятна ползут, меняя место, по земле.* * *
Порой наш ум, с душою ссорясь (хотя друзья они до гроба), напоминает ей про совесть — и горестно смеются оба.* * *
«Поспал бы ты, – шепнуло мне сознание, — здоровьем надо очень дорожить», — и подлое родное мироздание на время без меня осталось жить.* * *
Как мало надо человеку для воздаянья по труду: лишь куд-кудах и кукареку в бульон и на сковороду.* * *
Гомон, дым и чад застолий я не мог не полюбить, там я слышал тьму историй и не все успел забыть.* * *
Привыкший к мерзости и снегу, я б так и отбыл срок земной — благословляю зов к побегу, который был услышан мной.* * *
Я думаю: сколько могло бы зажечься огней в темноте, когда бы энергия злобы могла послужить доброте.* * *
Мне хорошо, что стал я тощий и спало пухлое брюшко, теперь и в рай попасть мне проще через игольное ушко.* * *
Везде проникнуть дано евреям, везя двойную свою посуду, по всей Европе наш прах развеян, и вновь евреи живут повсюду.* * *
Уже тому немало лет, с поры, что грешный жар лелею, в раю был порван мой билет, о чём ничуть не сожалею.* * *
Такие дни стоят весенние, так солнце греет сквозь одежду, что впору верить в воскресение и теплить хлипкую надежду.* * *
Я полностью в моих сужденьях волен, хотя порой болтаю, что не надо, однако же с поры, что стал я болен, умеренней коптит моя лампада.* * *
Когда крепчает дух изгойства, клубясь по душам и окрест, еврея мучит беспокойство и тяга к перемене мест.* * *
Забавная во мне сидит заноза, фортуной мне подложена свинья: пишу я без надрывного серьёза, и стыдно, что не стал серьёзен я.* * *
Легко свою повадку мы меняем, недаром по планете мы рассеяны и местные заветы исполняем охотней, чем сухие Моисеевы.* * *
Я был дурак и всюду лез, и мне мой труд был мил: дрова таскать любил я в лес и воду в реки лил.* * *
Если спор идёт победы ради, всё тогда легко и просто нам, ибо факты – опытные бляди и дают обеим сторонам.* * *
Меня куда-то вынесло за рамки, и лучше меня знать издалека: любя мои стихи, не выйти в дамки и козырем не стать наверняка.* * *
Изгой большого коллектива, я всё же врос в его игру и говорю весьма правдиво, когда на самом деле вру.* * *
По жизни главный мой трофей — богам служенье скромное: Венера, Бахус и Морфей — спасибо вам огромное!* * *
В гончарню Бога я не вхож и перестал с годами злиться на то, что истина и ложь имеют родственные лица.* * *
Из дел – безусловно доходные еврею милей и желаннее, слагает он песни народные по месту его проживания.* * *
Идеи наши, мысли и суждения, которым нет начала и конца, разнятся только видом заблуждения но поводу способностей Творца.* * *
Не нужно вовсе мне пророков, пока они херню несут, что я – вместилище пороков и низкой мерзости сосуд.* * *
Глухому ночному пространству весной сообщаю я вновь, что близок весьма к христианству надеждой на веру в любовь.* * *
Знание мы пьём из общей чаши, а другой источник нам неведом; мысли, непохожие на наши, кажутся нам дикостью и бредом.* * *
Земной благодати отведав, не тянет в небесный уют: там долгих не будет обедов и выпить навряд ли дают.* * *
Творец весьма по сути нам подобен, и власть его простёрта не везде — так, вовсе Он, похоже, неспособен держать мои наклонности в узде.* * *
От мыслей, что утешны для кастрата, приятно даже мне, слепой тетере: есть в каждом обретении утрата, и есть приобретение в потере.* * *
Памятью не хвастаясь могучей, я учу цитаты с неких пор, мне они нужны на редкий случай, если встряну в умный разговор.* * *
Потёмки влекут к авантюре, о чём я всё время толкую: невежество – мать нашей дури, но мать надо чтить и такую.* * *
Я медленно влачу судьбу свою, а время – быстрокрыло, как кино; от века я заметно отстаю, хотя опередил его давно.* * *
Мы все живём, надежды множа, готовясь к будущим победам, надежда дьявольски похожа на сытость завтрашним обедом.* * *
Горячей страсти извержение, привычной тверди колебание, святых основ ниспровержение — волнуют наше прозябание.* * *
Сегодня я подумал снова: от Бога жду я всепрощения, а если Он не враг спиртного, то я созрел бы для общения.* * *
Есть аккуратно и культурно меня учила мать когда-то, но после жил я так сумбурно, что ем порою зверовато.* * *
Когда мы в жажде испытания и чтобы мир постичь превратный, пускались в шалые скитания, то был у нас билет обратный.* * *
Где же тот подвижный горлопан? Тих и семенит едва-едва. Стал я грациозен, как тюльпан, и висит на стебле голова.* * *
Дневная – не слабей вечерней грусть, она под сердцем ноет безотлучно, а я рукой машу: пришла и пусть, сама уйдёт, со мной мерзавке скучно.* * *
Казалось мне всегда, что я вполне — откуда и куда ни посмотри — достаточно хорош собой извне, хирург меня улучшил и внутри.* * *
Вижу я коллег лишь невзначай, а живи меж ними, я б зачах: экзистенциальная печаль спит у них на лицах и в речах.* * *
Плывущие по небу облака не знают о людской безмерной низости; я многое люблю издалека, что очень помогает нашей близости.* * *
По сути, существует очень хрупко любой, кто беззаботно свиристит, покоя ненадёжная скорлупка всё время подозрительно хрустит.* * *
Я вспоминаю институт как несомненную удачу: я потерял невинность тут и все иллюзии в придачу.* * *
Заметным личным качеством отмечена, беспечна и проста моя натура, меня Творец ваял от делать нечего, и вылепилась редкая халтура.* * *
Мой дух не из породы монолитов и робок на высокое парение, а белые халаты айболитов рождают в нём покорство и смирение.* * *
Спасибо жизни: строчки ткутся, с утра прозрачна голова, и под пером упруго вьются неуловимые слова.* * *
Читатель мой, хотя и кроткий, зато ни в чём не хватит лишку: прочтёт страницу, выпьет водки и, закурив, отложит книжку.* * *
Моя животная дремучесть мне очень в жизни помогла одолевать любую участь и застывать, покуда мгла.* * *
Без устали твержу: ничуть не сбрендил я, грядёт пора не менее лихая, в руинах мирового милосердия — остаточная музыка глухая.* * *
По-моему, любовное влечение — отменное для духа приключение.* * *
Забавно, что душа когда понура и всякие гнетут её превратности, способна даже редкостная дура в неё посеять искорки приятности.* * *
Пленительность случайных впечатлений, возможно, происходит оттого, что мы в палитру внешних наслоений привносим цвет настроя своего.* * *
Уже мне чужды гомон и галдёж, и поздно влечь подружку в березняк; как говорит сегодня молодёжь — настал поздняк.* * *
Когда душа уже взлетела и нарастает отдаление, то про оставленное тело в ней испаряется волнение.* * *
Что говорить, в былые дни я был гораздо меньший трус и написал полно хуйни, погибшей, как Ян Гус.* * *
Здоровье нынче сильно подкачало, уже хожу к районному врачу, но если бы крутить кино с начала мне кто-то предложил, то не хочу.* * *
Знает к нашим душам пароли танцев наших ловкая шарманщица, все мы сочинялы и врали, но надежда – крупная обманщица.* * *
Когда шептала воля мне: «Увидимся авось», то мне, как некогда в тюрьме, в больнице не спалось.* * *
Приходит возраст замечательный, нас постепенно усыпляющий: мужчина я ещё старательный, но очень мало впечатляющий.* * *
Уверен я пока не шибко, но у меня окрепло мнение, что наша крупная ошибка — себя обуздывать умение.* * *
Не геркулес и не атлант, артист бы спал давно, но люди липнут на талант, как мухи – на гавно.* * *
Я решил конец пути жить сугубо взаперти, потому что из окна жизнь яснее мне видна.* * *
Я чтением себя всегда глушил, на выдуманных судьбах замыканием, наркотик для мятущейся души, оно к тому же славно привыканием.* * *
Смерти ощущая приближение, чувствуя, что клонишься медлительно, веровать в души преображение — очень и разумно, и целительно.* * *
И я соловьиные трели на лунном певал берегу, играл я на дивной свирели, останки её – берегу.* * *
В эпоху дикую, трагичную, в года повального разбоя приятно встретить смерть обычную — от долгих лет и перепоя.* * *
Стоны, слёзы, кровавая смута и презрение к людям земным — так же точно душевны кому-то, как покой тишины – остальным.* * *
У жизни есть ещё одна отрада: испив земного времени сосуд, идти в последний путь уже не надо — оденут и прекрасно отнесут.* * *
Многие, с кем жизни мы связали, канули уже в немую Лету; с неких пор живёшь, как на вокзале, только расписания в нём нету.* * *
Грешил я так во цвете лет, гулял я так тогда, что, даже если ада нет, я попаду туда.* * *
Но столь неправедно потом я ввергнут был в узилище, что, Страшным выслушан судом, останусь я в чистилище.* * *
Готовлюсь я спокойно умереть: уже меня потомок не забудет, и книгам нет угрозы устареть, поскольку их никто читать не будет.* * *
А там, наверно, дивное собрание теней, уже постигших все секреты, и с тенью друга, сгинувшего ранее, затянемся мы тенью сигареты.* * *
Душе моей желаю отпущения грехов былого тела злополучного, и дай Господь ей после очищения опять попасть в кого-нибудь нескучного.* * *
Стоять погода будет жаркая — в такую даже не напиться, когда, ногами вяло шаркая, друзья придут со мной проститься. И будет зной струиться жёлтый, немного пахнущий бензином, и будут течь людские толпы по лавкам и по магазинам.Седьмой дневник
Друзьям, которые давно уже меня не читают
Глава начальная
Два с лишним года я не брался за дневник. А собирался много раз, но вспоминал, как Пушкин заявил категорически, что проза требует мыслей, и бессильно опускались мои руки. Но теперь я вдруг решился и отважился. «В нашем преклонном возрасте надо писать что-нибудь мудрое», – наставительно сказал мне сегодня утром внутренний голос. Но другой, не менее внутренний, резонно возразил: «На склоне лет выёбываться крайне глупо». Я согласился со вторым, хотя подумал мельком, что и первому при случае потрафлю.
Я начинаю эту книгу через два дня после большой семейной пьянки. Мы каждый год, созвав друзей, отмечаем тринадцатое августа, которое на этот раз было юбилейным: тридцать лет как посадили, двадцать пять – как выпустили. И двадцать лет на сцене, торжественно добавил я, скостив год ради полноты юбилея. Как тут коллективно не напиться! И конечно же, предаться воспоминаниям. А я подумал, что тогда, в ошеломительную первую ночь в тюрьме, я вряд ли мог вообразить, что тридцать лет спустя буду сидеть в Иерусалиме и похмельно привирать про жизнь в узилище. И что начну новую книгу с некой роскошной фразы, которую придумал для запева. Вот она, простая и немыслимая для того далёкого уже тёмного времени.
Во все предыдущие приезды Париж был солнечным и тёплым.
А на этот раз шёл дождь и не стихал холодный ветер. Из-за этого на кладбище Монпарнас, куда давным-давно я собирался, пробыли мы очень недолго. Впрочем, интерес мой был вполне определённый: мне давно очень хотелось покурить возле могилы Гейне. И мечта сполна осуществилась. Омрачившись, как и всякая мечта от исполнения, убожеством памятника: аккуратный мраморный бюст усердного приличного чиновника. Если бы Генрих Гейне был бухгалтером в банке своего дяди, именно такой памятник он бы и заслужил.
Мы с женой Татой жили у нашей приятельницы на высоком этаже, где из кухонного окна было видно много мокрых черепичных крыш, а главное – почти что вся Эйфелева башня. Вечером она снизу доверху освещалась множеством огней, которые попеременно гасли и загорались. Это было похоже на гигантскую новогоднюю ёлку, заболевшую пляской святого Витта – башня как будто дёргалась в немых судорогах света. Пить кальвадос и видеть эту пляску сквозь потоки с неба было полным и самодостаточным счастьем. Днём можно было смотреть на крыши и читать путеводитель по Парижу – под кальвадос это дивное занятие. Мы, собственно, приехали на выступление, которое давно тут было у меня назначено, но идиотский предрассудок, что турист должен метаться по городу, не давал нам полного покоя. Мы сходили в знаменитое кафе «Чёрный кот», битком набитое такими же заезжими фраерами, сидевшими тут в надежде, что на третьей кружке пива явится им тень Тулуз-Лотрека и других великих завсегдатаев этой некогда дешёвой забегаловки (а ныне цены дикие, поскольку выставлено несколько рисунков посетителей того прославленного времени – их плата за выпитый кофе, очевидно, или за рюмку коньяка). И больше не было у нас, насколько помню, встреч с прекрасным. Если не считать за таковую длительный обед со вполне симпатичным беглым российским миллионером. Он тут скрывается от каких-то злобных подельников, но спокойно ходит в рестораны. Кстати, мы заказали виски довольно хорошей марки, и принесли нам пузатые бокалы какого-то невыразительного пойла: судя по вкусу, слитых вместе остатков из разных бутылок. Я промолчал, поскольку деликатен и тактичен, а миллионер, похоже, просто не заметил. «Всюду надувают бедных россиян», – подумал я меланхолично.
Один приятель мой попался на крючок (они раскиданы повсюду для туристов) донельзя простой и примитивный: обед в кромешной темноте. В фойе этого ресторана к ним вышла невысокая старуха, знаками велела им положить руки на плечо друг друга (они явились вчетвером) и такой цепочкой повела их в зал, легко ориентируясь в действительно полной темноте. Меню там не было, всё предлагалось устно и вполголоса. От супа они отказались, боясь облить одежду, принесли им по кусочку рыбы с неопределимым по вкусу гарниром и ломоть кекса с жидким кофе. Звучала тихая музыка, но главное – сливался воедино гомон многих негромких голосов, то есть ресторан был полон клюнувших на эту чушь туристов, а убогая еда стоила очень дорого.
И на кладбище Пер-Лашез мы тоже побывали. Там надо бы дня два бродить как минимум, но дождь хлестал, и ветер дул свирепо, и кальвадос удивительной выделки (приятель наш за ним мотается куда-то аж в Нормандию) никак не помогал. Ища укрытия, мы постояли у стены, где рядом – урны с прахом Айседоры Дункан и батьки Махно – о странностях посмертного соседства книги надо бы писать, – и обречённо вышли на открытое пространство. А спутник наш (чей был кальвадос) – знаток этого кладбища, но мы богатством его знаний насладились мало. Очень было грустно и неловко у могилы Саши Гинзбурга: огромный православный крест серого камня, ведро из берёзовых чурок с ёлочной веткой и двумя новогодними игрушками – какое всё это имеет отношение к безумного мужества еврею, основателю российского самиздата, многолетнему неисправимому лагернику? Мы, соблюдая древнюю традицию, положили ему камушки, подобранные тут же, и стоять мне дольше не хотелось, очень уж я помнил истинного Сашу.
Хлебнув из фляжки, мы отошли душой у памятника Оскару Уайльду. Огромный куб, а в вырезе его – большой летящий ангел, а у ангела – хуёк, который посетители кладбища непрерывно отбивают – на память. Администрация даже табличку там повесила: пожалуйста, не надо портить художественный образ. Но туристы эту вежливую просьбу не читают, хуёк отбивают и отламывают, как и прежде, только успевай приделывать несчастный отросток. А на самом кубе – сотни надписей на десятке языков, и, голову даю на отсечение, – любовного характера. Не знают, очевидно, о превратной сексуальной ориентации великого покойника. А двое россиян – уж те не знали точно, ибо трогательно написали: «Оля + Митя». После мы положили наши иудейские камешки на могилу Модильяни, мельком глянули на бронзового Бальзака и оказались у огромной стелы, где я застрял и долго отойти не мог. Здесь покоился Огюст Маке, мой коллега некоторым образом, поскольку был литературным негром и писал романы, оставаясь безымянным и безвестным. Названия написанных им книг были (по его предсмертной просьбе) выбиты на мраморе: «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетёра», «Королева Марго» и несколько других, столь же известных. Да-да, он был литературным негром самого Александра Дюма. Несомненно, что по написанным им текстам великий Дюма проходил рукою мастера, но в исторических источниках копался, безусловно, негр. А что касается сюжетов, композиций и героев – дело тёмное, но соучастие Маке было весьма значительно. Дюма постоянно недоплачивал бедняге гонорар, всё время торопил (романы ведь сперва печатались в газете, и Маке не мог остановиться и промедлить), уклончиво отвергал все просьбы о соавторстве, но негр его боготворил и много-много лет терпел, надеялся и сочинял. О, как я помнил это ощущение, когда выходит твоя книга, только ты уже к ней не имеешь никакого отношения! А тут великие произведения творились. Но кто теперь хотя бы слышал об Огюсте Маке?
Дождь припустил с такой кошмарной силой, что мы почти бежали, спасаясь, в забегаловку у входа на Пер-Лашез. Бутерброды с сыром и ветчиной подавались там в горячем виде, а кальвадос с пивом очень сочетались. Мы сюда ещё не раз приедем, утешал я самого себя, поскольку Тата кладбища не любит и просто совершала подвиг соучастия, как и положено жене.
Я начал с этой мало выдающейся поездки ради нагло свойской фразы о Париже, ибо тридцать лет назад она бы меня очень рассмешила, но гораздо больше что-нибудь приятное (и, разумеется, хвастливое) годилось бы в зачин воспоминаний. Например, в Казани некий судья издал Уголовный кодекс Российской Федерации с комментариями из моих стишков. Этот судья (Ризван Рахимович Юсупов его зовут, я с ним и водку пил, но как-то слабо благодарность выразил) подобрал прекрасных авторов: открывался Кодекс стихотворением Высоцкого, и я оказался в соседстве с Пушкиным, Тургеневым, Грибоедовым, Хайямом, Иртеньевым, однако же моих стишков там было сотни полторы, и я на полку своих книг поставил этот Уголовный кодекс. Вот если бы его по камерам раздать в бесчисленных российских тюрьмах – многим бы он скрасил заключение, мечтательно подумал я. Роскошный переплёт под кожу (или кожа?) и отличная бумага – истинное произведение постмодернизма создал этот казанский судья, дай Бог ему несокрушимого здоровья и пожизненной удачи. Где он столько денег взял на это уникальное издание? Возможно, скинулись друзья? Откуда бы они ни взялись, он потратил их с великим толком.
И на меня недавно денежки свалились. Не такие уж большие, но весьма приятного и даже поучительного происхождения. Мы с моим другом Сашей Окунем десять лет проработали на радио. Платили нам позорные копейки, но уж больно было интересно. В Израиль ведь приехало огромное количество людей, которым было что рассказать о своей прошлой жизни, да и у нас бурлили всякие идеи и истории, так что передача получалась. Называлась она «Восемь с половиной», и не столько в честь Феллини, как по времени, когда ее запускали. Слушали нас и в России, и на Украине, и в Германии с Италией, даже в Финляндии – мы это знали и по письмам, и по звонкам, ибо довольно часто работали с открытым эфиром. Я до сих пор (немало лет прошло) на выступлениях записки получаю с вопросом, куда делась наша передача. Кстати, мы столько там насочиняли, что довольно многое потом использовали с Сашей в наших книгах. И фанаты-слушатели у нас были, в одном городе сколотилась даже компания, где очередной дежурный всю передачу записывал, чтобы потом послушали те, кто был занят в ту пятницу, что шла программа. Это всё я так перечисляю не из хвастовства, увы, мне присущего, а по делу, ибо для дальнейшего вся эта похвальба будет весьма полезна. Просьбы, чтобы нам платили так же, как другим сотрудникам радио, начальству мы исправно излагали и исправно получали обещания, что уже вот-вот и непременно. А плюнуть и уйти никак решиться не могли, уж очень это было интересно.
Прогнали нас, уволили без никакого мелкого «спасибо» в одну минуту – в тот же день, как мы по телевидению пробную программу показали. Какой-то нам неведомый, но премудрый начальник некогда и навсегда постановил, что радио (государственное) и телевидение (частное) в Израиле – злейшие конкуренты, и тот, кто работает на радио, к примеру, и нос показать с экрана не имеет права. Мы об этом знали, но всегда надеешься на здравый смысл, а не начертанную кем-то глупость. Так мы оказались на свободе, и на радио с тех пор я – ни ногой, хотя порой очень неудобно отказывать хорошим людям в интервью или каком-нибудь участии в совместной говорильне.
История свалившихся на меня с неба денег только тут и начинается. Умелые и знающие люди прожужжали мне всю голову, что я должен подать в суд и радио заплатит сей же миг за многолетний свой финансовый разбой. Но лень моя и наплевательство (да плюс глубинное и нутряное недоверие к умелым и знающим) держали на коротком поводке мою любовь к деньгам и справедливости. Но тут и Сашку кто-то убедил, и я привычно вслед за ним поплёлся к адвокату (а уже лет семь прошло, но видит Бог, у нас достаточно других занятий было). Тяжба Саши прогорела сразу, потому что он не сохранял квитанций о своей зарплате (а на радио никто бы копий нам не дал, такое это свирепое учреждение). А все мои квитанции жена моя Тата зачем-то складывала в ящик, и весь он был забит подобными бумагами.
Но тут необходимо отступление, поскольку я-то знаю о корнях этой загадочной предусмотрительности у своей любимой жены. Много лет назад, когда в Сибири жили мы на ссылочных правах, надумал я соорудить летнюю кухню и баню (а после, кстати, и сортир – во вкус вошёл). И доски я для этой цели – частью купил, а часть украли мне приятели со стройки. На законно купленные доски дали мне какую-то убогую квитанцию, куда-то я её закинул и забыл. Но не дремали бдительные люди. И как только закончил я своё великое строительство, приехали два милицейских ревизора. Так быстро (ну почти немедленно), что явно за строительством моим, подобно кошке у норы мышиной, наблюдали. Где я, старый уголовник, только что из лагеря, брал стройматериалы? Я что-то жалкое им лепетал, соображая с ужасом, что светит мне наверняка по меньшей мере возвращение на зону. Но уже из дома нашего царственной походкой выходила Тата с той помятой и ничтожной квитанцией. После утверждала она много лет, что сохраняла эту жалкую бумажку, предвидя именно такой поворот событий, просто мне, заведомому раздолбаю, это даже говорить не собиралась. А оба ревизора милицейских так уже настроились на своё пакостное торжество, что от бумаги этой прямо на глазах скукожились и начисто увяли. Кто-то явно им заказывал такое торжество, и вот они его, бедняги, подвели. Они даже не удосужились сравнить количество законно купленной древесины – с тем, что вбухал я в кухню и в баню. Ибо самая идея провалилась. И теперь торжествовала Тата. И уже почти тридцать лет об этом случае мне мельком, но неукоснительно напоминает. Думаю, что с той поры и появилась у неё замашка не выкидывать, казалось бы, ненужные и отслужившие своё бумаги.
Итак, у Саши его тяжба провалилась, только он по-прежнему ходил со мной к адвокату, ибо на иврите я без переводчика не мог, и адвокат, махнувший на меня рукой, с одним лишь Сашей собеседовал. Я неотлучно находился рядом и старался не утратить на лице выражение преданности и готовности.
И накопал этот молодой адвокат удивительные факты. Десять лет из месяца в месяц мне платили одну треть того, что я должен был законно получать. Мне даже страшно стало, что отвалится мне сразу так много, но адвокат меня немедля успокоил. Срок давности почти стирал это возмещение чиновного хамства, надо было вовремя искать справедливость, теперь же – только за два года получу я (вероятно, ибо суд рассудит) зажиленные у меня денежки. «Ленивый легкомысленный мудак», – подумал я (по-русски я подумал, потому и не озвучил эту мысль).
И был назначен суд. И снова я сидел, преданно глядя уже на женщину-судью, но Саша безотлучно находился рядом, и поэтому я спокойно наблюдал яростные прения двух адвокатов – нашего и с радио. Наш явно не тянул. Говорил он коротко, порой запинался, что-то выискивал в папке, а тот, что с радио, был пламенно красноречив, самоуверен и напорист. Ну пусть не получу я этих денег, думал я, не очень-то хотелось, проживём, как жили, только обидно, суд ведь не советский, из райкома партии никто тут не нажмёт на правосудие, и всё ведь так понятно и прозрачно в этом случае.
На самом деле всё не так было прозрачно. И теперь пора мне рассказать, как я в несчётный раз мог убедиться в том, что люди изменяются непредсказуемо в той ситуации, где надо выбирать. Нужны ведь были показания свидетелей. И запросили таковые с радионачальников. А есть один такой, руководящий всем вещанием на разных иностранных языках – естественно, и русском в том числе. Зовут его Шмулик, а фамилию называть не стану, потому что и от имени его меня уже воротит. Всегда приветливо-угодливый, ко мне и Саше относился он с пылким расположением. Нашу передачу называл он в разговорах гордостью, визитной карточкой и фирменной маркой русского вещания, а комплименты прочие не стоит даже приводить. Но тут спросили его письменное мнение, и тяжесть выбора легла на трепетную душу Шмулика: писать по-честному или защищать честь радиомундира, запачканного о многолетнее финансовое хамство. И Шмулик (замечательно уютная должность его обязывала) предпочёл запачкать радиомундир враньём, но отстоять его финансовую честность. Он написал, что мне платили даже слишком много, потому что вообще я не был автором всех этих передач, я просто изредка бывал на студии в качестве гостя, принимавшего посильное и малое участие в программе. Да и передача-то была весьма средняя, написал Шмулик, вдохновясь и разогнавшись, так себе была передача, ничуть не лучше прочих. Он даже не поленился и добыл откуда-то те числа, когда я отсутствовал в стране, отъехав на гастроли, но забыл сообразить, что передачи-то с моим участием исправно в это время шли, мы их готовили заранее. Ну, словом, лень перечислять те мерзости, которые наворотил услужливый чиновник Шмулик, творя своё благоразумное предательство. Интересно только, что как раз в это время он где-то встретил Сашку и любовно сообщил ему, что из суда к нему пришёл запрос, и он прекрасно отозвался в нашу пользу.
Я читал неоднократно, что люди, имеющие совесть, но вынужденные совершить какую-нибудь пакость, жутко мучатся от этого, и мне ужасно жалко бедного начальника Шмулика. Мы с ним как-то свиделись потом на одном литературном сборище, он ряда на три впереди меня сидел. Он покосился на меня несколько раз, а после глянул я – его уже и след простыл. Такой вот мужественный совестливый человек.
На радио, по счастью, работали и другие люди, и двое из них написали всё как было. И на невозмутимую судью фонтаны адвоката с радио никак не повлияли. Словом, получил я эти свои денежки и тут же (вот ведь человеческая алчность) принялся жалеть, что проворонил остальные.
Тут я погладил нежно Уголовный кодекс упомянутый – и словно душу отряхнул, чтоб рассказать теперь о подлинно прекрасном человеке. Его на свете нет с недавних пор, мне и сейчас диковинно о нём писать в прошедшем времени. Он умер, где и жил, в Лос-Анджелесе, помнить его будут немногие, хотя Сай Фрумкин был один из тех, кому мы все (те, кто рассеялся по белу свету, вырвавшись из бывшего Союза) – обязаны своей свободой. И преувеличения тут нет. Но я сперва – о личных качествах ушедшего.
Мне в долгой моей жизни повстречались, слава Богу, люди очень умные и люди, знающие очень много. И люди неумеренного любопытства к миру. И люди светлого доброжелательства к окружающим – далёким и близким. И люди с безукоризненным нравственным чувством. И люди, следующие голосу своего ума и сердца, невзирая ни на какие обстоятельства. И люди с необыкновенной терпимостью к чужому мнению. Но чтобы всё перечисленное совместилось в одном человеке – мне такое встретилось единожды. И поэтому к Саю Фрумкину (хотя мы подружились почти сразу) относился я всегда с лёгкой опаской: меня его цельность и качественность побуждали быть настороже и воздерживаться от крайних суждений, свойственных мне – за рюмкой в особенности. А выпивка была у Сая Фрумкина – разнообразная и изобильная. Но тут не обойтись без нескольких подробностей судьбы.
Он родился в Каунасе – кажется, в тридцатом году. Благополучная интеллигентная семья. Советское вторжение их, по счастью, не задело, но потом пришли немцы. После гетто Сай с отцом оказались в Дахау. Точней – в одном из его филиалов, где тысячи привезенных рабов строили подземный аэродром. Отец не дожил до освобождения, а четырнадцатилетний Сай уцелел. Потом он приходил в себя в Италии, в конце концов оказался в Америке. Закончив университет в Лос-Анджелесе, стал историком. Но занялся текстильным бизнесом, женился на американке, и всё бы в его жизни покатилось, как у миллионов его благополучно процветающих сограждан.
Но в конце шестидесятых он забрёл на лекцию, которая мгновенно изменила его жизнь. Он услышал, что в Советском Союзе живут сотни тысяч евреев, мечтающих эту империю покинуть и не получающие на это разрешение.
С этого дня появился совершенно иной Сай Фрумкин, а единомышленники у него нашлись очень быстро. Пошли пикеты у советского посольства, демонстрации, запросы в Конгресс, бесчисленные листовки и статьи в газетах – к ужасу тихой добронравной жены, Сай отдался этой борьбе со всем пылом своей цельной личности. Над ними смеялись, им угрожали, их не слышали. Но чем эта борьба закончилась, прекрасно знают (только помнить не хотят) все те, кто получил в конце концов возможность выехать.
Нет, я, пожалуй, клевещу. Лет пять назад я выступал в Лос-Анджелесе, и меня с коллегой пригласили после концерта в ресторан. Я сказал, что со мной трое друзей (а двое из них были Сай с женой), и их немедленно позвали тоже. Поднялась устроительница всего этого застолья, я приготовился к обычному для таких случаев тосту за приезжих гастролёров и скромно потупился, но молодая женщина сказала:
– За столом у нас сидит человек, которому мы все бесконечно обязаны тем, что мы здесь, а многие – и тем, что процветают. Спасибо вам, дорогой Сай, и дай вам Бог здоровья!
И все дружно потянулись к Саю с рюмками. Как я был счастлив, это видя!
Обустройством множества приезжих Сай занимался долгие годы с тем же пылом и воодушевлением, как и борьбой за их приезд.
А кроме этого, он четверть века писал каждую неделю маленькую статью в газету «Панорама», и каждая его статья – то первое, что начинал я читать, взяв свежий номер. Ибо почти всегда его текст был самым интересным из того, что находилось в этой большой и содержательной газете. Более того: не склонный собирать какие-либо вырезки, я уже много лет храню собрание этих заметок, штук пять толстенных папок накопил. О чём же он писал? Тут я ответить затрудняюсь. Потому что разных тем – неисчислимое количество, а Сай Фрумкин всю жизнь сохранял детское любопытство к миру. И писал он о событиях то прошлого, то настоящего, но непременно лишь о том, что начисто и наглухо опутывалось ложью в большинстве газет и многих книгах. Тут ведь важен голос, интонация, подход. А это был спокойный, чистый голос того наивного мальчика из сказки Андерсена о новом платье короля. Тот мальчик повзрослел и был незаурядно образован. А наивность – сохранилась, несмотря на трезвый разум и осведомлённость обо всём, что в мире происходит. Такое сочетание оказалось удивительным инструментом видения нашей современной жизни. На статьи Умберто Эко походило это более всего, но много шире по размаху интересов. Не успел издать он книгу этих заметок – может быть, ещё появится она. И негромкий голос разума и чести непременно привлечёт читателей повсюду в мире.
Я пока прощаюсь с тобой, Сай. Есть у меня слепая убеждённость, что в том существовании мы непременно встретим тех, кого любили.
А теперь пора мне снова вспомнить что-нибудь, что радовало меня за эти два-три года, прошедших со времени последней книжки-дневника. Прежде всего – записка, которую мне на сцену кинули в Днепропетровске (или в Донецке? – уж не помню точно, к сожалению):
«Игорь Миронович, можно ли с Вами хотя бы выпить, а то я замужем?»
А в Кисловодске мне пришла записка от солидного юриста, держателя собственного адвокатского кабинета, он на своей визитной карточке прислал мне письменный привет:
«Спасибо Вам за то количество неглупых девушек, которые одарили меня своей благосклонностью, когда я выдавал им Ваши “гарики” за собственное творчество».
«Вот сукин сын», – подумал я с симпатией и завистью.
О другом таком же удачнике известила меня записка незнакомой молодой женщины. Она писала, что с трудом меня узнала, но в жизни не забудет тот полёт из Калининграда в Ганновер, когда больше часа я вполголоса читал ей свои стихи. Если учесть, что я ни разу в жизни не был в Калининграде, то легко понять, что и в Ганновер я никак не мог лететь оттуда. В конце записки содержалось приглашение продлить сей пир поэзии в домашней обстановке – был, очевидно, очень обаятелен тот мелкий проходимец.
Забавно, что записки порождают порой одна другую. В городе Харькове (кажется) я получил такое сообщение:
«Игорь Миронович, вот Вы вначале говорили, что евреев сильно поуменьшилось в России и на Украине, это правда. Я весь антракт проторчал в мужском туалете: евреев очень мало!»
Записка показалась мне потешной, и поэтому я в Питере прочёл её со сцены. Зал тоже одобрил её смехом. После перерыва получил я продолжение:
«А я весь антракт проторчала в женском туалете: евреев нет совсем!»
Нет, никак нельзя мне отвлекаться на записки, потому что их такое уже собрано количество, что книгу надо бы писать. А мне охота рассказать, как я однажды испытал большое наслаждение, сделав заодно глубокие, вполне психологические выводы.
Благодаря мизерности своих претензий к уровню существования я часто извлекаю удовольствие из вовсе немудрящих радостей земного бытия. Не зря я так высокопарно написал – готовлюсь развести на пустяке большую философию.
Несколько лет назад (мы тогда с Сашей Окунем и жёнами нашими ездили по Европе, сопровождая экскурсии и щедро выбалтывая свои нехитрые познания) что-то не сложилось в пассажирском списке очередного самолёта, и Сашку с его женой Верочкой попросили лететь в бизнес-классе. Как-то раньше нам не доводилось окунаться в эту роскошь, стоившую много дороже привычного экономкласса (и слово «эконом» здесь очень к месту). Сашка наслаждался и блаженствовал (от пуза выпивки да плюс шампанское), но перед самым приземлением произнёс загадочную фразу, в которой было нечто большее, чем просто шутка. Верочка, святая добрая душа, сказала о последней шоколадке, которую им принесла стюардесса, что она оставит её для Таты. А Сашка ей в ответ сказал: «Неужели ты собираешься ещё общаться с этими людьми?» Мы посмеялись, когда Верочка нам это рассказала, только что-то было в этой шутке, и она запала в мою память. А спустя лет пять один малознакомый импресарио позвал меня проехаться по нескольким южным городам и, спутав меня, кажется, с Кобзоном или Пугачёвой, прислал мне билет в бизнес-классе. Я и посадки ожидал в отдельном зале для весьма важных персон, и привезли нас к самолёту (шестеро всего нас было) в отдельном микроавтобусе, а прочего летящего населения я даже и не видел. А ведь самолёт – гораздо более демократический транспорт, чем, например, поезд, где пассажиры всё-таки разделены стенками их купе, в салон самолёта вливается единая густая толпа. А тут нас было шестеро, и мы не замечали друг друга. И сразу же явилась выпивка в большом ассортименте. Я перечислять не буду, только виски одного там было три различных марки. И, конечно же, я ждал еду. Ведь в самолёте это вообще большое развлечение и радость, тут наверняка особенное что-то надо ждать, и Сашка говорил об этом тоже. Самое вкусное, опасливо подумал я, нам достаётся, когда многое уже мы вряд ли можем разжевать.
Но я ошибся. На подносе, который принесла источающая симпатию (ко мне лично, разумеется) стюардесса, прежде всего привлекала внимание упаковка с белой и красной рыбой, а лимон с петрушкой тонко оттеняли цвет и сочность. Далее лежала упаковка из трёх разных сыров. Один из них был, вероятно, деликатесным, ибо пах, как носки студента. А ещё была натёртая морковь, обёрнутая в ломоть баклажана, и великолепно изготовленная рыба с жареной картошкой. К ней (а может, и не к ней) был кетчуп под названием «Нежный» – он оправдывал своё название. Апельсин, виноград, киви. Виски мне подливали каждые минуты три. Юная стюардесса любила нас изо всех сил. Она улыбалась, строила глазки, грациозно изгибалась, спрашивая о чае или кофе. Две большие шоколадные конфеты я заначил сразу – под вечерний глоток выпивки в гостинице (когда-то был я сластолюбец, но, состарясь, превратился в сладкоежку). Нет, я ничуть не жадничал и не напрягался, но почти уверен, что выпил виски на полную стоимость билета от Москвы до Тулы в общем вагоне.
В естественное впав блаженство, вдруг я ощутил, почувствовал – не нахожу глагола, чтоб точнее передать, – что населения салона позади меня не существует в моём сознании, их рядовая жизнь течёт поодаль, совершенно непричастная к моей. Я даже протрезвел немного, начиная понимать подоплёку той Сашкиной шутки. Я подумал, что именно такова основа психологии сегодняшних хозяев российской жизни. Ведь им должно быть свойственно глубокое чувство своей отдельности, нет – отделённости от слитной и неразличимой массы, именуемой населением. И тягостно им вынужденное редкое общение, у них своё пространство жизни, а отсюда – многие поступки и решения проблем. Как бы где-то я об этом и читал, но тут мне эта истина явилась непреложно в виде собственного явственного ощущения. И я так обалдел от этого, что отрезвление своё немедленно залил.
И выходили мы раздельно, я толпу своих попутчиков увидел уже только возле движущейся ленты с чемоданами. Докучливо и странно было мне стоять в этой обыденной толпе.
А кстати, тоже в самолёте как-то был я озарён открытием, забавным для петушьего мужского самоощущения. Мы с женой летели не куда-нибудь, а на остров Мадейра, родину известного вина. Там был назначен семинар (не помню, как точнее назывался этот хурултай) преуспевающих российских энергетиков, и я был приглашён им почитать свои стишки. Труба, снабжающая деньгами Россию, уделила и мне несколько нефтяных брызг. И я с вульгарным удовольствием летел на этот остров, куда в жизни не попал бы просто так. А в самолёте стюардесса, изящно к нам склонившись, спросила у моей жены, что та предпочитает на обед. По-моему, был выбор между курицей и рыбой, это не суть важно. Тата ей ответила, и стюардесса с тем же вопросом обратилась ко мне. Я это описываю так подробно, потому что тут нужна как бы замедленная съёмка: я вдруг обнаружил, что плавно поворачиваюсь к Тате, собираясь спросить её, что хочу я. И в оторопь придя от машинальной этой слабости, я кое-как пробормотал, чего бы съел. У стюардессы ничего в глазах не промелькнуло – неужели привыкла к этому явлению мужской самостоятельности в семьях? Я потом весь эпизод рассказывал в застольях, и друзья, женатые и сами лет по сорок, хоть и ухмылялись снисходительно, однако явно вспоминали что-то сокровенное и мигом укорачивали разговор на эту выразительную тему.
А на Мадейре, кстати, было очень хорошо. На маленьких разливочных заводиках вино дают сперва попробовать – стаканчик небольшой, но видов и сортов довольно много, так что время протекало интересно и достойно. Тут, конечно, автор поприличней непременно сообщил бы, что Мадейра – остров вулканического происхождения и есть на нём места, где холмы и наплывы чёрной застывшей лавы образуют необыкновенной красоты пейзаж, а вместе с буйной зеленью субтропиков и тёмно-синим морем – это нечто вообще неописуемое. А я – о чуде, но другом предпочитаю рассказать. О чуде тоже чисто зрительном. В роскошном нашем гостиничном номере сортир (я слово «совмещённый» ностальгически упомяну) был совершенно выдающимся. Не только по размерам и наличию всего, что нужно заходящему туда, но главное – по некоей дизайнерской задумке. Слева и напротив унитаза обе стены были огромными зеркалами. А теперь прошу себе представить: вы привычно усаживаетесь на этот фаянсовый трон, видите своё отражение слева, видите его напротив, после чего (и тут я вздрогнул) обнаруживаете ещё одного участника: четвёртый вы сидит в углу, где зеркала сходятся. Такова игра загадочных зеркальных отражений. Если к этому добавить, что я как раз читал в это время книгу Дины Рубиной о циркачке, играющей зеркалами, то поймёте, вероятно, и богатство моих разнообразных ощущений.
Но к новым русским непременно стоит возвратиться. Минула эпоха красных и малиновых пиджаков, почти исчезли золотые цепи, все облеклись в культурные одежды, многие во власть подались – внешне их уже не отличить. Но только человек внутри меняется (если меняется) куда неспешней. И потому порой можно услышать редкостные истории. Мне повезло. Меня в Москве позвали как-то на передачу под названием «Апокриф». Я не пошёл бы, суеты в Москве хватает, жалко время; только тему мне назвали – отказаться я не смог. Собрались говорить о библиотеках – тема необъятная, но как-то я сообразил, что без меня никто не вспомнит о держателях подпольных, самиздатских библиотек. И я для этого пошёл и всё любовно изложил (я лично знал таких подпольщиков, из коих часть и в лагерь угодила), успел заметить, как это уже неинтересно даже тем интеллигентам, что на передачу прибрели, но тут же был вознаграждён благоуханнейшим рассказом директорши Библиотеки иностранной литературы.
На территории библиотеки этой стоит небольшой бюст Генриха Гейне – подарок из Германии туманной. И однажды получила директорша письмо от одного заметного хозяина российской жизни. Он писал, что хотел бы прикупить небольшой кусок земли в библиотечном садике, чтобы его семья могла быть похоронена возле могилы знаменитого немецкого поэта Гейне. И хотя, получив такое письмо, дружно посмеялись все сотрудники, олигарху вежливо и серьёзно отписали, что это, дескать, не могила, просто бюст, и не хоронят никого на территории библиотеки. Письмо отправили и думали, что всё закончилось на этом. Только вскоре получили новое послание. Возможно, его плохо поняли, писал хозяин жизни, он заплатит, разве деньги не нужны библиотеке?
Я, эту историю услышав, даже не смеялся, а оцепенел. Такое изумительно дремучее сознание явилось мне из этой переписки, что никакие бы научные статьи его не объяснили, словно постоял я на психологических раскопках только что канувшей эпохи.
Я вообще всегда радуюсь, когда какие-то случайные слова (а то и письменные тексты) позволяют заглянуть внезапно в глубину, которая обычно скрыта в человеке. Например, мне рассказали, как пришли однажды к Ельцину (он тогда ещё в Свердловске был царём партийным) городские фанаты туризма. Эти неуёмные путешественники по родному краю и необъятным просторам Родины что-то Ельцину хотели разъяснить насчёт психологической, патриотической, экономической и всяких прочих польз туризма, чтобы он там что-то разрешил, одобрил и помог. Среди них были учёные, врачи, инженеры – совершенно бескорыстные люди, сколотившиеся в группу по признаку активности и фанатизма. Говорили они пылко, убедительно и лаконично. Ельцин выслушал их восклицания и аргументы и задумчиво сказал:
– Это, видно, и впрямь дело хорошее, если вокруг него крутится столько евреев.
А ещё бывают тексты, за категоричностью и краткостью которых видно, как отлично знают авторы повадку и замашки будущих читателей этого текста. Помню, как восторженно и умилённо стоял я в Умани у огромного объявления при подходе к могиле великого еврейского мудреца и праведника рабби Нахмана. Туда ведь ежегодно приезжают десятки тысяч паломников, и превращена эта могила в гигантское коммерческое предприятие, и кладбище вокруг неё (он завещал себя похоронить среди народа) почти затоптано этими толпами, но я – всего лишь о прекрасном объявлении. Это святое место, предупреждало объявление паломника, поэтому
«1. Запрещено вести какие-либо торговые или деловые операции на кладбище.
2. Запрещено спать на территории кладбища.
3. Запрещено устраивать трапезы на территории кладбища.
4. Женщины обязаны разговаривать и молиться тихо и с соблюдением правил скромности».
Я дальше списывать не стал, ибо от смеха скис, воочию себе представив, что здесь творилось бы, не будь такого строгого предупреждения.
Однако же пора заканчивать главу. Мечта моя о новом дневнике начинает сбываться. Потом я столько чуши напишу, что вся мечта, естественно, скукожится, исполнившись, и снова станет грустно на душе. А чтоб не стало грустно сразу, я припомню некую свою мечту, которая сбылась, ничуть не повредившись в очертаниях.
Мы с Сашей Окунем затеяли на телевидении (только-только основался тогда этот русскоязычный канал) программу под названием «На троих». Нам оборудовали даже студию: висели копии Сашиных работ, а посреди стоял большой круглый стол (им послужила огромная катушка, на которую наматывают кабель). Третьим был у нас какой-нибудь интересный собеседник – их было с лихвой, мы сами подбирали посетителей. Этот третий приносил на передачу выпивку с закуской, так было условлено, и он ещё обязан был нам рассказать, почему принёс именно это, а не что-нибудь другое. Мы разливали на троих (чисто российская забава) и беседовали на различнейшие темы. Много передач получились удачными. Нам довольно трудно приходилось, ибо в день, когда предоставляли студию, порой три передачи подряд мы писали, а ведь пили мы не понарошку, и на третьей записи уже держать себя в руках было непросто. Только нам всё это очень нравилось. И так мы проработали чуть больше года, сделав тридцать девять (или сорок?) передач. Зрителей у нас было много, и немало разных замечательных гостей. Надо сказать, что главный режиссёр канала (и его организатор) нас не просто пригласил, но принял в нас горячее участие, мы провели немало времени, различные детали обсуждая. Но, похоже, оказался он из тех людей, которые разительно меняются, работая в начальниках. И год или чуть более спустя решил он, уж не знаю, сам ли, что у передачи нашей мало зрителей (как говорится – невысокий рейтинг). Как тут поступить? Да очень просто – пригласить соавторов к себе в кабинет, сказать: «Ребята, вы не потянули, извините и спасибо» – и пошли бы мы, солнцем палимы, без малейшей никакой обиды. Только что-то в нём уже необратимое, начальственное что-то произошло. И нам некий посланник, общий наш приятель, сообщил от начальственного имени главного редактора Лёни, что передача закрывается. И ни привета, ни спасибо сказано нам не было. И от этого мы некую обиду ощутили, мы-то знали по звонкам и разговорам, как нас слушают. И появилась у меня одна мечта, но сразу я её не назову.
У Саши много времени очистилось на живопись, я сел за новую книжку, мы не тосковали и в нужду не впали. Только наблюдали, усмехаясь, как все наши передачи повторили раза три (а как же рейтинг?), а потом ещё и продали в Америку и Австралию. Я стал подумывать, что сбудется моя мечта. И через какое-то время (как оно мелькает быстро!) явился к Саше в мастерскую тот же самый гонец-посланник и передал нам Лёнино приглашение немедля изготовить ещё тридцать передач. Сбылась моя мечта, подумал я с восторгом, целиком и полностью сбылась в своём первоначальном виде. Мы с Сашей даже не переглянулись, и я мягко, вежливо сказал:
– Передайте Лёне, что его послали на хуй.
Глава славословия
В недавней своей книжке «Вечерний звон» я целую главу пустил под оды, дифирамбы и панегирики друзьям, которых поздравлял на юбилеях. Там же я писал об удовольствии от этих сочинений: пьяное застолье с таким восторгом принимает любой рифмованный текст, что чувствуешь себя творцом шедевра. Но какие-то из этих поздравлений не особо стыдно видеть и потом, поэтому я часть такого славословия друзьям решил и в новой книге напечатать. Мне очень приятно это делать, потому что все герои – люди штучные, и я не только ум их и способности в виду имею, но и человеческие качества. Таких сейчас рожают редко, говорила моя бабушка, желая похвалить кого-нибудь. И я с ней полностью согласен.
А начну я – с Сандрика Каминского. Подружились мы в Москве давным-давно, а ныне уже двадцать почти лет живём в одном доме. Это большое удовольствие – выпить вечером с соседом безо всякого особенного повода. Но об одной его черте – железной дружеской надёжности – хоть я в стихе и написал, но следует о ней сказать особо. На примере одного всего лишь факта. Когда меня уже осудили и пошёл я в лагерь по этапу, Тата услыхала от кого-то, что в пересыльных тюрьмах можно получить свидание. А из тюрьмы в Волоколамске, куда Сандрик её привёз, я уже отбыл. «Поехали искать», – спокойно сказал Сандрик, и они отправились во Ржев. В России расстояния не маленькие. Но куда важней другое: на дворе – восьмидесятый год. Карается любое соучастие в жизни людей, властями осуждённых, – множество уже известно случаев такого подлого воздаяния. А Каминский – кандидат наук, доцент в столичном институте. Но, ни секунды не колеблясь, он повёз жену преступника по пересыльным тюрьмам. А всё прочее об этом моём друге – в оде на его семидесятилетие:
Когда-то Сандрик был доцентом, он юных дурней обучал, и в том, что мыслит он с акцентом, его никто не уличал. С тех пор, как вылез из пелёнок и сразу стал на баб глядеть, мечтали сотни сандрильонок таким Сандрилой завладеть. Но посреди любовной хляби Сандрила видел свой билет: пристал в метро однажды к бабе и с нею счастлив много лет. Ещё добавлю между строчек: блюдя супружеский обет, зачал он двух отличных дочек и нынче стал безумный дед. Владея даром вмиг понять, где что прогнулось и помялось, умел Сандрила починять и то, что даже не ломалось. Весьма надёжный друг Сандрила: на виражах судьбы злодейской он – как железные перила на скользкой лестнице житейской. Ему светили все дороги, но был неслышный Божий глас, и вдруг Сандрила сделал ноги и оказался среди нас. Хотя не ходит в синагогу, но с Богом он интимно дружит: Сандрила тем и служит Богу, что вообще нигде не служит. И не стремится никуда, одной идеей крепко связан: «Господь позвал меня сюда — Он и кормить меня обязан». Бог понял мысли глубину и принял это испытание: Он через Любочку-жену послал Сандриле пропитание. А Сандрик вызвал счастья стон, поплывший как-то над державой, когда собрал машину он из ничего и гайки ржавой. Одну черту его не скрою, и знает каждый, кто знаком: он мудр настолько, что порою глядится полным мудаком. Кто прибегал к его советам — их у Сандрилы полон рот, — прекрасно знают, что при этом всё обстоит наоборот. Вкуси от мудрости, приятель, однако сам не будь лопух, так через Сандрика Создатель в нас развивает ум и дух. Любых поступков одобритель, ума немыслимый запас, Сандрила – наш путеводитель, а также атлас и компас. И, не бросая слов на ветер, сегодня мне сказать пора, что не случайно так он светел: он тайный праведник. Ура!А начало дружбы с Ициком Авербухом вспоминается легко: двадцать два года назад он встречал нашу семью в Вене, он тогда работал в «Сохнуте». Я запомнил эту встречу навсегда. Мы стояли тесно сбившейся, усталой и слегка растерянной группой: только что удалилась большая толпа наших самолётных попутчиков – они летели в Америку. К нам подошёл невысокий быстроглазый человек, приветливо сказал, чтоб мы не волновались, всё будет прекрасно, он сейчас вернётся и всё время будет с нами. После чего, обратившись ко мне, как будто мы давно знакомы, коротко сказал: «Губерман, пойдёмте со мной!» И я за ним пошёл, слегка недоумевая, откуда он меня знает. Попетляв по коридорам (он быстро шёл впереди), мы нырнули в какую-то дверь, и я впервые в жизни оказался в западном баре. Глаза мои тут же растеклись по сказочному обилию выпивки, а когда я обернулся, в руке у меня возник большой бокал коньяка. «Наш общий друг художник Окунь попросил вас встретить именно таким образом», – объяснил мне Ицик Авербух. И у меня непроизвольно брызнули слёзы. А после Ицик стал работать в «Джойнте», занимаясь делом удивительным: он распределяет американскую гуманитарную помощь бедствующим еврейским семьям на территории России, Украины, Грузии и каких-то ещё бывших республик. Я ему к пятидесятилетию написал как-то стишок, откуда пару строф и позаимствую для начала:
В Одессе брюки некогда надев, ты попусту не лез в борьбу с режимом, но щедро наделял ты юных дев своим ветхозаветным содержимым… Друзьям ты и поддержка, и опора по жизни скоротечной и шальной, любая, где ты трудишься, контора становится притоном и пивной…А на шестидесятилетний юбилей (как же молод он, мерзавец!) я о нём написал гораздо подробней:
Я помню, как, исход верша, в душевно-умственном провале, достичь земли своей спеша, мы в Вене грустно застревали. И тут, как древний Одиссей, вселяя в сердце светлый дух, евреям, словно Моисей, являлся Ицик Авербух. А сам он жил без капли жалобы, легко, как будто занят танцами, его энергии достало бы на две больших электростанции. Себе красотку из Йемена он в жёны взял, служа примером, что два еврейские колена соединить возможно хером. А убежав от суеты, в часы, когда повсюду спали, трёх деток редкой красоты он настругал на радость Тали. С охотой он и ест, и пьёт, всех веселит, судьбу не хает, и так при случае поёт, что Пугачёва отдыхает. Весь век живя среди людей, он не застыл, хотя начальник, и много всяческих идей он дарит нам, кипя, как чайник. Со всеми он живёт в ладу, ему забавна глупость наша, он даже хвалит ту бурду, что густо варит Окунь Саша. Ценя его за ум и сметку, я очень с Ициком дружу, и с ним бы я пошёл в разведку, но, слава Богу, не хожу. Ему сегодня шестьдесят, но только что ему с того, и ни минуты не висят без дела органы его. Сияет свет на наших лицах, пойдём – куда ни позови. Мы очень рады, милый Ицик, что современники твои.А о любимой дочке Тане я люблю рассказывать одну чисто пророческую историю. Ей было шесть лет, когда я её повёз куда-то. Исполнилось как раз полвека с образования Советского Союза – всюду флаги трепыхались, и какие-то из громкоговорителей плескались песнопения и бравурные речи. Стоя возле меня в битком набитом автобусе, малютка Таня сказала исторические слова:
– Лучше ехать на такси, чем со многими народами.
Сами народы это осознали только двадцать лет спустя.
А вскоре (как же время-то летит!) явились к Тане мы на юбилей. И я прочёл ей оду на сорокалетие:
Порядок пьянства не наруша, хотел бы я сказать сейчас: спасибо, милая Танюша, что родилась в семье у нас. Вполне с душой твоею тонкой (да и с повадкой заодно) могла родиться ты японкой — ходила б, дура, в кимоно. Весьма подвижная девица, лицом румяна и бела, могла француженкой родиться — какой бы блядью ты была! В тебе есть нечто и славянское, российской кротости пример: налит коньяк или шампанское — тебе один, по сути, хер. Хоть на сердечные дела бывала ты порой в обиде, но чудных дочек родила, а это – счастье в чистом виде. Являя чудо доброты на поле родственном тернистом, совсем не била брата ты, и вырос он авантюристом. Твоё презрение к наукам, семье известное давно, ты передашь, конечно, внукам, у дочек есть уже оно. Твоё душевное тепло всегда уют нам щедро дарит: куда бы время ни текло, а рядом Таня кашу варит. Ты легкомысленна в папашу, а в мать – по-женски ты умна; прими любовь, Танюша, нашу, и что налито – пей до дна!А Боря Шильман тоже возмутительно молод: только что исполнилось шестьдесят. У Бори профессия загадочная – он хиропракт. У него своя клиника, и к нему густым потоком текут страждущие. Он не расспрашивает пациента о его болезнях и недомоганиях, он кладёт его на живот, гуляет пальцами по позвоночнику и сам говорит удивлённому больному, что именно того беспокоит. После чего он что-то гладит, разминает, порой встряхивает пациентов, невзирая на их жалобные стоны, и за несколько сеансов (а порой – всего за один) достигает чуда облегчения. И сам я был свидетелем таких чудес. И всё это – игрой на позвоночнике. Поэтому и славословие ему на юбилей я назвал —
Ода спинному хребту
Всех наших бед и радостей источник, всех органов лихой руководитель — таинственный и сложный позвоночник, спинного мозга верный охранитель. Он правит нашей хваткой деловой и мудростью, прославленной в веках, мы думаем отнюдь не головой, а мозгом, затаённым в позвонках. И знали уже древние народы: какие ни случатся воспаления, все боли наши, хвори и невзгоды зависят от спинного управления. И если человек – подлец и склочник и пакости творить ему с руки — виновен в этом тоже позвоночник, шестой и двадцать третий позвонки. И скрягу если мучают запоры, он тужится, не спит и одинок, здесь только об одном возможны споры — какой затронут порчей позвонок. Мужчина средних лет в любой момент готов улечься с женщиной, ликуя, а если бедолага импотент — ослабли позвонки в районе хуя. А пятый позвонок – совсем особый, загадка его тайною покрыта, рождает он порывы тёмной злобы у тёмного душой антисемита. Один лишь позвоночник виноват, что бьёт жену подвыпивший мужчина, и даже если кто мудаковат — сокрыта в позвонках тому причина. Но что бы ни случилось с человеками, какие хвори тело ни гнетут, убогими и хмурыми калеками они к Борису Шильману идут. От Бори выходя, они смеются, уху едят на травке у реки и так, не зная удержу, ебутся, что видно, как окрепли позвонки. Хребту спинному оду посвящая, сказать хочу я с искренним волнением: живи, Борис, и дальше, восхищая весь мир своим целительным умением!А про Витю Браиловского и его жену Иру я уже писал неоднократно. Дружба наша скреплена тюремным испытанием, хотя в местах сидели мы разных: Витя – в тюрьме столичной, в Бутырской, а я – в Загорске и Волоколамске. «Видишь, – сказал мне как-то Витя снисходительно, – тебя в Москве даже сидеть не пустили!» Так что и стихи я им пишу, сдобренные по возможности любимыми словами из уголовной фени. Подруга вора, например, – маруха, у Вити это слово очень нежно и ласкательно звучит, когда мы говорим об Ире. По этому пути пошёл, естественно, и я, когда случился Ирин юбилей:
Мужика к высотам духа кто весь век ведёт? Маруха. Если в горле стало сухо, кто стакан нальёт? Маруха. Твёрже стали, мягче пуха в нашей жизни кто? Маруха. Если всё темно и глухо, кто утешит нас? Маруха. Если вдруг повалит пруха, кто разделит фарт? Маруха. Кто назойливо, как муха, мысли нам жужжит? Маруха. Кто, хотя у мужа брюхо, ценит мужа в нём? Маруха.А Вите на его семидесятилетие я описал весь его жизненный путь:
Я Витю знаю хорошо, хочу воспеть его харизму. Он очень долгий путь прошёл от онанизма к сионизму. С медалью Витя школу кончил, ему ученье не обрыдло, и стал он грызть науки пончик, стремясь добраться до повидла. Плетя узор цифирной пряжи, он тихо жил в подлунном мире и по рассеянности даже зачал детей подруге Ире. Без героизма и злодейства свой срок по жизни он мотал, но вдруг высокий дух еврейства в его крови заклокотал. И стал он пламенный борец за право выезда евреям, его обрезанный конец, подобно флагу, всюду реял. В железном занавесе дырку хотел пробить он головой, из-за чего попал в Бутырку, но вышел целый и живой. И одолел судьбу еврей, на землю предков он вернулся, о камни родины своей довольно крепко наебнулся. Но, не привыкши унывать, изжил он горечь на корню и вскоре стал преподавать студентам разную херню. Ещё он очень музыкален и тягой к выпивке духовен, и, где б ни жил, из окон спален текли Шопен или Бетховен. Но надоела скоро Вите учёной линии тесьма, и Витя круто стал политик, поскольку был мудёр весьма. И тут освоился так быстро (он опыт зэка не забыл), что даже занял пост министра и полчаса министром был. С утра он важно едет в кнессет, престижной славы пьёт вино и с обстоятельностью месит большой политики гавно. Зачем писал я эту оду? Чтобы слова сказать любовные, что в масть еврейскому народу такие типы уголовные.Тут непременно надо сделать интересную добавку. Витя действительно был министром науки всего три-четыре дня, а после что-то поменялось в их правительственных играх, и Витя стал заместителем министра внутренних дел. Я даже как-то навещал его по месту службы: когда ещё доведётся посидеть в кабинете заместителя министра, да ещё внутренних дел? Я только очень был разочарован: клетушка и клетушка, да к тому же – плохо сделанный ремонт. Но дело не в этом. Витя решил, что столь недолгое пребывание в министрах – может быть, рекорд всемирный, и послал запрос об этом в комитет (так ли он называется?) Гиннесса по рекордам. Оттуда ему вскоре вежливо ответили: уж извините, это не рекорд, известны люди, пробывшие в должности министров четверть часа, после чего их расстреляли. Так что Витя дёшево отделался.
А Яше Блюмину писал я восхваление – к восьмидесятилетию. Он и сегодня хоть куда, дай Бог ему здоровья и удачи. О его таланте творческом я написал в стихе, а вот о доброте его необычайной надо бы сказать особо. Он к себе в свою столярную мастерскую брал, чтобы помочь им прокормиться, таких проходимцев, что потом его печальные истории мы слушали, не зная, смеяться или плакать. Но главное о нём – в торжественной оде:
Безумной силой Геркулеса природа Яшу наградила; пока он юный был повеса, вся сила в еблю уходила. Он был художник по призванию и был в искусстве эрудит. Когда б не тяга к рисованию, то стал бы питерский бандит. Но тут любовь накрыла Якова, навеки став его судьбой; Алёна вышла б не за всякого, но Яша всех затмил собой. Он отродясь не жёг табак и не макал перо, любил друзей, любил собак и выпить мог ведро. Игрушки резал он недурно, сам Ростропович, как дитя, так восторгался ими бурно, что умер сорок лет спустя. Плюя на прелести карьеры, он душу дерева постиг и начал делать интерьеры, в чём высоты большой достиг. И в мастера наш Яша вышел, огнём таланта был палим, но голос предков он услышал и съехал в Иерусалим. Не высох в жаркой он пустыне, завидный ждал его успех — шкафы для письменной святыни стал делать он искусней всех. Умело пряча ум и чувства, но мысля очень глубоко, принёс в еврейское искусство он выебоны рококо. А также всякое барокко он поднял тут на высоту, и без единого упрёка глядит еврей на красоту. Не знал еврей в краю убогом шкафов красивей и прочней, и Божий дух по синагогам стал веять гуще и сочней. Являет Яша гордость нашу, в нём доброты и вкуса много, и Бог любуется на Яшу, а Яша стружкой славит Бога.Вот пока и всё. Но близятся другие юбилеи, и, Бог даст, ещё я славословий накропаю. Ведь кого, как не друзей и близких, нам положено в короткой этой жизни восхвалять?
Сентиментальное путешествие
Да конечно же, я знаю, что такое название уже было, даже читал я некогда этот прекрасный роман, только никак иначе не назвать мне мелкие заметки о коротких гастролях по нескольким российским городам. Я с самого начала вдруг почувствовал, что будет хорошо и интересно. По дороге во Владимир проезжали мы известный ныне (даже знаменитый) город Петушки, а у меня с собой было, и я усердно помянул Веничку Ерофеева. К моменту, когда мы достигли дорожного знака о выезде из города Петушки, во мне воссияло прочное ощущение, что дальше будет всё прекрасно. И я спокойно заснул, чтобы прибыть на концерт как стёклышко.
Ещё надо добавить, что в поездке этой я довольно много думал, а так как это нечастое состояние моего организма, то оно мне и запомнилось поэтому.
Лет пять назад по этой же дороге ехал я в один некрупный город (умолчу его название), где после выступления повстречался с забавным человеком. В гримёрную ко мне народ набился, все неторопливо выпивали, а когда зашёл рослый молодой парень с шикарной девицей, то пространство около меня мгновенно как-то опустело, многие даже ушли из комнаты, мы с этой парой оказались сами по себе. Красивый молодой человек сказал мне всякие слова и даже предложил мои стихи мне почитать как доказательство приязни, и роскошный протянул подарок: нарды явно лагерной работы. С отменно вырезанным волком на лицевой стороне, с искусно выжженным орнаментом снаружи и внутри. Такие лагерные поделки (выкидные ножи, браслеты из цветной пластмассы, шахматы) под общим названием «масти» я знал ещё по лагерю, где сидел, и несколько таких сувениров подарил когда-то музею общества «Мемориал». С великой, надо признаться, жалостью, ибо на зоне занимаются этим ремеслом очень способные зэки.
– Откуда у тебя такая масть? – благодарно спросил я парня.
– А я смотрящий по нашей области, – просто ответил он.
Я ошалело вынул сигарету. Парень чиркнул золочёной зажигалкой. Смотрящий – это хранитель огромных денег, так называемого общака, воровского банка, куда исправно сдаёт взносы весь уголовный мир для поддержки («подогрева») своих коллег в лагерях. Смотрящий – очень важная, доверенная и авторитетная должность, солидные и уважаемые всеми воры избираются на это место коллективным сходняком. А тут – мальчишка.
– Слушай, ты ж ещё ни разу не сидел? – невежливо и ошарашенно спросил я. И угадал.
– Ни разу, – ответил он. – Я положенец.
Мне почему-то запомнилось, что он себя назвал назначенцем, но потом мне объяснили, что положенец – правильное название. Я задавал ему какие-то несуразные вопросы, он спокойно и с большим достоинством мне отвечал. Я всё никак не мог смириться с тем, что воровской подпольной кассой управляет юный парень из чужого, презираемого ворами мира. По дороге к машине (его всё-таки задело моё недоверие) он говорил мне, как часто его били в милиции – выуживая, вероятно, какие-то сведения, – и что он не один такой на Руси.
Нарды эти я храню и никуда дарить не собираюсь – очень уж красива лагерная масть, а мысли навевает она – странные. О том, как дико и причудливо сросся уголовный, заведомо подпольный мир с обыденным, благопристойным и легальным, если воры открыто и спокойно берут себе в менеджеры людей из этого дневного мира. И вновь, как уже много лет назад, подумал я о радиации лагерного духа, пропитавшего насквозь Россию и растлившего её на много поколений вперёд. И от сумбурных и угрюмых этих мыслей я в тот раз не выпил, проезжая Петушки.
Записок во Владимире так было много, что на часть из них я не ответил. А вернувшись в Москву, эту пачку я случайно смешал с теми, что мне прислали зрители, когда ездил я по Украине. И поэтому из двух, которые хочу здесь напечатать, в географии только одной вполне уверен:
«Как Вы думаете, Украине легче будет выходить из кризиса, если она примет иудаизм?»
Вторая всё-таки скорее из Владимира:
«Сам свидетель. Дубна. Застолье – физики, врачи, инженеры.
– А теперь Леночка прочтёт стишок (это хозяйка говорит).
На табурет ставят четырехлетнюю Леночку в бантах.
– Про что стишок?
– Про зайку.
– Ну давай.
Леночка – своим звонким ангельским голоском:
Вышел зайка на крыльцо почесать себе яйцо. Сунул руку – нет яйца. Так и ёбнулся с крыльца».А в городе Перми провёл я дня четыре – удружило расписание гастролей. Я бродил по улицам, в музеях побывал и посидел в библиотеке, полистывая книги о городе. Из них, конечно, самая интересная – труд местного профессора Абашева «Пермь как текст». Идея, очевидная уже в названии, пришлась мне очень по душе. Хотя, конечно, тут куда точней ложится слово «палимпсест», что означает, как известно, рукопись, где прежний текст (и не один) размыт или соскоблен. Но слово очень редкое и чуть научное, оно бы только отпугнуло множество читателей. А было б это точно и почти буквально: вот, например, на бывшем архиерейском кладбище, где издавна хоронили виднейших горожан, теперь устроен зоопарк, и нынешние пермяки-посетители коллективно топчутся на могилах своих предков – истинно советская коллизия.
А на когдатошней окраине Перми, где начинался некогда Сибирский тракт (и лучшие из россиян тут проходили или проезжали к месту наказания), почти сохранно здание тюремного привала арестантов. И тюрьма была тут – аж до сорок пятого года. Эти стены, хоть и перестроены неоднократно, многое могли бы рассказать, но стены молчаливы, а сегодняшнему люду очень мало интересны страшные недавние истории. После войны чекисты этот дом пустили под свой клуб. На первом и втором этаже всё перестроили под их культурный отдых, а подвал таким же и оставили: убого мрачный длинный коридор и крытые железом двери в камеры. Глазок для надзирателя на каждой двери и маленький прямоугольник кормушки. А нары сняты были, яму крохотного подземного карцера (трудно и представить себе смертный холод в этой тесной яме) досками покрыли и залили цементом. А впрочем, ведь в подвал никто не опускался, наверху в тепле они гуляли. Я пишу не понаслышке, двери я ещё застал. Поскольку десять лет спустя чекисты подобрали себе здание поавантажней и побольше, а сюда вселили – вот ирония судьбы и смена текста – кукольный театр. Впрочем, ведь и сами чекисты были такими марионетками в сталинских играх и спектаклях, что, пожалуй, смена жанра не такая уж резкая приключилась. А в театре этом, очень в городе любимом, с неких пор стал художественным руководителем поразительного таланта режиссёр Игорь Тернавский, мой давний приятель. Он театр этот до неузнаваемости перестроил (красота внутри такая – радуется сердце), а совсем недавно заменил и двери, поскольку в подвале расположились театральные мастерские, и людям ни к чему такая память. Я же по тому тюремному коридору мимо тех дверей успел походить, и у меня так было сладостно и смутно на душе от личных оживившихся воспоминаний, что я Игоря совсем не одобряю. Кажется, и он жалеет тоже: памятники надо сохранять, подвал тот для экскурсий был бесценен – подлинно российский палимпсест. Игоря часто спрашивают, не опасается ли он, что зловещая аура этого жуткого здания влияет как-то на атмосферу в театре. Нет, отвечает он уверенно, детский смех и детская радость смывают начисто любую ауру. Услышав это, я подумал: не потому ли российское телевидение своими передачами так усиленно старается вызвать у вполне взрослых зрителей именно детский смех и детскую радость?
Пермь – единственный в мире город, чьё имя носит целый геологический период в жизни нашей планеты. В середине девятнадцатого века тут побывал известный в то время английский геолог Родерик Мурчисон. Исследуя этот край (и двадцать тысяч километров по нему нагуляв), он обнаружил мощные отложения красноцветных глин, песчаника и чего-то ещё – приметы некоего геологического периода, который не был до него учёными описан. Он назвал этот период пермским. И добавлю ради красного словца, чтобы нечаянно блеснуть осведомлённостью, что это был конец палеозоя – приблизительно двести пятьдесят миллионов лет назад. Здесь поднимались горы, оттесняя море, море высыхало, и отсюда здесь неизмеримые запасы соли под землёй. Уже цвела повсюду жизнь, гуляли меж хвощей и папоротников древние ящеры гигантских размеров и невероятных наружностей, а климат был почти тропический. Найденные тут во множестве кости этих ящеров, а также многие виды окаменевших растений и насекомых (в частности – огромных тараканов) по сю пору радуют учёных изобилием. Одну прекрасно слепленную фразу явного пермяка-патриота я даже выписал из просмотренной книги: «А в областях с более холодным климатом тараканы редки, малоразнообразны и имеют мелкие размеры». Забавно было повторять эти надменные слова, топоча по снегу и трясясь от ветра по дороге из библиотеки в гостиницу.
И было ощущение все эти дни нечаянного отдыха, что я бездельничаю праведно и занят тем, чем должен заниматься. Как тот безвестный симпатичный работяга, написавший, объясняя свой прогул: «Я вчера не вышел на работу, потому что думал, что вышел».
А ещё в этих краях издавна выплавляли медь (отчего и назначено было стать городом этому пустынному месту возле старого медеплавильного завода: царица Екатерина просто ткнула сюда пальцем). Древние мастера (середина первого тысячелетия до новой эры) умели отливать из меди плоские изображения разных зверей и птиц, людей (порою всадников) и неопознаваемых животных. Это старинное литьё – художества поразительного, недаром Строгановы его стали собирать (и ныне почти вся эта коллекция хранится в Эрмитаже), а названо оно – по имени опять же города – «пермский звериный стиль».
Нет, не иначе как какой-то Божий свет сиял над этими местами в разные столетия и годы: я теперь о деревянной скульптуре восемнадцатого века хоть бы мельком, но хочу упомянуть. О «пермских богах». Уже, наверно, раз шестой сюда я приезжал и снова с немым обалдением смотрел на это совершенство резанных по дереву фигур. Я вообще люблю резьбу по дереву и в разных городах Европы с наслаждением торчу в музеях возле раскрашенных фигур разных святых. Жаргонные слова об удовольствии – «тащусь я от этого» – наиболее точно передают мои ощущения. Так вот от пермских я тащусь сильней, чем от других. Скуластые, немного плоские их лица (а порой и чуть раскосые глаза – ведь местные изображались люди), их позы, жесты – выразительны настолько, что словами ничего не передашь, каким ни будь искусствоведом. У меня же лично сокровенный способ есть, чтобы выразить очарование и чувства выплеснуть: я по возможности негромко пару нецензурных слов произношу. И мне легчает.
Здесь когда-то жил загадочно исчезнувший народ («звериный стиль» они как раз затеяли) – чудь, это предки нескольких народностей сегодняшних. О них есть миф, что при крещении языческого местного населения они ушли под землю, чтобы остаться в прежней вере.
Об одном сугубо пермском мифе грех не рассказать. О Башне смерти. Это редкий (очевидно) случай, когда миф (кошмарно впечатляющий) родился и разросся из чьей-то лёгкой шутки. Прямо в наше время, когда мифы сотворяло разве что правительство страны (про то, как мы отлично все живём и как нам на планете все завидуют). На углу двух улиц высится в Перми десятиэтажный дом (и башенка со шпилем) архитектуры сталинских времён. Это и есть Башня смерти. Миф, известный всему городу, гласит, что некогда на этом месте были пыточные камеры ещё во времена Ивана Грозного (ещё Перми-то не было!), и что останки замученных тут людей скопились под землёй, и что тайные подземные пути отсюда тянутся ужасно далеко, и что даже в стены здания вмурованы тела погибших тут, и много ужасов иных. Но зданию совсем немного лет: его построили в пятьдесят втором году – и с той поры здесь угнездилось областное управление Министерства внутренних дел. Конечно, у ребят этих вполне дурная репутация, но почему же корни мифа, столь кошмарного, в седую древность тянутся?
Но проста причина, и забавна, и о силе меткого слова свидетельствует. Когда выстроено было это здание и въехало туда поганое управление, весь город (как и вся страна) смотрел трофейный фильм «Башня смерти» – по пьесе Шекспира «Ричард Третий». И шутник какой-то башней смерти окрестил действительно зловещий этот дом. Весьма рискуя, кстати (год пятьдесят второй, заметьте, чистая пятьдесят восьмая за такую шутку). Название, естественно, приклеилось. И принялись рождаться мифы.
Они и нынче появляются в Перми. Что связано с гордыней, обуявшей патриотов города. Наверно, с той поры ещё гордыня завелась, когда отлили тут царь-пушку, весившую не только на четыре тонны больше, чем знаменитая московская (каких-то жалких сорок тонн), но ещё и стрелявшая, в отличие от столичной неудачницы. Снарядами в двадцать восемь пудов. Ну как тут не зародиться тайной гордыне? А в каком другом городе мелкая речушка, отделяющая старый город от кладбища, называется Стикс? А на деревьях, спиленных в здешних окрестностях, стоит вся Венеция – это знаменитый карагай, лиственница, она единственное дерево, которое твердеет в воде. Ну, словом, много оснований для того, чтобы считалась Пермь хотя бы третьим по России городом, где вполне кипит столичная жизнь. К тому же множество талантливых людей отсюда вышло (взять хотя бы Дягилева, который в восемнадцать лет сбежал и более старался Пермь не вспоминать. Попов опять же – радио он изобрёл пускай не первый, но самостоятельно). И правда, очень многие талантливые люди жили здесь или отсюда в жизнь пускались. Оружейники, к примеру, пушечные мастера, создатели авиационных моторов. Писатели: Бажов, и Мамин-Сибиряк, и Осоргин. Однако патриотам настоящим мало этого. В одном письме (кажется – Горькому) написал как-то Чехов, что героини его пьесы «Три сестры» могли бы жить в любом провинциальном городе. Ну, например, в Перми, неосторожно пояснил Чехов. И вот уже экскурсоводы резвые показывают дом, где тосковали три сестры. В Москву, в Москву!
Дай Бог этому городу расти и хорошеть. Я очень интересно там пожил. А через месяц, когда я уже вернулся, приключился тот пожар кошмарный в ночном клубе «Хромая лошадь», где погибли сотни полторы людей. «И ты бы мог!» – вздыхали сердобольные знакомые. Нет, я не мог. Я не хожу в такие заведения. Там современная российская элита гужевалась. Там гуляли на ворованные или взяточные деньги. Потому что на свои, на кровные, не станешь пить коньяк ценой тридцать четыре доллара за пятьдесят граммов, а там как раз такие цены были. По уровню – вполне столичные.
В Перми я доверительную донельзя записку получил:
«Игорь Миронович, а существует ли всемирный еврейский заговор и как туда возможно записаться?»
При подъезде к Челябинску меня охватило странное чувство близости: город этот некогда двумя стежками прошил всю мою биографию. Сюда в самом начале войны переехал завод, на котором работал мой отец, и вся наша семья прожила тут год или полтора. Мне было пять лет, и ничего о времени эвакуации я помнить, естественно, не мог. Кроме одного эпизода – впрочем, он повторялся периодически. Раз в неделю (или в месяц?) отцу выдавали паёк, в котором была большая плитка шоколада. Яркая, цветная, невыразимо прекрасная даже внешне. Эту плитку шоколада мама сразу же меняла на буханку хлеба – у одной и той же женщины. А я при маме неотлучно находился, и однажды эта женщина спросила, не горюет ли ребёнок, что досталась шоколадка не ему. Мама непривычно резко ей ответила, что нет, нисколько. Мама неправа была, ребёнку эту шоколадку было очень жалко всякий раз, иначе он бы не запомнил краткий разговор двух женщин.
А спустя почти сорок лет я провёл в Челябинске несколько дней в пересыльной тюрьме – по дороге в сибирский лагерь. После каждых трёх дней пути в столыпинском вагоне полагался отдых в какой-нибудь тюрьме, таков был гуманизм начальства, знавшего условия этапа. Мне тюрьма эта запомнилась и внешне: нас туда пешком вводили почему-то, высадив из автозака у ворот, – и нелепой радостью, меня вдруг обуявшей от неожиданной человечности, впервые мною встреченной у надзирателя. Нас вели по длинному коридору явно старого здания, и я по своему дурацкому любопытству спросил у шедшего рядом пожилого тюремщика, когда эту тюрьму построили. И он не цыкнул на меня и не обматерил, а с некоей даже приветливостью ответил:
– В восемнадцатом году. То ли её красные для белых строили, а то ли белые для красных, – и засмеялся.
Я к нему такую ощутил симпатию и благодарность – вдруг на минуту окунулся в мир нормальный и естественный.
На этот раз меня к тюрьме подвёз не автозак, а маленький автобус городского телевидения. Оператор хищно задвигался, снимая с разных сторон, как я сладостно курю, глядя на тюремное обшарпанное здание.
– Так на отчий дом смотрят, – сказала мне журналистка.
– А я так эту тюрьму и ощущаю, – ответил я вполне искренне.
Мы находились в двух шагах от улицы, названной в честь моего покойного тестя – я, к сожалению, уже его не застал. Юрий Николаевич Либединский прожил в Челябинске много лет, он вырос тут, и на здании реального училища висит мемориальная доска. Он был одним из ярких основоположников советской литературы. И дом его родителей мне показали, оба они были врачами. А после покурил я возле основательного купеческого дома, тоже связанного с семьёй Либединских. Именитый купец Елькин очень много сделал для Челябинска, но мемориальная доска на его доме посвящена двум его сыновьям – Якову и Соломону, павшим, как и подобало еврейским детям того времени, за дело революции. А младший сын по младости ввязаться в это дело не успел, ввиду чего остался жив и женился на сестре Юрия Николаевича – девушке Рике. И я ещё застал её – сухую грустную старушку, прикованную к кровати. Она всю жизнь преподавала в Ленинграде (уж не помню института) основы марксизма-ленинизма. Погрузившись в эту будто бы науку, она стала ярой антисоветчицей и, приезжая изредка в Москву, такие говорила речи в семье брата, что после её отъезда в семье долго ждали неприятностей. Но преподавать она не прекращала. Я пришёл её навестить, когда писал роман о художнике (поэте, авиаторе, священнике) Николае Бруни, убитом в лагерной Ухте в тридцать восьмом году. Я рассказал ей, чем сейчас занимаюсь, и старушка горько мне прошелестела:
– А я почти пятьдесят лет обманывала молодых марксизмом-ленинизмом.
Такая вот была типичная еврейская семья.
Вернувшись в гостиницу, я вдруг вспомнил одну странную историю. Её рассказывала мне и тёща Лидия Борисовна, и жена Тата, благодарно помнит её вся семья Либединских. Юрий Николаевич ещё с двадцатых годов дружил с Фадеевым, в честь него даже назвал своего сына Александром. В конце сороковых они встречались крайне редко: Фадеев был по уши занят – пас писательское стадо, а Либединский счастлив был в семейной жизни и замкнулся дома, не принимая никакого участия в разборках, сварах и интригах своих коллег. С Фадеевым он виделся так редко, что придумал себе тонкое психологическое утешение, которым даже с дочерью делился: дружба, говорил он, вовсе не подразумевает частых встреч, в ней важно ощущение, что друг у тебя есть и таковым всегда останется. Летом сорок восьмого года, в пору грянувших кошмаров (травля космополитов, дело Антифашистского комитета, много было светлых мероприятий) Фадеев без звонка явился поздно вечером в квартиру Либединских. Трезвый, хмурый и куда-то торопившийся. Вся семья была на даче, дома оставалась только Татьяна Владимировна, мать Лидии Борисовны. Спросив, где кабинет Юрия Николаевича, гость молча сел за его письменный стол и принялся выгребать из ящиков все бумаги, наскоро просматривая старые конверты с письмами. Несколько из них он отложил и забрал с собой (по другой версии – тут же сжёг в помойном ведре). И ушёл, тепло попрощавшись и не извинившись за вторжение. Татьяна Владимировна утром кинулась на дачу в Переделкино. А следующей ночью в квартире побывали странные воры: они взяли всего-навсего серебряную сахарницу, но раскидали все бумаги из ящиков письменного стола, что-то ища. На этом происшествие закончилось, хотя тревожно (а скорее – страшно) было ещё очень долго. Фадеев явно совершил во имя дружбы деяние, сорвавшее какие-то неведомые планы в отношении Юрия Либединского, но ничего не объяснил ему и впоследствии. А это ведь неоспоримо означает очень тяжкую деталь в и без того трагической жизни Фадеева: он не только был рьяным и беспрекословным исполнителем всего, что диктовалось ему сверху, но и доверяли ему полностью – настолько, что его и в перспективу посвящали, в планы разработок для арестов, ещё только предстоявших. Вряд ли этот факт обрадует его биографов.
А вечером я на концерте получил прекрасную и грустную записку:
«Дорогой Игорь Миронович, посоветуйте, как девушке с двумя детьми выйти замуж за еврея?»
Зал хохотнул сочувственно, когда я это прочитал, а я припомнил вслух давнишний мой стишок:
«Русской девушке теперича нелегко найти Гуревича».
Из Челябинска мой путь лежал в Магнитогорск. Я очень давно хотел тут побывать. Город этот, лежащий сразу в двух частях света (Европу и Азию тут разделяет река Урал, а город – на обоих берегах), возник благодаря легендарной советской стройке – металлургическому комбинату. На пустом практически месте, в глухой степи возле горы Магнитной в двадцать девятом году началось сооружение первенца социалистической индустрии. Невольно впадаешь в тон и лексику советской прессы, год за годом воспевавшей это рукотворное чудо. Рукотворное буквально: кроме тачек и лопат, здесь долго ничего не было. Строители жили в палатках, землянках, глиняных лачугах, битком набитых деревянных бараках, где спали по очереди. Кто-то вспомнил в разговоре, что первым каменным зданием на стройке этой стала тюрьма. Что же касается поголовного энтузиазма строителей, то стоит уточнить: половина из них приехала сюда не по собственной воле – здесь были так называемые спецпереселенцы, которых выгнали из разных городов страны за их происхождение, и просто зэки – в основном по пятьдесят восьмой статье. И множество крестьян, бежавших от разбоя коллективизации. Несколько тысяч таких энтузиастов были здесь расстреляны, а участь сменявшихся руководителей была такой же, как по всей стране в тридцатые годы, и они погибли почти все. Было время, когда на комбинате, уже огромном, оставалось менее десятка дипломированных инженеров, ибо все остальные (множество) были арестованы, их заменили практики – без образования, но социально надёжные. Когда газеты с упоением сообщали всей стране, что комбинат возводят энтузиасты тридцати шести национальностей, это говорило лишь о том, насколько одинаково мела по всей стране железная метла. Конечно, можно смело отнести к числу энтузиастов несколько сот иностранных специалистов, приехавших сюда творить светлое будущее всего человечества. Когда построили рудник, задули первую домну, заработала мартеновская печь и прокатные станы – ликование было безмерное, многих вовлекая в социалистическую веру. И в войну, кстати сказать, каждый второй танк и каждый третий снаряд были произведены из металла Магнитки.
Я стоял на высоком берегу, глядя издали и сверху на здания и трубы комбината. Из труб сочились густые волны дыма – цвет их был словами непередаваем. Нечто серо-жёлтое и фиолетово-лиловое; впервые видел я, как цветом можно передать чудовищную ядовитость производственного дыма. Я о ядовитости буквальной говорю: Магнитка – одно из видных в списке вредоносных для живой (и неживой) природы мест. И когда ветер прямо дует в сторону города, этим дымом дышат четыреста тысяч его обитателей. А снег тогда становится оранжево-жёлтым.
И тут меня насквозь пронзила мысль, что это ведь, по сути, уникальный памятник творцу империи и лютому убийце – Сталину. Магнитка – и она сама, и вся история её – точнейшая модель того, что совершалось в сталинские годы. И со страною, и с людьми. Судьба незаурядного поэта Бориса Ручьёва – краткая, но ёмкая страница в летописи этого памятника. Совсем мальчишкой он сюда приехал, плотником работал и бетонщиком, с восторгом воспевал Магнитку во множестве стихов. А после канул в лагеря на десять лет. И не куда-нибудь, а в Оймякон, полюс холода, зимой – минус семьдесят. Но выжил, несмотря на хрупкое здоровье (и на зоне о Магнитке он писал), сюда потом вернулся и до смерти жил тут, продолжая ту же тему с тем же упоением и верой.
Всё для памятника этого годится – даже пресса всей страны, сошедшая с ума от восхищения великой стройкой. И ведь же удалась этому чёрному злодею индустриализация страны! Но здесь уже цена пошла на миллионы жизней. И подробность эту (о цене) никак нельзя забыть при описании зловещего памятника. Магнитку проектировал американец Альберт Кан, знаменитый архитектор промышленных предприятий, автор всех заводов Форда. Из Америки везли в Магнитогорск огромные стальные балки, фермы и перекрытия точно рассчитанных очертаний, и здание завода возводилось, как гигантский детский конструктор. Руководили сборкой инженеры из проектной конторы Альберта Кана. И всего таких заводов на просторах империи возвели эти специалисты – более пятисот! Одновременно закупались в Америке и Германии оборудование и станки для всех заводов. Откуда брались дикие, немыслимые деньги для оплаты этого преображения страны в военную империю (ибо почти любой завод мог почти немедленно перейти на производство вооружения)? Ответ кошмарно прост: из России вывозились в эти годы миллионы тонн зерна, муки, масла, сахара и мяса. И в тех же цифрах (миллионы) исчислялась смерть от голода ограбленного населения страны.
А главное, конечно же, для памятника этого – тот ядовитый дым, что день и ночь течёт из труб завода, отравляя атмосферу и окрестное население, – жестоко точный символ неизбывного сталинского влияния на души и умы, вплоть до сегодняшнего дня. Удивительно созвучен этот памятник великому выродку, на костях и крови воздвигнувшему дикую империю, где все были рабы и все – энтузиасты.
Однако же приехал я сюда по прекрасному и светлому поводу. Рядом со старейшим в городе театром имени Пушкина стоит новое здание обдуманно старинной архитектуры. В нём открылся ресторан русской кухни восемнадцатого и девятнадцатого веков. На первом этаже можно выпить чая (из самовара того времени, разумеется) с выпечкой по рецептам той поры. А на втором этаже – такая красота, что стоит описать её особо. В огромном, очень светлом и высоком зале всю стену напротив окон занимает грандиозное полотно (метров двадцать в длину и метров восемь высотой, точных размеров я не знаю). Глядя на него, вы находитесь как бы на сцене, перед вами – зал театра, уходящий в глубину картины. Партер, амфитеатр, ложи… И везде стоят или уже сидят замечательно одетые люди с интересными и привлекательными лицами. Часть из них – знакомые художника (или владельца ресторана), а другие – попросту сочинены художником. В такой компании так хорошо бы было оказаться, что после возлияния решился я и попросился в настенную массовку. И художник обещал меня изобразить. Такого потока жизнелюбия, которое льётся с этой работы, я не видел никогда.
Назначен был обед-концерт, для этого меня сюда и звали. Сперва все приглашённые немного выпили (я очень им завидовал, но я, подобно девушкам по вызову, не пью на работе). Потом я им читал стишки и всякие истории рассказывал, а после был обед, и тут я от восторга одурел. Перелистав поваренные книги того времени, соорудили эти люди стол необычайный. Да, я ещё забыл: имеется тут огромная русская печь (уверен я, что нет такой подобной в самых разудалых ресторанах). И в печи этой восемь часов томился на соломе грузный говяжий оковалок, которым обнесли весь стол и лишь потом нарезали. Ещё мы ели (тоже всем сначала показали) запечённую индейку, в которой содержалась курица, нашпигованная телячьим языком. Рыбное блюдо называлось «лососёвой бандеролью»: опутанный верёвками (на них – сургучная печать) большой лосось лежал на старинного облика ладье, вылепленной из теста и закалившейся в печи. Это произведение кулинарного искусства тоже сперва проплыло вокруг стола. Закуски и соленья с пирожками и блинами всякими перечислять не буду по простой причине: я хоть и скрал листок с меню, однако потерял его в дороге. А теперь – о выпивке, что дело не последнее: на столе не было ни одной марки фабричной водки. Было множество бутылок с чисто рукодельными наклейками, в которых сообщалось, на каких травах, плодах и ягодах настаивалось это божественное зелье. Я употребил столь высокий эпитет, потому что сортов пять-шесть опробовал самолично, а в вопросах выпивки я опытен и привередлив. Словом, до сладкого я, кажется, не досидел.
Сочинил всё это заведение и блестяще воплотил замысел некий российский патриот (поскольку ездит по всему миру и непременно возвращается) Павел Беньяминович Рабин. (Кстати сказать, советские отделы кадров так ориентировались в отчествах, что им даже не надо было заглядывать в анкетную графу «национальность».) Он же и название придумал: «Наше всё».
Когда очень ранним утром нас подняли, чтоб уезжать, ещё раз подтвердилось качество напитков: голова была прозрачна и чиста.
А в городе Вятке моя гастрольная жизнь вообще обернулась чистым праздником. Обязан я этой радостью некоему молодому человеку (сорок лет – какие годы?) по имени Роман Гозман. Именует он себя свободным предпринимателем, занимается строительством, насколько я понял, самозабвенный мотогонщик (слово «байкер» как-то не ложится на язык) и живёт на свете с любопытством и наслаждением. Мы разговорились уже сразу по дороге в гостиницу. Я с удовольствием услышал от него, что древнюю Вятку основали новгородские ушкуйники – полукупцы-полупираты: они грабили торговые суда и на своих уже судёнышках сбывали всё награбленное по речным маршрутам. Это были дюжие забубённые ребята, которых Великий Новгород обратно уже не принял бы, отпетыми бандитами слыли они в чинном отчем городе. Возможно, именно поэтому издавна было в крохотной Вятке несообразное множество церквей: нет лучше способа замолить грехи, чем денежку пожертвовать на новый Божий храм. А впрочем, это я, заезжий фраер, клевещу, все церкви позже возникали, перед революцией их было уже в Вятке более двухсот. Солидные купцы на них давали деньги, но психология их щедрости, мне кажется, была всё той же, о которой я уже упомянул. А связанные с Вяткой имена людей известных оказались очень дороги моей душе и памяти, я назову их постепенно в том порядке, как мы объезжали связанные с ними места.
Почти три года прожил в Вятке сосланный сюда молодой Александр Герцен. Дом его, к великой моей жалости, не сохранился. Сперва он был простым писцом в губернском управлении, и от тоски стал крепко по вечерам выпивать. Но вскоре поручили этому выпускнику Московского университета ведать статистикой: никто лучше него не мог заполнить заковыристые толстые вопросники, которые текли из Петербурга. А он, в свою очередь, должен был опрашивать входящие в губернию города, и на те никому не нужные вопросы, что шли из столицы, получал вполне тьмутараканские ответы. Так, из городишка Кай ему сообщали, что за прошедший год: «Утопших – 2, причины утопления неизвестны – 2», а в графе, сколько всего таких случаев, написано было «4». На бессмысленный вопрос о нравственности жителей города ответили оттуда просто и замечательно: «Жидов в городе Кае не находилось». Это я от любви к Герцену перечитал «Былое и думы», те страницы, где описывалась ссылка в Вятку. Веют с этих страниц тоска и отчаяние человека, попавшего к тёмным и несчастным людям, чисто случайно говорящим на одном с ним языке. Притом – к безжалостным обирателям своего собственного местного народа. Жил Герцен в одном доме с тоже ссыльным, гениальным архитектором Витбергом, трагедия которого столь современна, что её нельзя не описать.
Совсем молодой архитектор Александр Витберг узнал о конкурсе, объявленном царём Александром Первым: речь шла о сооружении в Москве на Воробьёвых горах огромного храма в память о войне с Наполеоном. В конкурсе участвовали русские академики, видные итальянские и немецкие архитекторы. Возвышеннее и талантливее всех (а конкурс анонимный, разумеется) оказался проект никому не известного юнца Витберга. Царь лично с ним поговорил и был в восторге. Тут-то Витберг и совершил роковую ошибку: согласился быть не только архитектурным руководителем, но и директором строительства, то есть ответственным материально, как сказали бы сегодня. Как его и казну обворовывали толпы поставщиков и подрядчиков, легко себе представить. Отпущенные на постройку храма деньги они пилили (говоря на современном сленге) так лихо и беззастенчиво, что однажды вспыхнула разборка и назначили комиссию. Витберг плохо знал Россию и жестоко поплатился за незнание: его оговорили все, и вся вина пала на него. А в результате – конфискация имения, всего имущества и ссылка в Вятку за нанесенный казне ущерб. И ловко пущенные слухи о несметных его деньгах, хранящихся в американском банке. Герцен пишет о той «страшной бедности», в которой семья Витберга существовала в Вятке.
И ещё одна подробность этой искалеченной судьбы. Однажды вятское купечество задумало построить новую церковь. Типовой проект (уже такие были) их не устраивал, и они обратились к Витбергу. Но для церквей нетиповых потребно было царское соизволение, и то, что Витберг им нарисовал (подобие московского проекта), было послано в столицу. Царь Николай так восхитился, что особо предписал губернской власти не искажать замысел архитектора. А узнав, что автор – тот самый Витберг, разрешил ему вернуться. А в Москву ли, в Петербург – мог выбрать Витберг сам. И он вернулся. Но уже был сломлен человек. И жить, по сути, было не на что. Он тихо и безропотно ждал смерти. Таковым и видел его Герцен, навестивший друга в Петербурге.
Здесь же, в Вятке, вырос Александр Грин. Отсюда он ушёл в шестнадцать лет, мечтая стать матросом, и повёл свою скитальческую жизнь. И его залитый солнцем шумный Зурбаган – такая противоположность тихой и заснеженной Вятке, что наверняка он помнил сумрачную скуку своего детства в доме, где сейчас его музей. Который, кстати говоря, меня слегка расстроил. Вся романтика, которую принёс Александр Грин в души миллионов читателей, здесь передана картинами, скульптурами – пластически, короче говоря. И жутко пошло это выглядит. Увы, мне кажется, романтика обречена на опошление, когда её пытаются изобразить. Но походить по подлинному дому, где он рос (стараясь не смотреть на интерьер), и постоять возле него снаружи – удовольствие нешуточное. Отец его, поляк Гриневский, потомственный польский дворянин, был сослан сюда в ранней молодости за участие в восстании, тут и женился на местной уроженке, но жена его умерла, когда сын ещё был подростком. Больше отец ни с кем не связывал свою судьбу, отсюда и явилась та запущенность домашнего существования, о которой после вспоминал писатель Грин. Хотя преувеличивал безбожно. Вообще, насочинял он столько, что и вокруг его имени после шумного успеха первых повестей начали клубиться мифы. То он был морским волком, долго бороздившим океаны всего света, то, будучи матросом, убил в пьяной драке какого-то английского капитана и прихватил его сундук с рукописями, то найден был совсем младенцем на необитаемом острове… Не сам ли он всё это сочинял, избывая память о тоскливой юности? Он ещё однажды возвратился в этот дом. Поплавав чуть матросом и к мечте своей довольно скоро охладев, пустился он в скитания. Бродяжничал, порою голодал, то в лесорубы подавался, то в золотоискатели. Пошёл было служить в армию, но сбежал и оттуда. Отсидел два года в тюрьме (связался с эсерами и арестован был за пропаганду), отпустили по амнистии. Всего четыре класса он закончил и учиться далее не собирался. Через год его опять арестовали и приговорили к ссылке в Тобольскую губернию, откуда он немедленно бежал и добрался до отеческой Вятки. Дело у него тут было: знал он человека, изготовлявшего фальшивые паспорта. Так что и с отцом ещё он повидался. И уже писал рассказы.
Тут я докурил вторую сигарету и хотел было вернуться в дом, но вспомнил о романтическом интерьере и решил, что уже мало времени.
А в доме Салтыкова-Щедрина великолепно и внутри. И даже стол его стоит – большая вероятность, что подлинный. Как-то не столь давно заехав в город Тверь, был я приглашён местным телевидением дать интервью не где-нибудь, а за музейным столом когдатошнего вице-губернатора Салтыкова-Щедрина. Стол был моложе того времени лет на пятьдесят и был слишком миниатюрен для употребления большим чиновником, но я тактично промолчал всё время съемок. А потом не выдержал, конечно, и свою уверенность, что им фальшак подсунули, невежливо озвучил. Но музейная девица с укоризной мне ответила, что людям интересно и они даже потрогать норовят. А с этим аргументом не поспоришь.
Прекрасный дом был у ссыльного писателя и четыре человека прислуги. По служебной лестнице он подвигался очень быстро, и спустя три года после приезда был уже советником губернского правления – совсем немаленькая должность (а было ему в ту пору двадцать два года). Жить и жить бы в такой ссылке, где в лучшие дома он приглашался непременно – хоть и ссыльный, а жених завидный, – но писал он непрерывно в Петербург прошения, чтобы помиловали. Все восемь (почти) лет, что прожил он в Вятке.
Начинал он очень уж блестяще. Выучился в Царскосельском лицее, где заведомо готовили будущих губернаторов и министров, лучшим был поэтом среди сверстников (потом своих стихов всю жизнь стеснялся), и уже печатали его столичные журналы. Только бес его попутал (а точней – талант уже проснувшийся): написал он повесть «Запутанное дело». В сорок восьмом в марте он её напечатал, а в апреле уже ехал в Вятку, сопровождаемый жандармским офицером. Сам он эту повесть иначе как ерундой не называл, но российское начальство всегда лучше разбиралось в литературе, чем сами авторы.
А на самом деле ему очень, чисто по-российски повезло, ибо спустя всего год начался процесс по делу Петрашевского, а Салтыков-Щедрин не только ходил в этот кружок, но и дружил с его основателем. Так что стоял бы он на эшафоте рядом с Достоевским, но уже был в ссылке, и по делу этого кружка воспалённых юношей его допрашивали в Вятке только в качестве свидетеля.
Мотался по всей губернии этот усердный молодой чиновник, сочинял за начальство все годовые отчёты (специальный переписчик был к нему приставлен по причине неразборчивого почерка) и начисто забыл, казалось бы, свои литературные забавы. Ни единого свидетельства не сохранилось. Но только-только возвратившись в Петербург, через каких-то несколько месяцев он предложил журналу «Русский вестник» объёмистые «Губернские очерки». Без заметок-заготовок, сделанных заранее, такое быстро не напишешь. А значит, в этом доме, не внушающем никаких подозрений (тут и пили, и играли в карты), где-то прятал он заветную рукопись, тихо радуясь, что она пополняется. И я с чувством душевной близости опять прошёл по комнатам, стараясь догадаться (я три года в своей сибирской избе прятал рукопись на чердаке между брёвнами – прости, читатель, манию величия, явленную в этой ассоциации, но ссыльные всея земли равны по чувству страха за свои бумаги). Вот и доверяй после этого письменным заверениям чиновника Салтыкова, что исправился и умоляет о возможности вернуться. И ему не доверяли.
Тут возникает человек, об имени которого не догадался бы даже такой великий знаток того времени, как историк Натан Эйдельман. О, как бы я был счастлив загадать ему эту загадку! Но как раз, когда я всё это пишу, друзья в Москве пьют водку, отмечая двадцать лет со дня его нелепой смерти.
Сопровождая своего мужа, генерала, посланного в Вятку по делам солдатского набора (шла война), сюда приехала Наталья Николаевна Ланская. О чём она разговаривала с Салтыковым, познакомившись с ним на балу (провинциальные балы роскошны), что они вспоминали, сидя у него дома (а она туда наезжала), и мелькало ли в их беседах светлое имя Пушкина – никто не знает. Только легенда есть (в музее рассказали), что к последнему прошению помиловать и отпустить из ссылки было приложено личное ходатайство Натальи Николаевны Ланской. И в пятьдесят шестом советник Салтыков-Щедрин оставил этот дом.
Когда мы проезжали мимо городской тюрьмы, услышал я, что здесь сидел когда-то знаменитый немецкий лётчик Эрик Хартман, сбивший за войну триста пятьдесят два самолёта, а потом в плену благополучно отсидевший десять лет. Выпустили его со всеми пленными немцами в середине пятидесятых. Я уже в который раз проглотил свой всегдашний вопрос: помнят ли здесь хоть чуть о страшном Вятлаге, одном из огромных подразделений ГУЛАГа? Было как-то ясно, что не помнят. А уже, наверно, нету и свидетелей живых.
Потом мы неторопливо проехали по краю огромного оврага, заросшего кустами и деревьями, и тут я услыхал историю, которая такой дурацкой радостью меня наполнила, что более я ничего смотреть не захотел. А благодетель Рома Гозман мне ещё и книжку подарил, где вся история описана.
Этот Раздерихинский овраг был некогда надёжной защитой древней Вятки. На краю его стояла крепостная стена, с которой горожане лили горячую смолу на головы нападавших и поражали их стрелами из луков. А в пятнадцатом веке приключилась горестная история. Ещё была Вятка вольным городом, ещё не прибрала её Москва под свою широкую руку, правили городом воевода и три атамана. Жили горожане пушным промыслом, ремёслами и торговлей. И разнёсся слух однажды, что идут на Вятку татары. Быстро собрались вятичи на площади, обсудили свои силы и решили, что сами не справятся, надо просить помощи. Ближе всех был Великий Устюг, туда гонцов и послали. А спустя неделю донесли сторожевые, что к городу приближается какое-то войско. И хоть не ночью дело было, но стояла тьма кромешная, как и положено в хорошем эпосе. Когда втянулось это войско в Раздерихинский овраг и к стене подступило, горожане принялись за дело: полилась горячая смола и стрелы полетели. С криком отступили нападавшие, и вятские смельчаки кинулись их преследовать. Завязалась нешуточная битва, полилась кровь с обеих сторон, пал в бою отважный воевода. Не сразу распознали вятичи, что дерутся не с татарами они, а с подоспевшей к ним дружиной из Великого Устюга. Но четыре сотни уже пали в этой битве. Учинили по ним пышные поминки (с той поры, возможно, и пошла присказка – «своя своих не познаша и побиваша»), и часовню порешили тут поставить в память столь оплошно убиенных. А татары так и не пришли. Поминки совершались каждый год, на них устраивали состязания стрелков из лука и борцов и пили изобильно; постепенно этот день стал из поминального – праздничным.
Но что ж тогда произошло? Как можно было спутать устюжан с татарами, которые от века налетали конницей? Ответ на этот заковыристый вопрос совсем недавно дал один местный писатель, сочинивший книгу (вот она лежит рядом со мной) сказов о когда-то вольной Вятке. Вот что было там на самом деле пять веков тому назад.
Незадолго до случившейся трагедии явился в город Вятку очень неказистый человек. Был заметно кривоног он и слегка горбат, кудрявились из-под нелепой шапки волосы и круто опускался длинный нос к рыжей бородёнке. В кафтане был каком-то странном, нехорошие заплывшие глаза и пухлые слюнявые губы. А звали его – Ицка сын Соломона.
Вздрогнули, читатель? Лично я был рад безмерно: очень я люблю читать про разные злодейства нашего народа, где к тому же и нечистой силой пахнет.
Ибо Ицка Соломонович был ещё и колдуном. Он быстро умертвил невинную старуху Феклинью, которая лечила весь город целебными травами, и даже не пощадил её любимого гуся. Чтобы занять её избу, удобно стоявшую на отшибе. После он обвинил в воровстве и нерадивости местного сборщика налогов и сам стал мытарем, затеяв непомерные поборы. Воеводу Аникея он споил хмельной медовухой и очаровал настолько, что тот шагу от него не отходил и подтверждал своим авторитетом всё, что Ицка говорил. Когда гадали жители, чьё войско подходит к городу, безвольный Аникей за Ицкой вслед стал убеждать сограждан, что это непременно татары, а коней они недалеко в лесу оставили, чтобы сподручней было штурмовать стены. А сами устюжане после вспомнили, что потому они на штурм пошли, что встретился им маленький горбатый человек, который сообщил, что татары уже взяли Вятку, празднуют победу и бесчинствуют и самая пора сейчас на них напасть внезапно.
Но для чего же это учинил зловредный Ицка Соломонович? От нестерпимой страсти зло творить или какой-то у него другой был умысел?
Конечно, был, и вятичи это довольно быстро обнаружили. Когда пошли они на поле боя, чтобы павших с почестями похоронить, то ходили там по полю Ицка с Аникеем, и обшаривал блудный атаман покойников, а Ицка складывал добычу в кошелёк. И конечно, кинулись на них разъярённые воины, да только вместо Ицки Соломоновича объявился им огромный вепрь, с диким хрюканьем и криком унёсшийся в лесную чащу.
Такая вот история случилась пять веков тому назад в той самой Вятке, где сегодня я был должен выступать со своими стишками.
После концерта (и народу было много, и смешливого по счастью) мы до ночи ели-пили на уютной кухне в доме Романа Гозмана, а я, уже в гостиницу попав, никак не мог уснуть: про Ицку Соломоновича думал. Очень у меня глобальные роились мысли (но и выпил я немало). Две похоже маленькие, равно неказистые (в литературном отношении) книжонки крепко повлияли на историю двадцатого века – «Манифест коммунистической партии» и «Протоколы сионских мудрецов». Первую сочинил некий Мозес-Мордехай Леви (более известный как Карл Маркс), вторую (получив заказ на эту фальшивку и уворовав наполовину текст у француза Жоли) – один мелкий российский журналист Матвей Головинский. Однако же идею общую он тоже позаимствовал – у некоего довольно одарённого еврея по фамилии Эфрон. Этот чрезвычайно изобильный автор (он писал статьи, рассказы, пьесы, повести, романы), начисто забытый сразу после смерти, за несколько лет до появления «Протоколов» напечатал повесть, весь сюжет которой предвосхищал будущую фальшивку. Там одна российская девица в поисках работы набрела на коммерсанта Бердичевского, который согласился взять её в гувернантки (и учить немецкому двух дочерей) лишь при условии, что она скажется еврейкой, потому что его старый отец не потерпит в доме никого из иноверцев. Бедная русская девушка согласилась и пришлась весьма по сердцу ветхому и хилому старику отцу. Настолько, что почтил он эту гувернантку высшей степенью доверия: повёл в некую секретную комнату с решётками на окнах и огромным железным шкафом в углу. Там хранилась тайная корреспонденция из всех крупных городов всех стран света. На множестве различных языков. Плюгавый старый еврей оказался чуть ли не главой (или главой?) всемирного еврейского заговора. В письмах содержались сообщения о подрыве экономики и нравственности всех стран мира. Евреи сообща и тщательно работали во имя порабощения наивных народов. Ужаснувшаяся девушка сняла копии с нескольких писем (сколько же трудилась бедная, ведь ксерокса ещё не было), украла несколько оригиналов и смоталась из этого страшного дома. Так что и сюжет будущих «Протоколов», и миф о смелом их похищении сочинил еврей Савелий Эфрон.
Тут я принялся смеяться пьяным хриплым смехом и никак не мог остановиться – ни вода, ни сигарета мне не помогали. Но в конце концов уснул. И ещё утром, старый идиот, посмеивался от глупой радости. «Во что мы только не встревали», – думал я. А после первой сигареты, за второй чашкой кофе вспомнил почему-то, что сегодня мифы даже мягкие и как бы симпатичные бывают. Так одна старушка в белорусском (кажется) селе такую повестнула байку собирателям фольклора: дескать, ежели родился мальчик у евреев, он сразу головкой вертит – думает, как он устроится в дальнейшей жизни, а вот ежели такой же мальчик у коренного населения рождается, то сразу вертит он ручонками, ища чего уворовать. И снова я загоготал от удовольствия. Тем более что вспомнилась ещё одна история из той же книги собирателей фольклора. На Украине где-то им одна старушка рассказала. Когда Моисей спустился с горы Синай, он обнаружил, что стало очень много грешников среди ведомых им евреев. И привёл он их к подножию горы Синай, велел им всем взяться за руки, а сам опять полез на гору. Но совсем недалеко. Оттуда сбросил он довольно длинный провод, крикнув одному из грешников, чтобы тот взял провод в свободную руку. Тут Моисей покрутил какую-то рукоятку и сразил огромную толпу сильнейшим электрическим разрядом. Двадцать три тысячи трупов пали одновременно к подножию Синая!
«Вот когда ещё мы знали электричество», – подумал я и головой легонько покрутил, чтобы прикинуть, как устрою жизнь на сегодня.
А на концерте в Вятке получил я среди множества записок три очень хорошие. Одна такая: «Игорь Миронович! У меня папа – еврей, а мама – русская. Утром хочется в Израиль, а вечером – водки. Что делать?» А вторая – доверительная: «Дорогой Игорь Миронович, я готовлюсь стать матерью. Посоветуйте, как научить ребёнка вовремя и к месту пользоваться ненормативной лексикой». А третью написал интеллигент, разгневанный моими вольными стишками: «Таких евреев, как Вы, не было, нет и не надо!»
Ещё другие навестил я города. Но в памяти всё время выплывала Магнитка. Верно посоветовал когда-то Хармс: не надо ездить слишком далеко, а то увидишь там такое, что потом никак не забудешь. Я вдруг принимался думать, что могли бы возле памятника этого рассказывать экскурсоводы, – выходил кошмар кромешный. И наверняка ведь надо было помянуть самое подлое преступление советской власти, на которое без личного распоряжения отца народов наверняка никто бы не осмелился. Нельзя было не помянуть судьбу солдат, искалеченных в мясорубке Великой Отечественной. После войны во множестве городов появились безногие нищие. На деревянных, кое-как сколоченных платформах (и четыре шарикоподшипника) они отталкивались от земли двумя деревянными чурбаками с ручками («утюгами»). Более всего их было много на вокзалах и рынках. Днём они просили милостыню, к ночи исчезали кто куда, постоянного крова у большинства из них не было, и близких – тоже. И однажды все они исчезли. Сразу. Одновременно из всех городов империи. Случилось это в самом конце сороковых (возможно – в начале пятидесятого). Это была столь же слаженная акция, как чуть раньше – массовое выселение народов, объявленных пособниками немцев. Осуществили её милиция и чекисты. Инвалидов увозили в зэковских вагонах, и оказались они в дальних, наглухо закрытых специнтернатах. Очень они портили собой вид советских городов, напоминая о цене победы. А их было много, очень много тысяч. И по мановению верховной руки они мгновенно канули куда-то. В этом, по сути, тюремном заключении они, конечно, очень быстро умирали – от обиды, от недоедания, от безвыходности и отчаяния. В девяностые лишь годы появились скупые свидетельства: один из таких интернатов был на острове Валаам – пригодились разорённые монастыри. Смутно упоминались Соловки и Сахалин, далёкие окраины нескольких городов. Так империя воздала благодарность своим калекам, вернувшимся с войны за Родину. И снова воцарилась тишина. И нет даже кладбищ с именами. При задержании отбирали у них паспорта и солдатские книжки, так что где-то есть архивы, очевидно, и когда-нибудь это забвение прервётся. Хочется так думать, что прервётся.
Меня часто спрашивают (и на концертах, и по возвращении), что я думаю о сегодняшней России. Прежде всего, мне кажется, вожди российские напрасно печалятся, что нет у населения страны какой-нибудь идеи – общей, и глубокой, и одушевляющей. На самом деле она есть, общероссийская национальная идея. Явная и очевидная, она проста и лаконична: выжить. Пережить с как можно меньшими потерями всё, что вокруг творится, и детей от пакостных соблазнов уберечь. А потому здесь каждый в меру способностей утоляет свои потребности, кладя с прибором на державный беспредел.
Что же касается общественной апатии, повальной и повсеместной, то, по-моему, устали очень люди от надежд, недавно вспыхнувших, но обернувшихся враньём и разложением, и инстинктивно затаились. Один мой знакомый предложил такую партию создать, что все в неё запишутся, она бы всех устроила одним своим названием: Российская Совестная Партия Замедленной Демократии. А сокращённо – РСПЗД.
Клуб мудрозвонов
* * *
Мудрец Зоил назло годам добро и грех легко мешал: искал повсюду падших дам и их посильно утешал.* * *
В любой душе, учил Зенон, большая сила есть телесная: зайдя однажды в Парфенон, он пукнул так, что крыша треснула.* * *
Кошмарно жил мудрец Полибий на фоне прочих мудрецов: его жена, подобно рыбе, несла икру от всех самцов.* * *
Про всех филологов совместно Катулл язвительно изрёк: им только мёртвых интересно вдоль изучать и поперёк.* * *
Любил сказать поэт Овидий, делясь умом с любым желающим: когда ты сам не в лучшем виде — не прискребайся к окружающим.* * *
Он был мудрец, еврей Шамай, и мастер в тонкостях копаться, он говорил: наступит май, и все потянутся ебаться.* * *
Мудрейший цадик Элиягу любил на рюмку приглашение и чтил божественной ту влагу, в которой скрыто утешение.* * *
Была Елена не блудница, а за свои права борец, с ней тесной близостью гордиться любой афинский мог мудрец.* * *
Жил одиноко Поликрат, он был уродлив, искалечен, но свой любовный аппарат на всякий случай мыл под вечер.* * *
Слова Гиллеля разум точат, они с души сдирают путы: «Еврей, который выпить хочет, не должен медлить ни минуты».* * *
Слова Лукиана едва ли студентам диктуют в тетради: «Увы, но сегодня морали нас учат отпетые бляди».* * *
Учитель логики Лисипп не знал, куда себя девать: от пьянства бедный так осип, что перестал преподавать.* * *
Один поверхностный мыслитель мудрей и чище стать решил, укрылся в тайную обитель, и там беднягу съели вши.* * *
В родной деревне Гидеон был нелюбим весьма нешуточно: он изобрёл аккордеон и упражнялся круглосуточно.* * *
Так часто в Греции случалось, а началось – на Эмпедокле: ему Горгона повстречалась, и вмиг его штаны подмокли.* * *
Сказал философ Гермоген для всех веков литую фразу: «Когда в роду хороший ген, по детям это видно сразу».* * *
Печально мудрый Иегуда писал ночами при луне: «Когда жена твоя – паскуда, то детям нужен ты вдвойне».* * *
Наставник юных Апеллес учил детишек верить в чудо: решив летать, на пальму влез и насмерть ёбнулся оттуда.* * *
Большой философ Парменид безвестен был и огорчался, но стал немедля знаменит, как на чужой жене скончался.* * *
Сказал философ Йоханан ученикам однажды днём: «Купил себе вчера диван и глубже думать стал на нём».* * *
Уставши жить, Алкивиад письмо – «Прощай!» – послал подруге, потом к вину подсыпал яд и чашу эту дал супруге.* * *
У Лао-Цзы была идея, в чём корень бедствий всех веков: «У мудреца и у злодея — равно число учеников».* * *
Бесстрашный Гелиогабал великий был завоеватель, но столько дев переебал, что славен кличкой – Покрыватель.* * *
Сошёл с ума учитель Фидий: орал с утра, что он – химера, а днём, шепча, что он – Овидий, читал отрывки из Гомера.* * *
Легко пророчествовал Ездра и понимался без труда, он говорил: «Поглотит бездна того, кто свалится туда».* * *
Все в Риме знали имя Секста, слыл этот нищий мудрецом и знатоком загадок секса, поскольку был с одним яйцом.* * *
О личных судьбах Фукидид гадал по катышкам дерьма и всех учил: «Душе вредит существование ума».* * *
В любом случающемся месте пророк Иона целый день вещал толпе, что, кроме чести, всё остальное – хуетень.* * *
Был рабби Зуся знаменит, но жил, не слазя с чердака, он говорил: «Меня тошнит, когда я вижу мудака».* * *
Бродячий цадик Соломон беспечный дух ценил в еврее: «Да, остолоп и охламон, а хитрожопых он мудрее».* * *
Всех наставлял мудрец Рамбам, что жить обдуманно – удобней: «Узнавши волка по зубам, не убеждайся в том подробней».* * *
О людях рав Абарбанель судил тепло и беспечально: «Все те, кто вышел на панель, там оказались не случайно».* * *
Был толкователь мудрый Раши и знал, какой надел хомут, он говорил: «Не евши каши — откуда силы на Талмуд?»* * *
Рав Нахман даже в недозрелости нашёл источник утешения: «Имей мы больше сил и смелости, крупней бы стали прегрешения».* * *
Учитель танцев Архилох во всех досадах и обидах утешить мог: «На каждый вдох, пока ты жив, найдётся выдох».* * *
Большой мудрец был цадик Енох, таких, как он, сочтёшь на пальцах, а он учил: «Судьба не в генах, она в уме, душе и яйцах».* * *
А вот во Франции намедни властитель дум Луи Прюдом понёс в кафе такие бредни, что переехал жить в дурдом.* * *
Был вольнодумцем рав Эфраим, учил он странно и причудливо: «Не обольщайтесь Божьим раем, там жарко, скучно и занудливо».* * *
Послали боги Сосипатру большого дара благодать: он мог бы даже Клеопатру до полусмерти заебать.* * *
В идеях жизни вор Менаше был честен, чист и неподделен: «Я говорю: что наше – наше, а то, что ваше, мы поделим».* * *
Учитель хедера Евсевий любил мотив печали: «Дети, я тут забочусь о посеве, но что взойдёт – не я в ответе».* * *
Асклепий всех лечил отменно, к нему толпились на приём, хоть он больного непременно предупреждал: «Мы все умрём».* * *
На2хум был мудрец, а не пророк, но прогнозы делал без труда: «Ежели кому приходит срок, тут уже не деться никуда».* * *
Рав Лурия всегда зимой, хотя был чист, как ангел Божий, но из гостей идя домой, чужую шубу брал в прихожей.* * *
В Египте жрец Эхнадрион постиг начало всех начал и стал настолько умудрён, что только пукал и молчал.* * *
Весьма известный грек Эвтебий сказал, надрезав ананас: «А я боюсь, что и на небе не меньше блядства, чем у нас».* * *
Сказал в субботу цадик Эзра: «Не в силах только недоумки понять, насколько бесполезно сопротивленье зову рюмки».* * *
«Да, я монах, – сказал Дато, — и служит святость мне наградою, но в райских кущах я зато немало девственниц порадую».* * *
Болтал везде провидец Урия: «Мы для утех в раю дозреем, от мусульман любая гурия сбежать мечтает в рай к евреям».* * *
У злой пророчицы Эсфири злой дух витал в её обители, он подпилил полы в сортире, и с ней простились посетители.* * *
Смущая души, цадик Шайя был возмутителем спокойствия: «Грех, – говорил он, – жить, лишая себя игры и удовольствия».* * *
К монаху Савлу много лет бесплодных жён везли немерено: он тайный знал такой секрет, что баба делалась беременна.* * *
Лишь осуждать, ругать и хаять пророк Балам решался смело, он говорил: «Рождённый лаять мурлыкать будет неумело».* * *
Любил напомнить рав Барух о нашей памяти богатстве: «Тряхни любую из старух — и получай роман о блядстве».* * *
Великий грек Аристофан ворчал, когда бывал не в духе: «Изобрели бы целлофан, чтоб на еду не срали мухи!»* * *
Во вздохе рава Гамлиэля — о людях явная забота: «Увы, рабочая неделя длинней, чем краткая суббота».* * *
Философ мусульманства Мохамед, усердно помолясь в конце недели, тайком носил выгуливать предмет, ценимый католичками в борделе.* * *
Философ йоги Радж Нисах так толковал мужскую честь: «Мы можем быть в любых трусах, когда внутри в них что-то есть».* * *
Вся горечь мыслей Парменида с его бедой семейной вяжется: «Весной почти любая гнида роскошной бабочкою кажется».* * *
Наставник мудрых Кришнапутра людей учил, чтоб жить помочь: «Не спи, когда настало утро, ложись, когда наступит ночь».* * *
Повесой римским был Петроний, но ярких мыслей лил напиток: «Кто слишком плачет об уроне, тому не светит и прибыток».* * *
Хранил в сужденьях постоянство учёный перс Абу Мазьян, он утверждал, что христианство явилось в мир от обезьян.* * *
Учил святой Пантелеймон, что если будешь суетиться, то вмиг рогатый охламон тебя скогтит, как рыбу – птица.* * *
Был очень добрым рав Леви, а изъяснялся крайне скупо: «Когда горит пожар любви, его гасить – и грех, и глупо».* * *
Узнал рав Зак, пойдя к врачу, что в нём беда засела прочно. «Конечно, к Богу я хочу, — подумал рав, – но ведь не срочно».* * *
Был цадик Залман эрудит, его слова – мой гордый вымпел, он говорил: «Кому вредит, если еврей немного выпил?»* * *
А старец Мойше был зануда, бубнил – как соль на раны сыпал, но врач терпел его, покуда со стула в обморок не выпал.* * *
Учил мой предок Авраам: «Пока здоров – греши и кайся, а влипнешь в лапы докторам — терпи, молчи, не трепыхайся».* * *
Любил философ Сулейман сказать изысканно и сочно: «Когда вчистую пуст карман, то шевелиться надо срочно».* * *
Философ Лунц был так отзывчив — для всех был ужин и ночлег, и так отменно переимчив, что думал мыслями коллег.* * *
Патриций Ромул был герой, оплот незыблемости строя, его так мучил геморрой, что он сидел в Сенате стоя.* * *
Сказал однажды Йонатан, гуляка, враль и полуночник: «Имей затык на свой фонтан, но береги его источник».* * *
Седой мудрец Авталион был автор мысли очень точной: «Умело сваренный бульон — залог семейной жизни прочной».* * *
Рассеян был философ Критий, и был постигнут он бедой: купая дочь свою в корыте, её он выплеснул с водой.* * *
Мудрейший грек Аполлодор сказал в ответ на речь софиста: «Излить полезно чушь и вздор, яснеет ум, когда в нём чисто».* * *
Большой мыслитель Феофил при виде кладбищ волновался: он был, бедняга, некрофил, но сам себе не сознавался.* * *
Пася орущих малолеток, друзьям печалился Федон: «Зачем, куда мне столько деток? Хоть изобрёл бы кто гондон!»* * *
А римский консул Доминик с одними шлюхами общался — он был известен кражей книг и никуда не приглашался.* * *
Воспел философ Каллимах азы мыслительной науки: «Чрезмерный умственный замах родит обычно только пуки».* * *
Поэт-философ Гесиод жил безалаберно и шумно, был в частной жизни идиот, а сочинял на редкость умно.* * *
На ухо юному соседу шепнул однажды врач Фаллопий, что в философскую беседу не стоит лезть от зуда в жопе.* * *
Сказал купцу поэт Гораций — тот уплывал за пять морей: «Тебе для тонких махинаций не грек бы нужен, а еврей».* * *
Лорд Нельсон гулял по курорту, шепча: «Меня, Боже, прости, но девки по правому борту сигналят налево грести!»* * *
«Увы, – промолвил Марк Аврелий, перед любовным стоя ложем, — на что способны мы в апреле, то в ноябре уже не можем».* * *
Пророк Нехемия когда-то свёл утешительный баланс: «Начало бед – рожденья дата, а дата смерти – новый шанс».Случайный разговор
В тот день я приехал в аэропорт, почти опаздывая, но успел купить две бутылки, да ещё осталось время выпить кофе. Мне приветливо махал рукой и улыбался какой-то средних лет потёрханный незнакомый еврей, и было бы неудобным не присесть к его столику.
– Лет десять назад вы подписывали мне книгу в Хайфе, помните меня, наверно? – спросил он чуть нагловатым от смущения тоном.
В год у меня случается с десяток выступлений в разных городах, и на каждом я надписываю несколько десятков книг – как же я мог его не помнить?
– Конечно, – ответил я.
– Стакан у меня есть, будете? – спросил он, вытягивая из портфеля крепко уже початую бутылку виски. Я благодарно поднял брови. Мы беззвучно чокнулись пластиковыми стаканами за всё хорошее. Он тут же плеснул добавку. Лысоватый, замечательно блудливое лицо.
– Я тоже в Минск лечу, – сказал он жизнерадостно.
Из аэропорта Бен-Гурион летят самолёты во множество стран и городов, но я действительно собрался в Минск и потому невольно засмеялся. По второй мы выпили за удачный полёт.
– Давно я не был в Белоруссии, – задумчиво сказал попутчик. – Наверно, года полтора уже. Мне всегда не везёт, когда туда еду, что туда, что обратно. Как-то перевес у меня был на много килограмм, чуть ли не сотню баксов надо было доплатить, так я их еле уболтал, чтобы разрешили без доплаты. А как-то деньги вёз – немного, тысяч десять, так в Белоруссии таможенник меня минут сорок мурыжил: я, говорит, вижу тебя насквозь, ты где-то деньги спрятал, почему не пишешь декларацию? Так еле я его уговорил, что нету ничего, уже он было шмон собрался учинять. А как-то раз курю я в минском аэропорту в неположенном месте, а менты мне говорят: пошли-ка, парень, протокол оформим. А у меня деньги заначены, и знаю, что найдут – отнимут. Еле-еле я от них отговорился. А ещё я прилетаю как-то в Минск, и три бутылки в чемодане у меня, по литру каждая. Так они мне чемодан своим рентгеном просветили, прямо из толпы меня выдернули, вот ведь суки зоркие. А можно только один литр, уж не знаю, как сейчас. Так две литрухи им пришлось оставить.
– А вы ни разу не пробовали, – вежливо спросил я, заранее грустя о своей второй бутылке, – так поехать, чтобы всё по закону?
Он дико на меня посмотрел и машинально плеснул нам по глотку. Такая мысль ни разу ему в голову не приходила, и поэтому мы выпили без тоста. Каждый думал о своём. А тут как раз объявили посадку (до сих пор чуть напрягаюсь, когда слышу или пишу это слово). В Минске он ко мне не подошёл – наверно, каждый раз волнуясь по приезде в Белоруссию.
А я, уже в гостиницу едучи, угрюмо думал, что неправильно веду себя в последние годы, я ведь очень мало записываю, а такие благодатные разговоры приключаются в дороге сплошь и рядом. Почему же я даю им улетучиться из памяти? И сам себе всё очень просто объяснил: я уже давно довольно обнаружил с радостью и удивлением, что гастроли – это замечательно уютный и надёжный вид одиночества. Хотя всё время я на людях и меня встречают, опекают, провожают, я готовно отвечаю на вопросы и легко поддерживаю лёгкий разговор. Веду вполне публичное существование, контактен, и приветлив, и отзывчив. Только это чисто внешнее и машинальное общение. Я всё время нахожусь в невидимом коконе, я думаю, о чём-то вспоминаю или просто в тихой внутренней отключке нахожусь. Хотя наружно – светлый и типичный образ кочевого фраера. Как такое происходит, я не смог бы объяснить связно и достоверно, только это именно так. Меня куда-то водят выпивать и закусывать, я честно исполняю ожидаемую роль застольного балагура, но всё время сам, один, внутри себя. Поэтому, возможно, я почти не помню, как эти гастроли проходили, где я был и даже (что порой обидно) забываю, что я видел в этих городах, мелькающих с неуловимой скоростью. Из этого блаженного (блажного?) состояния меня выводят только те случайные разговоры (фразы или случаи), которые мне хочется запомнить, и я порой записываю их. Коряво, наспех, в нескольких отрывочных словах. Эти блокнотные каракули я сам не в силах разобрать, когда я возвращаюсь, но сижу над ними и в конце концов припоминаю. Далеко не всё, но многое. А записав их аккуратно и разборчиво, я думаю с тоской, куда теперь их подевать. Поскольку прозу не пишу, и как бы ни к чему эти забавные случайные обрывки. Поэтому я здесь решил собрать их вместе без какой-нибудь системы и порядка. Так: услышал, удивился, записал. Осколки жизни кочевой.
Начать, конечно, следует с Москвы. Мы как-то с Татой побрели в один обильный магазин, поскольку вечером предвиделась большая пьянка. Мы всё необходимое нашли и закупили (до сих пор я удивляюсь вежливости и радушию, осенившим нынешних продавцов), и я с двумя большими сумками пошёл наружу покурить, а Тата ещё что-то там смотрела.
– Извините, вы не Губерман? – ко мне обращался очень-очень невысокий плотный старичок моих примерно лет. Смотри-ка, и фамилию назвал. Обычно имя и фамилию не помнят и негромко задушевно говорят: «Ведь это вы и есть тот самый?» Я послушно соглашаюсь: да, тот самый. За уличным такого рода узнаванием обычно следует просьба об автографе или интимное воспоминание, что видел как-то раз по телевизору – с оттенком гордости, что память хоть куда.
– Читал ваши стихи, – медлительно сказал старик, – в них есть о чём подумать думающим людям.
Я молчал, докуривая сигарету.
– Я сам чекист, – журчал старик, – а вы, читал я, с нашим братом вдоволь пообщались. Я большим подразделением командовал, тяжёлая была работа…
Он полез в карман и показал мне какое-то красное удостоверение – то ли ветерана, то ли сохранившееся с тех прекрасных лет, когда он вынимал его уверенно и властно. Я подумал, что, скорей всего, он управлял огромной сворой топтунов.
– Наружное наблюдение? – вежливо спросил я.
– А все награды, премии и поощрения – другим отделам отдавали, – подтвердил он мою догадку. – Хотя без нас им ничего бы не светило.
Я уже нетерпеливо ждал жену, и ни о чём его расспрашивать мне не хотелось. Он ещё мне так же тускло сообщил, что он и нынче секретарь районного совета ветеранов и что с тягостями той былой работы примирял его только начальник непосредственный, большого ума человек и редкой душевности. Это я прекрасно понимал, у них таких в избытке было, сам удостоверился не раз. Но тут он о начальнике сказал такое, что испытал я неожиданную радость.
– Я к нему когда ни загляну, всегда на что-нибудь пожалуюсь, а он всегда в ответ мне говорит… – старик выдержал безупречно артистическую паузу и тоном мудреца Эзопа произнёс: – Не бзди в скафандр, а то всплывёшь.
Ни разу в жизни не слыхал я столь прекрасной мерзкой фразы. Появилась Тата, и я с благодарностью пожал его пухлую, но ещё крепкую руку.
Я приезжал в тот раз не только ради выступлений: меня пригласила на свой юбилей очень любимая мной «Новая газета». Это единственная российская газета, которую я читаю, каждый раз удивляясь мужеству её сотрудников и загадочному факту, что её не задавили. Вся остальная пресса (как и телевидение, впрочем) давно уже втиснулась в дозволенные рамки умолчания. Но ведь и убили в этой газете четверых уже сотрудников. Ну, словом, – счастье, что она существует. На концерте в честь юбилея мы сидели с женой Татой возле родителей Ходорковского, и это клало дополнительный отсвет на всё происходившее. А после удалось мне протолкаться и пожать руку Горбачёву, я его великим полагаю человеком, хотя он совсем нечаянно, того нисколько не желая, повалил кошмарную империю. А так как мы ещё всё время поддавали (выпивку и лёгкую закуску по всему фойе носили), то прекрасный получился праздник. Повидал я нескольких людей, приятельством с которыми весьма горжусь, а лица множества других были на редкость симпатичны, такого скопления интеллигенции я уже много лет не видел. И поэтому когда мы столкнулись в толпе с Алексеем Симоновым, я его немедленно спросил:
– Скажите, Алексей, нас тут собралось человек пятьсот, наверно, с замечательными лицами, и я уверен, что любому вы пожали бы тут руку, не колеблясь. Это и всё, что осталось нынче в Москве, или есть ещё такие же?
Он засмеялся моему иностранскому вопросу, чуть подумал и ответил так, что я немедля и невежливо сбежал, чтоб записать.
– Нет, – ответил он, – ещё, пожалуй, наберётся тысячи две, но в том беда, что большинство из них с каждым годом пожимает руку всё слабее.
Этот короткий диалог настырно ёрзал в моей памяти, как будто понукая вспомнить, как совсем недавно я сидел, курил и точно так же думал, что только два бывалых советских человека могут с полным пониманием так коротко поговорить. И вдруг сообразил, что мучаюсь, поскольку место, где случился этот разговор, уж очень, очень мало подходило к содержанию его. А было это в Барселоне. Берег моря, славная гостиница, слёт авторской песни. Барды из Америки, Германии, Австралии и уж, конечно, с необъятных просторов рухнувшей империи советской. Хоть наехало немало графоманов, но и те вполне уютно слушались под лёгкое испанское вино. А прямо перед корпусом гостиницы огромный был бассейн, возле которого с утра особенно приятно пилось ледяное пиво. Там я и сидел, когда ко мне подошёл невероятной симпатичности человек, поэт и незаурядный музыкант Витя Луферов. Мы видимся с ним редко и случайно, и поэтому я очень удивился, когда он сказал мне, что вчера ему приснилось нечто, тесно связанное со мной.
– Ты понимаешь, – говорил он тоном человека из подполья, – я сижу в какой-то камере и следователь грубо на меня орёт, чтоб я кололся, после так ударил, что я в угол отлетел, и я ещё не встал, как он пошёл к дверям и посулил мне, что сейчас он позовёт амбалов, чтоб меня топтали, как умеют. Я, ты понимаешь, встал, жду, что придут меня метелить, и вдруг вижу на столе у следователя папку с твоим именем. Я её раскрыл, там всего несколько листочков – на тебя заведенное дело. Ну, думаю, мне всё равно ведь пропадать, так я эти листы порвал, помял и съел. Давился, но глотал. Тут дверь стала открываться, я проснулся – ну, думаю, счастье какое, а во рту – вкус жёваной бумаги…
Я молчал, зачарованный этим кафкианским рассказом, а Витя Луферов вдруг совершенно серьёзно меня спросил:
– Если ты такое на меня увидишь, ты ведь тоже так поступишь, правда?
Это не предположением звучало («если бы»), а вопросом о конкретной завтрашней реальности, и я невольно вздрогнул, посмотрев на Витю непонятливо и даже с подозрением, что шутит или нездоров. Но тут нагрянули его приятели, и их разноголосицей наш разговор прервался. Только ещё долго я сидел в ошеломлении, такие сны давно уже не снятся мне. Вторая кружка пива показалась мне ещё прекрасней.
А в том, советском времени когда-то состоялся у меня (естественно припомнившись сейчас) один короткий разговор, тогда меня глубоко поразивший. Мы в Сибири жили, я был «химик», то есть зэк, отпущенный из лагеря досрочно, чтобы работать в назначенном месте на стройках большой химии (Хрущёв такое сочинил, дай Бог ему благополучия в загробной жизни). И мы с женой пошли в библиотеку нашего шахтёрского посёлка. А там невзрачная, немолодая и помятая библиотекарша, едва на меня глянув, утвердительно спросила:
– Вы ведь химик?
Я в ответ кивнул недоумённо – мол, какая разница, как я сюда попал, я житель этого посёлка, гражданин и всё такое прочее.
– А химикам мы книги не выдаём, – надменно сказала эта сеятельница культуры. С полминуты я молчал оторопело, а потом пролепетал униженно и робко, что я, собственно, и сам литератор, даже книги мои есть, возможно, в этой библиотеке – так нельзя ли сделать исключение.
– Я знаю, – с омерзением отрезала библиотекарша, – но так все химики сюда полезут.
Эта логика сразила меня полностью. А Тата вежливо и мягко попросила:
– Запишите в таком случае меня, пожалуйста, я вольная, приехала сюда жить с мужем, вот мой паспорт.
– Где работаете? – неприязненно спросила охранительница книжного богатства.
– Я нигде пока, я только что приехала, а вообще филолог, – объяснила Тата.
И баба отчеканила с нескрываемым злорадством:
– Мы домохозяйкам книг не выдаём.
Мы шли домой такие удручённые, что чуть не поссорились, потому что Тата поносила бедную библиотекаршу различными словами («сука» было самое приличное), а я уныло бормотал, что эта пожилая девушка наверняка несчастна, и вот пришёл ей случай отыграть свои печали на химической семье бесправной. И немедля Тата на меня переключилась – и в душевной мягкотелости меня виня, и в жажде оправдать любых позорных сук. А так как это свойство мне и впрямь присуще, то и бормотать я вскоре перестал. А книги стали слать нам из Москвы, и получать очередной их ящик было радостью неимоверной.
«Ну, а светлый разговор какой-нибудь ты помнишь, старый очернитель?» – спросил меня внутренний голос. «Ещё как», – ответил я ему. Но первый же, который вспомнился, был пересказом некой чужой истории. А я её услышал в Балтиморе, большом американском городе. Там одна моя знакомая известна всем как замечательный экскурсовод. И вот её однажды попросили поводить по Вашингтону очень важное лицо – министра внутренних дел Армении. (Возможно, это был всего лишь заместитель, но пускай будет министр – так интересней.) Оказался он вполне симпатичным средних лет мужчиной, с той интеллигентинкой, что вообще присуща армянам, и водить его по городу было легко и интересно. А в процессе этого похода оказались они возле площади, где в урочные вечерние часы тусуются городские гомосексуалисты и лесбиянки. А министру это рассказав, спросила его гидша, есть ли геи с лесбиянками в Ереване.
– Да, гомосексуалисты у нас есть, – подтвердил министр, – а лесбиянок у нас нет.
– Как же это, всюду они есть, а у вас нет? – усомнилась рассказчица.
– А мы их ебаем, – лихо объяснил министр.
Ещё один чужой и светлый разговор мне было б очень жалко упустить. Моя хорошая и давняя знакомая, живущая в Париже, созвонилась со своей подругой, жительницей Швеции, и они совместно отправились куда-то погреться и подышать морским воздухом. Расположившись на пляже, они оживлённо чирикали о своих делах и заботах, как вдруг к ним обратился пожилой еврей, степенно возлежащий под тентом.
– Я извиняюсь, – сказал он, – я слышу русскую речь, я тоже из России, но сейчас живу в Израиле.
Выразив по этому поводу живую вежливую радость, подруги продолжали разговор. Однако же еврей не унимался.
– Я извиняюсь, – снова сказал он, – а вы где живёте?
Подруги сообщили, что живут во Франции и Швеции.
– Вот вы мне и скажите, – попросил еврей, – что вы думаете об Израиле? Только скажите объективно.
Моя приятельница, человек весьма учёный и логично мыслящий, терпеливо объяснила, что, поскольку она может высказать лишь собственное мнение, объективным оно быть не может, оно будет субъективным, то есть личным.
– Нет, вы меня не поняли, – поморщился старик, – и я вам объясню. Многие люди говорят об Израиле плохо, а это – не объективно.
Мне никак не миновать историю, услышанную мной в турецкой Анталье. Как я оказался на курорте этом (да ещё в гостинице роскошной) – песня отдельная. Один мой знакомый задумал юбилей отпраздновать распахнуто и грандиозно – пригласил в Анталью аж двести человек друзей, приятелей, по бизнесу партнёров и родных людей, естественно. Ещё туда оркестр приехал (как не два), и я был приглашён читать стишки. Ах, как это было замечательно! Трём международным шахматным гроссмейстерам я руку пожимал и с бывшими чекистами беседовал (все как один, оказывается, всю жизнь поборники свободы были), а во всех гостиничных барах – пиво с выпивкой, не говоря уж о закуске, загодя и наперёд оплачено широким юбиляром. А на берегу нам жарили перепелов… А в зале настоящий шахматный турнир гигантов видел я впервые в жизни. И вплотную если к столику любому подойти (жаль только, сразу отгоняли), то всем телом чувствуешь поле нервной напряжённости в воздухе… А бассейн внутри гостиницы с водою подогретой (тут же баня всякая и разная)… А… Словом, это всё прекрасно было, дай Бог здоровья устроителю такого праздника. Ну и в делах – успеха, разумеется, поскольку и заметить не успеет человек, а близок уже будет новый юбилей. Положим, я не доживу, но людям повезёт, если удачно эти годы протекут. Теперь и перейду к обещанной истории.
А впрочем, я сначала отвлекусь. Поскольку посреди турецкой этой роскоши (а именно таким был интерьер гостиницы, хотя местами что-то и египетское было) вдруг припомнился мне день, когда я так же переполнен был острейшим чувством удовольствия от жизни. В городе Тамбове, в пересыльной городской тюрьме. Там нас помыли (баня, правда, хуже, чем в Анталье, но всё-таки вода горячая), а на обед был суп – точнее, жижа, где варились макароны, их обрывки попадались в каждой миске. И мясным бульон был этот, мяса не было, конечно, только повара чуть позже его вынули, чем надо, чуть оно переварилось, и на радость зэкам плавали мясные волоконца. Очень, очень убедительным был тот суп, и больше никогда такой не попадался мне за всю отсидку. А потом и каши жидкой кинули по черпаку. Ну не тюрьма, а санаторий. Только главное не в этом. Когда наша камера возвращалась с прогулочного дворика, на повороте коридора, на углу, где каменно сидит дежурный надзиратель, не было его на месте. А на столике лежала книга, начисто уже ошкуренная от обложки, но страницы ещё не были напополам разрезаны, чтоб нам такие половинки штуки по три на день выдавать. Поскольку никакой бумаги туалетной отродясь по тюрьмам не бывало, то такие вот рассеченные книги были нам гигиеническо-гуманитарной помощью от наших пастухов. А эту, повторю, ещё не рассекли – возможно, он за бритвой и пошёл. Я отклонился вбок чуть-чуть и в пируэте этом книжку прихватил и сунул под рубаху, плавный ход колонны нашей ни на миг не задержав. На случай шмона, если хватятся и вычислят, я ещё час её не вынимал. Но тюрьма была большая, камеру за камерой вели туда-обратно, скоро нам в кормушку сунули обрезки пожелтевшего учебника какого-то (предмет не помню). И тогда я достал свою добычу. И так на нарах повернулся, что в глазок дверной её не мог увидеть надзиратель. Оказался у меня в руках целёхонький Лесков – «Очарованный странник». И лежу я сытый, сигареты ещё есть покуда, и читаю. И меня такое счастье разобрало, что Тамбов я вечно буду помнить, и туда если случайно попаду, бесплатно дам концерт для всей администрации тюрьмы.
Однако же вернусь теперь в Анталью. Ко мне в антракте подошёл один из друзей юбиляра и стеснительно спросил, готов ли я и впрямь, как говорил вначале, выслушать историю, недавно у него в семье происшедшую. Конечно!
– Мы с женой – украинцы, – сказал рассказчик, – а семья наших приятелей – оба евреи. Как-то мы пришли к ним в гости, и хозяйка по рецепту её бабушки нам приготовила фаршированную рыбу…
Он чересчур подробно это мне повествовал, поэтому я главное перескажу. Гостье-украинке так это блюдо понравилось, что она рецепт спросила у хозяйки и с усердием его записала. Прошло какое-то время, и еврейская семья пришла гостевать к украинской. Хозяйка-украинка им приготовила такую точно фаршированную рыбу. И настолько вкусную притом, что еврейка с восхищением сказала:
– Слушай, у тебя гораздо вкусней рыба получилась. Ты по моему рецепту всё делала?
– Всё в точности, – ответила польщённая украинка, – я только, знаешь, на свой страх и риск в этот фарш немного сала намесила.
Мне эти краткие случайные истории нравятся, конечно, за их похожесть на анекдоты, только есть в них нечто большее порой – ну, вроде достоверного свидетельства о психологии участников. Один приятель наш, врач по профессии и по душевному устройству врач, поехал по своим делам в Москву. Дела были такого свойства, что по нескольким московским больницам довелось ему подробно походить. И другу своему, с которым некогда учился здесь, теперь уже солидному профессору, он изложил свои довольно скорбные впечатления о состоянии российской медицины. Попутно, разумеется, упоминая и израильское врачевание. Профессор выслушал несколько его монологов, а потом сказал задумчиво:
– Ты знаешь, так ты ругаешь нашу медицину, так израильскую хвалишь, что просто хочется съездить…
– Так приезжай, – обрадовался наш приятель, – приезжай, посмотришь сам.
– Нет, – поморщился профессор, – ты не понял. Хочется съездить тебе по морде.
Расскажу теперь о разговоре, которого на самом деле не происходило. Я просто был дуплом, куда слетелась перекличка двух военных ветеранов. В Москве я читал стишки недавно в замечательном кафе «Гнездо глухаря» – там барды почти каждый вечер исполняют свои песни, и вполне своя приходит публика, я не случайно каждый раз туда прошусь, когда в Москве бываю. И по ходу выступления я рассказал смешную историю о пожилом недалёком еврее, бывшем полковнике авиации. Он объяснял свою эмиграцию в Америку обидным для его души антисемитизмом: когда в семьдесят третьем году его эскадрилья собралась лететь бомбить Израиль – его не взяли. Среди полученных от зрителей записок одна была по-армейски суха и категорична:
«Уважаемый Игорь Миронович! Поверил во все Ваши рассказы, кроме еврея-полковника (его нужно доработать). Вы как еврей и я как полковник понимаем, что в армии евреев, дослужившихся в авиации до полковника, – НЕТ. Спасибо за концерт». И неразборчивая, с очевидностью начальственная подпись. (Слово «нет» написано заглавными буквами, а запятые я расставил сам, их не было.)
Я сразу же обиделся на совет «доработать» – все мои байки подлинные, я ничего не сочиняю. И я мог бы возразить, но жалко было времени концертного, и я записку эту умолчал. Но здесь отвечу на неё, тем более что вся дальнейшая история – о чрезвычайно дружеской гуманности.
В Германии, в городе Хемнице (где байку эту про полковника я тоже излагал) ко мне подошёл в антракте пожилой улыбчивый еврей и попросил минуту времени. Оно у меня было, я уже все книги подписал.
– Знаете, Игорь Миронович, – сказал он, – я как бы и есть тот самый ваш полковник, только у меня гораздо человечней получилось.
Когда в семьдесят третьем в Израиле шла война, по его авиачасти прокатился слух, что их вот-вот пошлют против еврейских агрессоров. Его вызвал к себе командир их части (или эскадрильи, как там это называется?) и доверительно сказал:
– Семёныч, бери отпуск и гуляй на всю катушку целый месяц. Не хуя тебе своих бомбить и нервы портить.
А теперь – короткая история об очень светлом человеке. У жены нашего сына есть бабушка. Ей уже восемьдесят лет, но она неустанно пестует четырёх внуков, на себя же взяв и все почти заботы по хозяйству. И её во время родственной гулянки кто-то легкомысленно спросил, не тяжела ли ей такая дикая нагрузка в её возрасте (сама она именует это «сладкой каторгой»).
– Да, тяжело, – вздохнула бабушка, – но вот умру и отдохну. Дожить бы только.
Мне кажется, что к разговору смело можно причислять и случаи (они нередки), когда один из собеседников молчит, ответив только взглядом, усмешкой или жестом. Например, сидя у приятеля на свадьбе, я услышал вдруг, как за соседним столом молодая женщина громким шепотом сказала своей подружке:
– Посмотри, вон слева от меня за столиком сидит какой-то пьяница с обвислым красным носом – правда же, похож на Губермана?
Я обернулся к ней и лучезарно улыбнулся. И глаза у неё стали – как у школьницы, описавшейся на уроке.
Один случайный разговор никак нельзя тут упустить, поскольку два-три слова обнажают изредка такую глубину душевного настроя, что психологам и социологам в большой статье не описать. Тем более – зловещего настроя. Одна моя приятельница ехала в такси по какому-то большому городу (по какому именно – не помню), и водитель принялся ей сетовать на пагубное обилие инородцев. Моя приятельница, будучи еврейкой, чуть насторожилась, но немедля выяснилось, что речь идёт о тех, что «понаехали»: и жить не дают, и ведут себя нагло. Выгнать бы их всех и выселить туда, откуда заявились. Пассажирка молча развела руками: невозможно. Ей хотелось что-нибудь ещё услышать.
– А тогда, – сказал водитель злобно и решительно, – такие надо им создать условия, чтобы стало очень плохо, и они уедут сами.
– Но в таком раскладе вам ведь тоже будет плохо, – удивилась приятельница.
– А я потерплю, – мрачно сказал водитель.
Я теперь немного отвлекусь и расскажу о разговоре неслучайном, просто у меня другого места в книге не сыскалось для него. А я уже давно хочу покаяться в одном некрупном шулерстве. Пятнадцать лет прошло с тех пор, пора, мой друг, пора. Один приятель мой, слегка и нескрываемо смущаясь, сказал, что он с коллегами хотел бы сделать обо мне кино.
– Поскольку, понимаете ли, Игорь Миронович, – мямлил он, – уж вы не обижайтесь, только вы уже, как говорят у нас, – кадр уходящий, и пора вас снять на плёнку.
Я засмеялся и сказал, что буду очень рад. Они сперва снимали в Иерусалиме, а потом поехали со мной в Москву, где в разных местах я рассказывал им байки и читал стишки по ходу съёмок. Получилось превосходное кино (семь частей по полчаса каждая), и стали они его продавать. На фильм этот запал один большой телеканал, но приключилась долгая заминка. Мне позвонил режиссёр фильма и пожаловался, что продюсер этого канала уже месяц как молчит в раздумьях. По всей видимости – горестных ввиду необходимости платить. А кстати, деньги были небольшие, лишь в обрез они бы окупили все расходы трёх энтузиастов съёмки уходящего кадра. Я очень симпатичного теленачальника этого знал и вызвался позвонить ему, чтобы выяснить хотя бы перспективы. Но задумка у меня была покруче. (Имена я поменяю по тактичности, по деликатности и щепетильности.)
– Марк, – сказал я ему интимным тоном, – у меня к вам чисто нравственный вопрос. Мне позвонил режиссёр Фима и спросил совета: у него какая-то телестудия хочет купить тот фильм по большей цене, чем он назначил вам, но с вами он уже повязан предложением своим, и как бы совестно ему теперь в кусты смываться, и он меня спросил, как ему быть. А я не знаю, я же не профессионал, хочу у вас спросить совета.
– Зачем вы меня шантажируете, Игорь? – сухо и догадливо спросил профессионал Марк.
– Марк, – ответил я обиженно вопросом на вопрос, – похож ли я на человека, который станет шантажировать кого-то?
– Пусть сам решает, как находит нужным, – буркнул Марк, и мы разъединились.
А назавтра к вечеру мне Фима позвонил:
– Он покупает наше кино! Как вы его уговорили?
– Я ничуть его не уговаривал, – честно ответил я.
Надо сказать, что оправдалась полностью затея и не прогадал купивший фильм продюсер: несколько раз прошло это кино в Израиле, Америке и странах, где доступен тот телеканал. И я без капельки стыда теперь вот искренне покаялся в своём удачном шулерстве.
А как-то у меня случился содержательный, хотя и мимолётно краткий разговор с московским мэром, знаменитым Юрием Лужковым. Он приехал по своим делам каким-то, в честь него устроен в Тель-Авиве был банкет, и мне его сотрудник позвонил, от имени своего шефа пригласив на это торжество. Я был приятно удивлён, а Тата по привычке заподозрила неладное, но ехать согласилась. Лужков встал из-за стола нам навстречу, закадычно обнял меня и сказал, что давний мой читатель. Тут же он из-под салфетки на столе достал и подарил мне свою книжку переделанных на российский лад мыслей и афоризмов Паркинсона (или Мэрфи – я уже не помню, книжку лень искать), сделав на ней очень лестную и дружескую надпись. Я тоже подарил ему свою книжку, и мы с женой отправились куда-то в конец зала, где ещё были места. Но выпив и поев, я побрёл к его столику, чтобы утолить своё давнее любопытство. Очень уж он был похож на моего дядю Исаака. Он вежливо привстал мне навстречу.
– Юрий Михайлович, – сказал я тихо и интимно, – у меня к вам есть один вопрос…
– Всё что угодно, – распахнуто ответил он, привычно понимая под вопросом какую-нибудь просьбу. Я ни о чём просить не собирался.
– Мне уже давно говорили, – сказал я, – что в вас есть какая-то часть еврейской крови – это правда?
– Враги клевещут! – воскликнул он так жарко, что вполне мне стало очевидно, как ужасно для него такое гнусное предположение.
Я сразу ощутил, какую пакость заподозрил в этом чистом человеке, и смущённо извинился. Зря я так его расстроил, покаянно думал я, плетясь на своё место.
А ещё я вспомнил один случай, когда краткий разговор (и выпивка вослед) мне очень помог поправить захиревшее здоровье. Мне тогда сделали довольно тяжкую операцию – нет, надо бы начать с того недолгого времени, когда я ещё томился в предоперационной палате. Нас там было человек пять-шесть, и мы лежали по своим кроватям, ожидая очереди под нож хирурга. Ко мне подошёл человек в зелёном (операционном) одеянии и сказал очень душевно:
– Игорь Миронович, я из бригады анестезиологов. Мы вас сейчас усыпим, так что пообщаться не сможем, но мы вас знаем, любим, и всё будет хорошо. Вы как себя чувствуете?
– Старина, – ответил я, – чувствую себя я плохо, начинайте без меня.
Он громко засмеялся и ушёл. А после операции ко мне в палату несколько раз заходили разные врачи, на иврите и на русском желали выздоровления и быстро уходили. А один не уходил.
– Игорь Миронович, – сказал он, когда мы остались вдвоём, – вы ничего не едите, а надо бы, уже вторые сутки пошли.
– Да неохота, – тихо промямлил я.
– Может быть, вам выпить хочется? – спросил он.
Я ожил и встрепенулся.
– А у тебя есть? – спросил я хриплым забулдыжьим голосом.
– Есть полбутылки виски, – ответил он и назвал марку моего любимого напитка.
– Так неси скорей! – сказал я радостно и бодро.
Он пошёл к дверям, а глядя ему вслед, я подумал о его несолидной молодости (немного за тридцать) и окликнул его:
– Послушай, только ты спроси какого-нибудь местного профессора, мне можно ли уже?
Он обернулся и сказал мне с укоризной:
– Что ж вы обижаете меня? Я и есть ваш местный профессор.
И принёс он полбутылки «Чивас регель», я отпил глотка четыре и ощутимо возвратился к жизни. Вечером ко мне пришёл приятель, мы с ним на балконе всё допили, там же покурили, и поправка моя двинулась стремительно.
Одна история, рассказанная мне, обогатила мой эстрадный репертуар, теперь я всюду рассказываю её всем со сцены. Я, к сожалению, не помню города, где подошла ко мне в антракте женщина и, чуть запинаясь, сказала, что мне будет интересно, как порой родители участвуют, сами того не замечая, в обогащении своих детей различной неформальной лексикой. Она смущалась явно от того, что предстояло изложить. И чу2дную услышал я историю.
– Мы сели ужинать втроём, – рассказывала женщина, – мы с мужем и наша семилетняя дочь. Две недели уже дочь ходила в первый класс. И ангельским своим прелестным голоском спросила вдруг она: «Папочка, а что это такое – полный пиздец?» Отец мгновенно покраснел, вспотел, беспомощно глянул на жену и медленно ответил: «Понимаешь, ласточка, это такая ситуация, когда всё сложилось очень хуёво».
Глава научно-популярная
Мне как-то раз воочию довелось убедиться, что советские вожди врали нам про светлое будущее не так уж огульно. Случилось это в Америке, в каком-то небольшом городке штата Нью-Джерси. Меня позвали выступить в заведение странное – ну, как бы детский сад для пожилых людей. Я было хотел отказаться: зрелище старушек, мучительно пытающихся что-нибудь услышать и бессильно засыпающих в креслах, уже заранее удручало меня (когда-то я такое испытал).
– Пойди-пойди, – сказал приятель, – ты такого в жизни не увидишь.
И я согласился. В зале сидело человек триста (подвезли из двух соседних садиков) хорошо одетых, аккуратно прибранных, очень оживлённых пожилых людей. Такого прекрасного вечера не было у меня уже давно: я полтора часа общался с ровесниками моими, и взаимопонимание наше было полным. Возраст их был от шестидесяти до семидесяти с гаком (порой весьма большим). Такой однородный по возрасту состав создавал замечательное чувство единения. К тому же привезли меня чуть ли не за час, и я знал уже о буднях жизни в этом садике. Их собирали утром на автобусах и развозили по домам на закате. К их услугам постоянно были и врачи, и медсестры – кажется, даже парикмахер. О шахматах, телевизорах, комнатах отдыха, бильярде и бассейне нечего и говорить. Экскурсии, поездки и прогулки. Согласно некой американской программе (из бюджета страны) на каждого из них в день полагалось столько долларов, что цифру я назвать не решаюсь – она очень близка к месячной пенсии какого-нибудь российского учителя. О кормёжке следовало бы написать отдельно, только лучше привести маленькую деталь: вечером каждый мог забрать с собой сумку продуктов, если дома у него не возражали против такого приношения. Начиная с пенсионного срока, такой сад доступен каждому. А любовные и дружеские страсти, которые разыгрываются в этих стенах, достойны книг и сериалов – я уверен, что они ещё появятся. Бывшие советские люди обойтись без стенгазет не могут, и они там есть. Отдельно – всякие доски с фотографиями ветеранов войны (со всеми орденами и медалями) и самодеятельность в виде живописи и рисунков. Живая и насыщенная жизнь.
Короче, выступление своё я начал с того же, чем начал эту главу. Советские вожди не всегда врали нам, сказал я. Вот ведь Никита Хрущёв отнюдь не сболтнул, заявив некогда вполне громогласно, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И смотрите-ка, сбылись его слова. Все дружно засмеялись этой нехитрой шутке, зря я опасался, что кто-нибудь патриотически насупится.
Кстати сказать, я знаю, что такие же садики есть и в Израиле, но там был американский размах, и старость ввиду вольготного и комфортного общения с ровесниками выглядела донельзя достойно.
Хотя время натекало даже там со всей неумолимостью, ему присущей.
У Корнея Чуковского есть в дневнике очень удивившие меня и очень спорные (поскольку чисто личные) слова: «…Никогда я не знал, что так радостно быть стариком, что ни день – мои мысли добрей и светлей».
Вторит ему Юрий Нагибин: старость – «это самая важная, тонкая, нежная, грустная и прекрасная пора человеческой жизни». «Ну и ну, – подумал я, прочитав. – Разве что со словом “грустная” могу согласиться».
Больше ничего одобрительного мне о старости сыскать не удалось. Хорошо о ней отзывались только древние мыслители, но в то время старостью считался возраст около пятидесяти лет, смешно об этом говорить сегодня. А нынешние златоусты издеваются над старостью без всякого сочувствия. Я взял толстенный сборник афоризмов на все случаи жизни и оттуда выписал немного. Авторов не буду называть и кавычками пренебрегу, чтоб очевидней стал безжалостный парад печального злоязычия. Старость – это послесловие к жизни, пишет один из афористов. Старость – это огрызок жизни, усугубляет другой. Старость – это переходный возраст: с этого света на тот, шутит третий. И другие остроумцы дуют в ту же дуду. Самое великое утешение старости – что вы до неё дожили. Старость – это когда знаешь все ответы, но тебя никто не спрашивает. У старости две полярные заботы: время кончается, и куда девать этот остаток. Не бойся старости – она проходит. А вот попалось наконец и нечто почти светлое: любой возраст хорош, пока он есть. Это, кстати, написал Геннадий Малкин, пожилой и замечательный автор, недавно переехавший в Израиль, – дай Бог ему здоровья и достатка в мыслях.
Я вдруг недавно ощутил, что мне пора опять писать о старости. Об уже иной её фазе, гораздо более продвинутой. Я сидел у своего письменного стола, задумался о чём-то и уснул. Так вот: сидя я не засыпал ещё никогда, ну пару раз в театре, но ведь там иные механизмы усыпления. Проснулся, закурил с эпической печалью и подумал, что пришла иная стадия дряхления. Уже смешно и вспомнить даже, как ещё совсем недавно жаловались мои сверстники на старость: всё редеет, плакались они, – зубы, волосы, мысли. А когда не стало ни того, ни другого, ни третьего – насупились и жаловаться перестали. Наступило время обсуждать уже совсем, совсем иное. И хотя ещё мы из последних сил бодримся, пыжимся, ерепенимся и хорохоримся, а также петушимся и кочевряжимся, однако же совсем не прочь услышать что-нибудь о светлых перспективах – неужели их не наработала наука?
Победить или хотя бы потеснить старение люди пытались уже многие века. Из многочисленных попыток стоит несколько упомянуть. Это несложно, ведь сейчас добыча сведений и фактов чрезвычайно упростилась: на закате залезаешь в Интернет и к ночи уже блещешь эрудицией. И я немного потаскаю. Спасибо названным и безымянным авторам, на них же – и ответственность, ежели я чего совру. Но кроме этого, читатель, если бы ты знал, сколько пустой херни и жидкого философического трёпа я перечитал, листая книги и статьи в поисках чего-нибудь путного о старости, то ты б наверняка зауважал меня как редкостно усердного изыскателя. Совсем недаром я недавно получил от зрителя записку, дышащую безграничным доверием к моей осведомлённости: «Игорь Миронович, когда наступит конец света?»
Ну, древности касаться мы не будем, ибо мифы и легенды про омоложение теснятся в изобилии в фольклоре всех стран, и только слишком они сказочны для нашего научного повествования. А географически множество таких мифов тяготеет к Тибету. Порою даже с точно названными цифрами (что говорит о достоверности) отвоёванных у смерти лет. Так, например, монах Чжан Даолин (I в. н. э.) озаботился своей сохранностью в возрасте около шестидесяти, изготовил некое лекарство и прожил до ста двадцати двух. Рецепта почему-то не оставив.
Средневековые алхимики – вот кто занимался этой проблемой изо всех сил, ибо очень уж настойчивы и могущественны были заказчики: и королей не сосчитать, и даже папы римские (на Бога уповавшие умеренно). Так, папа Бонифаций VIII (конец тринадцатого века), едва взойдя на престол, возжаждал если не бессмертия, то хотя бы очень долгой власти. И его личный врач (алхимик, естественно) изготовил ему снадобье из смеси царственных веществ: там были в измельчённом виде – золото, жемчуг, сапфир с изумрудом, рубин и топаз, красный и белый кораллы, слоновая кость и сандаловое дерево. Всё это смачивалось мускусом, амброй и соком алоэ. Такое не могло не помочь. Да, я ещё забыл про сердце оленя некой особо благородной породы. Но через несколько лет Бонифаций всё-таки помер.
А в конце пятнадцатого века другой римский папа, Иннокентий VIII, прославился чрезвычайным жизнелюбием: восемь сыновей и столько же дочерей при полном соблюдении обета безбрачия. Он не стеснялся своих детей, не называл их, в отличие от других пап, своими племянниками и племянницами, очень заботился об их процветании. Его распутство и чревоугодие было настолько широко известны, что даже воспевались в уличных стишках. Но время шло, и папа Иннокентий почувствовал упадок жизненных сил. И тогда личный врач влил в его слабеющее тело кровь трёх подростков. Папа Иннокентий был осведомлен об этом средстве, но очень жить хотелось, и он благословил врача на тройное убийство. Кровь не помогла, и жизненные силы не восстановились. Кстати, убеждённость в том, что свежая кровь способствует долголетию, бытовала уже с давних пор: на арену римских цирков часто выбегали старики и старухи, чтобы выпить глоток крови только что убитого гладиатора.
А уже в семнадцатом веке знаменитый врач и алхимик Парацельс изобрёл пилюли бессмертия. По слухам, они даже оживляли умерших (как те глотали эти пилюли, осталось неизвестным). А согласно тем же слухам, продлевали годы они многим. Кроме самого Парацельса, который умер в сорок восемь лет.
На сегодняшний день официально зафиксирован рекорд долголетия: его поставил некий малоизвестный китаец Ли Цуньюн, проживший на белом свете 253 года (1680–1933). Это подтверждают записи в разных бумагах, но более всего – тот факт, что он пережил двадцать три жены, его вдовой стала двадцать четвёртая. Хотите – верьте, хотите – нет, но эта подробность показалась мне убедительной: чтобы извести столько жён, надо действительно много времени. Он всю жизнь пил настои из каких-то трав (рецепт остался неизвестен) и пережил благодаря им великое множество исторических событий, о которых почти наверняка и слыхом не слыхивал.
Ещё бы не забыть упомянуть: веками длилась у людей уверенность, что омоложению и долголетию весьма способствует дыхание юных девушек. Так не отсюда ли идут корни пресловутого старческого сластолюбия? А вовсе не от чего-либо другого.
Вот мы и подошли к времени научных изысканий. Их, безусловно, следует начать с французского физиолога Броун-Секара. В последний год девятнадцатого века (учёному уже исполнилось семьдесят два) он сделал сам себе подарок в виде попытки омолодиться. Никаких предварительных опытов на животных он не ставил, полностью доверившись собственной интуиции. Он изготовил вытяжку из семенных желёз молодых собак, кроликов и морской свинки и сделал себе несколько инъекций. Помолодел он (по собственным наблюдениям и ощущениям) – на тридцать лет. Его докладу и проявленному мужеству восторженно рукоплескало Парижское биологическое общество. Через пять лет он умер, положив начало подлинной эпидемии этой «клеточной терапии», как тогда назвали его метод.
Успешно и с большой шумихой клеточную терапию продолжил знаменитый некогда доктор Серж Воронов. Он вообще-то Самуилом звался от рождения (на свет явился он в России – под Воронежем), но выучился и в дальнейшем жил во Франции, где имя заменил на благозвучное, что приключается с евреями нередко. И выпала ему судьба служить несколько лет личным врачом верховного правителя Египта (хотел я было по привычке фараоном этого правителя назвать, но он тогда именовался иначе – хедив). И обратил внимание этот врач на евнухов, служителей хедивского гарема: они выглядели очень старыми, рано умирали и ужасно плохо было у них с памятью – известно было, что даже строки из Корана они слабо помнили. Обнаружив эти несомненные приметы преждевременной старости, Воронов связал их с кастрацией ещё в детском возрасте, и мысль его парадоксально повернулась к идее замедлить старость путём прямого вживления чужих, но молодых семенных желёз. Возвратившись во Францию, он принялся за эксперименты. За сравнительно короткое время он сделал пятьсот операций: юные козлы, бараны и быки лишались своих яичек, которые получали пожилые животные и обретали прыть, игривость, сексуальную потенцию молодости. В 1920 году его постиг ошеломительный успех: тонкие срезы яичек шимпанзе и бабуинов он вживил в мошонку пожилым людям. И они помолодели! Фурор был чрезвычайно бурный. В лабораторию Воронова посыпались сотни заказов. Кстати сказать, он иногда вживлял пациентам и свежий материал, полученный от только что казнённых преступников, но после целиком переключился на обезьян, даже завёл на Ривьере специальный питомник, куда бесперебойно доставляли обезьян из Африки. А женщинам он пересаживал яичники обезьяньих самок. Богатые старики платили любые называемые им суммы. А газеты пестрели двойными фотографиями: согбенный немощный старикан, опирающийся на палку, и моложавый, явно энергичный человек – один и тот же пациент до и после операции. Легко понять, какой завистливой враждой коллег был овеян этот удачливый авантюрист, и сколько было всяческих статей о тягостных и неминуемых последствиях такого наглого вмешательства в природу человека. Но и ему, как некогда Броуну-Секару, однажды дружно аплодировало огромное собрание видных хирургов на международной медицинской конференции в Лондоне. Только он сам довольно скоро приуныл и разочаровался: такая пересадка была лишь краткой и удачной стимуляцией, и пациенты всё же умирали через небольшое количество лет. К тому же и статьи противников делали своё дело: звание вредоносного шарлатана прочно приклеилось к нему. Даже полвека спустя, когда уже явился и вовсю распространялся СПИД, вину за это африканское вторжение легко взвалили на него. А после сняли это обвинение. Так что и после смерти имя его трепалось не меньше, чем при жизни.
А клиник по омоложению открылось очень много. И чего только не прививали старым людям, которые могли платить! Недавно я в Швейцарии видел роскошное здание такой больницы, основанной ещё знаменитым хирургом Нихансом. «Здесь вводят вытяжку из каких-то желёз чёрного барана», – с придыханием шепнула мне спутница. Но почему именно чёрного, объяснить не могла. (А вот немецкие врачи работают на голубых акулах, прочитал я недавно.) В этой больнице побывали в своё время, веря и надеясь на долгое омоложение, многие знаменитые люди: Шарль де Голль, Томас Манн, Уинстон Черчилль, Сомерсет Моэм и другие. Но никто из них не написал о результатах, и они скончались, промолчав.
Сегодня в детективе «Поиск бессмертия» новый герой – стволовые клетки. Их обнаружили только в конце прошлого века, и мечта всего человечества засияла новыми надеждами. Стволовые клетки универсальны, они могут превращаться в любые клетки организма, ремонтируя органы и ткани, заменяя собой повреждённые и умершие клетки. И естественно, что больше всего таких клеток – у человеческого эмбриона, у которого только ещё формируются разные органы тела, и стволовые клетки, отправляясь по назначению, образуют сердце, печень, почки, желудок и всё остальное, навсегда утрачивая свою способность превращения. Источник стволовых клеток, их основное депо – костный мозг человека. Кровью они доставляются в любое место тела. После рождения человека, по мере его взросления, их количество стремительно убывает, и вскоре эта аварийная служба, внутренняя скорая помощь, почти совсем перестаёт работать. Ну так чего же проще: впрыснуть человеку раствор со стволовыми клетками, и они разнесутся кровью по всему организму, залатывая и омолаживая его. Но – первая же закавыка: можно вводить только собственные стволовые клетки, а чужих наш организм не принимает, отторгая их как враждебное вторжение. Однако же стволовые клетки человеческого зародыша допускаются спокойно, только тут возникает множество морально-этических проблем, которые человечество, конечно же, решит, как веками это делало с изящным хитроумием. Но пока что нрав и поведение стволовых клеток не изучены досконально, так что и этот ясный путь к омоложению находится ещё в густом тумане.
И нечто совершенно необычное обещает наномедицина, которой пока что не существует, но трубят о ней повсюду и с восторгом. Слово «нано» – это просто размер, одна миллиардная от любой единицы. Да хотя бы от миллиметра. Вы себе это представляете? Я лично – нет. Но сегодня таковы приборы у науки, что она нацелилась из отдельных атомов строить молекулы с заранее заданными свойствам. Как детский конструктор, только все детали в нём не видимы простым глазом. Более того: вот-вот (через какие-нибудь двадцать-тридцать лет) из таких молекул будут собирать наноробот, который сможет строить себе подобных, и вся эта армия примется созидать (или разрушать) всё, что будет им заказано в программе. И немыслимой красоты картина воображается сегодня энтузиастами: такая армия свободно путешествует по кровеносным сосудам человека (несколько десятков километров), на пути своём немедля и усердно ремонтируя всё, что испортилось и подлежит исправлению. Но так как мы давно уже знаем от писателей-фантастов, что роботы, свихнувшись, могут поднять бунт, то ясно, что эти не видимые глазом микромеханизмы могут кинуться, к примеру, пожирать и уничтожать то, что им вовсе не положено. Так что в будущем человечеству предстоит бороться не с железными непобедимыми гигантами (каких в кино играет Шварценеггер), а с незримыми и обезумевшими нанороботами. Волнительная перспектива, как говаривала моя бабушка Люба. Однако что-то и получится, глядишь. Хотя изношенность у лично моего организма такова, что нанороботы наверняка свихнутся от усталости, и я порадовался тихо, что не доживу до счастья этого. А внуки разберутся сами.
Ещё с одной теорией работают в Москве очень способные учёные, тоже обещавшие за двадцать-тридцать лет начисто обуздать возрастное дряхление. В нашем организме есть во множестве молекулы, с удивительной точностью названные некогда свободными радикалами. Они сполна оправдывают своё название, напоминающее о Че Геваре и ему подобных. Они свободны от всех связей, пристойных для приличной молекулы, дьявольски активны и занимаются в человеческом организме чистым терроризмом: нападают, сея повреждения, на тихие достойные молекулы, служащие в разных наших органах. От разбойных этих анархистов есть у нас везде природная защита, только с возрастом она весьма слабеет, и радикалы нападают всё успешней, сея неполадки и разрушения. Учёные надеются, что, укротив их, дряхление возможно приостановить. Забавно, что работы эти финансирует известный (и ещё совсем не старый) олигарх Дерипаска, отчего и фонд, из которого черпаются средства, именуется среди коллег – «Дерипаска бессмертный». Ну что ж, дай Бог удачи им (таких лабораторий много в мире), терроризм и правда следует прижать. Любой, добавлю я, и все меня поймут.
Поскольку о болезнях (слабостях, недомоганиях и пр.) нашего преклонного возраста писать мне неохота, кивну я просто на обилие лекарств, которые множатся к тому же со страшной скоростью, ибо печально выясняется бесполезность предыдущих. А также их опасность, ежели не вредоносность. Больной идёт на поправку, но не доходит. Поскольку, кроме своего прямого и целебного (хотя проблематичного) воздействия, лекарства эти пагубно влияют на какие-то другие части организма. Я с этим столкнулся лично и совсем недавно. Я был в Москве и как-то простудился – всё же я теперь южанин. И купили мне какое-то известное лекарство с опереточным названием «Терафлю». Предвкушая, как стремительно пройдут у меня насморк и другие горести простуды, вынул я пластинку этих замечательных таблеток, но за нею вылезла бумажка с разными лечебными советами. Я развернул её и машинально прочитал. От чистого ужаса у меня сам собой прошёл насморк, рассосалась головная боль, исчез кашель и спала температура. Ибо там перечислялись возможные побочные эффекты от приёма этого лекарства. Вот они (желающие могут купить «Терафлю» и убедиться, что я не сочиняю): сыпь, зуд, крапивница, отёки, повышенная возбудимость, замедленные реакции, чувство усталости, задержка мочи, тошнота, рвота, боли в желудке, сердцебиение, повышение кровяного давления, головокружение и нарушение сна. Там было ещё что-то, но я уже не в силах был читать, подозревая, что не исключался и летальный исход. Понятно даже идиоту (я, во всяком случае, понял), что фармацевтическая фирма просто страхует себя от различных нареканий – мы, мол, вас предупреждали, – только вдруг и впрямь какие-то побочные эффекты существуют? Лучше потерплю-ка я до появления лекарства столь совершенного, что и не надо его будет принимать – достаточно взглянуть и знать, что оно в доме есть. При современном уровне науки и скорости её развития мне не придётся долго ждать.
Но раз уж мы заговорили о лекарственной химии, заметим, что наука далеко не всё делает для облегчения старости, начисто игнорируя многие очень важные направления. То ли до них никак не доберётся, то ли трусливо закрывает на них глаза.
Вот, например, общеизвестно, что старики постоянно и непроизвольно испускают ветра (я слово «газы» не люблю). Это неудержимое пуканье – предмет конфуза бедной старости и определенного неудобства для окружающих. Забавно, что во Франции есть красное вино, которое так и называется – «Старый пердун». На этикетке нарисован старик, вальяжно и достойно восседающий в кресле, и так искусно сделан рисунок, что заметно, если приглядеться: часто пукает старик и этим раздосадован весьма. Что же это за таинственно изобильные газы, рвущиеся наружу именно на склоне лет? Невоплощённая (возможно, творческая) энергия? Ветер, некогда гулявший в голове? Результат какого-то разлада в обмене веществ? Обратившиеся в дух и ветер остатки былых иллюзий и амбиций? Наука этого не знает, очевидно, а вплотную заняться конфузным феноменом – руки не доходят или же кишка тонка. Но только как бы было хорошо придать этим ветрам изысканное благовоние! И ведь под силу это современной химии. Запахи сирени, розы, флоксов, жасмина и лаванды – всё изобилие цветочных ароматов, что имеется в духах, привить печальным старческим ветрам, и это было б истинным и благородным достижением учёной мысли. А степные травы? А свежескошенное сено? Перечень благоуханий огромен, и в каждом доме, где живёт старик, возникнет атмосфера праздника и дух победы человека над безжалостной природой. Сходив к врачу, а то и попросту в аптеку обратившись, ароматы эти можно изредка менять, и старики почувствуют себя источниками радости. Уверен, что вот-вот спохватится наука, гуманизм восторжествует, и дети (да и внуки) дряхлых стариков ещё хвалиться будут друг перед другом, споря, у кого благоуханней в доме воздух.
Я так ясно себе представил эту освежительную ауру, висящую вокруг блаженствующей старости, что две больших слезы омыли мои мутные подагрические глаза.
Эй, постой-ка, скажет бдительный читатель, ведь подагра – это болезнь суставов на ногах. Нарушается обмен веществ, и вредные соли оседают на суставах, безжалостно разъедая их. Увы, не только их. Зловещая соль времени откладывается на всём человеке, всё в нём разъедая, просто эта подагра очень разно называется: то слабостью зрения, то глухотой, то почечными коликами, то ухудшением характера, то склерозом.
Пора, однако же, поговорить о чём-нибудь приятном. В преклонном возрасте люди часто и подолгу сидят, уставив невидящий взгляд в пространство, сидят отрешённо, словно погрузившись внутрь себя. И многие старики слегка стесняются такой отключки, полагая в силу давних предрассудков, что человеку пристало непрерывно присутствовать, участвовать и предаваться бурному кишению жизни. Ничего подобного! Ведь это бездумное погружение в себя, этот уход куда-то в никуда – и есть заветное буддийское (и не только буддийское) состояние, которое целительно и благодатно. Старость инстинктивно к этой мудрости приходит, никакая тут не слабость организма, и уж вовсе глупо этого стесняться. Это ведь и есть те подступы к нирване, о которой все восточные религии твердят как о духовном благоденствии.
И не от этого ли благостного погружения в себя старики довольно часто предчувствуют свою смерть и точно называют время её прихода? Но это уже тема не научная. Одна приятельница (очень умный человек) рассказала мне про свою знакомую старушку, которая как-то на посиделках вечером ей доверительно шепнула: «Как мне надоело жить! Но уже скоро». «И ты представляешь себе – она умерла, – восторженно говорила рассказчица, – но через десять лет».
На склоне жизни более всего пугает нас (не говоря о том, что огорчает) стремительное и явное ухудшение памяти. Уже и в магазин мы ходим, заранее подготовив список нужных продуктов, многие с утра составляют себе перечень забот и расписание занятий. (Мой приятель называет такой список – «опись дел», а произносит так, что это сочной неприличностью звучит.) И я легко себе вообразил, как опись дел такая запросто могла бы получиться у стареющего Альберта Эйнштейна: «Не забыть сегодня: 1. Отнести рубашки в китайскую прачечную. 2. Ответить на письмо Нильса Бора. 3. Купить хлеб и сардельки. 4. Закончить общую теорию поля».
Однако же заметим, что беда эта, не минующая никого, может доставить большое удовольствие. Вы, например, любите Льва Толстого? Нынче вы имеете возможность насладиться этим чтением почти что заново. А «Три мушкетёра»? А хорошей вообще литературы – пруд пруди, а ваше восприятие теперь – свежо и чисто. Можно даже запросто перечитать ещё раз то, что не читали отродясь по недостатку времени и лени. Я всегда слегка завидовал людям, мгновенно забывающим анекдоты, а нынче я замшелым шуткам радуюсь настолько, что благодарным слушателем числюсь в обществе любителей античности. А с кинофильмами у меня случается теперь чистое счастье. Каждый вечер (если удаётся) я смотрю американский боевик. Какой дают, по большей части – низкопробный. Там стреляют и взрывают, бешено гоняют друг за другом на немыслимых машинах, яростно и мастерски дерутся, и крутая варится интрига. Самое же главное, что за эти два всего часа героя успевают застрелить, пронзить ножом неоднократно, утопить в каком-то жутком водоёме, сбросить с небоскрёба или немереной скалы, сжечь в деревянном доме, где он скрылся, и умело отравить. Но я-то знаю, что в конце фильма он оживёт и призовёт к ответу (столь же кошмарным образом) всех негодяев, врагов и прочих недостойных лиц. Попутно трахнув, разумеется, прелестную красотку. И под виски (пьют его герои, пью и я) блаженно это смотрится, душа гуляет и полным-полна переживаний. Только вот уже который раз я в самом конце фильма (по какому-то особенно забористому кадру) вдруг соображаю, что кино это смотрел совсем недавно. Жена Тата обычно говорит мне это в самом начале, но я так злобно огрызаюсь, что она теперь предпочитает промолчать и сидит рядом, книгу взяв или журнал, изредка презрительно оглядываясь на экран. А в конце, когда я уже спохватился (но досматриваю с тем же удовольствием), мы с ней выпиваем по рюмке за попутные благодеяния склероза.
Тут ещё мне хочется хотя бы вкратце описать, что происходит с жёнами стареющих мужчин, – пока нигде в психологической литературе мне об этом почитать не довелось. В жёнах просыпается инстинкт материнства и детсадовского опекунства. И теперь они внимательно следят, чтоб их мужчина вовремя сходил к врачу и принимал предписанные им лекарства, чтобы не пошёл в гости в домашних тапочках и с расстёгнутой ширинкой, менял хотя бы изредка исподнее бельё и не надевал рваные носки, а ел не то, что хочется, а то, что можно и полезно. За столом чтоб сохранял опрятность («Ты опять загваздал супом брюки и брызнул соусом на свежую рубашку!»), ел при помощи ножа и вилки, пальцами ничуть не помогая. Заботливое око женщины следит уж не за тем, как именно и с кем ты любезничал нынче за столом (плевать, лишь бы здоровый был), а за тем, как ты выглядишь (похоже, поднялось давление), не слишком ли много выпил и нет ли признаков недомогания, на которые этот упрямый идиот сам ни за что внимания не обратит. И чтоб достаточно тепло оделся, не забыл ни зонтик, ни ключи, а главное – чтоб ясно помнил, для чего куда собрался. Да, и побриться не забыл, уже прошла неделя, как не больше. И эту охранительную бдительность уже покорно (хоть совсем не благодарно) принимает потускневший мужичок, ещё позавчера лишь – бравый и самолюбиво-вздорный мачо.
Как-то в Интернете я набрёл на малодостоверную историю, которая весьма по нашей теме. Итальянке Розе Фарони было девяносто семь лет (шесть внуков, пятнадцать правнуков и шестнадцать праправнуков), когда свихнулся в ней какой-то ген, и время её жизни потекло вспять. Она молодела стремительно и неприлично. Ко времени, когда врачи и пресса обратили на неё внимание, она выглядела тридцатилетней, и в полном соответствии со внешностью оказались все проверки и анализы её организма. Доктор Граза, который делал о ней доклад на медицинской конференции в Генуе, потряс и переполошил своих коллег. Она ест всё подряд, пьёт и курит, как в молодости, с радостью вернулась к любовным играм и предохраняется, чтоб не смешить беременностью правнуков. А если так пойдёт и дальше, скоро она станет юной девочкой, и что потом? Как ни забавно было это мне читать, а всё-таки в уме моём скептичном слабо шевельнулась робкая мыслишка: вдруг и правда? И какие перспективы это посулило бы науке! Только сразу вспомнилась шумиха, которую поднимала советская пресса начала 1950-х вокруг открытия академика Ольги Лепешинской. Эта старушка (старая большевичка, кстати, что окружало ореолом достоверности все её квазинаучные работы) сообщила миру, что ею найден секрет омоложения: надо принимать содовые ванны. Просто соду растворять в воде и в ней купаться. Уже она на мышах это всё проверила, и опыты на добровольцах тоже подтвердили её ошеломительную идею (уже снабжённую теорией, конечно). И немедленно статьи согласных с ней учёных появились, и поднялся бум невероятный. Полностью во всей стране исчезла сода, потекли к ней даже благодарственные письма помолодевших. Очень быстро спала и сама собой затихла эта эпидемия безумия. Но с той поры сохранился прекрасный анекдот. Как возвратился в отчий дом солдат, три года отслуживший в армии, и дверь ему открыла молодая женщина с ребёнком на руках. «Мама, – сказал парень восхищённо, – как же ты помолодела! И ещё мне брата родила!» – «Это не брат, – грустно сказала мама, – это твой отец, его передержали в содовой ванне».
А параллельно с этим итальянским чудом нечто подобное случилось в Японии. В городе Фукуока у женщины семидесяти пяти лет Сэй Сенагон вдруг исчезла седина, волосы обрели прежний чёрный цвет, под зубными протезами начали кровоточить дёсны, и изумлённый стоматолог сказал, что это заново прорезаются зубы. На её лице разгладились все морщины, дряблое тело обрело былую упругость, без единого следа исчезли все недавние болезни и недомогания, вернулся менструальный цикл, она бросила старого мужа и приобрела сорокалетнего, который очень ею доволен. (Все подробности усиливают достоверность.) Единственно, чего она теперь боится, – превратиться в маленькую девочку.
До подобных чудес наука ещё не дошла, но довольно многие учёные вполне всерьёз нам говорят, что уже вот-вот человек станет жить намного дольше, сохраняя и былые силы, и былое жизнелюбие. Немыслимые средства тратит сегодня человечество на изучение и преодоление старости. Есть даже специальный Фонд Мафусаила (наш библейский прапредок жил, как хорошо известно, девятьсот шестьдесят девять лет) – он поощряет наиболее перспективные работы. Есть ещё «Приз мыши Мафусаила» – это миллион долларов для тех учёных, чья подопытная мышь проживёт дольше всех (нормальный срок их жизни – два года). Пока что рекорд – пять лет. Основатель и председатель Фонда Мафусаила биолог Обри ди Грей полон оптимизма. Он утверждает, что первый человек, который справит свой сто пятидесятый год рождения, – это наш современник, пока ещё молодой, естественно.
В копилку наших упований и надежд всё время что-то упадает. Так, совсем недавно в Якутии, на берегу реки Алдан, из вечной мерзлоты достали вдруг бактерий, сохранявшихся живыми более двух миллионов лет. Науке не известных, разумеется. Их отогрели, подпитали мясным бульоном и принялись исследовать. Как их устройство, так и действие на прочие живые организмы. Начали, естественно с мышей. И мыши престарелых лет явили явное омоложение: не только их активность возросла, но они снова стали упоённо заниматься сексом, самки снова начали рожать, и явно растянулся срок их жизни. Тут и вспомнили учёные, что Якутия непостижимым образом является одним из немногих на планете центров долгожительства. (Тут я не премину упомянуть, что в абсолютном большинстве своём долгожители малограмотны или неграмотны совсем, из чего тоже можно сделать некие выводы.) В этих краях нередок и столетний возраст стариков. Что подлинное чудо, потому что те условия, в которых они существуют, в жутком сне не могут привидеться людям, живущим в цивилизованном тепле. Но воду они пьют из Лены и Алдана, куда запросто из разрушающихся временем земных пород могут попадать эти загадочные (пока) бактерии. Перспектива такой несомненной сенсации тоже пока в тумане.
А что же делать нам, которые наверняка не доживут до лучезарных (и весьма проблематичных) успехов научной мысли? А ничего. Жить как жили и надеяться, что внукам повезёт. Оглядываться, кто желает, на советы современников и предков. Пруд пруди таких советов. Но если присмотреться, в самом главном они полностью совпадают с убеждённостью древних греков: умение радоваться каждому дню жизни – это особый вид мудрости, продлевающий наше земное существование. Ещё я помню и ценю два ответа Черчилля на вопрос о секрете его долгой жизни. Вот что он сказал: «Я никогда не стоял, если можно было сидеть, и никогда не сидел, если можно было лечь». И ещё: «Пять-шесть сигар в день, три-четыре стакана виски и никакой физкультуры». Я, правда, курю сигареты, но никакой другой поправки не могу внести в эти заветы.
А ещё нельзя не привести слова мудрейшего Эпикура: «Умение жить и умение умирать – одна и та же наука».
Но было бы недобросовестно и глупо в этой краткой популярной (и однако же – вполне научной) главе не упомянуть о ещё одной светлой перспективе человечества: идее о переселении души. Будучи сотни лет достоянием разных религий (по преимуществу восточных), она принимается сегодня и многими учёными. Сторонники этой прекрасной мечты (сильно утешительной, заметим) издавна водились среди очень выдающихся мыслителей: Сократ, Платон и Пифагор, поздней – Декарт, Спиноза, Лейбниц. И Льва Толстого грех тут не назвать. И замечательно спокойно как-то заявил Вольтер: «Родиться дважды – не более удивительно, чем родиться единожды». Только названы тут люди умозрительных суждений – а что сегодня думают и делают учёные?
Врач-психиатр Ян Стивенсон объездил весь мир, занимаясь историко-детективными поисками. Дети, которые говорят, что помнят свою прошлую жизнь (в возрасте семи-восьми лет всё начисто стирается), порой конкретно называют имя, которое тогда носили, место проживания, подробности окружавшей их реальности, имена родственников. Стивенсон разыскивал и посещал эти места, рылся в местных архивах. И находил, часто находил следы подлинного существования названных людей! Ну вот, вздохнул уже скептически настроенный читатель, сейчас этот подвинутый автор примется рассказывать байки о больных, что после травмы вдруг начинали говорить на иностранных языках, которых сроду не учили, – множество таких историй издавна известны психиатрам. Да, непременно я упомяну и этот несомненно достоверный феномен. И привлеку в поддержку имя знаменитого психолога Юнга, который полагал, что мы в себе храним, не ощущая, духовное наследие многих предыдущих поколений. Под гипнозом (Стивенсон использовал и этот способ доступа в подсознание) такие пациенты что-то вспоминают из былого своего существования, и порой такие факты удаётся удостоверить. За несколько десятков лет этот врач (представляю себе, каким свихнутым считали его коллеги) собрал две тысячи случаев вполне убедительных, документальных подтверждений имён и житейских подробностей, совпадающих с услышанными им осколками воспоминаний о прошлой жизни. Таков сегодня уровень исследований этой поразительной загадки. Дальше – только тьма несметная различных спекуляций о перевоплощении (переселении) души. Но сколько радостных надежд в такой игре воображения!
Ведь, может быть, вечерняя тоска, так свойственная многим людям, – это боль души, попавшей в личность, ей не симпатичную. А может быть, реально и такое, что душевные болезни (их разнообразие огромно) связаны как раз с недомоганием души, когда-то совершенно иначе пожившей неизвестно в ком. Как интересно верить, например, что чем ты недостойней жил на свете, тем мерзее будет существо, в которое поселится потом твоя душа. И всё-таки всегда в таких соображениях есть большая доля светлой радости: нет, весь я не умру.
Во дворе моего дома в тихом иерусалимском районе (да и всюду в городе такое) живёт немыслимое количество кошек. Вертятся они вокруг помойки, где всегда найдётся пропитание. Драчливые, грязные, злобно смотрящие на прохожих (друг на друга – нечего и говорить) – они явно были кем-то в прошлой жизни. Лично я уверен, что политиками. Но возможно и коммерческое, и уголовное прошлое. А в поведении собак разных пород и характеров сплошь и рядом наблюдаются черты их прежнего житейского опыта. А вспомните о крокодилах и гиенах – не случайны их характер и замашки. «У животных нет души», – возразит какой-нибудь самодовольный эрудит. Но Божьи твари потому ведь так и именуются, что их создал тот же Творец, который оплошал (слегка) на человеке. Верую, ибо осмысленно, как говорил какой-то древнеримский грек из Палестины. Поэтому вполне возможно, что нам лучше думать не о рае с его явно скучноватым обустройством, и не ада ужасаться, а стремиться, чтоб душа твоя впоследствии попала в столь же приличное создание, каким при жизни был ты сам. Очень, по-моему, достойная и светлая задача. Утешительная – в высшей степени. А те, кому все мои рассуждения покажутся пустой и праздной болтовнёй, могут ещё жестоко пожалеть о явленном неверии в разумное и справедливое устройство мироздания.
Маркиз Ипполит Ревайль (жил он в девятнадцатом веке) просто пожал бы снисходительно плечами, дивясь подобной слепоте в наше продвинутое время. Сам он беседовал с сотнями душ, лишённых бренной оболочки. Они являлись к нему на спиритических сеансах и либо разговаривали с ним, либо его рукой писали ответы на заданные им вопросы. Возникала ясная и убедительная картина загробного существования. Освободившись из телесной клетки, душа попадала в некий духовный мир, где не только встречала души былых знакомых и близких, но даже вспоминала свои прошлые пребывания в разных личностях. А духовное пространство это, где кишат освободившиеся души, – рядом с нами и вокруг, мы просто-напросто его не ощущаем, хотя души близких иногда подсказывают нам какие-то решения, поступки, даже мысли. А потом душа опять вселяется в кого-то (только люди ей годятся, никаких животных тот духовный мир не признаёт). И часто, искупая грехи предыдущего обладателя, ввергает нынешнего в чистую и праведную жизнь. Согласитесь – привлекательный сюжет. Года наши идут, если точнее – катятся, если ещё точней – летят, и скоро мы проверим наговоренное выше на своём личном опыте.
А пока что писатель Умберто Эко в эссе «Как подготовиться к безмятежной кончине» предложил идею небанальную:
«…В момент, когда ты покидаешь эту юдоль слёз, попробуй обрести неколебимую уверенность в том, что весь мир (насчитывающий пять миллиардов человеческих особей) состоит из одних мудаков: мудаки пляшут на дискотеках; мудаки думают, будто постигли какие-то тайны космоса; мудаки предлагают панацею от всех наших бед; мудаки заполняют страницу за страницей пресными провинциальными сплетнями; мудаки-промышленники разрушают планету. Разве не будешь ты счастлив, рад, доволен, что покидаешь эту юдоль мудаков?»
Умберто Эко пишет далее, что убедить себя в этом – вдохновенный труд, и надо этому учиться не спеша, так рассчитав время, чтобы перед самой смертью радостно прийти к полной уверенности, встретив кончину беспечально и достойно.
И лучшего совета я покуда не читал.
Соло на ослабшей струне
* * *
Про наше высшее избрание мы не отпетые врали, хотя нас Бог избрал не ранее, чем мы Его изобрели.* * *
Немного выпил. Дым течёт кудряво. С экрана врут о свежих новостях. Сознание моё уже дыряво, и вроде бы я дома, но в гостях.* * *
Я в мире прожил много лет, исчезну вскоре навсегда, а до сих пор ответа нет, зачем являлся я сюда.* * *
Забавно мне смотреть на небо, в те обольстительные дали, где я ещё ни разу не был и попаду куда едва ли.* * *
Живя во лжи, предательстве и хамстве, не мысля бытия себе иного, приятно тихо думать о пространстве, где нету даже времени земного.* * *
Я всех готов благословлять, я наслаждаюсь обольщением, и на отъявленную блядь смотрю с высоким восхищением.* * *
Большой ценитель и знаток, но хвор уже и хил, не бабник ты и не ходок, а дряхлый ебофил.* * *
Мы курим возле печек и каминов, про скорое толкуя новоселье, в отчаянии много витаминов, которыми питается веселье.* * *
Как ни бодрись и как ни пукай, а жизнь весьма обильна скукой.* * *
Чтобы евреям не пропасть и свой народ увековечить, дана им пламенная страсть самим себе противоречить.* * *
Я благодарен очень Богу: Он так заплёл судьбы канву, что я сумел отрыть берлогу, в которой много лет живу.* * *
Сбежала Муза, блядь гулящая, душа молчаньем туго скована, и дальше жизнь моя пропащая уже не будет зарифмована.* * *
В каких-то скрытых высших целях, чтоб их достичь без промедлений, Бог затмевает ум у целых народов, стран и поколений.* * *
Пришла волшебная пора: козёл на дереве заквакал, святых повсюду – до хера, а просто честных – кот наплакал.* * *
Увы, сколь часто мне казалось, что мной уже раскрыт секрет, и до познания осталось полдня и пачка сигарет.* * *
Склероз, как сумрак, нарастает, плодя беспамятные пятна, и всё, что знал и думал, – тает и утекает невозвратно.* * *
Истлевших свитков жухлый сад нам повествует из-под пыли, что много тысяч лет назад евреев тоже не любили.* * *
Ценю в себе обыкновение достичь душевного спокойствия, смотря на каждое мгновение как на источник удовольствия.* * *
Я потому грешил, как мог, живя не постно и не пресно, что если сверху смотрит Бог — Ему должно быть интересно.* * *
Вполне сохранны мы наружно, тая о старости печаль, но веселимся так натужно, что можем пукнуть невзначай.* * *
Я жаждал, вожделел, хотел, алкал, ища себе крутого ощущения, и сам себя азартно вовлекал в опасные для жизни обольщения.* * *
Всё состоялось, улеглось, и счастлив быть могу я вроде бы, но мучат жалость, боль и злость, что так неладны обе родины.* * *
Притворяться, кивая значительно, я не в силах часами подряд, а выслушивать очень мучительно, сколько люди хуйни говорят.* * *
Я радуюсь покою и затишью, для живости года уже не те, и только пробегает серой мышью растерянность в наставшей пустоте.* * *
Когда на Страшный суд поступит акт, где список наших добрых дел прочтётся, зачтутся не они, а мелкий факт, что я не думал, что кому зачтётся.* * *
Поступки еврейские странны, тревожат житейскую трезвость, и хмурятся дряхлые страны на юную древнюю резвость.* * *
Напьюсь когда – не море по колено, а чувство куража совсем иное: как будто я горящее полено, и льётся от костра тепло земное.* * *
Только что разошлись наши дети, на столе – недоед и посуда, наше счастье – зародыши эти, что общаются с нами покуда.* * *
Томит еврея русский бес: мерцает церкви позолота, шумит в душе осенний лес и вкусно чавкает болото.* * *
По части блядства мой народ с библейских славится времён и сто очков даёт вперёд сынам любых иных племён.* * *
Попал по возрасту я в нишу пустых ненужных стариков, хотя и вижу я, и слышу острее многих сопляков.* * *
Игра умеренных способностей моим сопутствует мыслишкам, но бог деталей и подробностей меня побаловал не слишком.* * *
Есть сутки лёгкие и скорые — летят, как будто гонит кто-то, и вяло дни текут, в которые жить ни к чему и неохота.* * *
Блаженство распустилось как цветок, я виски непоспешно пью с приятелем, и мир, хотя немыслимо жесток, однако ровно столь же обаятелен.* * *
Всегда еврей изрядно мнителен, а разъезжая – остро бдителен: еврею предки завещали следить в дороге за вещами.* * *
Наш мир устроен очень круто, судьба размечена любая, и Цезарь сам находит Брута, чтоб удивиться, погибая.* * *
Естественно, что жизненный напор ослаб уже во мне с недавних пор. Но мыслей, хоть и редких, шевеление родит ещё во мне одушевление.* * *
То, чем обязан я судьбе, варившей мне меню, и чем обязан я себе, — уже не я сравню.* * *
Столько я на своих на двоих исходил и дорог, и квартир, что теперь я забочусь о них, но идут они только в сортир.* * *
Вовсе не артист и не поэт, даже и не чтец, признаться честно, с наглостью на сцене много лет я работал соло без оркестра.* * *
Заметно и поверхностному взгляду, что ценность человека измерима его сопротивлением распаду, который происходит в нас незримо.* * *
Не зря среди чужих едим и пьём, немедля мы занятие находим: с которым населением живём, того и на еврейский переводим.* * *
Конечно, юные шалавы милы артисту, но сильней артиста манит жопа славы, зовя его стремиться к ней.* * *
Когда немного выпил и курю, отдавшись погубительной привычке, то всё, что в это время говорю, — чириканье позавтракавшей птички.* * *
Я жил, за всё сполна платя, меня две матери носили: я был еврейское дитя и был я выродок России.* * *
На крохотном запущенном пространстве евреям повезло собраться вместе, и речь не о гордыне или чванстве, а только о достоинстве и чести.* * *
Рассудок мы в советчики не брали; пылая вожделением неистово, мы сразу в обольщения ныряли, а дно повсюду – очень каменистое.* * *
Давно уже я полностью свободен и волен в биографии моей, поэтому из двух возможных родин я ту предпочитаю, что родней.* * *
Когда забуду всё на свете, всех перестану узнавать, пускай заботливые дети приносят рюмку мне в кровать.* * *
Порою мы в суждениях жестоки, но это возрастное, не со зла: в телах у молодых играют соки, а в душах стариков шуршит зола.* * *
На сцене я весьма нелеп, но не считаю унижением, что зарабатываю хлеб лица необщим выражением.* * *
Текут века и тают годы, евреи ткут живую нить, а коренные все народы мечтают их искоренить.* * *
Из тех, кто осушал со мной бутыли, одни успели тихо помереть, а многие живые так остыли, что выпивкой уже их не согреть.* * *
Оставив надоевшую иронию, замечу благодарственно и честно, что рюмка возвращает нам гармонию с реальностью, паскудной повсеместно.* * *
Очень явственно с некой поры угасает последний мираж, испаряется чувство игры и предательски чахнет кураж.* * *
Меня Творец не просто потчевал разнообразною судьбой, но и склонял весьма настойчиво к упрямству быть самим собой.* * *
Хотя мне явно до конца ещё пожить немного суждено, я часто вижу свет, мерцающий у входа в новое кино.* * *
Есть очень грустная подробность в писаньях нынешних мыслителей: меня печалит низкопробность высоколобых сочинителей.* * *
Чтоб мы мельтешились по жизни спокойней, таится до срока зловещий рубеж, и всюду всегда перед завтрашней бойней наш воздух особенно светел и свеж.* * *
Беда державе, где главней кто хитрожопей и гавней.* * *
Уже в лихой загул я не ударюсь, не кинусь в полыхание игры. Я часто говорил, что я состарюсь, но сам себе не верил до поры.* * *
Всё, что мы знаем, – приблизительно, вразброд, обрывочно и смутно, и зря мы смотрим снисходительно на тех, кто тёмен абсолютно.* * *
Я в этой мысли прав наверняка, со мной согласны лучшие умы, что жирный дым любого пикника Творцу милей, чем постные псалмы.* * *
Слежу пристрастно я и пристально — с годами зрение острее, — как после бурь в уютной пристани стареют сверстники быстрее.* * *
Есть у меня давно уверенность, что содержанье тела в строгости и аскетичная умеренность — приметы лёгкой, но убогости.* * *
Цветущею весной, поближе к маю у памяти сижу я в кинозале, но живо почему-то вспоминаю лишь дур, что мне когда-то отказали.* * *
Есть Божье снисхождение в явлении, знакомом только старым и седым: я думаю о светопреставлении спокойнее, чем думал молодым.* * *
Склеротик я, но не дебил, я деловит и озабочен, я помню больше, чем забыл, но то, что помню, – смутно очень.* * *
Печальное чувствую я восхищение, любуясь фигурой уродской: от жизни духовной у нас истощение бывает сильней, чем от плотской.* * *
Доволен ли Господь картиной этой? Затем ли сотворял Он шар земной, чтоб мы готовы стали всей планетой отправиться к Нему взрывной волной?* * *
Назвать мне трудно это чувство, в нём есть болезненное что-то: мне стыдно, пакостно и грустно, когда читаю идиота.* * *
Мотив уныло погребальный звучит над нами тем поздней, чем дольше в нас мотив ебальный свистит на дудочке своей.* * *
От лозунгов, собраний и знамён удачно весь мой век я уклоняюсь, я менее, чем хочется, умён, но менее мудак, чем притворяюсь.* * *
Вся жизнь моя уселась на диету, стремясь в тоску воздержанности влезть, уже в судьбе крутых событий нету, а страсти – есть!* * *
Вместе с нами он ест угощение, вместе с нами поёт про камыш, только есть у меня ощущение, что внутри него – дохлая мышь.* * *
Мне всегда с утра темно и худо, и тому не выпивка виной, это совесть, ветхая зануда, рано утром завтракает мной.* * *
Кошмарно время старости летит, таща с собой и нас неумолимо, но к жизни так ослаб наш аппетит, что кажется – оно несётся мимо.* * *
Когда б меня Господь спросил, что я хочу на именины, я у Него бы попросил от жизни третьей половины.* * *
Забавные мысли по части морали ко мне приходили не раз: мы с чистой душой беззастенчиво крали, а грех – если крали у нас.* * *
Мне думать лень и неохота про скудость завтрашнего дня: как будто выпотрошил кто-то меня былого из меня.* * *
Я убеждался многократно, что стоит жизнью дорожить, но тихо жить и аккуратно — совсем не лучший способ жить.* * *
Мне хорошо, когда лежу, не потому, что мышцы скисли, я лёжа легче нахожу свои растерянные мысли.* * *
Печальны утекающие дни: мне стал уход ровесников привычен, а с кем хотел бы видеться – они уходят раньше тех, кто безразличен.* * *
Питомцы столетия шумного, калечены общей бедой, мы дети романа безумного России с еврейской ордой.* * *
Мошенники, прохвосты, прохиндеи, охотно собираясь тесным кругом, едины в одобрении идеи, что следует быть честными друг с другом.* * *
Чем более растёт житейский стаж, чем дольше мы живём на белом свете, тем жиже в нас кипит ажиотаж по поводу событий на планете.* * *
Нас годы гнули и коверкали, но строй души у нас таков, что мы и нынче видим в зеркале на диво прежних мудаков.* * *
Следя, как неуклонно дни и ночи смываются невидимой рекой, упрямо жить без веры – тяжко очень, поскольку нет надежды никакой.* * *
Теперь я смирный старый мерин и только сам себе опасен: я даже если в чём уверен, то с этим тоже не согласен.* * *
Судьба сигналы шлёт нам, но толкуем мы так разнообразно эти знаки, что часто чемоданы вдруг пакуем, хотя настало время сеять злаки.* * *
Уроны, утраты, убытки меня огорчают слегка, но шепчут под вечер напитки о фарте, что жив я пока.* * *
Потребность наших душ в идее, мечте и мифе благородном отменно чуют прохиндеи, вертя сознанием народным.* * *
Карай мою дурную плоть, лишай огня мой нищий дух, но упаси меня, Господь, от говоренья правды вслух.* * *
Что будут к худу изменения, повсюду видно изнутри: везде на запахи гниения из нор вылазят упыри.* * *
Хотя в литературе нет советов, как жить, чтобы душа была в нирване, Обломов был умнее, чем Рахметов: лежал не на гвоздях, а на диване.* * *
Я счастлив, отвечает мерин сивый, и кажется, нельзя сказать иначе, сегодня быть несчастным – некрасиво: как будто что-то просишь без отдачи.* * *
Мы курим, пьём, и музыка играет; букет сирени в вазе умирает.* * *
Гордимся мы, что тайны мироздания сверлом буравит разум наш кипучий; иллюзия возможностей познания — наркотик замечательно живучий.* * *
Я был упрямым как осёл, душа всегда была уверена: если потеряно не всё, то ничего и не потеряно.* * *
Люблю крутые поговорки, из них подмигивают нам сознанья нашего задворки, где гнусь и совесть – пополам.* * *
Рвётся жизни течение плавное, в кошелёк если не за чем лезть, а что деньги – не самое главное, понимаешь, когда они есть.* * *
Уже пора идти к врачу, пора сдаваться, делать нечего: с утра я сразу спать хочу, а днём дремлю, и сонный вечером.* * *
А где-то нынче льют дожди и во дворцах сидят вожди: постригли шерсть у населения и пьют вино от утомления.* * *
Лежит вокруг ночная мгла, темно в любом окне, а совесть подлая легла и пристаёт ко мне.* * *
Души трагический надлом и тягость жизни подневольной легко врачуются теплом холодной влаги алкогольной.* * *
В лице людей, почти обыкновенных, которым я безмерно благодарен, послал мне Бог читателей отменных — на деньги их мой суп сегодня сварен.* * *
Трус убегал, и вслед ему кривился лунный диск: Бог помогает лишь тому, кто сам готов на риск.* * *
Ещё за то люблю я пьянство, что вижу в ходе выпивания игру духовного пространства с убогой клеткой проживания.* * *
Что случилось – пустяк, ерунда: тут наплюй, там исправить возможно, а реальная в жизни беда — если ты одинок безнадёжно.* * *
Народных суждений слепая волна, включая и мысли ублюдка, содержит солидную долю гавна, продукта души и желудка.* * *
Ни за что покуда не в ответе, прописи усвоивши простые, пылко повторяют наши дети наших жизней хлопоты пустые.* * *
Трепаться – любезная сердцу традиция, но тут я сидел и разглядывал стены: есть люди – такая у них эрудиция, что с ними скучаешь на разные темы.* * *
Всегда в убогом настоящем так золотится день грядущий, что в самом хилом и ледащем желанье жить играет гуще.* * *
Когда мы прочно в космос выйдем на чём-то дьявольски летучем, то много тварей там обидим и хвори новые получим.* * *
Сегодня мне работать лень, затею праздничный обед: отмечу рюмкой первый день оставшихся от жизни лет.* * *
Уверен я, что Бог, даря скрижали, сочувствием и жалостью томим, хотел, чтоб мы сперва соображали, а после уже следовали им.* * *
Мне ясно видится картина, как исказятся гневом лица, и рухнет разума плотина, и волны злобы станут биться.* * *
Тяжёлый дух благополучия так ослабляет наши души, что нам паскудно страшно случая, который наш покой нарушит.* * *
Бич истории – тип низкопробный и его прозябанье убогое: человек, ни к чему не способный, безоглядно способен на многое.* * *
Наш век погибельных волнений с его утратами и болями для вслед идущих поколений забавен будет, но не более.* * *
Слушаю слова и обороты — странная в душе клубится смута: так Россию хвалят патриоты, словно продают её кому-то.* * *
Не пожелаю и врагу своё печальное терпение: хочу я только что могу, и потому хочу всё менее.* * *
Увы, причина многих бедствий и роста злобной сволоты — в непонимании последствий прекраснодушной доброты.* * *
Я не похож ни на кого, я только сам себе подобен, я и пишу-то для того, чтобы узнать, на что способен.* * *
Года текут, по счастью, неплохие, опутан я житейской паутиной, и плещутся кошмарные стихии над будничной и мелочной рутиной.* * *
Если когда, неважно где, нас голод мучает сиротский, то плач желудка о еде — позыв духовный, а не плотский.* * *
Сегодня вышел день удачный: как будто что нашёл и поднял, и возле сердца лист наждачный почти не трёт его сегодня.* * *
Мне мила безбожная стезя: вовсе не хожу я в синагогу, ем, чего евреям есть нельзя, и грешу доныне, слава Богу.* * *
Густую чушь мои уста несли нечаянно и вдруг, но у меня душа чиста, поскольку мне язык не друг.* * *
Везде каноны и традиции, уставы, стили и обычаи, за их незримыми границами блаженно тонешь в неприличии.* * *
Уверен я, что Бог – не дилетант, насквозь Ему прозрачны обстоятельства, и где-то есть жестокий прейскурант расплаты за убийства и предательства.* * *
Когда утёкший день отмечен мыслишкой в новом оперении, то я и пить сажусь под вечер в гораздо лучшем настроении.* * *
Я медленно кропаю книжку новую, себя я день за днём над ней гублю, а после я её – уже готовую — спокойно и привычно разлюблю.* * *
Не знаю, как на свете том, но твёрдо знаю, как на этом: всё, что оставил на потом, уносят с дружеским приветом.* * *
Невозможна житейская драма, где гуляют роскошные хахали, чтобы там не втемяшилась дама и чтоб даму по ходу не трахали.* * *
Я думаю, что истинный философ живёт и прозябает незаметно, подкапливая тихо тьму вопросов и к Богу адресуясь безответно.* * *
Любовь – таинственная смута, она чревата чудесами: день улетает, как минута, секунды тянутся часами.* * *
Когда уже покой заслужен и годы нам легли на лица, мы начинаем видеть хуже, чтобы на зеркало не злиться.* * *
Я жил весьма, совсем, отнюдь не строго, но строго за своей следил судьбой, боялся потому что я не Бога, а тягостной вражды с самим собой.* * *
Слова ко мне текут исподтишка и прыгают из памяти, как белки, сливаясь в облик нового стишка, готового для чистки и отделки.* * *
Народ желает сильного царя — чтоб доблестный он был и удалой, и вскоре долгожданная заря закатом обращается и мглой.* * *
Да, мир наш сочинён довольно скверно, однако в отношении тюрьмы кивать на Божий замысел неверно — её уже придумывали мы.* * *
Разглядывал на улице прохожих, неспешно поджидая домочадца, и много среди них нашёл похожих на тех, с кем я стараюсь не встречаться.* * *
Подлянки от любых я жду властей, с еврейским генетическим недугом родился я, и сводку новостей смотрю с уже заведомым испугом.* * *
Стоят на горизонте времена душевных и физических контузий, и будущая дикая война затопчет поле нынешних иллюзий.* * *
К нам годы приходят с подарками, и я – словно порча прилипла — хочу кукарекать, но каркаю — надрывно, зловеще и хрипло.* * *
Меня поили русские ключи, меня медвяный воздух обволок, весь век я пролежал бы на печи, поплёвывая в низкий потолок.* * *
Стишки читать порой так неохота, испытывая чуть не отвращение, что если б у меня была пехота, я мигом бы очистил помещение.* * *
Ещё горит мой уголёк, ещё любезна мне свобода, и от кончины я далёк, как декабристы – от народа.* * *
России чудо нужно было: чтобы лжецы не лгать поклялись, чтобы гавно куда-то сплыло и чтоб рабы с колен поднялись.* * *
Идея – бабочка в ладонях: посмотришь – радуется глаз, но и в совсем пустых погонях бывал я счастлив сотни раз.* * *
Бездельник я. Моя работа — своё безделье соблюдать, чтобы в меня безвидный кто-то вливал пустую благодать.* * *
Смотрю на Божий мир я исподлобья: то гибельно повсюду, то опасно; однако, если мы – Его подобья, то ждать Его сочувствия – напрасно.* * *
Когда порушены все вехи и знаки верного пути, то можно только в чистом смехе себе спасение найти.* * *
Про то, как одинок, напоминание является болезненно и вдруг; взаимное меж нас непонимание — хронический таящийся недуг.* * *
Во тьме надеждой тихо позваны, мы спим и счастливы как дети, но цвет надежд обычно розовый и растворяется при свете.* * *
Напрасно я Маркса держал в недоверии, теперь отношусь с пониманием: вот нынче повсюду избыток материи, но всюду хреново с сознанием.* * *
Бумага тоскует по буквам, и найдена верная нота, мешает лишь издали стук нам: костлявая ищет кого-то.* * *
Мы днём кишим, и прибыль на уме, успеха варианты и детали, а совесть к нам является во тьме, чтоб мы в зануду тапком не попали.* * *
Былое живо в нашем хворосте, ещё гуляют искры в нём, и только старческие хворости мешают нам играть с огнём.* * *
Мне очень симпатичны доктора и знаний их таинственное царство: порой не понимают ни хера, но смело назначают нам лекарство.* * *
Вчера возле камней, навеки слившихся, где связано узлом несчётно судеб, толпился я в густой толпе молившихся, Его благодаря за всё, что будет.* * *
Блажен ли одинокий нелюдим? За завтраком один, в обед и в ужин. Лишь он один себе необходим, но чаще он и сам себе не нужен.* * *
Присущий всем евреям дух сомнения ни Богом не дарился, ни природой; похоже, он идёт от поколения, ушедшего в пустыню за свободой.* * *
Кончается никчемная карьера, меняются в душе ориентиры, мы делаемся частью интерьера своей благоустроенной квартиры.* * *
Про гибельную пагубу курения врачи не устают везде писать, и я стою на той же точке зрения, но глупо из-за этого бросать.* * *
От помеси вранья и суесловия, из подло сочетающихся звуков рождаются духовные условия, которые свихнут и наших внуков.* * *
За дружеской выпивкой сидя, я думал, как думал давно: грешно быть на Бога в обиде, покуда нам это дано.* * *
Лично я – с мужицкой точки зрения — вижу в нас безумных петухов: первый признак нашего старения — тяга к умножению грехов.* * *
Есть люди – в коллективном лишь угаре у них существование отрадное, а я, хотя мы равно Божьи твари, животное ничуть пока не стадное.* * *
Теперь я многих рюмкой поминаю, кого я проводил в последний путь, о нескольких уже я точно знаю, что скоро их мы сядем помянуть. А может быть, они меня помянут, поскольку неизвестен срок земной, и что они болтать на тризне станут, услышится тогда уже не мной.* * *
Свободой обкурился я, наверно, в таком я раздражении глубоком и так немедля делается скверно, когда её стесняют ненароком.* * *
Имей мы честность и отвагу и больше совести имей, мы б так не пачкали бумагу густой продукцией своей.* * *
Все твердят одно и то же, проницая взором тучи: вновь нужны России вожжи и свирепый нужен кучер.* * *
Никак не уловлю воспоминание о времени, где был я дураком… Недавно… И давно… И много ранее. И ныне в состоянии таком.* * *
Воришки и некрупные злодеи умеют красть у нас из кошелька, а воры покрупнее овладели искусством отнимать издалека.* * *
До той черты, где свет мы тушим, в небытие идя обратно, свою судьбу, себя и душу мы предаём неоднократно.* * *
В вечерних пьяных разговорах я чутко слышу, как соседи таят печали, от которых они так тянутся к беседе.* * *
Жизнь хороша, но удивительна — такой ли быть она должна? Неправда людям отвратительна, а правда – вовсе не нужна.* * *
Выдержит и беды, и напасти наша лучезарная порода, есть у нас пожизненное счастье: страшно далеки мы от народа.* * *
В раздорах о беспочвенных правах, в походах на врага с отважной песней толочься лучше в крупных жерновах — опаснее, но много интересней.* * *
Откуда появляются слова, прозрачнее порой слезы ребёнка, не ведает у нас ни голова, ни сердце, ни душа, ни селезёнка.* * *
Когда бы благ житейских ценник составил мудрый кто-нибудь, то в этом списке место денег не первым было бы отнюдь.* * *
Высоких мыслей дух живой, идей затейливая стая витают здесь над головой, в мою уже не залетая.* * *
Душа, наверно, плачет тихо, летя во мраке мироздания, но глушит пошлая шумиха её загробные рыдания.* * *
Когда компания пестра, но пьёшь среди друзей, то горечь – мудрости сестра — уходит вместе с ней.* * *
Читать обычно дико и забавно, как ярко, достоверно и отточенно всё то, что протекало лишь недавно, уже искажено и скособочено.* * *
Когда уходишь по грибы и сел под куст в лесу, то всё равно глаза судьбы тебя и там пасут.* * *
Своё уважал я призвание, я маленький был, но поэт, моё на земле проживание оставит пустой силуэт.* * *
Колёса познания катят, идеи добра торжествуют, евреи без устали платят за то, что они существуют.* * *
Вдыхаю покоя озон, с усилием видя и слыша; старение – славный сезон, пока не поехала крыша.* * *
В предчувствии и близости кончины, хотя и знает каждый, что не вечен, по разному ведут себя мужчины, блажен, кто наплевательски беспечен.* * *
Под рокот высокого гимна, под устного пафоса муть томит нас охота интимно соседа за зад ущипнуть.* * *
Гости все ушли за парой пара; убраны продукты, чтоб не скисли; как овец кудлатая отара, пьяные во мне гуляют мысли.* * *
Раньше я не думал, если честно, что такая это благодать, что настолько будет интересно гомон жизни вчуже наблюдать.* * *
Нам вовсе не вредит образование, однако и не делает умней, поскольку наших мыслей основание не знания, а что-то подревней.* * *
По жизни есть пути прямые, весьма удобные и ровные, по ним идут пускай хромые, увечные и малокровные.* * *
Во многое бывал я вовлечён, я знал героев разных не заочно, и стал хотя не более учён, а менее восторжен стал я точно.* * *
Напрасный труд, пустые хлопоты, ненужных сведений объём — вот наши жизненные опыты, что детям мы передаём.* * *
Такие случаются светлые дни, такое души колебание, что кажется – посланы Богом они, чтоб легче текло прозябание.* * *
Туда мы даже не глядим, и место это тихо виснет, меж тем как то, на чём сидим, порой мудрей, чем то, что мыслит.* * *
Роман какой-нибудь покруче прочёл бы жадно я теперь, и чтобы в мир, изрядно сучий, на пару дней захлопнуть дверь.* * *
Моё по жизни достижение — не столько чёрный оптимизм, как лень, беспечность, небрежение и совершенный похуизм.* * *
Где былое дерзновение? Испарилось – не найдёшь. А дерзать поползновение колет в жопу молодёжь.* * *
Реальность нам понятна и любима, но тёмное в душе храня предчувствие, незыблемо и непоколебимо мы чтим потустороннее присутствие.* * *
Свободным людям не понять рабов сознание упрямое, но хоть куда помысли вспять — немедля видишь то же самое.* * *
Когда клубится хаос мрачный, змеится общая вражда, то некто серый и невзрачный наверх восходит без труда.* * *
В нас чувства ещё длятся по инерции от юности давнишней воспалённой, и вкрадчиво сейчас ласкают сердце романсы о любви неразделённой.* * *
Кропая свой стишок очередной, мыслишку я обдумывал такую: когда-нибудь наступит выходной, и я тогда смертельно затоскую.* * *
Время сушит мыслящие стебли на короткой жизненной дороге, меньше я треплюсь теперь о ебле, чаще начал думать я о Боге.* * *
Мой потолок уразумения всего что мудро, сложно, смутно, хотя и низок, тем не менее мне жить под ним весьма уютно.* * *
Сметлив, активен, расторопен, повсюду нагло современный — еврей не нравится Европе, а у старухи вкус отменный.* * *
В какой-нибудь пустяшный день дурной при страсти нашей к воинским потехам попытка уничтожить шар земной однажды увенчается успехом.* * *
Чувствуя оттенки и нюансы, Богу с несомненностью угоден, Дон Кихот умнее Санчо Пансы, но в реальном быте непригоден.* * *
Пока текут колонки строк, мои черты в себе храня, отодвигается и срок захоронения меня.* * *
Находя себе блажное удовольствие и высокие изведав ощущения, все герои, возмущавшие спокойствие, попадали под копыта возмущения.* * *
Когда я ночью слышу шорохи, я не тону в предположениях: то в отсыревшем нашем порохе скребутся мысли о сражениях.* * *
Живу я дома, в кабинете, а стоит выйти на крыльцо — и местечковый душный ветер мне дует в потное лицо.* * *
Как ни обливали грязной сплетней, как бы нас хулой ни поносили, нет любви горчей и безответней, чем любовь еврейская к России.* * *
Мольба пролетела над крышами и в небо ушла аккуратно… Молитвы бывают услышаны, но Бог их толкует превратно.* * *
Люди опускаются на дно вечного бездонного колодца, знать о них уже нам не дано, жалко только тех, кто остаётся.* * *
Следя героев путь победный, кляня судьбу свою никчемную, не забывай, завистник бедный, про участь ихнюю плачевную.* * *
Извечно были мы заметной нацией по части разумения и слуха, заслуживая славу спекуляцией то в области материи, то духа.* * *
В мире много проблем поважней, чем моё благоденствие утлое, только мне оно много нужней, чем прогресса течение мутное.* * *
Увы, ничьё существование уже никак нам не вернуть, и нам целебно упование на встречу позже где-нибудь.* * *
Я сам рубил узлы в моей судьбе, то мягко управлял собой, то строже, всем худшим я обязан сам себе, но лучшим я себе обязан тоже.* * *
Бывало, я терялся иногда на стыках неожиданных событий, но предки меня дёргали тогда за генеалогические нити.* * *
С людьми я столько хлеба-соли откушал тесно и сердечно, что на душе моей мозоли остались прочно и навечно.* * *
Живу, как будто я на острове, и всё любимое – со мной, и чувствую блаженство острое от лёгкой скуки островной.* * *
Хозяйничают годы только в теле, всему иному время не помеха: и слёзы у души не оскудели, и разума достаточно для смеха.* * *
Кто знаменит, но не угас, а жив и полон фанаберии, его не менее, чем нас, едят микробы и бактерии.* * *
Живя в огромной клетке из долгов, обязанностей, совести и чести, мы плохо слышим грохот сапогов, до срока марширующих на месте.* * *
Дебаты, диспуты, баталии — текут бесплодно и похоже, а жёны стали шире в талии, а девки стали брать дороже.* * *
Вроде бы в сохранности пока я, действуют защитные системы, и могу я слушать, не вникая, или возражать, не зная темы.* * *
Дерзость клоуна, лихость паяца человеку нельзя не любить, ибо очень полезно смеяться, когда хочется плакать и выть.* * *
Я болен ясным пониманием, хотя и зря оно дано, что стану я воспоминанием, а после сгинет и оно.* * *
Отрадно мне, что я прижился здесь, мне нравится, что нас ничтожно мало, нас тут собралась дьявольская смесь, а сплава здесь вовеки не бывало.* * *
Люблю случайные наброски, люблю небрежные эскизы, содержат эти недоноски души начальные капризы.* * *
Мы потому живём так весело, с текущим днём войдя в интим, что прошлых бед густое месиво мы помнить напрочь не хотим.* * *
Годился я в любую спальню и на траву среди цветов, я был похож на готовальню, поскольку всюду был готов.* * *
Умерил я живую прыть и не стремлюсь к любому фарту, уже мне просто нечем крыть судьбой предложенную карту.* * *
Что-то вертится прямо с утра в голове, где разгул непогоды… Вот! Я думал о том же вчера: наливать надо, помня про годы.* * *
В наш мир сойдёт Мессия властно, когда пробьёт заветный час, к Нему стремясь подобострастно, затопчут праведники нас.* * *
Срываются запретные покровы, стихает растревоженности смута, и видно, что священные коровы всего лишь были дойными кому-то.* * *
Сегодня я закончил труд, который мне трепал нервишки. Его, конечно, обосрут, но в этом польза есть для книжки.* * *
Вечер жизни полон благодати, если есть мыслительная мельница, и мели что хочешь, в результате в мире ничего не переменится.* * *
Покой сегодня лишь на кладбищах, там тихо, праведно и пусто, а те, кто жив, – на шумных пастбищах толкутся суетно и густо.* * *
Чужой идее дам я жительство, её любой уразумеет: народ имеет то правительство, которое его имеет.* * *
Пустые трёпы и болтания однажды рано или поздно шутя рисуют очертания того, что подлинно серьёзно.* * *
Увы, не каждое творение сполна имеет основания, чтоб возносить благодарение за Божий дар существования.* * *
Я лично ощущаю жизнь эпически: течёт она себе – и слава Богу. А кто живёт возвышенно трагически, те тоже выпивают понемногу.* * *
Боль уйдёт в колёсном перестуке, а пока что – сядем и налей; сколько ни писали о разлуке, а она гораздо тяжелей.* * *
Крутое мозга прочищение (не без душевного вреда) творит совсем не просвещение, а крупных бедствий череда.* * *
Стремясь и рвясь нетерпеливо, победно молодость кричит, а старость мешкает блудливо и осмотрительно молчит.* * *
Надежда применяет все уловки, чтоб верили мы в Божье попечение, но мысли о намыленной верёвке такое же приносят облегчение.* * *
Есть люди – дорожным укрыты плащом, и некогда им постареть: им то, что не видели в мире ещё, охота успеть посмотреть.* * *
На нас когда кидают девки взор, уже зрачок нисколько не дрожит, как будто непородистый Трезор куда-то мимо них сейчас бежит.* * *
Гоняясь то за смыслом, то за звуком, и видя в этом жизни цель и средство, совсем я позабыл оставить внукам какое-нибудь мелкое наследство.* * *
Я не верю сладкому роману о житье безоблачно красивом: в молодости нам не по карману то, что на закате не по силам.* * *
Мелькал я редко на экране, терялся в обществе коллег, зато на поле русской брани был не последний человек.* * *
Далеко позади колыбель, ум напитан житейской наукой; в эти годы заядлый кобель может быть и отъявленной сукой.* * *
Лучше пить спиртное на просторе, чем трястись от страха на престоле.* * *
Конечно, муки ада – не безделица, однако, мысля здраво и серьёзно, уже на рай нам нечего надеяться, а значит – и воздерживаться поздно.* * *
Я два часа провёл недавно в пустом никчемном разговоре и вдруг подумал: как забавно — трепаться с фауной о флоре.* * *
В сумерках полощутся видения, прошлое мешая с небывалым: будто бы имел я убеждения и страдал тоской по идеалам.* * *
Напрасен хор людских прошений, не надо слишком уповать, ведь Бог настолько совершенен, что может не существовать.* * *
Поклажу быта все мы тащим, сопя и с горем пополам, и так погрязли в настоящем, что не до будущего нам.* * *
Отрадно с путешественной сумой скитаться и бродяжить одному; постранствуешь, воротишься домой, а ты и здесь не нужен никому.* * *
Способна маленькая муха, явив обыденную прыть, иконный лик Святого Духа за месяц точками покрыть.* * *
Кончается с фортуной наш турнир, который был от Бога мне завещан, остался мной не познан целый мир и несколько десятков дивных женщин.* * *
Колёса заведут мотив дорожный, раскинется просторов полотно, и снова дух тюремный и острожный нахлынет на меня через окно.* * *
Не зря себе создали Бога двуногие — под Богом легко и приятно. Что Бог существует, уверены многие, и даже Он сам, вероятно.* * *
Я посмотрел – и Боже мой! Тут я поставлю много точек… Но он ещё вполне живой, мой бедный вяленький цветочек.* * *
С большим числом душевных ран, в любовных битвах отличившийся, я личной жизни ветеран, я инвалид судьбы сложившейся.* * *
Большое преимущество курения — возможность отлучиться в коридор, покуда воспалённо льются прения и все уже несут горячий вздор.* * *
Любил я книги, выпивку и женщин и большего у Бога не просил, теперь мой пыл по старости уменьшен, теперь уже на книги нету сил.* * *
С людьми активное общение, их жалоб мелкая блудливость во мне рождают ощущение, что есть на свете справедливость.* * *
Мозги мои уже не в лучшем виде, у памяти всё время острый спазм, и часто, например, в театре сидя, я путаю катарсис и оргазм.* * *
Доволен я сполна своей судьбой, и старюсь я красиво, слава Богу, и девушки бросаются гурьбой меня перевести через дорогу.* * *
Вытерлись из памяти подружки, память заросла житейским сором, только часто ветхие старушки смотрят на меня с немым укором.* * *
Сама вершит безликая природа взаимных отношений оборот: где власть отшелушилась от народа, пасётся, но не доится народ.* * *
Довольно странным сочетанием ветвится дух во мне двойной: с ленивой склонностью к мечтаниям ужился чёрный скепсис мой.* * *
Хоть и нет уже крепкой узды, россиянин тяжёл на подъём, и не любит он быстрой езды по причине, что едут на нём.* * *
Те, в ком болит чужая боль, кого чужое горе мучит, — они и есть душа и соль всей остальной кишащей кучи.* * *
Хрумкал поезд простора излишки, молчаливо текли провода, за окном нескончаемый Шишкин Левитана пускал иногда.* * *
Стелилась ночная дорога, и мельком подумалось мне, что жизни осталось немного, но есть ещё гуща на дне.* * *
Хотя легко ношу гуляки маску и в мелкой суете живу растленной, но часто ощущаю Божью ласку в наплыве тишины благословенной.* * *
Общаться я люблю интимно — с бумагой, мыслями, товарищем, а воспаляться коллективно предоставляю всем желающим.* * *
В текучке встречаемых лиц заметнее день ото дня призывные взгляды девиц, текущие мимо меня.* * *
По жизни прихотливо путь мой вился, весь век я проболтал, как попугай; состарясь, я ничуть не изменился, а смолоду был жуткий разъебай.* * *
Старики не сидят с молодыми, им любезней общение свойское, и в ветрах, испускаемых ими, оживает былое геройское.* * *
Уже немногие остались из выступавших напролом и тех, которые пытались болото греть своим теплом.* * *
Когда имеешь чин и звание, когда по рангу в люди вышел, то наплевать на ум и знание, уже ты мелких истин выше.* * *
Стишков я много сочинил и сяду перед расставанием. Исчерпан мой запас чернил, теперь займусь я выпиванием.* * *
Отрадно мне блаженное бездумие, мыслительная выдохлась амбиция, не старческое это слабоумие, а трезвая житейская позиция.* * *
Случится ещё многое на свете, история прокручена не вся, но это уже нам расскажут дети, на кладбище две розы принеся.* * *
Гонялся я за благозвучием и стиль искал чеканно твёрдый, но каждым пользовался случаем, чтоб наебнулся пафос гордый.* * *
Покоритель Казбека с Эльбрусом и охотник за шайкой злодейской может быть удивительным трусом в бытовой заморочке житейской.* * *
В мёд макаются перья писцов, не смолкают победные трубы, на могилах убитых отцов наросли танцевальные клубы.* * *
А книжек в доме очень мало сейчас держу я потому, что сильно с возрастом увяло моё доверие к уму.* * *
Остатка жизни пирование текло бы в радостях домашних, но мучит разочарование во всех иллюзиях вчерашних.* * *
Забавно, как мы всюду непрерывно, стараясь обрести и наверстать, о будущем заботимся надрывно, а будущее может не настать.* * *
Я начисто лишён обыкновения в душе хранить события и лица, но помню я те чудные мгновения, когда являлась разная девица.* * *
Думаю, Богу под силу вполне близким заняться грядущим: я бы сидел на поминках по мне в виде бесплотном, но пьющем.* * *
Изыски суетливого ума убоги так, что даже не вредят: везде стоят шеренгами тома, которые и мыши не едят.* * *
Хотя по мизерности – блохи и тонок наш собачий брех, мы зеркала своей эпохи, и нам тускнеть – ужасный грех.* * *
Да, мой умишко слаб и мал, но в целях самоутешения он часто сдуру принимал отменно верные решения.* * *
Потомок тех, что грели руки возле костров еврейских книг, сегодня деятель науки и много мудрости постиг.* * *
Странно оскудела голова — словно заросла тягучей тиной, вяло в ней полощутся слова, и не видно мысли ни единой.* * *
Когда уже здоровьем озабочен и тянет не бежать, а полежать, чужая жизнедеятельность очень и очень даже может раздражать.* * *
Меня довольно часто гложет печаль завистника отпетого, что кто-то знает или может, а я лишён того и этого.* * *
Все миражи и наваждения, мечты и грёзы – в состоянии дарить восторги наслаждения не ближе, чем на расстоянии.* * *
Похоже, что уют земной обители устроили залётные фанаты, а мы в музее этом – посетители и временно живые экспонаты.* * *
Весьма старение плачевно от вязкой мысли неотлучной, что прожил целый век никчемно рабом судьбы благополучной.* * *
Грядёт души переселение: в конце судьбы моей земной мне часто снится представление, где в ком-то стал я снова мной.* * *
Внезапная тоска томит паскудная, становятся растерянными лица, является тревога ниоткудная, когда под нами хаос шевелится.* * *
Уже от животных мы так далеки, что радуем душу и глаз, однако же когти, рога и клыки внутри наготове у нас.* * *
Любое большое свершение, где ты среди прочего множества, приносит душе утешение от личного чувства ничтожества.* * *
Хоть неизменно розы свежи, но мысли сгинули охальные, и я уже намного реже теперь пишу стихи двуспальные.* * *
Из личных встреч я знаю это и по листанию журналов: занудство – первая примета высоких профессионалов.* * *
Да, конечно, киселю опасен перец, но забавно лепетанье словарей: инородец, возмутитель, иноверец, а всё это, если попросту, – еврей.* * *
Выпил я совсем не ради пьянства, а чтоб мир немного изменить: чище стали время и пространство и живей мыслительная нить.* * *
Круто вьются струйки дыма, к водке – сыр и колбаса, это шёл приятель мимо и забрёл на полчаса.* * *
Тихо нынче в Божьих эмпиреях и глухой в общении провал: думаю, что это на евреях Бог себе здоровье подорвал.* * *
Старушки мне легко прощают всё неприличное и пошлое, во мне старушки ощущают их неслучившееся прошлое.* * *
Весьма, разумеется, грустно, однако доступно вполне: для старости важно искусство играть на ослабшей струне.* * *
Кочуя сквозь века и расстояния, Творца о выживании моля, евреи доросли до состояния готовности сей миг начать с нуля.* * *
Неясной мысли слабый след мелькнул в сознании, и разом затих и замер белый свет и возбудился сонный разум.* * *
Так безнадёжна тяга к истине, что проще сдаться без борьбы и шелестеть сухими листьями, ища на полюсе грибы.* * *
Все у меня читают разное, и каждый прав наверняка: одним любезны игры разума, другим – беспечность мудака.* * *
Нам свойственна пленительная страсть описывать своё существование, и счастлив я чужое время красть, настырно бормоча повествование.* * *
С теми, кто несчастен и унижен, скорбен, угнетаем и гоним, стоит познакомиться поближе — и уже не тянет больше к ним.* * *
Печально похожи по тексту цитаты из очерков, писем и хроники: мечты и надежды – светлы и крылаты, а сбывшись – горбаты и хроменьки.* * *
В итоге всяческих мутаций земных повсюдных обитателей толпа желающих продаться обильней кучки покупателей.* * *
Сохранно во мне любопытство, мерцают остатки огня, и стыд за чужое бесстыдство ещё посещает меня.* * *
Удивительное время по России потекло: утекает, как евреи, задушевное тепло.* * *
Я плохо владею ключом к искусству молоть ерунду, легко говоря ни о чём, но что-то имея в виду.* * *
Сейчас в разноголосице идей, зовущих мир на правильные рельсы, не слышен персональный иудей, но чувствуются крученые пейсы.* * *
Сплетя блаженство и проклятие, Творец явил предусмотрительность, и жизни светлое занятие течёт сквозь подлую действительность.* * *
Свобода – странный институт, не зря о ней ведутся споры: ведь если все цветы цветут, то в рост идут и мухоморы.* * *
Мне чтение – радость и школа, читаю журналов комплекты, где бляди обоего пола свои теребят интеллекты.* * *
Добро со злом, а тьма – со светом дерутся, прыская проклятья, но все их воины при этом похожи, как родные братья.* * *
Всегда евреи думали наивно, когда по разным странам ошивались, что будут их любить везде взаимно, и всюду безнадёжно ошибались.* * *
Когда я слышу горестные жалобы — на близких, на судьбу или на Бога, я думаю всегда, что не мешало бы несчастному в тюрьме побыть немного.* * *
Копать былое нет резонов, оно совсем не безобидно: у жизни несколько сезонов, и всюду есть места, где стыдно.* * *
Увлекательно это страдание — заниматься сухим наблюдением, как телесное в нас увядание совпадает с ума оскудением.* * *
Дух еврейский, повадка и мимика всю реальность меняют окрест: два еврея – уже поликлиника, три еврея – строительный трест.* * *
Нет нужды тосковать или злиться, что мошенник юлит, как букашка, что у власти – похабные лица и что сам ты уже старикашка.* * *
Каждый год, каждый день, каждый час и минуту (всего ничего) то ли время уходит от нас, то ли мы покидаем его.* * *
Способность наша к выживанию давно тревожит всех на свете, толкая к тайному желанию проверить лично слухи эти.* * *
Испытываю лень и неохоту, нисколько меня праведность не манит, а то, что не работаю в субботу, — так я и всю неделю тем же занят.* * *
Я печально живу, но не пресно, уважаем по праву старейшего, и дожить мне весьма интересно до падения нравов дальнейшего.* * *
Для меня желанье властвовать – загадка, уберёг меня Творец от этой страсти, сластолюбие – понятная повадка, но темна и плохо пахнет жажда власти.* * *
Предчувствия, знаки, предвестия в единый сливаются ветер, свистящий, что новая бестия появится скоро на свете.* * *
Наша мудрость изрядно скептична — опыт жизни оставил печать, и для старости очень типично усмехнуться, кивнуть, промолчать.* * *
Ушла игра, ушла, паскуда, ушла тайком и воровато как из ума, так и оттуда, откуда выросла когда-то.* * *
Я счастлив, ибо всё во мне занижено: претензии, апломб и притязания, а если кто весь век живёт обиженно, то это – знак за что-то наказания.* * *
Мне кажется, Творец уже учёл ту просьбу, о которой я молчу. Я многих ещё книжек не прочёл, и много ещё выпить я хочу.* * *
Артистам кочевым жилось непросто, хотя их и поили, и кормили, — однако хоронили вне погоста, чтобы они погост не осквернили.* * *
Уже старею, очевидно, уже порой неполон зал, на что плевать, хотя обидно, как Пушкин некогда сказал.* * *
Я там бы умер, я сердечник, хотя мне там бы орден дали, но шестикрылый семисвечник позвал меня в иные дали.* * *
Обильна российских поэтов палитра, у многих истёрлись уже имена, но тысячи новых, откушав пол-литра, кропают, ликуя, херню дотемна.* * *
Уже мы торопиться не должны, все наши дни субботни и воскресны, а детям как бы мы ещё нужны, хотя уже совсем не интересны.* * *
Весомо цедит каждый звук любой властитель дум вальяжный, чей даже слабый ик и пук имеют смысл очень важный.* * *
Жалко мне, что душевный мой опыт не впитал, обходя стороной, шорох, шелест, шуршание, шёпот полнозвучной природы земной.* * *
Душа моя – как ангелица, в ней боль и жалость, хотела утром похмелиться, но удержалась.* * *
Забавно это злоключение, хотя и грустно созерцание того, как зыбкое свечение сошло на тусклое мерцание.* * *
Многое, что сделано искусно, видеть омерзительно и гнусно.* * *
Читаю. Днём поспать охота. Курю. Экран – убийца вечера. Живу, как будто жду чего-то. А ждать уже по сути нечего.* * *
Когда случаются сражения, где рвутся внутренние вожжи, то неизбежность поражения осознаётся нами позже.* * *
Старость обирает нас не дочиста, время это вовсе не плохое, очень только давит одиночество — ровное, спокойное, глухое.* * *
От нашего шального поколения для будущих возвышенных метаний останутся большие накопления иллюзий, заблуждений и мечтаний.* * *
Влекусь душой к идее некой, где всей судьбы видна картина: не вышло если стать Сенекой, то оставайся Буратино.* * *
Уже кипящих шумных споров мы не участники давно, но от гитарных переборов искрится скисшее вино.* * *
Блаженны добрые и кроткие с их неустанным состраданием, жаль только жизни их короткие: они умнеют с опозданием.* * *
Тонка душевная материя — мне «да» трудней сказать, чем «нет». В великой школе недоверия мы все учились много лет.* * *
Наследственного знания вериги стесняют жизнечувствие моё. Печальные глаза народа Книги — от вечного читания её.* * *
Мне разница эта обидна в эпохах любых и мгновениях: энергия зла – очевидна, добро – изнывает в сомнениях.* * *
Судьба моя – рождественская сказка, в публичную укрыт я оболочку, приветливой распахнутости маска — личина, чтобы выжить в одиночку.* * *
Не стоит огорчаться или злиться, терять к себе не стоит уважение. Но как я окажу теперь девице телесное своё расположение?* * *
Забавно, что мальчишеский задор — суждения решительны и быстры — выносит вперемежку пёстрый вздор и будущего пламенные искры.* * *
Везде сперва – смятение умов и чувство неминуемого лиха, а после – сотрясение основ и сеющая смерть неразбериха.* * *
Сомнение, раздумье, колебание, в советах и примерах копошение — глубокое копают основание, чтоб выбрать наихудшее решение.* * *
Живя с оглядкой бесконечной, уже совсем забыли мы, что пользу глупости беспечной воспели лучшие умы.* * *
Я раньше это чувствовал всегда, а ныне – безусловно убеждён, что вовсе человек не для труда, а вовсе он для отдыха рождён.* * *
Меньше для общения гожусь, в гости шляюсь реже с каждым годом; я ведь ещё вдоволь належусь рядом со своим родным народом.* * *
Стишками был я с молодости мучим и с лермонтовской ручкой в рюкзаке томился на великом и могучем, правдивом и свободном языке.* * *
После смерти любого мужчину, если был он, конечно, заметен, причисляют к уместному чину для посмертной гармонии сплетен.* * *
Вчера ещё обласкан был судьбой, а нынче всё плетётся вкривь и вкось; поскольку жребий катит вразнобой, надёжней полагаться на авось.* * *
Блаженны духом лоботрясы, и олухи царя небесного, и те, кто, выпив, точит лясы, не дожидаясь дня воскресного.* * *
Характер наш изношенный таков, что прячутся эмоции живые, а добрая улыбка стариков — ослабнувшие мышцы лицевые.* * *
Моё суждение хмельное у многих будет под вопросом, но блядство есть не что иное, как радость пользоваться спросом.* * *
Следит заворожённая толпа за тем, как на алтарь её вчерашний ступает победителя стопа… И искренен восторг её всегдашний.* * *
С женою пьём под вечер мы вдвоём, для выпивки мы смолоду годились, на старости мы сызнова живём, чтоб нами внуки с ужасом гордились.* * *
С деньгами тесное соседство рождает в людях тяжкий свих, и у науки нету средства, чтоб охранить рассудок их.* * *
Много лет мы вместе: двое как единый организм. За окошком ветер воет, навевая оптимизм.* * *
Память наша с возрастом острее, нам виднее канувшие дали. Ясно помнят ветхие евреи, как они Египет покидали.* * *
Мне случилось родиться в России, даже был пионер я когда-то, и поэтому, как ни просили, не могу изъясняться без мата.* * *
Когда меня тоска одолевает и чахнет, закисая, дух мой резвый, рука моя мне рюмку наливает, а разум не глядит, мудила трезвый.* * *
Нельзя чрезмерно длительно страдать, нет пользы в бесконечном сокрушении. Совсем не в лёгкой жизни благодать, а в лёгком к этой жизни отношении.* * *
Теченье мыслей безотчётно, в игру их каждый вовлечён. Блаженно думанье о чём-то, ещё блаженней – ни о чём.* * *
Весьма причудливое свойство, души особенная стать — полив росток самодовольства, незримым салом обрастать.* * *
Теперь я в лиге стариков, а старость хоть и бородата — меж нас не меньше дураков, чем было в юности когда-то.* * *
Увы, но дряхлой жизни антураж — печальная в судьбе моей страница: едва лишь пошевелится кураж — сей миг заболевает поясница.* * *
Легки слова, наивна гамма — доступен каждому стишок, и сложных мыслей нет ни грамма, и сам я прост, как пастушок.* * *
Дано колеблемой струне будить во мне такое эхо, как будто снова я в стране, откуда с горечью уехал.* * *
Господь, создатель мироздания, всё знал и делал навсегда, не знал Он только сострадания, и в этом – главная беда.* * *
Хотя благополучны мы и счастливы, хотя царит покой в надёжных стенах, евреи несгибаемо опасливы — история не дремлет в наших генах.* * *
Под небесными общими сводами, с общим фартом и общей бедой, все евреи со всеми народами неслиянны, как масло с водой.* * *
Вслед за мудрецами и пророками признано раввинами учёными, что мы Богу служим и пороками, и крутыми помыслами чёрными.* * *
Все, кто мёрз на житейском ветру и пришёл к пустоте в результате, утешались похоже: умру — и спохватится мир об утрате.* * *
Нет покоя душе, и не надо, вперемежку являются пусть и тревога, и гнев, и досада, боль и жалость, обида и грусть.* * *
Я много прочитал мудрёных книг. Что попусту – нисколько не грущу. А в истину, должно быть, не проник, поскольку я не знал, чего ищу.* * *
Мне чудится в игре и смысле слов, построенных с усердием и точно, попытка укрепления основ, которые Творец создал непрочно.* * *
Люблю отъезды, возвращения, дорогу, встречи, расставания — за лёгкий дух перемещения по плоскости существования.* * *
Я часто поступаю опрометчиво по прихоти упрямства своего, однако же терять поскольку нечего, то я и не теряю ничего.* * *
Я веские имею основания считать себя художником, пока раскрашиваю ткань существования руладами шального языка.* * *
Танцуя свой по жизни лёгкий танец, таскаю всюду образ мой привычный: везде я чужеземный иностранец, везде я мелкий фраер заграничный.* * *
Весна подвела и с теплом запоздала, куражатся тучи, дождём облегчаясь, и ветер холодный свистит разудало, и мысли весенние чахнут, отчаясь.* * *
Реальность, нами обозримая, и ухом ловится, и взглядом, но нечто зыбкое и мнимое всегда клубится в нас и рядом.* * *
Я верю в успешность потуг спастись от наплывов тоски и в то, что чугунный утюг зелёные пустит ростки.* * *
Сирые, скорбящие, убогие, люди из породы горемычных, — если к ним прислушаться, то многие сильно пострашнее нас, обычных.* * *
Я думаю о нынешней поре, надеясь в послезавтра заглянуть. Растерянное время на дворе колеблется, куда ему свернуть.* * *
Даже и звонят уже мне редко, в памяти слоятся пустыри, и всё глуше делается клетка, запертая мною изнутри.* * *
Она была свежа, как роза в вазе, и я б над ней жужжал от умиления, когда б не ощущалось в каждой фразе, что ей чужда идея опыления.* * *
Вовлекаясь во множество дел, не мечись, как по джунглям – ботаник, не горюй, что не всюду успел, — может, ты опоздал на «Титаник».* * *
В идейной войне многолиственной актёрствуют все исполнители, а в ходе трагедии истинной на смерть обрекаются зрители.* * *
Покойник был немыслимо учён, но случай – как разбойники в ночи, а бедный академик не учёл, что с крыши могут падать кирпичи.* * *
Охранные лечебные мытарства приемлю я, не дрогнув даже бровью, подобное количество лекарства доступно лишь могучему здоровью.* * *
Не потому, что бескорыстен, а потакая вкусам личным, я в толчее полезных истин влекусь обычно к непрактичным.* * *
Вот я в зеркале себя лицезрею — в жизни много мы уже понимаем, и приятно пожилому еврею, что ещё он сам собой узнаваем.* * *
Несбыточное и недостижимое везде на протяжении веков существенней душе, чем содержимое беременных деньгами кошельков.* * *
Блажен, кто зябнет в ожидании, что грянет некий звук торжественный и в нашем тусклом мироздании распространится свет божественный.* * *
Я давно уже не пью с кем ни попадя, с кем попало не делю винегрет — чтобы не было на памяти копоти и душе не наносился бы вред.* * *
Вот липнет женщина ко мне, в её объятья путь не долог, а что у бабы на уме — не знает даже гинеколог.* * *
Мне кажется, что в силу долголетия, исправно и стремительно текущего, теперь уже нисколько не в ответе я за шалости сезона предыдущего.* * *
Дурея на заслуженном покое, я тягостной печалью удручён: о людях я вдруг думаю такое, что лучше бы не думал ни о чём.* * *
Состарясь, угрюмо смотрю сквозь очки, шепча себе: цыц, не пыхти; но если и вправду мы Божьи смычки, то Бог – музыкант не ахти.* * *
Воды во мне и воздуха – в достатке, огня Творец добавил в день рождения, а почвы – недоложено, и шатки от этого мораль и убеждения.* * *
Я не бормочу с утра молитвы, знаю, что проигран будет бой, ибо снаряжаюсь я для битвы с опытным бойцом – самим собой.* * *
Скажу я нечто очень откровенное, интимное, постыдное, сердечное: мне всё земное, бренное и тленное милее, чем высокое и вечное.* * *
Отпылал мой роскошный костёр, всё болит по ночам и утрам. Я когда-то любил медсестёр, а теперь я хожу к докторам.* * *
Действуя на души и сердца, чувствам и уму чиня помехи, дьявол – тень и копия Творца, и отсюда все его успехи.* * *
Благословен, конечно, труд — как без него, необходимого? Но люди очень рано мрут из-за него как раз, родимого.* * *
Я когда свою физиономию утром наблюдаю, если бреюсь, то и на всемирную гармонию мало после этого надеюсь.* * *
Вот было б дело интересное: при полном здравии и заживо проникнуть в царствие небесное и глянуть, как оно отлажено.* * *
Скончался день, пустой и суетный, день жизни вылился в кишение; мы мельтешим, как будто сунет нам судьба на чай за мельтешение.* * *
Замечу сдержанно и тихо, насколько это поразительно, что мы живём довольно лихо, а живы – очень приблизительно.* * *
Сколь дивные в России вечера: чуть выпили, и птица-тройка мчится. Сегодня было то же, что вчера, но завтра нечто светлое случится.* * *
Я вздёрнул молнию ширинки, остатки сил в себе нашёл и на заезженной пластинке души своей играть пошёл.* * *
Пришла медлительность коровья, уже во тьму раскрыта дверь, и общей слабостью здоровья болею часто я теперь.* * *
Нету во мне по престижу томления, мягко я всем улыбаюсь. Я о себе невысокого мнения — лучше пусть я ошибаюсь.* * *
Словно обувь, тачается строчка, та получше, а эта – похуже, я типичный кустарь-одиночка, да ещё без мотора к тому же.* * *
Теперь я вслух не хохочу, а шевелю слегка губами, и даже если я молчу, язык держу я за зубами.* * *
Я – тень, укрывшаяся в тень, звук тишины в немолчном гаме, я нулевой в неделе день, восьмая нота в нотной гамме.* * *
Мои интимные места мне очень мягко намекают, что я весьма уже устал и девки зря вокруг мелькают.* * *
Книгу жизни суматошно полистав, начинаешь задыхаться и болеть, мы стареем, даже взрослыми не став, — не успев, точнее, толком повзрослеть.* * *
Вот человек: от песни плачет, боится нищего обидеть, потом кого-то так хуячит — не приведи Господь увидеть.* * *
Когда тоской душа томится, мне шепчет голос ниоткуда, что есть война, тюрьма, больница, а ты сидишь в пивной, зануда.* * *
Мучат нас беспочвенные мнимости, и сполна я этим награждён: я себя люблю, но во взаимности я не абсолютно убеждён.* * *
С годами потемнел души кристалл, в нём выдохлись мечтания и грёзы: стишки рифмуя, в небе я летал, а ныне ковыряю глину прозы.* * *
Человек пуглив, опаслив, ищет призрачного блага, а чтоб чувствовать, что счастлив, слишком он умён, бедняга.* * *
Не сразу был таким характер мой, он медленно лепился по комкам: терпению обучен я тюрьмой, а юмором обязан мудакам.* * *
Утром очень тяжко подниматься, дальше я уже машу крылами и готов с охотой заниматься чем угодно – только не делами.* * *
Увы, похмелье пирования несёт плохие ощущения, и горьки разочарования после блаженства обольщения.* * *
Уже не будет войн и революций, и вся рутина жизни перервётся, когда вдали светящееся блюдце летающей тарелкой обернётся.* * *
То в затеях верчусь оголтелых, то недвижен, задумчив и тих. Я дурак, но в разумных пределах, нас не много на свете таких.* * *
От жизни получая удовольствие, испытывая разные приятности, храню высокомерное спокойствие на случай неминуемой превратности.* * *
В житейской ситуации любой я стоек, потому что убеждён, а в ссоре и борьбе с самим собой решительно бываю побеждён.* * *
Бог и мы затеяли совместно пьесы этой бурное течение, и Творцу, наверно, интересно, как мы ей устроим заключение.* * *
Занятное во мне ютится свойство, я часто за него себя ругаю: едва учуяв дух самодовольства, я этого счастливца избегаю.* * *
Конечно, было бы занятно продлить мои земные дни, но только так уже помят я, что грустно сложатся они.* * *
С утра до ночи – мыслей кутерьма, и разного они при этом рода: есть мысли из души, есть от ума, от сердца есть и есть от пищевода.* * *
Повстречав человека хорошего, понимаешь вдруг ясно и остро, что земля наша Богом не брошена, а на время оставлена просто.* * *
Употребление без меры — с утра я склонен к философии — лишает нас надежды, веры, любви и матери их Софии.* * *
Наше время обильно украшено не легендами-мифами-сказками, а немыслимой вони парашами и паскудно умильными масками.* * *
Мне ответил бы кто-нибудь пусть, чтоб вернуть мой душевный уют: почему про славянскую грусть лучше прочих евреи поют?* * *
Не в мудрости, не в милости, не в силе, тем более – не в разной ветчине, величие сегодняшней России — в одной только её величине.* * *
Людей культурных мало в мире, а бескультурья – пруд пруди: я, например, курю в сортире, и радость булькает в груди.* * *
Сейчас уже, почти пройдя свой путь, хочу признать в преддверии конца, что нам дано при жизни заглянуть в ничтожнейшую часть игры Творца.* * *
Пока не перестану жить и быть — а скоро перестану, очевидно, — я буду с полной зрячестью любить Россию, за которую обидно.* * *
Сама себя опасно выдавая и шар земной пугая зачарованный, в субботу закулиса мировая нахально пахнет рыбой фаршированной.* * *
Хватать совсем не надо с неба звёзд, с умишком даже очень небольшим, имея волчью пасть и лисий хвост, легко достичь сияющих вершин.* * *
Борьба честолюбий, азарт вожделений, игра миллионами жизней и судеб — останутся те же у всех поколений, а значит, и правнукам лучше не будет.* * *
Стремлений, притязаний и амбиций хватает лишь до некоторых пор, и больно вдруг однажды удивиться, как выдохся их жизненный напор.* * *
Зарницы озарений прозорливых уже нечасто жалуют меня, будя в моих извилинах сонливых игру полузабытого огня.* * *
Понять былое – свыше наших сил, что славы там достойно, что – проклятия. Об этом у Творца бы я спросил, но наши для Него темны понятия.* * *
Звучит сегодня всё грозовой нотой, и всеми дух готовности владеет. Мир катится к войне с такой охотой, как будто, кровь пустив, помолодеет.* * *
Дана лишь человеческому кругу любовного безумства благодать. За счастье поелозить друг по другу способны только люди жизнь отдать.* * *
Был явно жребий свыше уготован: еврей за те века, что время длится, на стольких наковальнях был откован, что дух его не мог не закалиться.* * *
Нравы жизни, сегодня царящие, держат душу во мраке и мгле; кто подсел на стишки немудрящие, тот сидит на целебной игле.* * *
Её не описали хрестоматии, неведомо науке благонравной, что в людях есть энергия апатии, недоброй, равнодушной и отравной.* * *
Все тогда были вровень равны, тьму творили руками дрожавшими и решали проблемы страны головами, на плахе лежавшими.* * *
Я мельком повидал довольно много, и в этой мельтешистой скоротечности меня хранили три некрупных бога — упрямства, любопытства и беспечности.* * *
Забавная такая хренотень меня пугает нагло и бесстыже: чем дольше я коплю на чёрный день, тем чёрный день мой делается ближе.* * *
Продукты духа крепко пахнут, и ты меня не удивил, когда душевно был распахнут и я твой запах уловил.* * *
Великие люди приходят во сне, болтая цитаты вразброд, но жалко – приходят они не ко мне, а к тем, кто, по-моему, врёт.* * *
На склоне дней нам легче отказаться от резвого метания камней, и всех за всё простить, и отвязаться на склоне дней.* * *
Подумал мельком я сегодня: в толкучке жизни многолетней на ком лежит печать Господня — они и дьяволу заметней.* * *
Много в жизни этой не по мне, много в этой жизни я люблю. Боже, прибери меня во сне — как я наслаждаюсь, когда сплю!* * *
Пришла ко мне повадка пожилая, которую никак уже не спрячу: актёрскую игру переживая, в театре я то пукаю, то плачу.* * *
Святое чувство недовольства, святая жажда исправлять имеют пакостное свойство покой житейский отравлять.* * *
Из мыслей и слов я крошу винегрет и чушь сочиняю живую. Я делаю много здоровью во вред, а значит – ещё существую.* * *
Источники блаженства и страдания, дыханием тепла преображённые, везде гуляют нежные создания, весьма разнообразно обнажённые.* * *
Что-то будит в сонной памяти луна, шелестят ленивых мыслей лоскутки. Жажду жизни утолил я не сполна, только стали очень мелкими глотки.* * *
Неправы те, кто тьму пророчит и говорит о чёрной силе, — дух Божий, веющий, где хочет, ещё объявится в России.* * *
Ничего не воротишь обратно, время наше уже пролетело, остаётся кряхтеть деликатно и донашивать утлое тело.* * *
Кто про всё имеет мнение, хорошо тому, и чужих умов томление — по хую ему.* * *
Я доживаю в тихой пристани остатки выдавшихся лет, и беззаветной страсти к истине во мне уже нисколько нет.* * *
Мы видим пожары и чувствуем дым, нам чудится цокот подков… Дух мёртвый сражается с духом живым в течение многих веков.* * *
Во лживой нашей атмосфере всё – вопреки живой природе, и дамы думают о хере, а вслух болтают о погоде.* * *
Привычна мне текучка дней, поток рутинный и всегдашний, и каждый день с утра видней, как пусто прожит день вчерашний.* * *
А сгинуть надо, всех любя, на тонком рубеже, когда всем любящим тебя ты стал тяжёл уже.* * *
Легла блаженная прохлада, слегка душа зашевелилась; как мало мне от жизни надо — всего лишь только, чтобы длилась.* * *
За рюмкой, кружкой, сигаретой смотрел вокруг я со вниманием и много понял в жизни этой — но что мне делать с пониманием?* * *
И снова на больничной простыне, разрезан и зашит, я повалялся; Бог явно снисходителен ко мне — наверное, за то, что не боялся.* * *
С печалью на приятеля гляжу: у каждого из нас кулёк аптечный, и я уже всё чаще торможу — азарт, автомобиль, порыв сердечный.* * *
Следить, на что уходят наши дни, возможно и весьма необходимо, но годы наши краткие – они уносятся совсем неуследимо.* * *
Со стороны смотря, снаружи, поймут лишь редкие умы, что в те года, где было хуже, светлей и лучше жили мы.* * *
С утра, едва глаза протру, глушу тоску дурного свойства — мне поутру не по нутру роскошный сад мироустройства.* * *
Смотря во тьму небесных сфер и находясь в угрюмом трансе, курил несчастный Агасфер и думал: есть ли смерть на Марсе?* * *
Люблю восторга ощущение, хотя осведомлен заранее: чем воспалённей восхищение, тем горше разочарование.* * *
К российским победительным варягам во мне вдруг чувства добрые явились: меняться ведь нельзя уже беднягам, настолько они все обосрамились.* * *
Решив одну семейную задачу, я ловко стал утаивать вину: окурки я в пустую пачку прячу, и пепельница радует жену.* * *
Не то чтоб я на старости добрее, но как-то снисходительнее стал: с годами образуется в еврее бессильного сочувствия кристалл.* * *
Скука всюду живёт на планете, с ней большие несчастья рифмуются, ибо тёмные скукины дети в сучьи стаи охотно вербуются.* * *
Мне жить на свете интересно — то дух потешится, то плоть, а что духовно, что телесно, расчислит вскорости Господь.* * *
Я старюсь в полной безмятежности, и длится дивная пора: сопротивляться неизбежности — весьма занятная игра.* * *
Мне тяжко усыпительное чтение, но я себя по строчкам волоку, чтоб мукой этой выразить почтение знакомому поэту-мудаку.* * *
Во всём ищу я совершенство и полюбил до обожания невыразимое блаженство пустопорожнего лежания.* * *
К поэзии глубокой и высокой ничуть не умаляя уважения, сердечно расположен я к жестокой житейской простоте стихосложения.* * *
Я множество мыслей имею в запасе о Боге, о пьянстве, любви и еде, хотя иногда размышляю о часе, где стану никто, никогда и нигде.* * *
Успел я порезвиться на свободе, когда меня швырнули в заточение, и я – поскольку дурень по природе — был рад, что завязалось приключение.* * *
Сегодня в душе тишина завелась и молча взяла меня в руки; и с миром шумящим оборвана связь, и в доме погасли все звуки.* * *
Боюсь высокой декламации и быть Кассандрой не хочу, но нашей всей цивилизации давно пора пойти к врачу.* * *
Как дух тепла, как наваждение, что в жизни всё светло и прочно, ласкает душу наслаждение от слова, найденного точно.* * *
Сегодня я выслушивал подробно, что сукин сын в запале говорит. Немного перед Богом неудобно, хотя ведь Он же знал, кого творит.* * *
Возник учёный спор, и стало шумно, шло старого тряпья перешивание, и сладко ощутил я, как разумно отшельное моё существование.* * *
Вот беда: я стал благополучен, жизнь моя пустяшна и легка, только сам себе теперь я скучен и другим почти наверняка.* * *
Есть некий редкий тип людей: от них исходит ощущение, что он душою не злодей, а просто Божье упущение.* * *
Сполна Творец явил и гениальность, и злое своеволие своё, когда создал паршивую реальность с хорошими людьми внутри неё.* * *
Старея, твержу я жене в утешение, что Бог оказал нам и милость и честь, что было большое кораблекрушение, а мы уцелели, и выпивка есть.* * *
Наличие генов из родственной ветки всегда ощущал я в восторге немом, но в жизни моей соучаствуют предки, увы, из не очень богатых умом.* * *
Поклонники прекрасного не знают, не ведают читатели и зрители, насколько омерзительны бывают прекрасного умелые творители.* * *
На ангелов похожи все малютки, и нежностью прелестны малыши. Откуда же являются ублюдки и нелюди, лишённые души?* * *
Я храню ещё облик достойный, но, по сути, я выцвел уже: испарился мой дух беспокойный, и увяли мои фаберже.* * *
В душе своей почувствовав рыдания, немедленно врачую эту боль я, поскольку все духовные страдания легчают от удачного застолья.* * *
Дымится новое столетие, ползёт огонь по мирозданию, и вряд ли, вряд ли наши дети обучат внуков состраданию.* * *
Всё в жизни кажется нормальным, когда нас давят прессом общим, но если индивидуальным, то мы волнуемся и ропщем.* * *
Пустые пышные красивости для слуха нашего – потеха, хотя о высшей справедливости мы говорим без капли смеха.* * *
Взвешена, сосчитана, отмерена хилая российская свобода, и судьба её удостоверена полным безразличием народа.* * *
Бедой российской душу не трави, беда ещё видней после разлуки; от рабства, растворённого в крови, избавятся, возможно, только внуки.* * *
Живя среди сплошного скотства, но сам желая жить не так, я брал уроки благородства у непородистых собак.* * *
А вдруг на небе – Божий дар! — большие горы угощения, дают амброзию, нектар, и чуть по жопе – в знак прощения?* * *
Очень торопясь я вечно жил, многое я делал впопыхах, и жалею ныне, что спешил, больше, чем о дури и грехах.* * *
Глупо нам пенять на годы, унывать и хмуриться; изо всех даров природы мне любезней курица.* * *
Я не в силах это объяснить, чувствую нутром, не понимая: как только слова натянут нить — музыка является немая.* * *
Выделывал я антраша и курбеты, напяливал маски шута и паяца, легко преступал через Божьи запреты, и жалко со всем этим напрочь расстаться.* * *
Жуткая мне снилась ситуация — как по Божьей прихоти обидной наша охуительная нация стала тихоструйной и невидной.* * *
Прямо хоть беги отселе или пса с цепи спусти: все евреи – Моисеи, все хотят меня вести.* * *
Примкнуть и слиться, жить похоже, подобно всем на белом свете… Но вдруг такие встретишь рожи, что усыхают мысли эти.* * *
Хоть я и тёмен, и мудила, однако всё же тем не менее, о чём бы речь ни заходила — имею собственное мнение.* * *
Конечно же, слава – огонь, а не дым, на дым не летят мотыльки. Жаль тех, кто в огонь залетел молодым, помельче от них угольки.* * *
В иное судьбы измерение вот-вот попадут наши дети. Глухое ползёт озверение по этой безумной планете.* * *
В России жалко мне подростков: они отзывчивы на слово, и заморочки отморозков их душам – дудка крысолова.* * *
Кончается прекрасное кино, прошла свой путь уставшая пехота. И мне уже за семьдесят давно, а врать ещё по-прежнему охота.* * *
Бутылок ловкий открыватель, с их содержимым я борюсь, а в жизни – тихий обыватель и всех начальников боюсь.* * *
С равной смесью лености и пыла то читал, то пил, то пел бы песни я; если бы писать не надо было, то писатель – чудная профессия.* * *
Для подвигов уже гожусь едва ли, но в жизни я ещё ориентируюсь. Когда меня в тюрьме мариновали, не думал я, что так законсервируюсь.* * *
Сеять разумное, доброе, вечное, чувствуя радость успеха заранее, — дело по сути своей бесконечное, как и любое пустое старание.* * *
О, я готов ползти ползком, терпеть хулу, толочься в ступе, но заглянуть одним глазком в тот мир, который недоступен.* * *
Потолок моего интеллекта очевиден по уровню книг, и я счастлив, услышав, что некто прямо в суть мироздания вник.* * *
Во всех моих житейских нуждах, при всей исчерпанности сил я у людей чужих и чуждых ни в чём поддержки не просил.* * *
Стала сказкой быль большевиков и чужой – родная сторона. Мучит ностальгия стариков: из-под них уехала страна.* * *
Внутри у нас – большая пустота, набитая спасительными мифами, отсюда и святая простота скольжения рассудка между рифами.* * *
В печати российской теснятся мыслители всяческой масти, и Бога они не боятся под задом незыблемой власти.* * *
Бывал я бит, бывал унижен — легко творили пытку гниды, но не был я на них обижен — на гнид не может быть обиды.* * *
Нуждается живое существо в неспешном захмелённом разговоре. Без выпивки – какое торжество? От выпивки слабее душит горе.* * *
Одним заболеванием стервозным я смолоду загадочно страдаю: задумавшись о чём-нибудь серьёзном, я в сон незамедлительно впадаю.* * *
Вдруг мысли потянулись вереницей, хотел я занести их на скрижали, перо уже скользило по странице, но дуры эти дальше побежали.* * *
Уходит молча – всем поклон и просьба не рыдать, — как из Москвы – Наполеон, из жизни – благодать.* * *
Сегодня приключился странный день, как будто он подбадривал меня, и будущих удач ложилась тень на мизер протекающего дня.* * *
Я себе добыл покой и волю, я живу в любви и всепрощении и весьма обязан алкоголю за поддержку в этом ощущении.* * *
На мир посмотреть если здраво, холодным покроешься потом, и мир осуждать – наше право, оно по душе идиотам.* * *
Тоска тревожна и густа — невнятная и ниоткуда, и хочется поверить в чудо слов из горящего куста.* * *
Я понять пытаюсь безуспешно, для какой загадочной нужды время сортирует нас неспешно и сорта различны до вражды.* * *
До чего же, однако, мы дожили на житейской подвижной лесенке: одуванчики эти божии — неужели мои ровесники?* * *
Гуляет поэт по буфету, бормочет о чреслах богинь… Дай, Господи, счастья поэту и свежую рифму подкинь!* * *
Прекрасен пишущий прохвост: меня не злит, а умиляет, как, распустив павлиний хвост, он по-собачьи им виляет.* * *
Умерев, я нигде не возлягу, здесь хоронятся сразу покойники, и цветами украсить беднягу не сумеют, по счастью, поклонники.* * *
Удаль, ухарство и кураж проявлять надо очень быстро, ибо скоро придёт мандраж и погаснет лихая искра.* * *
Люблю курить и думать я, отринув жизни шум, отсюда – та галиматья, которую пишу.* * *
Всегда мне было главное заметно: как ни трудна житейская дорога, она разноголоса, многоцветна, а запахов – излишне даже много.* * *
Свершается от жизни отторжение, вослед летит пустое причитание… Творец нам заповедал умножение, но свято соблюдает вычитание.* * *
Что век наш – духовный калека, давно полагал я тишком, а детище этого века — духовная пища с душком.* * *
Поэт, не дремли над листом, а Музу зови и бодрись; художник сопит над холстом и шепчет: «Сезанн, отворись!»* * *
Есть у каждого личный мирок, там иные слоятся эпохи, там интимный с мечтами пирог и свои тараканы и блохи.* * *
Пора признать, идя к итогу, что жизнь была разнообразна: от чёрт возьми до слава Богу судьба металась несуразно.* * *
У многих даже жизнь интимная весьма случается противная.* * *
Люблю застолья дух летучий, нестройный шум и взрывы смеха; клубится время хмурой тучей, но время пьянству не помеха.* * *
Кто по жизни пластается слизью благодатного дара лишён; если ты наслаждаешься жизнью, то и ей от тебя хорошо.* * *
Старости не нужно приглашение, к нам она является сама, наскоро даря нам в утешение чушь о накоплении ума.* * *
Назло вскипающему страху ещё легко б себя я поднял и на груди рванул рубаху, но гибнуть не за что сегодня.* * *
Мне часто выпить невтерпёж, не дожидаясь вечера; куда по смерти попадёшь — так там и выпить нечего.* * *
Добро и зло усердно изучая (а честность тут важнее мастерства), я много лет потратил, замечая отчётливые линии родства.* * *
Есть люди – чудеса они творят, всё прошлое им памятно поныне, они запоминали всё подряд, и много, чего не было в помине.* * *
Наткнулся на книжонку я случайно, там автор психоложествовал, как на свете пусто, скучно и печально и лучше не рождаться. Вот мудак!* * *
Одиночество – страшная мука, если подлинно ты одинок; одиночество – дивная штука, если ты от людей изнемог.* * *
Преисполненный старческой благости, всех любить расположен я внутренне, но обилие всяческой гадости мне приходит на ум ежеутренне.* * *
И я был опалён огнями рампы, но не был ей нисколько очарован, а светом от моей настольной лампы мне кайф куда острей бывал дарован.* * *
За сроки кратковременных визитов понять одно-единственное можно: обилие двуногих паразитов к России присосалось безнадёжно.* * *
Нет никаких пока гонений, живём и дышим, как хотим, но дух, то волчий, то гиений, везде и всюду ощутим.* * *
Народ на Востоке горяч и жесток, чужой там – как муха в борще, и Запад есть Запад, Восток есть Восток, а Ближний Восток – вообще.* * *
Пришла пора загадочным годам, иными стали стиль, замах и тон, то – не по силам, то – не по зубам, а то – не по уму, ослаб и он.* * *
У меня претензий к жизни нет — хуже видит, ходит вовсе плохо, только ведь не подлая эпоха — это я принёс ей сотни бед.* * *
Мне приснилось, что везде вокруг меня тьма писателей витала в облаках, и текла их тихоструйная хуйня на тетради и блокноты в их руках.* * *
Много всякого – далёкого и рядом, даже то, что высоко над головами, я задел моим невежественным взглядом и обидел некультурными словами.* * *
Я раб весьма сметливый и толковый, а рабством – и горжусь и дорожу, и радостно звенят мои оковы, когда среди семьи своей сижу.* * *
Жалею людей после первой же стопки, достаточна малая малость: от низко посаженной девичьей попки томит меня жгучая жалость.* * *
Причудливо моё воображение, там нету славословящих шумих, но лестно мне его пренебрежение убогостью возможностей моих.* * *
Законы – это лишь ориентиры, а не барьеры, стены и заборы, в законах есть лазейки, щели, дыры и даже есть прогрызенные норы.* * *
Я душою леплюсь к очень разному, и понятна моя снисходительность: вкусовые пупырышки разума потеряли былую чувствительность.* * *
Есть люди – ярко красит сытость их лица, смех, повадки, тон, и эта свинская открытость — поступков ихних камертон.* * *
С утра немного ем без радости и снова сплю. Встаю к обеду. Я трудоголик был во младости, но время вшило мне торпеду.* * *
Взглянув со стороны, как я живу, увидел я черты кошмара сущего: похож я стал на жухлую траву и дряхлого козла, её жующего.* * *
Тот мир покуда нам неведом, но близок день и близок час, а кто уйдёт за нами следом, уже узнать не сможет нас.* * *
Что-то душа моя хнычет с утра, что-то с утра её мучит — то ли охота ей вон со двора, то ли об выпить канючит.* * *
В конце пришёл я к истине простой: все в жизни приключения мои о том же говорят, что Лев Толстой: что много в нас и Бога, и свиньи.* * *
На склоне лет мечты уже напрасны, хотя душе и в том довольно лести, что женщины ещё легко согласны со мной фотографироваться вместе.* * *
Время нынче – вовсе не плохое, как ни жутки вывихи его, но оно пронзительно глухое, и никто не слышит никого.* * *
Людей, в ком Божий дар заметен, судьба сильней секла кнутом, и нынче их на этом свете гораздо меньше, чем на том.* * *
Меня всегда влекло познание, и я дознался до того, что счастье – это понимание, что ты не создан для него.* * *
Мы так явно и стремительно стареем, что меняться – и смешно, и неприлично, я не стану уже праведным евреем, даже сделав обрезание вторично.* * *
Пока текла моя дорога, меня и гнуло, и ломало, уже я знаю очень много и только помню очень мало.* * *
В евреях я воспел, как мог, их непомерные излишки, и мне хвалу бы хмыкнул Бог, умей читать Он наши книжки.* * *
Хоть лёгкие черны от никотина и тянется с утра душа к ночлегу, однако же ты жив ещё, скотина, а значит – волоки свою телегу.* * *
Моё поколение тихо редеет, оно замолчало, как будто запнулось, мы преданы были высокой идее — свободе, которая так наебнулась.* * *
Трудна житейская дорога: среди бредущих пожилых сильней заметно, как немного людей доподлинно живых.* * *
Про предстоящую беду уже писал я многократно: беда не в том, что я уйду, а в том беда, что невозвратно.* * *
Творец хотел бы нам помочь, по капле счастья всем раздать, но и Ему уже невмочь земное блядство обуздать.* * *
В нас есть огонь, и есть металл, и дух наш дерзостен в борьбе; как мы велики, я читал, как мелки – знаю по себе.* * *
Болото будничного быта с его трясинами и кочками по краю ангельски покрыто зелёной травкой и цветочками.* * *
Живя под пальмами и пихтами, под эвкалиптами и вязами, так на кириллице мы свихнуты, что неразрывно с ней повязаны.* * *
Дар Божий очень трудно сохранять, и грустен одарённый индивид: его душа – мятущаяся блядь — свой дар опошлить пользой норовит.* * *
В людском сообществе цветастом возможно всякое на свете, у лесбиянки с педерастом вполне родиться могут дети.* * *
Сегодня долго длилась ночь, я шёл во сне сквозь тьму, кому-то должен был помочь, но я не знал – кому.* * *
Старел бы я вполне беспечно — доволен я семьёй и домом, и виноват склероз, конечно, что тянет к бабам незнакомым.* * *
На кратком этом жизненном пути плевал я на разумные запреты, и в мир иной хотел бы я уйти, вдыхая дым последней сигареты.* * *
Особая присуща благодать тому, кто обессилел и стареет: всё то, что мы смогли другим отдать, невидимым костром нам души греет.* * *
Угрюм и вял усохший старикан, уж нет ни сил, ни смысла колготиться, но если поднести ему стакан, то старость воспаряет, словно птица.* * *
На склоне лет печален и невесел кто в молодости недокуролесил.* * *
Жизнь потянулась тихая. Азарта, конечно, жалко. Раньше легко я вспыхивал, но высохла зажигалка.* * *
В Божий храм заходя аккуратно, мы стираем с души своей пятна, совершая молитвой подробной страхование жизни загробной.* * *
До годов преклонных мы дожили — сдержанны, скептичны и медлительны. Всюду молодые и чужие — грамотны, поспешны, снисходительны.* * *
Мирок мой, с неких пор миниатюрный, лишён уже игры, огня, азарта, но в сыне ген играет авантюрный, дай Бог ему наследственного фарта.* * *
Высокие у жопы назначения: она житейский опыт наш несёт, в ней шило гонит нас на приключения, мы в ней сидим, когда не повезёт.* * *
То в истории светло, то снова тучи; изменяя вдруг течение своё, нас история всегда чему-то учит — но лишь тех, кто не влияет на неё.* * *
Я не был с веком в перепалке, на гнев и крик не тратил пыл и не вставлял в колёса палки, я просто рядом жил и был.* * *
Мне кажется, что в силах уберечь Россию от ползущего распада — лишь устная и письменная речь, цветущему гниению преграда.* * *
Мы жаждем слышать Божий глас, возводим очи к небесам, а Бог чего-то ждёт от нас, хотя чего, не знает сам.* * *
Хоть явного об этом нету знака, похоже – мне дарована отсрочка: везде болит, но в целости, однако, души моей земная оболочка.* * *
Люблю людей со взглядом ясным, они связали жизнь узлом и делом заняты прекрасным: бессильно борются со злом.* * *
Надут и летит миллион пузырей, несущих параши и бред; Израиль сейчас – коллективный еврей, поэтому людям – во вред.* * *
Да, гуляки, моты и транжиры были все подряд мои приятели, светлый факт, что веселы и живы, — премия за всё, что щедро тратили.* * *
Давно везде всегда со мной, лаская дух и глаз, мой дивно лёгкий, надувной мифический Парнас.* * *
Терпел я всякое от нечисти (я был из лохов и тетерь), но думал я о человечестве гораздо лучше, чем теперь.* * *
С утра проснусь, ополоснусь и, закуривши после чая, опять живу, ни мразь, ни гнусь вокруг себя не замечая.* * *
Старость – удивительный сезон: дух ещё кипит в томленье жарком, жухлый и затоптанный газон кажется себе роскошным парком.* * *
Я в любое время суток по влеченью организма побеждаю предрассудок о вреде алкоголизма.* * *
В тёмной чаще житейского леса, где глухое царит бездорожье, наущение мелкого беса очень часто похоже на Божье.* * *
Беда моя безжалостно крута — ужели это старость виновата? — куда-то испарилась доброта, ушло великодушие куда-то.* * *
Дожив до возраста седин и видя разные прогрессы, я понял: Бог у нас – един и только очень разны бесы.* * *
На кепку мне упал комок и капля тронула ресницы: не всё, что с неба, шлёт нам Бог, довольно много шлют и птицы.* * *
Дьявольски спешат часы песочные, тратя моё время никудышное, стали даже мысли худосочные чахнуть от шуршания неслышного.* * *
Всегда заметно светлое мерцание над сумраком безвыходно сплошным, трагическое миросозерцание мне кажется поэтому смешным.* * *
Есть такие слова в русской речи, так воздействие их благодатно, что легко выпрямляются плечи и душа улыбается внятно.* * *
Нахохлившись, как куры на насесте, живём, грустя об участи своей, однако пригорюниваться вместе мы стали много реже и трезвей.* * *
Смерть не минуешь, очевидно, я скоро кану в никуда, и лишь порой весьма обидно, что умираешь навсегда.* * *
Какая бы ни мучила забота и старость нынче как ни тяжела, я всё благодарю того кого-то, чья лёгкая душа во мне жила.* * *
С утра я угрюмо и тупо сижу в ленивой тиши кабинетной, но писчей бумаги теперь извожу не более, чем туалетной.* * *
Я понял нынче утром за кефиром, что полные намерений благих, не тайные евреи правят миром, а тайно правят миром жёны их.* * *
В этой жизни я где только не был, и куда б ни занёс меня случай — под безоблачно солнечным небом над евреем сгущаются тучи.* * *
Мы видим по-иному суть и связь, устав и запредельно измочалясь. Кудрявые не знают, веселясь, того, что знают лысые, печалясь.* * *
Из ночи лёгкая прохлада сошла ко мне, и в полусне подумал я, как мало надо уже от жизни этой мне.* * *
На кладбищах висит очарование, несущее томительную ясность, что жизни этой краткой дарование — пустяшная случайная прекрасность.* * *
Живя уже у срока на пороге, ложусь на свой диван во всю длину и думаю, вытягивая ноги, что скоро их и вовсе протяну.* * *
Нет, я ни глубоко, ни далеко смотреть не помышлял. Играл в игру. Зато легко дышал и жил легко, а если даст Господь – легко умру.* * *
По смерти мы окажемся в том месте — и вида и устройства неземного, — где время и пространство слиты вместе, и нету ни того и ни другого.* * *
Когда, слова сказав убогие, приму я смертную остуду, меня помянут рюмкой многие, а я уже непьющий буду.* * *
Чувствуя, что жить не будешь вечно, тихо начиная угасать, хочется возвышенное нечто мелом на заборе написать.Постскриптум
Это латинское слово явно покрасивее, чем «послесловие». Кроме того, в нём скрыто обещание, что текст последует краткий. Так оно и будет.
В рейсе Иркутск – Москва выпивка не полагалась, и поэтому у многих было с собой. А в их числе был, разумеется, и я. Глотнув немного, принялся я медленно и благодушно думать, что теперь имею право и на долгое безделье, и на лёгкое застольное бахвальство. Закончилась ещё одна гастроль, и я остался жив, объехав пятнадцать городов. Дня через три снова буду в Иерусалиме. Друзья усядутся за стол, мы чокнемся по первой и немедля по второй, и на меня все вопросительно уставятся: ну, где ты был, гулящий фраер? Я небрежно им отвечу, что не стоит все пятнадцать городов перечислять, я лучше просто назову те реки, на берегах которых покурил, бездумно глядя на воду. Начну с Невы (Москва-река не в счёт), а дальше – Дон, Кубань, Волга, Обь, Енисей, Иртыш и Ангара. Все покачают головами и нальют по третьей, ожидая связного рассказа. Но его у меня нет. Ведь это всё за месяц увязалось. Я приезжал в очередной город, по нему меня чуть-чуть возили (Томск с Иркутском – чудо деревянной архитектуры), после спал перед концертом, а после него – глухая пьянка, и наутро – поезд, самолёт или машина. Досконально убедился я в великой правоте художника Ярошенко: всюду жизнь. Конечно, ещё что-то позже в памяти всплывёт, а что-то обнаружится в блокноте, и проявится картина моих странствий и несчётных разговоров с очень разными людьми. Тогда я это всё и опишу. Как дивно выразилась одна стихотворица – «у поэта на такое завсегда перо встаёт».
Записки в этот раз я отобрал (из множества привычных и обычных) довольно странные. Меня спрашивали, наладились ли мои отношения с Богом (я и не знал, что они есть и что портились), сколько у меня детей, известных мне, и «в чём заключается (мы на концерте первый раз) ваша деятельность на сцене?». Благодарил («ничуть не жалею») какой-то бедолага, по ошибке приблудившийся на выступление: ему сказали, что я известный саксофонист.
Зато отдельно от других лежала у меня записка, которая оправдывала полностью и всю эту поездку месячной длины, и самое моё существование отчасти:
«Игорь Миронович, мне предстояла тяжёлая операция, и я взяла с собой в больницу книгу Ваших стихов. После операции я попала в палату, где нас было шестеро, все такие же, как я. Всем было больно, и у всех отвратное настроение. Я стала им читать Ваши стихи. К вечеру у троих разошлись швы. Лечащий врач отобрал у меня Вашу книжку. Спасибо Вам! Живите долго!»
Тут моё приятное мышление прервалось по естественной причине, и я побрёл в туалет. А возвращаясь, вспомнил, как один приятель мой спросил у пожилого профессора-патологоанатома, возможно ли по трупу голого мужчины опознать, что покойник был интеллигентом. Спросил он в шутку, но профессор без улыбки утвердительно кивнул. И объяснил: интеллигент не в силах пи2сать где угодно, как только приспичит, терпеливо ищет туалет, и потому у него весьма заметно расширен мочевой пузырь.
Усаживаясь в кресло, я ещё смеялся, мой сосед недоумённо и приветливо мне тоже улыбнулся, и я плеснул ему виски в стаканчик из-под воды. Историй в этот раз прислали мне в записках мало, но одну я непременно собирался вставить в книгу (жалко, город я не записал). На каком-то крупном машиностроительном заводе много лет висел огромный плакат: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!». А снизу подпись: «В.И. Ленин». Я налил ещё по чуть-чуть себе и соседу и снова ощутил острую радость, что возвращаюсь.





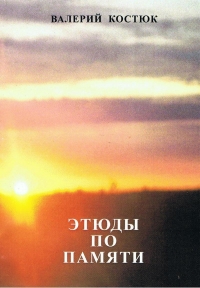
Комментарии к книге «Иерусалимские дневники (сборник)», Игорь Миронович Губерман
Всего 0 комментариев