ISBN 5-7187-0427-9
© В. Емелин, 2002
© С. Аветисян, иллюстрации, 2002
© ТО «Красный матрос», 2002
© «Осумашедшевшие безумцы», 2002
Лев Пирогов. Новые убогие.
Предисловия глупы и преступны, однако существуют же та-кие идиоты, например, журналисты, которых пригласишь, допустим, на выставку, а они постоят-постоят с идиотскими лицами у картин, да и спросят: «Э-э-э... скажите!., а какое это на-правление?» И, если скажешь, что, мол, «рекуррентно-абсессивный постинтеллектуализм», будут кивать головой, пока она не отвалится, а если скажешь: «Да какая вам, в жопу, разница?» — ничего не ответят, только вздрогнут по-тихому и заболеют от стресса опасным раком.
Видимо, издатель имеет в виду именно таких онтологически ранимых людей. И, видимо, он не желает им зла. А потому следует объяснить, что поэзия Всеволода Емелина — это и не поэзия вовсе. Скорее уж плач юродивого.
* * *
Нам кажется, будто бы мы знаем, в чем причины поэзии (сублимация животворных инстинктов), но чем вызвано к жизни юродивое бормотание — мы забыли. Может, и слава Богу. Если судить о балладах Всеволода Емелина, как о поэзии, то они покажутся скорее ужасными, чем хорошими. Поэзия — это кормушка, к которой мы припадаем в часы досуга свободными валентностями души. Блажь заики, который увидал Бога, — нечто иное. Поэты, вроде унитазов, существуют для пользы, юродивый — требует напряжения духовных сил и служения. Разница, как между витаминами и молитвой.
В задачи блаженного не входит стремление вызвать сочувствие или жалость. Глуп тот, кому покажется, что лирический герой севиных стихов — это «сатира», пародия на постсоветского обывателя, возалкавшего утраченных юности, порядка и твердой руки. Комические элементы в его стихах — это дань «постмодернистской чувствительности», избравшей юмор средством защиты от распухшего во рту Языка. Что-то вроде вериг и лохмотьев.
Осознав себя канарейкой в золоченой клетке, поэзия утратила желание рассуждать о политике. Важные вещи, сказанные с серьезным выражением лица, воспринимаются снисходительно, а значит, не доходят до адресата. Ирония стала чем-то вроде пресловутого «остранения» — способом оградить смысл от контекста обыденности.
* * *
Формальные признаки постмодернистской поэзии — «ирония плюс занимательность» — впитаны Всеволодом Емелиным через предшественников: Пригова, Кибирова, Немирова, митьковский фольклор etc. Но в отличие от них он вызывает раздражение своим слишком уж отчетливым националистическим и «совковым» мракобесием. При общности формы налицо разность в позициях. Причем такая, от которой недалеко до клейма дурака и «фашиста».
Так вот. В маркесовском «Столетии одиночества» есть исключительной важности эпизод. Жители Макондо начали терять память. Как только до них это дошло, они вкопали на центральной площади столп. На столпе написали одну фразу: «Бог есть». Подробнее об этом следует почитать в романе Алексея Варламова «Затонувший ковчег». Либо в трактате отца Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины».
Русско-советский национализм, явленный в поэзии Всеволода Емелина необычным способом — без суровой аскетичности и старческого брюзжания, — это национализм религиозный, православный, эсхатологический. Доктрина Филофея — «Москва — Третий Рим» придавала православию значение «оплота истинной веры», была реакций на появление в мире «при-знаков Антихриста». Именно в силу своего эсхатологического характера православный мессианизм носил сугубо консервативный характер. Это было «мессианство стояния», а не мессианство горизонтальной экспансии, как у католиков, и унаследовавших «ложный Рим» протестантов.
Отсюда русская «кондовость» — привязанность к традиции, маловосприимчивость к инновациям и, как следствие, неспособность к эволюционному развитию. Отсюда же русская «бунташность»: излишки накопленного, но не реализованного, исторического опыта стравливаются через революции.
Заметим, что эволюционное, поступательное развитие идеи есть ее энтропия: доведенная до логического конца, всякая идея (религиозная, национальная, государственная) оборачивается в собственную противоположность. Так на наших глазах идея личной свободы и эмансипации обратилась в неолиберальную доктрину мондиализма — наиболее тоталитарную из всех реализованных в истории моделей общественного устройства.
И напротив, революционный путь предполагает периодическое возвращение (ре-волюцию) к некому исходному состоянию. Это забавным образом перекликается с теорией Шпенглера о культурно-историческом псевдоморфозе: Шпенглер писал, что цивилизаторские усилия русских правителей, начиная с Никона и Петра, были враждебны России, поскольку те пыталась внедрить органично ей чуждые европейские формы жизни; революция большевиков и воспоследовавший террор стали естественным народным ответом на культурную «оккупацию».
Эсхатологизм и мессианство плюс неистребимый «бунташный» дух (а если революция назрела, значит народилось очередное поколение «пассионариев», готовых стать ее жертвами) являются главными ценностными составляющими юродства Всеволода Емелина. Описанная выше диалектика бунта и традиции разъясняет оксюморон «Консервативная революция», — практиками ее выступают «новые правые», в том числе излюбленные герои Емелина — скинхеды.
* * *
Емелин не чужд и лирического, даже элегического начала, — взять хотя бы его знаменитый стандарт «я географию страны учил по винным этикеткам».
Именно в силу своего эсхатологизма, то есть исторического, темпорального пессимизма, русский национализм неразрывно связан с пространством. Пространство — степь, холмы, перелески — является для русских неутилитарной, сакральной ценностью. Природа наделяется духовными и национальными признаками (лейтмотив классической русской поэзии). Оторванность от «почвы» — типично русская трагедия, связанная, опять-таки, с рудиментами православной ментальности, с осмыслением «святой Руси» как «последнего Царства» и «ковчега Спасения». Утрата почвы, среды, традиции ведет к ощущению изгнанности из Рая: «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...» И так далее.
Легкость, с которой Емелин переходит от националистической кодификации к интернациональной советской и обратно, тоже вполне оправдана. Советский стиль, большой и малый (от первомайского Мавзолея — к праздничному столу, где шпроты и «Буратино») обладал тем же набором признаков, что и национализм православный: избранность (за железным Занавесом — земли нет), соборность (новая историческая общность — советский народ), фетишизация пространства (железные дороги, целина, метро, новостройки).
Более того, СССР действительно являлся «последней Империей», после падения которой мир перестал быть разделенным на Свет и Тьму: НАТО движется на восток, последние островки «терроризма» гнутся под напором политкорректности и транснациональных корпораций, внутри самого «затонувшего Ковчега» возобладала идеология «приоритета частных интересов» и сопутствующий ей культ потребления, сиречь главно-го советского жупела — «мещанства».
Парадоксальным образом серость и убожество советского быта оказались в исторической ретроспективе чем-то вроде подвижнической аскезы, помогавшей советскому человеку — покорителю космоса — в неравной борьбе против земного адища масс-культуры.
Вы что-нибудь слышали об орбитальной космической станции «Алмаз»? Такая была, даже летала. Для защиты от остального мира на ней была установлена автоматическая пушка — не лазерная, обычная, с пороховыми патронами в латунных гильзах. С надписью «по врагу», самолично выведенной от руки медсестричкой Марусей... У меня сердце разрывается, когда я об этом думаю.
* * *
И все же мы живем в интересное, перманентно пахнущее ветром перемен время. Небывало сильное давление на архетипы «национальной гордости» порождает небывалый же всплеск реакции. Одна из его капель осела в ваших руках. Читайте, хихикайте, и не забывайте, что мнение автора предисловия может не совпадать с мнением издателя.
ЛЕВ ПИРОГОВ
История с географией
Великой Родины сыны, Мы путешествовали редко. Я географию страны Учил по винным этикеткам. Лишь край гранёного стакана Моих сухих коснётся уст, От Бреста и до Магадана Я вспомню Родину на вкус. Пусть никогда я не был там, Где берег Балтики туманен, Зато я рижский пил бальзам И пил эстонский «Вана Таллинн». В тревожной Западной Двине Я не тонул, держа винтовку, Но так приятно вспомнить мне Про белорусскую «Зубровку». И так досадно мне, хоть плачь, Что отделилась Украина, А с ней «Горилка», «Спотыкач», И Крыма всяческие вина. Цыгане шумною толпою В Молдове не гадали мне. Мне помогали с перепою Портвейн «Молдавский», «Каберне». И пусть в пустыне Дагестана Я не лежал недвижим, но Я видел силуэт барана На этикетках «Дагвино». Пускай я не был в той стране, Пусть я всю жизнь прожил в России, Не пей, красавица, при мне Ты вина Грузии сухие. Сейчас в газетных номерах Читаю боевые сводки. А раньше пил я «Карабах» Для лакировки, после водки. Хоть там сейчас царит ислам И чтут Коран благоговейно, Но лично для меня «Агдам» Был и останется портвейном. Да, не бывал я ни хера В долинах среднеазиатских, Но я попью вина «Сахра», И век бы там не появляться. Я географию державы Узнал благодаря вину, Но в чём-то были мы не правы, Поскольку пропили страну. Идёт война, гремят восстанья, Горят дома, несут гробы. Вокруг меняются названья, Границы, флаги и гербы. Теперь я выпиваю редко, И цены мне не по плечу, Зато по винным этикеткам Сейчас историю учу.Судьба моей жизни (автобиографическая поэма)
Заметает метелью Пустыри и столбы, Наступает похмелье От вчерашней гульбы, Заметает равнины, Заметает гробы, Заметает руины Моей горькой судьбы. Жил парнишка фабричный С затаенной тоской, Хоть и в школе отличник, Всё равно в доску свой. Рос не в доме с охраной На престижной Тверской, На рабочей окраине Под гудок заводской. Под свисток паровоза, Меж обшарпанных стен Обонял я не розы, А пары ГСМ. И в кустах у калитки Тешил сердце моё Не изысканный Шнитке, А ансамбль Соловьёв. В светлой роще весенней Пил берёзовый сок, Как Серёжа Есенин Или Коля Рубцов. Часто думал о чём-то, Прятал в сердце печаль И с соседской девчонкой Всё рассветы встречал. В детстве был пионером, Выпивал иногда. Мог бы стать инженером, Да случилась беда. А попались парнишке, Став дорогою в ад, Неприметные книжки Тамиздат, самиздат. В них на серой бумаге Мне прочесть довелось Про тюрьму и про лагерь, Про еврейский вопрос, Про поэтов на нарах, Про убийство царя, И об крымских татарах, Что страдают зазря. Нет, не спрятать цензуре Вольной мысли огня, Всего перевернули Эти книжки меня. Стал я горд и бесстрашен, И пошёл я на бой За их, вашу и нашу За свободу горой. Материл без оглядки Я ЦК, КГБ. Мать-старушка украдкой Хоронилась в избе. Приколол на жилетку Я трёхцветный флажок, Слёзы лила соседка В оренбургский платок. Делал в тёмном подвале Ксерокопии я, А вокруг засновали Сразу псевдодрузья. Зазывали в квартиры Посидеть, поболтать, Так меня окрутила Диссидентская рать. В тех квартирах был, братцы, Удивительный вид: То висит инсталляция, То перформанс стоит. И, блестящий очками, Там наук кандидат О разрушенном храме Делал длинный доклад, О невидимой Церкви, О бессмертьи души. А чернявые девки Ох, как там хороши! Пили тоже не мало, И из собственных рук Мне вино подливала Кандидатша наук. Подливали мне виски, Ну, такая херня! И в засос сионистки Целовали меня. Я простых был профессий, Знал пилу да топор. А здесь кто-то профессор, Кто-то член, кто-то корр. Мои мозги свихнулись, Разберёшься в них хрен — Клайв Стейплз (чтоб его!) Льюис, Пьер Тейар де Шарден, И ещё эти, как их, Позабыл, как на грех, Гершензон, бля, Булгаков, Вобщем авторы «Вех». Я сидел там уродом, Не поняв ни шиша, Человек из народа, Как лесковский Левша. Их слова вспоминая, Перепутать боюсь, Ах, святая-сякая, Прикровенная Русь. Не положишь им палец В несмолкающий рот. Ах, великий страдалец, Иудейский народ. И с иконы Распятый Видел полон тоски, Как народ до заката Всё чесал языки... Так на этих, на кухнях Я б глядишь и прожил, Только взял да и рухнул Тот кровавый режим. Все, с кем был я повязан В этой трудной борьбе, Вдруг уехали разом В США, в ФРГ. Получили гринкарты Умных слов мастера, Платит Сорос им гранты, Ну а мне ни хера. Средь свободной Россеи Я стою на снегу, Никого не имею, Ничего не могу. Весь седой, малахольный, Гложет алкоголизм, И мучительно больно За неспетую жизнь... Но одно только греет — Есть в Москве уголок, Где, тягая гантели, Подрастает сынок. Его вид даже страшен, Череп гладко побрит. Он ещё за папашу Кой-кому отомстит.Маша и президент
На севере Родины нашей, За гордым Уральским хребтом, Хорошая девочка Маша У мамы жила под крылом. Цвела, как лазоревый лютик, Томилась, как сотовый мёд. Шептали вслед добрые люди: «Кому-то с женой повезёт». Но жизнь — это трудное дело, В ней много встречается зла. Вдруг мама у ней заболела, Как листик осенний слегла. Лежит она, смеживши веки, Вот-вот Богу душу отдаст. А Маша горюет в аптеке, Там нету ей нужных лекарств. Сидит, обливаясь слезами, Склонивши в печали главу. Да умные люди сказали: «Езжай-ка ты, Маша, в Москву. Живёт там глава государства В тиши теремов и палат, Поможет достать он лекарство, Ведь мы его электорат». Её провожали всем миром, Не прятая искренних слёз. Никто не сидел по квартирам. Угрюмо ревел тепловоз. Вслед долго платками махали, Стоял несмолкаемый стон. И вот на Казанском вокзале Выходит она на перрон. Мужчина идёт к ней навстречу: «Отдай кошелёк», — говорит. А был это Лёва Корейчик, Известный московский бандит. Вот так, посредине вокзала, Наехал у всех на виду, Но Маша ему рассказала Про горе своё и беду. Тут слёзы у Лёвы как брызни, Из глаз потекло, потекло... Воскликнул он: «Чисто по жизни Я сделал сейчас западло. Чтоб спать мне всю жизнь у параши, Чтоб воли мне век не видать За то, что у девочки Маши Я деньги хотел отобрать. Достанем лекарство для мамы, Не будь я реальный пацан, Начальник кремлёвской охраны Мой старый и верный друган. Чтоб мне не родиться в Одессе, Не буду я грабить сирот». Довёз он её в мерседесе До самых кремлёвских ворот. И впрямь был здесь Лёва свой в доску, Так жарко его целовал Начальник охраны кремлёвской, Высокий седой генерал. Усы генерала густые, Упрямая складка у рта, Под сердцем героя России Горит золотая звезда. Поправил он в косах ей ленту, Смахнул потихоньку слезу, И вот в кабинет к президенту Он нашу ведёт егозу. На стенах святые иконы, Огромное кресло, как трон, Стоят на столе телефоны, И красный стоит телефон. Притихли у двери министры. Премьер застыл, как монумент. А в кресле на вид неказистый Российский сидит президент. Взвопил он болотною выпью, Услышавши машин рассказ. «Я больше ни грамма не выпью, Раз нету в аптеках лекарств». Не веря такому поступку, Министры рыдают навзрыд. Снимает он красную трубку, В Америку прямо звонит. «Не надо кредитов нам ваших, Не нужно нам мяса, зерна. Пришлите лекарство для Маши, Её мама тяжко больна». На том конце провода всхлипнул, Как будто нарушилась связь, А это всем телом Билл Клинтон Забился, в рыданьях трясясь. Курьеры метались все в мыле, Умри, но лекарство добудь. И Моника с Хиллари выли, Припавши друг-другу на грудь. И вот через горы и реки Летит к нам в Москву самолёт, А в нём добрый доктор Дебейки Лекарство для Маши везёт. Да разве могло быть иначе, Когда такой славный народ. Кончаю и радостно плачу, Мне жить это силы даёт.Судьбы людские
«Гаврила был».
Н. Ляпис-Трубецкой
Постойте, господин хороший, — Спросил бездомный инвалид, — Подайте мелочи немножко, Моя душа полна обид. Я в жизни претерпел немало, Мои немотствуют уста, Отец мой пил, а мать гуляла, Я из Сибири, сирота. Я с детства слышал, как кряхтела, Шипела сладострастно мать, Под гарнизонным офицером Скрипела шаткая кровать. Но как-то ночью пьяный тятя, Вломившись в избу со двора, Пресёк навеки скрип кровати Одним ударом топора. Убив маманю с офицером, Тела их расчленив с трудом, Сосватал высшую он меру. Меня отправили в детдом. И вот я, маленькая крошка, В рубашку грубую одет. Кормили мёрзлою картошкой, Макали носом в туалет. Там били шваброй и указкой, Там не топили в холода, Там я совсем не видел ласки, А только горестно страдал. Там лишь в сатиновом халате К нам в спальню ночью заходил Заслуженный преподаватель, Садист и гомопедофил. Так проходили дни за днями, Мне стукнуло шестнадцать лет, Казённую рубаху сняли И выгнали на Божий свет. Лишь пацаны мне помогали, Когда я вышел налегке, Нашли работу на вокзале, Пристроили на чердаке. Но кто-то не платил кому-то, И, вдруг, ворвавшись на вокзал, Где я работал проститутом, Наряд ментов меня забрал. И врач сказал в военкомате, Куда привёл меня конвой: — Дистрофик, гепатит, астматик. И вывод — годен к строевой. И вот в Чечню нас отправляет Российский Генеральный штаб. Дрожи, Басаев и Гелаев, Беги, Масхадов и Хаттаб. Но там в горах за двадцать баксов, Не вынеся мой скорбный вид, Меня к чеченам продал в рабство Герой России, замполит. Я рыл для пленников зинданы, Сбирал на склонах черемшу, Я фасовал марихуану, Сушил на солнце анашу, Но что возьмешь с меня, придурка, Раз, обкурившись через край, От непогасшего окурка, Я им спалил весь урожай. Ломали об меня приклады, Ногами били по зубам, Но в честь приезда лорда Джадда, Решили обратить в ислам. В святой мечети приковали Меня к специальному столу, Штаны спустили, в морду дали И стали нервно ждать муллу. Вошел мулла в своем тюрбане, Взглянул и выскочил опять, Крича: — Аллах, отец созданий! Смотри, да что там обрезать? Нога чечен пинать устала. Так и пропала конопля. Меня прогнали к федералам Прям через минные поля. Вокруг меня рвалось, я падал, Потом уже издалека По мне ударили из «Града» Родные русские войска. А я всё полз, всё полз сквозь взрывы И, лишь услышав громкий крик: «Стой, бля! Стреляю! В землю рылом!» Я понял, что среди своих. Неделю мучался со мной Из контрразведки дознаватель. Сперва подумали — герой, Потом решили, что предатель. Уже вовсю мне шили дело, Готовил ордер прокурор. Меня в санчасти пожалела Простая женщина-майор. Анализ взяв мочи и кала, И кровь из пальца и из вен, Она меня комиссовала С диагнозом — олигофрен. Вот полузанесён порошей, Сижу, бездомный инвалид. Подайте, господин хороший, В моей груди огонь горит. Но господин в английской шляпе И кашемировом пальто Ответил бедному растяпе: «Ты говоришь щас не про то. Я — состоятельный мужчина, А ты сидишь и ноешь тут. А в чём по твоему причина? Всему причина — честный труд. Я тоже видел в детстве горе. Я не гонял, как все, собак. Учился я в английской школе, Чтоб в жизни сделать первый шаг. И от отца мне доставалось, Он не миндальничал со мной. Из-за графы «национальность» Он был тогда невыездной. Как трудно с пятым пунктом этим, Пройдя сквозь множество препон, Мне было в университете Быть комсомольским вожаком. И оказаться в моей шкуре Никто б, уверен, не был рад, Когда писал в аспирантуре Я ночью к празднику доклад. С таким балластом бесполезным Тебе подобных чудаков Нам поднимать страну из бездны Сейчас, ты думаешь, легко? Нам всем и каждому награда За труд даруется судьбой. Кончай дурить! Работать надо! Работать надо над собой! Служу я в фонде «Трубный голос», И мне выплачивает грант Миллиардер известный Сорос, Когда-то нищий эмигрант. Не уповал на чью-то милость И не бросал на ветер слов, А взял да и придумал «Windows» Билл Гейтс — владелец «Microsoft». А разве нет у нас примеров? Примеры есть, и не один. Вагит, к примеру, Аликперов, Да тот же Павел Бородин. Чем здесь сидеть, словно придурок, Перебирать гроши в горсти, Попробуй что-нибудь придумать, Чего-нибудь изобрести. От денег толку будет мало, Но я даю тебе совет, А так же книгу для начала: «Как мне освоить Интернет». Тут господин взглянул на «Ролекс» И заспешил своим путём, Чтобы успеть с обеда в офис, Поправив папку под локтём. Бродяга подоткнул пальтишко, Припрятал собранную медь, Открыл подаренную книжку И стал «Введение» смотреть. Так разошлись на перекрёстке. А кто был прав? Поди пойми. Такие хитрые загвоздки Жизнь часто ставит пред людьми.Смерть Украинца (из цикла «Смерти героев»)
Арбайтер, арбайтер, маляр-штукатур, Подносчик неструганных досок, Скажи мне, когда у тебя перекур? Задам тебе пару вопросов. Скажи мне, арбайтер, сын вольных степей, Зачем ты собрался в дорогу? Зачем ты за горстку кацапских рублей Здесь робишь уси понемногу. Сантехнику ладишь, мешаешь бетон, Кладёшь разноцветную плитку? Зачем на рабочий сменял комбиньзон Расшитую антисемитку? Скитаешься ты в чужедальних краях, По северной хлюпаешь грязи. Ужель затупился в великих боях Трезубец Владимира князя? Не здесь же, где щепки, леса, гаражи, Тараса Шевченко папаха лежит? Ты предал заветы седой старины, Не вьются уж по ветру чубы. Не свитки на вас, даже не жупаны, Усы не свисают на губы. О чём под бандуру поют старики? Почто с москалями на битву Не строят полки свои сечевики Под прапором жовто-блакитным? Где ваши вожди, что блестя сединой, Пируют на вольном просторе? Шуршат шаровары на них шириной С весёлое Чёрное море. Щиты прибивают к Царьградским вратам, Эпистолы пишут султанам Хмельницкий Богдан и Бендера Степан, Другие паны-атаманы? Где хлопцы из прежних лихих куреней В заломленных набок папахах, Гроза кровопивцев жидов-корчмарей, Гроза янычаров и ляхов? Ты скажешь, что в этом не ваша вина, Но ты не уйдёшь от ответа. Скажи, где УНА? Нет УНА ни хрена! УНСО налицо тоже нету. Он медлит с ответом, мечтатель-хохол, Он делает взгляд удивлённый, И вдруг по стене он сползает на пол, Сырой, непокрытый, бетонный. — Оставь меня, брат, я смертельно устал, Во рту вкус цветного металла, Знать злая горилка завода «Кристалл» Меня наконец доконала. Раствора я больше не в силах мешать, — Успел прошептать он бригаде, — Лопату в руках мне уж не удержать, Простите меня, Бога ради. Последняя судорога резко свела Его бездыханное тело, Как птицу ту, что к середине Днепра Летела, да не долетела. Не пел панихиду раскормленный поп, Не тлел росный ладан в кадиле, Запаянный наглухо цинковый гроб В товарный вагон погрузили. В могилу унёс он ответ мне. Увы... Открыли объект к юбилею Москвы. Всё было как надо — Фуршет, торжество. Там фирма «Гренада» Теперь, ТОО. У входа охрана Взошла на посты. Шуршат бизнес-планы, Блестят прайс-листы. И принтер жужжит На зеркальном столе, Не надо тужить О несчастном хохле, Не надо, не надо, Не надо, друзья. «Гренада», «Гренада», «Гренада» моя... ... И только ночами, Когда кабаки В безбрежной печали Зажгут маяки, И сумрак угарный Висит над Москвой, Украинки гарны Встают вдоль Тверской, Охранник суровый Отложит свой ствол, Из тьмы коридоров Выходит хохол. Суров он и мрачен, И страшен на вид, Он — полупрозрачен, Проводкой искрит. Он хладен, как лёд, Бледен, как серебро, И песню поёт Про широкий Днiпро, И фосфором светит. И пахнет озон. Пугает до смерти Секьюрити он.Бесконечная песня
Жми на тормоза Сразу за кольцевою. Ах, эти глаза Накануне запоя. Здесь ржавый бетон, Да замки на воротах. Рабочий район, Где не стало работы. Здесь вспученный пол, И облезлые стены, И сын не пришёл Из чеченского плена. Ребят призывают Здесь только в пехоту В рабочем квартале, Где нету работы. Сыграй на гармони В честь вечной субботы В рабочем районе, Где нету работы. Про тундру и нары Спой друг мой нетрезвый Под звон стеклотары В кустах у подъезда. Воткнул брату Каин Здесь нож под ребро, Здесь ворон хозяин, Здесь зона зеро. Я сам в этой зоне Рождён по залёту В рабочем районе, Где нету работы. Лишь в кителе Сталин Желтеет на фото — Хранитель окраин, Где нету работы. Грустит на балконе Юнец желторотый, Простёрши ладони К бездушным высотам. От этих подростков Печальных и тощих Ещё содрогнётся Манежная площадь От ихнего скотства В эфире непозднем Слюной захлебнётся Корректнейший Познер. Мол, кто проворонил? Да, где пулемёты? Загнать их в районы, Где нету работы! Нас всех здесь схоронят И выпьют до рвоты В рабочем районе, Где нету работы. Мы только мечтаем, Морлоки и орки, Как встретим цветами Здесь тридцатьчетвёрки. Вслед бегству Антанты — «Здорово, ребята!» Нам субкоманданте Кивнёт бородатый. Теперь здесь всё ваше, А ну, веселей-ка! Не бойся, папаша, Бери трехлинейку. Ревком приказал, И занять срочно надо Мосты и вокзалы И винные склады. У власти у красной Надёжная крыша, Она пидорасам Не сдаст Кибальчиша.Колыбельная бедных
Низко нависает Серый потолок. Баю-баю-баю, Засыпай, сынок. Засыпай, проснёшься В сказочном лесу, За себя возьмёшь ты Девицу-красу. Будут твоим домом Светлы терема, Мир друзьям-знакомым, А врагам тюрьма. Из леса выходит Бравый атаман, Девицу уводит В полночь и туман. Спит пятиэтажка, В окнах ни огня, Будет тебе страшно В жизни без меня. Из леса выходит Серенький волчок, На стене выводит Свастики значок. Господи, мой Боже! Весь ты, как на грех, Вял и заторможен, В школе хуже всех. Ростом ты короткий, Весом ты птенец. Много дрянной водки Выпил твой отец. Спи сынок спокойно, Не стыдись ребят, Есть на малахольных Райвоенкомат. Родине ты нужен, Родина зовёт. Над горами кружит Чёрный вертолёт. Среди рваной стали, Выжженной травы Труп без гениталий И без головы. Русские солдаты, Где башка, где член? Рослый, бородатый Скалится чечен. Редкий русый волос, Мордочки мышей. Сколько полегло вас, Дети алкашей, Дети безработных, Конченных совков, Сколько рот пехотных, Танковых полков... Торжество в народе, Заключают мир, Из леса выходит Пьяный дезертир. Не ревёт тревога, Не берут менты. Подожди немного, Отдохнёшь и ты... Что не спишь упрямо? Ищешь — кто же прав? Почитай мне, мама, Перед сном «Майн Кампф». Сладким и палёным Пахнут те листы. Красные знамёна, Чёрные кресты. Твой отец — рабочий, Этот город — твой. Звон хрустальной ночи Бродит над Москвой. Кровь на тротуары Просится давно. Ну, где ваши бары? Банки, казино? Модные повесы, Частный капитал, Все, кто в Мерседесах Грязью обдавал. Все телегерои, Баловни Москвы, Всех вниз головою В вонючие рвы. Кто вписался в рынок, Кто звезда попсы, Всех примет суглинок Средней полосы... Но запомни, милый, В сон победных дней, Есть на силу сила И всегда сильней. И по вам тоскует Липкая земля, Повезёт — так пуля, Если нет — петля. Торжество в народе, Победил прогресс, Из леса выходит Нюрнбергский процесс. Выбьют табуретку, Заскрипит консоль. Как тебе всё это? Вытерпишь ли боль? Только крикнешь в воздух: «Что ж ты, командир? Для кого ты создал Свой огромный мир? Грацию оленей, Джунгли, полюса, Женские колени, Мачты, паруса?» Сомкнутые веки, Выси, облака. Воды, броды, реки, Годы и века. Где он, тот, что вроде Умер и воскрес. Из леса выходит Или входит в лес.Песня о Хорсте Весселе (из цикла «Смерти героев»)
Над Берлином рассветает, Расступается туман. Из тумана выплывает Над рекою ресторан. Там за столиком Хорст Вессель, Обнявшись с Лили Марлен. Не поднять ей полных чресел С его рыцарских колен. Он с Марленой озорует, Аж ремни на нём скрипят, А вокруг сидит, ревнует Штурмовой его отряд. Мрачно смотрят исподлобья И ерошат волоса С ним повязанные кровью Ветераны из СА. На подбор голубоглазы, Белокуры, словно снег. Все на смерть готовы разом, Их двенадцать человек. Что, Хорст Вессель, ты не весел? Что, Хорст Вессель, ты не смел? Ты не пишешь больше песен, Ты, как лёд, остекленел. Как пригрел эту паскуду, На борьбу не стало сил. Эта фройляйн явно юде, Большевик её любил. Любит вас, поэтов, Лиля, Был поэт тот большевик, Настоящая фамилья Не Марлен у ней, а Брик. Шляпки модные носила, Шоколад «Рот Фронт» жрала, Раньше с красным всё ходила, Счас с коричневым пошла. Дураки вы, Хорст, с ним оба, То любя, то не любя. Довела его до гроба, Доконает и тебя. Приглядись ты к этим лицам, Ужаснись еврейских морд, Пожалей ты свой арийский, Драгоценный генофонд. Ишь, нашёл себе забаву, Встретил в жизни идеал, Променял ты нас на фрау, Нас на бабу променял! За спиной такие речи Слышит грозный командир, И, обняв рукой за плечи, Он Лили с колен ссадил. Он берёт её за шею Осторожно, как букет, И швыряет прямо в Шпрее Через низкий парапет. Шпрее, Шпрее, мать родная, Шпрее, Шпрее, Дойче Флюс. Серебром волны играя, Ты, как Бир, сладка на вкус. То под мост ныряешь в арку, То блестишь издалека, Не видала ль ты подарка От орла-штурмовика? Ты — река германцев, Шпрее, Не прощаешь ты измен, Прими в сёстры Лорелеи Эту Брик или Марлен. Шпрее, Шпрее, Муттер Шпрее, Только пятна на воде. Одолели нас евреи, Коммунисты и т. д. Это кто там крутит палец Возле правого виска? Дойчланд, Дойчланд, юбер алес. Наша психика крепка. Пусть в меня свой камень бросит Кто сочтёт, что я не прав. Вот такой, Партайгеноссе, Получается «Майн Кампф». Что ж вы, черти, приуныли? Мы же немцы, с нами Бог! Разливай по кружкам или Запевай «Ди фанне ес!» Из-за ратуши на штрассе Грудь вперёд за рядом ряд Выступает дружной массой Хорста Весселя отряд. Впереди, державным шагом Выступая вдалеке, Кто-то машет красным флагом С чёрной свастикой в кружке, От добра и зла свободен, Твёрд и верен, как мотор, То ли Зигфрид, то ли Один, То ли Манфред, то ли Тор.На смерть леди Дианы Спенсер (из цикла «Смерти героев»)
«Убили Фердинанда-то нашего...»
Я. Гашек.
Я слова подбирать не стану. Чтоб до смерти вам кровью сраться. Я за гибель принцессы Дианы Проклинаю вас, папарацци. Что, довольны теперь, уроды? Натворили делов, ублюдки? Вы залезли в кровать к народу, Вы залезли людям под юбки. Из-за вас, тут и там снующих И пихающихся локтями, С ней погиб культурный, непьющий, Представительный египтянин. Растрепали вы всё, как бабы. А какого, собственно, чёрта? Ну, любила она араба И инструктора конного спорта. Не стесняясь светского вида, Проявляла о бедных жалость, С умирающими от СПИДа, То есть с пидорами, целовалась. А ещё клеймлю я позором Не поведших от горя бровью Всю семейку этих Виндзоров С королевой, бывшей свекровью. Бывший муж хоть бы прослезился, Хоть бы каплю сронил из глаза. У меня, когда отчим спился, Стал похож он на принца Чарльза. Принц Уэльский нашёлся гордый, Ухмыляется на могиле. Да в Москве бы с такою мордой И в метро тебя не пустили. Повезло же тебе, барану, Представляю, как ты по-пьяни Эту розу, принцессу Диану, Осязал своими клешнями. Нам об этом вашем разврате, Обо всех вас — козлах безрогих — Киселёв полит-обозреватель Рассказал в программе «Итоги». Киселёв был со скорбных взором, Он печально усы развесил. У него поучитесь, Виндзоры, Как горевать по мёртвым принцессам. Если вы позабыли это, Мы напомним вам, недоноскам, Как Марии Антуанетты Голова скакала по доскам, О том, что сделал с Карлом Кромвель, Об Екатеринбургском подвале Мы напомним, да так напомним, Чтобы больше не забывали!О Пушкине (из цикла «Смерти героев»)
Застрелил его пидор В снегу возле Чёрной речки, А был он вообще-то ниггер, Охочий до белых женщин. И многих он их оттрахал, А лучше бы, на мой взгляд, Бродил наподобье жирафа На родном своём озере Чад. Играл бы в Гарлеме блюзы, Но поэтом стал, афрорусский. За это по всему Союзу Ему понаставили бюсты Из гипса, бронзы и жести На книжках, значках, плакатах. Он всех нас за эти лет двести Не хуже, чем баб, затрахал. Но средь нас не нашлося смелых, Кроме того пидараса, Что вступился за честь женщин белых И величие арийской расы.
Баллада о белых колготках (из цикла «Смерти героев»)
В Чечне, в отдалённом районе, Где стычкам не видно конца, Служили в одном батальоне Два друга, два храбрых бойца. Один был седой, лысоватый, Видавший и небо, и ад. Его уважали ребята, Он был в батальоне комбат. Другой — лет на двадцать моложе, Красив был, как юный Амур, Любимцем солдат был он тоже, Певун, озорник, балагур. Однажды пошли на заданье Весной, когда горы в цвету, Отряд получил приказанье — Соседнюю взять высоту. Вот пуля врага пролетела, Послышался стон среди скал, И рухнуло мёртвое тело, То младший товарищ упал. Десантники взяли высотку, Чечены на юг отошли, И снайпершу в белых колготках Бойцы на КП привели. Была она стройной блондинкой, На спину спускалась коса, Блестели, как звонкие льдинки, Её голубые глаза. Комбат посмотрел и заплакал, И нам он в слезах рассказал: «Когда-то студентом филфака Я в Юрмале всё отдыхал. Ах, годы мои молодые, Как много воды утекло. И девушка с именем Вия Ночами стучалась в стекло. Был счастия месяц короткий, Как сладко о нём вспоминать. В таких же вот белых колготках Валил я её на кровать. Неловким, влюблённым студентом Я был с ней застенчив и тих. Она с прибалтийским акцентом Стонала в объятьях моих. Ты думала — я не узнаю? Ты помнишь, что я обещал? Так здравствуй, моя дорогая, И сразу, наверно, прощай! Тебя ожидает могила Вдали от родимой земли. Смотри же, что ты натворила!» И мёртвого ей принесли. Латышка взглянула украдкой На свежепредставленный труп, И дрогнула тонкая складка Её ярко-крашенных губ. Она словно мел побелела, Осунулась даже с лица. «Ты сам заварил это дело, Так правду узнай до конца. Свершилася наша разлука, Истёк установленный срок, И, как полагается, в муках На свет появился сынок. Его я любила, растила, Не есть приходилось, не спать. Потом он уехал в Россию И бросил родимую мать. Рассталась с единственным сыном, Осталась в душе пустота, И мстила я русским мужчинам, Стреляя им в низ живота. И вот, среди множества прочих, А их уже более ста, И ты, ненаглядный сыночек, Застрелен мной в низ живота». В слезах батальон её слушал, Такой был кошмарный момент, И резал солдатские уши Гнусавый латвийский акцент. Но не было слёз у комбата, Лишь мускул ходил на скуле. Махнул он рукой, и ребята Распяли её на столе. С плеча свой «Калашников» скинул, Склонился над низким столом И нежные бёдра раздвинул Он ей воронёным стволом. «За русских парней получай-ка, За сына, который был мой...» И девушка вскрикнула чайкой Над светлой балтийской волной. И стон оборвался короткий; И в комнате стало темно. Расплылось на белых колготках Кровавого цвета пятно. А дальше, рукою солдата, Не сдавшись злодейке судьбе, Нажал он на спуск автомата И выстрелил в сердце себе. Лишь эхо откликнулось тупо Среди седоглавых вершин. Лежат в камуфляже два трупа И в белых колготках один. И в братской, солдатской могиле На горной, холодной заре Мы их поутру схоронили В российской, кавказской земле. Торжественно, сосредоточась, Без лишних, бессмысленных слов, Отдали последнюю почесть Из вскинутых в небо стволов. Мне ваших сочувствий не надо, Я лучше пойду и напьюсь. Зачем вы порушили, гады, Единый Советский Союз?
Смерть Ваххабита (из цикла «Смерти героев»)
Как святой Шариат Правоверным велит, Уходил на Джихад Молодой ваххабит. В небе клекот орла, Дальний грома раскат, Уходил Абдулла На святой Газават. От тоски еле жив, Оставлял он гарем И садился в свой джип, Зарядив АКМ. Обещал: — Я вернусь, Как придёт Рамадан, Вы для пленных урус Приготовьте зиндан. Занимался рассвет, И старик-аксакал Ему долго вослед Всё папахой махал. Где у сумрачных скал Бурный Терек кипит, Там в засаду попал Молодой Ваххабит. Налетели гурьбой, С трёх сторон обложив, Вспыхнул яростный бой, Поцарапали джип, Самого Абдуллу, Отобравши ключи, Привязали к стволу Молодой алычи. Начинали допрос, Приступил к нему поп. Он иконы принёс, Поклоняться им чтоб. «Ваххабит удалой, Бедна сакля твоя, Поселковым главой Мы назначим тебя. Будешь жить, как султан, Новый выдадим джип, Ко святым образам Ты хоть раз приложись». Благодать в образах Отрицал янычар, Лишь Акбар да Аллах Он в ответ прорычал. Хитрый, словно шакал, Подходил политрук, Стакан водки давал Пить из собственных рук. Говорил замполит: «Мы скостим тебе срок, Будешь вольный джигит, Пригуби хоть глоток». Но в ответ басурман Всё — «Аллах да Акбар!» И с размаху в стакан Полный водки плевал. Не фильтрует базар, Что с ним делать? Хоть плачь. Но сказал комиссар: «Ты достал нас, басмач». И под небом ночным, Соблюдая черёд, Надругался над ним Весь спецназовский взвод. Как прошло это дело Знает только луна, Волосатого тела Всем досталось сполна. В позе локте-коленной, — Так уж создал Господь, — Любит русский военный Моджахедскую плоть. А как по блиндажам Разошлась солдатня, Труп остывший лежал В свете робкого дня. В первых солнца лучах Лишь сержант-некрофил Его, громко крича, Ещё долго любил... Слух идёт по горам — Умер юный шахид За священный ислам И за веру убит. Но убитым в бою Вечной гибели нет, Среди гурий в раю Он вкушает шербет. Как он бился с урус Не забудут вовек. По нём плачет Эльбрус, По нём плачет Казбек. Плачут горькие ивы, Наклонившись к земле, А проходят талибы — Салют Абдулле! В небе плачет навзрыд Караван птичьих стай, А в гареме лежит Вся в слезах Гюльчатай. И защитников прав Плач стоит над Москвой, Тихо плачет в рукав Константин Боровой. Плачьте, братцы, дружней, Плачьте в десять ручьёв, Плачь Бабицкий Андрей, Плачь Сергей Ковалёв. Нет, не зря, околев, Он лежит на росе, Ведь за это РФ Исключат из ПАСЕ.
Лето олигарха
— Еврей в России больше чем еврей, — И сразу став, как будто, выше ростом, Он так сказал и вышел из дверей; Вдали маячил призрак Холокоста. Но на раввина поднялся раввин, Разодралась священная завеса. Он бросил взгляд вниз по теченью спин И хлопнул дверцей мерседеса. Вослед ему неслося слово «Вор», Шуршал священный свиток Торы, И дело шил швейцарский прокурор, И наезжали кредиторы. В Кремле бесчинствовал полковник КГБ, Тобой посаженный на троне, Но закрутил он вентиль на трубе И гласность с демократией хоронит. Застыла нефть густа, как криминал, В глухом урочище Сибири, И тихо гаснет НТВ-канал, Сказавший правду в скорбном мире. Всё перепуталось: Рублёво, Гибралтар, Чечня, Женева, Дума, Ассамблея, На телебашне знаковый пожар... Россия, лето, два еврея.Баллада о большой любви
В центре Москвы историческом Ветер рыдает навзрыд. Вуз непрестижный, технический Там в переулке стоит. Рядом стоит общежитие, В окнах негаснущий свет. И его местные жители Обходят за километр. Вобщем, на горе Америке И познакомились там Соня Гольдфинкель из Жмеринки И иорданец Хасан. Преодолевши различия Наций, религий, полов, Вспыхнула, как электричество, Сразу меж ними любовь. Сын бедуинского племени Был благороден и мил, Ей на динары последние Джинсы в «Берёзке» купил. Каждой ненастною полночью, Словно Шекспира герой, Он к своей девушке в форточку Лез водосточной трубой. Утром дремали на лекциях, Белого снега бледней. Нет такой сильной эрекции У пьющих русских парней. Крик не заглушишь подушкою, Губы и ногти в крови. Всё общежитие слушало Музыку ихней любви. Фрикции, эякуляции Раз по семнадцать подряд. Вдруг среди ночи ворвался к ним В комнату оперотряд. Если кто не жил при Брежневе, Тот никогда не поймёт Время проклятое прежнее, Полное горя, невзгод. Как описать их страдания, Как разбирали, глумясь, На комсомольском собрании Их аморальную связь. Шли выступления, прения, Всё, как положено встарь. Подали их к отчислению, Джинсы унёс секретарь. Вышел Хасан, как оплёванный, Горем разлуки убит, Но он за кайф свой поломанный Ох, как ещё отомстит. И когда армия Красная Двинулась в Афганистан, «Стингером», пулей, фугасами Там её встретил Хасан. Русских валил он немерено В первой чеченской войне, Чтобы к возлюбленной в Жмеринку Въехать на белом коне. Сколько он глаз перевыколол, Сколько отрезал голов, Чтоб сделать яркой и выпуклой Эту большую любовь. В поисках Сони по жизни Перевернул он весь мир, Бил он неверных в Алжире, В Косово, в штате Кашмир. Так и метался по свету бы, А результатов-то — хрен. Дело ему посоветовал Сам Усама бен Ладен. В царстве безбожья и хаоса, Где торжествует разврат, Два призматических фаллоса В низкое небо стоят. Там её злобные брокеры Спрятали, слово в тюрьму, Но в эти сакли высокие Хода нема никому. Так и зачахнет красавица, Если влюблённый джигит С тёмною силой не справится, Её не освободит. Ёкнуло сердце Хасаново, Хитрый придумал он план И в путь отправился заново, Взяв с собой только Коран. Ну, а в далёкой Америке Тужит лет десять уже Соня на грани истерики На сто втором этаже. Пусть уже больше ста тысяч Её доход годовой. Пальчиком в клавиши тычет, Грудь её полна тоской. Счастье её, на востоке ты, Степи, берёзы, простор... Здесь только жадные брокеры Пялят глаза в монитор. Горькая жизнь, невесёлая. Близится старость и мрак. Знай запивай Кока-Колой, Осточертевший Биг-Мак. Вдруг задрожало всё здание, Кинулись к окнам, а там — Нос самолёта оскаленный, А за штурвалом — Хасан. Каждый, готовый на подвиги, Может поспорить с судьбой. Вот он влетает на «Боинге» В офис своей дорогой. «Здравствуй, любимая!» — В ухо ей Крикнул он, выбив стекло. Оба термитника рухнули, Эхо весь свет потрясло. Встречу последнюю вымолив, Мир бессердечный кляня, За руки взялись любимые, Бросились в море огня. Как вас схоронят, любимые? Нету от тел ни куска. Только в цепочки незримы Сплавились их ДНК. Мы же помянем, как водится, Сгинувших в этот кошмар. Господу Богу помолимся, И да Аллаху Акбар!
Песня об 11 сентября
Есть в Нью-Йорке два офисных центра, Что стоят на обрыве крутом, Высотой по 400 метров, Из них видно далеко кругом. Но ужасное дело случилось — В каждый билдинг влетел самолет. Они вспыхнули, как две лучины. Шел 2001-й год. Захлебнулись они керосином, Заметался в дыму персонал. Программист из далекой России У компьютера пост не бросал. Приближалось багровое пламя, Менеджмент, обезумев, ревел. Он в Малаховку старенькой маме Посылал этот текст на e-mail. Не убит я в сражении пулей, Не тону я средь бурных морей, Как пчела в загоревшемся улье, Жду я смерти в ячейке своей. Я имел здесь хорошие виды, Я PR и маркетинг учил. Отчего ж злой пилот Аль-Каиды Нас с тобой навсегда разлучил? Я умел зарабатывать баксы, Я бы мог даже выйти в мидл-класс. Из-за спорной мечети Аль-Акса Замочили в сортире всех нас. Через месяц мне б дали грин-карту. Сразу в гору пошли бы дела. Сколько сил, сколько нервов насмарку, Ах, зачем ты меня родила? Не готовясь, не сосредоточась, Даже рук вымыть некогда мне, Ухожу я в неведомый офис, Где не спросит никто резюме. Вспоминай своего ты сыночка, Дорогая, далекая мать... Не успел тут поставить он точку, Начал вдруг небоскреб проседать. Словно лифт, опустившийся в шахту, Как в бездонный колодец ведро, Небоскреб весь сложился и ахнул, Сохранилась лишь зона зеро. В тучах гари и в облаке пыли Только огненный дрогнул язык. А народ ликовал во всем мире, Что Америке вышел кирдык!Песенка об 11-м сентября
Рейсом «Пан Американа» Взмах рукою из окна Там за морем-океаном Есть блаженная страна. Словно два хрустальных гроба, Вертикально, на попа, Там стоят два небоскрёба, А вокруг шумит толпа. Как в водоворот сортира, Как на лампочку из тьмы, Со всего большого мира К ним стекаются умы. Там достойная работа, Там возможности расти, Продавай «Дженерал Моторс», Покупайте «Ай Ти Ти». И стоять бы башням вечно, Да подумали враги: Не Аллаху это свечки, А шайтану кочерги. Рейсом «Пан Американа», Курсом прямо на закат Два отважных мусульмана Отправлялись на джихад. Прозевала их охрана. Как орлы, поднявшись ввысь, Вдруг достали ятаганы И к пилотам ворвались. И два Боинга воткнули, Отомстив неверным псам, Как серебряные пули, Прямо в сердце близнецам. Всё дымило, всё кровило, Как в компьютерной игре. Это было, было, было, Это было в сентябре. Кверху задранные лица, Весь Манхеттен запыля, Две огромных единицы Превратились в два нуля. Звон стекла и скрежет стали, Вой сирен, пожарных крик... Мусульмане ликовали, Что Америке кирдык. Горы гнутого железа, Джорджа Буша злой прищур. Я-то вроде не обрезан, Отчего ж я не грущу? У меня друзья евреи, Мне известен вкус мацы. Почему ж я не жалею Эти башни-мертвецы? Может, лучше бы стояли, Свет во тьме, где нет ни зги, И, как в трубы, в них стекали Наши лучшие мозги. Там теперь круги развалин, Вздохи ветра, тишь да гладь. А нам с этими мозгами Значит дальше куковать.Рождественский романс (из цикла«Времена года», Зима)
Ах, для чего два раза Вы родились По разным стилям, Господи Иисус? За две недели до того допились, Что сперма стала горькою на вкус. А тут ещё ударили морозы Под 25, да с ветром пополам, И сколько брата нашего замёрзло По лавочкам, обочинам, дворам. Холодные и твёрдые, как камень, Под пение рождественских каляд Они в обнимку не с особняками, А с гаражами рядышком стоят. И из какой-то подзаборной щели В подсвеченной, «Бабаевской» Москве Зачем Петру работы Церетели Я пальцем погрозил: «Ужо тебе!» С тех пор, куда бы я, Емелин бедный, Своих бы лыж в ночи не навострил, За мной повсюду навигатор медный Под парусом с тяжёлым плеском плыл. Словно певец печальный над столицей, Плыл командор, Колумб Замоскворечья. Пожатье тяжело его десницы, Не избежать серьёзного увечья. И в маленькой загадочной квартире, Где не сумел достать нас император, Все праздники мы прятались и пили, Метелью окружённые, как ватой. И ангелы нам пели в вышних хором, Приоткрывая тайну бытия, И хором с ними пел Филипп Киркоров, Хрипели почерневшие друзья. Сводило ноги, пол-лица немело, В ушах стоял противный гулкий звон, И нервы, словно черви, грызли тело, Закопанное в жирный чернозём. Мне друг пытался влить в рот граммов двести, Хлестал по морде, спрашивал: «Живой?» Но мнилось мне — то выговор еврейский, Пришёл меня поздравить Боровой. Да что упоминать расстройство речи, Расстройство стула, памяти и сна, Но глох мотор, отказывала печень, И всё казалось, вот пришла Она, Безмолвная, фригидная зазноба, Последняя и верная жена. С похмелья бабу хочется особо, Но отчего же именно Она? Она не знала, что такое жалость. Смотрел я на неё, как изо рва. Она в зрачках-колодцах отражалась Звездой семиконечной Рождества. Играть в любовь — играть (по Фрейду) в ящик, Её объятья холодны, как лёд, Её язык раздвоенный, дрожащий При поцелуе сердце достаёт. Ах, кабы стиль один грегорианский Иль юлианский, всё равно кого, Тогда бы точно я не склеил ласты На светлое Христово Рождество.
Недежурный по апрелю (из цикла «Времена года», Весна)
Горькая пена Стынет на губах. Капельница в вену, Моё дело швах. Вышла медсестрёнка, На дворе апрель. Подо мной клеёнка, Я мочусь в постель. Травка зеленеет, Солнышко блестит. Медсестра, скорее Камфару и спирт. Стало моё рыло Травки зеленей. Эх, не надо было Пить пятнадцать дней. Клейкие листочки Тополей и лип. Отказали почки, Я серьёзно влип. Сохнет, стекленеет Кожи чешуя. Вобщем, по апрелю Не дежурный я. Видно, склею ласты, Съеду на погост. Что-то не задался Мне Великий пост. Здесь я, как бесполый, Без всего лежу. Пришёл, типа, голый, Голый ухожу. Ждут меня в кладовке, Там где пищеблок, Рваные кроссовки Фирмы «Риибок», Куртка со штанами, Мелочь в них звенит. Всё меж пацанами Честно поделить. Всем, со мною жравшим, Дайте по рублю, Передайте Маше — Я её люблю. Обо мне когда-то Вспомнит кто-нибудь? Где дефибриллятор, Два контакта в грудь? Свесившись над краем, Никто не орёт: — Мы его теряем, Ёбанные в рот! Всем, сыгравшим в ящик, Путь за облака, Где отец любящий Ждёт верного сынка. Бухнусь на колени, Я пришёл домой. Ну, здравствуй, в пыльном шлеме Зеленоглазый мой. С высоты земля-то Кажется со вшу, Я с него, ребята, За нас всех спрошу.
Слова песни из к/ф «Осень на Заречной улице»
Уж не придёт весна, я знаю. Навеки осень надо мной. И даже улица родная Совсем мне стала не родной. Среди моих пятиэтажек, Где я прожил недолгий век, Стоят мудилы в камуфляже И сторожат какой-то Bank. Как поздней осенью поганки Мелькают шляпками в траве, Повырастали эти банки По затаившейся Москве. Сбылися планы есел-Авива. Мы пережили тяжкий шок. И где была палатка «Пиво», Там вырос магазин «Night Shop». И пусть теснятся на витрине Различных водок до фига, Мне водка в этом магазине В любое время дорога. Смотрю в блестящие витрины На этикетки, ярлычки. Сильнее, чем от атропина, Мои расширены зрачки. Глаза б мои на вас ослепли, Обида скулы мне свела, Зато стучат в соседней церкви, Как по башке, в колокола. И я спрошу тебя, Спаситель, Распятый в храме на стене: «По ком вы в колокол звоните? Звоните в колокол по мне!» По мне невеста не заплачет, Пора кончать эту фигню. Не знаю — так или иначе, Но скоро адрес я сменю. Зарежут пьяные подростки, Иммунодефицит заест, И здесь на этом перекрёстке Задавит белый мерседес. На окровавленном асфальте Размажусь я, красив и юн, Но вы меня не отпевайте, Не тычьте свечки на канун. Без сожаленья, без усилья, Не взяв за это ни рубля, Меня своей епитрахилью Накроет мать сыра земля. Кончаю так — идите в жопу, Владейте улицей моей, Пооткрывайте здесь найт-шопов, Секс-шопов, банков и церквей.После суицида
Зароют, а не похоронят У перекрёстка трёх дорог. И только пьяный грай вороний Взлетит на запад и восток. А вслед за ним, за этим граем, Не огорчаясь, не спеша, Простясь с землёй, не бредя раем, В ад поплывёт моя душа. Никто главу не сыплет пеплом, Никто волос в тоске не рвёт. Едва колеблемая ветром Душа над родиной плывёт. Плывёт с улыбкой безобразной На перекошенном лице, Бесстрастно, как после оргазма, Воспоминая о конце. Как закипала кровь в аорте, Как с миром разрывалась связь, Как прочь душа рвалась из плоти, То матеряся, то молясь. Как показал последний кукиш, Как разменял последний грош. Теперь мне руки не покрутишь, Ногой под рёбра не сшибёшь. Теперь не тело и не атом, И не объект для рук и губ. Смотрю на мир, как патанатом Смотрел на мой разъятый труп. Земля лежит, поджав колена, Едва остывший человек. Её исколотые вены, Как русла пересохших рек. Земля лежит в лесах, в асфальте, Как в морге, где хрустя чуть чуть, Такой блестящий, узкий скальпель Вскрывал уже пустую грудь. Здесь, над шестою частью суши, Я не один, плывут вдали Все нераскаянные души Из нераскаянной земли. Вверху озоновые дыры, Внизу земля в густом дыму. Мы, хлопнув дверью, вышли с пира В зубовный скрежет и во тьму. И эта тьма теперь навеки Души руины приютит. А в справке, что подпишут в ЖЭКе, Причина смерти — суицид.Стихотворение, написанное на работах по рытью котлована под «Школу оперного пения Галины Вишневской» на ул. Остоженка, там, где был сквер.
Есть же повод расстроиться И напиться ей — ей. По моей Метростроевской, Да уже не моей Я иду растревоженный, Бесконечно скорбя. По-еврейски Остоженкой Обозвали тебя. Где ты, малая родина? Где цветы, где трава? Что встаёт за уродина Над бассейном «Москва»? Был он морем нам маленьким, Как священный Байкал. Там впервые в купальнике Я тебя увидал. Увидал я такое там Сзади и впереди, Что любовь тяжким молотом Застучала в груди. Где дорожки для плаванья? Вышка где для прыжков? Где любовь эта славная? Отвечай мне, Лужков. Так Москву изувечили. Москвичи, вашу мать! Чтоб начальству со свечками Было где постоять. Где успехи спортивные? Оборона и труд? Голосами противными Там монахи поют. Я креплюсь, чтоб не вырвало, Только вспомню — тошнит, Немосковский их выговор, Идиотский их вид. Что за мать породила их? Развелись там и тут, Всюду машут кадилами, Бородами трясут. За упокой да за здравие, Хоть святых выноси! Расцвело православие На великой Руси.112 стр., илл.
Тираж 500 экз.
Продюсер МИХАИЛ САПЕГО
Иллюстрации СЕРГЕЙ АВЕТИСЯН
Макет ЛЮБОВЬ КИСЕЛЕВА
Издательство «КРАСНЫЙ МАТРОС»
E-mail: redmatros@mail.gran.spb.ru
«КРАСНЫЙ МАТРОС» — книга сорок пятая
«ОСУМАШЕДШЕВШИЕ БЕЗУМЦЫ» - книга первая



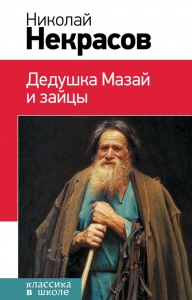

Комментарии к книге «Песни аутсайдера», Всеволод Олегович Емелин
Всего 0 комментариев