©Пугач В., текст, 2012.
©«Геликон Плюс», макет, 2012.
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Часть I
«Вот, ограничен жизнью строгой…»
Вот, ограничен жизнью строгой,
Проходит человек. Пускай
Себе идет. Его не трогай,
Не называй, не окликай.
Он, может быть, один впервые,
Ты дай побыть ему одним.
А вдруг как силы мировые
Схватились именно над ним?
Они вверху шумят, играя,
А он для них и смысл, и ось,
И в нем от края и до края
Все воплотилось и сошлось.
Там и медведицы, и веги, —
Не прикасайся, не убий, —
Там, может быть, такие веки
Похмельный не подымет Вий!..
Там свет грохочет, точно скорый,
Исходит, квантами сочась, —
И как пройти, и час который,
Его не спрашивай сейчас.
Так в поле над сгоревшим просом
Шумят ненужные дожди.
Не подходи к нему с вопросом
И вообще не подходи.
«Любое событье буквальней…»
Любое событье буквальней,
Чем то, что буквально на вид.
Меж молотом и наковальней
Густеет, как сталь, алфавит.
Мы знаем в цепи поколенной
Героев, воюющих мир;
Не ими ли книга вселенной
До черных зачитана дыр?
Мы видим: они разнолицы,
Но равно запачканы там,
Где пеплом сгоревшей страницы
Штаны опалил Мандельштам.
И все это было б неважно —
Огней и агоний парад,
Но дни, по природе бумажной,
Как рукописи, не горят.
И все это было б забытей,
Чем в парке оставленный зонт,
Когда бы не слов и событий
Оплавленный горизонт.
«Молчать и думать не про ужин…»
Молчать и думать не про ужин,
Скользить, еще не встав на лед,
Во всем, как в россыпи жемчужин,
Провидеть радужный налет.
Покуда смехотворный разум
Счета, как стекла, выставлял,
Колючий холод дикобразом
Стальные иглы выставлял.
Твой мир огромен и заумен,
Однажды взорван и раздут,
И в нем феномен или нумен
К тебе на помощь не придут.
Помогут ли фермент сычужный
И млечный мелочный продукт,
Когда в галактике жемчужной
Ты нитью черною продут?
Когда ты состоишь из нитей,
Когда вопрос таишь в тени —
Каких еще тебе наитий? —
Молчи и руку не тяни.
«Есть в молчании некое нечто…»
Есть в молчании некое нечто;
Мысль извилиста, слог нарочит.
Так и так произносится речь-то,
Только глуше и меньше горчит.
Так и так выползают из логов
И выпархивают из часов
Отголоски моих монологов
И фантомы чужих голосов.
И гудят над условной периной
Перелай, перещелк, перепал,
Чтобы птичьей тоски и звериной
Недомолвок и мне перепал;
Чтобы чувствовать только, что алчем, —
Я ведь тоже бурлил и алкал
И в своем простодушье не знал, чем
Оправдаться, когда замолкал.
А теперь не ищу оправданий,
Онемев до сведения скул,
Ибо что может быть богоданней,
Чем молчания шепот и гул?
«Меня томит концепт паралича…»
Меня томит концепт паралича.
Я тщетно повторяю: масло, масло,
Как будто горло повредил, леча,
Как будто механизм ума сломался.
Гармонию нам дарит парадокс,
Как запахи, выветривая недо —
Умения, и острый холодок с
Ухмылкою разоблачает небо.
Не паралич томит меня – концепт,
А паралич быть отчеством не хочет.
Тогда и начинается концерт,
Гармония бушует и грохочет.
И воют псы, и бредит ураган,
И комсомольцы сеют кукурузу,
И страшный синаптический орган
Выносит мозг, как океан – медузу.
Когда зайдется ворон на плече,
Шепну себе про все свои концепты:
Без мысли этой о параличе
Чем утомился, дуралей, в конце б ты?
«Среди бессмыслицы и бреда…»
Среди бессмыслицы и бреда,
Безумия и беготни
Ночь, улицу, фонарь, Толедо
И каплю воздуха глотни.
Закрой глаза, нажми на веки,
Пройди сквозь проплески и свист,
Очнись в четырнадцатом веке
Как королевский финансист.
Оплачивай забавы щедро,
Капризы зная назубок,
Покуда твой кастильский Педро
Порхает, точно голубок.
Вокруг него придворных сотня, л —
Ови их ненависть, еврей,
Покуда кто-нибудь не отнял
Дочь. Нет, обеих дочерей.
Как будто их, как некий дар, дав,
Тебя же обрекли дрожать,
Пока любовникам бастардов
Они готовятся рожать.
Опасность над тобой нависла,
Неотвратима и груба.
Полна значения и смысла
Твоя толедская судьба.
Луна маячит над кварталом,
Ее попробуй – обесточь
И по столетьям, как по шпалам,
Проковыляй в другую ночь.
А кто ты там на самом деле —
И самого, и дела нет,
Пока ты шаркаешь в тоннеле,
Теряя тот и этот свет.
«Мой век оказался широким и длинным…»
Мой век оказался широким и длинным;
Примерка чревата надрывом, надломом,
И свет, постепенно сходящийся клином,
На юг пролетает над домом, над домом.
Не то чтобы страсть у него роковая
К какой-нибудь Африке там, Индостану,
Но руку тяну и краев рукава я
Никак не достану, никак не достану.
Не знаю, за что я настолько не вырос,
Зачем не хватает лица на парсуну,
Но шею тяну, и не близится вырез,
В который никак головы не просуну.
Я света не вижу, экзамен экстерном
Сдаю, объясняя, что звезды померкли.
Не я оказался таким безразмерным,
А век, получается, мне не по мерке.
Я мал ему, тьма обложила, как вата,
И в лампе ни ватта, и свет не воротишь.
Ну вот, говорил же, примерка чревата,
И я в балахоне как чей-то зародыш.
Я время забуду – и это, и оно,
Свернусь, точно полоз, сгнию, точно колос;
Тогда и раздастся: «Да ладно, Иона,
Мне просто хотелось услышать твой голос».
«И не родился я, и не погиб там…»
И не родился я, и не погиб там,
И резко не менялся, становясь,
Но отчего-то чувствую с Египтом
Ничем не отменяемую связь.
Что мне его высоты и низины —
От пирамид и до могильных ям, —
Домов недоплетенные корзины
С торчащей арматурой по краям?
Нет, я иными снами наполнялся
И из иных посылок исходил,
Когда опять с работы увольнялся,
Как будто из Египта исходил.
Пока еще упрямый дух исхода
Ведет меня, связуя и горя,
Жива моя последняя свобода
Сжигать мосты и раздвигать моря.
«Я теперь обошелся бы и без…»
Я теперь обошелся бы и без
Мизансцен, декораций, кулис;
Без того, чтобы слушать, как чибис
Репетирует выход на бис.
Пусть луна, выцветая над полем,
Указует на быт угловой.
Мы не пашем, не сеем, не полем,
Только слышим, как дрозд луговой,
Призывая подругу к зачатью,
То ли чавкает, то ли скрипит,
Точно этой звучащей печатью
Он свое сообщенье скрепит.
Я подслушиваю – и от скрипа
В узких прорезях сонных пустот
Возникают египетский скриба,
Чибис, ибис, и Тот, да не тот.
То ли буквы незначимы, то ли
Сновидение проще, чем му,
Для однажды попавшего в поле
Притяженья бог знает к чему.
Совпадение знака и злака —
В прописной перспективе строчной.
И чухонский Анубис, собака,
Воет, воет, как неручной.
Третья комната
В комнату войду – забуду с чем —
И стою, к двери прижат.
В позапрошлом недобудущем
Вещи мертвые лежат.
Как солдаты, розно тающие
На последнем рубеже, —
Знаки жизни, означающие,
Что они не жизнь уже.
То веревка, то картина,
То подкладка из ватина,
Веер, маска, карнавал,
Только пыль да паутина,
А за ними – все едино,
То каверна, то провал,
То инкубы, то суккубы —
Как в распавшиеся губы
Пустоту поцеловал.
«Чудак с патологическим лицом…»
Чудак с патологическим лицом,
Нелепо вытянутым, одутловатым,
В автобус вполз и присоединился
К экскурсии.
Он явно мне кого-то
Напоминал. Судите сами.
Начнем с волос.
Черны, и жидки, и нечисты,
Они почти до плеч спадали; шея
Была короткой, и на ней наверчен
Какой-то шарф. И в цвет волос пальто
Вмещало мешковатую фигуру.
Очки-хамелеоны,
которые от солнца
Бывают ослепительно-черны,
В автобусных потьмах его глаза
И не скрывали, и не обнажали,
Зато ухмылка обнажала зубы
В венце несвежих, с желтизной, клыков.
Два дня за ним я наблюдал. Я видел,
Как в церкви плохо сделалось ему
(Он резко реагировал на ладан);
Как суп он по тарелкам разливал
(Вегетарианцем будучи,
он мясо из кастрюли
Подкладывал другим, а сам смотрел,
Облизывая сохнущие губы,
Как мы едим – так алкоголик,
Подшитый, как газета, и такой же серо-желтый,
Следит за тем, как пьют товарищи его).
Я стороной узнал,
Он пережил клиническую смерть.
(Вот сочетание, что вызывает образ
Клинка, входящего в грудную клетку
По рукоять).
Когда чудак обмолвился, что он
Работает в театре, я подумал:
Да кем он мнит себя?
Мельмотом, демоном, вампиром?
Ну, если демон, то из самых мелких,
Ничтожных и бездарных, вроде тех,
Которых объегоривал Балда,
Кто вьется в снеговом столбе
И тянет лапки к неопрятным ведьмам.
Я присмотрелся к тени – тень была.
Он сам был тень, и только.
Тень упырька. Хотелось крикнуть:
«Кто кинул тень свою?»
Но он не понял бы меня,
А тот, от тени отказавшийся, – я знаю, тот бы не услышал.
«Представим такого профи…»
Представим такого профи —
Разведчик перед войной
Потягивает свой кофе,
Маленький, но двойной,
Играет с соседом в шашки,
Одерживает над ним
Победу – и вновь по чашке
С дном – маленьким, но двойным.
Допустим, он ждет агента,
Чудака в полосатых носках.
Стучит новостная лента
В тяжелых, как гири, висках.
И ведет политика Сталина
К катастрофе и пустоте.
И он видит, что явка провалена,
И носки на агенте не те.
Расставаться будет непросто
И с ним, и с его женой.
Но у них перспективы роста
Нет – ни маленькой, ни двойной.
И скажите, зачем радист вам?
Молчанье станет связным.
День заканчивается убийством,
Тоже маленьким, но двойным.
Он исчезнет на дне колодца
Жизни, маленькой и двойной,
И потом уже не найдется
Той ли, этой ли стороной.
Ни к чему его не ревную
И при случае не бодну.
Даже маленькую, но двойную
Я не прожил бы. Мне б одну,
Точно черточка в апострофе,
Жребий, участь, доля, стезя, —
И довольно. И чашку кофе.
Жаль, что кофе почти нельзя.
Примадонна
Примадонна жаловалась на соседей
И о них говорила такое:
– Один – настоящий грузчик,
Другой – грубиян,
Третий никогда не здоровается,
А четвертый вообще алкоголик.
Можно сказать иначе:
– Один сильнее других,
У другого отрывистый голос и решительные манеры
(Сказалась десантная молодость),
Третий (актер по профессии) не слыхивал опер,
А четвертый любит беседы с друзьями.
Можно иначе сказать:
– Один из соседей – мой друг,
Другой – мой товарищ,
Третий бывает моим собутыльником,
А четвертый – я сам.
Иначе, можно сказать,
Сам я – каждый из них:
Силы пусть и неважной, но грузчиком был;
В десанте представить меня невозможно,
Но энергично выразиться сумею;
Не актер, но лицо на площадке
(не сценической, лестничной),
Бывает, едва разгляжу;
Выпить люблю, хотя не до дрожи в коленках.
Ах, примадонна, примадонна!
У нее такое сопрано,
Что, заслышав его, мой друг напрягает мышцы,
Мой товарищ ругается и ломает брови,
Мой собутыльник таращит глаза и спрашивает, что случилось,
А я замираю в ужасе и восторге, и хочется выпить.
Господи! Ты каждому открываешь кредит —
Кому в талант, некоторым в два, лучшим – в три или больше.
Благодарю, что ты окружаешь меня теми, кто может
Поднимать тяжести,
Резать правду в глаза,
Делать смешное лицо,
Наконец, петь как ангел и говорить о нас всякое,
За что я и предлагаю выпить.
Диалог на уроке
Я – объявленье. Я кричу: пропала
Девочка, затем щенок, затем
Пропало все. Еще немного…
И тут вмешивается Маша,
Произносящая отрезвляющую фразу:
«Ну, пока-то все нормально».
Я – почва под ногами. Я горю
(С напалмом напали на пальмы),
Земля на грани. Еще немного…
И тут Маша
Вставляет свое коронное:
«Ну, пока-то все нормально».
Я – чемодан с тротилом. Только тронь —
И я взорвусь, и пол(-)аэропорта
Покроют трупы. Еще немного…
Но, само собой, встревает Маша
С этим несомненным:
«Ну, пока-то все нормально».
Я ядерный реактор, я пылаю,
Мой стержень плавится. Я множу
Невидимую смерть. Еще немного…
И я скажу:
Все полого и покато,
Тишина твоя крахмальна.
Ну, нормально все пока-то,
Ну, пока-то все нормально.
От рассвета до заката,
От заката до рассвета,
Ну, нормально все пока-то
(Вампиры и Тарантино не считаются),
То есть (я опять перехожу на крик), все нормально это?!
И пошел, и пошел, и кричу:
Пропала девочка…
«Можно отлично жить в деревне, числясь Марьей Иванной…»
Можно отлично жить в деревне, числясь Марьей Иванной,
Быть негритянкой из племени Ах, обретаясь рядом с саванной,
А то индианкой плести корзины в предгорьях Анд.
Но кто-то живет на земле, прозываемой Обетованной:
Это моя еврейская мама выбирает такой вариант.
Вот так Диоген, вероятно, обрастал своим пифосом,
как оболочкой,
Вот так зародыш листа оборачивается почкой,
Как жилье бутылку «Узо» облюбовывает анис.
Моя еврейская мама живет в сарае, что характерно,
на едином уровне с почвой,
Даже несколько глубже – ступенька вниз.
Эти стены из хлипкого пластика – почти насекомый кокон,
Тут хранятся запасы пищи на случай жизни, но нету окон;
Впрочем, именно это в каком-то смысле провоцирует аппетит.
Если бы в это жилище (Господи, повремени) явился ангел,
кого бы тогда уволок он?
Думать не хочется, что за бабочка улетит.
Вот за терновым кустом притаился отнюдь не Господь,
а какой-нибудь левый Усама;
Что не так уж и страшно, поскольку всечасно бодрствует само —
Оборона, и наши не пашут уже на волах.
Но в соседнем городе два минарета направлены в небо,
как два кассама,
Они ко всему готовы, их цель – Аллах.
Я никого защитить не умею. Выслать денег?
Так они – ее же. Хотела, чтобы привез веник —
Показалось смешным, как будто и сам, без веника, не нелеп.
Я вхожу в ее комнату – так, точно спускаюсь, нарезая круги,
на тысячу тысяч ступенек,
Туда, где моя еврейская мама для меня нарезает хлеб.
Памяти одной экскурсии
Нивы сжаты, рощи голы,
Будем в рифму брать глаголы
И не требовать венца;
Полно мне гулять на свете:
Тятя, тятя! Наши сети
Притащили мертвеца.
Господин из Сан-Франциско,
Канцелярская отписка,
Спит на полке боковой;
Мчится поезд, вьется поезд,
Агрессивен и убоист,
Как солдат еще живой.
Поезд в форме цвета хаки
Реагирует на знаки:
Тут идти, а там – стоять.
Господин не отвращает,
Но глазами отвращает —
Стоп-машина-рукоять.
Эй, Иван Ильич, куда ты?
Мы с тобой еще солдаты;
Это край – а в том краю,
Слышишь, олух, нет вожатых,
Нив неголых, рощ несжатых
Тоже нету, мать твою.
«Смерть привлекает меня как сюжет…»
Смерть привлекает меня как сюжет;
Только меняешь завязку.
В эти-то воды однажды вошед,
Ими я сыт под завязку.
Новый дается глоток тяжело,
Пусть и с намереньем скользким.
Сколько «ты жил», «ты жила», «ты жило»
Скажешь, а главное – скольким?
Лучше, ей-богу, совсем замолчать,
Чем разоряться, что все там…
Лучше печать на устах, чем печать,
Выполненная офсетом.
Там, под водой, где лучи не палят,
Легкие сменишь на жабры.
И замечаешь – уже веселят
Всяких кадавров макабры.
Помню такого, он был молодой,
Жизни не вынес ненастной.
А торговать примерялся водой,
Правда, другой – ананасной.
Я ж наблюдаю вокруг торжество
То красоты, то морали.
Стихотворенье не стоит того,
Чтобы друзья умирали.
«Я слово написал и зачеркнул…»
Я слово написал и зачеркнул,
Как бы ладонью воду зачерпнул,
А пить не стал, отправил дальше литься.
Но слово не журчало под кустом,
Ворочалось, ворчало под крестом —
Бывают же у слов такие лица!
Так умершему хочется домой,
И вот он, как сравнение, хромой
Обратно ковыляет ковылями.
Но на ступенях не растет ковыль,
И плакальщица спросит: «Это вы ль?» —
Закусывая ломтиком салями.
Здесь все уже иным обретено,
И слово на уход обречено
И скрыто, как метафора, под дерном.
Вот так Полоний обретал судьбу
И кое-как дошучивал в гробу:
Кто был коверным, станет подковерным.
Зачеркнутый опасен, как рожон.
Со всех сторон словами окружен,
Урон пытаюсь выставить уловом,
Цепляюсь что есть сил за острия
И наконец-то понимаю: я
Уже написан и зачеркнут, словом.
«Права на вожденье? Скорей, наважденье…»
Права на вожденье? Скорей, наважденье
Находит, да так, точно кто-то позвал.
Слова-то какие: развал и схожденье,
Развал и схожденье, и снова развал.
Два месяца жить на краю детектива,
Качаться, как ива, на этом краю,
Следить между строк криминального чтива
Ментовскую сводку и участь свою, —
Вот счастье, вот право, как Пушкин говаривал,
Слегка осекаясь на желчном смешке,
И то не тогда, когда жженку заваривал,
А скромно склонялся над щами в горшке.
Когда ты клокочешь слюною обильной,
Когда петушишься почти на ноже,
От вулканизации автомобильной
С ума не сойдешь, потому что уже
И так существуешь, как лес на вулкане,
И только тогда обретаешь покой,
Когда под рукой расползаются ткани,
И слава дурная, и лава рекой.
Живи, точно в клипе, да только едва ли ты
Поймешь и оценишь гостей по бокам,
И свадьба чужая, и скатерти залиты
Каким-то рассолом, но липнут к рукам.
Не ливнем секло, не из мрамора высекло,
Но горло сжимало, покуда могло.
Сухое отмокло, и мокрое высохло —
И жить уже нечем, когда отлегло.
Стихи о том, как мы с Татьяной Алферовой смотрим видео с записями «Пенсил-клуба»
В комнате становится теплее.
Или холоднее? Я никак
Не пойму. И здесь, и на дисплее
Разливаем водку и коньяк.
Постепенно стану переростком, —
Путь во время неисповедим,
Точно виртуальный – по бороздкам,
Где просторы диска бороздим.
Мы смеемся. Те и эти трели
Как кусочки жира в колбасе.
Дело ведь не в том, что постарели,
И не в том, что живы мы не все.
Дело в том, что прошлое, как воин,
В плен берет, маячит за плечом,
Потому что облик наш присвоен
И в темницу диска заключен.
Мы не мы, а то, что отпустили
Погулять на волю из тюрьмы, —
Сообщенье в телеграфном стиле:
«Хорошо сидим. Приветом. Мы».
Или в невозможное играем
И идем на сумасшедший риск —
Наблюдать за настоящим раем,
Вписанным в блестящий этот диск?
Что же я, тоскуя, проору им —
Нам, осуществившимся в былом,
Там, где мы, бессмертные, пируем
За огромным жертвенным столом?
Из записок Пенсил-клуба
1. Комарово
Что ждет поэта в Комарове?
Не ждет поэта ничего.
Ему грядущее – не внове,
Его прошедшее – мертво.
Он прямо Лермонтов какой-то
Или Державин прямо он,
Когда, как будто из брандспойта,
Он смыт, как грязь, рекой времен.
Он потрясал устои словом,
В нем жизнь кипела, как в борце, —
И вдруг он дедушкой Крыловым
В штаны наделал во дворце.
Чугунной палкою потыкав,
Он брал Азов, спасал Арал,
Заболевал он, как Языков,
Как Баратынский, умирал.
Когда же, шляпу нахлобучив,
Идет в писательский буфет —
Тут он какой-то прямо Тютчев,
Чтоб не сказать похлеще – Фет.
Тут он, конечно, ас из асов,
Кобель изысканных пород.
Стакан – и он уже Некрасов,
Второй – и все наоборот.
Когда он все же отдыхает,
То издает то хрип, то рев.
Он, как Апухтин, опухает,
Сгорает, точно Огарев.
Бывает буен и покорен,
Употребив одеколон,
Почти как Майков и Григорин
Или Полонский Аполлон.
Он унимает дрожь коленков,
Когда косого он косей,
Он со Случевским – Давыденков,
С К.Р. же – только Алексей.
Он петербургский и московский,
И угадать нельзя, каков —
То он под вязами Жуковский,
То Вяземский среди жуков.
Бывают странные событья,
Их суть не всякому ясна, —
Он, – начинаю говорить я
И понимаю, что – она…
И молкну на тропе народной,
Теряюсь в хоре подпевал,
Как волк с волчихою голодной,
Той, от которой пьян бывал.
И слышу: Пушкина не трогай
И Дуне (вариант: Тане), расплескавшей чай,
Ты никогда моралью строгой
Не докучай, не докучай.
2. «Анна Каренина», Левин
Нине Савушкиной
Если после мысли о Вицли-Пуцли
Усомнишься в разуме – мол, не куц ли? —
Если станешь кроток и тут же гневен,
Значит, ты и есть этот Костя Левин.
Если ты не бежишь за любою куклой,
А влюблен в пионерку с губою пухлой,
Жениха пионерке готовит мама,
Пионерка крутит тебе динамо
И встречает радушно другого гостя,
Значит, ты и есть этот Левин Костя.
Если пива не хлещешь, не жрешь шаверму,
А в глухой деревне заводишь ферму,
Ни к кому не ходишь с вином и тортом,
Разговоры длишь с мужиком упертым
Не о сексе, нет – не о нем, проклятом, —
О косьбе, помоле, любви к телятам, —
И во всем наука, прогресс и метод, —
Значит, ты и есть Костя Левин этот.
Если ты забыл про прогресс с наукой
И в леса уходишь с ружьем и сукой,
А потом не вспомнишь – в жарком ли, в супе ль
Потеряли крылья бекас и дупель,
И, с медведя свежую срезав шкуру,
На обед к Облонским поедешь сдуру,
Где – хоть жизнь коверкай, по лесу шастай, —
С пионеркой встретишься – той, губастой,
И тобою новый период начат, —
Ты и есть этот Костя Левин, значит.
Если ты женат, и с женой святыми
Вы хотите быть, чтоб тебе с витыми
Не ходить костями на лобном месте,
Если ты в натуре невольник чести;
Если ты не сторож больному брату
И стремишься скорей понести утрату,
И жена твоя понесет скорее,
Чем колготки сохнут на батарее;
Если, как наукой себя ни мучай,
Остаешься тот же мужик дремучий,
Как, должно быть, предок был при Батые, —
Этот Костя Левин есть, значит, ты, и
Широко вдохни, улыбнись румяно,
Обретая веру в конце романа,
Рассердись на шофера, поспорь некстати,
Обвини жену, помолись в экстазе
И твори добро, как, Толстому вторя,
Завывает Шура в кабаках у моря.
Ты не станешь лучше, прекрасней, чище,
Но такие вещи – навроде пищи.
Если в рот полезло, то все полезно.
Пищевод. Желудок. Кишечник. Бездна.
3. Баллада
Петух сдавал однажды кросс,
Показывая прыть,
Взбежал он прямо на навоз
И начал оный рыть.
И гусь какой-то произнес:
– Его ведут казнить.
Глагол времен, металла звон —
Не все ли нам равно;
Он жив, а все ж пойдет под нож,
Иного не дано.
Но поднял стон малютка Джон
Жемчужное зерно.
Он голосил что было сил:
– Зачем его казнят?
Казните маленьких ягнят
И сереньких козлят,
Топите слепеньких котят,
Что гадят, где хотят.
Молчит петух, и взгляд потух,
Он позабыл про кросс,
А бедный Джон, что погружен
По темечко в навоз,
Пошел на дно и как зерно
Оттуда не пророс.
Мы все топили, как могли,
Своих подруг и жен,
Ведь может быть любой из нас
Любимой раздражен.
Но не пускайте петуха,
А прите на рожон.
Пусть мир в огне, но если мне
Любимая верна,
С ней заодно уйду на дно
И даже глубже дна,
Туда, где жареный петух
Прошел путем зерна.
4. Вишневый… сад
Еду ли мимо ли цвета вишневого ли,
Сыт ли я, голоден, ласков ли, груб,
Все вспоминается, как мы основывали
Английский, шахматный, пенсил ли клуб.
Вижу ли темную воду ли невскую,
Чахлый газон и на нем деревцо,
Все мне мерещится, будто Раневскую
Я узнаю в дорогое лицо.
Через Тучковы ли, Львиные, Аничковы
Перехожу ли, другие мосты,
Припоминаю восторги я Анечковы;
Анечка, Анечка, помнишь ли ты?!
Если поленом кого отоварили
И волокут в непроглядную ночь,
Бледное личико вижу не Вари ли,
Той, что Раневской приемная дочь?
Памятник чей-то, рука ли, нога его,
Взгляд его грозен, гневлив ли, лукав —
Напоминает мне Ленечку Гаева,
Речь огневую и гаевский шкаф.
Чу! В подворотне собаки залаяли,
Сук с кобелями несметная рать.
То не Лопахина ли Ермолая ли
Голос зовет музыкантов играть?
Едут пожарные. Сладкого дыма вам!
Едет милиция – ясного пня!
Кто же другой нашим Петям Трофимовым
Будет калоши таскать из огня?
Вижу ль фигуру на ящике сыщика,
Ухнули тыщи-ка! Ну, их сыщи!
Все состоянье помещика Пищика
В землю ушло, в плауны и хвощи.
Встречу ль фотографа – сам его сфоткаю,
Вон приспособился рядом с дворцом.
Помню, они с гувернанткой Шарлоткою
Вместе хрустели одним огурцом.
Еду ль, ползу ль, нарушаю ли, вправе ли,
Вечно неловок, всегда неумен,
Что же вы все на меня-то оставили,
Это же я – Епиходов Семен!
Я неудачник, так ешь меня с кашею,
Я ведь ошибся бы даже в азах,
Что ж, презирай, точно Яша с Дуняшею,
Роман крути у меня на глазах!
Вырвусь на волю и выйду к Неве ли я,
К Мойке, Фонтанке, на мыс ли, на пирс,
Это не Варя, а я тут Офелия,
Буду тонуть, забываться, как Фирс.
Сдохну – не выпишут даже квитанции,—
Умер, мол, значит, пора на покой,—
Даже прохожий с начальником станции
Или почтовый чиновник какой
В ус не задуют, не чувствуя прибыли
(Пусть даже каждый из них и усат),
Травы ли, рыбы ли скажут: мол, прибыли?
Убыли, то есть? Пожалуйте в сад.
5. Прощание у Славянки, элегия
Веронике Капустиной
Гуляя по брегам, петляя меж холмами,
Не хижины люби, не ненавидь дворцы,
Но вспомни о родных – о бабушке иль маме,
Которы для тебя солили огурцы.
Зима уж на дворе; скользит закат по селам;
Веселых пташек нет, одни вороны лишь.
Оставь обиняки. Подумай, чьим рассолом
Наутро ты себя – больного – исцелишь?
Болезни вижу одр… Кругом глухие стены,
Все простыни в поту, и мрак в глазах свинцов.
Посмотришь ли в окно – там снегом заметенны
Кусты стоят рябин, но нету огурцов.
Воспомни лето, о! Еще совсем недавно
Клевали все подряд голодные скворцы.
Ты игры наблюдал дриады или фавна,
И зрели в парниках зелены огурцы.
Пупырышки на них росли и наливались,
И вся земля была видна и не пуста,
Когда с тобою мы наливкой наливались
До первых петухов и третьего листа.
О, мы тогда с тобой в такое проникали!..
И что теперь? Увы! Лишь саваны и тлен.
Чей остов виден там, – скажи, – не парника ли?
Где зелень и земля? Где полиэтилен?
И живы ль мы еще, уже не обладая
Тем самым огурцом, который всем знаком?
Ведь он отговорил, как роща золотая,
Пупырчатым своим, зернистым языком!
Как можете глотать копченых устриц слизь вы,
Развратно потреблять мадеру и коньяк,
Когда на берегах Славянки или Тызьвы
Нам с другом огурца не выискать никак?
Одной мечтой дыша, мы берега обыщем,
А как пахнет мечтой – то лучше не дыши.
И, постояв в слезах над Павловским кладбищем,
Мы побредем туда, где он взрастал в глуши,
Где были огурец, и Камерон, и Бренна,
И папильон в соплях, и Аполлон в снегу.
Настал ему конец, и помер он, и бренна
Истлела кожура… Прощай, прощай, огу…
Часть II
«Когда сезон откроют тополя…»
Когда сезон откроют тополя
И не земля, а воздух станет пухом,
Единое на части не деля,
Расстанемся со зрением и слухом.
И вот, глаза и уши, отшуршав,
Стрекозами и бабочками станут,
А ближний мир окажется шершав,
Пока пододеяльник не натянут.
Я ничего не режу, не дроблю
И только, булькая по альвеолам,
Люблю тебя и знаю, что люблю
Становится неправильным глаголом.
«Сам для себя сойду за диагноста…»
Сам для себя сойду за диагноста:
Плоть немощна, душа идет в распыл.
Нам на двоих почти что девяносто;
Откуда ж этот неприличный пыл?
Я не хочу придумывать гипотез, к —
Ромешный рай с абстракцией сличать;
Мы друг на друге оставляем оттиск —
И кто из нас конверт, и кто – печать?
Нам голос был, определен и внятен,
Не придавать значенья мелочам,
Последовательность бугорков и вмятин
Взаимно изучая по ночам.
И вот, когда действительно свинтило
До судороги, до потери черт,
Не та ль, что движет солнце и светила,
Идя на почту, выронит конверт?
«Золотыми венками украсьте…»
Золотыми венками украсьте
Поседевшие кудри харит.
Самоварное золото страсти
На закате что надо горит.
Но внутри, за фасадом блескучим,
В самоварных потьмах вещества
Мы не то что друг другу наскучим,
Но друг друга узнаем едва.
Точно вены навек разряжая,
Мы выпаливаем – и вот
Кровь уже не своя, а чужая
По разъеденным руслам ревет.
Точно кто-то нас взрывом сплавляет,
Оттого-то и темень светла;
Или просто по венам сплавляет
Чужеродные антитела.
И ползет самоварная лава,
И меня выжирает, ползя.
Вот такая мистерия сплава:
Только пробы поставить нельзя.
«Думал – все: и страсти не осилят…»
Думал – все: и страсти не осилят,
И усилие не пристрастит;
А теперь любовь прошла навылет,
Только ветер в дырочку свистит.
Мы с тобой не то, что озверели —
Одеревенели на лету.
И звучим на пару, как свирели,
Паном поднесенные ко рту.
Ну, прости меня, что паникую
В меру позвоночного ствола.
Я еще люблю тебя такую,
Как сейчас. И как всегда была.
«Что было? Разве что-то было?..»
Что было? Разве что-то было?
И что запомнил о былом?
Растрату нежности и пыла,
Износ когтей, зубов облом?
Что есть? Пристрастий пара личных,
Почти что ненужда ни в ком
Да ряд ужимок параличных
С подмигиваньем и кивком?
Что будет? Но какая сила
Способна на благую весть?
«Ты будешь есть?» – жена спросила.
Я отвечаю: «Буду. Есть».
Любовь на улице Кошмаров. Поэма
1. Портрет
Он был не прекрасен, но молод,
Не глуп, но еще не умен,
И, как колобок, не ушел от
Его замесивших времен.
Во всем разбирался, но слабо,
Мог спутать со-нет и со-да,
И видел, что курочка Ряба
Снесла, но не видел куда.
Так кто в тере… Прочь от приема,
Скорее во тьму соскочим,
Где дом сумасшедший от дома
Нормального не отличим,
Где слово, кому ни поведай,
Не будет услышано, где
Бредут пораженье с победой,
Обнявшись, по пояс в воде.
Обнимемся. Хищен и нежен
До мрака сгущаемый мир,
Где к рацио в хрусте валежин
Стремится кошмарное «ир».
Две тьмы, разделенных сетчаткой,
Друг к другу изрядно нежны:
То мир наползает перчаткой,
То мы полезаем в ножны.
Была у героя иная
Идея: хотелось скорей,
И алгебры толком не зная,
Поверить гармонию ей.
Разъять, положив на лопатки…
Но, чей-то красивый каприз,
Гармония билась в припадке
От близости страшного «дис».
Когда мы две бездны поженим
В своем философском КБ,
То будем таким искаженьем
Обязаны сами себе.
Когда организм двуединый
Раскидан по разным местам,
Как раз насладимся картиной
Сродни разведенным мостам.
Лелей в гармоничном уме хоть
Какую угодно мечту,
Но только не пробуй проехать
По этому горе-мосту.
Не мутная пленка былого,
Но призрак встает надо мной,
Дефис, разрезающий слово
Над темной летейской волной.
2. Пейзаж
Волна и камень. Пена на губе
По бороде теченье устремит.
Здесь воздвигают памятник себе
Прочнее меди, выше пирамид.
Здесь утром, как в прозекторской, свежо,
Иная ночь покойницы бледней.
Здесь говорят, сходя с ума: «Ужо», —
Над урной жизни, раковиной дней.
И прозеленью осклизает медь,
И пирамида зыблется в песках.
Здесь вечно молят идола: «Заметь», —
И погибают в каменных тисках.
Здесь пену льют на мыльницу судеб,
Щекочут императора пером,
Меняют одиночество на хлеб,
К процентщицам приходят с топором.
За все, что мы несли ему в заклад
И знали, что обратно не вернем,
За горькое убожество заплат
На выцветшем переднике твоем,
За все, что отдавали на авось,
Как жертвенную деву алтарю,
За все, что не пришло и не пришлось,
Я не благодарю – боготворю.
Вот божество: в чухонской полумгле
Адмиралтейством выставившись ввысь,
Сырое небо держит на игле,
Антропоморфий впрыскивая в слизь.
Вот божество: асфальт и кирпичи,
Приют подвальных крыс, вороньих стай.
Покуда цел, топчи его, топчи,
Покуда жив, врастай в него, врастай.
Ему ли помнить нас по именам?
Задавит камнем, захлестнет волной,
И станет общим памятником нам
Не время, нет, но место под Луной.
3. Диалог. Петербургский дворик
Введем еще героя. Скажем,
Разнообразья ради назовем
Его мы персонажем.
С героем сидючи на лавочке вдвоем
В каком-то дворике по улице Литейной,
В пылу беседы нешутейной
Наш
Персонаж
Герою говорит:
– Во всем ужасный смысл сокрыт.
Во всем я вижу перст судьбы.
Не зря властитель на коне том,
Подъятом на дыбы,
Что был воздвигнут Фальконетом,
Застыл над бездной злой.
Копыта подняты недаром:
А если он каким-нибудь макаром
С копыт долой?
– Он вовсе не Макар, – герой в ответ глаголет,
Укрывшись от дождя под епанчой, —
К тому же змей обильно полит
Здоровой конскою мочой.
Хоть медь и зелена,
Мой нос не чует тлена.
А, впрочем, наши имена…
Тут он осекся. Два усатых хрена,
При саблях и на каждом по мундиру,
Зашли во двор – и прямиком к сортиру.
Сортир был весь закрыт на санитарный час.
Известно, что часы в диковинку у нас,
Недаром жалуют их скупо государи.
Так эти хари,
К стене сортира подойдя,
Произвели подобие дождя.
Сие написано не зря,
Могу мораль извлечь:
Вода из пузыря
Что ноша с плеч.
И резкий запах испарений,
И разговора произвол,
Не есть свидетельство о тлене
И не трагический символ.
4. Портрет
Странна, фантастична, лукава,
Мила, но с лицом некрасивым,
То язва, то фифа, то пава,
С улыбкой, бегущей курсивом.
В глазах, вулканических жерлах,
На дне вытлевала беда.
Ты вся – в адамантах и перлах…
Пардон, я загнул не туда.
Вот так и бывает в рассказах,
Скользящих в ладони медузах,
Что, мол, в жемчугах и алмазах,
Когда в сапогах и рейтузах.
И этот уплывчатый облик
Забудь, развяжи узелок,
Чтоб больше ни отзвук, ни отбульк
Тебя потревожить не мог.
Но брошенный камень не тонет,
Но воды горят под ногами,
Но слово, которым ты донят,
Уже расходилось кругами.
Не ищем ли сами предлога
Напялить на шею хомут?
Что ж, каждому беру – берлога
И каждому ребу – Талмуд.
Опять начинаю, откуда
Ушел, громыхая по жести
Аллюзий: черты и причуды —
Медлительность в слове и жесте,
Гаданье, вязальные спицы,
Пасьянс, интерес к старине,
И эти ресницы, ресницы
Во всей сумасшедшей длине!
Держала собаку и кошку,
Судьбу доверяла созвездьям…
Но полно, всего понемножку.
Давайте же за город съездим.
5. В электричке. Песня о невстречном
Растрясая избыточность плоти,
Наберем постепенно разгон.
Электричка зайдется в икоте,
И слегка завихляет вагон.
На тычок обернешься с ленцою:
«Не из лесу ли, часом?» – «Вестимо».
Но навряд ли запомнишь лицо у
Человека, идущего мимо.
Это слово нам стало паролем,
Это слово навеки любимо,
Оттого мы о чаше и молим:
«Пронеси ее, Господи, мимо».
Мы услышаны. В чем же загвоздка?
Чем нам жребий не нравится наш?
Мы проносимся мимо киоска
По раздаче означенных чаш.
Ветер ломит в раскрытые окна,
Постарательней горло укутай.
Ну, пускай простудился, продрог, но
Не отправлен к Харону цикутой.
Невралгически спину изгорби,
Что поделать, испорчена рама,
Но зато не упрятана в торбе
Криминальная чаша из храма.
Из-за чаши тебя не погубит
По дороге мелькнувший ларек,
Из-за чаши тебе не разрубит
Головы полудикий царек.
Ты не станешь следит из-за чаши
За походкою уличной тетки,
Недоучка студент, изучавший
Лишь начала, зады и ошметки.
Показалось лицо – но дыра там.
Ты молился? Твоя и вина в том,
Что не станешь Эзопом, Сократом,
Даже воином и алконавтом.
Вот зачем божество умолимо:
Проскользнуло в молитву словцо.
Человека, прошедшего мимо,
Сам Господь не узнает в лицо.
6. Пейзаж
Дева, струю нагнетая,
свою опрокинула чашу…
А. Смирнов
…Вновь я посетил
Тот уголок, где трепаный Парни
Лежал недалеко от треуголки,
И треугольник смуглого лица
Распаренно склонялся над страницей.
Здесь царствует гармония, не то
Что в Петербурге, городе контрастов.
Кувшин, разбитый вдребезги, и тот
В нее не вносит дребезжащей ноты.
Зефир пускает ветры столь изящно,
Что заплясала, подбоченясь, нимфа,
Опернутая на изрядный пень.
В Екатери… Пришел на ум мне, кстати,
Отменный бюст, который заприметил
Я в Третьяковке, шубинской работы.
Как раз Екатерина № 2
Весьма напоминала героиню,
Которая (простите за избыток
Союзных слов, но что же есть стихи,
Как не союз меж автором и словом?)
Работала в Лицее, кем – неважно.
Я где-то перебился, ну и пусть.
Здесь, в Пушкине, все Пушкиным и дышит.
Египетские, например, ворота,
Мне кажется, здесь только потому,
Что прадед был рожден неподалеку;
Чесменский столп – затем, чтобы Державин,
Передавая лиру, не забыл,
Что в гроб сходить пора ему настала;
А имена товарищей по курсу
Начертаны на кельях для того,
Чтоб оправдать великолепный список
Блестящих эпиграмм и посвящений.
Пока еще вовсю подлунный мир
Насилуют бесстыдные пииты,
Не позволяя зарасти тропе,
Какая нас ни треснула б дубина
И как бы ни огрело помело,
Все те же мы. Нам целый мир – кабина
Скользящего вдоль неба НЛО.
7. Кафе
Любовь выбирает окольные тропы,
Плетется по краешку, сходит на нет.
Поэт выбирает фигуры и тропы,
Балладу, канцону, секстину, сонет.
И фрукты, и злаки, и всяческий овощ
Рождает земля с сорняком наравне.
Сон разума Гойи рождает чудовищ,
Сон чувства героев – чудовищ вдвойне.
Стола эпоха прогулок на лоне
Природы, на фоне картин городских,
И в чашечке кофе с сосиской в «Сайгоне»
Была максимальная близость для них.
Их мнительность, их нерешительность, вялость,
Ненужная холодность, плоский расчет…
Ах, он сомневался, она сомневалась,
Вода обжигает, а время течет.
Ах, он не в ударе, она не в ударе,
Слепец не помощник другому слепцу,
А рядом летают тошнотные твари,
Колючим крылом норовя по лицу.
Под столиком пол обживают мокрицы,
Крестовый поход объявляет паук,
За стойкой вампир фиолетоволицый
На новую ночь намечает подруг.
Чета василисков сошлась в поединке,
Седой францисканец сосет карбофос,
Сирена отставила в угол ботинки
И когти стрижет, напевая под нос.
И разухаебистый этот мотивчик
Летит через зал в отдаленный конец,
Где вместо панамы использует лифчик
Единый в двух лицах сиамский близнец.
В разбитое зеркало самка дракона
Глядит, отражению пальцем грозя.
Любить без оглядки – иного закона
В таком балагане придумать нельзя.
Не стать в этом сонмище вещью трофейной,
Испуганно в сторону взгляд не кидать,
Не дать утопить себя в гуще кофейной,
Любить, и хоть этим снискать благодать.
Нет хуже – увязнуть в своем хронотопе,
В клубящейся бездне, бездонной глуби.
Люби. И не думай о близком потопе.
Он был и еще повторится. Люби.
8. Общее собрание
Жил человек с лицом енота,
Несвеж, плешив и полнотел.
Когда была к тому охота,
Он басни плел, столы вертел.
И, проживая с дочкой вместе
(Любовью оной был вокал),
Нелепым слухам об инцесте,
Смешно признаться, потакал.
Все то, чего коснулась порча,
В нем возбуждало аппетит,
Любая разновидность торча
Его тянула, как магнит.
Раз в месяц, скажем, в третью среду,
Сзывал он кухонных светил.
Герой, бывало как к соседу
К нему их слушать заходил.
Установив подобье круга,
Легко выстраиваем связь:
Так, героинею подруга
Хозяйской дочери звалась.
А в дочь, сухую, как картонка,
Зато поющую с пелен,
Наш персонаж безумно, тонко
И безнадежно был влюблен.
Теперь о прочих. Завсегдатай
Там был специалист по ню,
Как все маэстро, бородатый
И датый десять раз на дню.
Гремел по потайным салонам
Шедевр в классическом ключе:
Девица с газовым баллоном
На темно-розовом плече.
Там был поэт. Увы, длинноты
Его томительных рулад
Рождали тягостные ноты,
Душевный кризис и разлад.
Был композитор. Сбивши свистом
Авторитеты наповал,
«Фон» оставлял он пейзажистам
И только «како» признавал.
Сходилось человек по двадцать
Извлечь дымок из папирос,
Попить вина, романсик сбацать
И духа вызвать на допрос.
Зашел однажды спор не новый:
Где ставит божество печать?
Как недурное от дурного
В литературе отличать?
За полчаса дошли до хрипов.
Тогда художник молвил: «Ша!
У вечных образов и типов
Должна быть вечная душа».
И плетью ворона по перьям,
Пса по ушам, коня по ребрам
Енот ударил. «Что ж, проверим, —
Сказал он голосом недобрым, —
Мы вызовем его». «Кого же?» —
Спросил томительный поэт.
И дочь Енота из прихожей
Внесла потрепанный берет.
И вот он полон предложений.
Перемешали раз, другой,
И выпал пушкинский Евгений,
Но не Онегин, а изгой.
Стол опустел, и свет погашен,
Сидят, как чудища в ночи.
И только, одинок и страшен,
Змеится огонек свечи.
Был в этом зыбком переплясе
Какой-то шип, какой-то шорох.
И вдруг на воздух поднялася
Свеча и пламенем на шторах
Чертит причудливые знаки,
И – сверк, и нет ее нигде.
Но буквы светятся во мраке:
«Любви бегите. Быть беде».
9. В коридоре
Старый, испытанный трюк —
Выбрал и пользуйся им, —
Сердце повесив на крюк,
Мы за прилавком стоим.
Свет, отмыкающий звук.
Стадо спустилось к реке.
Старый, испытанный друг,
Как тебе там, на крюке?
Долгий, как бич, коридор,
Рыжий оскаленный плюш,
Ставит диагноз прибор —
Вечно великая чушь.
Чу! Ультрастон, инфрачих,
Чучело чахнет в пыли,
Чуть оступился, затих —
Чукнулось геково «пли».
Разве узнает, какой
Может открыться сезам,
Тот, кто поводит рукой,
Как по стеклу, по глазам?
Нить. Половица. Обрыв.
Омут. Ловушка. Затон.
Нас отправляют в заплыв
Шар, шарлатан, Шарантон.
Пряничный домик. Коржи —
Карты в руке игрока.
Скоро отчалим. Держи —
Вот тебе руль и рука.
10. Невстреча
Выхожу я раз на Невский…
В. Гаврильчик
Вдоль по Невскому проспекту
С разных следую концов
Наши бедные герои,
Воздух мрачен и свинцов.
Героиня, выпив сока,
Переходит на пломбир,
Наблюдательное око
Озирает мокрый мир.
Вылезает из кареты
Вместе с дочерью Енот,
Вынимает из цилиндра
Пачку новеньких купюр.
Мнет и тискает с усмешкой,
Расплатился: мол, пускай!
Вот бы солнце – этой плешкой
Только зайчики пускай.
На мосту стоит автобус,
Ядовитое пятно.
Подошел другой – и оба с
Моста обана – на дно!
Суматоха, развлекуха,
Будочники, доктора.
Как попало, выплывают
Пассажиры по частям.
Часть вторая. Про героя.
Он идет. Все решено.
Тетя Туча просыпает
Сверху мерзлое пшено.
Сквозь поднявшуюся вьюгу,
Сквозь накинутую сеть
Голубки летят друг к другу,
Им никак не долететь.
Вдруг маэстро. Он просверлен
Взором, брошенным в упор.
Что он врет, как сивый Мерлин?
Что он тянет разговор?
Персонаж попался. Что-то
Мелет, мелет на ветру,
Он талдычит про Енота,
Про интриги и игру.
И пошло растущим комом,
Накатило, как волна:
Всем знакомым, незнакомым
Надо, надо, надо. На!
Уплывающее тело.
Тонешь, только оступись.
Надо-ело, надо-ело,
Надо-ело. Остопиз…
Уносящее теченье
Над телами верх берет.
Встреча может быть случайной,
Как у зайцев на бревне.
11. Эпилог. Натюрморт
Холодная кухня. Стандарт.
Но нет, никаких философий.
Колода засаленных карт
И чашка остывшего кофе.
Брошюра. Ах, да, гороскоп.
Тарелка, следы винегрета.
В розетке одна сигарета.
И зеркальце рядом. Но стоп.
Картинка другая. Кувшин,
Бог весть, молока или пива.
Грудинка, румянясь игриво,
Иной предлагает аршин.
Солонка, салфетка, салат
И горка домашнего плова,
На стуле висящий халат,
И все. О героях ни слова.
1993.
«В этом городе только и ранили…»
В этом городе только и ранили
Остриями наверший и виршей,
Или тем, что, как будто их наняли,
Надрываются чайки над биржей;
Или тем, что упаришься пробовать,
А за пробой – немедленный вычет,
И твоя прямодушная проповедь
Отменяет тебя и кавычит;
Или тем, что меж типов углюченных
Нет такого, чтоб за нос не велся,
И мосты закипают в уключинах,
Над водою взлетая, как весла;
Невсамделишный груз переносится
На прозрачных распиленных соснах,
Существующее переносится
Лишь в значеньях своих переносных;
И когда мы лишались невинности,
Постигая величье немого,
Догадались уже, что не вынести
Ничего однозначно прямого.
«Если бы я родился в соседнем квартале…»
Если бы я родился в соседнем квартале
И дал бы однажды клятву ни разу не пересечь дороги,
Был бы у меня шанс (не великий, конечно, но в общем)
Сдержать хотя бы одну клятву в жизни.
Если бы я родился в соседнем квартале,
Учился бы в школе, в которой и так учился,
Получил бы паспорт в отделении милиции,
в котором и так получил паспорт,
Покупал бы еду в магазинах, в которых и так покупаю еду.
Если бы я родился в соседнем квартале,
Пошел бы работать грузчиком в «Академкнигу»
(Собственно, почти так и было, только в другом
соседнем квартале),
А по вечерам пил бы пиво на детской площадке.
Если бы я сошел с ума от книг и пива,
Меня лечили бы в родном квартале в психдиспансере,
А если бы подрался на детской площадке,
Заключили бы в обезьянник, по соседству с которым
мне выдавали паспорт.
Так что же меня спасло от бунтарства и от безумья?
Неужели то, что я не родился в соседнем квартале,
И у меня не было возможности дать клятву не пересечь дороги?
(В моем-то квартале нет ни милиции, ни диспансера, ни магазина.)
И что в итоге? Я нарушал клятвы, пересекал границы,
Пиву предпочел коньяк, книгам – другие книги,
И в сравнительно здравом уме, счастливо избежав заключенья,
Пишу стихи о соседнем квартале, в котором я не родился.
«Всю дорогу просвистав-прощелкав…»
Всю дорогу просвистав-прощелкав
И невразумительное мня,
Вдруг я понял, что рубцы проселков —
Собственно следы господнего ремня.
Нет, едва ли мне страшны все эти злые елки,
Я ж не интеллектуал какой-то, типа парикмахер-сомелье,
Но ужасно испугался оказаться на таком проселке,
По не знаю что увязнуть в колее.
Кажется, все то же – хвоя там, береста,—
Только каждый пес – чужой и воет, как койот.
Вот земля, что и своя не очень-то берется,
И другая не дает.
Знаешь, родина, порви меня на мелкие волокна,
Выскажи свое отрыжистое «фе»,
Ты первей всего мой потолок отечный и разрушенные окна,
Городской газон убогий и щербатый стол в пластмассовом кафе.
А потом уж – рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, занавески,
Вот коза мелькнула чья-то, вот меланхоличный гусь.
Хорошо, что я вернулся из еще одной поездки
И опять нигде не окажусь.
«Тверь да Тверь кругом. Не то, что мир безумный…»
Тверь да Тверь кругом. Не то, что мир безумный —
Вовсе нет, но лучше отползи.
Хорошо, что фотоаппарат жены почти беззумный:
Как нам эту жизнь разглядывать вблизи?
Где травой подернуты пути трамвая,
На кривом заборе вывеска роскошная «Свадебный салон»,
Неизвестный никому номер обрывая,
Подходящий затяну псалом.
Тверчество мое не без слабинки;
Порча затаилась в нитках да во швах.
Только разве ради этого я из самой глубинки
К Господу воззвах?
Мы с женой – туристов пожилая пара, в —
Прочем, это я – увы; она еще в соку.
А ведь мы с ней вместе прожили больше лет,
чем было комиссаров,
Тех, которых отловили в солнечном Баку.
Я стучался в эту Тверь, последнее сграбастав,
Все сжимал, что оставалось, в болевой комок.
Я-то думал, ты поможешь мне, городок контрастов;
А и правда, что помог.
Мелодии Уткиной заводи
1. Марш Уткиной заводи
Течет, говорите, то слизь, то не слизь,
Такая погода лет сорок, хоть тресни.
Я шел, наблюдая, как годы неслись,
Не с песней по жизни, а с жизнью по песне.
Ведь я не Родриго какой-нибудь Руй
Из пылью подернутой песни о Сиде;
Когда мне в упор говорят: маршируй, —
Всегда марширую за рюмкою сидя.
Пройдем над останками песни ничьей,
Отрыжкой густой салютуя фастфуду.
Пусть зомби трясется, прося палачей:
Простите, ребята, я больше не вуду.
Мы вудем, мы воем над жирной Невой,
Мы хором привыкли и харкать, и хавать.
И мы поднимаем, как знамя, наш вой
Про черную нежить и Уткину заводь.
И я марширую над мертвой травой,
Дохну – насекомая стая завьется.
Я вуду, я вою, вот этот-то вой
У нас в просторечии песней зовется.
2. Вальс Уткиной заводи
За рекою – жилье, не жилье, —
Не люблю я советских гостиниц,
Но смотрю и смотрю на нее,
Туристических войск пехотинец.
Нет, я свой, я работаю здесь,
Не приехал пытать я судьбу к вам.
Но клубится прибрежная взвесь
И влечет к неразборчивым буквам.
Что там – слава? Призыв к мятежу?
Лоб наморщив, лицо перекорчив,
В эти буквы гляжу и гляжу,
Оттого что и сам неразборчив.
В череде однотипных досад —
Горизонт исказившая призма,
Этот грязный бетонный фасад
И стеклянный оскал коммунизма.
И напрасно глаза напрягу,
И гостиница эта дрянная, —
Манит имя на том берегу:
То ли «Вечная», то ли «Речная».
3. Танго Уткиной заводи
Тут рядом с заводью стоит один заводик,
Но только ветер по цехам нытье заводит,
Давно продуто все, парарам-парурам.
Возможно, раньше тут звучал веселый гомон,
Мол, типа жизнь идет, – сигналил за стеклом он,
Но вот фасад обрушен, кайф обломан —
Осталось пару рам.
Тут подле заводи, подлее, чем зевота,
Водила вынырнет и впилится в кого-то,
В того, кто впилится в того, кто впереди.
И вновь пешком иду по берегу тогда я,
И жизнь проносится, как ветер, молодая,
И только шоферня стоит, страдая
До судорог в груди.
Тут возле заводи зловещая промзона, —
Такая плешь с опушкой жидкого газона,
Какая разница – июль или февраль?
И только чахлая, как смерть Кощея, ива
Макает прутики во что-то цвета пива,
И танго закругляется игриво:
Ля-ля теплоцентраль.
4. Рок-н-ролл Уткиной заводи
Человек-паук вспоминает все – преимущественно в 3D.
Он мечтает, видимо, о любви и не знает, что счастье – в труде.
А ведь он классный парень и мог бы стать
вождем обездоленных масс,
А его правой и левой руками были бы Микки Маус и Фантомас.
В бетонном туннеле творят искусство Бэтмен и Супермен.
Они недавно окончили школу и больше не ждут перемен.
Они ждут Женщину-кошку, звезду подвалов и крыш,
Но мать послала ее в магазин купить средство от крыс.
Я знаю: счастье в труде. Я сам приезжаю сюда за рублем
На автобусе, в котором Синдбад всегда сидит за рулем.
Он и раньше странствовал, привозил какой-нибудь порошок
Или так любил свой автомат, что часто менял рожок.
Он учит меня своим примером, его вид говорит: потей.
Но дело в том, что я тоже учу – среди прочих, его детей.
Я знаю, что счастье в труде, и нигде иного я не встречал.
Куда ж нам плыть? Да в Уткину заводь, ведь это и мой причал.
Так пусть рокочут Пол Макаревич, Фредди Кинчев и Элвис Цой,
И утка глотает мелкую рыбку, и Утка течет с ленцой.
Человек со свойствами
1. Забытая сестра
Если память – костер, я сгорю не на этом костре.
Я не то, что забыл о сестре; я забыл, что забыл о забытой сестре.
Если помнить, тогда подскажите, о чем и о ком.
Не о том ли, как ты обучала меня помидоры запивать молоком?
Не о том ли, как ночью вскочили, почувствовав некий симптом,
А потом не слезали с горшков до утра. Не о том?
А о чем? Не о том, как не ладили наши отцы
И заочно друг друга оценивали, допустим, до хрипотцы?
Впрочем, с уст матерей тоже едва ли слетала взаимная похвала;
Только старость объединяет то, что молодость развела.
Так о чем я должен был помнить? Об этом, как его, ну,
За кого выходила замуж, рожала, уезжала в чужую страну,
Разводилась, меняла любовников, с некоторыми из них
Даже знакомила; особенно показался забавен
твой предпредпоследний жених —
Маленький упитанный лавочник, горячий, точно хамсин.
«Made in Marocco» – это, оказывается, не только про апельсин.
Кстати, о муже. Всегда был прост, жовиален и груб.
Несколько лет назад на улице нашли его труп.
…Да, так о чем я должен был помнить? О доме на склоне холма?
На расстоянии выстрела от него стоят другие дома
Другого народа; однако языковая – это ведь тоже семья,
И этот народ помнит о тебе все время. Не то, что я.
2. Доверие
Таджик, в дальнейшем именуемый Федор, чинит дом,
стоящий на склоне холма,
Нормальный, прямоугольный дом, который не выглядит конусом или сферой.
Но что бы Федор ни делал, все равно выходит чалма,
Потому, как бы сказал Левитан, что он это делает с верой.
Между сиренью, жасмином, яблоней – в этой щели, в пазу
Живут друзья мои, разговаривая на визге
Только с соседями. Мы в гостях; я и мой друг ни в одном глазу,
Разве что выпили по немногу виски.
Как тут хорошо, – думаю я. И потом
Подумаю так еще, вспоминая дом с простодушной отделкой.
А сейчас мы следим вдохновенно за тем,
как сердится белка на сосне, цокает, бьет хвостом
И следит за кошкой, которая тоже следит за белкой.
Глаз (тот самый, что ни в одном) оскользает вниз: огородец, колодец, тын.
Как тут хорошо, – думаю я. И снова
Подумаю так; здесь даже есть один эдельвейс, но главное – сын,
И это решает все: вот она, жизнь, фундамент ее, основа.
Здесь еще будут банька, пруд, праздник, коньяк, долма, —
Вся эта прелесть правильной, просветленной плоти,
Потому что Федор, именуемый выше таджиком,
чинит дом не на склоне холма
И вообще не на склоне – скорей, на взлете.
3. Утро в доме, пребывающем в трауре
Есть у вас, например, дети. Эк вы им
Надоели. Всякий ваш оборот им кажется нарочит.
Раньше каждое утро за стеной раздавался моцартовский «Реквием».
А теперь иная музыка звучит.
То есть, знаете, совсем другая аура,
Солнце утром тычет в окна дулом, то ли жерлом.
Но во всем этом стало как-то значительно больше траура,
Будто просыпаешься в помещении нежилом.
Кабы знать, что вберется, что вынется,
Различал бы, верно, где добро, где зло.
Мы с женой встречались со старшей дочерью
в занесенной снегом московской гостинице.
Господи! Не им ли и нас туда занесло?
Слышишь, господи? Она летела куда-то из Токио,
Где еще не рвануло, а мы долго ждали в аэропорту
(Кстати, и там еще не рвануло, зато в соседнем…),
а потом говорили только о
Пустяках, потому что другое не помещалось во рту.
Поле, по которому мы идем, могло бы назваться минным,
И ему бы поверили, а оно бы спросило:
– А ты кто?
– Да вот, иду.
Собираюсь встретиться с младшей дочерью,
поговорить по душам, то есть как минимум
Посидеть в кафе, съесть какую-нибудь еду.
Просыпаться – все равно что потрясать оружьем,
Зная, что не выстрелит: пьеса, видимо, не та.
Я все время кем-то был: любимым сыном, счастливым отцом,
неважным мужем.
Заводи шарманку. Блефовать – так с чистого листа.
4. «Был у меня товарищ…»
«Кроме всего прочего в тот день я совершил геройский поступок»
У. Эко «Маятник Фуко»
Это история из рассказов о подвигах.
Пал мой товарищ. Он хотел помочь мне поднять
Нетоварища, павшего также минутою раньше.
Но пал, изнемогши. И понял тогда я,
Что обоих (товарища и нетоварища)
Один поднять я не в силах.
Вызвав бригаду (должно быть, так вызывают огонь на себя),
Я отдал им павшее тело. А тело второе (то есть товарища)
Сам поволок. Знал я из литературы и фильмов,
Что павшие или не просят уже ничего,
Или разводят минут на пятнадцать последнюю фразу
(Ну, там «Наедине с тобою, брат…» и т. д.),
Или стонут «Пить, пить…» – совсем как птенец,
Что, не дождавшись родителя с кормом, летать не умея,
Выпорхнул из гнезда и лежит на земле.
Чего же теперь он дождется?
Или прохожего тяжкой стопы, или кошки бесстыжей.
Нет, мой товарищ воды не хотел; что же до фразы,
Было ему не до фраз. На мое плечо с трудом опираясь,
Он поминутно помедлить просил, чтобы лишнюю жидкость
Мог он на землю излить. И мы замедлялись,
И в эти мгновенья во всем опорой был я ему и поддержкой…
Так я товарища спас; вскоре мы добрались до ночлега.
Время спустя еще раз пал мой товарищ.
(Позже узнал я тайну этих падений.
Пива выпивши за день несколько литров, он добавлял коньяку,
Далее шло как по маслу: примерно как Берлиоз именитый…)
Итак, снова пал мой товарищ. Я из лужи вынул его
И оставил сидеть на пустом тротуаре, ведь подвиг
Прошлый раз я уже совершил, исчерпав лимит героизма.
Был у меня товарищ…
5. Они поступают нехорошо
От дурацкого символизма, от длиннот его и дремот
Я ушел на Великий Отечественный Второй мировой ремонт.
Пусть Георгий вставляет ящеру – это подвиг, но не война.
Я воюю по-настоящему – так, что ленточка не видна.
Две недели свои отмыкав, с безразличием к новостям
Сводный корпус из двух таджиков дезертирует по частям.
Они оставляют оружие, бомж-пакет и сухарь ржаной
И дрель, еще не пристрелянную, бросают на нас с женой.
Бригадир распускает бригаду, срывает с плеча погон;
Я кричу еще что-то гаду и его матерю вдогон.
Сгущается мгла осенняя, сочится в блиндаж вода,
Мы царапаем донесения, но оборваны провода.
Ни бинта, ни пластыря, ни Псалтири, я – рыдаю или ору?
Это я воюю в своей квартире или гибну в Мясном Бору?
В таком окруженье, родная, – нет слов «потом», «впереди»,
Но когда все закончится – там, где была моя библиотека, пирамидку сооруди.
6. Почтенный старик наконец обретает покой
Так липу пчела облетает,
Так плющ водосток оплетает,
Так берег пловец обретает.
Так пчелы, плющи и пловцы,
Исполнены смысла и влаги,
Достигшие цели,
Тоскуют, как шерсть без овцы,
Как персть в пересохшем овраге,
Как, верно, держащийся еле
Кумач на рейхстаге.
Почтенный старик наконец обретает покой,
Теперь старика наконец оплетает покой,
Душа старика из конца в конец облетает покой.
Старик перед смертью стихи написал,
Я вижу, как он это делал,
Я вижу, как он над столом нависал,
Жене замечания делал.
Я вижу, как он утомился и лег,
Дыханием тяжек и хрипл.
И кто-то его не в футляр, а в кулек,
Чтоб не было мусора, ссыпал.
И вот мы полюбим теперь старика
Державина и Пастернака,
И тень старика поглощает река
И что-то нам плещет из мрака.
Наверно, он там уже влагу словил,
А нас не заметил, не благословил,
Какое несчастье, однако.
…и другие стихотворения
«Поклонник истины горячий…»
Поклонник истины горячий,
Теперь я понял: в мире дел
Все получается иначе,
И все не то, чего хотел.
И я всегда из-за боязни
Испачкать замысел в хлеву
Себе отказывал в соблазне
Его увидеть наяву.
И с этим страхом, что поделать,
Себя к странице приколов,
В сердцах расшвыриваю мелочь
Уже не замыслов, а слов.
Пока продажа и покупка
Еще не полюбились мне,
Необходимостью поступка
Припертый накрепко к стене,
Природа, окунаясь в транс твой,
В существованье, в чехарду,
Всей пятерней проткну пространство
И пальцем в небо попаду.
Теория отражения
Весна, мой друг. Я полюбил на вдохе
Задерживать дыхание свое,
И лужа, точно зеркало эпохи,
Достойно отражает бытие.
Она его парирует, как выпад,
Прокалывает, будто бы мешок,
И, посмотрев в нее, я вижу выпот —
Рошенный мир в грязи его кишок.
Весь мир – свинья, когда, валяясь в луже,
Отбыть, отпеть, отплакать, отрожать
Стремится он. Как пешеход досужий,
Я запретил бы лужам отражать.
Я запретил бы множить это эхо,
Единому не нужно двойников.
Не нужно? Но зачем же в лужу грехо —
Падение? Как видно, свет таков,
Что невозможно быть без отраженья,
Что все мы отражаемся вокруг:
Весна – в грязи, и Афродита – в пене,
Мой друг – во мне, и я – в тебе, мой друг.
«Воспринимая данное как вывих…»
Воспринимая данное как вывих,
Весне предпочитая листобой,
Наверно, от любовников счастливых
Мы чем-то отличаемся с тобой.
Не обоюдной мстительностью жертв,
Ни даже нарочитостью забав.
Мы счастливы, как пара интровертов,
Веселого застолья избежав.
И если я когда-нибудь да треснусь
Тяжелой до избытка головой,
Всегдашняя моя тяжеловесность
Окажется, возможно, роковой.
Ну а пока в неловкой мелодраме
Тарелки бьют, попискивает альт,
Мы смотрим, как под нашими шагами,
Колеблясь, прогибается асфальт.
«Мне звонит мой рехнувшийся друг…»
Мне звонит мой рехнувшийся друг,
Он боится на улицу выйти,
Он замкнулся в безвыходный круг
Отработанных лиц и событий.
Раз в полгода я трубку сниму,
Чтоб узнать этот голос петуший,
Я шучу, применяясь к нему,
Я пляшу, точно рыба на суше.
Кто ж виновен, что вышел прокол,
Что пожар возникает на гумнах?
Все сходили с ума, а сошел
Почему-то из самых разумных.
Вот и стану я бога молить
Сквозь беседы удушливый выхлоп,
Чтоб хоть эта пунктирная нить
Не заглохла б и речь не затихла б.
Послание Р. Кожуху
Я впускаю вас в подобье земного рая…
П. Барскова
Наш долгий разговор из рытвин и колдобин
Становится пути загробному подобен.
И скромный огонек над кухонной плитой
Иных огней и плит напоминает облик,
И вот, вторгаясь в текст по праву запятой,
Зловеще на стену отбрасывает проблик.
Наш долгий разговор с ухаба на ухаб
Становится как путь. Не дальше от греха б,
А в омут головой и прямиком по центру.
Но темен запредел, и в лабиринте фраз
Напрасно я ладонь о камень этих стен тру:
Невиданный тупик подстерегает нас.
Наш долгий разговор о подлом и о горнем
С макушки заводя, заканчиваем корнем,
В хтоническую грязь, как пальцы в пластилин,
Погрузимся. Ага. Мы не отсюда родом —
Нам нужен вождь не вождь, не то что властелин,
Скорее проводник по этим переходам.
Скорее, проводник! И вот уже возник
Какой-то полувождь и полупроводник,
И нас почти тошнит от этакого полу-.
Но мы уже бежим, с одышкой, вперехлест,
И тусклый полусвет от фонаря по полу
Высвечивает вдруг его собачий хвост.
В зубах фонарь несет, как дымовую шашку,
И жирной ляжкой бьет свою другую ляжку,
Но в вязкой полутьме не видно, что за зверь.
Чьи ляжки? Что за хвост? Не Кербера, так черта,
Но мы спешим за ним, и наконец на дверь
Наткнулись. Да, она. И надпись полустерта.
«… жду навсегда», – гласит. Кого? Ужели нас?
Сим изречением вельми ужален аз,
Да, грешный, смертный, да, но не теперь, не здесь же!
Но бас проводника ползет по бороде:
– Не время, так, должно, какой-то шут заезжий
Начало стер, а там как раз «Оставь наде…»
Оставим же ее, как оставляли всюду
Таланта и судьбы разбитую посуду.
Что эта надпись нам? Не русский, не латынь,
Неведомый язык, который всем понятен.
Распахиваем дверь – а там звезда Полынь
И трупный блеск ее невыносимых пятен.
«Лишь за то на свете повезло мне…»
Я ломаю слоистые скалы…
Ты и во сне необычайна…
А. Блок
Лишь за то на свете повезло мне,
Что не лез в начальники. Взамен
Отбывать мне век в каменоломне
И ломать не камни, а камен.
Из художеств покрика и свиста,
Из прыжков пижонских на краю,
Из вальсирующего Мефисто
Извлекаю музыку мою.
Жажду из неверного колодца
Утолив, не утерев губы,
Спящая красавица проснется
И пойдет отсчитывать столбы.
Но пока в симфонии инферно
Европейский слышится напор,
Спит она. И видит сны, наверно,
Положив под голову топор.
«Я не выйду навстречу сирене…»
Я не выйду навстречу сирене,
Я лишился машины в оттенках
Полудохлой, недужной сирени
На облупленных детских коленках.
Я не выйду, так что ж ты завыла,
Изымая меня из постели?
Или то от полночного пыла
Водосточные трубы свистели?
Эта душная музыка, вой ли
Так и липнет рубахой нательной.
Разве знала ты, спавшая в стойле,
Как отец задыхался в Удельной?
Как хрипел на промокшей кровати,
Ужимался до точки прицела,
Все отчетливей и угловатей
Кадыком выступая из тела?
Ты ведь продана, да? Но постой уж,
Я не дам тебе кости и супу,
Но скажи, отчего же ты воешь,
Как собака по свежему трупу?
Вздрогнет груда железного лома,
Пустячок, комментарий к надгробью,
И она отъезжает от дома,
Тарахтя характерною дробью.
«Для чего мне разорванный жест в…»
Для чего мне разорванный жест в
Оголтелой глаголице снега,
Если мягкое эхо торжеств,
Подмерзая, становится эго?
Мы не звенья цепи, извини,
Все привычнее, злее, пошлее,
Нас не двое с тобой, мы одни —
В простынях, у друзей, в бакалее.
И снежок в завихреньях своих
На язык попадает не целясь.
Вот и ловим его за двоих,
Будто соли еще не наелись.
«Не ври, ты не вовсе чужая…»
Не ври, ты не вовсе чужая,
Давай не затеем грызню.
Тебя нищетой окружая,
И сам я себя исказню.
И после беседы короткой,
Сорвав, точно с вешалки, злость,
Я вспомню, как пахнет селедкой
Невбитый, скривившийся гвоздь.
Все было. Оттасканы грузы
Такие, что сохнет рука.
Ужели ты мусорней Музы,
Неважней, чем эта строка?
Конфета плеснет мараскином
И липкую сладость придаст
Тем картам, что мы пораскинем,
Гадая, кто первый предаст.
Памяти В. Пономарева
Раскрой тетрадку, очини к —
Арандаши, запомни даты,
Мой нелюбимый ученик,
Несобранный и туповатый.
В окно перетекает хмарь,
Висок добьет меня до реву.
– Ты не читай, как пономарь, —
Я говорю Пономареву.
И начинают выплывать
Необязательные вещи:
Какой-то коврик и кровать,
И то размытее, то резче —
Девица на календаре —
Ни посмотреть, ни отвернуться, —
Снег, почерневший в январе,
Таблетка на щербатом блюдце.
– Прочти внимательно главу,
Ответь… А, впрочем, что я, нанят?
Ты мертв, а я вовсю живу,
И кто еще тебя помянет?
«Пусть образы виденного давно…»
Я глупо создан: ничего не забываю, ничего!
(Дневник Печорина)
Пусть образы виденного давно
Сбиваются в стаю.
Спасибо, создатель, я сделан умно —
Я все забываю.
Туман, истаявшее ничто,
Похлебку пустую
Дырявая память, мое решето,
Пропустит вчистую.
Но тонкая пленка, липкая слизь,
Случайный осадок
На дне решета пузырями зашлись
Бензиновых радуг.
За пыль промежутков, за то да се,
Дорогу к трамваю —
Я каждый день отбываю все,
Что я забываю:
Больницы, влюбленности, имена,
Сапог в подбородок,
Моих мертвецов на одно лицо
(Их так обряжают);
Коляску, скатывающуюся с крыльца,
В ней спящий ребенок, —
Господи, пронеси, – он пронесет,
И я забываю
Три глотка счастья на ведро воды,
Сны, где улетаю от тигров,
Стихи, ускользнувшие в никуда, —
Не хватило дыханья,
И вновь не хватает, идут ко дну
Тяжелые звенья,
Жизнь превращая в сплошную одну
Забаву забвенья.
«Десять лет Агамемнон пас Трою…»
Десять лет Агамемнон пас Трою,
Ошибался, плошал.
Жаль, что я ничего не построю
Там, где он разрушал.
Море лижет унылую сушу,
Липнет к берегу бриз.
Жаль, что я ничего не разрушу
Там, где строил Улисс.
Жаль, что я не погибну в атаке
На чужом острову.
Жаль, что я не живу на Итаке,
Жаль, что я наяву.
Слышишь, тень набежавшая, – фальшь ты
Или черная шваль,
Жаль, что по-настоящему жаль, что
Ничего мне не жаль.
И жалеть ни о чем не придется,
И уже не пришлось,
Ибо то, что прядется – прядется
И проходит насквозь.
«Перетончу, перемельчу…»
Перетончу, перемельчу,
Уйду от всех решений,
И станет то, о чем молчу,
Точней и совершенней.
Затем и времени дана
Невиданная фора,
Чтоб только не легла спина
Под розгу разговора.
А там – урок, укор, угар.
Я не люблю угара.
Важней, чем выдержать удар,
Уйти из-под удара.
Так заливают пылкий спич,
Давясь водой сырою,
Пока планирует кирпич
На голову герою;
Выплескивают скисший суп
На лысину пророку,
Стирают отпечаток губ,
Почесывая щеку;
Так душат в логове волчат
В отсутствие волчицы.
И напряженно, но молчат.
Молчат. Пока молчится.
«О нет, не говорите мне про то…»
О нет, не говорите мне про то,
Как на ходу подметки отрываем,
Но вспомним возмущенное пальто
На женщине, бегущей за трамваем.
Оно клубилось вкруг ее колен
И клокотало шерстяною гущей,
И обнимало жарко, как силен,
Живые плечи женщины бегущей.
Трамвай же, электричеством прошит,
Рогами фейерверки высекая,
Досадовал, зачем она спешит,
Такая фря, бегония сякая.
Куда течет, как пена по устам?
Влечет ли рок? Фортуна ль поманила?
А он и сам гремит по всем мостам
Невы и Сены, Карповки и Нила.
Остановись, мгновение. Не трать
Вслепую силы: ты не на параде.
Услышим тишь. Почуем благодать.
Не ощутим волнения на глади.
Остановись. И наг и недвижим
Застынет мир, и реки подо льдом все.
Но главное, что мы не побежим
И в Петербурге снова не сойдемся.
«Я думаю с усмешкой анонима…»
Люби лишь то, что редкостно и мнимо…
В. Набоков
Я думаю с усмешкой анонима,
Письмо не опустившего еще:
Любить ли то, что редкостно и мнимо,
Или напротив – явно и общо?
Чумных надежд собою не питая,
Плету венок на некую плиту,
А вслед за точкой лезет запятая:
Любить ли то, – читай, – любить ли ту?
Читай – любить, люби читать, и как там
Еще спляшу, последний идиот.
Вот так всегда танцуешь перед фактом,
А он монетку в шляпу не кладет.
Он буржуа, и он проходит мимо,
Закрыв лицо воротником плаща.
Он так похож на ту, что явно мнима
И редкостно обща.
«Я иду по Левашовскому…»
Я иду по Левашовскому,
Потому что я правша.
И выплескивает Медведица
Ночь, как воду, из ковша.
И я сызмала и сызгола
Принимаю черный душ,
И всего меня обрызгала
Эта призрачная тушь.
Так что формулами, твердимыми
От тоски или вины,
Точно пятнами родимыми
Вдоль руки или спины,
Застывает жидкость жирная
На виду и не виду,
А я иду по Левашовскому,
Может быть, домой приду.
«Просыпаюсь. Но с места не сняться…»
Смерть, насколько я с нею сталкивался,
неотождествима с кровью…
А. Гуревич
Просыпаюсь. Но с места не сняться.
Я в подушку впечатал скулу.
Что-то все регулярнее снятся
Эти пятна на бледном полу.
Но не дергайся. Спи и не сетуй
На остаточный облик беды.
Что отходит под мокрой газетой,
То иные оставит следы.
То останется жирною врезкой,
То пройдет по хребту, по оси,
По невысохшей памяти – фреской,
Как по стенке, – «Прости, не проси…»
Ванну вымыли, надпись оттерли
И могилу убрали песком.
И причастье безумию в горле
Застревает корявым куском.
«Ты живешь широко, не боишься ущерба…»
Ты живешь широко, не боишься ущерба,
И на этом стоишь —
Невербальная ива, наивная верба,
Полусохлый камыш.
Продлевай этот ряд до свободного места,
Выбрось руку в мороз.
До жестокого крупа и крупного жеста
Ты почти что дорос.
А недавно еще колотило, казалось,
Не сойдя и умру,
Если небо свинцовой ладонью касалось,
Разрывая кору.
Столько вобрано мути – пускай этот климат
Серовато-бесстыж,
И разрывы как форму движенья воспримут
Верба, ива, камыш, —
Укрупняюсь, слабею, и сохну, и мокну,
И тону на плаву,
Но чем глубже разломы и драней волокна,
Тем свободней живу.
Памяти А. Ильичева
Отталкиваясь от перил,
От их сквозящей жути,
Болтался в лямках и парил
Весь мир на парашюте.
Черно поблескивал агат,
И, обнажив колено,
Садилась в воду на шпагат
Дразнящая Селена.
Ты знал, что истина проста,
И проще и жесточе,
Чем тот, кто падает с моста
В уют и ужас ночи.
«Небесшабашно, но бесштанно…»
Небесшабашно, но бесштанно
Все проживу и перелгу:
Вот перегнивший плод каштана
Едва виднеется в снегу;
Вот слепнущий зрачок трамвая
Среди белесоватой мглы
И дуг безумная кривая,
Сведенных, точно две скулы;
Картина, схваченная в целом,
Кино на влажном полотне,
И листья тополя на белом —
Почти как Жуков на коне.
Свернутся в трубочку детали,
Пожухнут, обратятся в слизь;
Еще вчера они витали,
В набрякшем воздухе вились, —
А нынче… И куда ни глянешь —
Пустоты, прочерки, прогал
И до смерти блестящий глянец
Все пережил и перелгал.
«Четвертую тетрадку умараю…»
Четвертую тетрадку умараю,
Однажды запульсирую скорей,
И вот оно, – допустим, умираю
Среди плаксивых баб и лекарей.
Движенья неуверенны и слабы,
Еще потрепыхался и задрых.
Перемешались лекаря и бабы.
Я их любил. Особенно вторых.
И тут бы, сквозь оплавленные лица
Взмывая в стилистическую высь,
Рассчитанной истерикой залиться,
Полувлюбленным клекотом зайтись.
Я их любил, – прислушаться: посуда
Уже звенит на вираже крутом, —
И умереть. И жить еще, покуда
Я их люблю. И дальше. И потом.
«Преодолев дурную мутотень…»
Преодолев дурную мутотень
Усильным, постоянным напряженьем,
Я раз и навсегда отбросил тень
И стал ее рабом и отраженьем.
Она была тогда еще мала.
Шла жизнь, бездарная и молодая,
И тень меня хранила, как могла,
То расходясь со мной, то совпадая.
Не я пугался страсти и стыда,
Взмывал на стены, крыльев не приделав;
Мне тень не позволяла никогда
Выплескиваться из ее пределов.
Мне хорошо. Душа не голодна.
Все было так, что лучше и не надо.
Спасибо, тень, ты и теперь одна
Меня удерживаешь от распада.
«Рябина с лицом безразличным…»
Рябина с лицом безразличным
Стоит, как святой Себастьян.
Такого покоя достичь нам
Мешает душевный изъян.
Все так же мы пыхаем резво,
До самых краев налиты,
Все так же вскипаем, как джезва,
В законных пределах плиты.
И если по жилам кофейным
Потянет иная струя,
И если запахнет портвейном,
То знайте, что это не я.
Не я, не другой и не третий
Недельной щетиной оброс.
Рябина не спросит – ответь ей
Ничем на ее невопрос.
Послушай, какого же ляда
Я так не умею пока —
Погасшая дырка от вгляда
И узкая зелень белка?
«Ночь, как разбитое стекло…»
Ночь, как разбитое стекло,
Прозрачна и остра по слому.
Я не умею жить светло,
По-доброму. Давай по-злому.
Кому не пожелаешь благ?
А шепот внутренний невнятен,
И в стенку влипнувший кулак
Почти не оставляет вмятин.
О, как я стану нарочит,
Зело любезен и приятен.
Пускай рукав кровоточит,
А кровь не оставляет пятен.
Пусть будет диалог остер.
Сымпровизируем на рыбу
Втроем – актриса, и актер,
И кровь, бегущая по сгибу.
Какая чистая стена!
Все выльется в игру и дрему.
Нет слов. И пауза длинна,
Прозрачна и остра по слому.
«Я дождался августовских звезд…»
Я дождался августовских звезд
И не ощутил знакомой дрожи.
Но, должно быть, в вынужденный пост
Хлебово чем жиже, тем дороже.
Что ж, перешибай меня соплей
И глуши меня, как рыбу, толом,
Только между небом и землей,
А не между потолком и полом.
Я дождался дорогих гостей,
И не подвели. И не подвяли
Эти, как их, шляпки от гвоздей,
Соль вселенной, лампочки в подвале.
«Нахохлившись, что твой орангутан…»
Нахохлившись, что твой орангутан,
Смотрю, как торт щетинится свечами,
И вижу недуховными очами
Цветущий, точно молодость, каштан.
Не мне его стереть или стеречь
На городском поганом перегное,
А что до лет, из них очередное
Дохнет на свечи – и не станет свеч.
Иду к каштану, будто к рубежу,
А он себе томится, прозревая.
Я тоже застываю, прозревая:
Наверно, я ему принадлежу.
Когда листва пронизывает стих,
Поэзию не принимая на дух,
Я вижу в этих взрывах и каскадах
Кого люблю – товарищей моих.
Мои друзья теряют во плоти,
Как, в общем, все, что тянется и длится.
Их милые измученные лица
Становятся бесплотными почти.
Зато душа, как дерево, поет,
И, напрягая связки книг и файлов,
Мы входим в вечность. Тесно. Свидригайлов
Нам веники с улыбкой раздает.
«Не богом, но хирургом Баллюзеком…»
Не богом, но хирургом Баллюзеком
Я излечен и жить определен.
Сорокалетним лысым человеком,
Казалось мне, он был уже с пелен.
С глубокими смешливыми глазами,
С какой-то синеватой сединой, —
И только так, как будто и с годами
Принять не может внешности иной.
За переборкой умирала дева, —
Бескровная, но губы как коралл, —
Итак, она лежала справа. Слева
Синюшный мальчик тоже умирал.
Я наотрез отказывался сгинуть,
Вцеплялся в жизнь, впивался, как пчела,
Пока она меня пыталась скинуть,
Смахнуть, стряхнуть, как крошки со стола.
Я не хотел ни смешиваться с дерном,
Ни подпирать условный пьедестал
И, полежав под скальпелем проворным,
Пусть не бессмертным, но бессрочным стал.
И, уличенный в некрасивых шашнях
С единственной, кому не изменю,
Я предал всех. Я предал их, тогдашних.
Я всех их предал слову, как огню.
И если мы обуглены по краю,
То изнутри, из глубины листа,
Я говорю, горю и не сгораю
Неопалимей всякого куста.
«…Вновь я пошутил…»
…Вновь я пошутил, —
Когда я так начну стихотворенье
И смеха не услышу ниоткуда;
Когда, встречая забастовкой кризис,
Оркестр моих карманных музыкантов
Ни шелеста, ни звона не издаст,
А звон в ушах и шелест мертвых листьев
Мне ни о чем не будут говорить;
Когда мои глухие заклинанья
На Музу не подействуют ничуть,
Но, брови изумленные подняв,
Она скривит презрительные губы;
Когда поднимут бунт ученички,
И я без удивленья обнаружу:
Легко бы подавил, но не хочу;
Когда я не увижу в дочерях
Хотя бы призрачного отраженья,
И то, что называется семьей,
По семечку рассеется в пространствах;
Когда друзья не то что отвернутся,
Но позвонят и скажут: мы с тобою, —
Зато изящно отвернется та,
Которая всего необходимей,
Тогда, Господь, не посылай мне смерти,
А вышли ангела вперед себя.
Мы встретимся с ним ночью у реки.
Я, может быть, себе сломаю ногу
Иль вывихну бедро, осознавая
Классическую истину строки:
Еще далеко мне до патриарха…
«На бескрайних пространствах дивана…»
На бескрайних пространствах дивана
Вспоминаю: был я заснят
Там, где лысые горы Ливана
Галилейскую зелень теснят.
И от смертной тоски и веселья
Со скалы скорее – кувырк.
Купол неба, арена ущелья,
Я, веревка, публика. Цирк.
И в разомкнутой временем раме
Нарисована ниточка птиц —
Не граница между мирами,
Отрицанье всяких границ.
В зависании этого сорта
Только ты зависим и свят,
У тебя метафора стерта
До того, что ноги кровят;
До того, что в полуполете
Опустившись, ты до штанов
Утопаешь в черном помете
Пары маленьких горных слонов [1] ;
До того, что помнишь, как обмер
Или ожил – после того,
И да здравствуют Фрэнсис Макомбер
И недолгое счастье его.
Дом престарелых
Здесь потусторонние лица,
И нам не понять их «байот» [2] .
Одна иностранная птица
Об этом на кровле поет.
У каждого койка и пайка
В обещанном южном краю.
Начнется сейчас угадайка —
Узнай-ка меж этих свою.
Узнай-ка. Узнаешь? И если
Узнаешь, закусишь губу.
Кого подкатили на кресле?
Что? – бабушку или судьбу?
Что это – на автопилоте
Живущий всему вопреки
Комочек забывшейся плоти,
Тире посредине строки?
Что это – обмылок, огарок,
Осадок, обугливший дно?
От черных твоих санитарок
В глазах горячо и темно.
Но я позабуду о черных,
Скользящих, как тень по листу,
Увидев в глазах твоих – зернах,
Проросших насквозь слепоту,
Еще в полумраке, тумане,
В болтанке воды и земли
Единственное пониманье,
К которому оба пришли.
«В мой некошерный дом пришел раввин…»
В мой некошерный дом пришел раввин.
Он прибивал мезузу [3] , ел орехи,
Как будто этим искупал один
Все наши преступленья и огрехи.
Он водку пил; смеялся так светло;
Он так по-детски не скрывал оскала;
Из глаз его, прозрачных, как стекло,
Такою безмятежностью плескало;
Он так неколебимо знал закон,
Он так был чист, как только что из колбы,
И если б я таким же был, как он,
То на версту к стихам не подошел бы.
«Я ходил по Каирскому базару…»
Я ходил по Каирскому базару,
Приценивался к ненужным вещам,
Говорил с арабами по-английски,
А они мне по-русски отвечали.
Общего в этих языках было только,
Что мы их ломали немилосердно.
Есть у меня ученик – Ломаев Вова,
Я прозвал его Существовочкой за успехи.
Он ходил по тому же базару,
Покупал каркаде и сласти,
Барабаны, папирусы, фески,
А я за ним наблюдал на расстоянье.
Он пришел к автобусу последним,
Изо рта торчала шоколадка.
И тогда я взмолился не на шутку.
Но кому? Амону или Хапи?
Может быть, единственному богу,
Что отсюда мой народ вывел?
Иногда, купаясь в Красном море,
Думал я: а что, когда решит он
Вывести меня из Египта?
Расступится Красное море
(Видимо, это произойдет внезапно),
Упаду я на дно морское,
Ударюсь, потеряю сознанье,
Пролежу, пока воды не сойдутся.
Так вот, говорю я, тогда взмолился:
«Господи, не дай мне быть туристом,
Торгующимся на базарах,
Покупающим ненужные вещи,
Проверяющим по рекламному проспекту,
Все ли мне досталось в этой жизни».
«Утрачивая облик, имя…»
Утрачивая облик, имя,
Лишаясь центра и ядра,
Я шел по лестнице. Я в Риме
Взбирался на собор Петра.
Я чувствовал себя довеском,
С любой ступенькой наравне,
Карабкаясь наверх по фрескам —
По их обратной стороне.
Я шел по куполу. Над ним бы
Кружить не мне и никому,
Но ниже остаются нимбы,
Иные силы на кону.
Дав отдых нывшему колену,
Облокотившись тяжело
На убегающую стену,
Я натолкнулся на крыло.
Когда же из предвечной пыли
Уже на самый верх проник,
Вопрос мне задал: «Это вы ли?» —
Летящий рядом ученик.
На высоте, которой нету,
Уже дыша, еще гния,
Я зван и избран был к ответу:
«Галлюцинация, не я».
Зато одышка, боль в колене,
Крыло, застрявшее в стене, —
Поверх пустых определений
И впрямь принадлежали мне.
Зяблик
Сняв очки, иду по парку.
Я спокоен. Не бурлю.
Узнаю ворон по карку,
Зяблика – по тюрлюрлю.
Зяблик, что меня морочишь,
Распаляясь добела?
То ли дождик ты пророчишь,
То ль подруга не дала?
Что ж ты так однообразно
Запускаешь пузыри?
Если празднуешь, то празднуй,
Если хочешь смерти – мри.
Жизнь расписана под Палех —
Красный лак и черный лак.
Что же ты во всех деталях
Так совпал со мной, дурак?
«О, вечерних кузнечиков вереск…»
О, вечерних кузнечиков вереск,
Тонкий треск мирозданья по шву,
Приспособь меня к маленькой вере: ск —
Олько надо – столько живу.
И сегодня до самого верха т —
Еатрально заштопали твердь
Одуванчика поздняя перхоть
И случайного яблока смерть.
Залюбуюсь его безобразьем
И потрогаю ногтем гнильцу,
И представлю, как падало наземь
И лицом прилегало к лицу.
И напрасно, особою жилкой
Утверждая, что жребий тяжел,
Со своею газонокосилкой
Здесь газонокосильщик прошел.
Механическим ревом, наскоком
Он едва ль переплюнет когда
Насекомого в шуме высоком
И молчащих цветка и плода.
«Или память вовсе отказала…»
Или память вовсе отказала,
Или просто хуже год от года,
Но однажды, едучи с вокзала,
Вдруг я понял, что не помню кода.
Перекрестье улиц, номер дома, —
Мне еще казалось на вокзале, —
Лифт, этаж, квартира, – все знакомо.
Но теперь и эти ускользали.
Будто все над бездною зависло,
Будто сам я рухну и растаю,
Будто все названия и числа
Улетают, вытянувшись в стаю.
Вышел из метро и пешим ходом
Я на каждом камне, как на мине,
Рвался к дому. Я ошибся с кодом:
Кода в доме не было в помине.
Вход свободен. Я ведь знал, однако
Так ли мною понята свобода
Отличать в природе знак от знака,
Сон от сна во сне и код от кода?
«Я думал о сытном обеде…»
Я думал о сытном обеде,
И это нормально, раз тут
Аз вырос. А буки и веди,
Как буки и вязы, растут.
Я думал о мясе, надоях,
О том, как румян пирожок.
А эти деревья – никто их
Давно не сажал и не жег.
Похрипывал старый кассетник,
Но я на него не роптал.
И Гете, как тайный советник,
Мне на ухо вдруг нашептал:
– Не пылит дорога,
Не дрожат листы.
Сколько же у бога
Вот таких, как ты?
Гнусен, как ехидна,
И цена – пятак.
– Все равно не стыдно,
Даже если так.
И я, не смущенный приплясом
Советника, вышел в эфир,
Где меж овощами и мясом
Текут молоко и кефир,
Где в пику восточным стандартам
С каким-то нездешним азартом —
Как хочешь его постигай —
Над розой изныл попугай,
Где выперло буки и вязы
В надзвездный простор мировой
И мятая роза из вазы
Своей помавает главой.
«В этой квартире часы не идут…»
В этой квартире часы не идут,
Будто поймав на движенье коротком
Липкие стрелки, которые тут
Бегают только по дамским колготкам.
Здесь никогда ничего не вернут,
Здесь бесполезны пророк и оракул.
Даже наткнувшись на пару минут —
Двух обаятельных маленьких дракул,
Жди – не дождешься. Души не трави,
Слушая их демонический гогот;
Дело не в том, что растут на крови,
Просто в часах отразиться не могут.
Думаешь, вот – не бегут, не летят,
Значит, и все каменеет, немеет?
Просто по кругу они не хотят,
А по-другому никто не умеет.
Просто глаголов моих реквизит
Не составляет системы единой.
Может быть, век не идет, а висит
Прямо на стрелках пустой паутиной.
Может, иные глаголы в ходу?
Или же, как неудачник и олух,
Я не найду их? А я их найду.
Мы еще спляшем на этих глаголах.
«Я засыпал и просыпался…»
Я засыпал и просыпался,
Стонал и снова засыпал,
Как будто снегом просыпался,
Квадрат асфальта засыпал.
Во сне над папертью дурдома
Кидались в бой колокола,
И жизнь была как бы ведома,
Как будто вообще была.
Я на вихрастую пружину
Напарывался ребром,
Проглатывал не рюмку джину,
А лишь валосердин и бром.
И снова в воздухе звенящем
Ложился на асфальт мертво:
Чего мы только не обрящем,
Когда не ищем ничего.
Я спал. В соседнем помещенье,
Отчаясь разогнать тоску,
Садилась дочка на колени
К очередному чудаку.
И, им обоим не мешая,
К сомлевшей парочке впритык,
В упор смотрела дочь меньшая
Непроходимый боевик.
Квадрат двора. Дурдом овала.
Переключаемый канал.
Пел попугай. Жена сновала.
Я просыпался и стонал.
Как будто на углу событий
Стоим, и не уйти с угла
В сон, из которого не выйти,
И в жизнь, которая была.
«Слушайте музыку. Будьте на уровне…»
Слушайте музыку. Будьте на уровне
Битой посуды и траченых польт.
Может, споет бессловесная дура вне
Здравого смысла и жизненных польз.
Или навеет про участь двуспальную
Метафизический ветер в башке,
Про подоконник обшарпанный с пальмою,
Дико растущей в домашнем горшке?
Может, и я еще вырасту, выживу
Из пиджака и не влезу в штаны,
Прошкандыбаю по гизлому жижеву,
Как говорила подруга жены.
Или язык, оттого что глаголю им,
Свяжет распавшееся на куски?
Благо, не бездна у ног, а линолеум,
Вяло сползающий с ветхой доски.
«Какой-то пригород, обочина…»
Какой-то пригород, обочина,
Квадрат пространства, гаражи;
Вот, Муза, ты всему обучена,
Так действуй, выход подскажи,
Чтоб был поэкзистенциальнее,
Просчитывался с трудом;
Семерка пик, дорога дальняя,
Бубновый туз, казенный дом.
Не хочешь? Ладно, не подсказывай.
Аптеки нет, но бензобак
И на углу конторы газовой
Случайный выводок собак.
Куда маршрутка нас ни вывези,
В какую даль ни завези,
Везде собаки не на привязи,
Ни с чем серьезным не в связи.
Всего, на что ни глянешь, – поровну —
Деревьев, снега, гаражей, —
И все разрознено и порвано,
И ветер резче и свежей.
Сейчас задует, разбодается;
Прощайте, меры и веса, —
И все на свете распадается
На обороте колеса.
«Наконец-то настала свобода…»
Наконец-то настала свобода,
Равновесье желаний и сил:
Я деревьям прочел Гесиода —
Мне скворец уголок уступил.
Я не стал монументом, итогом,
Не свихнулся, не сел на иглу,
И за то за воздушным порогом
Проживаю у птицы в углу.
До такого отказа распахнут
Угловой полуптичий уют,
Что скворцы расцветают и пахнут,
И деревья под ветром поют.
И неважно, какие там грузы
Опускаются на рамена,
Потому что прекрасные узы
Существуют на все времена.
И осенние листья, которым
Вышли сроки, и все нипочем,
Поднимают шуршание хором,
Опадая под первым лучом.
«О, как себя мы мучим и неволим!..»
О, как себя мы мучим и неволим!
Я, где бы ни присел и ни прилег,
Держу под неслабеющим контролем
Часы, ключи, очки и кошелек.
Я скован ограниченным набором
Возможностей утратить. Я прожду
Всю жизнь, изнемогая под напором,
Таинственную чувствуя вражду.
О, я не смог бы пережить утрату
И этой грани не пересеку.
Я только жалкий сторож. Но не брату —
Часам, ключам, очкам и кошельку.
Сам по себе не ценный и не важный,
Случайный сдвиг в фигуре речевой,
Я только металлический, бумажный,
Очковый, часовой и ключевой,
Всечасно погребаемый под догмой,
Везде подстерегаемый врагом…
О, как меня изматывает долг мой,
Когда живешь и дышишь о другом!
«Все жестче и безоговорочней…»
Все жестче и безоговорочней
Диктует гнилое нутро
Подкладывать пальцы под поручни,
Не жить по законам метро;
Однажды с глазами навыкате
В вагоне по-волчьи завыть,
Потом ненароком на выходе
Портфель с динамитом забыть.
А, собственно, что в ней законного —
В подземной железной петле,
Где пеший сошел бы за конного,
Когда бы сидел на метле;
Где кажется небо овчинкою,
Где поезд, туннели сверля,
Позвякивает чертовщинкою,
Проталкиваемой в сверх-я?
Толкай, истолковывай, вытолки —
Вот бестолочь туч наверху;
И небо не стоило б выделки,
Когда бы не гром по стиху;
Когда бы не то, что мы выразим,
Чтоб перло – таи не таи,
Чтоб город, как женщина с вырезом,
Проветривал храмы свои.
«Люблю окраины, края…»
Люблю окраины, края,
Люблю районы новостроек.
Архитектурная струя
Мощней риторик и героик.
Асфальтовый глубинный бред
Мощней булыжного мощенья.
Бесперспективен беспросвет
В конце проспекта Просвещенья.
Сюда не едет дон Альвар,
Готовя месть вдове коварной,
Но Поэтический бульвар
Процвел поэзией бульварной.
Какой глагол ни изреки —
Мощнее сутолока, склока
В предместьях жизни. Озерки
Шумят и вытесняют Блока.
Я тоже мог бы вместе с ним —
Хотя бы на правах вассала.
Но я, увы, невытесним,
Наоборот, меня всосало.
И тут-то, всосан в глубину,
Пойму, чего мне не хватало,
Когда как следует хлебну
На страшной глубине квартала.
Омонимия
Однажды, пару лет тому, в подземке
Я видел двух ментов: на их телах
Сорокалетних как-то мешковато
Сидела форма, к выпуклым задам
Уныло приторочены, дубинки
И кобуры подрагивали вяло,
И в сумрачных чертах помятых лиц
Все говорило гражданам о долге.
Один из них (не граждан, а ментов)
Был женщина, и на нее мужчина
Смотрел с такой невыносимой страстью
И нежностью, ненужной даже ей,
Что я глазам сначала не поверил.
Я пригляделся. Нет сомнений. Нынче
Была их ночь и, видимо, впервые,
Иначе как возможен этот взгляд
На рыхлую прокуренную бабу
С мясистой рожей?
Господи, так вот
Какими тропами любовь крадется!
Какими тропами любовь крадется? —
Вопрос поэта милиционеру.
Кому еще вопросы задавать?
«Как чернильную грязь ни выбрасывай…»
Как чернильную грязь ни выбрасывай —
Все равно ты никак не кальмар.
Трехволновые ритмы Некрасова
Освящают мещанский кошмар.
Слюдяная ундина из омута,
Мутноватой волною – лови.
Жаль, привычка к несчастью какому-то
У меня, точно вирус, в крови.
Я забуду свои и твои дела,
Я займусь сочинением фраз
Вроде: лучше бы ты ненавидела,
Чем жалеешь вот так через раз.
Вроде: что ж, по куску откарябывай,
Буду нянчить, работать и клясть,
Вермишелью, по мелочи, крабовой
Пропуская нелепую страсть.
Вроде: леску срывая с удилища, —
Кто добыча и где западня? —
Доведи мою жизнь до судилища,
То есть просто до судного дня.
В сердце булькает чуть не котельная,
Оттого я и тепел, и зол,
И душа, как креветка коктейльная,
Погружается в липкий рассол.
«Ураганы, трусы и поветрия…»
Ураганы, трусы и поветрия —
Вся земля как воспаленный шрам.
Знаемая нами геометрия
Точно расползается по швам.
Отчего-то все обыкновеннее
Сбой дыханья, ломота в кости.
Господи! Останови мгновение.
Не для кайфа – дух перевести.
Ты ведь тоже занят переводами
Духа телом и наоборот.
Отчего ж лицо твое над водами
Дарит лишь проекции бород?
Как на полуфразе, на периоде
Вызнать плод, облепленный ботвой?
Сколько знаков – но попробуй выуди
Тот, который непременно твой.
Из каких таких поймаю сфер твою
Реплику и что отдам в залог?
Чем еще безудержно пожертвую,
Продлевая мнимый диалог?
Каждый раз, превозмогая радиус,
За чертой окружности вися,
То ли паникую, то ли радуюсь,
Оттого что жизнь еще не вся.
«Прозяб. Не от холода – дольней лозой…»
Прозяб. Не от холода – дольней лозой,
Травой над заброшенной штольней,
Почти не заметил, как стал кайнозой
Назойливей, самодовольней.
Очнулся, не зная, какое число,
Подумалось: все прозеваю;
А жизни-то, жизни вокруг наросло,
Покуда я тут прозябаю.
Над сочной клетчаткой склонился белок
В сплошных флуктуациях плоти,
И стал я за этим следить, как стрелок
За птицей следит на болоте.
Когда на наречье поем травяном,
Когда соревнуемся с тенью,
То даже в давленье своем кровяном
Мы дань отдаем тяготенью.
И кровь по зеленым прожилкам травы
Взбегает, как голос по гамме,
И тянется к солнцу цветок головы,
И уши растут лопухами.
И пусть я совсем ничего не скажу,
Зато не шатаюсь по «Шаттлу»
И думаю то, что понятно ежу
И, может быть, белке и дятлу.
Ну, был бы я богом, и было нельзя б
Забыться, как в праздник – еврею.
А так я трава. Я лоза. Я прозяб
И никну, и жухну, и зрею.
Анаприлин
Комична смерть анаприлина
Под деревянным языком,
Как будто оба набрели на
Дверь с опечатанным замком.
Пока один, деревенея,
Пересмаковывает стресс,
Другой повел себя умнее:
Порассосался и исчез.
А там, за дверью, непочатый,
Ты знаешь, край, и там огни.
И как ее ни опечатай,
Каким амбарным ни замкни,
Но если на больничной койке
Я как бы заново рожден,
То вовсе не к трактирной стойке,
А к этой двери пригвожден.
И как ни прибегай к науке,
Какой анаприлин ни жри,
Я слышу запахи и звуки
И вижу отблески зари.
Все кажется, что там, за дверью,
Среди неведомых долин,
Помогут моему неверью
Наука и анаприлин.
«Жизнь длинную, точно французский батон…»
Что сказать мне о жизни?
И. Б.
Жизнь длинную, точно французский батон,
Понюхав, лизнув и потрогав,
Додумался, что меня мучит – вот он,
Соблазн подведенья итогов.
Ведь можно сказать: поглядите, каков, —
На медные деньги научен,
А после десятка веселых глотков
Художествен, даже научен.
Я прожил в семье, я детей пропитал,
И что б там судьба ни таила,
Я всех Александров уже прочитал —
От Пушкина до Михаила.
Сказать ли: все было? Боюсь, подведу
Черту, распрощаюсь со всеми,
Себя под такой монастырь подведу —
Под вечно прошедшее время.
Сказать ли Харону: «Давай погребем.
Желательно выгрести к раю.
Ведь мы не эпоху со мной погребем,
А джинсы с бахромкой по краю.
Ведь я никогда не играл в криминал,
Но все мы немного приматы.
Я слово корежил и мысль приминал,
И ими, как видишь, примятый.
Давай погребем. И на той стороне
Желателен берег пологий,
А если ты что-то имеешь ко мне,
В момент настригу апологий».
Нет, лучше театра прогулка в саду, —
Прощайте, котурны и тога! —
Я просто боюсь, что с ума не сойду,
Что выживу после итога.
Что стану я делать – разумный, живой? —
И то-то мне будет фигово,
Что снегом меня обнесло по кривой
И вьюга целует другого.
Памяти А. Гуревича
Не кукушка пляшет между створок,
Не птенец торчит из скорлупы —
Мы выходи в плаванье за сорок,
Как за Геркулесовы столпы.
Лунная дорога ли, тропа ли
Высветит притихшую ладью —
Здесь мои товарищи пропали,
Вышли за пределы – и адью.
Я позабываю божье имя
И прошу, забывши: «Извини,
Если пропадать, то вместе с ними,
То есть там, где сгинули они».
Мне не нужно боли или крика,
Мне не нужно славы или книг,
Лишь бы, как сказала Вероника,
Встреча на вокзале и пикник.
А не так, чтоб, выйдя на пригорок,
Потеряться взглядом в синеве,
Как кукушка, плача между створок,
С белой скорлупой на голове.
«Мне снилось, что выпали зубы…»
Я видел свое погребенье…
К. Случевский
Мне снилось, что выпали зубы,
Но старец морочит Беттину, —
Я видел их сверху. Внизу бы
Увидел другую картину:
С глазами слезистее кварца,
Наставив, как дула, соски,
Морочит почтенного старца
Беттина у классной доски.
Она его душит мирами
Его же; мол, Запад с Востоком…
А он барабанит по раме,
Покинув диван ненароком.
За уличным блеском фонарным
Он видит аптеку в ночи
И молвит: «Довольно, фон Арним.
Пятерка. Теперь помолчи».
Не то чтоб отказывал мозг,
А точат и точат, глодая,
Диван да аптечный киоск,
Но точно не дева младая.
И мнит, остывая: «А жар-то?» —
Но жизнь барахлит, как чужая,
Последние вспышки азарта
Холодным стеклом отражая.
Не видно трубы заводской,
Ни веток тоски паутинной,
И мир ограничен доской,
Окошком, простенком, Беттиной.
Что дальше? Диван да подушка
Поддержат уставшую крышу, —
И снится, что выпали пушка —
И я ничего не услышу.
Крольчиха
Я пребывал в задумчивости тихой
И с недопитой рюмкою в руке
Пытался заговаривать с крольчихой
На общем для обоих языке
О том, что мы сегодня хоронили
Товарища, но это не беда,
О том, что гроб едва не уронили,
Табличку навинтили не туда;
Священник не тянул на златоуста,
Невнятно мямлил, будто все равно,
Напоминая чем-то «пусто-пусто» —
Костяшку из набора домино.
На теплой кухне мы не пали духом,
Веселье шло за нами по пятам,
И я, крольчиху почесав за ухом,
Все говорил о том, что было там, —
Там было сыро, холодно, осклизло,
Но в норме, как на кладбище.
А здесь
Крольчиха кость куриную разгрызла —
И дрогнул мир, и накренился весь.
И так всегда: воспринимая знаки,
Мы осознать иное норовим;
Так Ходасевич доверял макаке,
Так Пушкина морочил серафим;
И то-то озаренье подрезает,
Как киллер при кинжале и плаще,
Когда крольчиха с костью потрясает,
А смерть не замечаешь вообще.
В постели с Прокрустом. Поэма
Глава 1
Представьте: река и долина. И вот
В долине, травою богатой,
Пасется солидный, порядочный скот,
Откормленный, крупный, рогатый.
Роскошная зелень. Съедая пучок,
Блаженствует сказочный белый бычок,
Готовит копыта к галопу
И ищет глазами Европу.
Жена волоокая делает «хруп»,
И сочно лоснится породистый круп,
Но больше мне нравишься ты, о
Страдальчески нежная Ио.
На том же лугу, бородат и суров,
В немейской дубленке детина
Ногтем соскребает с несчастных коров
Тавро «Гериона и сына».
Быки, на которых работал Язон,
Беззлобно теперь удобряют газон,
В ноздрях же чудовища с Крита
Улыбка веселая скрыта.
Вот кто-то изящно прилег у ключа
Под сению мирта и лавра,
И мы узнаем этот очерк плеча
И детский оскал Минотавра.
Пускай Аполлон призывает к суду,
И дует нахальный мальчишка в дуду,
Никто из богов не спасется,
А скот и поныне пасется.
Чем круче ступени культурных витков,
Тем больше опасность распада,
Паси свое стадо во веки веков,
Простушка пастушка Эллада.
Глава 2
Мой талант, зарытый в глину,
Вырой, Муза, в тишине.
Песню Греции козлину
Спой, красавица, при мне.
Нет трагедий. Повестушка
На поверхности стола.
Расскажи мне, как пастушка
В этой Греции жила
То с сатиром, то с Парисом,
То с Иваном, то с Петром,
И под каждым кипарисом
Был готовый траходром.
Что Медея или Федра,
Что мучения и страсть!
Отдавала тело щедро,
Было б только, где упасть.
Отвращения до дрожи
Не питая ни к кому,
Как-то плюхнулась на ложе
К негодяю одному.
И не свято, да не пусто,
Это ложе над ручьем
Раскладушкою Прокруста
Для удобства наречем.
Глава 3
То ли ухмыляюсь, то ли морщусь,
Злыми ощущеньями разъят.
Две оливы с видом заговорщиц
Ветками качают и грозят.
Сквозь эфир колеблются Плеяды,
Темноте звезды не перемочь.
Тело серебристое наяды
Из воды выплескивает ночь.
Вот она приблизилась к каштану,
Выжимая светлую копну.
Я ее когда-нибудь достану,
На лежанке каменной распну.
Преступленья дерзостные множа,
Людям я навряд ли угодил,
Ибо с окровавленного ложа
Ни один живым не уходил.
Ибо дело милое злодею —
Запустить рычаг и шестерни,
Ибо в целой Греции владею
Эталоном я, а не они.
Это ложе – черная каверна,
Каверзный источник укоризн,
Идеал означивший неверно
Хриплый паразит анахронизм.
Но пока линяем и стареем,
Совершая полный оборот,
Где-то между ямбом и хореем
Целая вселенная живет.
Держат в подчинении и страхе
Университетских сухарей
Злобный ямб, бронхитный амфибрахий,
Похоронный плакальщик хорей.
Чувство меры исключает хаос,
Отсекая лишние финты.
Что ж, в тебе нисколько не нуждаясь,
Не хочу подкручивать винты?
То ли мысль пробрезжила иная,
То ли ночь забалтывает гнев,
Маслянистый сок перегоняя
В сердцевинном сумраке дерев.
Глава 4
Никнут цветы, зефир с Бореем играют в прятки,
Губы деметры принимают форму следов героя.
Ручей, изменяя русло, следует его шагу,
Уловляет черты полубога,
Хочет носить их, как знамя.
Здравствуй, Тезей!
Безмятежна юность твоя, повелитель.
Чаша с ядом,
Похищенная Ариадна,
Черный парус,
Гнев богов,
Плененье в Аиде,
Интриги безумной Федры
И, наконец, изгнанье
Еще тебя не коснулись.
Еще за плечами
Походный гиматий,
Дубовая роща,
Три-четыре убийства.
Шествуй, Тезей,
Посыпая аттической солью
Раны поверженных недругов,
Воздвигая трофеи, как верстовые столбы,
Переваривая на ходу куски кроммионской свинины.
Чувствуй, Тезей,
В чаще таится противник,
Злобно темнеют зрачки в желтых ободьях белков.
Глава 5
Не запад сошелся с востоком,
Не в пропасть обрушилась высь,
Когда в поединке жестоком
Свобода и мера сошлись.
Трещат и ломаются сучья,
Когда нагнетают разгар
Прокрустова хватка паучья
И тяжкий тезеев удар.
А наша пастушка зашла за
Стоявшие рядом дубы
И в оба распахнутых глаза
Следила за ходом борьбы.
И так рассуждала: «Однако
Все в толк не берется никак,
К чему эта глупая драка
Отчаянных двух забияк,
И взглядов озлобленных вылуп,
И в ярости сломанный сук?
Отлично меж ними делила б
Я тело свое и досуг».
А бой продолжался. Вдомек ли
Ей было, зачем шалуны
В кровавом побоище мокли
Под зябкою плешью луны?
И, этим разогнаны танцем,
К утру расступились кусты.
Окрысился месяц. Багрянцем
Взметнулись у Эос персты.
Враги, не дождавшись удачи,
Спустились умыться к ручью,
И первую партию в матче
Они завершили вничью.
Глава 6
Открывали бочонок сардинок,
Воздавали говядине честь,
Продолжали лихой поединок,
Но уже от глагола «поесть».
Наполняли нектаром кратеры,
Дабы жаждой себя не терзать,
И, шурша языками, пантеры
Приходили их раны лизать.
И уже доедалась буханка,
И стоял полупьяный галдеж,
И уже не пастушка – вакханка
Вместо тирса хваталась за нож.
На щеках проступившая алость
Отражалась в ноже, как софит,
И она, как дитя, удивлялась,
Отчего он плющом не увит.
День расплавился в вечер нетрезвый
И туманом осел в головах.
Применение бронзовых лезвий
Заменил договор на словах,
Мол, теперь уже драться негоже,
Но и жить невозможно двоим,
Так пускай же прокрустово ложе
Их судом рассуждает своим.
Да вершится желаемый суд от
Дел закатных до утренних дел,
Да бесстрастно измерены будут
Роковые параметры тел.
И они, распростившись с весельем,
Распластали на ложе тела,
А пастушка, ведомая хмелем,
В аккурат между ними легла.
Глава 7
Всю ночь был сумасшедший звездопад,
Рычали звери, проносились совы,
И просверки небесных эскапад
Казались то белесы, то пунцовы.
Во времени, как чернота в дыре,
Цвел лабиринт на полную катушку,
А полубог на каменном одре
Геройски обрабатывал пастушку.
Кишела жизнь во всей своей красе,
Природа нарастала, как короста.
И рос Прокруст, испытывая все
Мучения избыточного роста.
Он вырастал из всех размеров, он
Рос так, как это делается в детстве,
И, упираясь в прежний эталон,
Дробил свой мир привычных соответствий.
…Когда дуэт обнявшихся во сне
Являл собой приятную картинку,
Уже была и кровь на простыне,
И голова, впечатанная в спинку.
1993
Примечания
1
«Горные слоны» – имеются в виду даманы
2
Байот – на иврите «проблемы».
3
Мезуза – молитва, записанная на пергаменте и прикрепленная в футляре к дверному косяку.

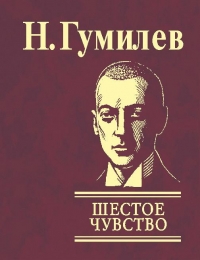

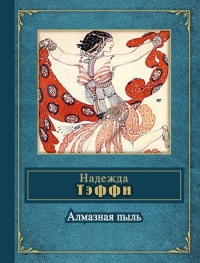
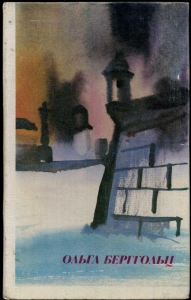

Комментарии к книге «Антропный принцип», Вадим Евгеньевич Пугач
Всего 0 комментариев