Алан Джасанов Мозг: прошлое и будущее. Что делает нас теми, кто мы есть
Алан Джасанов выступил против «мистики мозга», которая сводит нашу жизнь и общество к работе человеческого мозга.
Книжное обозрение Лос-АнджелесаУбрав мозг с пьедестала, Джасанов предлагает исчерпывающий, понятный и порой игривый (например, почему люди сейчас изучают мозг вместо того, чтобы его есть?) взгляд на мозг.
Library JournalНейробиолог Алан Джасанов разоблачает популярные теории о мозге и берет читателя в увлекательное путешествие по настоящей нейробиологии от мозга к телу, социальному и физическому миру.
Джордж Лакофф, соавтор книги «The Neural Mind»Алан Джасанов заставляет задуматься и предлагает нам новую концепцию того, кем мы являемся на самом деле.
Роберт Уитакер, автор «Anatomy of an Epidemic»Слишком многие эксперты в настоящее время чрезмерно упрощают психические заболевания, сводя их к простым описаниям физиологии мозга. Алан Джасанов вносит необходимую долю человечности в наши представления о психических заболеваниях и мозге.
Салли Сател, доктор медицинских наук, преподаватель психиатрии Йельского университета* * *
Любе и Нине, которые делают меня тем, кто я есть.
Введение
Почему вы – это вы?
Независимо от происхождения и представлений о себе вы, скорее всего, уверены, что ваша личность – это ваш мозг. Говорят, в окопах атеистов нет, но мало и тех, кто не пригибается под огнем: никто не хочет получить пулю в лоб. Если вы оступитесь и упадете на асфальт, руки инстинктивно защитят голову. Если вы велосипедист, то из всего защитного снаряжения, скорее всего, носите только шлем. Вы понимаете, что в голове спрятано самое важное, и сделаете все, что от вас зависит, чтобы уберечь мозг.
Одержимость мозгом на этом не кончается. Если вы умны и добились больших успехов в жизни, то наверняка хвалите себя за «неплохие мозги». Если вы спортсмен, то гордитесь координацией движений и выносливостью, а это тоже (отчасти) функции мозга. Если у вас есть дети, вас заботит здоровье, развитие и тренировка их мозга. Если у вас внуки, вы, вероятно, огорчаетесь, что мозг у вас стареет, и боитесь последствий атрофии мозга. Если бы вам пришлось поменяться с кем-нибудь частями тела, отдать свой мозг вам, вероятно, захотелось бы в последнюю очередь. Вы отождествляетесь со своим мозгом.
Насколько полно? Может быть, в мозге хранятся все ваши характерные особенности, все самое существенное в вас, и тогда, в сущности, вы и есть ваш мозг? Такую возможность предлагает обдумать один знаменитый философский умственный эксперимент[1]. Вам предлагается вообразить, что какой-то злой гений тайно извлек ваш мозг и поместил его в цистерну с химикалиями, которые поддерживают в нем жизнь. Все нервы, ведущие в мозг, подсоединены к компьютеру, который создает иллюзию нормальной жизни. Конечно, такой сценарий – из области фантастики, однако серьезные ученые с его помощью исследуют вероятность, что ваше восприятие не отражает объективной реальности вне вашего мозга. Каким бы ни был результат, предпосылка мысленного эксперимента состоит в том, что мозг в цистерне не нарушает никаких законов природы, и такую ситуацию в принципе можно себе представить. Если научный прогресс когда-нибудь сделает возможным поддерживать жизнь мозга вне тела, из этого сценария следует, что в нем и вправду будет заключена ваша самость, ваша суть.
Есть люди, для которых мысль, что человека можно свести к его мозгу, становится призывом к действию. Этот призыв услышала и Ким Суоцци[2]. Ей было всего 23 года, она умирала от рака, но не собиралась «уходить безропотно во тьму»: они с женихом решили собрать 80 000 долларов на консервацию ее мозга после смерти. Суоцци считала, что в один прекрасный день наука сможет провести структурный анализ ее замороженного мозга и воскресить ее – либо физически, либо виртуально. До таких высот науке еще очень и очень далеко, но Ким это не испугало. На пороге смерти ее заботил только собственный мозг. Примеру Ким Суоцци последовали многие другие[3]. Похожий эпизод был и у меня, и о нем я еще расскажу на этих страницах.
Сегодня, когда накапливается все больше данных, что мозг – средоточие всего, что мы связываем со своим «я», с духом и душой, не приходится удивляться, что мы очень бурно реагируем на подобные известия. В нашем дивном новом мире – мире нейрофизиологической просвещенности – мозг стал вместилищем тысячелетнего экзистенциального ужаса. Все наши потаенные страхи и надежды в конечном итоге вращаются вокруг этого органа, и именно там мы ищем ответы на вечные вопросы жизни и смерти, греха и добродетели, преступления и наказания. Какую бы ментальную функцию ни взялись исследовать ученые, всегда находится соответствующий паттерн мозговой активности – или на МРТ у людей, или при более инвазивных методах исследования у животных. Мы своими глазами видим, как данные о деятельности мозга все чаще упоминаются в судах, нам приходится отказываться от привычных развлечений, потому что они вредят мозгу, врачи прописывают всевозможные лекарства, влияющие на мозг, при целом ряде поведенческих отклонений – от плохой успеваемости в школе до неумения вести себя в обществе. В общественное сознание все глубже входит изречение великого греческого врача и философа Гиппократа: «Людям следует знать, что именно мозг и ничто другое дает нам радость и восторг, смех и азарт, а также печали, горести, отчаяние и скорбь»[4].
* * *
Итак, все самое главное в нас сводится к мозгу. Жесткое заявление; и цель моей книги – показать, что оно толкает нас в неверном направлении, поскольку отвлекает от подлинной биологии нашего сознания. С моей точки зрения, предположение, будто главное – мозг, коренится в ошибочной идеализации этого органа и преувеличении его роли: этот феномен условимся называть «сакрализацией мозга». Она не дает нам усомниться в вековых представлениях о разнице между телом и разумом, о свободе воли и о природе человеческой индивидуальности. Проявления ее крайне многообразны – от постоянных рассказов о сверхъестественных возможностях мозга и запредельной сложности его структуры в СМИ и художественной литературе до более трезвых и научно обоснованных концепций мозговой деятельности, которые делают излишний упор на функциях, присущих исключительно этому органу, или ограничивают ментальные процессы нервными структурами. Идеализацией мозга грешат и ученые (и я в том числе), и люди, далекие от науки; она вполне совместима с любым мировоззрением – и с материалистическим, и с религиозным.
У сакрализации мозга есть и положительные стороны: благодаря прославлению мозга удалось привлечь интерес общества к неврологическим исследованиям, а это очень важное и достойное дело. С другой стороны, обожествление мозга, как ни парадоксально, не дает разглядеть самое фундаментальное открытие нейрофизиологии: деятельность нашего мозга обусловлена биологически, это банальные физиологические процессы, определяемые всеми законами природы. Если мы мифологизируем мозг, то разводим его с телом и средой, теряем представление о взаимозависимой природе нашего мира. И вот об этом я и хотел бы поговорить.
В первой части книги я опишу сакрализацию мозга в том виде, в каком мы сталкиваемся с ним сегодня. Для этого я расскажу о некоторых сквозных темах в современной нейрофизиологии и о современной картине мозговой деятельности, которая недооценивает органические, имманентные свойства мозга. С моей точки зрения, эти направления делают ставку на различие мозга и остального организма и возвращаются к старому доброму дуализму «тело-разум», доминировавшему в западной философии много сотен лет. Если мы верим в несуществующие барьеры между мозгом и телом, а следовательно, и между мозгом и остальным миром, то преувеличиваем независимость и целеустремленность окружающих и преуменьшаем прочность и значимость уз, связывающих нас друг с другом и с окружающей средой. Обособленный мозг становится заменой идеи нематериальной души – и это вдохновляет единомышленников Ким Суоцци сохранять мозг после смерти в надежде обрести своего рода бессмертие. Сакрализация мозга всячески поддерживает идею различия тела и разума и тем самым способствует шовинистическому отношению к мозгу, разуму и личности – отсюда и эгоцентризм всяческих лидеров и профессионалов, и «мы – они» в политике и войнах.
В части I пять глав посвящены пяти конкретным темам, положившим начало дихотомии тела-разума и тенденции ставить мозг выше остального царства природы. Моя цель – вернуть мозг с небес на землю, а для этого мы с вами рассмотрим разные научные точки зрения на мозговую деятельность. Первая тема – абстракция, склонность представлять себе мозг как абиотическую машину, принципы работы которой совсем не такие, как у остальной живой природы. Лучший пример такого подхода – знакомая аналогия «мозг-компьютер»: мозг видится этаким транзисторным устройством, которое можно совершенствовать и развивать, чтобы в результате пробудился бесплотный дух. Вторая тема – архисложность: идея, что мозг настолько сложен, что его невозможно ни проанализировать, ни понять. За завесой архисложности удобно прятать свое невежество по поводу различных душевных качеств, которыми мы хотели бы обладать, но которые не удается объяснить, например, свободы воли. Третья тема – самозамкнутость, упор на локализацию когнитивных функций в мозге без попыток найти более глубокое объяснение. Эту тему всячески развивают представления об МРТ и других методах исследования мозга, продвигаемые в СМИ, и она дает упрощенческую картину того, как мозг помогает нам думать и действовать. Четвертая тема – обособленность от организма: мозг будто бы руководит телом единолично, а биологические процессы, которые идут вне черепа, на него практически не влияют. Наконец, пятая тема – автономия: мозг сам собой управляет и всегда себя контролирует, хотя и воспринимает свое окружение. Последние две темы подталкивают нас к представлению, что мы отрезаны от безличных движущих сил и внутри, и вне тела, которые тем не менее оказывают мощное воздействие на наши поступки.
В части II я представлю более реалистичную картину нашего мозга и сознания, основанную на биологических данных, и объясню, почему она способна сделать мир лучше. Мы рассмотрим три области, на которые сакрализация мозга сегодня влияет особенно сильно, – это психология, медицина и техника. В психологии сакрализация мозга способствует представлению, будто мозг есть перводвигатель наших мыслей и поступков. Мы стремимся понять механизмы, руководящие поведением человека, и зачастую в первую очередь ищем причины, связанные с мозгом, и упускаем из виду факторы вне головы. А в результате переоцениваем роль отдельного человека и недооцениваем роль контекста в целом ряде культурных явлений – от криминального законодательства до творчества и новаторства. Поскольку мы стремимся к более совершенной картине, выходящей за пределы идеализации, нам следует смириться с тем, что физиологическая среда организма, в который входит и мозг – но не в качестве руководителя, а наравне со всеми остальными органами, – несомненно, и предоставляет каждому из нас место встречи всех сил и факторов, и внутренних, и внешних. Если смотреть на мозг с этой точки зрения, то он видится как сложная передаточная система для самых разных поступающих в нее импульсов, а не центр управления с правом принимать единоличное решение. Если у меня появляется какая-то мысль, ее надо считать продуктом всех импульсов, которые одновременно воздействуют на мою голову, а не моей личной мыслью. Если я краду или убиваю, все, что происходит в моем преступном мозге, – это продукт моей физиологии, среды, биографии и всего общества, в том числе и вас.
В медицине сакрализация мозга приводит к очень грозным последствиям – к стигматизации психических недугов. Если мы поймем, что наш мозг имеет сугубо физическую природу, это избавит нас от традиционной склонности считать душевные болезни моральными недостатками, однако если относиться к психическим расстройствам только как к нарушениям мозговой деятельности, это практически так же пагубно для больных. Общество склонно считать, что лечить «сломавшийся мозг» труднее, чем исправлять моральные уродства, поэтому к людям, у которых якобы «проблемы с мозгом», относятся еще подозрительнее. Приравнивать душевные расстройства к мозговой дисфункции – значит еще и подталкивать больных искать неверные методы лечения, а это приводит к зависимости от медикаментов и снижению интереса к поведенческой терапии, в том числе разговорной. К тому же, если считать психические недуги заболеваниями мозга и больше ничем, можно упустить из виду еще более глубокий вопрос: ведь сами по себе душевные патологии зачастую диагностируются субъективно и определяются культурой. И разобраться во всех этих сложностях не получится, если мы сведем расстройства разума и сознания к расстройствам одного лишь мозга.
Некоторых из нас сакрализация мозга вдохновляет на мечты о научно-технических достижениях будущего. Основаны они на научной фантастике и идее «хакнуть мозг», чтобы повысить интеллект, а может быть, и загрузить мозг на какой-нибудь носитель и сохранить навечно. Но в реальности попытки «хакнуть мозг» далеко не так привлекательны. Инвазивные процедуры проводятся уже давно, но они всегда были чреваты высоким риском травм и помогают лишь в очень тяжелых случаях. Пусть лучше все нейротехнологические инновации, удовлетворяющие потребности общества, останутся за пределами нашей головы, – более того, подобные периферийные высокотехнологичные устройства уже превращают нас в транслюдей, вооруженных всевозможной переносной и нательной электроникой. Мы и побаиваемся нейротехнологии, и надеемся на нее, однако и страхи, и надежды искажены искусственным разграничением между воздействием непосредственно на мозг и косвенно, через периферическую нервную систему. Если мы избавимся от сакрализации мозга, у нас появится больше возможностей улучшить себе жизнь, попутно разрешая всевозможные научные парадоксы и этические дилеммы.
Прежде чем изложить свои доводы, я хочу сказать несколько слов о том, каких целей я не ставил себе в этой книге. Во-первых, она не объясняет, как работает мозг. В отличие от многих других авторов, я задаюсь скорее вопросом, что такое мозг, а не что он делает. В книге описываются и конкретные механизмы мозговой деятельности, но я привожу их в основном как примеры функций, выходящих за рамки стереотипов о работе мозга. Подобно тому как писатели и художники зачастую стремятся придать эмоциональную и психологическую глубину плоским фигурам персонажей истории и легенд, я тоже в меру сил хотел бы придать выпуклости и добавить нюансов в сложившийся образ органа, который в популярной литературе зачастую предстает скорее бесстрастной вычислительной машиной, нежели живой сущностью из плоти и крови.
Во-вторых, в этой книге не делается попыток опровергнуть очевидный факт, что мозг – важнейший орган, определяющий человеческое поведение. Да, все функции сознания требуют участия мозга, просто не сводятся к нему. Обо многих из них мы сегодня знаем не больше, чем полвека или век назад, и, чтобы продвинуться, нам необходимо найти базовые нейрофизиологические объяснения памяти, восприятия, языка и сознания и других подобных явлений. Я на примерах покажу, как дополнить традиционные точки зрения на мозговую деятельность новыми, расширенными представлениями, но в центре картины всегда будут нейрофизиология и мозг.
В-третьих, и это главное, в этой книге не делается никаких попыток опровергнуть объективные нейрофизиологические данные. Все, о чем я говорю, покажет, что разум и тело взаимосвязаны теснее, чем привыкла считать традиционная западная культура, но соскальзывать в необоснованные рассуждения о высоком в духе нью-эйдж я не собираюсь. Ведь картина мозга, который работает в соответствии с законами биологии и неразрывно связан с телом и средой, составлена на основе строгих научных данных. А сакрализация мозга с ее упором на экстраординарные способности мозга, напротив, многих заставляет сомневаться, что наука способна разгадать загадку человеческой мысли и поведения – и с такими представлениями я, как и большинство нейрофизиологов, категорически не согласен. Сакрализация мозга подрывает авторитет нейрофизиологии в современном обществе, поскольку представляет мозг как самодостаточное вместилище разума или души. А такой подход словно бы вычеркивает всю нервную систему, заставляет думать, будто все, что происходит в мозге, мозгом и ограничено, и пренебрегает всем, что нейрофизиология может сказать о проблемах реального мира. О такой точке зрения я и говорить не стану – и надеюсь, что вы, прочитав эту книгу, со мной согласитесь.
Часть I Сакрализация мозга
Глава первая Мозги как пища
Первый мозг, оказавшийся в моем распоряжении, был обжаренный со взбитыми яйцами. Начал он свою жизнь в черепе теленка, а закончил у меня во рту – с картошкой и лимонадом в дешевом кафе в Севилье. Севилья – испанский город, который славится своими тапас, и «tortilla de sesos» – омлет с мозгами – как и другие блюда из мозгов, здесь не в почете. Но во время этой мозгоедческой поездки в Севилью я еле сводил концы с концами, и мне было не до утонченных гастрономических впечатлений. Живо помню, как рыскал по супермаркетам в поисках чего-нибудь попроще и подешевле, а вожделенные тапас пожирал разве что глазами. Так что тот омлет с мозгами был едва ли не самым роскошным блюдом за все время.
Следующая встреча с «sesos» произошла у меня много лет спустя в лаборатории в Массачусетском технологическом институте во время экспресс-курса по нейроанатомии[5], кульминацией которого и было извлечение и препарирование настоящего бараньего мозга. В этот класс и к этому бараньему мозгу меня привлекли самые разные соображения, которые подвигли многих моих собратьев-людей изучать нейрофизиологию и даже посвятить ей всю жизнь. Мозг – вместилище души, машина разума, думал я; если изучать его, можно разгадать загадки познания, восприятия и мотивации. А главное – понять самих себя.
Обращаться с мозгом – это просто потрясающе во всех смыслах слова. Неужели этот ком серой замазки – и правда центр управления высокоразвитым организмом? Неужели именно здесь и таится все волшебство? Мозг или мозгоподобные структуры появились у животных 500 миллионов лет назад[6], и более 80 % этого времени предки баранов были и нашими предками, и мозги у них были одинаковые[7]. Понятно, что такое продолжительное общее прошлое и общая наследственность привели к тому, что форма, цвет и текстура мозга барана очень похожи на наши, и нетрудно представить себе, что мозг барана обладает сверхъестественными способностями, такими же, как и у нас. Структура этого органа у барана и в самом деле такая же поразительная, как и у человека, – миллиарды клеток, триллионы межклеточных связей и способность обучаться, проявлять гибкость в поведении и координировать свои действия, благодаря которой мы лавируем на жизненном пути, виражи которого затейливее извилин. Мозг барана – свидетель долгих лет бараньих житейских тягот, устремлений, страстей и чудачеств, которые так легко уподобить человеческим. И вот этот мозг, отделенный от остального тела и от всего, что покойный баран знал и чувствовал, – мощнейшее memento mori.
Однако мозг барана, как и наш, – это еще и материал, очень похожий на другие биологические ткани и органы. Консистенция живого мозга похожа на желе и характеризуется модулем упругости – мерой способности вещества колыхаться, не теряя общей формы. Модуль упругости человеческого мозга – примерно 0,5–1,0 килопаскаль (kPa)[8], то есть приблизительно как у фруктового желе «Jell-O» (1 kPa)[9], но гораздо меньше, чем у других биологических субстанций, например, мышц и костей. Еще мозг характеризуется плотностью. Как и у многих других биологических материалов, плотность мозга примерно равна плотности воды, так что с учетом размера мозг взрослого человека весит примерно как небольшой кочан капусты. Типичный мозг состоит по весу приблизительно на 80 % из воды, на 10 % из жира и на 10 % из белка, то есть относительно постный по сравнению со многими другими сортами мяса и субпродуктов[10]. В четверти фунта (100 граммах) говяжьего мозга содержится 180 % рекомендованной в США дневной дозы витамина B12, 20 % ниацина (никотиновой кислоты) и витамина С, 16 % – железа и меди, 41 % фосфора и более 1000 % холестерина, что в целом напоминает по составу яичный желток[11]. Так что, может быть, лучше не изучать мозг, а просто есть его, махнув рукой на риск атеросклероза?
* * *
Около двух миллионов лет назад на территории нынешней Кении в землях, где теперь находится юго-восточное побережье озера Виктория, древние гоминиды именно этим и занимались. Само озеро Виктория, крупнейшее в Африке и источник Белого Нила, образовалось меньше полумиллиона лет назад, так что в те времена мать-природа его еще даже не задумала. Тогда там расстилалась бескрайняя прерия, по которой рыскали наши пращуры – охотники-собиратели, питавшиеся местными растениями и мясом доисторических травоядных млекопитающих, с которыми делили территорию. Эти места называются Канджера, и современные археологи обнаружили там в конкретных местах залежи черепов мелких и средних животных, копившиеся несколько тысяч лет[12]. Количество найденных черепов, особенно относительно крупных животных, сильно превосходит соответствующее количество других костей. Это указывает, что головы животных отделяли от туш и собирали в особых местах. Некоторые черепа носят следы человеческих орудий труда – как считают ученые, это свидетельства, что люди разламывали черепную коробку, чтобы съесть ее содержимое. Как видно, мозги составляли заметную долю рациона первых людей.
Почему именно мозги? В масштабе эволюции люди Канджеры начали есть мясо сравнительно недавно: плотоядность у Homo появилась, по археологическим данным, лишь около 2,5 миллиона лет назад, хотя ученые полагают, что она сыграла важную роль в дальнейшем развитии нашего вида[13]. Зато многие другие семейства, с которыми сосуществовали наши предки два миллиона лет назад, были уже опытными плотоядными – они питались мясом миллионы лет[14]. Острые зубы и цепкие когти гигантских плейстоценовых кошек, гигантских гиен и предков диких псов были гораздо лучше приспособлены, чтобы убивать, терзать и пожирать добычу: современные им гоминины были с этой точки зрения оборудованы не в пример хуже. Однако и у первых людей были свои преимущества: они уже ходили на двух ногах, у них был пресловутый противопоставленный большой палец и наследуемая способность делать и применять искусственные орудия. Если доисторический человек натыкался на труп убитого оленя, уже обглоданный до костей тиграми, но еще не протухший, он мог взять камень, с размаху расколоть череп и получить емкость, полную нетронутой пищи. А если он сам убивал какое-нибудь животное, то всегда мог отделить голову и принести своему клану, даже если дотащить остальную тушу у него не было сил. Таким образом гоминины доказали, что способны найти свою экологическую нишу, недоступную четвероногим охотникам. Конечно, другие плотоядные отчаянно конкурировали с людьми за остальное мясо, но мозги, вероятно, всегда доставались людям[15].
На геологической шкале времени момент, когда ранние гоминины начали есть мозги животных, и момент, когда у них самих появился массивный мощный мозг, свойственный нашему виду, практически совпадают, но все же это геологическая шкала, так что перед нами, возможно, лишь совпадение; однако между этими явлениями есть связь. Развитые человеческие цивилизации во всем мире быстро начали разрабатывать свои кулинарные традиции – и в них было предостаточно блюд из мозгов, от простых повседневных до роскошных деликатесов. Знаменитый шеф-повар Марио Батали учит нас готовить равиоли с телячьими мозгами – этому рецепту он научился у своей бабушки, и на приготовление уходит примерно час[16]. Традиционные разновидности густой мексиканской похлебки posole из мяса и кукурузы требуют несколько больше усилий: цельную свиную голову варят примерно шесть часов, пока все мясо не отделится от костей[17]. Некошерно, но как вкусно! А самые сложные и трудоемкие блюда из мозгов готовят в мусульманском мире на «пир жертвоприношения» курбан-байрам в честь пророка Ибрагима, который был готов принести своего сына Исмаила в жертву Аллаху[18]. Эти рецепты: мозги-масала, мозги, маринованные в лимонном соусе, тушеная голова ягненка и так далее – позволяют переработать огромное количество забиваемого на празднике скота и свидетельствуют, что в исламской культуре не принято, чтобы пропадала хорошая пища. И, разумеется, невозможно забыть кульминацию пира в Гималаях на пороге Храма Судьбы из «Индианы Джонса», когда гости весело уплетали ложками замороженные мозги несчастных обезьянок прямо из голов! Конечно, это просто легенда и на Индийском субконтиненте обезьяньи мозги не едят, однако несколько восточнее, в Китае, их и вправду подают, пусть и редко: китайская кухня славится широтой взглядов[19].
* * *
Однако даже видавший виды культуролог-релятивист согласится, что употребление мозга в пищу – это все-таки варварство. «Это будто есть собственный ум!» – сказала мне моя дочурка за обеденным столом и брезгливо скривилась. А есть мозги обезьян – точно варварство, ведь обезьяны так похожи на нас, а поедание человеческих мозгов – и вовсе нечто настолько из ряда вон выходящее, что известен по меньшей мере один случай, когда за это воспоследовала настоящая кара Господня. Несчастными жертвами возмездия свыше стало племя форе из Новой Гвинеи, открытое колонистами лишь в 30-е годы прошлого века и стремительно вымирающее от эпидемии болезни куру, которую журналисты прозвали «смеющаяся смерть». В наши дни считается, что куру передается при прямом контакте с мозгом умерших от куру больных и сродни коровьему бешенству[20]. Форе болели куру, поскольку практиковали эндоканнибализм – поедали соплеменников, что и обнаружил врач Карлтон Гайдузек в ходе эпидемиологических исследований, за которые впоследствии получил Нобелевскую премию. «Страшно смотреть, как целые компании упитанных, здоровых молодых людей отплясывают с непроизвольными судорожными подергиваниями, которые гораздо больше напоминают истерические, чем органические, – писал Гайдузек. – Но смотреть, как болезнь неумолимо прогрессирует и приводит к неврологической дегенерации… и смерти – еще страшнее, от этого нельзя отмахиваться»[21].
Племя форе на удивление легкомысленно относилось к каннибализму в своих рядах. Тела родственников, умерших естественной смертью, расчленяли во дворе и съедали все, кроме желчного пузыря, – его считали слишком горьким. Антрополог Ширли Линденбаум пишет, что мозги извлекали из расколотых черепов, а затем «измельчали в кашицу, варили на пару́ в стеблях бамбука» и ели[22]. Каннибализм у форе – не ритуал, а просто еда. Труп человека считался источником белка и альтернативой свинине в обществе, где мяса никогда не хватало. Лакомиться мясом мертвецов (а также лягушек и насекомых) предоставляли женщинам и детям, а свинина и свиные субпродукты считались пищей привилегированных, поэтому ими награждали взрослых мужчин. Мозг мертвого мужчины ели его сестра, невестка, тети и дяди с материнской стороны, а мозг мертвой женщины – ее золовка или невестка. Никакого высшего смысла этот обычай не имел, зато он идеально соответствует распространению болезни куру в семье в зависимости от пола – и так было, пока каннибализм в этом племени не искоренили, что произошло в 70-е.
Против употребления мозгов в пищу есть множество доводов – от этически обусловленного отказа от мяса в целом до технологических трудностей при извлечении мозга и опасности заразиться, но ведь, в сущности, любое занятие трудно и опасно. Невозможно удержаться от мысли, что подлинная причина, по которой в нашей культуре мозги есть не принято, значительно теснее связана с тем потрясением, какое испытываешь, когда берешь в руки мозг барана: мозг для нас священен, и требуется усилие воли, чтобы смотреть на мозги просто как на мясо. Есть чей-то мозг, даже мозг животного, – это почти как есть собственный мозг, а есть собственный мозг, как верно заметила моя дочь, это как есть свой ум, а возможно, и душу.
Некоторые из нас приходят к этому выводу через самоанализ. Еще пифагорейцы, жившие в VI веке до нашей эры, судя по всему, старались не есть мозги и сердца, поскольку верили, что эти органы связаны с душой и реинкарнацией[23]. Но можно ли найти объективные данные, подтверждающие, что современный человек не склонен есть мозги животных? Если рассмотреть статистику потребления субпродуктов в Европе и США, мы убедимся, что с начала XX века оно в целом резко сократилось, однако мозги, судя по всему, впали в особую немилость[24]. Недавнее исследование большой базы кулинарных рецептов показало, что в ней есть 73 блюда из печени, 23 блюда из желудка, 9 блюд из языка, 4 блюда из почек и 2 блюда из мозгов[25]. Если сделать довольно грубое предположение, что количество рецептов отражает частотность ингредиентов в повседневном рационе, очевидно, что к мозгам мы относимся с предубеждением. Отчасти это объясняется «биодоступностью» – говяжий мозг весит примерно полкило, так что язык (кило-полтора) и печень (пять кило) значительно тяжелее, – но все же разумно заключить, что такая тенденция объясняется еще и разницей в популярности субпродуктов. Это подтверждает и исследование пищевых предпочтений на основе выборки английских потребителей, проведенное в 1990 году[26]. Его результаты показали, что субпродукты в целом не очень любят, но все же среди них есть определенная иерархия по предпочтению: чаще всего едят сердце, затем почки, рубец и желудок, язык, поджелудочную железу и лишь в последнюю очередь мозги. Это исследование примечательно тем, что сделано до вспышки коровьего бешенства в середине 90-х, поэтому такие предпочтения едва ли можно обосновать страхом заразиться. Социолог Стивен Меннелл, интерпретируя результаты, предположил, что отвращение к поеданию мозгов лучше всего объясняется склонностью испытуемых «отождествляться» с мозгом[27].
* * *
Есть мозги большинству из нас как-то не хочется, однако в остальном голод и мозг тесно взаимосвязаны, и в буквальном, и в переносном значении этого слова. В самом конкретном смысле мозг необходим каждому из нас, чтобы ощутить голод. Когнитивное восприятие голода обеспечивается группой клеток, живущих в отделе мозга, который называется «гипоталамус». Часть этих клеток вырабатывает гормон «агути-связанный пептид» (AgRP), маленькую белковую молекулу, которая из-за сложной цепи ассоциаций названа в честь очаровательного грызуна, обитающего в Центральной и Южной Америке[28]. Стимуляция выработки этого гормона в мозгу мышей привела к неконтролируемому обжорству и непреодолимому желанию работать за еду. Когда люди голодают, это приводит к менее очевидным последствиям. В 1945 году был проведен знаменитый «Миннесотский голодный эксперимент», в ходе которого исследовались поведение и психология 36 мужчин, соблюдавших полуголодную диету, в результате которой они потеряли 25 % массы тела[29]. «Голод привел к одержимости пищей, – писали об этом эксперименте историки Дэвид Бейкер и Наташа Керамидас. – Испытуемые мечтали о еде, видели ее во сне, фантазировали о ней, читали и говорили о пище, а во время двух трапез, которые были им положены в день, смаковали еду и старались растянуть удовольствие»[30].
Наше общество, лишенное возможности есть мозги, тоже утоляет свой метафорический голод чтением, разговорами и фантазиями. Интерес к связи личностных особенностей человека со строением его мозга с новой силой вспыхнул в викторианскую эпоху с ростом популярности френологии. Основоположник френологии Франц Галль (1758–1828) утверждал, что свою весьма авторитетную в те годы теорию о связи между особенностями формы черепа и умственными способностями придумал еще в начальной школе на основании наблюдений за соучениками[31]. Галль учился медицине в Страсбургском и Венском университетах, а затем обширные связи и работа врачом в венской лечебнице для душевнобольных дали ему возможность наблюдать больных из самых разных слоев общества и сравнивать их внешние черты. Доктор Галль решил собирать мозги своих подопечных и попытался связать нейроанатомические особенности с поведением, которое наблюдал у пациентов при жизни. В результате он сформулировал основные принципы, сводившиеся к тому, что когнитивные способности локализованы в определенных зонах мозга, что размер этих зон пропорционален мощности и силе соответствующих способностей, а форма черепа отражает структуру заключенного в нем мозга. Галль начал говорить о своих гипотезах публично еще в 90-е годы XVIII века, однако в Австрии его учение запретили как безбожный подход к человеческой природе, и в результате Галлю пришлось покинуть страну. Он осел в Париже, но много путешествовал и выступал с лекциями по всей северной Европе, без устали пропагандируя свое знаменитое детище.
В последующие десятилетия френология обрела необычайное влияние. Благодаря стараниям Иоганна Шпурцхайма, деятельного протеже доктора Галля, этим учением увлекся весь англоязычный мир. А Джордж Ком, самый страстный последователь Шпурцхайма, говоривший по-английски, настолько поверил во френологию, что написал международный бестселлер «Конституция человека» (George Combe, «The Constitution of Man»). Книга была опубликована в 1828 году и за 30 лет разошлась миллионными тиражами[32]; она вошла в число самых читаемых книг XIX века, далеко опередив научные трактаты великих современников, даже Чарльза Дарвина. Френологические общества множились во всех крупных городах Европы и Америки. Братья Орсон и Лоренцо Фаулер основали френологический журнал, а также открыли салоны для краниологических осмотров в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии и производили знаменитые размеченные фарфоровые головы, которые и сегодня продаются как модная новинка. Френологические обследования проходили всевозможные выдающиеся личности от Авраама Линкольна до Уолта Уитмена, однако френологические гипотезы и методы все больше становились предметом коммерции, все дальше уходили от научных основ, и в итоге френологию стало принято считать не более чем шарлатанством[33]. В последнее время некоторые теории Галля отчасти подтвердились: в мозге приматов были обнаружены высокоспециализированные области. Однако главная заслуга движения, начало которому положили Галль и Шпурцхайм, в другом: это было первое интеллектуальное течение, которое стремилось объяснить человеческое поведение особенностями материального мозга и при этом было основано на знаниях, почерпнутых из разных областей науки.
Вспышка интереса к мозгу в XIX веке привела и к курьезной моде на коллекционирование мозгов. Нейроанатом Поль Брока собрал настоящую кунсткамеру из 432 образцов и на основании их изучения делал выводы в соответствии с френологической теорией. А специфические повреждения мозга, которые он наблюдал у многих своих больных, при жизни страдавших афазией, привели к открытию зоны Брока – это область лобной доли головного мозга, тесно связанная с речью. В поисках признаков гениальности посмертно извлекали и изучали и мозг некоторых европейских интеллектуальных светил[34]. Среди них был и мозг самого Галля, и мозг Шпурцхайма.
Одним из самых тяжелых оказался мозг лорда Байрона – 2,2 кило! Такие большие размеры мозга подтверждали европоцентристские идеи расового и интеллектуального превосходства: ведь эти внушительные цифры постоянно сравнивали с более скромными параметрами мозга африканцев, например, «готтентотской Венеры» Сары Баартман, южноафриканской рабыни и актрисы, тело которой препарировал французский зоолог Жорж Кювье. Мозг самого Кювье весил 1,8 кг, а мозг Брока – 1,5 кг.
Один особенно примечательный случай произошел в 1855 году, когда великий математик Карл Гаусс завещал свой мозг близкому другу – анатому и врачу из Геттингена Рудольфу Вагнеру[35]. Однако получить мозг Вагнер мог лишь при условии, что сам его извлечет. Можно себе представить, как это неприятно и неловко – проводить вскрытие близкого друга, особенно вскрывать череп и извлекать собственно серое вещество! Вагнер пригласил на вскрытие нескольких помощников. Был среди них и выдающийся врач Конрад Фухс, которого тоже впоследствии вскрывал Вагнер. Судьба сыграла с ними злую шутку: мозг Гаусса и мозг Фухса случайно перепутали, и ошибка обнаружилась лишь через 150 лет[36]. Еще до недоразумения мозг Гаусса взвесили, и оказалось, что он очень легкий – всего 1,3 кг, чуть выше среднего для взрослых мужчин, что, конечно, совсем не объясняло выдающихся умственных способностей «короля математиков». В попытке объяснить, почему Гаусс был гением, Вагнер указал на особенности борозд его мозга, которые в то время особенно интересовали нейроанатомов. Вагнер отметил, что впервые видит такие необычайно глубокие и извитые борозды[37]. Однако теперь мы знаем, что эти параметры связаны с общим интеллектом разве что косвенно[38].
Коллекции мозгов и сегодня активно поддерживаются во многих медицинских учреждениях по всему миру. В наши дни они играют важнейшую роль как хранилища образцов тканей, облегчающие анализ неврологических болезней, которыми страдали некоторые доноры. Самая большая в мире коллекция мозгов находится у меня буквально по соседству – в городе Белмонт, штат Массачусетс[39]. Гарвардский мозговой банк при Больнице имени Маклина хранит более 7000 человеческих мозгов в комнатах, уставленных холодильниками, витринами и пирамидами пластиковых контейнеров. Ученые и врачи выписывают оттуда пробы для гистологических и генетических исследований и получают их в виде двумерных вертикальных срезов (коронарных срезов) или парафиновых блоков с образцами иссеченных тканей. Вербовать доноров для пополнения запасов нелегко, поэтому работа подобных банков, естественно, зависит от того, насколько общество ценит мозг и нейрофизиологию.
За 200 лет, прошедших со времен Галля, интерес к мозгу – и общественный, и профессиональный – очень вырос. Джордж Буш-старший объявил 90-е годы прошлого века «декадой мозга», целью которой было «рассказать широкой общественности о пользе исследований мозга»[40]. Вскоре после завершения декады, в 2004 году, Национальные институты здоровья США (крупнейший в мире спонсор медицинских исследований) обнародовали свой «План развития нейрофизиологических исследований» («Blueprint for Neuroscience Research»)[41] в попытке подхлестнуть прогресс в нейробиологии при помощи целого ряда конкретных целей и «масштабных задач» для ученых. В 2013 году и правительство США, и Европейский союз объявили о планах объединить усилия по изучению мозга и пропаганде нейрофизиологии[42]. Все более активное участие общества и государства в развитии нейрофизиологии отражается и в статистике участия в масштабной конференции Нейрофизиологического общества: в 70-е рекордом было около 6 тысяч человек, в 80-е – 14 тысяч, в 90-е – 26 тысяч, в 2000 году – 35 тысяч[43]. То есть «население» нейрофизиологической конференции больше, чем у большинства американских городков!
Стремительно уходит вверх и график популярности литературы о мозге. Количество бумажных книг на сайте «Amazon» по ключевому слову «brain» («мозг») каждые 10 лет начиная с 70-х возрастало примерно вдвое – этот экспоненциальный рост напоминает знаменитый закон Мура, согласно которому мощность компьютерных процессоров удваивается через равные промежутки времени[44]. В 2014 году на сайте «Amazon» было 5070 «книг про мозг», из них 164 впервые вышли в свет в 70-е, 470 – в 80-е, 1676 – в нулевые и более полутора тысяч – в первую половину 2010-х, а это подтверждает, что тенденция к удвоению сохраняется и в наше десятилетие[45]. За то же время постоянно росло и количество каталожных единиц с ключевыми словами «мозг» и «нейрон» в Американской национальной медицинской библиотеке – полном собрании публикаций по наукам о живой природе – с прибавки в 13 000 в год в 1970 году до более 60 000 год после 2010 года[46].
Такие же тенденции наблюдаются и в кампусах старшекурсников колледжей и университетов по всей Америке. В большинстве учебных заведений самая близкая к нейрофизиологии специализация – это психология, общая дисциплина, в которую входят и биология, и когнитивные исследования, и изучение поведения. Считается, что психология – вторая по популярности специализация в американских колледжах (она уступает только бизнесу)[47]. Количество студентов, получающих диплом по психологии, возросло за последние десятилетия многократно – в 1970 году их было около 38 000, а в последние годы – свыше 100 000 ежегодно[48]. В детстве я с изумлением узнал, что огромный концертный зал неподалеку от Корнельского университета, где работала моя мама, служил еще и учебной аудиторией для 1600 студентов-первокурсников – им читали там вводный курс по общей психологии[49]. Такие же мега-группы студентов-психологов часто встречаются по всей стране – и для огромного количества людей они открывают двери к изучению внутреннего устройства их сознания и мозга.
Тенденции в образовании и СМИ наглядно показывают нам, как важна тема мозга в нашей жизни. Наш аппетит к литературе и лекциям о мозге – лишь одна из этих тенденций. Тема мозга затрагивает нас куда ближе: почти у всех есть родственники или знакомые, страдающие какими-то заболеваниями мозга, например, болезнью Альцгеймера или Паркинсона. Кроме того, многие из нас не понаслышке знают, как опасны сотрясения мозга и черепно-мозговые травмы и как вредят мозгу наркотики. Общество понемногу узнает об открытиях, которые были сделаны уже давно, но до последнего времени оставались достоянием специалистов. Благодаря этому мы узнали, как именно наш мозг участвует в восприятии и познании, и получили фальсифицируемые гипотезы о том, как работают эти механизмы. Френология давно отошла в прошлое, однако мы знаем, что разные отделы мозга и в самом деле отвечают за разные функции. А еще наш мозг способен меняться, хранить воспоминания, помогать принимать решения – и совершать ошибки. Фундаментальные нейрофизиологические исследования позволили нам распознать даже конкретные факторы на клеточном и молекулярном уровне, которые влияют на мозг, когда он меняется, запоминает, принимает решения и ошибается. Но изменились ли мы сами благодаря новым знаниям о мозге? Нейрофизиология учит нас, что деятельность нашего мозга основана на биологических процессах – почему же это не влияет на наши привычки и мнения? Почему у нас не изменились представления о личной ответственности и самосознании? Почему наше общество не перестало наказывать и вознаграждать людей в целом так же, как 100 лет назад? Почему мы по-прежнему стигматизируем душевнобольных – в отличие, скажем, от больных пневмонией или почечной недостаточностью? Почему мы относимся к препаратам и методам лечения, воздействующим на мозг, иначе, чем ко всему, что воздействует на остальной организм? Кто-то скажет, что наше нейрофизиологическое понимание основных ментальных процессов пока еще примитивно и поэтому не может влиять на проблемы реального мира. Но ведь обществу XIX века вовсе не понадобилось на молекулярном уровне понимать, что такое инфекционные агенты, чтобы отказаться от кровопускания как от лечения всех болезней. И большинству людей с высшим образованием не нужно полное описание всех факторов, влияющих на изменения климата и знание тонкостей макроэкономических теорий и природы межплеменной вражды в Афганистане, чтобы уловить суть и сделать выводы о том, что следует предпринять. Так что если нейрофизиология до сих пор не оказала существенного влияния на наше мировоззрение, что ей помешало?
На этот вопрос можно, в частности, ответить, что несмотря на успехи просвещения в области науки о мозге большинство из нас по-прежнему не желает учитывать эти знания о природе нашего сознания и нашего «я» в повседневной жизни. Мы привычно проводим грань между миром умственного и миром физического – и в разговорах, и при научном анализе. Пусть даже мы понимаем, что когнитивные процессы обусловлены физическими явлениями в мозге и вокруг него, все равно мы, в сущности, возводим стену между этим непреложным фактом и своими осознанными мыслями и поступками. Мозг редко вторгается в нашу повседневность, редко напоминает о своем слегка потустороннем присутствии – ни тебе запоров, ни урчания, ни зуда. Поэтому функционирование человеческого мозга почти всегда представляется чем-то абстрактным, неизмеримым, далеким. Нейрофизиологические открытия – это как новости из далеких стран: они подталкивают к тому, чтобы о чем-то почитать или что-то исследовать, но будто бы прямо нас не касаются. Чтобы нейрофизиология изменила нас, нам нужно наладить личные отношения с мозгом, а для этого – избавиться от излишнего восхищения, заставляющего нас держаться на расстоянии от органа сознания и личности.
Убедиться в том, как восхищение мозгом приводит к нереалистичным представлениям о его роли, легко на примере изображений. Когда изображение мозга появляется в журналах или в видеоматериалах, это всегда какая-то сюрреалистическая фигура, которая парит в пустоте, зачастую светится голубым светом, будто световой меч Люка Скайуокера, и искрится оккультной силой (см. рис. 1). Мне ярче всего запомнился мозг, который я видел в юности, – он жил в цистерне с зеленой слизью и пульсировал светом, а принадлежал злодею Морбиусу из телесериала «Доктор Кто», массовому убийце, одержимому манией величия, с которым по ходу действия приключился несчастный случай[50]. На научных иллюстрациях мозг обычно сияет флуоресцентными цветами или испещрен яркими красными и желтыми точками, отражающими мозговую активность при сканировании. Даже на обложках учебников по неврологии мозги обычно блестят или светятся, а иногда предстают в виде призрачных рентгеновских снимков[51]. От этих изображений веет тайной и мощью, как от древних идолов из золота и слоновой кости. Поневоле вспомнишь Духа Святого в виде сияющей птицы на полотнах Возрождения и нимбы богов и святых на культовых изображениях со всего света.
Рис. 1. Типичное изображение таинственного мозга. (По лицензии Adobe Stock)
Такие изображения зачастую наглядно отражают чувства, которые не так очевидны в осознанных мыслях и словах. Известно, что Пикассо, создавая портреты возлюбленных, искажал их черты тем сильнее, чем больше остывал к ним. «Девушке, наверное, очень обидно видеть на портрете, что с ней скоро расстанутся», – заметил как-то художник[52]. Психолог Карл Юнг усматривал свидетельства бессознательного в самых разных изображениях – от древних религиозных артефактов до галлюцинаций своих пациентов, страдавших шизофренией. И некоторые изображения сияющего мозга сильно напоминают архетипические формы Юнга, «солнечный фаллос» – полурелигиозный символ либидо, который то и дело возникает в культуре на протяжении всей истории человечества[53]. Из-под светящихся полушарий мозговой коры чувсвенно торчит продолговатый мозг, medulla oblongata, мозговой регулятор жизненно важных примитивных функций, в том числе дыхания и сердцебиения. Да, Юнгу такое сходство очень бы понравилось.
Сверхъестественная иконография мозга и отражает, и подкрепляет романтические представления о том, что происходит промеж ушей, – обожествляет и сам мозг, и то, что он делает, и то, что он заставляет делать нас. Сакрализация мозга подталкивает многих из нас к тому, чтобы считать мозг квинтэссенцией человеческого в нас, сводить свои проблемы к его проблемам и изучать его, а не есть. Когда мы обожествляем мозг, происходит то же самое, что и при сакрализации чего угодно: мозг окутывается завесой тайны и волшебства, обретает колдовское обаяние, и тогда будто бы уже и нельзя относиться к мозгу чисто академически. Интересоваться – даже за гранью одержимости – можно чем угодно (кулинарией, коллекционированием марок, игрой в «Dungeons & Dragons»), но все это едва ли обладает неуловимым свойством сакрального. К тому же сакральное редко становится предметом научного изучения. И пусть некоторые самые насущные темы современности – причины рака, свойства новейших материалов, алгоритмы машинного самообучения – и вызывают пристальный интерес ученых и общественности, но все же они лишены той притягательности, которой обладает мозг для многих из нас. А сакрализуются в основном те направления научной мысли, которые затрагивают важнейшие вопросы бытия, – например, происхождение Вселенной или природа сознания.
Сакрализация и загадочность вдохновляют на изучение и исследования, но одновременно и мешают прогрессу и просвещению. «Загадка женственности» – революционная книга Бетти Фридан, вышедшая в 1963 году, – рассказывала о глубоко укорененных в культуре стереотипах, касающихся места женщины в обществе, и о том, как эти стереотипы мешают женщинам[54]. Бетти Фридан утверждала, что сакрализация этих стереотипов заставляет женщин против своей воли отказываться от честолюбивых устремлений ради традиционно женских домашних ролей. К серьезным последствиям приводила и привычка к сакрализации дальних краев. «Загадка Востока», культивировавшаяся в Европе столетиями, породила обильный литературно-художественный урожай – так называемый ориентализм. Это культурное движение с его объективизацией жителей Востока и их традиций в наши дни считается одним из столпов колониализма[55]. Кто-то возразит, что наука в целом сакральна и этим иногда злоупотребляют. Сакральная загадка науки – удел отраслей, которые не имеют дела с миром природы либо лишены детерминистских характеристик, обычно свойственных естественным наукам. А научная объективность – это престижно, чем и оправдывали свои злодеяния сторонники расистских теорий, легших в основу и европейского империализма, и зверств Второй мировой войны. Сакрализация мозга – такая же мощная иллюзия того, что наш мозг – а следовательно, и мы сами – обладает какими-то исключительными способностями. Так мы закрываем глаза на неизбежные выводы, которые пришлось бы сделать из предпосылки, что наше сознание имеет биологические основы, и идеализируем главный орган сознания различными способами, которые рассмотрим в этой книге. Когда мы считаем, что мозг – всемогущая структура, содержащая все самое главное, что касается нашей личности, интеллекта и воли, то копируем духовные практики прошлого. В сущности, сакрализация мозга приводит к психологическому переносу старых представлений о душе на новые представления о мозге[56].
Остаток части I этой книги мы проведем на психотерапевтической кушетке и изучим и деконструируем различные манифестации нейрофизиологических фантазий, которые заставляют нас отрицать свое органическое «я».
Глава вторая Гуморальная феерия
Самая характерная черта сакрализации мозга – искусственное разделение между мозгом и телом. В этой главе мы рассмотрим, как этому разделению способствуют механистическиепредставления о мозге, а особенно вездесущая аналогия между мозгом и компьютером. Настоящий мозг – штука неаппетитная, сплошные жидкости, химикалии и клейкие клетки под названием «нейроглия». Главный узел нашего биологического разума гораздо больше похож на другие органы, чем на рукотворное устройство, однако наша манера думать и говорить о нем зачастую затемняет его подлинную природу.
Аллегорией долгой истории подобных заблуждений вполне может служить статуя, стоящая, расставив ноги, на пилястре фасада дома номер 6 по Барлингтон-гарденс в лондонском районе Мэйфэр. Это статуя Клавдия Галена Пергамского (известного как просто Гален) – пожалуй, самой авторитетной фигуры в истории медицины. На лице его холодная усмешка человека, у которого все под контролем, – ведь свое ремесло он изучил на гладиаторской арене, на службе четырем римским императорам, и свыше тысячи лет считался непререкаемым оракулом медицинской истины. В каменных руках Галена покоится череп – символ биологических принципов, которые он демонстрировал во время публичных вскрытий в присутствии римских аристократов и ученых. Место Галена в пантеоне великих интеллектуалов – дань уважения и его открытиям, и трудолюбию, с которым он писал свои многочисленные произведения (по некоторым подсчетам, в них три миллиона слов). Арабские и европейские ученые столетиями копировали, дополняли и уточняли его работы, как священное писание[57]. В Барлингтон-гарденс, вдали от своей родины в Малой Азии, Гален очутился в окружении таких же светил, дорогих научной культуре викторианской эпохи. Естественно, его облик вымышлен: никаких прижизненных изображений Галена не сохранилось.
Исследования Галена во многом поспособствовали триумфу мозгоцентрических представлений о познании. О том, что мозг есть вместилище разума, чувств и эмоций, уже писал за 400 лет до Галена Гиппократ Косский[58], однако римские современники Галена придерживались аристотелевского кардиоцентрического убеждения, что все тело, в том числе и мозг, контролируется сердцем и сосудистой системой. А с точки зрения Галена сердце и сосуды играли важную, но вспомогательную роль: они обеспечивали «жизненный дух», придававший телу силы. Гален делал ставку на мозг в основном по результатам наблюдений над тем, как те или иные раны влияют на способность двигаться у гладиаторов: весьма кровавый источник данных, к счастью, недоступный ученым более позднего времени[59].
Кроме того, Гален тщательно проводил вскрытия и возвел свою технику в ранг искусства. Он вскрывал только животных: человеческие тела считались священными (по крайней мере, вне арены), и расчленять их ради эксперимента запрещалось даже после смерти. Гален проследил периферийные нервы животных к истоку у основания мозга и тем самым доказал, что мозг контролирует все тело. В ходе одного известного эксперимента у живой свиньи перерезали один такой нерв – гортанный, и свинья утрачивала голос[60]. Вероятно, туши и части тел животных добывали Галену рабы на ближайших рынках. В то время легко можно было купить целые головы животных, предназначенные, несомненно, на столы богачей. Гален препарировал их, чтобы выявить примечательные черты внутричерепной анатомии. Особенно его интересовали структуры, которые он считал передаточным звеном между сосудами и мозгом. Он считал, что эти структуры обращают жизненный дух в «животный» – жидкую субстанцию, которой он приписывал сознание и умственную деятельность. Кандидатами на роль передаточного звена была внутренняя оболочка желудочков – заполненных жидкостью полостей, характерных для мозга позвоночных, – а также любопытная сетчатая структура взаимосвязанных кровеносных сосудов, которая так сильно отличалась от остальных анатомических находок Галена, что он назвал ее «rete mirabile» – «чудесная сеть».
Эта сеть постоянно упоминается в сочинениях Галена о мозге[61]. В сущности, он считал ее биологическим вместилищем души, и почтение к важнейшей роли этой структуры передавалось затем из поколения в поколение как истина в последней инстанции. А на самом деле rete mirabile – такая же выдумка, как и статуя в Барлингтон-гарденс. Анатомы эпохи Возрождения установили, что она встречается только у животных, а у людей ее нет. Один из основоположников анатомии Андреас Везалий в своем монументальном труде «De Humani Corporis Fabrica» («Об устройстве человеческого тела»), вышедшем в 1543 году, уверенно писал, что кровеносные сосуды у основания мозга человека «не способны создать такой plexus reticularis, о котором упоминает Гален»[62]. Гален и вправду сделал ошибочные обобщения из результатов вскрытия животных, но его выводы оказались искаженными из-за культурных табу его времени. Однако rete mirabile как символ загадочных свойств мозга упоминалась еще долго после того, как ее существование опровергли научно. Через 100 лет после Везалия убежденность Галена вдохновила английского поэта Джона Драйдена на такие строки: «Иль просто повезло, что твоего ума // Густая сеть, душе подчинена, // Застрять в ячейках скуке не дает, // А ловит лишь фантазии полет?» (пер. А. Кузнецовой).
История галеновской «сети» показывает, как яркие, но произвольно взятые или даже несуществующие черты мозга привлекают к себе особое внимание, поскольку резонируют с культурой той или иной эпохи. Во времена Галена главный приз отошел к rete mirabile и ее роли в теории человеческого мозга, управляемого «духами». Как мы увидим в этой главе, в наши дни подобное первое по важности место присуждают биоэлектрической активности нервной системы и ее роли в модели «мозга как вычислительной машины». В дальнейшем я покажу, что сакрализация мозга в наше время поддерживается расхожим образом мозга-машины, а также предложу альтернативную, более органичную картину функционирования мозга, которая позволит развеять мистический флер и при этом, что любопытно, напоминает древнюю теорию духов.
* * *
Мозг и сознание, как и другие чудеса природы, всегда были популярной темой поэтических метафор. Еще задолго до Драйдена Платон писал, что душа (то есть сознание) человека подобна упряжке, в которую запряжены два коня: здравый смысл сдерживает ее и направляет, а страсть гонит куда придется[63]. В 1940 году великий нейрофизиолог Чарльз Шеррингтон, вооруженный куда более глубокими познаниями в биологии, описывал мозг как «волшебный ткацкий станок, где миллионы стремительных челноков ткут тающий узор – всегда осмысленный, но вечно изменчивый, непостоянную гармонию суб-узоров»[64]. Метафора волшебного ткацкого станка попала в названия нескольких книг, у нее есть даже своя страница в «Википедии». Шеррингтон строит свой образ на нитях, что напоминает Галенову сеть, а намек на музыку резонирует с образным рядом других писателей, уподоблявших мозг фортепиано или фонографу, поскольку и то, и другое подражает способности мозга выдавать обширный репертуар сложных, но хронологически организованных последовательностей[65]. Антрополог Артур Кейт в своей книге «Двигатели человеческого тела» (1920) предложил более прозаичное сравнение с автоматическим телефонным коммутатором, отражавшее способность мозга связывать разные чувственные впечатления и выдавать поведенческие реакции[66].
В наши дни самая популярная аналогия разума и сознания – компьютер. И понятно почему: современные компьютеры, как и наш разум, способны проявлять свой интеллект неожиданно и загадочно. Критики такого подхода возражают, что нельзя сводить человеческое сознание и понимание к бездушному перевариванию цифр в недрах процессора[67]. Аналогия между разумом и компьютером в той или иной степени упрощает либо игнорирует сознание, а значит, в той же степени принижает то, что мы считаем главным в себе. Представление о разуме как о вычислительной машине зародилось в те времена, когда человеческий разум очевидно превосходил компьютеры, поэтому сравнение было несколько обидным. Сегодня же все почти наоборот: компьютеры для нас – сочетание безупречного владения арифметикой, огромной памяти и точности, с которыми наш разум, конечно, не в силах сравниться.
Большинство ученых и философов согласны с аналогией между разумом и компьютером и так или иначе включают ее в свое профессиональное кредо – и пассивно, и активно. А поскольку разум тесно связывают с мозгом, подобным же образом распространено и представление о мозге как компьютере. В нашей культуре этот образ поистине вездесущ. Один из самых ярких эпизодов оригинального сериала «Звездный путь» начинается с того, что инопланетная цивилизация похищает мозг Спока и внедряет его в гигантский компьютер, где тот контролирует системы жизнеобеспечения целой планеты[68]. Роботы из научно-фантастических произведений, как правило, носят в голове то ли мозги-компьютеры, то ли компьютеры-мозги – от позитронных мозгов из «Я, робот» Айзека Азимова до разладившегося мозга, занимающего исполинский череп Марвина, андроида-параноика, из экранизации «Автостопом по галактике» 2005 года[69]. Напротив, многие настоящие роботы, спроектированные, например, в агентстве DARPA (Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ министерства обороны США), носят свои процессоры в груди или и вовсе в нескольких местах по всему телу – не так похоже на мозг, зато лучше защищено от поломок[70]. Научно-популярные журналы пестрят аналогиями между мозгом и компьютером: они то и дело сравнивают мозг с настоящими компьютерами с точки зрения скорости и производительности.
Но что нам дает сравнение мозга с компьютером? Помогает ли оно нам что-то понять? Пальцы похожи на китайские палочки для еды. Кулаки – на молотки. Глаза – на фотокамеры. Рот и уши – на телефон. Эти аналогии ничего не стоят, поскольку слишком очевидны, поэтому они и не укореняются в культуре. Инструменты, входящие в каждую пару, – это предметы, предназначенные для работы, которую мы, люди, и так приспособились выполнять в ходе эволюции, просто хотим делать ее еще лучше или по крайней мере немного иначе: затем мы и создали эти орудия. В какой-то момент мы решили, что хотим перемножать большие числа быстрее и точнее, чем получается в уме, и придумали орудия и для этого. Оказалось, что эти орудия годятся и для многих других задач, которые мы тоже способны решать при помощи мозга: запоминать, доказывать теоремы, распознавать голоса, водить машину, направлять ракеты. Мозг похож на компьютер, потому что компьютеры придуманы, чтобы делать то же самое, что и мозг, только лучше.
Мозг похож на компьютер в такой степени, что физические аналогии между мозгом и компьютером возникли на самой заре цифровой эпохи, еще в 1957 году, когда Джон фон Нейман, математик и изобретатель первых компьютерных технологий, написал книгу «Computer and the Brain» («Компьютер и мозг»). Фон Нейман утверждал, что математические операции и конструктивные принципы цифровых машин, вероятно, похожи на феномены и механизмы мозговой деятельности[71]. Отчасти сходство, подтолкнувшее фон Неймана к таким параллелям, очевидно. И мозг, и компьютер, как известно, зависят от электричества. Биоэлектрическую активность нервной системы можно зарегистрировать даже удаленно при помощи электродов, размещенных вне мозговых клеток и даже вне головы, так что биоэлектрическая активность служит особенно наглядным показателем мозговой деятельности. Если вам когда-нибудь делали электроэнцефалографию (ЭЭГ), то вы наблюдали это явление в действии: к коже головы прикрепляли тоненькие проводки (или надевали шапочку с ними), после чего считывали данные об электрической активности мозга. Электроэнцефалограмма позволяет распознать признаки эпилепсии, мигрени и других расстройств.
Электрические сигналы мозга обусловлены крошечными перепадами напряжения на мембранах, окружающих нейроны, – как перепады между клеммами батарейки (см. рис. 2). Но, в отличие от батареек, трансмембранные перепады напряжения (мембранные потенциалы) динамически колеблются в зависимости от времени, поскольку через клеточную мембрану течет поток электрически заряженных молекул – ионов. Если напряжение нейронной мембраны колеблется сильнее 20 милливольт относительно уровня, когда клетка находится в покое, может возникнуть гораздо более сильный всплеск напряжения – так называемый потенциал действия, или спайк. Во время потенциала действия ионы мечутся туда-сюда по крошечным канальцам в мембране, и напряжение нейрона меняется примерно на 100 милливольт и возвращается к исходной величине всего за несколько миллисекунд. Если у нейрона возникают такие всплески электрической энергии, мы говорим, что он «стреляет». Потенциалы действия распространяются по нервным волокнам быстрее мчащегося гепарда – благодаря этому разные участки мозга способны взаимодействовать с достаточной скоростью, чтобы обеспечивать восприятие и когнитивные функции[72]. Большинство нейронов выстреливает потенциалами действия с частотой от нескольких в секунду до около 100 в секунду[73]. В этом отношении нейронные потенциалы действия напоминают электрические импульсы, приводящие в действие наши модемы и роутеры и позволяющие нашим компьютерам и другим цифровым устройствам производить вычисления и налаживать связь друг с другом. Измерения этой электрофизиологической активности – основа экспериментальной нейрофизиологии, а электрические сигналы часто считают языком, на котором клетки мозга разговаривают друг с другом – этакой мозговой lingua franca[74].
Рис. 2. «Электронно-вычислительные» аналогии с функционированием мозга. Вверху: зависимость трансмембранного потенциала от времени при потенциале действия, на врезке показана модельная электрическая схема, которая позволяет рассчитать этот процесс с точки зрения обычной электротехники. На основе работы A. L. Hodgkin, A. F. Huxley; внизу слева: нервная структура гиппокампа, иллюстрация знаменитого нейроанатома Камилло Гольджи; внизу справа: плата памяти современного компьютера (по лицензии Adobe Stock)
Есть в мозгах и электрические нейронные сети, чем-то напоминающие интегральные микросхемы в компьютерах. Нейронные сети – это группы нейронов, соединенных между собой синапсами. Многие нейрофизиологи считают синапсы самыми фундаментальными единицами нейронных связей, поскольку синапсы модулируют нервные сигналы при переходе от клетки к клетке. В этом смысле синапсы напоминают транзисторы – атомарные элементы устройства компьютера, которые то включаются, то выключаются и регулируют поток электрического тока при цифровой обработке сигналов. Человеческий мозг содержит миллиарды нейронов и триллионы синапсов – гораздо больше, чем транзисторов в обычном персональном компьютере в наши дни[75]. Синапсы в целом передают сигналы в одном направлении – от пресинаптического к постсинаптическому нейрону, которые соединяет синапс. Самое распространенное средство этой коммуникации – так называемые нейромедиаторы, химические вещества, выделяемые пресинаптическими клетками. Разные виды синапсов (зачастую различающиеся по разновидностям используемых нейромедиаторов) позволяют пресинаптическим клеткам повышать или понижать частоту потенциалов действия в постсинаптических клетках или оказывать на нее более тонкое воздействие. Это отчасти похоже на то, как давишь ногой на педали автомобиля, чтобы добиться разных результатов в зависимости от того, какую педаль используешь и на какой передаче.
На электрическую сеть похожа зачастую и сама структура нервной ткани. Во многих областях мозга нейроны и контактирующие с ними синапсы организованы в стандартные местные сети, которые напоминают наборы электронных компонентов, составляющие микросхему или печатную плату. Например, кора головного мозга, покрытая извилинами кожура, составляющая основную массу человеческого мозга, имеет слоистую структуру, и эти слои идут параллельно поверхности мозга – совсем как ряды микросхем на карте памяти компьютера (см. рис. 2).
Кроме того, нейронные сети делают то, для чего придуманы электронные цепи в цифровых процессорах. На самом простом уровне отдельные нейроны «умеют» складывать и вычитать, сочетая импульсы, которые получают от пресинаптических клеток. Грубо говоря, исходящий импульс постсинаптического нейрона – это сумма всех входящих импульсов, повышающих частоту потенциалов действия, минус все символы, которые ее понижают. Эта элементарная нейронная арифметика лежит в основе многих функций мозга. Например, зрительная система млекопитающих устроена так, что сигналы от пресинаптических нейронов, реагирующих на свет, из разных участков сетчатки суммируются, когда импульсы от этих клеток сходятся в отдельные постсинаптические клетки. Если комбинировать такие вычисления на множестве стадий, на каждой из которых задействуется новый уровень клеток, суммирующий данные от предыдущего уровня, можно получать реакцию на все более сложные световые узоры.
Сложность нейронных вычислений доходит до понятий из вузовской математики. Нейронные сети «знают» математический анализ, основу основ программы первого курса, и применяют его, когда надо отследить, как что-то в мире меняется или накапливается со временем. Когда глядишь на что-то определенное, двигая головой или телом, то задействуешь «нейронный матанализ», чтобы отслеживать прогресс собственных движений, и на основании этих данных корректируешь направление взгляда, чтобы оно не менялось при движении. Ученые выявили в мозге золотой рыбки группу из 30–40 нейронов, видимо, предназначенную для таких расчетов[76]. Другая разновидность нейронного матанализа позволяет зрению мухи распознавать движущиеся предметы. Для этого маленькие группы нейронов на сетчатке мухи сравнивают сигналы из соседних точек пространства[77]. Эти маленькие нейронные сети сигнализируют о движении, если визуальный сигнал из одной точки прибывает раньше, чем сигнал из второй точки, – примерно как мы с вами делаем вывод о движении поезда метро, сопоставляя время прибытия на соседние станции, даже если не наблюдаем движущийся поезд непосредственно.
Нейрофизиологи рассказывают и о сетях, решающих гораздо более сложные задачи, чем математический анализ: они обеспечивают распознавание предметов, принятие решений и сознание как таковое. И хотя ученые еще не сумели выявить нейронные сети, которые совершают эти операции, им удалось зарегистрировать у нейронов признаки подобных сложных расчетов. Для этого частота потенциалов действия нейронов сравнивалась с решением поведенческих задач на выходе. В пример можно привести классический цикл экспериментов по изучению нейронных механизмов обучения, которые провел Вольфрам Шульц из Кембриджского университета на основании данных, полученных из мозга обезьян при помощи электродов. Группа под руководством Шульца изучала, как обезьяны учатся связывать конкретный визуальный стимул с последующей наградой (им давали фруктовый сок), – похожий эксперимент проводил Павлов со своими собаками[78]. У обезьян возникали потенциалы активности у дофамин-содержащих нейронов в отделе мозга, который называется «вентральная область покрышки», и поначалу это происходило, когда обезьяны получали сок. Но после того, как обезьяны несколько раз видели визуальный стимул и получали сок, дофаминовые нейроны начали «выстреливать» при появлении стимула – то есть еще до сока. Это показывает, что нейроны научились «предсказывать» награду, следовавшую за каждым стимулом. Примечательно, что поведение дофаминовых нейронов в этой задаче очень похоже на вычислительный алгоритм из области машинного обучения[79]. Сходство между абстрактным методом машинного обучения и реальными биологическими сигналами наталкивает на мысль, что мозг обезьяны, вероятно, применяет нейронные сети для исполнения алгоритма, похожего на компьютерный.
Между электроникой и активностью, приписываемой мозгу, есть и другие параллели. Например, нередко говорят, что частота потенциалов активности кодирует информацию, и ссылаются при этом на теорию, которую разработал в 40-х годах XX века Клод Шеннон для описания надежности коммуникаций в электронных системах наподобие радиоприемников и телефонов[80]. Теория информации Шеннона постоянно используется в инженерном деле и информатике для измерения того, с какой надежностью входящие данные соответствуют исходящим. В сущности, мы сталкиваемся с теорией информации, когда сжимаем мегапиксельные фотографии в килобайтовые jpeg-изображения, не теряя деталей, или передаем файлы по Ethernet-кабелям дома или на работе. Чтобы такие задачи хорошо исполнялись, инженерам надо подумать, как лучше всего распаковывать сжатые данные цифровых изображений и как быстро и точно понять и декодировать сигнал, переданный по кабелю, при каждой загрузке и выгрузке. Подобные проблемы тесно связаны с вопросами сохранения данных в биологической памяти и своевременной передачи по нервным волокнам в мозг потенциалов действия, содержащих сенсорную информацию. Для численного описания функционирования нейронов исключительно полезны математические модели теории информации и обработки сигналов в целом[81].
Когда мы представляем себе мозг как электронное устройство, то совершенно естественно анализировать данные о работе мозга при помощи инженерных методов, например, теории информации или моделей машинного обучения. В некоторых случаях аналогия «мозг-компьютер» заводит исследователей еще дальше – заставляет сопоставлять отделы мозга с макро-деталями компьютера. В книге, вышедшей в 2010 году, нейрофизиологи Рэнди Гэллистел и Адам Кинг утверждают, что в мозге должно быть оперативное запоминающее устройство, как у прототипического компьютера – машины Тьюринга[82]. Машина Тьюринга перерабатывает данные, записывая и считывая нули и единицы на ленте, и операции считывания и записывания совершаются в соответствии с набором правил в машине («программой»), а лента и есть машинная память, аналогичная дискам или полупроводниковым микросхемам памяти в современных персональных компьютерах[83]. Гэллистел и Кинг полагают, что если все хорошие компьютеры основаны на подобных механизмах запоминания, значит, и мозг тоже. Таким образом, авторы ставят под вопрос современную догму, что основа биологической памяти лежит в изменениях синаптических связей между нейронами – такую модель трудно уподобить памяти по Тьюрингу: по их мысли, такой синаптический механизм слишком медленный и негибкий, несмотря на то что его подтверждает колоссальное количество экспериментальных данных[84]. Хотя гипотеза Гэллистела и Кинга не общепринята, все же это примечательный пример того, как аналогия «мозг-компьютер» берет верх даже над теориями, выведенными из наблюдений. Когда смотришь сначала на мозг, потом на компьютер, потом снова на мозг, и вправду трудно понять, что из них что вдохновило.
* * *
Видимо, в ассоциации «мозг-компьютер» есть что-то духовно-мистическое. Говорят, что даже Джон фон Нейман впервые задумался о синтезе информатики и нейробиологии, когда незадолго до смерти вернулся в лоно католической церкви (фон Нейман умер в 1957 году от рака поджелудочной железы)[85]. Впрочем, нет никаких данных, что фон Нейман на протяжении всей жизни хоть как-то интересовался религией, хотя и крестился в 1930 году, когда собирался жениться в первый раз. Возвращение к Богу на смертном одре, своего рода попытка застраховать душу в последний момент, – клише, поэтому странно себе представить, чтобы человек одновременно с этим задумался о материальной основе души как таковой на языке машин. Однако в некотором смысле эти представления легко примирить, поскольку приравнять органический разум к неорганическому механизму – значит получить надежду на секулярное бессмертие если не для себя, то для своего биологического вида. Если мы есть наш мозг, а наш мозг изоморфен механизму, который мы можем создать, значит, мы в силах представить себе, что мозг можно ремонтировать, клонировать, достраивать, воссоздавать, передавать в пространстве или вечно хранить в полупроводниковом анабиозе, чтобы разбудить, когда придет время. Отождествляя мозг с компьютером, мы еще и молчаливо отказываемся от своего подлинного физического «я», грязного, смертного, непонятного, и замещаем его идеалом, от рождения избавленным от бремени плоти.
Примеру фон Неймана на закате дней последовала целая череда выдающихся ученых-физиков, тоже задумавшихся об абстрактном или механическом происхождении познания. Эрвин Шредингер спустя почти 20 лет после волнового уравнения и через 9 лет после появления на свет знаменитого кота заявил, что в статистическом движении атомов и молекул заключено вселенское сознание[86]. Его теория далека от компьютерной аналогии фон Неймана, но точно так же представляет ментальные процессы как фундаментально абиотические. Еще один яркий пример – Роджер Пенроуз, выдающийся космолог, чьи открытия, касающиеся черных дыр, в определенных кругах блекнут по сравнению с его заявлениями о сознании. Пенроуз, очевидно, отрицает, что компьютер способен эмулировать человеческий разум, однако ищет основу свободы воли в эзотерических принципах квантовой физики[87]. Квантовая модель разума, по Пенроузу, основана скорее на физике, а не на физиологии, и на формулах, а не на экспериментах. Биофизик Фрэнсис Крик обратился к нейрофизиологии после того, как вместе с Джеймсом Уотсоном открыл структуру ДНК; поскольку его авторитет как ученого очень велик, исследователи и сегодня убеждены, что сознание следует искать в электрической активности больших ансамблей нейронов[88]. Но даже у Крика при всем его беспощадном материализме и упоре на биологию представления о мозге почти целиком строятся на вычислительных и электрофизиологических сторонах мозговой деятельности, а ведь именно это в основном и отличает мозг ото всех других органов.
При всей несхожести у этих точек зрения есть общая черта – тенденция минимизировать органические аспекты мозга и разума и подчеркивать неорганические качества, имеющие самое отдаленное отношение к другим биологическим сущностям. Более того, они проводят такую четкую границу между мозгом и телом, что впору вспомнить вековое метафизическое различие между разумом и телом, которое принято называть дуализмом разума-тела. Но теперь место разума занимает мозг – и, таким образом, уподобляется нематериальной сущности, научное объяснение которой человечество безуспешно ищет уже много тысяч лет.
Тенденцию проводить грань между мозгом и остальным организмом условимся называть научным дуализмом, поскольку он параллелен дихотомии разума-тела, но все же опирается на научную мысль и совместим с научными мировоззрениями. Научный дуализм – едва ли не самое распространенное проявление сакрализации мозга, и на страницах этой книги мы столкнемся с самыми разнообразными его формами. Этот глубочайший след оставила в культуре философская концепция, главным сторонником и выразителем которой был, как принято считать, Рене Декарт, ученый и искатель приключений, живший в XVII веке. Декарт утверждал, что тело и разум созданы из разных субстанций, которые при взаимодействии и делают живое живым[89]. По мысли Декарта, разум (он же душа – для Декарта это было одно и то же) взаимодействует с телом через какую-то часть мозга, однако механизм этого взаимодействия Декарт так и не сумел объяснить[90]. Родственные формы дуализма, при которых душа после смерти отделяется от тела, предстает перед высшим судом и после этого иногда находит новое тело, присутствуют практически во всех религиях мира.
Большинство из нас опирается на этот дуализм в повседневной жизни, по крайней мере, неявно. Мы говорим о разуме и духе так, словно они отделены от тела, даже вне культовых зданий и даже если мы нерелигиозны. Мы говорим, что такой-то и такой-то не в своем уме, что такая-то и такая-то пала духом, мы твердим: «в здоровом теле здоровый дух». Фрейдистские понятия «эго», «суперэго», «ид» и «подсознание», вошедшие в «народный психоанализ», благодаря дуализму живут своей жизнью: «Суперэго заставляет меня заниматься тем-то и тем-то, подсознание велит мне делать то-то и то-то»[91]. И ведем мы себя в соответствии с этим дуализмом. Например, офисный трудоголик, который не в состоянии осознать, что нужно заботиться о своем здоровье, а не только «работать головой», рискует безвременно умереть от инфаркта и, скорее всего, задолго до такого печального физического финала начнет мучиться от снижения работоспособности. В других случаях мы боимся кары за ментальные проступки, которых никто никогда не заметит, – вот и Христос утверждал, что можно согрешить «в сердце своем» (Матф. 5:28), однако это чувство, вероятно, прекрасно знакомо и атеистам. Подобные тревоги – тоже проявление дуализма: ведь мы полагаем, – по крайней мере, бессознательно, – что разум может быть осужден отдельно от тела, возможно, даже после нашей смерти.
Традиционные дуалистические точки зрения наподобие декартовой предполагают, что разум или душа – своего рода невидимый руководитель дистанционно управляемого тела. Научный дуализм, напротив, видит в роли руководителя не какую-то бесплотную сущность, а вполне материальный мозг, который живет в теле, но в остальном играет ту же непостижимую роль. В отличие от дуализмов религии и философии, научный дуализм далеко не всегда представляет собой осознанное мнение или открыто выражаемую точку зрения. Лишь немногие люди научного склада ума всерьез полагают, что мозг можно физически изолировать от тела, но при этом все равно зачастую исходят из предпосылки, что мозг и тело следует рассматривать по отдельности, и это проявляется и в ходе мысли, и в риторике, и даже на практике. Таким образом, научный дуализм поддерживает существование милых нашему сердцу представлений о душе, отделенной от тела, безо всяких намеков на то, что душа или разум и в самом деле бестелесны. В этом смысле научный дуализм повторяет «нравственный закон» многих атеистов или тихий расизм и сексизм, обитающий даже в самых просвещенных уголках нашего постмодернистского общества. Во всех этих примерах устарелый привычный образ мысли продолжает жить без явной привязки к религиозным либо социальным доктринам, когда-то его породившим.
Научный дуализм, как и другие предрассудки, иногда становится очевидным. Взять хотя бы компьютерную игру «Body and Brain Connection» («Связь мозга и тела») для приставки «Xbox», которая «сочетает умственные и физические упражнения, что позволяет в полной мере насладиться игрой»[92]. Несмотря на все разговоры о «сочетании», рекламный текст подает мозг и тело как обособленные сущности, функции которых дополняют друг друга, но не перекрываются. Менее очевидные проявления научного дуализма возникают, когда выдающиеся ученые – фон Нейман, Шредингер, Пенроуз, Крик – создают абиотические образы мозга, совсем не похожего на остальные органы и ткани, мокрые и склизкие. Эти авторы не проводят красной черты между мозгом и телом, но из их сочинений все равно следует, что у мозга особое устройство и особый modus operandi. В каждом из этих случаев научный дуализм обеспечивает механизм сохранения святости нашего разума – он отделяет функции мозга и идущие в нем процессы от скучных и будничных телесных процессов вроде пищеварения или рака, а может быть, и защищает наш мозг от опасности быть съеденным. Однако вскоре мы убедимся, что когда-то представления о физиологии мозга строились в основном на его органических свойствах, и современная наука все чаще возвращается на эти позиции.
* * *
В 1685 году февральским утром английский король Карл II вышел из своих покоев, чтобы совершить утренний туалет[93]. Он был мертвенно-бледен, а когда заговорил со своими прислужниками, язык у него заплетался; было видно, что мысли короля путаются. Во время бритья лицо короля внезапно побагровело, глаза закатились. Он попытался встать – но рухнул на руки слуги. Его уложили в постель, явился доктор с ножом, чтобы рассечь вену и сделать кровопускание. К голове монарха приложили нагретые утюги, его силой накормили «жутким отваром, изготовленным из человечьих черепов». Король пришел в сознание и снова заговорил, но явно мучился от нестерпимой боли. За ним ухаживала бригада из 14 лекарей, ему еще несколько раз сделали кровопускание (всего около 850 мл крови), но вскоре стало понятно, что спасти его невозможно. Четыре дня спустя его величество скончался.
В те времена ходили слухи, что короля отравили, но все же большинство считало, что Карл II умер от апоплексического удара, то есть, выражаясь современными словами, от инсульта: кровеносные сосуды мозга у него либо закупорились, либо лопнули. Инсульт поражает ежегодно десятки миллионов людей во всем мире и по сей день остается главной причиной неврологических нарушений и смерти. Мы разработали методы профилактики инсульта, а если он все-таки случится, знаем, как защитить мозг. Но по мысли человека XVII века заболевания мозга вроде апоплексии, как и любой другой недуг любого другого органа, вызывался дисбалансом телесных жидкостей – «гуморов». Считалось, что апоплексию вызывает избыток крови, одной из четырех таких жидкостей наряду с черной желчью, желтой желчью и флегмой[94]. Чтобы снизить объем крови и таким образом помочь больному, применяли кровопускание.
Многие из нас помнят, что в школе гуморальную теорию было принято высмеивать, а что мозг представляет собой суп из телесных жидкостей, и вовсе трудно себе представить. Современные нейроноцентрические представления о когнитивных функциях мозга строятся в основном вокруг нейронов и биоэлектрической активности мозга – то есть вокруг черт, которые особенно подходят для сравнения с компьютером, сухих и механистических. Но ведь всем известно, как компьютеры боятся влаги (попробуйте вылить чашку кофе на свой ноутбук), а между тем мозг весь пропитан жидкостями, которые принимают непосредственное участие в нейробиологических процессах. Пятую часть объема мозга занимают полости, заполненные жидкостью[95]. Примерно половину из них занимает кровь, а другую половину – спинномозговая жидкость (ликвор), прозрачная субстанция, вырабатываемая выстилкой полых желудочков мозга, причем этот процесс на удивление похож на преобразование животного духа в жизненный по Галену. Ликвор заполняет желудочки и быстро циркулирует во внеклеточных промежутках, что обеспечивает контакт со всеми клетками мозга – они омываются смесью ионов, питательных веществ и молекул, отвечающих передачу сигналов в мозге. Сами мозговые клетки, занимающие около 80 % объема мозга, тоже заполнены внутриклеточными жидкостями, содержащими ДНК и другие биомолекулы и метаболиты, обеспечивающие работу клеток.
Но самое, пожалуй, удивительное – что обаятельные электрически активные нейроны, особенно занимающие большинство нейрофизиологов, составляют не более половины мозговых клеток. Менее известные клетки мозга называются нейроглия – это небольшие клетки, не испускающие потенциалов активности и не создающие длинные цепи, напоминающие электропроводку (см. рис. 3)[96]. Исторически считалось, что эти клетки играют в буквальном смысле вспомогательную роль («глия» по-древнегречески означает «клей», тоже жидкость), однако в коре головного мозга их больше, чем нейронов, почти в 10 раз. Концепция мозга без учета роли нейроглии – все равно что представление о кирпичной стене без учета роли строительного раствора.
Рис. 3. Глиальные клетки в мозжечке кошки. Рисунок от руки, выполненный испанским нейрофизиологом Пио дель Рио Ортега в 1928 году. Видны кровеносные сосуды (толстые светло-серые изгибы)
Как ни странно, многие самые известные заболевания мозга поражают именно не-нейронные составляющие анатомии мозга. Один из самых распространенных и агрессивных видов рака мозга – мультиформная глиобластома – возникает при злокачественном разрастании нейроглии; в результате у больного повышается внутричерепное давление (давление ликвора), что в конечном итоге и становится непосредственной причиной смерти. Эта страшная болезнь в 2009 году свела в могилу сенатора от Массачусетса Теда Кеннеди[97]. Нарушения жидкостного обмена между кровеносными сосудами и остальной мозговой тканью возникают при инсульте, рассеянном склерозе, сотрясении мозга и болезни Альцгеймера. Многие из этих расстройств непосредственно влияют на кровоток или проницаемость гематоэнцефалического барьера, который состоит из тесно взаимосвязанных клеток, окружающих кровеносные сосуды, и регулирует циркуляцию химических веществ между кровью и мозгом
Так, может быть, мозг мыслящий и в самом деле отделен от мозга, подверженного неврологическим болезням[98]? Современные исследования показывают, что мозговой «клей» и жидкости, которые раньше считались просто пассивными наблюдателями, в действительности принимают живейшее участие во многих аспектах функционирования мозга. Одно из самых поразительных открытий последних лет гласит, что в нейроглии идут коммуникационные процессы, похожие на нейронные. Ученые проанализировали микроскопические видеозаписи нейронов и нейроглии и показали, что нейроглия реагирует на часть тех же стимулов, что и нейроны. Несколько нейромедиаторов вызывают в нейроглии колебания ионов кальция, и это явление наблюдается и в нейронах, где такая динамика тесно связана с биоэлектрической активностью. Колебания кальция в разновидности глиальных клеток, которые называются «астроциты», коррелируют с электрическими сигналами соседних нейронов[99]. Мой коллега из Массачусетского технологического института Мриганка Сур и его группа показали, что астроциты в зрительной зоне коры головного мозга хорьков реагируют на некоторые зрительные раздражители даже сильнее нейронов[100].
Кроме того, с нейронной активностью тесно коррелируют и закономерности кровотока в мозге. Когда активируются отдельные области мозга, местные кровеносные сосуды расширяются, и кровоток усиливается – это явление координации называется «функциональная гиперемия». Открытие функциональной гиперемии приписывают итальянскому физиологу XIX века Анджело Моссо[101]. При помощи плетизмографа – устройства вроде огромного стетоскопа – Моссо наблюдал за пульсацией объема крови в голове неинвазивно – через роднички новорожденных и у взрослых, переживших черепно-мозговые травмы, в результате которых у них остались отверстия в черепной коробке. Самым известным испытуемым Моссо был крестьянин по имени Бертино, у которого мозговой пульс ускорялся, когда звенели церковные колокола, его звали по имени или он размышлял над какой-то задачей. Эти эксперименты – предшественники современных методов сканирования мозга: позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), которые пришли на смену плетизмографу и позволяют наблюдать кровоток в трех измерениях.
Нейроглия и кровеносные сосуды реагируют на многие стимулы, которые активируют и нейроны, и это подчеркивает многоликую природу мозговой ткани (у нейронов есть друзья и соседи), однако это еще не доказывает, что не-нейронные элементы играют какую-то роль помимо вспомогательной. Нейроноцентрический, вычислительный подход к изучению функционирования мозга наталкивает на мысль, что нейроглия и кровеносные сосуды аналогичны источнику питания и вентилятору, которые обеспечивают работу электроники, – они решают побочные задачи, которые возникают и исчезают в зависимости от рабочей нагрузки процессора, но сами ничего не вычисляют. Если бы такая модель соответствовала действительности, то стимуляция нейроглии или сосудистой системы независимо от нейронов оказывала бы пренебрежимо малое воздействие на активность нейронов, но результаты недавних исследования прямо противоположны.
Появились, например, данные, что перепады кровотока не только реагируют на нейронную активность, но и влияют на нее. Некоторые препараты, воздействующие на ферменты в кровеносных сосудах, видимо, косвенно влияют на биоэлектрическую активность нейронов, а следовательно, кровеносные сосуды способны передавать нейронам химические сигналы[102]. Есть и некоторые намеки на то, что расширение кровеносных сосудов при гиперемии стимулирует некоторые нейроны посредством сенсоров давления на их поверхности[103]. Если это так, здесь можно усмотреть аналогию с тем, как работает наше осязание при надавливании на подушечки пальцев. О функциональной роли нейроглии говорят и последние нейрофизиологические исследования. Избирательная активация нейроглии при помощи так называемого «метода оптогенетической стимуляции» влияет на частоту как спонтанных, так и вызванных стимуляцией потенциалов активности соседних нейронов[104]. Активность нейроглии влияет даже на поведение. Например, в ходе одного эксперимента Ко Мацуи и его группа из Национального института физиологических наук в Японии показали на мышах, что стимуляция нейроглии в мозжечке влияла на движения глаз, которые до этого считались результатом исключительно деятельности нейронов в этом отделе мозга[105].
Особенно поразительный пример влияния не-нейронных составляющих мозга приведет в работе Майкен Недергаард из Рочестерского университета. Ее лаборатория пересадила клетки-предшественники человеческой нейроглии – эмбриональные клетки, которые впоследствии развиваются в нейроглию – в передний мозг новорожденных мышей[106]. Когда эти мыши вырастали, в их мозге было много человеческих глиальных клеток. Затем животных обследовали – тестировали их способность ассоциировать короткий звуковой сигнал с последующим легким ударом тока. Во время этой процедуры животные, подверженные воздействию гудка и удара, начали реагировать на гудок так, как в нормальной ситуации реагировали бы только на удар тока (как правило, застывали на месте); чем «умнее» подопытная мышь, тем быстрее она усваивает, что гудок предсказывает неизбежный удар тока. В этом случае мыши-носители человеческой нейроглии показали результаты в три раза лучше, чем мыши из контрольной группы, которым пересаживали нейроглию от других мышей. Кроме того, гибридные животные более чем вдвое быстрее учились проходить лабиринт и делали примерно на 30 % меньше ошибок в тесте памяти. Предполагать, будто мыши показали более высокие результаты только потому, что новая нейроглия что-то с ними сделала сама по себе, было бы упрощенчеством, но все же эти эксперименты показывают, что неприметные глиальные клетки способны влиять на поведение нетривиальными способами. А из этого следует потрясающий вывод: тайна когнитивных успехов человечества, вероятно, отчасти объясняется деятельностью глиальных клеток, на которые мы раньше не обращали внимания.
* * *
В узких закоулках, заполненных жидкостью, которые вьются между клетками мозга, идет бурная активность иного рода, не признающая типичных культурных рамок «мозг-компьютер». Именно в этих крошечных полостях и происходит по большей части химическая жизнь мозга. У некоторых само представление о химических реакциях в мозге ассоциируется с психоделическим опытом употребления ЛСД и каннабиса, но с точки зрения нейрофизиолога словосочетание «биохимия мозга» относится в первую очередь к нейромедиаторам и схожим с ними молекулам-нейромодуляторам. У млекопитающих коммуникация между клетками мозга опирается в основном на нейромедиаторы, которые выделяют нейроны в своих пресинаптических окончаниях. Нейромедиаторы выделяются, когда пресинаптический нейрон «выстреливает», а затем быстро воздействуют на постсинаптический нейрон при помощи особых молекулярных «бейсбольных перчаток» – рецепторов нейромедиаторов – и меняют вероятность «выстреливания» постсинаптической клетки. При нейроноцентрическом представлении о мозге нейромедиаторы в основном служат средством передачи электрических сигналов от нейрона к нейрону. Если считать, что биоэлектрическая активность нервной системы и в самом деле lingua franca мозга, такая точка зрения вполне оправдана.
Но теперь представим себе альтернативный химиоцентрический подход, согласно которому главные игроки – это нейромедиаторы. Согласно такому представлению электрические сигналы между нейронами способствуют распространению химических сигналов, а не наоборот. С химиоцентрической точки зрения даже сами электрические сигналы можно переосмыслить как химические процессы – ведь они строятся на ионах. Такая картина по стандартам современной нейрофизиологии ставит все с ног на голову, но ее тоже можно обосновать. Пожалуй, самый очевидный довод в ее пользу гласит, что нейромедиаторы и связанные с ними рецепторы исполняют особые функции, гораздо более многообразные, чем биоэлектрическая активность нервной системы per se; по некоторым данным, в мозге млекопитающих более ста различных нейромедиаторов, и каждый из них воздействует на какой-то тип рецепторов, а иногда на несколько[107]. Смысл потенциала активности меняется в зависимости от того, выработку каких нейромедиаторов он запускает и на что они воздействуют. В отдельных частях центральной нервной системы, например в сетчатке, нейромедиаторы выделяются вообще без потенциалов активности[108].
Воздействие нейромедиаторов определяется также факторами, не зависящими от нейронов: важная роль нейроглии заключается еще и в утилизации части выработанных нейромедиаторов. Если темп потребления нейромедиаторов глиальными клетками меняется, количество нейромедиаторов регулируется примерно так же, как уровень воды в ванне, если закрыть или открыть слив. Кроме того, глиальные клетки испускают собственные сигнальные молекулы, которые иногда называют «глиомедиаторы». Глиомедиаторы, как и нейромедиаторы, вызывают кальциевые сигналы и в нейронах, и в других глиальных клетках. Функциональное воздействие глиомедиаторов на поведение и когнитивные процессы – важная тема современных исследований[109].
Кроме того, на воздействие нейрохимикалий сильно влияет не зависящий от клеток процесс диффузии – пассивного распространения молекул, обусловленный их случайным движением в жидкости. Диффузия вызывает и спонтанную дисперсию капелек масла по поверхности лужи, и бесцельную пляску микроскопических частиц в молоке – так называемое броуновское движение. Она же влияет на постсинаптическую активность нейромедиаторов, причем весьма существенно; как именно это происходит, мы пока не понимаем, но знаем, что это совсем не похоже на упорядоченную передачу информации по контактам между нейронами, будто по проводам. Некоторые нейромедиаторы и большинство нейромодуляторов славятся именно своей способностью распространяться из синапсов посредством диффузии и воздействовать на далекие клетки, не связанные непосредственно с теми клетками, которые выработали эти вещества. Среди подобных диффундирующих молекул – дофамин, нейромедиатор, с которым мы уже сталкивались, когда обсуждали обучение за вознаграждение у обезьян. Значимость диффузии дофамина особенно видна на примере действия наркотиков – кокаина, амфетамина и риталина. Эти препараты блокируют молекулы, задача которых – убирать дофамин после того, как синапсы его выработали. Таким образом, наркотики способствуют распространению дофамина в мозге, в результате чего он затрагивает множество клеток[110].
Кроме того, диффузия нейромедиаторов лежит в основе явления помех при синаптической связи: это еще один неконвенциональный вид коммуникации в мозге, при котором молекулы, выработанные одним синапсом, попадают в чужие синапсы и влияют на их функции[111]. С точки зрения синапса, подвергнувшегося такому вторжению, это словно во время личного телефонного разговора с другом услышать, как в трубке бубнит третий голос. Есть много исследований, показывающих, что неожиданно высокие уровни помех наблюдаются между синапсами, использующими нейромедиатор глутамат, который вырабатывают 90 % нейронов в мозге и который известен в основном быстрым действием внутри отдельных синапсов[112]. Эти результаты примечательны тем, что ставят под сомнение идею синапса как фундаментальной единицы передачи информации в мозге. Ведь и помехи при синаптической связи, и более общие эффекты нейрохимической диффузии в мозге – это аспекты так называемой передачи информации по объему, поскольку действуют они вширь по объему тканей, а не по конкретным связям между парами нейронов[113]. Передача по объему возникает при перекрывании «волн» колеблющихся концентраций нейромедиаторов, и это больше похоже на рябь от дождя на поверхности пруда, чем на упорядоченное течение электричества по проводам.
Так что с точки зрения нейромедиатора нейроны – это специализированные клетки, помогающие формировать концентрации нейрохимических веществ в пространстве и времени наряду с нейроглией и процессами пассивной диффузии. Нейромедиаторы, в свою очередь, побуждают клетки мозга вырабатывать больше нейромедиаторов – и местно, и удаленно. Каждый раз, когда воспринимается чувственный стимул или принимается решение, мозг захлестывают бурные волны нейромедиаторов, которые смешиваются с фоновыми химическими веществами, соотношение которых постоянно меняется во всем межклеточном пространстве мозга. Если смотреть на все сквозь это мутное химическое варево, электрические свойства нейронов кажутся почти что и неважными – на их место подошел бы любой достаточно быстродействующий механизм преобразования химических сигналов. И в самом деле, в нервной системе некоторых мелких животных, например, нематоды Caenorhabditis elegans, электрические сигналы гораздо слабее, а потенциалы активности не зарегистрированы[114].
Такое представление о мозге гораздо больше напоминает воззрения древних мыслителей – только здесь не четыре жидкости, а сотня жизненно важных субстанций, соперничающих за влияние во внеклеточных кулуарах мозга, не говоря уже о тысячах веществ, которые взаимодействуют внутри каждой клетки. «Химический мозг» – не очень зрелищный, зато биологически обоснованный противовес сверкающему «технологическому мозгу» компьютерной эпохи и эфирному мозгу, действующему по законам квантовой физики и статистической механики. К тому же легко представить себе, что химический мозг – это прямой потомок первичного бульона из протобиологических реагентов, из которого и возникла жизнь в архейскую эру на юной планете Земля. А еще химический мозг – близкий родственник химической печени, химических почек, химической поджелудочной железы, то есть субпродуктов, которые мы едим, всех органов, чьи функции строятся на выработке и переработке жидкостей. Тогда с мозга отчасти спадает сакральный флер.
* * *
Я один из тех, кому, к сожалению, довелось познакомиться с культовой классической книгой Дагласа Хофштадтера «Гедель, Эшер, Бах» лишь в зрелые годы. Когда в колледже мой сосед по общежитию соблазнял меня поразительными парадоксами, которых так много в этой книге, я по уши закопался в домашние задания по физике и химии. Юные годы давно остались позади, прошло много лет, и вот я наконец взялся за «Геделя, Эшера, Баха», когда у меня не было уже ни терпения, ни юношеской живости ума, чтобы уделить этим парадоксам должное внимание. Я люблю Баха, обожаю разглядывать гравюры Эшера и очень интересуюсь загадочными работами Геделя, однако мне, увы, не хватило широты мировоззрения, чтобы насладиться рассуждениями автора о сознании, отдающими мистицизмом. В одной главе Хофштадтер объясняет структуру нервной системы согласно представлениям 70-х, и это перечисление сухих фактов на удивление похоже на современные научные воззрения и в некотором смысле показывает, как медленно прогрессировала все это время нейрофизиология. Кроме того, это описание сплошь пронизано научным дуализмом. Автор целиком и полностью перенимает компьютерную аналогию и выдвигает гипотезу, что «любой аспект мышления можно рассматривать как описание на высшем уровне некой системы, которая на низшем уровне управляется простыми и даже формальными правилами»[115].
Однако один отрывок из «Геделя, Эшера, Баха» ярко отражает мысль, которую я стремлюсь донести до читателя в этой главе; речь идет об отношениях фигуры и фона в рисунках и других видах искусства. Хофштадтер говорит о тех случаях, когда фон можно рассматривать как полноправный компонент изображения, и самый известный пример этого феномена – рисунки, на которых изображена то ли ваза, то ли два профиля (см. рис. 4).
Рис. 4. Оптическая иллюзия «Ваза или лица»
В современной нейрофизиологии нейроны и биоэлектрическая активность нервной системы – это «фигура» на изображении мозга, а многие другие составляющие мозговой деятельности – это «фон». Такой гештальт сильнейшим образом повлиял на интерпретацию «мозг-компьютер» и на повсеместное распространения дуализма «мозг-тело». Но подобно тому как зрительное восприятие безо всякого труда переключается с лиц на вазу и наоборот, так и наше понимание мозга способно столь же легко вывести на первый план не-нейронные, неэлектрические черты мозговой деятельности, что сразу сделает мозг больше похожим на другие органы. Химические вещества и электричество, активная коммуникация и пассивная диффузия, нейроны и нейроглия – все это части механизмов мозга. Ставить одни из этих составляющих выше других – все равно что выбирать главные шестеренки в часовом механизме. Если повернуть одну шестеренку, это приведет в движение все остальные, если убрать любую из них, часы сломаются. Именно поэтому попытки свести когнитивные процессы в мозге к электрическим сигналам или к его «проводке» – нервным волокнам, по которым распространяются электрические сигналы, – в лучшем случае упрощенчество, а в худшем – заблуждение.
Наша приверженность идее, что мозг функционирует согласно каким-то особым или идеализированным принципам, по большей части чуждым всей остальной биологии, – следствие сакрализации мозга. Когда мы представляем себе свой мозг как мощный компьютер, какой-то непостижимый чужеродный протез, вживленный в наш череп, а не как влажную смесь плоти и жидкости, которая там пульсирует точно так же, как и все остальные органы нашего организма, мозг представляется нам чем-то крайне далеким и загадочным. А ведь считать орган-вместилище души чем-то сухим, абстрактным, безъюморным и «безгуморным» – самый надежный способ поддерживать представление о душе, отделенной от тела. Мы еще убедимся, что это лишь один из аспектов, в которых идеализация мозга вступает в противоречие с более натуралистичными представлениями, в которых мозг и разум прочно укоренены в биологическом контексте и окружающей среде. В следующей главе мы рассмотрим, в частности, как всеобщая убежденность в необычайной сложности мозга вносит свой огромный вклад в сакрализацию мозга и в дуалистическое различие между мозгом и телом.
Глава третья Все сложно
В современном мире Интернета мало найдется загадок столь темных, как статус «все сложно» в «Фейсбуке»[116]. Что же означает «все сложно»? Что вы находитесь в сексуальных отношениях без взаимных обязательств? Или у вас много партнеров? Означает ли это, что вы в процессе сближения или разрыва, но не знаете, чем все обернется? Или, может быть, вы кому-то изменяете? Так или иначе, если человек ставит себе статус «все сложно» в социальной сети, где более миллиарда пользователей, то напрашивается на вопросы – и, возможно, оставляет за собой возможность отвечать как можно туманнее и двусмысленнее. Хочешь напустить таинственности – смело ставь статус «все сложно»!
Скорее всего, и в разговорах о человеческом мозге вы то и дело слышите «все сложно» или какие-то синонимы этого выражения. Ведущий нейрофизиолог Кристоф Кох, руководитель передового Института Аллена по изучению мозга, назвал мозг «самым сложным объектом в известной Вселенной»[117]. Его убеждения разделяет бесчисленное множество ученых. Нейробиолог и автор бестселлеров Дэвид Иглмен иронически замечает: «Если бы наш мозг был настолько прост, чтобы его можно было понять, у нас не хватило бы ума понять его»[118]. «По сложности с ним не сравнится ни один компьютер и даже вся глобальная сеть коммуникаций», – писал журналист Ален Андерсон на страницах еженедельника «Economist»[119]. «Мы никогда не поймем, как устроен мозг. Это самое сложное во Вселенной», – заметил Робин Мюррей, один из самых выдающихся британских психиатров, когда выступал на радио ВВС в 2012 году[120]. И, как еще 300 лет назад говорил великий французский философ Вольтер, «человеческий мозг – сложный орган, наделенный чудесной способностью давать человеку возможность находить предлоги, чтобы продолжать верить в то, во что ему угодно верить»[121].
Может статься, сложность мозга как таковая и в самом деле позволяет нам оправдать некоторые устоявшиеся представления? Если мы не хотим подвергать сомнению свои концепции сознания, индивидуальности и свободы воли, то нет лучше места, где спрятаться, нежели в лабиринтах мозга. А кроме того, утверждения, что мозг немыслимо сложен, оставляют место для немыслимых способов воздействия на познание и способны оправдать ненаучные подходы к пониманию сознания. «Чем сложнее система, тем настойчивее напрашивается вывод, что ее создали намеренно», – заявляет один сотрудник Института исследований сотворения мира, где продвигают псевдонауку на основе библейских текстов[122].
Когда мы поэтизируем сложность мозга, это, конечно, повышает интерес к нейробиологии и способствует финансированию исследований мозга. А вероятно, это просто констатация факта. Так или иначе, упор на сложность мозга приводит к тому, что этот орган дистанцируется от менее загадочных аспектов мира природы, в том числе и от биологии остального организма. В этой главе мы воздадим дань уважения чудовищной сложности мозга, но при этом убедимся, что значение этой сложности зачастую переоценивают. Нам следует осознавать, что мозг и правда очень сложен, но при этом нельзя отказываться от биологически обоснованных представлений о нем.
* * *
Мистическое в сочетании со сложным интересовало нас и в те времена, когда мозг был еще не очень знаменит. Легендарный индийский мудрец Вьяса описывал небесные тела как космического дельфина, у которого во рту Марс, на хвосте – Сатурн, на груди – Солнце, а в уме – Луна[123]. Брюхо дельфина – это «небесный Ганг», поток внеземного сияния, отражающий земной блеск священной реки индуизма. С точки зрения древних греков, брюхо дельфина было белесой полосой под названием «Галаксия»; в современный язык это слово проникло через латинский перевод «Via Lactea» – мы зовем белую дорожку на ночном небе «Млечный Путь». Согласно греческой мифологии, это след от молока, которое пролила Гера, когда оттолкнула от своей груди младенца Геракла. Впрочем, наблюдатели всего мира столетиями размышляли над тем, что Млечный Путь, возможно, не просто дымчатое пятно на ночном небосводе. Ибн Баджа, арабский ученый XI века, пророчески предположил, что Млечный Путь соткан из света множества «неподвижных звезд, которые почти касаются друг друга»[124]. Однако непосредственно пронаблюдать зернистость Млечного Пути удалось лишь под конец европейского Возрождения. «Третьим предметом нашего наблюдения была сущность или материя Млечного Пути. При помощи зрительной трубы ее можно настолько ощутительно наблюдать, что все споры, которые в течение стольких веков мучили философов, уничтожаются наглядным свидетельством, и мы избавимся от многословных диспутов. Действительно, Галаксия является не чем иным, как собранием многочисленных звезд, расположенных группами»[125]. Когда Галилей вгляделся в небо при помощи своих оптических изобретений, которые произвели настоящий переворот в ходе научного прогресса, то различил везде, куда ни нацеливал телескоп, множество мелких звезд. Это колоссальное открытие дало человечеству точку отсчета, чтобы судить о масштабе и сложности Вселенной и мира природы.
Нервная система, впрочем, не галактика и свою сложность выказывает лишь тогда, когда перетасуешь линзы телескопа и вглядишься в нее в микроскоп. Одним из первых исследователей микроскопической структуры мозга стал чешский анатом Ян Пуркине (Иоганн Пуркинье в принятой тогда немецкой транскрипции), который в 1838 году сообщил о своем открытии нейронов мозжечка, которые теперь носят его имя. На собственноручных зарисовках ученого клетки Пуркинье похожи на крошечные переспелые луковки – из каждой торчат одна-две стрелки, которые загадочно и многозначительно уходят в никуда[126]. Поскольку оптические приборы того времени были довольно грубыми, Пуркинье смог разглядеть лишь эти клетки – одни из самых крупных в мозге. Луковицеобразные формы, которые он рассматривал, были телом («сомой») нейрона, самой толстой частью клетки, около сотой миллиметра в поперечнике.
Лишь в конце XIX века, когда появились усовершенствованные системы линз и методы подкрашивания препаратов, ученые разглядели, куда уходят луковые стрелки, и ответ всех потряс. Из каждой клетки Пуркинье исходят целые заросли из тысяч ветвящихся волокон – так называемых дендритов, каждый из которых совсем тоненький, но суммарный их объем превосходит объем сомы клетки во много сотен раз. А кроме того, у каждого нейрона Пуркинье есть один длинный корень – аксон, уходящий в мозговую ткань больше чем на 2 см. Подобная изысканная архитектура типична для всей нервной системы, и самое известное свидетельство этого – подробные рисунки нейроанатомов Сантьяго Рамон-и-Кахаля и Камилло Гольджи[127]. Но даже восхитительно-хитроумное устройство отдельной нервной клетки практически меркнет на фоне того, сколько таких клеток в человеческом мозге.
Сложность и в самом деле часто сводится к числам. Личная жизнь Дон Жуана, героя оперы Моцарта, сложна именно потому, что у него было 2065 любовниц, о чем в смятении узнает заглянувшая в его бумажник пассия, – об этом повествует ария «Каталог всех красавиц»[128]. (Представьте себе, как это отразилось бы на странице Дон Жуана в Фейсбуке.) Детектор субатомных частиц АТЛАС, позволивший непосредственно зарегистрировать неуловимый бозон Хиггса, сложен потому, что у него около 100 миллионов каналов вывода данных, а создавала его более пяти лет команда примерно из 300 физиков[129]. Этот детектор обрабатывает в секунду порядка миллиарда событий, каждое из которых генерирует около 1,6 мегабайт данных[130]. Теперь мы знаем, что «Млечный Путь» Галилея состоит примерно из 300 миллиардов звезд, а во всей Вселенной, вероятно, в 200 миллиардов раз больше, то есть всего получается около 70 миллиардов триллионов (семерка и 22 нуля)[131]. Расхожее выражение астронома Карла Сагана «миллиарды и миллиарды» едва ли воздает должное подобным количествам[132]. Разве может мозг сравниться с такими высотами?
Выразить сложность мозга наглядными цифрами и в самом деле очень и очень трудно. Самым очевидным было бы пересчитать клетки, но эти стандартные методы анализа тканей не позволяют установить точное число клеток во всем мозге. Поэтому бразильский нейрофизиолог Сузана Эркулану-Озель, поставив перед собой эту задачу, была вынуждена изобрести особую процедуру[133]. Ее лаборатория получает мозг недавно умерших испытуемых и при помощи сочетания едких химикатов и механического дробления превращает его в слизистую вязкую жидкость. После такого разрушения, как ни странно, сохраняется важная часть каждого мозга – ядра клеток, содержащие ДНК всех клеток; кроме того, по ядру можно определить, какая это была клетка – нейрон или глиальная. Затем исследователи вычисляют плотность ядер в заданном объеме слизистого вещества, полученного из мозга, и по ней определяют количество клеток, составлявших растворенный орган. Эркулану-Озель и ее коллеги при помощи этого метода установили, что в среднем человеческий мозг состоит из 171 миллиарда клеток, из которых примерно половина – нейроны[134].
Чтобы оценить количество синапсов, требуется гораздо более трудоемкая процедура. Ученые тщательно окрашивают образцы взятой посмертно ткани мозга металлическим красителем, который особенно хорошо пристает к синапсам. Затем ткань мозга рассекают на тонкие слои, каждый меньше тысячной доли миллиметра в толщину, и изучают срезы при увеличении в 50 тысяч раз под электронным микроскопом. Подсчитав таким образом синапсы в большом количестве репрезентативных срезов, ученые экстраполируют результат и получают среднее количество синапсов в отделах мозга, откуда были взяты срезы[135]. Такой процесс показывает, что в коре человеческого головного мозга может быть до 10 тысяч синапсов на каждый нейрон[136].
Что говорят такие количества клеток и синапсов о способностях мозга? Если мы ненадолго позволим себе согласиться с упрощенческой аналогией «мозг-компьютер» и представим себе, что каждый синапс сравним с компьютерным битом – переключателем, у которого есть две позиции, 1 и 0, в зависимости от того, активен синапс или неактивен, – получится, что мозг может хранить 100 тысяч гигабайт памяти, примерно столько, сколько нужно на 20 тысяч полнометражных фильмов в современном высоком разрешении (чтобы осознать масштабы, представьте себе, что к вам в голову целиком помещается «Netflix»). Но мозг – не жесткий диск, его обширный запас синапсов применяется в основном для передачи данных между клетками, а этот процесс меняет еще и силу каждого синапса. Многие синапсы задействуются и «обновляются» несколько раз в секунду. Так что держать в голове «Netflix» все-таки невозможно, но триллионы синапсов у вас в мозге способны обеспечивать куда более динамичные и разнообразные функции, чем устройство, способное хранить столько фильмов.
На уровне клеток и синапсов сложность мозга значительно нарастает из-за микроскопической Вселенной хитроумных элементов, составляющих каждую клетку. Каждая клетка несет 35 000 генов, которыми природа снабдила нас, людей. В разных структурах мозга профиль экспрессии генов (какие гены включены, а какие выключены) существенно разнится; у мышей одни лишь паттерны экспрессии генов позволяют нам идентифицировать более 50 смежных областей и подобластей мозга[137]. Каждая клетка мозга содержит также многочисленные органеллы, субклеточные структуры, которые выполняют задачи вроде хранения генетического материала и утилизации отходов. Среди органелл в мозге особенно распространены митохондрии, «клеточные энергоустановки»; они потребляют около 20 % всего запаса энергии, расходуемой организмом[138]. Если перейти на масштаб еще меньше, окажется, что в мозге содержится бесчисленное множество биоактивных молекул. Среди важных разновидностей этих молекул и около сотни нейромедиаторов и нейромодуляторов, о которых мы говорили в предыдущей главе, и крупные биологические молекулы, например, белки и ДНК, играющие в пределах каждой клетки весьма специфические роли. В сумме молекул в мозге больше, чем звезд во Вселенной, – их буквально миллиарды миллиардов миллиардов.
Однако многие нейрофизиологи скажут, что сложность мозга гораздо нагляднее видна не в количестве его компонентов, а во взаимодействиях между ними. В ведре воды молекул больше, чем в мозге, но поскольку все молекулы в ведре имеют одну и ту же скучную формулу H2O, в нем возможно лишь относительно небольшое количество взаимодействий нескольких конкретных типов. Биомолекулы мозга, напротив, обладают самыми разными структурами со множеством деталей и вступают в избирательные взаимодействия с определенными наборами других молекул в зависимости от их формы. Если каждый тип молекул в мозге обозначить точкой, а каждое взаимодействие – линией между парой точек, в результате получится огромный пушистый клубок пересекающихся линий, и для его интерпретации понадобится сложный вычислительный анализ.
Сложность молекулярных взаимодействий в клетках наблюдается во всех органах в организме, однако в мозге есть и дополнительный уровень сложности, характерный только для него, – это взаимодействия между клетками. Благодаря тоненьким аксонам и дендритам нейронов, а также влиянию астроцитов, которые запускают самые разные клеточные процессы по своим отросткам, клетки мозга способны дотягиваться и дотрагиваться до множества разных клеток одновременно. У отдельных нейронов таких отростков бывают сотни, и они действуют словно провода, передающие электрические импульсы. Аксоны, переносящие информацию из одной части мозга в другую, достигают нескольких сантиметров в длину и составляют светлую сердцевину мозга под корой – белое вещество. По некоторым оценкам, общая длина нервных волокон в белом веществе у нормальных взрослых превышает сотню тысяч километров – это в два с лишним раза больше окружности Земли, больше суммарной длины федеральных автострад на всей территории США[139]. Если же взять, к примеру, печень, мы обнаружим, что клеток в ней столько же, сколько в мозге, однако связи между ними значительно ограниченнее[140]. Клетки печени компактны и контактируют лишь с десятком непосредственных соседок в ткани. Они живут в эпоху до шоссе и телефонов по сравнению с клетками мозга, обитающих в эру Интернета.
Задача составить схему всех связей между клетками мозга испугает даже Геракла от науки, однако именно этим занимается сравнительно новая отрасль нейрофизиологии – коннектомика[141]. Ученые, занимающиеся коннектомикой, применили те же процедуры, что и для подсчета синапсов при помощи электронного микроскопа, только на огромных масштабах. Они исследовали не отдельные ультратонкие срезы мозговой ткани, а систематически изучали каждый срез (каждую клетку, каждый синапс) в целых блоках ткани. Поскольку это очень трудно и стоит очень дорого, пока что были проанализировали только блоки объемом меньше кубического миллиметра, однако в результате уже появилась новая информация о межклеточных контактах.
Одну из первых статей по коннектомике опубликовали Уинфрид Денк, Себастьян Сеунг и их коллеги. Статья посвящена анализу маленького образца сетчатки глаза мыши; хотя сетчатка, строго говоря, не является отделом мозга, анатомически она очень близка к мозговой ткани и тоже считается частью центральной нервной системы[142]. Ученые применяли и автоматические методы обработки данных, и анализ изображений вручную (он занял 20 тысяч часов, к счастью, распределенных на несколько человек) и выделили в блоке ткани сетчатки 840 нейронов. Каждый нейрон контактировал в среднем со 150 другими клетками – примерно столько, сколько «френдов» у типичного пользователя Фейсбука. Только подумайте, сколько возможных контактов получится, если обобщить это число на все 100 миллиардов нейронов в мозге человека: если каждый из нейронов может контактировать со 150 случайно выбранными партнерами, значит, для каждой клетки возможно около 101389 конфигураций (единица с 1389 нулями). По сравнению с этим числом меркнут все числа, с которыми мы сталкиваемся в живой природе, даже число атомов в известной Вселенной, как полагают, составляет всего 1080 (единица с 80 нулями) – сущий пустяк. Конечно, рассчитывать конфигурации подобным методом – очень произвольный подход к изучению структуры мозга, однако результат все же показывает, как поразительно многообразны паттерны связности между клетками мозга, по крайней мере, теоретически.
* * *
Когда задумываешься о числовом выражении невероятной сложности мозга, легко поддаться на соблазны сакрализации мозга. Мы пасуем перед его хитросплетениями и готовы признать, что мозг – это загадка под покровом тайны в ореоле мистицизма. Нам уже не очень важно, что создало мозг – высшая сила или эволюция; вопрос в другом – как разобраться в его механизмах? Если у нас возникает искушение оставить надежду когда-нибудь понять, что такое мозг, и выяснить, каковы его чудесные способности, то, вероятно, мы просто считаем, что задача разом охватить деятельность миллиардов клеток, триллионов связей и октильонов молекул попросту не по силам человеческой изобретательности. Но отчаяться мы еще успеем, а пока зададимся вопросом, в какой степени астрономические количества клеток и связей в человеческом мозге необходимы для объяснения его функционирования. Если отлить из ведра воды одну каплю, разницы никто не заметит, более того, мы можем описать содержимое ведра в физических терминах, не имеющих отношения к отдельным капелькам. А если так, возможно, стоит спросить, в какой степени отдельные клетки и их связи влияют на функционирование мозга в целом?
На этот вопрос есть несколько ответов, отчасти неожиданных. Один из них опирается на размеры мозга. Нормальный объем мозга у взрослых людей колеблется в пределах 50 % – от литра до полутора[143]. При этом объем мозга лишь слабо коррелирует с интеллектом – по подсчетам ученых, он отвечает лишь за 10 % вариабельности IQ[144]. Иногда различия в объеме мозга объясняются разницей в плотности клеток, однако размер коррелирует и с отклонениями в общем количестве клеток мозга, по крайней мере, у мышей, для которых доступны такие данные[145]. Так что вероятно, что размеры мозга у людей значительно различаются и из-за количества содержащихся в них клеток и связей, но эти отклонения лишь слабо влияют на ментальные функции. Колебания количества мозговых клеток могут быть связаны и с возрастом, и с болезнями, и это зачастую не оказывает видимого воздействия на когнитивные способности. При нормальном старении объем мозга снижается примерно на 0,4 % в год, а при болезни Альцгеймера, даже до постановки диагноза, – более чем на 2 % в год[146]. Напрашивается мысль, что человек может пережить гибель миллиардов клеток мозга и при этом ощущать разве что легкие когнитивные расстройства. Как видно, не все клетки мозга сакральны.
Особенно ярко видно, что отсутствие нервных клеток может компенсироваться, на примере редкого и весьма примечательного врожденного дефекта. В 2014 году в одну китайскую клинику обратилась женщина 24 лет с жалобами на тошноту и головокружение[147]. В прошлом у этой женщины наблюдались сложности с чувством равновесия, а ходить и говорить она научилась сравнительно поздно – к семи годам. Когда врачи провели сканирование ее мозга, оказалось, что у нее нет целого отдела мозга – мозжечка. Мозжечок влияет на чувство равновесия и координацию движений, к тому же плотность клеток в нем особенно велика – мозжечок составляет всего 10 % массы мозга, но содержит 80 % нейронов, и в данном случае их просто не было! Тем не менее эта женщина прожила без мозжечка почти четверть века, вышла замуж, родила ребенка и вела относительно нормальную жизнь – у нее лишь был «слегка сниженный интеллект и двигательные расстройства средней степени».
Радикальные нарушения целостности мозга могут быть и следствием хирургических операций для лечения эпилепсии. В самых тяжелых случаях врачи иногда решаются на удаление целого полушария головного мозга. Эта опасная процедура ставит под угрозу жизнь больного и почти всегда приводит к параличу противоположной стороны тела. Но в остальном удаление огромного куска мозга переносится на удивление легко. Группа хирургов в Медицинской школе Джонса Хопкинса провела за 30 лет 58 операций гемисферэктомии у детей[148]. Впоследствии они писали: «Мы потрясены тем, что после удаления половины мозга – причем любой половины – по всей видимости, полностью сохраняется память, а также личность ребенка и чувство юмора». Эти результаты тем примечательнее, что, в отличие от мозжечка, области мозга, удаляемые при гемисферэктомии, теснейшим образом ассоциируются с когнитивными способностями человека и особенно хорошо развиты у людей по сравнению с другими животными. Такие примеры показывают, насколько все в голове избыточно. Оказывается, огромные участки мозга могут отсутствовать или отмереть, их можно удалить – и все это никак не скажется на важнейших сторонах личности и мышления.
* * *
Даже если в мозге человека не хватает 80 % нейронов, он сохраняет множество компонентов, ведь что такое несколько десятков миллиардов клеток, если в твоем распоряжении осталась еще сотня миллиардов? Искалеченный, изуродованный мозг – будто страна, пережившая войну или голод. Население резко сократилось, но по порядку величины мозг остался таким же, как любой здоровый, и резонно предположить, что многие биологические механизмы остались нетронутыми. Все, что сохранилось в поврежденном мозге, по-прежнему чудовищно сложно, и эта сложность, вероятно, нужна для восприятия и когнитивных процессов. Но можно ли удалить еще более массивные части мозга, не пожертвовав основными аспектами его функционирования? Сейчас нет никаких способов определить, каким минимумом частей может обойтись человеческий мозг, чтобы продолжать работать, но можно сделать некоторые выводы на примере наших родственников по эволюционному фамильному древу. Если рассмотреть других животных, можно задаться вопросом, требуют ли когнитивные способности миллиардов нейронов. На этот вопрос природа, похоже, отвечает однозначно: нет.
И маленький мозг способен обеспечивать весьма разумное поведение, что доказывают наши кузины-птицы, невзирая на расхожее выражение «птичьи мозги» или «куриные мозги». Вот и Христос, как известно, пренебрежительно замечал: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы» (Матф. 6:26), однако сами птицы это опровергают, демонстрируя незаурядные умственные способности: некоторые виды птиц производят действия, очень напоминающие сбор урожая и создание запасов зерна, тем самым показывая, что умеют и запоминать, и строить планы, и стратегически мыслить. Интереснейший пример такой рассудочной деятельности у приморских ворон зафиксировал выдающийся натуралист Чарльз Абботт в 1883 году. «Я несколько раз своими глазами видел, как вороны разбивают раковины мидий, бросая их с большой высоты, – писал он. – Причем сброшенные раковины они не трогали, пока не возвращались воды прилива, отчего ловить рыбу становилось невозможно, и тогда птицы спешили попировать результатами своих разумных трудов. Как ни удивительно, вороны осознавали природу приливов и… умело пользовались этими знаниями»[149]. Вообще говоря, члены семейства врановых, в которое входят и во́роны, и сороки, и вороны, которыми так восхищался Абботт, проявляют незаурядный ум, практически неслыханный для животных, не относящихся к отряду приматов[150]. Доказано, что врановые предвкушают события в будущем и готовятся к ним, изготавливают и применяют орудия труда, узнают людей на улице и самих себя в зеркале. Ворон-пророк из стихотворения Эдгара По, сорока-воровка из одноименной оперы Россини, умная ворона, додумавшаяся, как попить воды из глубокого кувшина, в одной из самых известных басен Эзопа – все это дань уважения поразительным умениям этих птиц. Проницательностью славятся и попугаи. С древнейших времен их прославляли за способность общаться словами и знание простых команд. Особенно примечателен пример, который приводит этолог Айрин Пепперберг – она подробно описала невероятные интеллектуальные способности попугая-жако Алекса, с которым работала 30 лет. Алекс выучил более сотни английских слов, умел считать, распределять предметы по категориям и критиковать. «Ах ты индюшка!» – кричал он, когда ему кто-то или что-то не нравилось[151].
Рис. 5. Сравнительные размеры мозга разных биологических видов (в масштабе). Изображения получены из Висконсинского университета и Сопоставительных коллекций образцов мозга млекопитающих штата Мичиган () под эгидой Национального научного фонда и Национальных институтов здоровья США
Соль подобных анекдотов в том, что врановые и попугаи способны на все эти интересные фокусы, хотя размер мозга у них всего 7–10 мм, меньше 1 % размера мозга человека[152]. Пусть эти животные сами не могли сочинить ни стихи По, ни арии Россини, но по способностям они сопоставимы с шимпанзе и гориллами, нашими ближайшими эволюционными родственниками, у которых примерно в 20 раз больше нейронов[153]. Хотя мы, люди, превосходим все эти виды и по интеллектуальным способностям, и по количеству мозговых клеток, наш мозг по всем этим параметрам уступает мозгу китов и слонов: у этих животных мозг втрое-впятеро тяжелее нашего, но в целом считается, что они совсем не так интеллектуальны, как мы (рис. 5)[154]. Это значит, что абсолютный размер мозга или число его отделов не может дать ответ на загадку, как мозг обеспечивает когнитивные способности и управляет поведением.
В том, что размеры мозга сами по себе относительно неважны, можно убедиться и при сравнении представителей групп биологических видов, которые сильно отличаются по габаритам, но в остальном очень похожи. Возьмем, к примеру, грызунов – их размеры варьируются от крошечной карликовой мыши (около 8 г) до свиноподобной амазонской капибары (40–60 кг). Эти виды и обитают в похожих условиях, и ведут весьма светский образ жизни, и, похоже, не слишком различаются по интеллекту. Но у капибары мозг весит примерно 80 г и содержит около 1,6 миллиарда нейронов, а у карликовой мыши – меньше 0,3 г и, скорее всего, содержит менее 60 миллионов нейронов[155]. Приблизительное соответствие массы мозга и массы тела у этих родственных видов неудивительно, более того, отношение массы мозга к массе тела зачастую применяется для предсказания интеллекта вида. Но эта мысль резко противоречит теории, что чем крупнее мозг и чем больше в нем клеток, тем он сложнее и хитроумнее. Отношение массы мозга к массе тела у миниатюрной карликовой мыши и внушительной капибары – примерно 1/20 и 1/500 соответственно. По таким расчетам крошка-Давид и в самом деле должен быть гораздо смышленее Голиафа, хотя нейронов у него в 25 раз меньше.
Исследования самых разных видов показывают, что в целом у мелких животных мозг меньше, а отношение массы мозга к массе тела больше. Вероятно, именно поэтому в мультфильмах крупные животные всегда туповаты. Мозг муравья весит 1/7 тела, а наш, человеческий, – 1/40, и если опираться в основном на отношение массы мозга к массе тела, можно сделать вывод, что муравьи раз в 6 умнее нас[156].
Чтобы обойти очевидную проблему, к которой приводят такого рода выводы, исследователи пронаблюдали, как мозг увеличивается (и уменьшается) в зависимости от размеров тела, и обнаружили, что изменение размеров мозга происходит в другом темпе, чем у тела, и это соотношение разное у разных ветвей эволюционного древа. Подобный метод так называемого аллометрического масштабирования мозга означает, например, что если какой-то вид в ходе эволюции со временем утраивает вес, размер его мозга или количество нейронов иногда увеличивается лишь вдвое. Если эволюция и дальше ведет в сторону увеличения габаритов тела, то на каждое утроение веса тела приходится очередное удвоение объема мозга или количества нейронов. Принципы аллометрического масштабирования показывают, что большое отношение массы мозга к массе тела у муравья, вероятно, не дает той когнитивной мощи, какую мы наблюдали бы у гипотетического насекомого размером с человека. Но и крошечный мозг муравья обеспечивает внушительный поведенческий репертуар, так что даже сам Чарльз Дарвин как-то заметил: «…мозг муравья есть одна из самых удивительных в мире совокупностей атомов материи, может быть более удивительная, чем мозг человека»[157]. Масштабирование отношения габаритов тела и мозга показывает, что иметь в своем распоряжении многие миллиарды нервных клеток само по себе не очень полезно. Скорее к большому мозгу полагается большое тело, а естественный отбор, вероятно, способствует такому сочетанию по причинам, имеющим мало отношения к уму. Некоторые биологи предполагают, что сравнительные интеллектуальные преимущества возникают, когда мозг у животного больше ожидаемого с учетом законов масштабирования[158]. При такого рода измерениях человек и другие приматы выглядят очень выигрышно: размер мозга и плотность нейронов у них больше, чем у других млекопитающих сопоставимых размеров. Но даже при таком подходе принципы масштабирования в целом подталкивают к выводу, что примерно одинаковый IQ обеспечивается самым широким диапазоном размеров мозга.
Чем же определяются умственные способности, если не объемом мозга и не количеством клеток? В предыдущей главе мы подметили интересную наводку: вживление человеческой нейроглии в мозг мышей, похоже, делает мышей умнее. Если в человеческой нейроглии есть что-то особенное, может быть, есть и другие типы клеток, разные у разных видов, которые помогут определить, на что способен каждый организм? И в самом деле, многие нейрофизиологи считают, что мозг состоит из относительно обозримого набора типов клеток, которые различаются по тому, какие нейрохимические вещества они используют и какие связи создают[159]. Представим себе, что типы клеток – как члены строительной бригады: экскаваторщики, каменщики, штукатуры, кровельщики, водопроводчики и электрики. Если роль каждого типа в разных частях мозга остается более или менее прежней, то понять, как функционирует мозг, становится во много раз проще, примерно как понять, как строят город, гораздо проще, если знать, как возводят отдельные здания. В наши дни исследователи стремятся разобраться, сколько именно существует типов нейронов и глиальных клеток и что они делают. Кроме того, нейробиологи выявляют и изучают, какие характерные структуры создают клетки разных типов. В число таких структур входит, например, так называемая колонка кортекса[160]. Эти колонки – многоклеточные объединения примерно в полмиллиметра диаметром, покрывающие поверхность мозга, будто плитки мозаики.
Важная роль колонок кортекса и разных типов клеток подсказывает, что главные аспекты мозговой деятельности можно выяснить и без отсылок на то, как много в нем подобных компонентов. Такой подход хорошо зарекомендовал себя при изучении других органов. Например, в человеческих почках клеток больше, чем в коре головного мозга, но большинство этих клеток организованы в миллионы примерно одинаковых структур, которые называются нефроны и действуют параллельно – фильтруют кровь и выводят отходы. Поджелудочная железа тоже состоит из миллиардов клеток, но ее функции можно проанализировать в рамках небольшого набора хорошо известных типов клеток, вырабатывающих все гормоны, которыми славится этот орган.
С точки зрения понимания мозговой деятельности большой оптимизм внушают нынешние экспериментальные исследования структурных и функциональных подотделов мозга. Помимо данных о деятельности маленького или поврежденного мозга, эти исследования, позволяющие сильно упростить задачу, ставят под сомнение косный взгляд, согласно которому человеческий мозг до того сложен, что любые попытки описать его простыми формулами выводят его за рамки царства природы и делают науку бессильной.
* * *
«Я не понимаю того, что не могу создать». Эти слова были начертаны на доске в кабинете великого физика Ричарда Фейнмана, нобелевского лауреата и кумира всех любителей науки, в день его смерти в 1988 году[161]. Иногда этот афоризм Фейнмана цитируют как указание на цель, которой мы должны достигнуть, чтобы одержать победу в понимании функционирования мозга[162]. Созданием мозга считается и физическая «сборка» его из клеток в лаборатории, и успешная симуляция на компьютере. В Европе в наши дни идет работа над проектом «Human Brain Project» стоимостью в миллиард долларов: ученые стремятся симулировать мозговую деятельность на компьютерах, исходя из совокупного поведения 100 миллиардов «виртуальных нейронов»[163]. Похожие задачи ставят перед собой и американские ученые: они регистрируют «каждый спайк от каждого нейрона» в мозге млекопитающего[164]. Многие нейрофизиологи скептически относятся к подобным проектам, поскольку считают, что прогресс в этой области еще не оправдывает амбиций подобного размаха. Ведь специалистам по вычислительной биологии пока не удалось симулировать даже поведение одной-единственной биологической молекулы или клетки, не говоря уже о целых органах, а экспериментаторы способны зарегистрировать активность всего нескольких сотен клеток из глубинных областей мозга, так что об изучении активности всех до единой клеток пока нечего и мечтать. Учитывая положение дел в современной науке, организовывать проект с целью симулировать или отслеживать деятельность мозга в целом с разрешением на уровне клеток – все равно что посылать астронавтов в другие галактики, еще не сумев добраться до Марса.
Крупные нейрофизиологические проекты, призванные понять мозговую деятельность на основании моделирования или исследования каждой клетки, показывают, как мы одержимы идеей сверхсложности мозга: в других областях науки такое бывает крайне редко. Если бы у нас и в самом деле были средства для полного изучения и измерения структуры и деятельности человеческого мозга, мы, вероятно, сумели бы пролить свет на его устройство и работу, но с той же вероятностью не увидели бы за деревьями леса (или по крайней мере больших его участков). Представим себе, что мы пытаемся проанализировать великое историческое событие, например, Французскую революцию, проследив анонимные передвижения каждого человека в каждом доме и на каждой улице по всей стране. Если мы методически прочешем каждый день с 1789 по 1799 год, то, скорее всего, сумеем отследить перемены общественно-политического климата и зарегистрировать эпицентры смуты; но удастся ли нам выявить главных игроков – Дантона и Робеспьера, якобинцев и жирондистов, Людовика, тайно бегущего из Парижа? Удастся ли объяснить, какую роль они играли? Или же мы отвлечемся на похождения остальных 28 миллионов французов? Разумнее было бы объединить большие группы населения в классы и сословия (то есть типы клеток), которые коллективно обеспечивали общественные перемены.
* * *
Один из немногих организмов, нервная деятельность которых на сегодня описана практически полностью, – скромный червь нематода. Однако «воссоздать» в любом смысле слова мозг этого существа мы пока не в силах[165]. Сегодня ученые в состоянии измерить активность и связность каждой клетки в нервной системе этого червя, однако попытки симулировать ее поведение находятся в зачаточном состоянии[166]. Многие ученые, вероятно, согласятся, что самые важные открытия в области нейробиологии нематоды дает нам не анализ полных баз данных, а узконаправленные эксперименты по изучению того, каким образом конкретное поведение червя – как он ползает, как откладывает яйца – соотносится с небольшим количеством определенных клеток, генов или сигнальных путей. В других отраслях биологии также удалось получить полные данные о генетических особенностях той или иной клетки, о том, какие гены включены, а какие выключены, о взаимодействиях между генными продуктами (белками). Данные на масштабе так называемых омов позволяют современным ученым исследовать, как многочисленные молекулы взаимодействуют в ходе процессов наподобие роста и коммуникации клеток. Но даже такая информация, как правило, дает больше всего результатов, если исследователям удается свести все к небольшому количеству факторов, которые их особенно интересуют; тогда можно изучить происходящее более подробно и лучше проверить, какую роль играет каждый фактор.
Такие примеры показывают, как опасно путать данные с пониманием. Усердный поиск информации не всегда приводит к пониманию, а понимание не обязательно строится на всех и даже на большинстве данных, которые мы можем получить и проанализировать. Задумаемся, что такое, например, понимать устройство машины. Если вы водите, то, вероятно, отчасти представляете себе, как она работает. Если машина оборудована стандартным двигателем внутреннего сгорания, то в ее цилиндрах воспламеняется бензиново-воздушная смесь, расширяется, вращает коленвал, который затем передает энергию колесам и заставляет машину двигаться. Если знаешь, как работает машина, на таком базовом уровне, это не гарантирует, что ты можешь ее починить или собрать из запчастей, – для этого нам обычно нужны механики. Напротив, если увидишь чертежи современной машины или даже видео о том, как работают все ее механизмы, то, скорее всего, не сможешь понять, каковы функции большинства ее компонентов, даже если узнаешь несколько основных элементов. А симулировать машину при помощи чертежей еще труднее: чтобы сделать это хорошо, потребуется, вероятно, огромное количество дополнительных сведений о различных факторах вроде трения, полноты сгорания, теплопередачи, – всего того, что выходит далеко за рамки необходимых основных представлений об устройстве машины.
А задача достичь холистического понимания мозговой деятельности, в противоположность попыткам разобраться в устройстве машины, изначально неверно поставлена. Ведь машина выполняет одну-единственную самодостаточную функцию: это средство транспортировки пассажиров[167]. А мозг – многогранная, многоцелевая сущность, которая не в состоянии функционировать в отрыве от организма, в состав которого входит. То, как мозг обеспечивает сознание, скорее всего, сильно отличается от того, как он руководит принятием решений, засыпает или переживает судорожный припадок. Вспомните собственный жизненный опыт. Когда вы ведете непринужденный разговор с другом, то одновременно, скажем, смотрите в окно, наблюдаете, как качаются на ветру деревья, вспоминаете стихотворную строку, расслабляетесь после тяжелого рабочего дня, но то, как вы взаимодействуете с другом, имеет мало отношения к тому, как вы воспринимаете деревья или вспоминаете стихи, как и к тому, как меняется ваше настроение, когда вы сбрасываете напряжение. Более того, можно попытаться объяснить каждое явление в отрыве от остальных. За разнообразными ролями мозга в разных областях – коммуникацией, зрительным восприятием, эмоциональной регуляцией – стоят совсем разные механизмы. Так что все это можно в значительной степени разобрать по отдельности, и на сегодня мы и в самом деле располагаем обширными рудиментарными знаниями об этих процессах во всем их разнообразии.
Требовать, чтобы нейрофизиологические исследования принимали в расчет все функции мозга на уровне отдельных клеток, синапсов и молекул – значит применять к этому органу особые стандарты. Все это ставит перед исследователями практически недостижимую цель – и вдобавок эта цель, скорее всего, не необходима и не достаточна для осмысленного понимания множества разнообразных задач, которые выполняет мозг. Как мы уже видели, многие отделы мозга, вероятно, даже не нужны для обеспечения его основных функций.
Хотя свойства мозга и в самом деле сложны и загадочны, количественная сложность устройства мозга отнюдь не ставит его особняком среди прочих творений природы и других частей тела. Прикрывать мозг завесой сложности – значит произвольно выделять его из общего ряда: это тоже дихотомия тела-разума, только в иной форме.
Чтобы ощутить, как сложна человеческая природа, возьмем хотя бы Токио. Беспорядочная городская застройка вмещает свыше 30 миллионов жителей, экономика города превосходит по развитию почти все страны, а пейзажи напоминают уходящие за горизонт скопления башенок из детских кубиков, – словом, Токио входит в число крупнейших городских территорий мира. Чтобы стать таким, как сегодня, этот город прошел путь от крошечной рыбацкой деревушки до мегаполиса, был дважды разрушен и дважды возрожден – наглядное свидетельство социально-технических успехов нашего биологического вида в современную эпоху.
А можно оценить нашу сложность и с другой стороны – наведаться в Сикстинскую капеллу в Риме. Вот уже больше 500 лет эта комната служит самым влиятельным религиозным лидерам планеты местом для уединенных молитв. А кроме того, это одно из величайших произведений искусства: гении Возрождения десятилетиями трудились над фресками, покрывающими стены и потолок капеллы, и венцом их творчества стали «Сотворение Адама» и «Страшный Суд» Микеланджело, не имеющие себе равных достижения западной цивилизации. В Сикстинской капелле особенно остро ощущается способность человека выйти за рамки животной природы.
Третий способ почувствовать, как мы сложны, – просто выйти в Интернет. Переворот в информационных технологиях, положивший начало эпохе Интернета, сделал нас тайными очевидцами жизни свыше миллиарда человек – жителей всех стран по всей планете, носителей всех культур. Посмотреть и скачать можно что угодно: в сети вы найдете сведения практически о любом событии, любую книгу, любое произведение искусства, любую творческую идею или безумное излияние чувств, оставившие свой след в мире, и многое из того, что не оставило никакого следа.
Если сложность культуры – мера достоинства биологического вида, то человечество настолько опережает всех диких животных, что любые сравнения бессмысленны. Возникает соблазн предположить, что особенно сложные достижения человечества объясняются такой же сложной структурой человеческого сознания и мозга. Если бы мы ожидали, что наши органы мышления так же сложны по сравнению с мозгом животных, как и наша культура по сравнению с их культурой, то у нас, вероятно, появилась бы даже веская причина отчаяться когда-нибудь понять, как работает наш мозг. Быть может, это чувство и способствует тому, что мы относимся к сложной структуре нашего мозга как к непостижимой тайне? Быть может, культурное превосходство порождает убежденность в нейроисключительности человека? Подобные размышления натолкнули ученых XIX века Жоржа Ваше де Лапужа и Сэмюэля Джорджа Мортона на то, чтобы провести параллель между параметрами мозга и культурными достижениями, а также видимым интеллектом у разных этнических групп[168]. Как мы узнали из главы 1, в итоге все это делалось для демонстрации превосходства белой расы над всеми остальными на основании в основном разницы в размерах мозга. Эти труды давно уже опровергнуты и сейчас считаются разновидностью научного расизма. А если подойти с той же меркой к разнице между человеком и животными, это не вызовет таких споров, но может многим показаться сомнительным по тем же причинам.
Развитие культуры и развитие мозга на эволюционной хронологической шкале разнесены. Примерно такой же мозг, как сейчас, появился у человека задолго до того, как возникло наше сложное общество. Homo sapiens и наши ближайшие родственники из рода Homo существуют уже значительно более миллиона лет. Морфология мозга у наших предков-людей была примерно одинаковая, хотя размер несколько варьировался[169]. У неандертальцев, живших на Земле более 200 тысяч лет назад, мозг был крупнее нашего, а у пигмеев, исторически появившихся сравнительно недавно и обнаруженных на индонезийском острове Флорес, – в три раза меньше, чем у нас[170]. Основная часть эволюционной истории людей не оставила нам никаких культурных реликтов, кроме простых каменных или костяных орудий труда. Самое древнее известное нам произведение искусства насчитывает всего 100 тысяч лет, а урбанизация и сельское хозяйство появились лишь в ходе неолитической революции каких-то 10 тысяч лет назад[171]. А до той поры наши предки, вероятно, были всего-навсего предприимчивыми животными, умевшими общаться и пользоваться орудиями труда немного лучше ворон.
Культура и мозг и в наши дни не слишком тесно связаны. Утонченный современный стиль жизни можно вести и без человеческих мозгов, а если мозг есть, это не обязывает человека взаимодействовать с благами научно-технического прогресса. Даже сегодня некоторые человеческие сообщества прекрасно живут без особой зависимости от передовых достижений цивилизации, хотя биологически их члены тождественны нам. Например, «неконтактные народы» Новой Гвинеи и Южной Америки и сегодня живут по обычаям каменного века и практически полностью изолированы от более современных сообществ[172]. С другой стороны, многие животные (не люди) из наших лабораторий, зоопарков и домов полностью погружены в жизнь XXI века с ее техническими удобствами. Наши одомашненные друзья, обладающие, как мы считаем, менее сложным мозгом, практически наравне с нами пользуются благами современной медицины, едят переработанную пищу, смотрят фотографии и позируют для них, взаимодействуют с самыми разными электронными устройствами. Разумеется, наши домашние и лабораторные животные получают доступ к технике, которую придумали другие, сами они ничего не изобретают, но ведь то же самое опять же можно сказать и о большинстве людей.
Ошибочная тенденция делать вывод о сложности мозга на основании сложности культуры выводит на первый план темы следующих глав: мы перейдем от мифов о том, из чего состоит мозг, к заблуждениям, касающимся взаимодействия мозга с телом и средой. На этом пути нам встретятся новые примеры разграничения тела и мозга, и мы увидим, как резки эти границы и как сильно подобные идеи влияют на наши представление о человеческом разуме и душе.
Глава четвертая В поисках Годо
Одно из величайших достижений современной медицинской техники – изобретение инструментов для сканирования мозга и процедур, которые позволяют врачам и ученым рассматривать живое содержимое черепа, не прибегая к хирургической операции. Эти процедуры оказали мощнейшее воздействие на научный прогресс, удостоились двух Нобелевских премий[173] и, возможно, сказались на формировании популярных представлений о мозге сильнее всех остальных аспектов современной нейрофизиологии. Судя по распространенности и авторитетности методов сканирования мозга они, похоже, сами обрели сакральный статус. В наши дни ежегодно публикуется свыше 10 тысяч научных статей по медицине, где так или иначе упоминается сканирование мозга[174]. Кроме того, сканирование мозга упоминается даже в столь далеких от нейрофизиологии областях, как экономика и юриспруденция. Сканы мозга вы наверняка видели: либо вращающиеся на экране трехмерные, на которых видно местоположение опухоли, либо переливающиеся яркими цветами, где показано, как на мозг влияет то или иное лечение или решение той или иной задачи. Если вам доводилось попадать в больницу с любыми неврологическими жалобами, вам, скорее всего, в ходе обследования делали рентгеновскую компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), так что вращающийся мозг и переливы цвета, возможно, были ваши. Очень многие из нас знакомятся с собственным мозгом именно благодаря сканированию.
Самая удивительная разновидность сканирования мозга – так называемое функциональное сканирование, изучение при помощи изображений мозга в действии, а не просто его структуры. Как правило, его проводят при помощи функциональной МРТ или фМРТ – этому методу я посвятил большую часть собственной карьеры. В девяностые годы прошлого века фМРТ стала самым мощным методом картирования мозговой деятельности человека, а в дальнейшем она прочно закрепилась как основа нейрофизиологических исследовательских программ во всем мире[175]. Чтобы провести эксперимент с фМРТ, исследователи делают множество сканов мозга человека, лежащего в аппарате для МРТ в течение некоторого времени, и соединяют их, как фильм[176]. Затем они анализируют серию изображений и выявляют перемены, зависящие от времени, соответствующие каким-то занятиям или ощущениям испытуемого. Эти перемены показывают, как влияют на поведение испытуемого разные отделы мозга. При помощи фМРТ исследователи смогли выявить отделы мозга, отвечающие за восприятие форм, цветов, запахов, вкусов, за ошибки, действия, эмоции, вычисления и многое другое. Иногда ученые ставят и более рискованные задачи – например, ищут, какие области мозга отвечают за юридическое мышление или за то, что человек предпочитает пепси-колу кока-коле[177]. В клинической практике врачи и ученые применяют фМРТ и смежные методы для распознавания аномалий мозговой деятельности, связанных с различными болезнями, например, с аутизмом или шизофренией. «Влияние исследований, основанных на фМРТ, изменило нашу жизнь», – говорит Брюс Розен, один из изобретателей этого метода[178]. Ежегодно выходят сотни газетных статей, где речь так или иначе идет о фМРТ, так что этот метод воспринимается как флагман современной нейробиологии[179]. Читателей интригуют броские заголовки вроде «Вот как выглядит мозг политика» или «Наблюдаем, как влюбленность истощает мозг»[180]. Особого внимания удостаиваются смелые заявления, что сканирование мозга позволяет читать мысли, разоблачать обман и помогать маркетологам продвигать товары. Психиатр Салли Сэйтел и психолог Скотт Лилиенфельд в разговоре о всеобщем энтузиазме по поводу подобных историй выразили сожаление, что функциональное картирование мозга в итоге вытеснило другие действенные методы анализа ментальных и поведенческих феноменов. При этом они признают, что «легко видеть, почему сканирование мозга так соблазняет всякого, кто мечтает приподнять завесу тайны над ментальной жизнью окружающих»[181].
Поскольку сканирование мозга позволяет встретиться один на один с живым человеческим мозгом, резонно представить себе, что фМРТ могла бы стать и противоядием против сакрализации мозга. Ведь для осознания биологической реальности, стоящей за разумом и душой человека, нет ничего полезнее, чем увидеть, как работает мозг у тебя в голове, при помощи функционального томографа и тому подобных приборов. В 2008 году появилась статья, вызвавшая много споров, авторы которой, психологи Дэвид Маккейб и Алан Кастел, предположили, что сканы мозга так привлекают дилетантов именно потому, что «обеспечивают абстрактным когнитивным процессам физическую основу»[182]. Однако из этой главы мы узнаем, что в пользу такой точки зрения недостаточно доказательств. Более того, результаты сканирования мозга часто толкуются противоречиво и тем самым дают возможность выбирать между совершенно несовместимыми концепциями сознания и мозга. Даже главные научные открытия, сделанные при помощи сканирования мозга, – выявление областей мозга, ответственных за конкретные когнитивные задачи, – парадоксальным образом укрепляют дихотомию разума и тела, которую мы рассмотрели в предыдущих главах. Постараюсь доказать, что, если мы хотим в полной мере оценить место мозга в природе человека, нам следует заглянуть далеко за пределы возможностей современных методов сканирования мозга.
* * *
Для начала проверим, как вы отреагируете на настоящие данные функционального сканирования мозга. Рассмотрим рисунок 6. Со страницы на вас таращится пара пятнистых серых на черном эллипсоидов. Правый – скучный, почти что однотонный, зато левый весь испещрен яркими искорками. Если вы с луны свалились, то эти картинки ничего вам не скажут, – не более чем принаряженные пятна Роршаха, которым можно приписать какой угодно смысл. Но если вы, как и многие наши современники, натренированы массой подобных изображений в СМИ, то, вероятно, знаете, что это изображения мозга. По воле случая левый и правый овалы – это функциональные сканы мозга двух разных групп испытуемых. Скучный мозг справа – «группа, страдающая ожирением». Яркий мозг слева – «группа, не страдающая ожирением». Переливы тона, отсутствующие на картинке справа, отражают активацию области мозга под названием «префронтальная кора». Ниже красуется пояснение: «У испытуемых, страдающих ожирением, при демонстрации изображения пищи менее активированы области мозга, отвечающие за самоконтроль». Из этой зарисовки очевидным образом следует, что сканирование мозга помогает объяснить, как люди, страдающие ожирением, реагируют на пищу.
Верите ли вы этим результатам? Кажутся ли они вам интересными, а может быть, и неожиданными? Изменилось бы ваше мнение, если бы пояснение не сопровождалось сканами мозга? Влияют ли на вашу реакцию ваши представления о разуме и душе? Например, если вы религиозны, заставляет ли вера рассматривать сканы мозга и сопутствующее пояснение с большим или меньшим скептицизмом?
Рис. 6. Клиническая зарисовка с примерами функциональных сканов мозга из исследования Хук и Фара, изучавших воздействие сканов головного мозга на убеждения. Области активации обведены тонкими линиями из точек, положительные – светло-серые, отрицательные – темно-серые. Адаптировано с разрешения авторов по материалам статьи C. J. Hook and M. J. Farah, «Look again: Effects of brain images and mind-brain dualism on lay evaluations of research», «Journal of Cognitive Neuroscience» 25 (2013): 1397–1405, © 2013 Massachusetts Institute of Technology
Нейрофизиологи-когнитивисты Кейси Хук и Марта Фара задали эти вопросы в ходе масштабного исследования реакции на сканы мозга, проведенного в 2013 году[183]. В частности, целью ученых было проверить гипотезу Маккейба и Кастела, согласно которой сканы производят такое сильное впечатление, поскольку показывают, что у ментальных процессов есть физические проявления. Если бы гипотеза Маккейба – Кастела была верна, рассуждали Хук и Фара, то те, кто верит в бестелесную душу, были бы сильнее прочих удивлены такими результатами сканирования мозга и не так охотно соглашались бы с ними. Показать таким дуалистам данные фМРТ – все равно что представить инопланетян человеку, который отрицает внеземную жизнь. С другой стороны, те, кто верит, что разум полностью материален, отнесутся к данным сканирования совершенно спокойно. Эти люди, которых часто называют физикалистами, вероятно, и так считают, что вся магия происходит в мозге, и совершенно не удивятся очередным новостям о связи мозга с поведением.
Примечательно, что по данным Хук и Фара дуалисты и физикалисты реагировали на предъявленные им данные функционального сканирования мозга одинаково. Примеры данных о физической манифестации разума в мозге удивляли и интересовали дуалистов в той же мере, что и физикалистов, – или наоборот. Более того, испытуемые реагировали примерно одинаково и на клиническую зарисовку без самих сканов, и на сканы с пояснением, хотя изначально исследователи предполагали, что изображения должны несколько подхлестнуть интерес. «Мы опросили 988 испытуемых, – заключили ученые, – и практически не нашли свидетельств, что сканирование мозга как-то влияет на имеющиеся дуалистические убеждения, если испытуемые сами в них признавались». Но если сканирование мозга доказывает, что у сознания есть сугубо биологическая основа, должно было быть совсем иначе.
Оказывается, убежденные дуалисты относятся к данным сканирования мозга вовсе не с недоверием или отвращением: напротив, они охотно соглашаются, что функциональное сканирование мозга – прекрасный инструмент для изучения бестелесной души, в которую они верят. Один из них – Далай-лама. В последние 10 лет духовный лидер тибетского буддизма сотрудничал с Ричардом Дэвидсоном, когнитивистом из Университета штата Висконсин. Они совместно провели серию экспериментов по сканированию мозга тибетских монахов во время медитации[184]. Согласно догматам буддизма, медитация – один из восьми шагов по духовному пути к нирване, вечному спасению из бесконечного цикла рождений, смертей и реинкарнаций. Однако Дэвидсон с коллегами обнаружили явные физические различия между паттернами мозговой деятельности при медитации у монахов и у послушников[185]. Результаты показали, что буддистские практики монахов влияют на то, как ведет себя их мозг во время медитации, и это прекрасно совместимо с дуалистическими представлениями самого Далай-ламы. Физикалисты скажут, что данные сканирования, которое проводил Дэвидсон, что-то говорят о том, какая мозговая деятельность стоит за актом медитации и за сознанием в целом, но Далай-лама переворачивает все с ног на голову. Он говорит, что его интересует, «в какой степени влияет на мозг само сознание, а особенно мысли о духовном»[186].
Работы Дэвидсона по изучению медитации у тибетцев относятся к области, которую иногда называют нейротеологией: речь идет о применении сканирования мозга и смежных методов для анализа мозговой деятельности во время самых разных духовных и религиозных практик[187]. Само существование этой научной дисциплины основано на совместимости функционального сканирования мозга и религии. Нейротеологические лаборатории сопоставляли мозговую деятельность у верующих и неверующих во время логических рассуждений, морализаторства или молитвы. Эти исследования ведутся благодаря множеству верующих добровольцев, которые, очевидно, совсем не считают, что такие эксперименты противоречат их традиционным представлениям о душе. Большим пропагандистом нейротеологии был Эндрю Ньюберг из Пенсильванского университета, известный своими трудами по функциональному сканированию мозга. В ходе одного исследования группа Ньюберга набрала испытуемых из числа христиан-харизматов и пятидесятников и предложила им практиковать глоссолалию – вводить себя в эйфорическое состояние «говорения на разных языках»[188]. «Едва ли наука чем-то угрожает вере», – говорил пастор Джерри Штольцфус, участвовавший в экспериментах[189]. Позиция Штольцфуса очень напоминает представления Далай-ламы: «Наука лишь обосновывает веру», – утверждает он.
Ведущий нейротеолог Марио Борегар не ограничивается изучением духовных феноменов в мозге. Он автор нескольких книг, в которых отстаивает нематериалистические представления о сознании, но при этом приводит данные сканирования мозга, чтобы задокументировать неврологические параллели мистического опыта. В статье, опубликованной в «Scientific American»[190] в 2007 году, работы Борегара называются «поисками Бога в мозге»[191]. Борегар, как и Далай-лама, полностью признает, как важен для нас мозг, но считает его рабом бестелесного духа. «Существует огромное множество научных исследований, доказывающих, что наши мысли, верования и чувства влияют на происходящее в мозге», – пишет он[192]. По мнению Борегара, томограф для функционального магнитно-резонансного сканирования – это инструмент, выявляющий, как дух воздействует на вещество мозга, а не объясняющий, что такое дух, с материальной точки зрения.
Все эти примеры, начиная с опроса Хук и Фара и кончая работами Борегара, показывают, что исследования фМРТ вполне можно примирить со сверхъестественными представлениями о разуме или душе. Словно мы, применяя фМРТ, чтобы приподнять завесу тайны над нашей ментальной жизнью, видим примерно то, что хотим. Хотя одни считают, что мозг порождает разум, а другие – что разум контролирует мозг, участие в этом мозга никого не удивляет. Даже Рене Декарт, чье имя стало синонимом дуализма, утверждал, что дух взаимодействует с телом через крошечную структуру в мозге – так называемое шишковидное тело. Сканирование мозга не дает информации, которая позволила бы доказать или исключить подобное взаимодействие между разумом и мозгом, и поэтому не может служить основой для разграничения между дуализмом и физикализмом. Чтобы понять, почему, давайте приоткроем завесу тайны над самими методами сканирования мозга и присмотримся к тому, какие знания они нам дают.
* * *
Современное сканирование мозга родилось в скучной больничной палате в Уимблдоне, неподалеку от тех мест, где проводят знаменитый теннисный турнир. Первого октября 1971 года женщина средних лет улеглась на спину на высокие носилки и согнула колени. Ее голова исчезла в большом прямоугольном ящике примерно метр на метр и толщиной в 25 см, стоящем на ребре на массивной станине. К одному ребру квадрата была подсоединена цилиндрическая капсула, которая плавно бегала от одного угла к другому, будто приманка на собачьих бегах. После каждого пробега капсулы квадрат, резко дернувшись, поворачивался вокруг головы пациентки. Капсула бегала, квадрат поворачивался, и этот ритм повторялся снова и снова – будто работал огромный неуклюжий часовой механизм. Через пять минут квадрат совершил вокруг головы женщины пол-оборота. В соседней комнате, набитой электроникой космической эры, на компьютерном экране мелькала картинка: белый овал на черном фоне. Темное, со слабо просматривающейся текстурой ядро овала было рассечено надвое туманной светлой полосой, но с одной стороны симметрия была грубо нарушена маленьким черным пятном[193]. Все это было похоже на картину Миро, но на самом деле представляло собой первый клинический скан мозга, а получили его Годфри Хаунсфилд и его коллеги при помощи прототипа рентгеновского КТ-сканера. У дамы с портрета была опухоль мозга – темное пятно в овале. Впоследствии ее удачно прооперировали, что было бы невозможно без этого блестящего достижения научного прогресса – сканирования мозга.
Основной принцип КТ – измерение рентгеновской проницаемости исследуемых тканей подо всеми возможными углами и во всех возможных положениях; установка Хаунсфилда позволяла сделать это при помощи собачьей приманки и вращающегося квадрата, в которых были установлены источник и детектор рентгеновских лучей. Затем изображение реконструировалось при помощи математического алгоритма. Однако КТ дает статичные изображения. В некоторых случаях КТ помогает выявить причины когнитивных расстройств, поскольку находит поврежденный участок, но она не показывает, что делает мозг во время сканирования.
Первые сканы мозга, позволяющие наблюдать биологические процессы в динамике, получались с использованием радиоактивных меток. Эти вещества почти аналогичны природным биологическим или фармакологическим молекулам, и, когда их вводят в организм при помощи инъекции или пациент принимает их внутрь, они занимают те же места и делают то же самое, что и их нерадиоактивные близнецы. Кроме того, радиоактивные метки испускают гамма-фотоны, которые легко проходят сквозь биологические ткани. Поскольку это излучение можно зарегистрировать неинвазивно даже при крайне низких дозах меток, риск побочных эффектов сведен к минимуму. Метки, которые называются «излучатели позитронов», испускают два гамма-фотона одновременно, что обеспечивает особенную пространственную точность и чувствительность метода. Трехмерные изображения этих молекул удалось получить при помощи позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ), который изобрели в 1975 году Майкл Тер-Погосян, Майкл Фелпс и их коллеги из Университета имени Вашингтона в Сент-Луисе[194]. ПЭТ-сканирование быстро стало основой нескольких методов, позволяющих картировать те или иные аспекты мозговой деятельности. Один из них дает возможность наглядно рассмотреть метаболизм мозга при помощи позитрон-излучающей версии глюкозы (сахара) крови, главного источника энергии для нашего организма[195]. Радиоактивный агент 18F-фтордезоксиглюкоза (ФДГ) накапливается в тканях мозга пропорционально расходу глюкозы. Повышение радиоактивности ФДГ можно наблюдать и делать заключение, какие области мозга особенно активны, по крайней мере с точки зрения «потребления топлива». Другой метод функциональной ПЭТ применяет радиоактивные метки, которые запускаются в кровоток – [15О] – меченую воду и [13N] – меченый аммиак, – и таким образом измеряет перемены в мозговом кровообращении[196]. Усиление кровообращения вызывается активностью нейронов, а значит, приводит к притоку меток в активные области мозга. Колебания кровообращения труднее интерпретировать в терминах нейронных механизмов, зато возникают они быстрее, чем измеримые изменения скорости обмена веществ. Аналогично работают и другие методы – при помощи радиоактивных меток, специально созданных для взаимодействия с теми или иными ферментами или рецепторами, исследуются конкретные нейрохимические процессы с участием этих ферментов или рецепторов.
Многие первые методы ПЭТ широко применяются и по сей день, их арсенал пополнился и методами с использованием новых меток. Например, в число недавних открытий вошла разработка ПЭТ-меток, выявляющих патологическую картину болезни Альцгеймера, – над их созданием работали Уильям Кланк и другие ученые из Питсбургского университета[197]. Однако изучение при помощи ПЭТ различных видов мозговой деятельности имеет свои недостатки. В частности, ПЭТ-сканы обладают довольно грубой зернистой пространственной структурой, то есть у них низкое разрешение. Для них типичен размер пикселей в несколько миллиметров, а значит, каждая точка на ПЭТ-скане соответствует десяткам тысяч клеток, а иногда затрагивает не один отдел мозга. А главное, ПЭТ-сканы делаются чудовищно медленно по сравнению с мозговыми процессами наподобие восприятия или мышления. Даже самые высокоскоростные эксперименты с функциональной ПЭТ требуют на создание одного скана около минуты, то есть почти в тысячу раз больше, чем требуется, чтобы узнать кого-то в лицо, и примерно в пять раз больше, чем потребовалось на всю игру в шахматы-блиц чемпиону мира Магнусу Карлсену, чтобы победить Билла Гейтса[198].
Некоторые недочеты ПЭТ удалось обойти благодаря принципиально иной технологии сканирования, которую разработал Пол Лотербур из Университета штата Нью-Йорк в 1973 году. Лотербур был химик и специализировался на методе спектроскопического анализа, который называется ядерно-магнитный резонанс (ЯМР). Эффект ЯМР заключается в том, что ядра некоторых атомов, чаще всего – атомов водорода в воде, помещенные в сильное магнитное поле, поглощают радиоволны конкретных частот. Лотербур открыл способ применять ЯМР для выявления положения поглощающих ядер в пространстве. Поскольку биологические ткани по большей части проницаемы для радиоволн (которые для них безвредны), новый метод сканирования на основе ЯМР идеально подошел для визуализации живых мягких тканей в трех измерениях. Когда сканирование методом ЯМР завоевало уважение медицинского сообщества и вошло в обиход, из названия убрали букву «Я», обозначающую грозное слово «ядерный», и теперь этот метод широко известен под названием МРТ – магнитно-резонансная терапия. МРТ быстро стала популярной, поскольку превосходно передает все анатомические подробности мягких тканей, в частности, тканей мозга.
В начале девяностых годов ученые открыли способы проводить при помощи МРТ функциональное сканирование мозга. В первой опубликованной статье о фМРТ Джек Белливо, Брюс Розен и их коллеги из Массачусетской государственной больницы в Бостоне повторили более ранние эксперименты с ПЭТ, введя во время сканирования МРТ-контрастный агент в кровь добровольцев[199]. Затем ученые смогли составить карту мозговой деятельности, проследив, где накапливается контрастный агент при визуальной стимуляции. Примерно тогда же другая группа ученых из Лабораторий Белла во главе с Сэйдзи Огавой показала, что кровь сама может служить природным контрастным агентом для фМРТ[200]. Поскольку и кислород, и железо в крови обладают слабыми магнитными свойствами, небольшие изменения кровотока и насыщенности кислородом можно зарегистрировать, и не прибегая к инъекциям. Подобные эффекты наблюдаются в пределах секунд, пока обострена мозговая деятельность, и служат основой большинства современных экспериментов со сканированием мозга.
Неудивительно, что зависимость от крови накладывает на применение фМРТ определенные ограничения[201]. Пространственное разрешение фМРТ фундаментально ограничено расстояниями между кровеносными сосудами мозга. Это примерно одна десятая часть миллиметра, гораздо больше, чем размер клеток мозга. Большинство сигналов фМРТ, скорее всего, отражают совокупную деятельность множества разных типов нейронов и нейроглии, а также, вероятно, изменения кровотока, не связанные с местной мозговой активностью. Так что и сотни химических посредников, которых мы обсуждали в главе 2, и синапсы и связность клеток из главы 3 – все это становится пренебрежимо малыми величинами. Специалист по сканированию мозга из Беркли Джек Галлант говорит, что «фМРТ – это как измерять расход электричества в офисе в конкретные моменты времени с целью выяснить, что происходит на каждом рабочем месте»[202]. Кроме того, исследователей огорчает, что фМРТ такая медленная по сравнению с активностью нейронов. Представьте себе, что вы смотрите кино, которое размазано так, что каждый кадр длится несколько секунд. Тогда наши любимые герои приключенческих фильмов: Рокки и Иван, Роза и Джеймс Бонд, Оби-Ван и Дарт Вейдер – превратились бы в непонятные цветные пятна. Точно так же сказывается кровоток на данных фМРТ. Поэтому ученые иногда дополняют фМРТ данными более быстрых методов наблюдения – электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ). Но хотя МЭГ и ЭЭГ быстро реагируют на электромагнитную активность мозга, они не в состоянии локализовать эту активность, в отличие от фМРТ, которая далеко превосходит их в этом отношении по точности и надежности.
К тому же сигналы, которые регистрирует фМРТ и другие методы функционального сканирования, очень малы: обычно мозговая деятельность порождает всплески максимум в несколько процентов от яркости изображения. Такие небольшие изменения наблюдаются на фоне флуктуаций из-за движений испытуемого, нестабильности оборудования для сканирования и физиологических процессов, не имеющих отношения к исследованию. Поэтому исследователям приходится очень постараться, чтобы выделить изменения на изображении, действительно связанные с теми или иными стимулами и явлениями, которые они пытаются изучить. Для этого, как правило, применяется обширный вычислительный анализ десятков повторяющихся исследований на множестве испытуемых при различных условиях эксперимента[203]. Результаты подобных вычислений обычно изображаются в виде ярких цветных пятен на месте областей мозга, которые, по предположению ученых, были особенно активны, на фоне черно-белых анатомических изображений (см. рис. 6). Эти картинки – самая надежная информация о мозговой деятельности человека, какую мы способны получить на сегодня, но на самом деле они не показывают, что делает мозг в тот или иной момент времени, и на них почти никогда не виден мозг какого-то одного конкретного человека. Функциональные карты мозга – это глубоко переработанные статистические данные множества изображений, зачастую далекие от стоящих за ними биологических процессов, как болонская копченая колбаса от свиньи[204].
Поразительные вычислительные фокусы, при помощи которых анализируют данные сканирования мозга, чреваты не менее поразительными провалами. Молодой ученый Крэйг Беннетт из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре показал это на довольно жестоком примере: он применил невинные методы фМРТ к мертвому лососю и обнаружил у него мозговую активность[205]. Беннетт и его коллеги сканировали мозг усопшей рыбы, «показывая» ей фотографии, и несколько пикселей в ее мозге показали что-то вроде реакции на картинки, статистически типичной для экспериментов подобного рода, отчего на фМРТ получилась картина активности мозга, что называется, с душком. На самом деле то, что ученые принимают за реакцию мозга, иногда вызвано случайными флуктуациями на изображениях, которые не удалось выявить и исключить обычными методами анализа. Беннетту оказалось непросто опубликовать свою сатирическую статью, однако в итоге его заслуженно наградили Шнобелевской премией, которую присуждают «за достижения, которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься»[206]. Другое исследование, подорвавшее авторитет фМРТ, провел студент Массачусетского технологического института Эд Вуль, который обнаружил, что авторитетные статьи о сканировании мозга сплошь и рядом приводят статистически невозможные результаты – то есть все равно что утверждают, будто при бросании монетки шансы получить орла могут быть больше 50 на 50[207]. В результате таких заблуждений авторы оскандалившихся исследований находили неправдоподобно надежные корреляции между отделами мозга и сложными стимулами. Хотя ошибки, на которые указывали Беннетт, Вуль и их коллеги, встречаются не только при исследованиях сканирования мозга и отнюдь не обусловлены их спецификой, все же риск в этой области особенно велик, поскольку сигналы очень малы, а базы данных огромны.
Косвенность и плохое разрешение современных методов, как видно, дают простор для толкований и не позволяют отсечь сторонние факторы. Примеры вроде исследования мозга лосося говорят нам и о том, как легко исказить результаты, если просто отнестись к организации или анализу эксперимента без должного усердия. Мы уже убедились, что разные люди смотрят на полученные изображения и видят на них кто разум, влияющий на мозг, кто мозг, занятый исполнением функций разума, – сканы мозга одинаково авторитетны как для дуалистов, так и для физикалистов. Если мы поймем, что на самом деле говорят нам данные функционального сканирования мозга, можно будет приблизиться к разгадке этого противоречия. Сегодняшние карты мозговой деятельности настолько неразборчивы, что мы, глядя на них, можем вообразить практически что угодно.
* * *
Моя коллега по Массачусетскому технологическому институту Нэнси Кэнвишер, которая одной из первых стала применять фМРТ для решения задач в области когнитивистики, говорит, что мозг – как швейцарский армейский нож[208]. Несмотря на все недостатки методов сканирования мозга, исследования их результатов, в том числе те, которые проводит сама Нэнси, выявляют неожиданные связи между определенными участками мозга и выполнением определенных задач – от распознавания лиц до размышлений о мышлении (см. рис. 7). Получается, что каждый из этих участков мозга специализируется на своей задаче, как разные инструменты в швейцарском ноже. Почти половина опубликованных исследований по сканированию мозга – это исследования локализации, а многие из оставшихся посвящены более подробному описанию выявленных участков мозга. Выводы о локализации – самые очевидные уроки, которые преподают нам исследования фМРТ. Если проводить эти эксперименты и толковать их результаты с должной тщательностью, они скажут нам, как устроены мозг и сознание, но если относиться к ним поверхностно, локализация когнитивных функций может отвлечь от попыток понять, как на самом деле работают мозг и разум.
Специализация отдельных участков мозга надежно установлена уже давно. До ПЭТ и МРТ такие данные получали в основном от ограниченного числа неврологических больных, у которых конкретные когнитивные и поведенческие расстройства можно было непосредственно объяснить локальным повреждением мозга. Пожалуй, самый известный пример – случай пациента по имени Луи Леборн, которого изучал французский врач Поль Брока в 1861 году[209]. Леборн с детства страдал эпилепсией и практически полностью утратил способность говорить; когда его госпитализировали, он мог произнести лишь один слог – «тан». Во всем остальном интеллект и общие когнитивные способности Леборна сохранились; такой набор симптомов в наши дни называется «афазией Брока». При вскрытии Леборна Брока обнаружил, что у Леборна была повреждена левая лобная доля коры головного мозга, а затем оказалось, что повреждения того же участка наблюдаются и у других больных с похожими нарушениями речи. Открытие связи между порождением речи и особым участком мозга под названием «зона Брока» стало веским доказательством теории функциональной локализации Франца Галля (см. главу 1). Так что основная идея френологии оказалась верна хотя бы отчасти, даже если карты конкретных участков мозга и соответствующих особенностей черепа, которые составлял Галль, не имели ни малейшего отношения к действительности.
Рис. 7. Кора головного мозга человека с указанием долей и областей, которые, согласно исследованиям сканирования мозга, отвечают конкретно за: 1) места, 2) части тела, 3) лица, 4) лица и движения, 5) только движения, 6) размышления о том, как люди мыслят, 7) трудные когнитивные задачи, 8) речевые звуки, 9) тоны звуков
Сканирование мозга говорит о том же, только точнее. Современные методы избавляют ученых от необходимости уповать на редкое совпадение несчастья и везения, которые в прошлом приводили к находкам наподобие случая Брока. Сегодня можно набрать сколько угодно добровольцев, чтобы сканировать их под воздействием самых разных стимулов или при выполнении самых разных задач и поодиночке, и группами. Исследователи изучают результаты практически сразу после эксперимента, им не нужно дожидаться, пока испытуемые умрут и можно будет провести вскрытие. Мозг здоровых испытуемых, подвергающихся сканированию, не изуродован в целом болезнью или травмой, в отличие от недужного мозга несчастных страдальцев. Поэтому результаты сканирования обычно отражают нормальную физиологию мозга. А главное – сканирование, в отличие от травмы и болезни, охватывает мозг целиком. ПЭТ или фМРТ показывают, задействованы ли в экспериментальные парадигмы несколько структур одновременно, и характеризуют, насколько сильно и интенсивно реагирует каждый участок. Например, роли структур, задействованных в порождении и восприятии речи, можно исследовать в ходе одного эксперимента: это зона Брока, отвечающая за артикуляцию, зона Вернике, необходимая для понимания речи, слуховая и двигательная зоны коры, обеспечивающие слух и движение в целом, и множество функционально важных подотделов каждого из этих участков. Когда испытуемый выполняет задание, связанное с речью, исследователи наблюдают, как задействованы все эти области и как все они работают параллельно.
Открытие специализированных участков мозга, несомненно, играет значительную роль и в биологии. Подобно тому как различные силы в ходе геологической эволюции Земли породили горные кряжи, океаны и реки, которые мы видим сегодня, можно представить себе, что факторы, повлиявшие на эволюцию человека, сформировали и наш мозг – сделали его таким, как теперь. Если в мозге есть участки и группы участков, чья деятельность сильно коррелирует с ментальными функциями наподобие речи и социализации, это наталкивает на мысль, что эти функции – примеры эволюционного приспособления, для которого понадобилось особое неврологическое оборудование. Эту точку зрения в наши дни разделяют многие нейрофизиологи. «Главное – не конкретное местоположение [соответствующих] участков мозга, – объясняет Нэнси Кэнвишер, – а тот простой факт, что наш мозг и наш разум в первую очередь состоят из конкретных компонентов с определенными задачами»[210]. Однако исследования сканирования мозга делают особый упор на связи умственных способностей с физическими областями в мозге, а это заставляет многих ученых относиться к ним скептически как к возрождению френологической псевдонауки. «Критики считают, что фМРТ упускает из виду взаимосвязанность механизмов мозга и распределение труда, поскольку делает ставку на локализацию активности, тогда как главное в функционировании мозга – связь между его отделами», – пишет Дэвид Доббс в заметке «Факт или френология?» в «Scientific American»[211]. Психолог Рассел Полдрак взял на себя труд составить список опубликованных исследований фМРТ, которые неявно поддерживают френологические концепции, и тем самым показал, что современную науку удивительно легко примирить с устарелыми идеями. Для каждого примера Полдрак привел старинные френологические классификации, тематически похожие на соответствующие эксперименты с фМРТ и указывающие на те же конкретные участки мозга, которые выявило сканирование. «Можно не сомневаться, что Галль и его современники сочли бы эти результаты сканирования мозга доводами в пользу биологической реальности своих предположений», – отмечает Полдрак[212]. И в самом деле, подача результатов таких исследований подтверждает правоту Полдрака. Броские заголовки: «Как на уровне нейронов проявляется помощь любимому человеку», «Неврологический субстрат человеческой эмпатии» или «Неврологическая основа высокого интеллекта» – оставляют впечатление, будто сложные черты характера можно свести к пятнам на карте мозга[213]. Легко представить себе, что какие-то из всех этих основ и субстратов, каждый из которых соответствует по меньшей мере одной локальной зоне активности на фМРТ, примерно совпадут с френологическими зонами, «отвечающими», скажем, с шишками любвеобильности или стяжательства на керамической голове Лоренцо Фаулера.
Небрежное толкование результатов исследований по локализации вызывает нарекания еще и тем, что предполагает, будто региональная активность, словно те же самые шишки на голове, и в самом деле тождественна тем или иным когнитивным процессам. В 2011 году специалист по рекламе Мартин Линдстрем в статье в New York Times утверждал, что потребители в буквальном смысле слова любят свои айфоны, потому что фотографии на айфонах активируют участок мозга под названием «островковая доля», который входит в число областей мозга, реагирующих, когда испытуемые смотрят на фотографии своих романтических партнеров[214]. То есть Линдстрем расценивает сигналы от островковой доли на фМРТ как неопровержимые признаки любви, хотя на самом деле эта доля реагирует, когда человек испытывает и положительные, и отрицательные эмоции. Джона Лерер в своей книге «Представьте себе» описывает эксперимент, в ходе которого выявили связь между решением задач и областью мозга под названием передняя верхняя височная извилина. Он пишет, что «передняя верхняя височная извилина способна находить» ответы на словесные головоломки, то есть что эта извилина самостоятельно решает задачи[215]. И даже биолог Фрэнсис Крик, нобелевский лауреат, и тот попал в ту же ловушку «участок мозга тождествен когнитивной функции»: он ссылается на исследования патологий мозга как на доказательство, что «свобода воли локализована либо в передней поясной борозде, либо где-то в ее окрестностях», – речь идет о небольшой складке у средней линии мозга[216].
Подобная логика ошибочна и с технической, и с теоретической точки зрения. С технической точки зрения критика опирается на пределы возможностей самих методов сканирования. Каждое пятнышко повышенной активности – это тысячи, если не миллионы, клеток, синапсов и нейрохимических веществ, и все они вносят свой вклад в функционирование мозга, словно мириады голосов, увлеченных беспорядочным спором. На сегодня у специалистов по сканированию мозга нет надежного способа разделить и проанализировать эти голоса, потому-то они и идут по пути наименьшего сопротивления – слушают мнение тех, кто громче всех кричит! Конечно, лучше всех может быть слышно и единодушную реакцию клеток какого-то участка мозга на тот или иной стимул, но скорее всего исследователи учитывают мнение большинства, причем не всегда подавляющего, а то и просто активного меньшинства клеток, чьи голоса перекрывают молчаливое большинство. Что касается фМРТ и ПЭТ, самые громкие голоса вызывают и самые заметные колебания кровотока, причем это не обязательно голоса, играющие главную роль в мозговой функции как таковой. Все осложняется еще и тем, что карты мозговой деятельности почти всегда опираются на сравнение того, как на изображении проявляется условие эксперимента, с реакциями на контрольные условия, которых может быть несколько, так что выявленные участки мозга – это на самом деле те участки, которые проявляют наибольшую активность в условиях эксперимента, а не те, которые активируются исключительно условиями эксперимента. Вывод – если какой-то участок мозга «светится» сильнее всего во время исполнения той или иной ментальной задачи, из этого не следует, что этот участок в целом специализируется на этой задаче и у него нет других функций.
У этой медали есть и обратная сторона: в ходе экспериментов со сканированием обычно «светятся» не все участки, задействованные в соответствующем когнитивном процессе. Объясняется это главным образом проблемой верхушки айсберга[217]. Все знают, что айсберги гораздо крупнее их видимой части – 90 % каждой плавучей горы коварно таятся под поверхностью океана. При анализе данных функционального сканирования аналогом айсберга становится карта изменений сигнала на фМРТ, коррелирующих с той или иной задачей или стимулом, задействованными в эксперименте. Карту рассчитывают непосредственно на основе «сырых» изображений. Но хотя карта в принципе покрывает мозг целиком, исследователи видят активность только в тех участках, где надежность или сила сигналов на изображении превосходят пороговую величину, заданную экспериментатором. Если порог слишком низок, видно слишком много пиков, и велика вероятность, что некоторые из них вызваны случайными факторами, не имеющими отношения к мозговой деятельности, – вспомним ложную активацию в мозге мертвого лосося. Однако типичные консервативные пороговые величины исключают из поля зрения и некоторые пики, прямо относящиеся к специфической активности, вызванной задачей эксперимента. Это и есть подводная часть айсберга. А значит, какая-то доля релевантной активности мозга не попадает в анализируемые данные и обычно не обсуждается. Из-за этой проблемы большинство исследований функционального сканирования мозга систематически переоценивает, в какой степени реакция мозга локализована в нескольких маленьких областях.
В 2001 году Джеймс Хэксби из Датрмутского колледжа опубликовал авторитетную статью, где утверждал, что при интерпретации экспериментов по сканированию мозга следует учитывать весь айсберг целиком, в том числе и те сигналы изображений, которыми обычно пренебрегают. Хэксби и его коллеги отошли от стандартной практики и не ограничились теми областями мозга, которые сильнее всего реагируют на экспериментальные стимулы. Это дало им возможность наблюдать, что нейронные реакции охватывали «большие участки коры, где реакции как большой, так и малой амплитуды несут информацию» о визуальных стимулах[218]. Подобный подход соответствует такой картине мозговой деятельности, при которой ментальные процессы не ограничены специфическими структурами, а охватывают большую часть мозга.
На фундаментальном уровне все нейрофизиологи понимают, что действительность именно такова. Даже если какой-то участок мозга проявляет высокоспециализированные паттерны активности, у этой активности должен быть источник. Скажем, если участок мозга активируется при виде лиц, стимулы-лица должны пройти с сетчатки через всю многослойную систему зрительного восприятия, добраться до этого участка, который особенно сильно реагирует на лица, и вызвать в нем соответствующие сигналы. Если другие отделы мозга не найдут в этих стимулах ничего похожего на лицо, то этот участок не сможет отличить стимул-лицо от любого другого. Не исключено даже, что отличать лица от других стимулов, поступающих в мозг, помогает отсутствие сигналов на фМРТ вне главного участка распознавания лиц, говорящее, скорее всего, о снижении мозговой активности[219]. Отсутствие реакции напоминает знаменитый эпизод из рассказа «Серебряный» Артура Конан Дойла, когда сторожевая собака не залаяла, почуяв вора, из чего Шерлок Холмс сделал вывод, что «несомненно, собака хорошо знала ночного гостя»[220]. Если анализ изображений нацелен исключительно на пики активности мозга и на максимальные реакциии, он неизбежно теряет из виду разнообразные паттерны мозговой деятельности, которые, вероятно, исполняют роль той собаки. А это подводит нас к проблеме более общей, нежели анализ, делающий ставку на локализацию когнитивных процессов: такой подход закрывает глаза на вопрос о механике этих процессов. «Даже если бы мы могли связать точно определенные когнитивные функции с конкретными участками мозга… это почти ничего не сказало бы нам о том, как мозг рассчитывает, представляет, дешифрует и иллюстрирует примерами те или иные психологические процессы», – писал психолог Уильям Аттел в своей книге «Новая френология», вышедшей в 2003 году[221]. Примерно о том же говорил и философ Дэниел Деннет, когда посмеивался над идеей, что конкретные участки мозга отвечают за один конкретный когнитивный процесс, то есть за феномен человеческого сознания[222]. Локализация этого процесса попросту смещает вопрос о дешифровке механизмов функционирования мозга на дешифровку механизма функционирования рассматриваемого участка мозга. Деннет иронически уподобляет этот подход театральному представлению, в ходе которого воплощение сознания в мозге «наблюдает» все происходящее в мозге и осознает его; такой сценарий в очередной раз напоминает декартовский дуализм разума-тела, даже если все происходит в мозге. Такой «Картезианский театр» Деннет считает нелепицей, поскольку участок (или участки) мозга, обеспечивающие сознание, на самом деле так же непостижимы, как и само сознание, а границы между «сознательными» и «несознательными» участками мозга неизбежно произвольны.
Если мы делаем ставку на локализацию других когнитивных функций, то ставим декорации для таких же нелепых спектаклей, в которых участки мозга, воспринимающие цвета, фразы, области пространства и так далее, наделяются сверхъестественными способностями и отделяются от участков, которые этого не делают. Хотя ни один нейрофизиолог не придерживается такой карикатурной точки зрения, упрощенческие толкования результатов функционального сканирования мозга оставляют именно такое впечатление. Многие ученые считают, что исследования локализации ценны в первую очередь не тем, что они выявляют участки мозга с якобы дискретными функциями, а тем, что они подсказывают, где начинать более тщательные экспериментальные исследования, зачастую с привлечением инвазивных методов, непосредственно измеряющих клеточную активность у животных.
Картезианский театр по Деннету и обобщение этой аналогии на другие когнитивные процессы заставляет вспомнить настоящий театр драматургов-модернистов вроде Сэмюэля Беккета. В абсурдистском шедевре Беккета «В ожидании Годо» двое бродяг Владимир и Эстрагон изо дня в день сидят на обочине одной и той же дороги в надежде, что рано или поздно им встретится Годо, в честь которого названа пьеса, однако Годо так и не появляется[223]. «А ты уверен, что это здесь?» – спрашивает Эстрагон, не зная, в нужном ли месте они дожидаются своего кумира. Эту пьесу часто считают комментарием о бессмысленности бытия, так что неудивительно, что Беккет и его критики так и не пришли к единому толкованию пьесы и ее персонажей. Годо так и остается тайной, точь-в-точь как цветное пятно мозговой активности на карте фМРТ: мы так и не узнаем, кто он, что символизирует и существует ли вообще. Так не Годо ли мы ищем, когда пытаемся локализовать когнитивные функции при помощи методов сканирования мозга? Может быть, мы высматриваем на этих картинках нечто загадочное, определяемое скорее нашими ожиданиями, чем реальностью, и пора оставить надежду обрести просветление к концу поисков?
* * *
Современные методы сканирования мозга способствуют сакрализации мозга, поскольку сочетают и научный лоск, и газетные сенсации, и простые и зачастую упрощенческие открытия, и совместимость с самым широким диапазоном мировоззрений. Методы вроде фМРТ позволяют нам узнать интересные факты об активности мозга, не вынуждая пересматривать глубинные убеждения. Но тем, кто надеется при помощи современных методов сканирования мозга лишить процессы познания сакрального статуса, не повезло. Даже в сочетании с самыми утонченными методами анализа функциональное сканирование мозга не обладает нужным разрешением и другими качествами, которые позволили бы понять, что на самом деле означают паттерны активации, как они возникают и как связаны с остальным мозгом. «Утверждения, что вычислительные методы и неинвазивное сканирование мозга… сами по себе позволят понять, как функционирует мозг, какова природа его расстройств… наивны и полностью ошибочны», – пишет Никос Логотетис, нейрофизиолог и специалист по фМРТ[224].
Сегодняшние результаты функционального сканирования мозга несколько напоминают картографию эпохи до авторитетных атласов, четких границ и спутниковых снимков. Подобно картам мозга на основе фМРТ, древние физические карты зачастую не более чем ненадежные, приблизительные описания, полезность которых ограничена возможностями науки и техники тех времен. Древние картографы находили на своих картах место не только для известных нам материков и островов, но и для страшных чудовищ, – так и современные толкователи мозга находят место не только для восприятия лиц, но и для свободы воли. Какие-то участки мозга, которые мы сейчас считаем специализированными, пройдут проверку дальнейшими исследованиями, ведь, скажем, существование областей, участвующих в узнавании лиц, подтверждается и данными, полученными при помощи электродов, и изучением повреждений мозга, и исследованиями по стимуляции на людях и обезьянах[225]. Но некоторые участки наверняка окажутся эфемерными, будто затерянные земли Туле или Атлантиды, – более того, не исключено, что мы развенчаем даже сами когнитивные понятия, которые их определяют. Но сам по себе поиск связей между ментальными функциями и ограниченными областями в мозге, даже безуспешный, по природе своей способствует нейросегрегации, из-за которой наши ментальные процессы представляются нам обособленными, отделенными друг от друга и от остального мира. Вот почему, если мы хотим объяснить и на глубинном уровне понять, как устроены ментальные функции, нам следует заглянуть за пределы современных методов сканирования человеческого мозга.
Представьте себе такой метод сканирования, от которого не ускользнет никакая клеточная активность, никакие нейронные связи, никакой всплеск нейрохимических веществ. Любое прикосновение, звук, проблеск света вызывает в мозге целый каскад событий, и каждое из них будет как на ладони благодаря всевидящему оку нашего метода «тотального сканирования». И это не фантазии о далеком будущем – до этого рукой подать в нейрофизиологических лабораториях, изучающих мелкие прозрачные организмы. Сочетание передовой оптической микроскопии с применением светящихся биохимических индикаторов нейронной активности позволило ученому Мише Аренсу из Медицинского института имени Говарда Хьюза одновременно зарегистрировать сигналы почти каждого нейрона в мозге малька данио-рерио[226]. В ходе подобных экспериментов остается несравнимо меньше простора для неопределенности во всем, что касается причинно-следственных связей и организации нейронной активности, чем при сканировании человеческого мозга. Некоторые ученые предполагают, что когда-нибудь станет возможным применять методы, аналогичные методу Аренса, и на людях. В частности, одна из целей моей собственной исследовательской лаборатории – создать биохимические индикаторы нейронной активности, которые были бы видны при фМРТ: это стало бы шагом к изобретению тотального сканирования, поскольку позволило бы регистрировать химические и клеточные сигналы неинвазивно[227]. Тотальное сканирование мозга – это метод, в будущем способный резко подхлестнуть наш прогресс в изучении функций мозга как целостного многофункционального органа. Хотя мы еще очень далеки от подобных методов исследования людей, прогресс налицо. Однако и это не даст нам возможности понять, как на самом деле устроены ментальные процессы. Исследователи уже применяют оптическое сканирование всего мозга с высоким разрешением для изучения червей и рыбок данио-рерио, однако, как мы знаем из последней главы, якобы полная информация о простых нервных системах все равно не объясняет поведения. В частности, мозг и нервная система не единолично отвечают за когнитивные процессы. Подобно тому как нельзя рассматривать участки мозга, о которых мы говорили в этой главе, как изолированные сущности, так и мозг в целом нельзя рассматривать в изоляции от всего остального – его нужно изучать в контексте организма и среды. В следующих главах мы подробнее изучим континуум, объединяющий мозг и его окружение.
Глава пятая За стенками черепа
Предыдущие главы показали нам, что мозг принято изображать как нечто обособленное от тела. В глазах популярной (и даже не самой популярной) нейрофизиологии мозг превращается в абстрактную, сверхсложную сущность, загадочную машину, а не будничный орган из плоти и крови. И метафора мозга-компьютера по фон Нейману, и сенсационно раздутые представления о сложности мозга и в СМИ, и в научной литературе, и склонность помещать в черный ящик когнитивные процессы в ходе исследований сканирования мозга – все это выводит мозг за рамки нормальных биологических явлений. Такие тенденции – пример искусственного разграничения мозга и тела, которое мы условились называть научным дуализмом: это концепции физического мозга, позволяющие сохранить традиционные представления о природе человека, сознании и воле, но противоречащие реалистичной биологической картине.
Дуалистические точки зрения, которые мы до сих пор деконструировали, касались устройства мозга, его организации и движущей силы его механизмов. Однако многие из нас считают мозг чем-то исключительным не только потому, что он как-то особенно устроен, но и потому, что он особым образом взаимодействует с окружающим миром. «Мозг – центр управления телом» – все мы сталкивались с подобным утверждением. Из этого следует, что мозг – словно директор фирмы или капитан корабля. Он главный. «Ваш мозг – Бог», – провозгласил Тимоти Лири, пророк психоделической нейрофизиологии 60-х, который довел церебрократические представления до апофеоза[228]. О мозге как командном центре говорили и другие авторы – пусть и более сдержанно, но не менее уверенно. «Все ментальные функции, от тривиальнейшего рефлекса до высочайших полетов творческой мысли, рождены в мозге», – говорит нейробиолог Эрик Кандел, нобелевский лауреат, перефразируя утверждение античного философа и врача Гиппократа, согласно которому когнитивные функции обеспечивает «мозг и ничто иное»[229]. Фрэнсис Крик зашел еще дальше и выдвинул, по его же словам, «поразительную гипотезу», согласно которой «вы… не более чем поведение огромной совокупности нервных клеток и связанных с ними молекул»[230]. Здесь Крик, в сущности, ставит знак равенства между мозгом и человеком, которого тот якобы контролирует, как Шекспир в своих пьесах иногда ставит знак равенства между герцогами и королями и их владениями. По сравнению с мозгом-гегемоном остальное тело словно бы пренебрежимо мало. Персонификация мозга наблюдается и в тех случаях, когда мы говорим: «Мозг отказывается это понимать» или «Мозг у меня сегодня спит». Иногда персонифицируются и отдельные части мозга, отделы или даже клетки. В статье в Wall Street Journal, рассказывающей о нейронных реакциях в мозге человека, говорится, что «один нейрон оживляется только при виде Рональда Рейгана, другой не может устоять перед актрисой Холли Берри, а третий верен Матери Терезе»[231]. Здесь, конечно, использован литературный прием, однако, несомненно, прослеживается и склонность считать, будто клетки мозга делают то же самое, что и люди.
Антропоморфные описания мозга и его компонентов встречаются сегодня повсюду, однако некоторые философы считают, что они глубоко ошибочны. Философ Фридрих Ницше вложил в уста пророка Заратустры поучение: «За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит более могущественный повелитель, неведомый мудрец, – он называется Само. В твоем теле он живет; он и есть твое тело»[232]. Ницше отчаянно боролся с разграничением разума-тела, которое проводили его интеллектуальные предшественники. И хотя он исключает возможность, что «я» существует отдельно от тела, ему претит и мысль, что «я» заключено в какой-то особой части тела. Менее поэтическое, зато более точное выражение той же идеи мы читаем у Людвига Витгенштейна, культовой фигуры философии середины XX века: «… только о живых людях и о том, что их напоминает (ведет себя таким же образом), можно говорить: они ощущают, видят, слышат, они слепы, глухи, находятся в сознании или без сознания»[233]. Философ Питер Хакер и нейрофизиолог Максвелл Беннет в своей книге «Философские основы нейрофизиологии» (2003) утверждают, что говорить, будто мозг или часть мозга думает, ощущает или ведет себя как живой человек, значит противоречить мысли Витгенштейна. По их мнению, применение психологических терминов для описания того, что делает мозг, вводит нас в заблуждение, поскольку мозг не может служить близким подобием целого человека, так что лексикон, персонифицирующий мозг, на самом деле лишь «мутантная форма» разграничения тела и разума, реликт, восходящий к тем временам, когда описания сознания не должны были опираться на нейрофизиологию. «Когда нейрофизиологи говорят, что мозг думает и рассуждает, что одно полушарие что-то знает и не сообщает другому, что мозг принимает решения до того, как сам человек об этом узнает, когда они говорят о вращении ментальных изображений в ментальном пространстве и так далее, – пишут Беннетт и Хакер, – ученые создают своего рода мистификацию и способствуют нейромифологии», которая не не позволяет получить осмысленные ответы на вопросы о том, как устроены мозг и разум[234]. Такое резкое отторжение «разговоров о психологическом мозге» вызывает неоднозначную реакцию других ученых. Дэниел Деннет из Университета Тафтса готов признать, что персонификация мозга отчасти допустима и даже полезна, но протестует против тех случаев, когда она выходит за границы разумного. «Это мне больно, а не моему мозгу», – подчеркивает Деннет[235]. Другие философы, интересующиеся вопросами сознания, в том числе Патрисия Черчленд и Дерек Парфит, придерживаются более полных версий: «Ты – это твой мозг», опираясь на свое понимание, что такое «быть тобой»[236]. Например, Парфит связывает самоощущение личности с опытом проживания непрерывной истории жизни («психологической непрерывностью»), а это сильнейшим образом зависит от воспоминаний, которые, по нашему представлению, хранятся в мозге.
Но выходит ли наше понимание отношений между мозгом и личностью за пределы утонченной философской казуистики, за стены этой башни из слоновой кости? Великий Витгенштейн прославился заявлением, что философия возникает из недопонимания языка. Так может быть, вопрос о том, можно ли свести личность к ее мозгу, в сущности, не более чем вопрос педантичных придирок к формулировке определения личности?
Я считаю, что нет, но буду доказывать свою точку зрения скорее физиологическими, нежели философскими доводами. Как мы вскоре убедимся, мозг взаимодействует с остальным организмом, и эти взаимодействия фундаментальны для всех участников, более того, от них коренным образом зависят некоторые самые что ни на есть личные, индивидуальные аспекты мышления и чувствования. Если в реестр всего того, что делает вас вами, входят и ваша эмоциональная сторона, и ваши физические способности, и решения, которые вы принимаете, то приравнивать вас к мозгу было бы ненаучно. Подозрительна даже сама мысль, что ваш мозг управляет вами, если учесть, что взаимодействия между мозгом и другими органами обычно идут в обе стороны. Если мы усвоим, что биологическая подоплека сознания лишена четких границ, то в более полной мере оценим естественную целостность разума, тела и окружения – и это станет важнейшим шагом к преодолению сакрализации мозга.
* * *
Линия наших рассуждений начинается давным-давно, в далекой-далекой стране. На столе для бальзамирования лежит безжизненное тело юного царя и постепенно теряет влагу в сухом воздухе державы, которой царь еще недавно правил. Бальзамировщик вставляет в левую ноздрю юноши тонкое долото и постукивает по рукоятке. Долото натыкается на решетчатую пластинку – кость, отделяющую верх носоглотки от внутренности черепа. С каждым ударом по рукоятке долота по всему телу покойного пробегает дрожь, будто несчастному мальчику в смертном сне снится, что его избивают. Но вот последний удар, еле слышный треск – и костная пластинка поддается, а долото уходит глубоко в голову мертвого юноши. Бальзамировщик извлекает инструмент, вскрывший прежде герметичную емкость с вязкой жидкостью, и жидкость начинает вытекать. Бальзамировщик бестрепетно берет крючочек и втыкает его глубоко в ноздрю на место долота. Несколько минут похоронных дел мастер крутит и вертит крючок под невозможными на сторонний взгляд углами, превращая содержимое головы в фарш. Затем он начинает двигать крючок взад-вперед, извлекая комочки сероватой слизи с красными вкраплениями. Через некоторое время слизь кончается. Тогда бальзамировщик заталкивает в нос царя тампон и объявляет, что его дело сделано.
Примерно таким был финал жизни мозга фараона Тутанхамона, 13-го правителя Восемнадцатой династии Нового Царства Древнего Египта[237]. В древнеегипетской культуре сохранность тела и главных органов считалось залогом благополучия в загробной жизни, однако мозг для этой цели был не нужен. Египтяне считали мозг попросту «потрохами черепа», почетной обязанностью которых была разве что выработка соплей[238]. Если после смерти мозг оставляли на месте, его вещество имело склонность разлагаться и распространять гниль, поэтому в процессе бальзамирования его бесцеремонно извлекали и выбрасывали. Согласно обычаям того времени, с настоящими «потрохами» Тутанхамона обошлись куда уважительнее. Желудок, кишечник, печень и легкие царя бережно извлекли и сохранили на веки вечные в погребальных сосудах – так называемых канопах. В 1323 году до н. э. их поместили в гробницу фараона в Долине Царей.
А если бы современному человеку предложили выбирать, какую часть тела он предпочел бы сохранить в загробной жизни, мозг, как ни парадоксально, оказался бы на первом месте, а не на последнем. Организация под названием «Brain Preservation Foundation» – «Фонд сохранения мозга» – во главе с биологом Кеном Хейвортом, бывшим постдокторантом из Гарварда, поставила себе цель «развивать научные исследования и оказывать услуги по консервации мозга для долгосрочного статического хранения», то есть современную разновидность мумификации только для мозга[239]. Фонд предлагает награду более 100 000 долларов ученым, которые сумеют продемонстрировать метод эффективного сохранения структуры человеческого мозга на уровне синапсов. Другая организация – «Alcor Life Extension Foundation», «Фонд продления жизни „Алькор“» – хранит замороженный мозг примерно 150 «пациентов», каждый из которых заплатил по несколько десятков тысяч долларов за то, что его голову после смерти заморозят на неопределенное время в жидком азоте[240]. Одной из них стала и Ким Суоцци, с которой мы познакомились во введении. Все они надеются, что рано или поздно появится технология размораживания мозга и трансплантации его в донорское тело, а это даст вторую жизнь бывшим владельцам замороженных мозгов. «Алькор» предлагает сохранить и все тело, но эта услуга гораздо дороже стоит и значительно менее популярна. Вероятно, мозг – единственная часть тела, которую необходимо сохранять, полагает бывший президент фонда Стив Бридж. «Мы – это наш мозг», – говорит он, вторя голосам, которые мы уже слышали[241].
Однако мумия Тутанхамона наводит на совсем иные мысли. Ее обнаружила в 1922 году археологическая экспедиция Говарда Картера, и с тех пор лишенное мозга мертвое тело фараона, подвергнутое всевозможным анализам, многое рассказало нам не только о физической форме юного царя, но и о его разуме[242]. Оказывается, фараон страдал множеством телесных недугов, которые, как известно современной медицине, влияли и на его характер и жизненный опыт. Например, рентгеновская КТ показала, что юный властитель страдал от различных проявлений болезней костей: у него было искривление позвоночника, косолапость и повышенная хрупкость костей, которая, возможно, вызывала постоянные боли, не дающие сосредоточиться. «Можно представить себе молодого, но немощного царя, который не мог ходить без трости», – писали бывший глава Верховного совета древностей Египта Захи Хавасс и его коллеги в фундаментальном научном описании прославленных останков[243]. Исследование ДНК мумии показали, что у царя была еще и тяжелая малярия – между тем давно известно, что это заболевание вызывает психологические нарушения[244]. Тутанхамон, скорее всего, страдал припадками спутанности сознания и бредом, и в последние месяцы жизни его состояние сильно ухудшалось.
Поскольку, оказывается, можно судить о разных сторонах душевного состояния человека по экстрацеребральным физическим данным, это говорит о том, как тесно разум взаимосвязан с организмом в целом, а не только с мозгом. Мы достаточно точно представляем себе, что чувствует человек с запущенной малярией и больными костями, и неважно, какой у него при этом мозг – как у Эйнштейна или как у Гомера Симпсона. Хотя мозг нужен человеку, чтобы осознавать свои недуги, болезни сказываются на сознании совсем не прямо. В частности, паразит, вызывающий малярию, отравляет кровеносные сосуды и искажает сознание, поскольку нарушает кровоток и насыщенность крови кислородом, и ему вовсе не требуется ни попадать в мозг, ни непосредственно сталкиваться с нейронами. Болезни костной системы влияют на разум, поскольку вызывают воспаление и боли, сигналы о которых передают части нервной системы, далекие от мозга.
Подобные заболевания, поражающие периферию тела, изменяют сознание с завидной регулярностью. Всем нам приходилось ощущать легкую спутанность мыслей при очень высокой температуре, но влияние болезни на душевное состояние может быть значительно более глубоким. Психиатрические осложнения дают самые разные недуги – от простуды до рака. Еще совсем недавно, в начале XX века, бактериальная инфекция сифилис, передающаяся половым путем, отправила в лечебницы для душевнобольных больше жертв, чем многие душевные болезни, известные нам сегодня[245]. Первые симптомы сифилиса – появление неприятных язв на гениталиях, но затем, если его не лечить, он поражает органы по всему телу. Через несколько лет после заражения у больных появляются перепады настроения, психотический бред и деменция, и это сочетание симптомов получило название «нейросифилис». Одним из многих выдающихся людей (в основном мужчин), умерших, как полагают, от этой болезни, был композитор-романтик Роберт Шуман. Последние годы он провел в лечебнице для душевнобольных, и многие критики считают его поздние произведения плодом расстроенного, распадающегося ума. Но есть и те, кто видит в них примечательную оригинальность; музыковед Ганс-Иоахим Крейцер отмечает в его последних произведениях свидетельства того, что «Шуман всегда опережал свое время… и был настоящим революционером – открывал и развивал новые музыкальные миры»[246]. Не исключено, что именно болезнь подтолкнула Шумана к творческому новаторству, подобно тому как галлюциногенные наркотики подхлестывают воображение современных художников, писателей и музыкантов.
В девяностые годы прошлого века психиатр Брэдфорд Фелкер и его коллеги просмотрели десятки опубликованных медицинских исследований и обнаружили, что около 20 % описанных там психиатрических пациентов страдали непсихиатрическими соматическими, то есть телесными болезнями, которые либо вызвали, либо усугубили их душевное расстройство[247]. Ментальные дисфункции в диапазоне от депрессии до рассеянности и потери памяти у этих больных были, вероятно, вызваны расстройством сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем или инфекционными болезнями. Как ни удивительно, около половины больных, как видно, не подозревали о своих непсихиатрических недугах. Это исключает вероятность, что психологические нарушения у них были вызваны тревогой из-за соматических расстройств. Напротив, соматические расстройства, скорее всего, были причиной душевных: влияли на уровень сахара в крови, снабжение тканей кислородом, гормональный баланс и целый сонм физических факторов, общих для мозга и организма в целом.
Сама мысль, что каждый пятый психиатрический больной получает неверный диагноз и, как следствие, неправильное лечение, не может не пугать. Однако такая статистика доказывает более широкий принцип: ментальные функции, которые мы обычно приписываем мозгу, – это на самом деле функции организма в целом. Если в организме что-то разладилось, разум страдает даже в том случае, когда мозг оказывается затронут лишь косвенно.
Но служит ли воздействие болезней на мозг доводом против главенствующего положения мозга? Мы знаем, что и последний из рядовых может свергнуть первого из командиров. Король Гарольд Годвинсон, защищавший Британию от захватчиков-норманнов, погиб в 1066 году в битве при Гастингсе от стрелы неизвестного лучника, попавшей ему в глаз. Русский царь Николай II был расстрелян в сибирской глуши бывшим часовщиком. История человечества знает массу случаев, когда властители – от римского императора Каракаллы до премьер-министра Индии Индиры Ганди – погибали от рук собственных телохранителей. Возможно, и воздействие соматических недугов на мозг можно считать редкими примечательными случаями, когда подданный свергает правителя? Однако в дальнейшем мы увидим, что это не так. Нормальные процессы сознания и поведения основаны на теснейшем взаимодействии мозга и тела. Тем, что мы делаем, что думаем и кто мы есть, несомненно, управляет организм в целом.
Особенно очевидна взаимосвязь мозга и тела в сфере эмоций. Представьте себе, что как-то вечером вы в одиночестве возвращаетесь домой и обнаруживаете, что дверь не заперта и приоткрыта. Не может быть, вы же заперли ее утром, когда уходили! Вы робко входите в дом – вдруг вас обокрали или, хуже того, в доме затаился злоумышленник? Зрачки у вас расширяются – вы всматриваетесь в темноту, нашаривая выключатель. Дыхание учащается, кровь приливает к щекам. Нащупав выключатель, вы зажигаете свет – и в первый миг он вас ослепляет. Тут из разверзшейся перед вами бездны раздается стройный хор оглушительных голосов. Все мышцы у вас напрягаются, живот каменеет, вы ощущаете мимолетную дурноту из-за перегрузки сердца. Застыв на месте, вы тупо смотрите вперед и вдруг понимаете, что вас окружила взбудораженная толпа, кажется, готовая наброситься на вас. Зрение фокусируется на одном лице. Надо же! Это лицо вашего студенческого приятеля – глаза у него круглые, ноздри раздуваются, а с губ вот-вот сорвется: «Сюрприз!» И верно – у вас же сегодня день рождения! Напряжение сразу спадает. Даже если вы уже староваты для неожиданных вечеринок, ваши друзья, очевидно, считают иначе.
Такой сценарий предполагает, что вы, безусловно, не только ваш мозг. По вашим действиям и ощущениям очевидно, что в реакцию вовлечены и разум, и тело, а физиологические процессы в совокупности пронизывают вас буквально с головы до пят. Если бы вы были первобытным человеком, рыскавшим по дикой саванне, перемены в организме в тот момент, когда вас охватывает ужас перед темнотой и неизвестностью, готовили бы вас к инстинктивной реакции «бей-или-беги». Все органы и системы таким образом готовились последовать любой избранной тактике.
Биологические механизмы, которые стоят за учащением сердцебиения, напряжением мускулатуры, покраснением щек и туннельным зрением, обеспечиваются сетью структур под названием «ось гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников» (см. рис. 8)[248]. Гипоталамус – это отдел мозга, вырабатывающий нейропептиды и гормоны, входящие в состав сложного химического бульона, о котором мы говорили в главе 2. Один из гормонов гипоталамуса, молекула под названием кортиколиберин, выделяется в кровоток при стрессе и быстро доходит до гипофиза – крошечной, размером с горошину, фабрики гормонов, которая прячется под самым мозгом. Под воздействием кортиколиберина клетки гипофиза выделяют в кровоток другое вещество – адренокортикотропный гормон (АКТГ). АКТГ воздействует на надпочечники – пару желтоватых комочков на верхушках почек – и заставляет их выделить третий гормон, гидрокортизон, который вызывает повышение артериального давления и ускоряет обмен веществ по всему организму. Параллельно этому химическому сигнальному пути проходит нервный проводящий путь, который ведет прямо из гипоталамуса к надпочечникам, и этот нервный путь также задействуется при стрессе, что приводит к выбросу адреналина – еще одного маленького гормона, который усиливает действие гидрокортизона, и они сообща вызывают перемены в организме, в том числе учащенное сердцебиение и усиление кровотока.
Рис. 8. Схема оси гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. Показаны взаимодействия, обеспечиваемые гормонами кортиколиберином, АКТГ и гидрокортизоном (отрицательная обратная связь обозначена пунктирными стрелками)
Очевидно, что ось гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников выходит далеко за пределы мозга, однако на первый взгляд может показаться, будто это очередной пример вертикального контроля; но тут следует принять в расчет влияние соматических входных сигналов и обратной связи на всю систему. Рассмотрим, к примеру, как меняется при усилении тревоги зрительное восприятие. Расширение зрачков вызывается в первую очередь адреналином[249]. Когда зрачки широкие, повышается острота туннельного зрения, но снижается острота периферийного, вот почему вы склонны сосредоточиться на одном предмете (лице приятеля), но смутно различаете сцену в целом. Кроме того, поскольку адреналин и гидрокортизон вызывают симптомы, которые у вас ассоциируются со стрессом, они влияют на ваше восприятие опасности[250]. Даже бессознательно вы ощущаете учащенный ритм дыхания, бурление в животе, жар крови, прилившей к лицу и мышцам. Это создает обратную связь между мозгом и остальным организмом, которые помогают друг другу поднять тревогу. К счастью, этот порочный круг уравновешен противоположной обратной связью между мозгом и остальным организмом, поскольку вырабатываемый надпочечниками гидрокортизон подавляет выработку кортиколиберина и АКТГ в гипоталамусе и гипофизе, а это обеспечивает прямые химические сигналы от организма мозгу, которые держат всю систему под контролем.
Мозг только кажется главнокомандующим эмоциональных реакций, на самом деле он влияет на них в самой разной степени. В случае с первой сценой неожиданной вечеринки, в которой вы как главный герой испытываете сильный стресс, тревогу у вас вызывают подозрительные обстоятельства, которые вы обнаруживаете, вернувшись домой. Осознание, что что-то не в порядке, основано на ваших воспоминаниях, по большей части хранящихся в нейронных структурах, хотя последствия этого осознания разыгрались в масштабах физиологии всего организма. Однако в других случаях стресс и тревога запускаются факторами вне головы. Классический пример – беременность. Когда женщина вынашивает ребенка, плацента служит аномальным дополнительным источником кортиколиберина, что приводит к постоянному повышению уровня гидрокортизона в крови матери, который не удается держать под контролем при помощи нормальной обратной связи. Когда ребенок рождается и плаценты больше нет, гидрокортизон резко падает. Эти гормональные перемены и их воздействие на ось гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников способствуют сильнейшим перепадам настроения, с которыми сталкиваются многие женщины до и после родов[251].
Не только тревога, но и все остальные эмоции связаны с экстрацеребральными переменами и ощущениями в организме. Мы говорим, что сердце у нас сжимается от горя, в груди пылает огонь любви, кровь вскипает от ярости и так далее, и хотя это лишь фигуральные выражения, за ними стоит физиологическая реальность. Обширные данные наблюдений над человеком и животными позволили Чарльзу Дарвину сделать вывод, что эмоциональные состояния выражаются через рефлекторные физические действия, которые на протяжении истории эволюции служили для облегчения эмоций или удовлетворения желаний. Скажем, в жестах и позе разъяренного человека «более или менее явственно отображен акт нанесения ударов или схватки с врагом», а люди, «описывая какое-нибудь ужасное зрелище, часто на мгновение плотно зажмуривают глаза и качают головой как бы для того, чтобы не видеть или отогнать прочь нечто неприятное»[252]. Уильям Джеймс, один из отцов современной психологии, еще сильнее развил идею единства эмоций и физиологии. В 1890 году он выдвинул теорию, согласно которой комплекс соматических изменений при эмоциональном переживании не выражает эмоцию – он и есть сама эмоция. «Мы горюем, потому что плачем, злимся, потому что деремся, и боимся, потому что дрожим», – писал Джеймс (а не «мы плачем, деремся и дрожим, потому что горюем, злимся или боимся»)[253].
Исследования последних лет конкретизировали идеи XIX века, поскольку задействовали методы биомедицинских измерений, чтобы точнее установить связь эмоций с телесными явлениями – мышечной деятельностью, частотой дыхания и сердцебиения, колебаниями кожной реакции проводимости, то есть всем тем, что измеряется при проверке на детекторе лжи. Сильвия Крейбиг из Стэнфордского университета при обзоре более сотни таких исследований нашла подтверждение специфической связи между множеством разных типов эмоций и соматическими реакциями, с которыми они коррелируют[254]. Даже относительно схожие эмоции можно различить по физиологическим проявлениям, например, хотя и тревога, и печаль (без плача) сопровождаются учащением дыхания, но частота сердцебиения, кожная проводимость и объем дыхания при тревоге меняются не так, как при печали.
Лаури Нумменмаа и его коллеги из Университета Аалто в 2014 году проделали интереснейший анализ, который придал эмоциональным реакциям больше осязаемости: они создали «карты тела» при аффективных переживаниях у 700 с лишним испытуемых[255]. Участники исследования отмечали на схемах человеческого тела ощущения, которые ассоциировались у них с 14 эмоциональными или нервными состояниями. Усреднив полученные данные, ученые выявили отчетливые закономерности распределения зон активации или подавления в организме при каждой эмоции (см. рис. 9). Ощущение печали, согласно результатам исследования, сопровождалось снижением (подавлением) чувствительности в руках и ногах, особенно в кистях и стопах, а ощущение любви сопровождалось сильным обострением чувствительности в лице, верхней части живота и промежности. Чтобы исключить лингвистические и культурные факторы, которые могли бы повлиять на результат, ученые параллельно исследовали финнов, шведов и тайцев и получили во всех трех группах похожие результаты. Вдобавок ученые установили близкое соответствие между телесными ощущениями, которые испытуемые осознанно связывали с каждой эмоцией, и ощущениями, которые у них возникали объективно при просмотре эмоционально нагруженных видозаписей или прослушивании рассказов.
Рис. 9. Схемы телесных ощущений, связанных с эмоциональным восприятием, по данным Лаури Нумменмаа и его коллег. Кружки со знаком «минус» отражают области негативной реакции. Печатается с разрешения авторов по материалам L. Nummenmaa, E. Glerean, R. Hari, and J. K. Hietanen, «Bodily maps of emotions», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 111 (2014): 646–651/
Телесные эмоциональные реакции наподобие тех, которые установил Нумменмаа, вероятно, участвуют и в когнитивных процессах. В середине 90-х психолог Антонио Дамасио выдвинул авторитетную теорию влияния эмоциональных ощущений на процесс принятия решений. Согласно гипотезе Дамасио, мы подсознательно учимся связывать свои решения с эмоциональными соматическими переменами, к которым приводят наши действия. Дамасио называет эти усвоенные телесные ассоциации соматическими маркерами. Соматические маркеры возникают, когда перед нами встает выбор, с которым мы уже сталкивались в прошлом, и обеспечивают мгновенную обратную связь, которая либо подталкивает нас к тому или иному образу действий, либо отвращает от него. «Когда отрицательный соматический маркер сопоставляется с конкретным результатом в будущем, это сочетание действует как тревожный звонок, – пишет Дамасио. – А если это положительный соматический маркер, он становится манящим маяком»[256]. Скажем, я пытаюсь решить, куда пойти пообедать – в ресторан в центре города или в кафе по соседству. В ресторане в центре кормят лучше, но туда придется ехать на метро, терпеть всю эту давку, темноту, шум, запах мочи. Задействуются отрицательные соматические маркеры, ассоциирующиеся с метро (скажем, у меня перехватывает горло и замедляется дыхание), и я тут же решаю поесть поближе к дому. В рамках гипотезы Дамасио телесные реакции помогают мне принять решение, не продумывая все детали, позволяют пройти напрямик, связав возможный образ действий с вероятным эмоциональным результатом.
Дамасио выдвинул свою гипотезу соматических маркеров по данным наблюдений над пациентами с повреждением вентромедиальной префронтальной коры головного мозга[257]. Этот отдел мозга, по всей видимости, активируется сенсорными сигналами организма и, вероятно, служит средством связи между сенсорными сигналами и высшими когнитивными функциями мозга. Дамасио отметил, что у больных с повреждениями этой зоны «нарушается способность выражать эмоции и испытывать чувства в ситуациях, в которых в норме ожидается возникновение эмоций». Примечательно, что такие больные получают достаточно высокие результаты тестов на IQ, однако принимают неправильные решения в ситуациях, предполагающих риск или отложенный результат, в том числе в социальных взаимодействиях и коммерческих сделках. То, что пациенты с повреждениями вентромедиальной префронтальной коры делают грубые ошибки в стратегическом планировании, противоречит стереотипным представлениям, что эмоции мешают рассуждать логически и принимать верные решения; воплощение такого шаблона – Спок из «Звездного Пути», бесстрастный, зато гениальный.
Хотя некоторые критики сомневаются в роли соматических маркеров как таковых в принятии решений, в целом гипотеза Данасио считается рабочей моделью взаимодействия между мозгом и телом в том, что касается эмоций и когнитивных процессов[258]. «Соматическая обратная связь при эмоциональных реакциях имеет массу возможностей повлиять на переработку информации мозгом и на то, что мы чувствуем на сознательном уровне», – пишет нейробиолог Джозеф Леду в своей книге «Эмоциональный мозг»[259]. По мысли Леду, эмоции обеспечивают эволюционно настроенный механизм, позволяющий животным принимать стремительные, практически рефлекторные решения, которые, скорее всего, уберегут их от беды и не огорчат. Этот механизм регулирует и экономическое поведение человека, как полагает психолог и экономист из Принстонского университета Даниэль Канеман. Подводя итоги масштабных психологических экспериментов, которые он проводил совместно с Амосом Тверски в 70-е и 80-е, Канеман пишет, что решения часто управляются ментальными процессами, которые срабатывают «автоматически и очень быстро, не требуя или почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного контроля»[260]. Такой процесс быстрого принятия решений «без усилий порождает впечатления и чувства, которые являются главным источником убеждений и сознательных выборов», обеспечиваемых более медленными ментальными операциями. Иначе говоря, почти на все, что мы делаем, прямо или косвенно влияет процесс принятия решений, обусловленный эмоциями.
* * *
На еще более фундаментальном уровне тело, содержащее ваш мозг, влияет на ваш разум через физические возможности, которые они нам дают. Не секрет, что практически все наши действия зависят от способностей тела, но мы зачастую и представить себе не можем, как мощно относительно приземленные свойства организма влияют даже на самую интеллектуальную деятельность. Легендарный скрипач и композитор Николо Паганини, как полагают, страдал патологией соединительной ткани, из-за которой пальцы у него были аномально гибкими[261]. «Рука у него не крупнее обычного, но он может растягивать ее вдвое благодаря эластичности всех ее внутренних структур», – рассказывал его личный врач Франческо Беннати в 1831 году[262]. Следовательно, ни прилежание, ни усердие, ни абстрактное мышление не дали бы Паганини тех преимуществ, какие он обрел благодаря особым свойствам суставов. И так же несомненно, что большинство сугубо умственных деяний музыканта – его собственные оригинальные произведения – тоже были следствием его необычных физических данных. Известно, что его пьесы отличались удивительной виртуозностью, и их почти никто, кроме него, не мог сыграть, поскольку в них используются и флажолеты, невероятно расширяющие диапазон каждой из струн, и игра смычком одновременно с пиццикато, и аккорды, исполняемые на всех четырех струнах[263]. Все достижения Паганини, а в глубоком смысле слова и то, кем он был, неотделимы от его физических данных. «Чтобы стать Паганини, недостаточно было музыкального гения, требовалась и присущая ему физическая структура», – писал Беннати.
Нет, пожалуй, занятия более интеллектуального, чем изучение чистой математики, однако, вероятно, сам образ мыслей математиков обусловлен их физиологией. Можно ли считать совпадением, что математики и физики выросли из многих моих соучеников-чудиков, в школьные и студенческие годы обожавших играть в фрисби, вертеть на пальце подносы в столовой и жонглировать шапками? Видимо, благоприятную среду для развития незаурядных аналитических способностей создает определенный тип физической активности, требующий сложной координации движений при обращении с трехмерными предметами в пространстве. Даже Карл Гаусс, прославленный математический гений, с чьим мозгом мы познакомились в главе 1, говорят, покорил три вершины в Центральной Германии, чтобы проверить свои соображения относительно геометрии треугольников, а это требовало исключительных физических усилий и ловкости[264]. По мнению лингвиста Джорджа Лакоффа и психолога Рафаэля Нуньеса, отношения между математикой и физическими данными отнюдь не поверхностны. Они считают, что математическая мысль – это феномен, опирающийся на сенсорно-моторный опыт человека, а не чистое восприятие объективной истины. Лакофф и Нуньес писали, что «математика – это продукт нейронных способностей мозга, природы наших тел, нашей эволюции, окружения и долгой общественно-культурной истории»[265].
Для описания точки зрения, согласно которой когнитивные процессы порождаются не просто мозгом, а физическими организмами в целом и их взаимодействием с миром, ученые и философы применяют термин «воплощенное познание». Сторонники теории воплощенного познания делают особый упор на то, как определяют образ мыслей и поведения самые грубые физические особенности, скажем, общее строение организма и пространственное восприятие. «Наши тела и их перемещения по миру, обусловленные восприятием, делают львиную долю работы, необходимой для достижения наших целей, – пишут психологи Эндрю Уилсон и Сабрина Голонка, предполагая, что это избавляет нас от необходимости искать более абстрактные формы познания. – Этот простой факт целиком и полностью меняет наши представления о том, в чем суть „познания“»[266].
Воплощенное познание очевидно на примере колонии бобров, строящих запруду. Сначала бобры наваливают ветки на речное дно и придавливают камнями. На этой основе они возводят плотину, надстраивая конструкцию деревом и мусором. Чтобы укрепить структуру, они добавляют еще камней, кору, мох, прутья и грязь, которую наскребли со дна. Бобровые плотины обычно около метра в ширину и метра два в высоту, а их форма соответствует глубине реки и скорости течения. На первый взгляд творение бобра мало чем отличается от результата работы инженера, получившего образование в Массачусетском технологическом институте, если ему придется строить плотину из тех же материалов, вот почему бобер – символ Массачусетского технологического! Но теперь вернем в картину самих бобров. У каждого бобра есть острые, особопрочные топорики вместо зубов, мастерок каменщика вместо хвоста, перепончатые лапы Аквамена и крепкое коренастое сложение и мощные мышцы портового грузчика в миниатюре[267]. Если бы вам поручили разработать животное, основная задача которого – строить плотины в речках, скорее всего, у вас получился бы бобр. Однако бобр от природы еще и одержим одной – явно когнитивной – идеей посвятить себя строительству плотин. При звуке журчащей воды бобры так мобилизуются, что готовы трудиться, забыв обо всем, чтобы перегородить поток плотиной или починить прохудившуюся. Этот инстинкт ловко эксплуатировали охотники, добывавшие бобровые шкурки: они портили плотины и ставили ловушки на бедных зверьков, которые сбегались их чинить[268].
Примеров воплощенного сознания в природе еще много, но, пожалуй, самые наглядные мы найдем в области робототехники. Психолог Луиза Барретт в своей книги «За пределами мозга» приводит пример «швейцарских роботов», которые собирают предметы и складывают их кучками, как будто делают уборку[269]. Это сложное поведение не запрограммировано при создании роботов, а следует из основных принципов их дизайна. Роботы оборудованы набором пространственных датчиков, которые позволяют регистрировать предметы по бокам, но не спереди. Кроме того, движение роботов подчиняется простому правилу: если активирован датчик с одной стороны, поворачивайся в противоположную сторону. Поскольку робот не замечает предметов перед собой, он часто натыкается на них и подталкивает их вперед, но если он заметит сбоку второй предмет, то сворачивает, поэтому первый предмет образует со вторым зародыш будущего скопления, и этот процесс продолжается неопределенно долго. Опрятность швейцарского робота – прекрасный пример того, как простые физические способности вроде умения толкать, ощущать и поворачивать порождают сложные паттерны поведения безо всякого планирования и вертикального когнитивного контроля.
Устройство человеческого тела тоже определяет наше поведение. Если у вас есть собака, то, вероятно, временами у вас возникает желание сказать ей, чтобы она сама себя выгуливала, кормила и вообще ухаживала за собой. Была бы ваша собака чуточку умнее, и вы просто объяснили бы ей, как это делается, и предоставили бы ей полную самостоятельность, а сами беззаботно ходили бы на работу, в гости, ездили бы в отпуск и так далее. Но на самом деле, даже если бы у вашей собаки вдруг появился человеческий интеллект и она заговорила бы человеческим языком, очень велика вероятность, что она все равно осталась бы беспомощной, как младенец. Она не могла бы сама открывать почти все двери, не могла бы включать и выключать воду, готовить себе еду и, разумеется, ходить за покупками. А все потому, что среда нашего обитания продумана только для нас, людей, и оборудована с учетом наших поведенческих возможностей – психолог Джеймс Гибсон называет их очевидными возможностями, или аффордансами[270]. Дверные ручки, компьютерные клавиатуры, стулья и кровати – все они предлагают аффордансы, приспособленные к нашей анатомии. Мы ходим на двух ногах, обладаем бинокулярным зрением, тонкой моторикой, способностью брать предметы – и без всего этого почти все простые занятия, которым мы предаемся, стали бы нам недоступны.
Джордж Лакофф и его коллега Марк Джонсон утверждают, что наши тела в конечном итоге определяют не только то, что мы делаем, но и то, как мы думаем. В своей классической книге «Метафоры, которыми мы живем» Лакофф и Джонсон постулируют, что большинство понятий, на которые мы опираемся в языке и мышлении, строятся на более простых идеях при помощи метафор. «Так как множество понятий, важных для человека, либо абстрактно, либо нечетко определено в опыте (эмоции, идеи, время и т. п.), – пишут они, – возникает необходимость использовать для их понимания другие концепты, которые осознаются более четко (пространственная ориентация, объекты и т. п.)»[271]. По мнению Лакоффа и Джонсона, наши понятийные системы глубоко укоренены в опыте, который мы получаем благодаря тому, что наши тела с их конкретным устройством так или иначе перемещаются по миру, иначе говоря, даже высшие познавательные функции у нас воплощены в теле. Мы безо всякого труда и без посторонней помощи понимаем, что такое «вверх», «брать», «толкать», поскольку эти понятия тесно связаны с фундаментальными физическими особенностями нашей жизни – с тем, как мы стоим и что можем делать руками. Чтобы показать, как эти фундаментальные физические особенности служат строительным материалом для более сложных идей, Лакофф и Джонсон подчеркивают, что даже непространственные и нефизические по сути своей понятия обсуждаются в терминах пространства и физических качеств. Например, когда мы говорим о счастье, то наши формулировки предполагают, что «счастье – это вверх» («У меня приподнятое настроение», «Он воспрянул духом»). Когда мы говорим о времени, то воспринимаем его как ресурс, которым мы располагаем и можем им воспользоваться или сберечь его – время можно выиграть и потерять, а можно уделить кому-то часть своего времени. О споре мы говорим в тех же терминах, что и о физической схватке: мы нападаем друг на друга, а наши аргументы могут быть сильными или слабыми.
Представления Лакоффа – Джонсона подтверждаются интересными экспериментальными данными. В ходе этих экспериментов исследователи сопоставляли физические позы испытуемых с их мыслями и настроениями. Скажем, Анита Ээрланд и ее коллеги из Роттердамского университета имени Эразма проверили предположение, что размышления о количествах имеют отношение к тому, как человек представляет себе числа на числовой оси, и изучили, как это, в свою очередь, связано с положением тела[272]. Ученые просили испытуемых встать на слегка наклонный пандус и оценивать разные количественные величины, например, вес среднего слона или высоту Эйфелевой башни. Когда пандус наклонялся влево, испытуемые тоже наклонялись влево – как бы в сторону меньших чисел на весах или линейке. Как ни удивительно, эта незначительная перемена позы систематически влияла на ответы – заставляла занижать числа. Будто участникам, наклонявшимся влево, и толстокожие казались легче, и сооружение Александра Эффеля ниже, чем тем, кто стоял прямо или наклонялся вправо. Другой эксперимент по изучению связи между сознанием и позой провела исследовательская группа под руководством Линдена Майлса из Абердинского университета: ученые снабдили 20 добровольцев датчиками движения, а затем предложили подумать о событиях в прошлом или в будущем[273]. В этом случае испытуемые наклонялись вперед, когда размышляли о будущем, и назад, когда размышляли о прошлом.
Самые надежные данные о связи между физическим движением и когнитивными процессами дают, безусловно, исследования влияния физических упражнений на ментальные функции. Эти исследования подтверждают общий вывод, что активное тело способствует активному уму. Самое, пожалуй, интересное в этой мысли – соблазнительное предположение, что программы физических упражнений могут отсрочить упадок умственных способностей при старении. У взрослых старше 50 лет регулярные занятия физкультурой по 45–60 минут с нагрузками от умеренных до значительных и в самом деле улучшали память, внимание и навыки решения задач, причем улучшение наблюдалось и у здоровых испытуемых, и у людей с легкими когнитивными нарушениями на ранней стадии болезни Альцгеймера[274]. Есть данные, что физические упражнения улучшают когнитивные способности и у молодых людей[275]. Едва ли не самое наглядное доказательство получили психологи Мэрили Опеццо и Дэниел Шварц из Стэнфордского университета: они предложили студентам колледжа либо посидеть на стуле, либо побегать на беговой дорожке в пустой комнате, а потом провели стандартные тесты на творческое мышление[276]. Те, кому предлагали немного походить, лучше «сидячих» отвечали на вопросы, связанные с неожиданными аналогиями, или придумывали необычные способы применения обиходных предметов. В ходе другого подобного эксперимента испытуемые либо проходили некоторое расстояние по кампусу, либо проезжали тем же маршрутом в кресле на колесах, и оказалось, что после пешей прогулки когнитивные способности у студентов по данным тестов на творческое мышление опять же повышались.
Пожалуй, мы намекаем на связь между физической активностью и познанием, когда говорим, например, о живости ума. Но эта связь отнюдь не сводится к метафорам. Установлено, что физические упражнения вызывают физиологические изменения, которые прямо связывают мозг с остальным организмом[277]. Во время и сразу после упражнений сердце бьется быстрее, кровь приливает к мозгу, что улучшает снабжение мозга кислородом и энергией. Кроме того, мозг вырабатывает нейротрофические факторы – химические вещества местного действия, способствующие росту и поддержанию благополучия клеток. В долгосрочной перспективе эти вещества обеспечивают формирование новых нейронов в гиппокампе. Этот отдел мозга особенно важен для формирования памяти, и восстановление его клеток, вероятно, особенно важно для борьбы с симптомами болезни Альцгеймера, вызывающей отмирание клеток в этой области. Таким образом, влияние физических упражнений на когнитивные функции показывает, что простые и поверхностные вещи, которые мы делаем с собственным телом, воздействуют на сознание через известные физиологические механизмы, подобные тем, о которых мы говорили в предыдущем разделе.
* * *
Итак, мы рассмотрели, как влияют на мысли и чувства всевозможные биологические процессы за пределами мозга. Очевидно, мы не стали бы теми, кто мы есть, без своих физических способностей, здоровья и физиологических механизмов наподобие оси гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. Мы убедились на примерах от композитора Паганини до бобров-строителей, что физические характеристики во многом определяют, каковы ментальные способности личности, а примеры вроде неожиданной вечеринки, напугавшей виновника торжества, или положительного влияния физкультуры на когнитивные функции показали нам, что физиологическое взаимодействие мозга с организмом в целом представляет собой замкнутую петлю. Но особенно убедительные доказательства того, как мощно влияет тело на разум, дал бы очень простой эксперимент: пересадить в тело человека новый мозг и посмотреть, какие характеристики наследуются от мозга, а какие от тела. Увы, современная наука и мечтать не может о пересадке мозга, зато нам доступна и часто применяется менее радикальная процедура – трансплантация или изменение отдельных частей тела. Влияют ли на разум и личность человека пересаженные органы и ткани?
Да, влияют, и на это указывает все больше данных. Самые сенсационные истории рассказывают те, кому пересаживали донорские органы, например, Клэр Сильвия, получившая новые сердце и легкие. В своей книге «Новое сердце» Сильвия рассказывает, что вместе с органами получила и личность и воспоминания своего донора. Она поняла это в ночь после операции: ей приснилось, что она познакомилась со своим донором Тимом Л. и поцеловала его. «Я проснулась с ощущением, нет, с уверенностью, что моим донором был именно Тим Л. и что теперь во мне отчасти живет его душа и его личность», – пишет Сильвия[278]. Не так давно в лондонской газете «Telegraph» появилась статья о Кевине Мэшфорде, который увлекся велоспортом после того, как ему пересадили сердце велосипедиста, погибшего в ДТП, и о Шерил Джонсон, которая считает, что приобрела утонченный литературный вкус вместе с донорской почкой[279]. Но как бы ни соблазнительны были подобные сюжеты, мысль, что органы вне мозга хранят или передают специфические воспоминания или склонности, не имеет научной основы. В то же время наука не отрицает очевидный факт, что в результате операций у этих пациентов наблюдаются мощные изменения личности.
Есть все причины полагать, что пересадка органов, как в случае Клэр Сильвия, сильнейшим образом влияет на сознание. «Пересадка сердца вызывает целый ряд существенных физиологических и психологических перемен, а общий результат зависит от каждого конкретного человека, – пишет Уилл Оремус, редактор раздела технологии интернет-издания „Slate“. – Самый распространенный результат вполне логичен: когда человеку дарят новую жизнь, это придает радости и оптимизма»[280]. В 1992 году группа австрийских ученых провела одно из первых серьезных психологических исследований пациентов, получивших донорские органы, опросив 47 больных, которым было пересажено сердце, в одной венской больнице[281]. Около 20 % больных сообщили, что в пределах двух лет после операции отметили у себя изменения личности. Большинство из них приписывали эти перемены смертельной опасности, которая и стала причиной операции, но не все. Те, у кого изменения были сильнее всего, говорили, что операция повлияла на предпочтения и мировоззрение. «Человек, чье сердце мне пересадили, был спокойным, чуждым суеты, – говорил один из пациентов, – и теперь его чувства перешли ко мне».
Сердце – символ любви и страсти, и эти ассоциации, вероятно, придают особую окраску рассказам больных, получивших донорское сердце. А как обстоят дела у реципиентов не таких гламурных органов? Когнитивные и эмоциональные изменения наблюдаются практически у всех – и неудивительно, если учесть, через какие испытания проходят такие больные. Иногда эти перемены можно объяснить специфическими биохимическими и гормональными механизмами влияния периферийных органов на психику. Наиболее очевидные случаи вызваны нормализацией деятельности органа, отказ которого и привел к трансплантации. Например, при отказе почек и печени в крови повышается уровень токсических веществ, в том числе мочевины и аммиака, и в этой ситуации возникают и изменения личности, и нарушения интеллекта. А замена больного органа здоровым решает эти проблемы и зачастую прямо влияет на когнитивные способности[282]. Сравнить «до и после» удается крайне редко, однако именно такое исследование 12 больных провели в Италии, и результаты показали, что трансплантация печени приводит к долгосрочному улучшению целого ряда ментальных функций – и внимания, и памяти, и пространственного воображения[283].
Сильнее всего влияют на мысли и чувства больных медицинские манипуляции на органах пищеварения. Эти особые отношения, вероятно, объясняются обширнейшей сетью биохимических и нервных каналов коммуникации между мозгом и желудочно-кишечным трактом. Главные компоненты этой сети – блуждающий нерв, разветвленная нервная дорожная развязка, которая связывает большинство органов брюшной полости со стволом головного мозга, и энтеральная нервная система, во многом независимый «второй мозг» более чем из 100 млн нейронов в кишечнике, взаимосвязанный с мозгом у нас в голове[284]. Следует ожидать, что инвазивные изменения в пищеварительной системе прямо или косвенно влияют на подобные структуры.
Самая распространенная хирургическая операция в гастроэнтерологии – не пересадка донорских органов, а частичное удаление желудка: так принято лечить ожирение. Оказывается, что примерно в половине случаев больные, подвергшиеся этой операции для снижения веса, отмечают у себя и изменения личности[285]. Форумы, посвященные этой процедуре, пестрят рассказами о превращении доктора Джекила в мистера Хайда – а иногда наоборот. «Меня бомбардируют новые чудесные эмоции, – пишет один пациент, лечившийся от ожирения. – Новый я себе очень нравлюсь, но я в смятении. Таким я никогда не был – даже раньше, когда я был молодой и стройный»[286]. Распространенность подобных коллизий, вероятно, поможет объяснить, почему после операций на желудке так высока статистика разводов[287]. Так чем же вызваны резкие перемены в жизни – физиологическими последствиями изменений желудка как таковыми или косвенными последствиями последующей потери веса у больного? Разделить эти факторы, по-видимому, невозможно, но, вероятно, свою роль играют оба.
Один из самых неожиданных и экзотических примеров радикального влияния трансплантации на ментальный склад также дает пищеварительная система. Правда, на сей раз речь идет не о пересадке органа, а о передаче от человека к человеку сообщества бактерий и других организмов, обитающих в кишечнике, так называемой кишечной микрофлоры. Чтобы улучшить микрофлору кишечника, врачи прибегают к вызывающей некоторую оторопь процедуре под названием «пересадка кала» (вдумайтесь в эти слова) или прописывают больным обогащенные бактериями продукты, например, йогурт. Подобные методы бактериотерапии применяются для лечения кишечных инфекций, вызванных вредными бактериями, в том числе Clostridium difficile, которая является причиной колита у сотен тысяч больных в США ежегодно[288]. Цель процедур – повысить долю «хороших бактерий», в норме населяющих здоровый кишечник, а затем эти полезные микроорганизмы снижают воспаление, буквально вытеснив ядовитые микробы. Так вот, недавние исследования подтверждают удивительное наблюдение, что подобные изменения в составе микрофлоры кишечника влияют не только на пищеварительные функции кишечника, но и на психологические состояния вроде тревожности, стресса и депрессии[289]. Бактериотерапию все шире применяют для лечения людей, однако самые яркие результаты по влиянию микрофлоры на поведение получены при лабораторных исследованиях мышей. В ходе одного эксперимента группа под руководством Стивена Коллинза из Университета имени Макмастера проделала перекрестную пересадку кала между мышами двух генетических линий – BALB/c и NIH Swiss[290]. В норме мыши BALB/c не такие смелые, как мыши NIH Swiss, они стараются избегать света и держатся в одном месте, а не изучают окружение. Но вот что удивительно: получив каловый материал от мышей NIH Swiss, мыши BALB/c стали значительно смелее и любознательнее. А мыши NIH Swiss, напротив, получив микрофлору от мышей BALB/c, утратили интерес к своему окружению и стали гораздо боязливее. Группа ученых под руководством Джона Крайана из Ирландского национального университета в Корке поила мышей бульоном с содержанием Lactobacillus rhamnosus, «хороших бактерий», встречающихся в кисломолочных продуктах[291]. Мыши стали более хладнокровными и устойчивыми к стрессу, чем зверьки из контрольной группы, которых не поили особым напитком: охотнее изучали окрестности, их было не так легко напугать, а когда их бросали в воду, плавали и не сдавались гораздо дольше контрольной группы. Оба эксперимента с манипуляциями над микрофлорой вызвали нейрохимические изменения в мозге мышей, а исследования при помощи фМРТ на людях показали также, что существует связь между бактериотерапией и реакциями мозга[292]. Физиологическая сеть каналов, дающая возможность кишечным микроорганизмам влиять на процессы в мозге, получила название «микробиомно-кишечно-мозговая ось».
Все эти занимательные истории о мышах и людях постоянно подтверждают, что превращения тела влияют на разум, на поведение и чувства человека, и это влияние подчас неожиданно и очень существенно. Прежний человек с прежним мозгом после трансплантации или терапии, влияющих на остальной организм, обнаруживает, что у него радикально изменился характер или мировоззрение. Это примечательный контрапункт одному из самых прославленных медицинских казусов в истории нейрофизиологии – случаю Финеаса Гейджа, железнодорожного рабочего, который в 1848 году чудом выжил после чудовищного взрыва, пробившего дыру в префронтальной коре его мозга. После катастрофы несчастный Гейдж стал гораздо импульсивнее, вспыльчивее и грубее, что погубило его личную жизнь и лишило возможности найти работу. Гейдж «перестал быть прежним Гейджем», говорили очевидцы, наблюдавшие у него примерно те же эмоциональные и когнитивные сложности, о которых говорил Антонио Дамасио[293] в рамках своей гипотезы соматических маркеров. Из этой главы мы узнали, что жизненно необходимая пересадка органа, ушивание желудка или смена микрофлоры кишечника зачастую вызывают личностные изменения, по масштабу сопоставимые со случаем Гейджа, но при этом не затрагивают мозг физически.
* * *
Недавно я побывал на встрече с сотрудниками Конгресса США, которые пришли ко мне в университет узнать о том, какие у нас идут исследования по нейрофизиологии. После кратких сообщений ученых гостям предложили задать несколько вопросов. Желающих оказалось очень много. Один из первых посетителей, кому предложили высказаться, перешел сразу к сути дела:
– Будет ли найден способ улучшить когнитивные способности?
Этот вопрос тут же вызывает в воображении постапокалиптические картины страшных злодеев, нашпигованных всевозможными бионическими протезами мозга – точь-в-точь ужасный Борг из «Звездного пути». Но есть и относительно мирные примеры – гораздо более скромные технологические имплантаты, которые улучшают память и сенсорные способности персонажей канадского научно-фантастического сериала «Континуум». Научно-технический прогресс в области связи между машинами и мозгом делает перспективу создания подобных вживляемых механизмов для улучшения когнитивных способностей более реалистичной. Свыше 30 000 людей во всем мире носят мозговые имплантаты, которые облегчают симптомы двигательных расстройств вроде болезни Паркинсона и мышечной дистонии, стимулируя конкретные участки мозга крошечными электрическими импульсами[294]. А создание оптогенетики – метода оптической нейростимуляции, с которым мы мимоходом познакомились в главе 2, – позволяет надеяться, что ученые когда-нибудь научатся манипулировать мозгом с той же легкостью, с какой сегодня мы печатаем на компьютерной клавиатуре: вводить новую информацию, управлять вниманием, производить вычисления со скоростью, недоступной естественному мозгу[295].
Тут и логично, и уместно спросить, насколько такие фантазии близки к реальности. Однако моя коллега Лора Шульц как-то раз проявила нестандартность мышления, ответив вопросом на вопрос: «А вы сегодня утром пили кофе?» Лора, конечно, намекает, что кофе – это низкотехнологичный способ повысить когнитивные способности, к которому многие из нас прибегают ежедневно, и для этого не нужно никаких футуристических мозговых имплантатов и хирургических операций, которые, вероятно, подразумевал спрашивающий. Хотя кофе – это совсем не так зрелищно, как снаряжение киборга, его гораздо легче применить, чтобы показать себя молодцом при работе над сложным проектом.
А нестандартным ответ Лоры был потому, что остроумно подсказывал, как отойти от стереотипных представлений об улучшении когнитивных способностей. К тому же ее реплика соответствует теме этой главы: факторы, влияющие на процесс познания, далеко не всегда ограничены стенками черепной коробки и воздействуют исключительно на мозг. Кофе тихо-мирно переваривается пищеварительной системой. Действующее вещество кофе – кофеин – распространяется по всему организму и влияет на состояние всех систем, а не только мозга. Он тормозит действие молекулы-посредника аденозина. Блокировка аденозина в отделе мозга под названием вентролатеральное преоптическое ядро непосредственно вызывает возбуждение, которое, в свою очередь, запускает перемены в масштабе всего организма – повышает артериальное давление и уровень гидрокортизона, а также вызывает легкую тревожность и стресс[296]. Таким образом, кофеин задействует сложные взаимосвязи между мозгом и телом, от которых и зависит субъективное ощущение бодрости, которое придает нам чашка кофе.
В части II этой книги мы подробнее рассмотрим влияние сакрализации мозга на наши представления о медикаментозных и технологических средствах воздействия на наше сознание как прямо через мозг, так и извне. Но сначала остановимся на последнем, особенно важном аспекте самой сакрализации – на мысли, что наш мозг и наш разум можно отделить от окружающего мира.
Глава шестая Нет мозга, который был бы, как остров[297]
«Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле», – говорит Бог в книге «Бытие» (Бытие 1:26). Не считая самого Господа, люди властвуют над планетой единолично, не ждут милостей от природы, а берут их у нее, приказывают, а не подчиняются, потребляют блага, а не служат кому-то пищей. Подобные представления о гегемонии Homo sapiens разделяет сегодня большинство человечества независимо от религии и стиля жизни. Даже убежденные веганы и буддисты, которым отвратительна мысль о порабощении животных, вносят свой вклад в глобальную цивилизацию, которая все сильнее захватывает планету, строит города, налаживает транспортные системы, развивает промышленность и сельское хозяйство. Как принято говорить, мы живем в эпоху антропоцена.
Было бы преуменьшением утверждать, что победа человека над природой невозможна без участия мозга. Каждый из нас, по всей видимости, способен контролировать свое ближайшее окружение благодаря способности осуществлять произвольные действия, и в прошлом эта способность ассоциировалась с метафизической душой или «я», однако в последние десятилетия узурпирована центральной нервной системой. «Все больше ученых согласны, что нет нужды выносить „я“ за пределы тела, – писал знаменитый нейрофизиолог Питер Милнер в своей книге „Автономный мозг“[298]. – Его удобнее считать сложным неврологическим механизмом, который часто называют исполнительной системой мозга». Специалист по когнитивным наукам Патрик Хаггард из Университетского колледжа в Лондоне подобным же образом отмечает, что «в современной нейрофизиологии все сильнее намечается тенденция считать, что произвольное действие основано на специфических мозговых процессах»[299]. Отчасти эта тенденция вызвана знаменитыми экспериментами ученых вроде Бенджамина Либета, который в 80-е годы XX века показал, что на основании электрических сигналов из мозга можно предсказывать несомненно произвольные движения человека еще до того, как он принял осознанное решение действовать[300]. В сущности, мозг «знает», что мы будем делать, еще до того, как мы сами об этом догадываемся. А следовательно, мозг всем управляет, потенциально определяет все наши поступки и принимает за нас решения более или менее самостоятельно. По выражению нейрофизиолога Дэвида Иглмена, мозг – это «центр управления операцией, который руководит всем и собирает донесения через маленькие порталы в бронированном бункере черепа»[301].
Однако метафора «мозга-в-бункере» представляет взаимодействие между мозгом и окружающим миром в парадоксальном виде. Помимо понимания связей между мозгом и телом, такая картина превращает большой мир всего лишь в пассивный источник ресурсов для функционирования мозга. Окружение поставляет информацию в мозг, засевший в своей крепости, а он изучает данные и решает, как ответить. Мозг – верховный главнокомандующий, первоисточник всех независимых поступков. Толщина брони и миниатюрность порталов предполагают, что главнокомандующий надежно защищен от происходящего на поле битвы и может спокойно размышлять над разведданными и стратегией вдали от тех мест, где ведутся настоящие боевые действия. Однако, если проводить резкую границу между тем, что происходит вне мозга, и тем, что делается внутри, и нарушать равновесие сил между ними, перед нами появится очередной наглядный пример научного дуализма, о котором мы рассуждали в предыдущих главах этой книги.
Но вот в чем парадокс: очень трудно определить, где именно донесения из внешнего мира превращаются в решения. Разве можно представить себе этакий «пункт передачи» – определенное место или, скорее, более обширный «сложный неврологический механизм», – где кончается детерминистская реакция на данные из окружающей среды и включается когнитивный контроль мозга? По мнению некоторых философов, считать, будто где-то есть такое место, – все равно что предполагать, будто в мозге сидит маленький человечек, гомункул, который получает все данные извне и решает, как отреагировать. Этот сказочный сценарий обрел буквальное сказочное воплощение в знаменитом диснеевском мультфильме «Головоломка», снятом в 2015 году, где все поступки девочки-героини определяют пять персонифицированных эмоций – Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость, которые нажимают кнопки и дергают рычаги на панели управления у нее в голове[302]. Но как же это удается Радости и ее товарищам? Получается, что внутри каждой из эмоций должен быть свой набор гомункулов, которые перерабатывают ее поступающие данные в реакции? И так далее по рекурсивной цепи – словно бесконечный каскад отражений, которые видишь, когда встаешь между двумя зеркалами в гардеробной (см. рис. 10). Это противоречие известно как «регресс Райла» – по имени философа Гилберта Райла, который рассмотрел эту проблему в своем фундаментальном труде «Понятие сознания» (1949)[303].
Очевидный способ обойти регресс Райла – отказаться от мысли, будто мозг способен оперировать независимо от окружающего нас мира. Тогда основополагающее влияние среды проникает гораздо глубже в мозг – вплоть до уровня наших решений и поступков. Когда яблоко падает с дерева, когда тают зимние снега и журчат, стекая в долину, вешние ручьи, когда мотоцикл слетает с автострады в кювет, их траектории определяют законы физики и характеристики окружающего пространства. Возможно, мозг больше похож на падающее яблоко, управляемое силами природы даже в тот миг, когда оно падает на голову Исааку Ньютону. Философ первой половины XIX века Артур Шопенгауэр в своем прославленном эссе «О свободе воли» утверждал, что «поведение человека, как и все прочее в природе, для каждого отдельного случая с необходимостью определяется как действие известных причин»[304]. Если бы это было так, человеческий мозг служил бы всего лишь звеном в причинно-следственной цепи, бусинкой, пассивно дрожащей на нити жизни, а не дланью, потрясающей саму эту нить. Тогда природа правила бы мозгом, а не наоборот.
Рис. 10. Схематическое изображение регресса Райла и парадокса гомункула
Однако наше время отличается от времени Шопенгауэра тем, что сегодня в нашем распоряжении целая сокровищница экспериментальных данных о том, как сильно влияет на наш мозг и наше поведение длинная рука окружающей среды. В этой главе мы рассмотрим некоторые из этих данных и убедимся, что рутинная роль среды – не просто теоретическая абстракция. Отношения между мозгом и средой заходят гораздо дальше банальных замечаний, что-де человек есть продукт своего времени и места, что важны и природа, и воспитание и что все мы учимся на опыте, а память можно натренировать. Когда границы между мозгом и средой размыты, каждая мысль и каждое действие, даже в самый миг возникновения и свершения, становятся следствием влияния большого мира. Если изучить эти связи, мы снова поставим под сомнение сакрализацию мозга как центра управления и увидим, в какой степени наш мозг – это природное явление, подчиняющееся вселенским законам причины и следствия.
* * *
У взаимодействия между средой и разумом есть известная аллегория – статуэтки трех обезьянок. Говорят, что самое древнее изображение этого сюжета – резьба XVII века на двери храма Тосегу неподалеку от места погребения великого сегуна Токугавы Иэясу в японском городе Никко[305]. Одна обезьянка закрывает руками глаза, другая зажимает уши, а третья – рот, тем самым намекая на древнюю заповедь: «Не видеть зла, не слышать зла, не говорить зла». Обезьянки славятся любознательностью и везде пролезают, и эти не исключение. Статуэтки трех обезьянок в наши дни – один из самых глобализованных образчиков китча, ими торгуют на шести континентах, у них есть небольшое, зато сплоченное сообщество коллекционеров, которое ведет веб-сайт и встречается ежегодно[306]. Такая статуэтка входила в число того немногого, чем владел Махатма Ганди, и символизировала его строгий моральный кодекс[307]. Итальянские мафиози сделали обезьянок символом собственного кодекса – омерты, обета молчания[308]. Есть и варианты, шутливо пропагандирующие целомудрие – в них есть четвертая обезьянка, прикрывающая детородные органы. Таким образом, обезьянки прикрывают у себя все – и входы, и выходы. Поскольку зрение и слух соседствуют с речью и поступками, обезьянки учат нас, что поведение неотделимо от внешнего воздействия, которое начинается с чувств.
Наши главные сенсорные системы: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус – ясно показывают, по каким каналам окружение влияет на наши мысли и действия. Не случайно другая восточная аллегория, древнеиндийская версия знаменитой души-колесницы Платона, представляет чувства как пять коней, влекущих колесницу, символизирующую тело[309]. Почти все, что мы узнаем, поступает к нам через органы чувств, однако чувства – это гораздо больше, нежели фураж познания. Сенсорные системы позволяют стимулам внешней среды формировать наши мысли и действия куда более прямо. Нас непрерывно захлестывает мощный поток данных от органов чувств к мозгу. Напор этой информации непреодолим и неостановим, подключаться к этому потоку – все равно что пить из пожарного шланга. Органы чувств активны даже во сне, даже под общим наркозом и передают сигналы в мозг вне зависимости от того, осознаем ли мы их. Если углубиться в биологию чувств, начинаешь понимать, как трудно нашему мозгу сопротивляться воздействию внешних стимулов.
Самое изученное и, пожалуй, самое влиятельное из наших чувств – зрение. Исследователи зрения десятилетиями изучали, как свет, попадающий на светочувствительную часть глаза – сетчатку, распознается фоторецепторными клетками (так называемыми палочками и колбочками) и как эта информация перерабатывается в нервные импульсы (потенциалы действия), которые переправляются в мозг по зрительному нерву. Нейрофизиолог Хорес Барлоу в 70-е годы прошлого века занялся измерением электрических сигналов от нейронов роговицы, которые отвечают за вывод информации, так называемых ганглиозных клеток, и обнаружил, что каждый отдельный квант света – каждый фотон – порождает в среднем от одного до трех потенциалов действия[310]. Оказалось, что некоторые ганглиозные клетки даже в полной темноте «выстреливают» потенциалами действия до 20 раз в секунду; в сущности, эта деятельность – системный шум, но он все равно забивает ящик входящей почты в мозге.
Профессор Калифорнийского технологического института Маркус Мейстер придумал, как проанализировать первые этапы зрения. Для этого он изолировал образцы живой сетчатки животных и растянул их, будто простынки, на подложках из записывающих электродов, что позволяло одновременно регистрировать сигналы десятков ганглиозных клеток[311]. Благодаря этому методу Мейстер и другие нейрофизиологи пронаблюдали, как быстро сетчатка адаптируется к сильным изменениям яркости и контраста изображения, чтобы поток зрительной информации в мозг ни на миг не притормаживался. В ходе одного исследования ученые установили, что общий объем передачи данных от человеческого глаза к мозгу примерно равен передаче данных при подключении компьютера к Интернету – это около мегабайта входящих зрительных данных (четыре миллиона импульсов действия) в секунду по нервным проводам, сформированным аксонами миллиона ганглиозных клеток по всей сетчатке[312].
Остальные органы чувств также служат богатым источником входных данных для мозга. Кортиев орган внутреннего уха преобразует звуковые волны в нервные импульсы – это слуховой эквивалент сетчатки. Большинство слуховых нейронов из кортиева органа выстреливают потенциалами действия с частотой свыше 50 в секунду даже при низком уровне шума[313]. Поскольку слуховых нейронов у человека по 30 тысяч на ухо, общее количество потенциалов действия, доходящих в мозг от ушей в секунду, достигает нескольких миллионов. Огромный объем входящих данных поступает и от самого большого органа чувств в организме – от кожи. Нормальная кожа содержит четыре типа клеток-рецепторов давления и прикосновения, два типа тепловых и два типа болевых рецепторов. Большинство рецепторов напрямую связаны со спинным мозгом и синапсами – с нейронами, которые передают их данные оттуда в головной мозг. Некоторые осязательные рецепторы достигают плотности более двух тысяч на квадратный сантиметр, на одной только кисти руки таких клеток 17 тысяч[314]. Особые типы кожи – поверхность языка и слизистая оболочка носа, где содержатся соответственно рецепторы вкуса и запаха. Обонятельные нейроны значительно многочисленнее, этих клеток, связывающих нос и мозг, свыше 10 миллионов[315]. А следовательно, несмотря на то что средняя частота испускания импульсов действия у них довольно низка – около трех спайков в секунду, в совокупности эти клетки передают в мозг больше электрических импульсов, чем глаза или уши[316].
Итак, мы видим, что объем сенсорной информации, стекающейся в мозг, состоит из десятков миллионов потенциалов действия в секунду, что показывает, что у нашего мозга с окружением постоянная теснейшая связь. Чтобы оценить ее масштабы, вспомним, что объем входных данных от одного глаза в мозг сопоставим с объемом данных, передаваемых при активном интернет-соединении. Если так, то совокупный вклад всех органов чувств, вероятно, превосходит по объему 10 стандартных интернет-соединений, поскольку в секунду по миллионам нервных волокон передается около 10 мегабайт данных. Если направить столько данных в обычный современный домашний компьютер, он может и не справиться с подобной нагрузкой – иногда хакеры прибегают к этому методу, чтобы перегрузить интернет-сайты, и такая атака называется «отказ в обслуживании»[317]. То есть наше сенсорное окружение, похоже, проводит непрерывную атаку «отказ в обслуживании» на наш мозг.
Интересно, что по оценке количества потенциалов действия объем сенсорных данных, поступающих в мозг, сопоставим также с общим объемом исходящих из мозга данных – с постоянными сигналами, которые проходят от мозга к остальным органам, регулируют двигательную активность и мышечный тонус. Большинство моторных исходящих данных мозга передаются по так называемым пирамидным, или корково-спинномозговым, путям, состоящим более чем из миллиона аксонов, которые выстреливают со средней частотой около 10–20 спайков в секунду, что опять же дает в сумме десятки миллионов спайков в секунду[318]. Со стороны может показаться, будто мозг – несколько переусложненный механизм для переработки десятков миллионов входящих сигналов в секунду примерно в такое же количество исходящих сигналов, вроде телевизора, который преобразует данные из кабеля или с антенны в движущиеся картинки, которые можно смотреть.
Как же все входящие спайки влияют на мозг как таковой? Поскольку в ходе эволюции мозг научился принимать эти входящие данные, лавина чувственных ощущений на самом деле не переходит в атаку. Мозг от нее не теряет способности к действию, он просто меняется. Для всех органов чувств, кроме обоняния, у мозга оборудован входной порт под названием таламус, а обонятельные сигналы перерабатываются в другой области – обонятельной луковице. Эти участки в свою очередь связаны с участками коры головного мозга – первичной зрительной корой (сокращенно V1) в затылочной доле мозга и первичной слуховой корой в височной доле (см. рис. 7). Однако воздействие сенсорных данных ощущается далеко за пределами этих областей. Считается, что обработкой сенсорных данных занимается более 40 % коры[319]. В зрительной системе – самой обширной и сложной из всех органов чувств человека – информация распространяется от V1 к двум наборам участков мозга, каждый из которых регистрирует разные особенности каждого стимула. Так называемый дорсальный путь – полоса, идущая по верху затылочной и теменной долей, – классифицирует зрительные стимулы по грубым отличиям – например, по расположению и движению в пространстве, а вентральный путь, ведущий по основанию затылочной и височной долей, специализируется на более тонком анализе – в том числе на распознавании конкретных предметов и лиц. Подобные же пути иерархически расположенных областей, где происходит переработка данных, распознают звуки, запахи, вкусы и осязательные ощущения.
Входящие сенсорные сигналы, поступающие в мозг, распространяются в итоге практически повсеместно, будто сплетни среди друзей и родственников, разбросанных по городам и весям. Даже области особо тонкого и хитроумного распознавания продолжают реагировать и на самые простые стимулы. Например, изображение вспыхивающих линий вызывают нейронную реакцию по обоим путям обработки зрительной информации, и дорсальному, и вентральному, причем по всей их длине. Но самое удивительное – участки мозга, специализирующиеся на обработке одного типа стимулов, способны реагировать и на другие стимулы, подобно средневековым цирюльникам, которые были заодно и зубодерами. В частности, исследователи показали, что нейронные сигналы в зрительной коре иногда соответствуют слуховым стимулам[320]; есть и работы, где говорится о реакции слуховой коры и на зрительные, и на осязательные стимулы. На простые стимулы реагируют и участки мозга, которые, как уже установлено, играют другую роль, не имеющую отношения к восприятию сенсорных данных[321]. Элементарные зрительные и слуховые входящие стимулы активируют в том числе и участки лобной коры – средоточие «исполнительной власти» мозга. Зрительную реакцию в лобных областях можно наблюдать даже под наркозом, а это доказывает, что сенсорные стимулы проникают в мозг очень глубоко, пусть мы их и не осознаем[322]. В начале двухтысячных нейрофизиолог Марк Райхле заметил любопытное явление: многие стимулы, наоборот, постоянно деактивируют целую группу не связанных друг с другом областей мозга, иначе говоря, входящие сенсорные данные, похоже, снижают уровень нейронной активности в этих регионах[323]. Деактивированные области составляют значительную долю коры головного мозга, и в основном это территории вне известных нам систем обработки сенсорной или моторной информации. Эти области получили название «сеть по умолчанию», поскольку, судя по всему, особенно активны именно тогда, когда не происходит ничего примечательного.
На происходящее в мозге влияют даже очень слабые внешние стимулы. Большинство нейробиологических исследований сенсорных реакций изучают, мягко говоря, не самое слабое воздействие: ученые вызывают краткие эпизоды активности мозга при помощи кратковременных мощных стимулов. Например, зрительную реакцию изучают, измеряя импульсы активности или изменения на фМРТ, когда изображение на мониторе компьютера каждые пару секунд меняется с унылого серого поля на яркую красно-зеленую шахматную доску. Чтобы изучить динамику мозговой деятельности без таких навязчивых стимулов, исследователи проводят совсем другие эксперименты: наблюдают мозг испытуемого при неизменных условиях на протяжении нескольких минут, пока он просто пассивно лежит в сканере (и при этом его просят не засыпать!)[324]. Полученные данные о состоянии покоя в целом показывают совсем небольшие отклонения сигнала на фМРТ в каждой точке мозга. Если понаблюдать за толпой на спортивном матче, даже если не понимаешь суть игры, легко выявить группы болельщиков одной и той же команды – это те, кто одновременно издает приветственные или оскорбленные крики. По той же логике, исследователи пытаются выявить, какие участки мозга «заодно», а для этого ищут пиксели, яркость которых повышается или понижается одновременно. Считают, что такие корреляции отражают нейронную активность в отдельных сетях в мозге, и это называется функциональная связность состояния покоя[325].
Исследования фМРТ в состоянии покоя показывают, что изменения мозговой деятельности наблюдаются при постоянной зрительной стимуляции сродни той, которой мы подвергаемся изо дня в день. Невролог Маурисио Корбетта и его коллеги собрали данные фМРТ и магнитной энцефалографии испытуемых, которые либо пассивно глядели на пустой экран телевизора, либо смотрели эпизоды из третьесортного вестерна: кино было призвано стимулировать чувственный опыт, близкий к естественному[326]. Анализ показал, что закономерности функциональной связности в двух этих состояниях существенно различались. Когда испытуемые смотрели эпизоды из кино, корреляции между сигналами, отражавшимися при магнитном сканировании мозга, во многих сетях по всему мозгу снижались, что показывает, насколько постоянный чувственный опыт нарушает динамику в самых разных участках мозга. Стоит отметить, что на мозговую деятельность влияют и стимулы куда скучнее фильмов Клинта Иствуда. Тамара Вандеруэл из Йельской медицинской школы показывала испытуемым видеоролик с абстрактными постоянно меняющимися фигурами, вроде компьютерных скринсейверов, и исследовала его воздействие на флуктуации фМРТ в состоянии покоя[327]. Видеоролики Вандеруэл были совершенно лишены смысла, но все равно нарушали функциональную связность в мозговых сетях, которые ассоциируют со зрением, вниманием и контролем движений. Другое исследование, которое провели ученые из Массачусетского технологического института, показало, что на паттерны функциональной связности влияет и бессмысленный шум[328]. Фоновый шум воздействовал и на участки сети по умолчанию в экспериментах Райхле, что опять же доказывает, что тривиальные на первый взгляд чувственные факторы способны заметно влиять даже на базовые характеристики мозговой деятельности.
Таким образом, научные исследования обработки сенсорных данных помогают нам понять, что у трех мудрых обезьянок есть все основания настороженно относиться ко всему, что поступает через глаза и уши. Органы чувств бесперебойно поставляют в мозг поток из миллионов нервных импульсов в секунду. Никаких барьеров для защиты от лавины входящих данных из окружающей среды у мозга нет. Даже самые банальные чувственные сигналы умудряются просочиться в самые сокровенные уголки коры головного мозга, в том числе в лобные доли, которые появились в ходе эволюции сравнительно недавно и отличают и людей, и обезьян от большинства остальных млекопитающих[329]. Правда, это еще не доказывает, что сигналы окружающей среды обладают над нами абсолютной властью. Когда мы видим, как сенсорные факторы затрагивают самые отдаленные регионы мозга, это, вероятно, всего лишь картина того, как информация доходит до пресловутого гомункула. Возможно, в мозге каждого из нас есть гомункулообразный нервный механизм, который оберегает нашу автономность даже под мощным натиском сенсорных данных. Чтобы оценить такой сценарий, нам нужно изучить, в какой степени внешние стимулы определяют наше поведение как таковое.
* * *
Писатель Альбер Камю считал, что люди скорее рабы, чем хозяева своего окружения. В его повести «Посторонний» мать-природа вынуждает антигероя Мерсо ни более ни менее как совершить убийство. В кульминационной сцене книги Мерсо встречает на алжирском берегу врага и стреляет в него. «Я чувствовал только, как бьют у меня во лбу цимбалы солнца, а где-то впереди нож бросает сверкающий луч, – рассказывает повествователь. – Он сжигал мне ресницы, впивался в зрачки, и глазам было так больно. Все вокруг закачалось. Над морем пронеслось тяжелое жгучее дыхание. Как будто разверзлось небо и полил огненный дождь. Я весь напрягся, выхватил револьвер, ощутил выпуклость полированной рукоятки»[330]. Мерсо выходит на бой вооруженным и готовым к насилию – к этому его подвели все предыдущие сюжетные коллизии. Но когда наступает момент истины, нажать на гашетку его заставляет не вскипевшая кровь, не злой умысел, зародившийся в мозгу, а слепящее солнце. Проза Камю показывает нам человека, который не хозяин собственному сознанию. «Преступление Мерсо – акт крайне безвольный, непреднамеренный, несвободный», – пишет исследователь Камю Мэтью Баукер[331]. Кто-то, вероятно, скажет, что это зной подтолкнул Мерсо к убийству. С этой точки зрения у вымышленного француза из Алжира есть что-то общее с реальными полицейскими из Амстердама. В 1994 году группа исследователей изучила голландских полицейских, которые тренировались в помещении с переменной температурой[332]. Чем жарче было в комнате, тем ярче у полицейских выражались воинственность и вспыльчивость. Но вот что самое примечательное: при температуре 27 °C они были на 50 % более склонны стрелять в «злоумышленников», чем при температуре 21 °C. И это не случайное совпадение. Исследовательская группа во главе с Соломоном Сяном из Принстона поставила перед собой непростую задачу изучить 60 разных работ, где проводились параллели между климатом и разного рода конфликтами, и привела доказательства, что повышение температуры усиливает враждебность и склонность к насилию в самых разных географических регионах и временных диапазонах[333]. Десять случаев выявили корреляцию между температурой и насильственными преступлениями или домашними скандалами. В одном случае ученые обнаружили, что количество насильственных нападений в Миннеаполисе меняется ежечасно в зависимости от температуры воздуха (с учетом времени суток и других потенциально значимых факторов)[334]. То есть это явление имеет скорее биологическую основу – зависит от температуры как таковой, а не от социальных факторов вроде плотности среды или колебаний местной экономики. Это подтверждают и исследования фМРТ, которые показали, что зависящие от температуры изменения функциональной связности иногда соотносятся с феноменами поведения[335]. «Хотя физиологический механизм, связывающий температуру с агрессией, остается неизвестным, – пишут Сян и его соавторы, – причинно-следственная связь надежно прослеживается вне зависимости от контекста».
Связь между температурой и агрессией обладает двумя чертами, наглядно показывающими, насколько прямо сенсорное окружение управляет поведением. Во-первых, мы редко осознаем эту связь и, разумеется, не в состоянии целенаправленно на нее повлиять. Таким образом, воздействие температуры на агрессию ни в коей мере не подвержено нашему контролю, а это ограничивает сферу влияния когнитивных процессов. Во-вторых, в отличие от реакции на многие искусственные стимулы среды – сигналы светофоров или телепередачи – не так-то просто объяснить влияние температуры на поведение обучением. Даже у нетренированных лабораторных мышей агрессия была функцией температуры в диапазоне приблизительно от 18 до 32 °C, что выражалось в склонности кусать соседок по клеткам, поставленным в помещения с температурой, регулируемой термостатами[336]. Следовательно, агрессия, зависящая от температуры, более или менее запрограммирована в мозге, а это подчеркивает, что у нас очень мало свободы воли в вопросе о том, соглашаться или отказываться от подобной чувствительности к окружению. Легко представить себе цепочку событий, при которой изменения температуры заставляют рецепторы в нашей коже стимулировать колебания мозговой деятельности и нейрохимии, а это приводит к повышению вероятности враждебных и насильственных действий – и все это без намека на контроль со стороны нашего мозга или нас самих.
К числу внешних факторов, на которые человек запрограммирован реагировать изменениями в поведении, относится и свет. Мы осознали это явление во многом благодаря работам психиатра Нормана Розенталя[337]. В 1976 году Розенталь переехал из ЮАР в США, чтобы продолжить изучение медицины. После мягкого климата Йоханнесбурга ему оказалось трудно приспособиться к менее постоянной нью-йоркской погоде, а особенно ему досаждали долгие зимние ночи. Каждый раз с наступлением зимы Розенталь чувствовал, как силы его иссякают, а работоспособность падает. «Жена переносила все это гораздо хуже меня, – вспоминает он. – Временами она была прямо-таки прикована к постели». В отличие от других жертв «зимней депрессии», Розенталь обладал медицинским образованием и мог принять некоторые меры. Он заинтересовался циркадными ритмами – циклами усталости, голода и других биологических процессов, у которых есть ежедневные пики и спады, и присоединился к исследовательской группе по их изучению под эгидой Национальных институтов здоровья США. И вот однажды Розенталю с коллегами попался больной маниакально-депрессивным психозом, тщательно фиксировавший все свои перепады настроения и, видимо, убежденный, что они связаны с сезонными колебаниями продолжительности светового дня. «Давайте обеспечим ему больше света», – предложил коллега Розенталя Альфред Леви. И верно: когда больному в дополнение к световому дню предоставили еще и несколько часов яркого флуоресцентного света, депрессию, которой он страдал в зимние месяцы, как рукой сняло. Эти результаты нашли подтверждение в нескольких более масштабных исследованиях и привели к выявлению заболевания, которое так и называется – «зимняя депрессия» или «сезонное аффективное расстройство» («seasonal affective disorder», SAD), поражает миллионы людей во всем мире и часто лечится светотерапией[338]. Освещенность контролирует и настроение, и циркадные ритмы через особый путь переработки зрительных стимулов, опять же в принципе не подлежащий сознательному контролю[339]. Существует особый набор ганглиозных клеток сетчатки глаза, который реагирует на голубой свет непосредственно, отчасти в обход нормального пути восприятия света палочками и колбочками. Эти особые ганглиозные клетки связаны с надперекрестным ядром – эта область мозга называется еще и «супрахиазматическим ядром», поскольку находится у основания мозга над местом, где зрительные нервы от правого и левого глаза пересекаются, образуя греческую букву «хи» ( χ ). Данные, поступающие от сетчатки, заставляют гены в надперекрестном ядре включаться и выключаться регулярно в течение дня. Такой генетический циркадный ритм влияет на нейронные сигналы из надперекрестного ядра в другую мозговую структуру – шишковидное тело. С наступлением темноты надперекрестное ядро заставляет шишковидное тело выделять в кровоток мелатонин. Мелатонин – гормон, который широко воздействует на многие физиологические системы организма и в числе прочего способствует сну. По поводу того, как этот процесс соотносится с депрессией в периоды низкой освещенности, есть несколько конкурирующих теорий[340]. Согласно одной из них, избыток мелатонина сам по себе понижает настроение, а согласно другой – когда день очень короток, разлаживается ритм выбросов этого гормона. Кроме того, в те же зимние месяцы, когда в организме вырабатывается избыток мелатонина, понижается уровень его близкого родственника – нейрохимического вещества под названием серотонин. Низкий уровень серотонина сам по себе связан с депрессией, и антидепрессанты вроде прозака и циталопрама нацелены именно на повышение уровня серотонина в мозге.
Помимо тепла и света, цвета нашего окружения, действуя через сенсорные системы, могут влиять на наше поведение. Художник Кандинский как-то провозгласил: «Вообще цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу»[341]. Пионером биологических исследований воздействия цвета иногда считают Огастеса Плизонтона, генерала, воевавшего в Гражданскую войну, который изобрел псевдонаучный метод нетрадиционной медицины – цветотерапию[342]. Метод Плизонтона делал ставку на целительные свойства небесно-голубого цвета[343]. В наши дни цветотерапия заняла прочное место среди практик нью-эйдж, однако доказательная медицина отрицает ее действенность. Яркий пример воздействия цвета на психику – феномен «розового Бейкера – Миллера», особого оттенка нежно-розового цвета, который, по всей видимости, усыпляет в человеке зверя[344]. Успокоительное действие этого цвета открыл в 60-х годах Александер Шаусс. Шаусс показал, что при виде этого оттенка розового у испытуемых снижается сердцебиение и становится реже дыхание после физических упражнений. Шаусс уговорил руководство местной тюрьмы выкрасить в этот цвет камеры – и неожиданно оказалось, что случаев насилия среди заключенных стало гораздо меньше. Свое название цвет получил в честь директоров тюрьмы Джина Бейкера и Рона Миллера[345]. Впрочем, трудно исключить, что воздействие розового Бейкера – Миллера отчасти объясняется и культурными предрассудками. В частности, розовый в американском обществе прочно ассоциируется с женственностью, что могло повлиять на его восприятие в США. Дальнейшие эксперименты с этим цветом не дали однозначных результатов, что говорит в пользу предположения о разной реакции на этот стимул у представителей разных поколений[346].
Серьезное и строгое исследование воздействия цвета на ментальные функции провели Альберт Мейерабиан из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и его ученица Патрисия Вальдес. Они показывали 250 студентам старших курсов 76 образчиков цвета разных оттенков, яркости и насыщенности и просили испытуемых описать свою эмоциональную реакцию на эти цвета[347]. Исследователи обнаружили сильное воздействие насыщенности цвета на возбуждение: самыми возбуждающими оказались более насыщенные цвета, особенно в сине-зелено-желтой гамме. Кроме того, конкретные цвета сильно различались по оценке их приятности: гамму от голубого до фиолетового участники оценивали значительно выше, чем желтые или зеленые оттенки. Эти достаточно общие выводы были распространены на демонстрации воздействия цвета на разнообразные когнитивные задачи. Например, исследователи из Мюнхенского и Рочестерского университетов показали, что испытуемые существенно хуже выполняли тесты на IQ, если работали красной ручкой, а не зеленой или разными оттенками серого[348]. Хотя цветовые стимулы были очень слабы и испытуемые их даже не заметили, данные, полученные при помощи электродов, прикрепленных к коже головы, показали, что зависимым от цвета изменениям в поведении соответствовали легкие изменения мозговой деятельности. В 2009 году в журнале «Science» вышла статья исследователей из Университета Британской Колумбии, где давалось вероятное объяснение этого результата: оказывается, красный цвет подталкивает к подсознательному избеганию[349]. Кроме того, эксперименты показали, что синий цвет, наоборот, помогал испытуемым решать словесные головоломки и проходить тесты, где надо было выбрать верный ответ из нескольких, а также усиливал творческие способности. Хотя эти результаты, конечно, не говорят ни о какой медицинской пользе синего неба, они странным образом резонируют с утверждениями Плизонтона и цветотерапевтов.
Так что люди и в самом деле подобны растениям: цветут и вянут в зависимости от причуд погоды, а иногда и по прихоти дизайнеров интерьера. Чем выше солнышко – тем выше настроение, чем жарче лето – тем жарче раздоры, а ясное небо, возможно, дарит ясность мысли. Факторы внешней среды, о которых мы говорили, действуют, несомненно, через мозг, но мозг не имеет над ними власти. Мозг пребывает в постоянно меняющейся среде, впитывает и отражает свое окружение, безупречно гладко перерабатывает внешние воздействия в колебания настроения и поведения. Периоды подъема и упадка, вызванные факторами среды, зачастую приводят к далеко идущим последствиям в нашей жизни. Когда мы возбуждены, равнодушны, взбешены или подавлены, то принимаем разные решения. И окружающие видят нас по-разному, что влияет на наши профессиональные успехи и личные отношения, а иногда даже определяет участь наших генов. Наше эмоциональное состояние способно мгновенно определять, как мы отреагируем на тот или иной контекст или стимул, задает тон судьбоносных решений, совершаемых в мгновение ока: принять ли предложение руки и сердца, согласиться ли занять эту должность, прыгнуть ли с моста. При всем при том факторы среды, формирующие наш эмоциональный склад, действуют на довольно медленных масштабах по сравнению с обычными мыслями и действиями человека. Кроме того, они задействуют лишь крошечную долю потока внешних данных, поступающих в мозг. Как же на нас влияют остальные данные?
Основная масса сенсорной бомбардировки меняет наше поведение на гораздо более короткой временной шкале, нежели свет и температура воздуха. Как и факторы среды, влияющие на наши эмоции, быстрые стимулы обладают собственной силой: это не просто послания, которые получает наш центральный когнитивный процессор. Чтобы это понять, можно, в частности, изучить, как эти стимулы взаимодействуют друг с другом, поскольку эти взаимодействия никак не могут быть по нраву центру управления. Если вы такой же, как я, то сталкиваетесь с этим всякий раз, когда фоновый шум мешает сосредоточиться на работе. Возникающий в результате конфликт – хорошо исследованный феномен, поскольку играет важную роль в обучении и образовании. Ученые-психологи выявили эффект нерелевантного шума – нарушения краткосрочной зрительной памяти (необходимой при чтении) в присутствии фоновых акустических стимулов[350]. Примером этого феномена служит, в частности, исследование психолога Эмили Эллиот, которая проводила тесты на память с когортами разных возрастных групп, заставляя их слушать бессвязную последовательность слов, которую проигрывали много раз подряд[351]. Эмили Эллиот обнаружила, что взрослые испытуемые под воздействием нерелевантной речи показывали результаты на 10 % хуже, а второклассники – почти на 40 % хуже. На выполнение когнитивных задач влияют и неречевые фоновые звуки – гудки и музыка.
Способность к восприятию у нас зависит от взаимодействия между стимулами – словно разные потоки входящей информации сражаются за власть над нашим мозгом. Если вы любите ходить на концерты, то, вероятно, заметили, что многие слушатели лучше всего воспринимают музыку с закрытыми глазами. Кроме того, вы, вероятно, заметили, что люди почти всегда закрывают глаза во время поцелуя. Возможно, это отчасти связано с тем, что отсечение потока зрительных данных обостряет восприятие. Исследователи из Лондонского университета попросили группу испытуемых запоминать буквы, появлявшиеся на экране, и при этом измеряли их способность зарегистрировать осязательный стимул[352]. Испытуемые замечали прикосновения гораздо лучше, если зрительная задача была проще, то есть зрительная задача мешала распознавать тактильные данные. В ходе другого исследования ученые из Йенского университета в Германии показали, что если закрывать глаза как в темноте, так и на свету, это усиливает восприимчивость к тактильным стимулам[353].
Едва ли не самый поразительный пример главенства зрительных данных над другими типами стимуляции – эффект Мак-Гурка, удивительное явление, когда наблюдаемые движения губ говорящего, похоже, воспринимаются как более надежный источник информации, чем звуки речи[354]. Если слышишь, как человек произносит «ба-ба-ба», но если эта звукозапись наложена на видео человека, говорящего «фа-фа-фа», и видны движения его губ, то воспринимаешь последний звук – не Б, а Ф. Стоит закрыть глаза, и звук становится прежним – «ба-ба-ба». В окружении, воздействующем на все органы чувств, товар буквально подают лицом, даже если на самом деле тебе полагалось услышать что-то совсем другое.
Правда, мы в силах в значительной мере сопротивляться власти среды благодаря феномену внимания. Внимание – метафорический прожектор, высвечивающий то, что интересует нас в данный момент, и это одна из важнейших когнитивных способностей в нашем арсенале. Прожектор внимания определяет, какие стимулы мы готовы переработать и запомнить и на что мы реагируем в первую очередь. Однако вопросы вызывает другое – откуда он светит, этот прожектор. Мы говорим, что внимание уделяют и обращают, а еще его привлекают и им завладевают, что говорит о двух разновидностях внимания, при которых мы либо относительно активны, либо относительно пассивны. Нейрофизиологи тоже говорят об этой дихотомии, когда рассуждают о механизмах «сверху вниз», которые человек контролирует, в противоположность механизмам «снизу вверх», которыми руководят стимулы как таковые[355]. Великий Уильям Джеймс в 1890 году писал о «поворотах внимания из самого ядра нашего внутреннего „я“» и полагал, что акт «произвольного возвращения рассеявшегося внимания… это самая основа рассудительности, характера и воли»[356]. Более того, Джеймс утверждал, что и «волеизъявление есть не что иное, как внимание»: чтобы сделать что-то свободно и независимо, на практике достаточно обратить на это внимание.
Внимание «снизу вверх» по природе своей отдает бразды правления в руки среды, а не нашего мозга. Шагая по улицам любого мегаполиса, мы всецело повинуемся внешним стимулам. Наши головы инстинктивно поворачиваются на автомобильный гудок или визг шин по асфальту. Мы невольно настораживаемся даже в ответ на далекую сирену. Взывают к нам и ароматы из местной пиццерии или китайского ресторанчика – от них у нас зачастую сосет под ложечкой и пробуждается аппетит перед обедом или ужином. Вечером свет фонарей и мелькание неоновых вывесок притягивает наши взгляды, будто магнитом. Все это разные проявления инстинкта самосохранения, и они детерминистически прописаны у нас в мозге по самым веским причинам. Легко представить себе, что, когда наш первобытный предок увертывался от когтей льва или от падающей каменной глыбы, действовали те же мозговые механизмы.
При внимании «снизу вверх» биология, связывающая сенсорные входящие данные с поведенческими реакциями, опирается не только на сами сенсорные системы, но и на мозговые пути, при помощи которых символы помечаются как важные или выделенные[357]. Эти пути автоматически придают выделенным стимулам больше веса, а остальные проходят незамеченными. Сильнее всего зачастую выделяются стимулы, сулящие особую выгоду или предупреждающие об опасности, вот почему наше внимание легче привлечь ароматом пиццы, чем запахом выхлопных газов, и внезапным грохотом на стройке, а не мирным перестуком дождя. Некоторые тривиальные на первый взгляд сенсорные стимулы становятся важными и весомыми из-за ассоциации с выделенным стимулом. Собаки Павлова учились ассоциировать звонок колокольчика с дальнейшим появлением пищи: звонок становился выделенным стимулом, и при его звуке у псов выделялась слюна. Многие нейрофизиологи полагают, что мозг получает сигнал о выделении стимулов через особые нейромедиаторы[358]. Лучше всего изучено воздействие стимулов, сулящих награду, – пищи и секса, – которые вызывают выработку дофамина в областях мозга, отвечающих за моторику. Тревожные стимулы, напротив, способствуют, по всей видимости, выработке нейромедиатора норэпинефрина. Вовлечение особых нейрохимических процессов в механизмы внимания «снизу вверх» в очередной раз подчеркивает, в какой степени эволюция запрограммировала нас на поведенческую реакцию на крупные классы внешних стимулов.
В противоположность непроизвольной реакции на выделенные стимулы внимание «сверху вниз» задействуется в соответствии с целями, которые ставишь себе сам, а значит, хотя бы номинально подлежит внутреннему контролю. Но даже в таком контексте сильное влияние на поведение человека оказывает среда, в которой он действует: она во многом определяет поступки человека даже в краткосрочной перспективе. Как это происходит, прекрасно проиллюстрировано в серии книжек Мартина Хэндфорда «Где Волли?»[359]. На каждом развороте нужно найти крошечного персонажа Волли, похожего на гномика, в красно-белой полосатой футболке и шапочке с помпоном, среди огромной толпы не менее красочных персонажей примерно того же размера и очертаний. Задача перед нами не из легких. Исследователь внимания Роберт Десимоне с коллегами показал, что наша зрительная система обрабатывает каждую картинку двумя способами[360]. Она изучает картину целиком и ищет на ней предпочитаемые детали – красное пятнышко, помпон на шапочке – которые удостаиваются более подробного рассмотрения. Одновременно она нацеливается на мелкие области в центре поля зрения и изучает их в поисках точного соответствия гномику-персонажу. На сложных рисунках Хэндфорда внимание привлекает одновременно тысяча деталей, что вынуждает взгляд рефлекторно метаться по странице. Движения глаз при этом неожиданно систематичны, можно предсказать и время, уделенное каждому фрагменту, на который падает наш взгляд, и длину скачка, который проделывает взгляд между фрагментами, – и то и другое определяется скорее характерными особенностями картины, нежели внутренними решениями зрителя[361]. Примерно то же самое происходит, когда мы разглядываем лица. Наш взгляд перемещается по заранее предопределенной сетке, методично охватывая глаза, нос и рот человека, на которого мы смотрим[362]. То есть нашу мозговую деятельность и поведение во многом определяют особенности стимула, с которым мы столкнулись.
Внимание «сверху вниз» не такое уж и «сверху вниз» и на более грубом уровне. Начнем с того, что требования обратить внимание на то-то и то-то часто обусловлены окружением. В ходе лабораторных экспериментов внимание «сверху вниз» привлекают яркими зрительными подсказками – светящимися знаками или стрелками – или инструкциями ученых. В обычной, нерегламентированной жизни перемены внимания «сверху вниз» и иногда очень сложные последовательности действий, вызванные ими, также обусловлены мелкими уловками окружающего мира. Вкус печенья подталкивает повествователя Марселя Пруста развернуть перед читателем семитомную рапсодию о жизни, Вселенной и обо всем на свете, а визит в знакомый старый дом вдохновляет Чарльза Райдера, героя «Возвращения в Брайдсхед» Ивлина Во, обратиться к религии[363]. Античный историк Светоний писал, что войска Цезаря перешли через Рубикон в 49 году до н. э. по сигналу загадочного прекрасного музыканта, который сначала играл на свирели, а затем отнял трубу у одного из воинов и протрубил в нее; именно это побудило полководца совершить судьбоносный переход, из-за которого началась гражданская война, в результате чего Римская республика пала, а Цезарь стал диктатором[364]. Глубочайшие перемены вызываются мельчайшими чувственными впечатлениями.
Внимание «сверху вниз» беззащитно перед натиском подобных воздействий. К вящей досаде преподавателей всего мира, исследования объема внимания показывают, что большинство из нас способно сосредоточиться на том или ином занятии лишь на несколько минут, после чего побеждают отвлекающие факторы. Нейрофизиолог Джон Медина сформулировал «правило 10 минут» – по его наблюдениям, через 10 минут слушатели перестают обращать внимание на содержание лекции[365]. Медина предлагает, чтобы не дать слушателям отвлечься, регулярно рассказывать эмоционально выделенные анекдоты и обеспечивать другие стимулы, то есть, в сущности, задействовать механизмы внимания «снизу вверх», чтобы дисциплинировать аудиторию, которая увлекается своими делами. Если привнести в картину электронные устройства, наблюдаемый объем внимания становится еще более жалким. Фирма «Microsoft» в 2015 году опубликовала часто цитируемое исследование привычек интернет-пользователей, где утверждалось, что средний объем внимания составляет всего восемь секунд – в основном из-за вездесущих электронных отвлекающих факторов, которыми окружены мы, люди XXI века[366]. Сколько бы времени нам ни требовалось, чтобы утратить интерес к тому, чем мы занимаемся в данный момент, у нас всегда наготове другой цифровой стимул – погодите, дайте только сообщение прочитаю! Не случайно, что некоторые самые увлекательные для многих занятия – компьютерные игры, телепередачи, интернет-серфинг – обеспечивают непрерывный поток впечатлений, все время бомбардируют нас новыми стимулами. Под таким натиском мы удерживаем внимание на экране не потому, что так хочет наш мозг, а потому, что внешний мир так ловко мешает мозгу отвлечься.
* * *
Среди всех стимулов, которые мы, люди, получаем извне, особенно сильно на нас действуют те, которые дают нам другие люди. Мы прекрасно знаем, как мощно влияют на нас окружающие, но все же поистине поразительно, в какой огромной степени это влияние подрывает у нас способность решать за себя. В 1951 году молодой психолог Соломон Аш провел классический эксперимент, продемонстрировавший колоссальное влияние стимулов, которые человек получает от группы равных себе[367]. Аш разбил испытуемых на группы и предложил им выполнить простое задание на зрительное восприятие. Испытуемым показывали карточку, на которой был начерчен отрезок-образец. Затем им давали вторую карточку, на которой были изображены три отрезка, и просили публично предположить, какой из этих трех отрезков равен по длине образцу с первой карточки. Однако испытуемые не знали, что все остальные участники их группы – подставные лица, актеры, внедренные в эксперимент и получившие указания, как следует отвечать на вопрос. В некоторых случаях всем подставным участникам надо было отвечать неверно, хотя правильный ответ всегда был очевиден. В этих случаях ошарашенные испытуемые были вынуждены выбирать между конкретными зрительными данными и единогласным, но явно неправильным мнением окружающих. Как ни удивительно, большинство участников по крайней мере иногда отказывались верить собственным глазам и поддавались давлению окружения. Некоторые испытуемые всегда шли на поводу у большинства, и лишь четверть испытуемых твердо отстаивали свое мнение.
«В сущности, мы обнаружили, что стремление к конформности в нашем обществе настолько сильно, что даже достаточно умные и благонамеренные молодые люди готовы называть белое черным, и это вызывает озабоченность», – писал Аш, подводя итоги эксперимента[368]. Однако конформисты в его исследованиях, вероятно, были вольны действовать независимо не больше, чем одна-единственная рыбка – плыть против всего косяка или антилопа – свернуть в сторону, когда все стадо спасается от хищника. Особым образом влияют на мозг не только неодушевленные стимулы вроде гудков и изображений, но и социальные стимулы вроде человеческих лиц и фигур. Современная нейрофизиология выявила целую совокупность участков мозга, которые, по всей видимости, специализируются на социально важных функциях вроде распознавания человеческой анатомии и обработки человеческой речи; с некоторыми из них мы познакомились в главе 4. Эти участки несколько напоминают сенсорные системы, обрабатывающие более простые данные, – зрение и слух. Их дополняют мощные механизмы формирования и укрепления личных отношений, и поэтому сигналы, которые мы получаем от окружающих, – это всегда выделенные элементы среды.
На первый взгляд между воздействием на наше поведение простых внешних стимулов вроде громкого шума и влиянием на нас поступков другого человека поистине тектоническая разница. В последнем случае мы реагируем в какой-то степени осознанно; например, испытуемые в исследовании Аша оценивали уровень своей уверенности, надежность других людей в той же комнате и свойства стимула и лишь после этого выносили суждение. Однако социальные стимулы не обязательно тоньше громких звуков. Вспомним, как мы инстинктивно реагируем на человеческий крик, плач младенца, улыбку на чьем-то лице или гримасу ужаса. Функциональные исследования мозга показали, в частности, что, когда испытуемые смотрели на эмоциональные выражения лиц, это мгновенно вызывало у них такие же изменения мозговой деятельности, как если бы эти чувства возникали у самого испытуемого[369].
Автоматические по сути поведенческие реакции вызываются и неэмоциональными социальными стимулами. Расхожий пример – заразная зевота, которая засвидетельствована и у людей, и у шимпанзе, хотя ее функции остаются неизвестными[370]. Известен также феномен подсознательного вербального программирования: быстро произнесенное слово влияет на то, как слушатель ответит на последующие вопросы, даже если он не воспринял его на сознательном уровне[371]. Скажем, если в потоке неразборчивого бормотания встретилось слово «корова», вы с большей вероятностью узнаете слово «корова», если произнести его более отчетливо[372]. Вербальное программирование показывает, что наша реакция на человеческую речь, вероятно, точно так же рефлекторна, как и невольная реакция на менее осмысленные стимулы.
О важности социальных стимулов в нашей среде можно судить и по тому, к каким серьезным последствиям приводит их исчезновение. На сегодняшний день десятки тысяч американцев участвуют в извращенном эксперименте по оценке воздействия подобной социальной депривации: они приговорены к одиночному заключению[373]. Осужденных на одиночное заключение содержат в камерах со спартанской обстановкой площадью не больше 7,5 квадратных метра, еду подают сквозь щель в двери, а выйти из камеры, чтобы размяться, можно самое большее на час в день. Человеческий контакт возможен только с тюремными охранниками, когда они приносят пищу или конвоируют заключенного во двор на прогулку. По данным правозащитной организации «Solitary Watch», заключенные из одиночных камер жалуются на целый ряд психологических расстройств, в том числе «обостренную чувствительность к внешним стимулам, галлюцинации, панические атаки, когнитивные нарушения, навязчивые мысли, паранойю и трудности с самоконтролем»[374]. В интервью журналистке Шрути Равиндран один заключенный пожаловался на специфическую разновидность нервного срыва, который происходит при одиночном заключении. «В тюрьме каждый день кто-нибудь слетает с катушек и целые сутки не может угомониться. Кричат, визжат, говорят сами с собой… Часа в два-три ночи кто-нибудь как заведет: „А-а-а-а!“ – и только головой качаешь и говоришь: „Ну вот, еще один“»[375]. Исследование ЭЭГ заключенных, проведенное в 1972 году, показало, что после длительного срока в одиночной камере у них в целом замедлялись мозговые ритмы[376]. Кроме того, эти данные подтвердили на уровне ЭЭГ гиперчувствительность к внешним стимулам, наблюдаемую в поведении заключенных, поскольку показали, что мозг одиночных заключенных реагирует на вспышки света быстрее, чем мозг заключенных в общих камерах. Очевидно, мозг человека, оказавшегося в изоляции, – это другой биологический вид, нежели мозг в естественной среде, богатой социальными стимулами.
От мимолетных стимулов, влияющих на поведение отдельных людей, ведет скользкая дорожка к культурным факторам всемирного масштаба, затрагивающим целые народы. Социальные стимулы крупного масштаба касаются всего на свете – от войн, голода и массовой миграции до образования, Интернета и статистики разводов. Они расставляют декорации в театре, где все мы лишь актеры. Наверняка вам попадалась «народная мудрость», согласно которой рай там, где полицейские – англичане, любовники – французы, механики – немцы, повара – итальянцы, а все это организуют швейцарцы, а ад там, где полицейские – немцы, любовники – швейцарцы, механики – французы, повара – англичане и все это организуют итальянцы[377]. Всякий, у кого много друзей-европейцев, возмутится, столкнувшись с такими шаблонами, но вероятность культурно обусловленных паттернов поведения весьма реальна. Например, как выяснилось, французы относятся к супружеским изменам значительно терпимее других национальных групп (по данным опроса исследовательского центра Пью, проведенного в 2013 году и охватившего 39 стран)[378]. Крайне маловероятно, что из этого можно делать какие бы то ни было выводы о природе мозга французов: генетически граждане Франции даже ближе к сугубо моногамным швейцарцам, чем к остальным европейским народам[379]. На самом деле культурные черты наподобие отношения к браку – это сложные социальные стимулы, влияющие на наш мозг через окружение, в котором мы живем.
Нейрофизиолог Майкл Газзанига утверждает, что «ответы на наши вопросы о взаимоотношениях мозга и разума», вероятно, содержит «пространство между мозгом разных людей, взаимодействующих друг с другом»[380]. Наша мнимая независимость и свобода воли, а также прочие качества, которые мы стремимся связывать с деятельностью отдельного мозга, на самом деле, по мнению Газзаниги, порождаются в многослойных рассредоточенных взаимоотношениях, охватывающих многих людей. Вероятно, что-то подобное и хотел сказать Джон Донн своей знаменитой фразой «Нет человека, что был бы сам по себе, как остров»[381]. «Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством», – гласят бессмертные слова Донна. Что ж, если сознание порождается социальным взаимодействием между мозгами, то изменение или смерть мозга любого из нас, несомненно, нанесет огромный урон общему опыту.
В этой главе я утверждал, что мозг можно оценивать не только сам по себе и во взаимодействии с другими мозгами, но и с точки зрения всего его окружения. Наш мозг подвергается постоянной бомбардировке стимулами со всех сторон. Диапазон внешних воздействий очень велик – от тонких изменений чувственного окружения до более острых импульсов, поступающих и из одушевленных, и из неодушевленных источников. Эти воздействия – не просто информационные сообщения, направляемые в центр управления у нас в голове, это побудительные силы, проникающие на самые глубинные уровни нашего мозга и сознания. Нервная система переводит входящую информацию в исходящее поведение примерно так же, как физическая структура дерева определяет, как солнце, ветер и дождь руководят его ростом и движениями. Дерево раскрывает листья навстречу свету и качается, чтобы мощные порывы ветра не сломали его, но нужно обладать очень развитым воображением, чтобы утверждать, будто дерево контролирует свои действия. Напротив, и дерево, и мозг в целом реагируют на мир вокруг них. Они не выставляют глухой обороны против него, так что нет такой точки, где роль окружения меняется с активной на пассивную. Ни о мозге, ни о дереве нельзя рассуждать в отрыве от окружающих их джунглей внешних воздействий.
Подобная дихотомия между внутренними и внешними факторами, влияющими на функционирование мозга, параллельна другим дихотомиям, которые мы рассмотрели в части I нашей книги: между специфически мозговыми и общетелесными аспектами ментальных функций (глава 5), между локализованными и диффузными механизмами обработки информации (глава 4), между сложностью и понятностью нейронных систем (глава 3), между неорганическими и органическими воззрениями на физиологию мозга (глава 2). В каждом случае первая точка зрения подчеркивает, насколько мозг отличается от остального мира и отделен от него, что приводит к популярным мифам о сути и работе мозга. Представление о мозге как о не вполне органической, сверхсложной сущности, функционально самодостаточной и несокрушимо автономной, делает из мозга суррогат бестелесной души и подкрепляет систему представлений, которую мы условились называть научным дуализмом. На эту систему представлений опирается сакрализация мозга, к которой склонны даже люди вроде меня, убежденные, что у человеческого сознания есть материальная основа. Чтобы отказаться от нее, нужно принять биологическую основу сознания как таковую и своими глазами убедиться, что нас совместными усилиями создают и мозг, и тело, и окружение. Этому и была посвящена часть I. В части II мы обратимся от науки к обществу и рассмотрим, почему нам и как отдельным людям, и как глобальной цивилизации следует отказаться от сакрализации мозга и принять концепцию биологического разума.
Часть II Биология – царица всех наук
Глава седьмая Внутри и снаружи
Во второй части этой книги мы рассмотрим, как сакрализация мозга мешает развитию нашей культуры, поскольку сводит проблемы поведения человека к проблемам мозга. Теперь мы приписываем врожденным аспектам нейробиологии черты, которые по традиции считали встроенными особенностями своего абстрактного сознания. Хотя такая картина способствует научному пониманию человеческой деятельности, более строгому, чем раньше, в ней все же заложена избыточная склонность считать себя независимыми личностями, которыми изнутри управляет мозг или сознание, а не существами, чье бытие обусловлено средой, и такая точка зрения глубоко коренится и в нашей истории, и в наших обычаях. В этой главе мы исследуем, к каким последствиям для общества приводит современная мозгоцентрическая картина человеческой природы и связанная с ней тенденция отметать внешние причины наших поступков.
Восприятие взаимодействия между внутренними и внешними силами, которые нас формируют, – тема для дискуссий, затрагивающая все аспекты нашей культуры. В политических и экономических кругах консерваторы и либералы определяются тем, какой из конфликтующих систем ценностей они придерживаются: делают ли они ставку на разумный эгоизм, движимый внутренними силами, или на переменные параметры среды и общества, детерминированные извне. В результате идет непрерывная игра в перетягивание каната, влияющая на налоговый кодекс и программы социального обеспечения – кому-то она обеспечивает кусок хлеба с маслом, а кого-то обдирает как липку. В области уголовного права установление вины и назначение наказания зависят от противоречащих друг другу установок: что важнее – личная ответственность или обстоятельства, приведшие к преступлению, внутренние мотивы или внешнее понуждение. Президент Барак Обама подчеркнул важную роль взаимозависимых социальных сил идеалистическим афоризмом «правосудие – это жизнь в соответствии с общим кредо „Я сторож брату моему, я сторож сестре своей“»[382], а его предшественник Рональд Рейган, как мы помним, настоятельно советовал американцам «отказаться от мысли, что каждый раз, когда нарушается закон, виновно общество, а не нарушитель»[383]. «Настало время, – прямо провозгласил Рейган, – вернуться к американскому принципу, что каждый человек в ответе за свои поступки». Подобная философия идет рука об руку с представлениями о том, как следует поощрять инициативу и целеустремленность во многих других сферах общественной жизни. Скажем, политика охраны интеллектуальной собственности и распределения правительственного финансирования отражает конфликт между необходимостью мотивировать отдельных людей и создавать среду, способствующую творчеству и результативной работе.
Противоречивым точкам зрения на причины человеческих поступков параллелен и вечный диспут о том, что главное в развитии человека – природа или воспитание. Хотя споры о том, как мы функционируем в «здесь-и-сейчас», все же можно отделить от вопроса о том, как мы стали такими, какие есть, картина мира, делающая упор на индивидуальный разум или мозг как на внутренний движитель наших поступков, в целом придает меньше веса внешним факторам – скажем, образованию и семейной обстановке, которые могли сформировать нас в прошлом. Напротив, если ставка делается на восприимчивость взрослого человека к внешнему контексту и окружению, роль воспитания в детстве становится важнее. Эти точки зрения, в свою очередь, сказываются и на рекомендуемых методах воспитания, и на концепциях образования, и на социальных приоритетах.
Таким образом, задача найти объективные, обоснованные компромиссы между «внешними» и «внутренними» толкованиями наших поступков, становится очень важной в самом широком смысле слова, и ключ к ответу на нее – в мозге. Ведь мозг – важнейшее звено в причинно-следственной цепи, которая связывает нашу внутреннюю биологию с внешней средой, великий коммуникатор, который передает сигналы из окружающего мира человеку и наоборот. Без биологически обоснованного представления о мозге мы упустим из виду теснейшую взаимосвязь между личностью и ее окружением, и тогда нам придется выбирать, на чьей мы стороне – тех, кто объясняет поведение человека внешними или внутренними факторами. Идеализируя мозг, мы переоцениваем его роль мощного внутреннего детерминанта человеческих деяний. А игнорируя мозг, мы зачастую преувеличиваем значение внешних воздействий и упускаем из виду индивидуальные различия. Но если мы избавим мозг от мистического флера и признаем его неразрывную связь с окружающей нас Вселенной внешних воздействий, то лучше поймем, как мозг, тело и среда совокупно руководят нашими поступками.
В следующих разделах мы рассмотрим, как исторические перемены в представлениях о причинах человеческих поступков привели, в сущности, к возникновению диаметрально противоположных концепций места человека в обществе. В частности, мы убедимся, что сегодняшний «мозгоцентризм» появился отчасти как реакция на противоположную систему воззрений – бихевиоризм, который ставит во главу угла окружение и в пору своего расцвета, в середине XX века, объяснял всю человеческую деятельность практически исключительно параметрами внешней среды. В итоге наметился крен в противоположную сторону, и мы стали искать причину внутри, в мозге, а это исказило наш подход к целому сонму явлений, от преступности до творчества, заставило снова обратить внимание на личность в противоположность среде. Нужно искать баланс, то есть вспомнить о внешнем контексте, который обеспечивает входящий поток и задает условия для функционирования мозга. Такая точка зрения позволяет рассматривать нас как биологические существа (мы такие и есть), а наш мозг – как нечто органически укорененное в расширенную ткань причин и следствий.
* * *
История психологии – это история споров о том, как анализировать поведение человека, извне или изнутри, и что сильнее влияет на жизнь человека – внешние или внутренние факторы. За последние 150 лет соперничающие школы отстаивали противоположные взгляды и по очереди выходили на первый план – будто качался исполинский маятник, несущий с собой и интеллектуальные, и социальные перемены. Циклическая природа этих перемен заставляет вспомнить идеи великого немецкого философа Г. В. Ф. Гегеля и его интеллектуального последователя Карла Маркса, которые видели историю как череду диалектических конфликтов между противодействующими силами – рабами и господами или пролетариями и капиталистами[384]. Что касается политики, то Маркс предсказал, что ведущаяся с переменным успехом классовая борьба в конце концов приведет к установлению полного равенства и вселенского братства, однако его мечты о социальной гармонии, естественно, не сбылись[385]. Однако в психологии синтез, примиряющий «внешние» и «внутренние» взгляды на причины поведения, все же возможен. Но, чтобы его найти, нужен посредник – биологически обоснованное представление о мозге, а его в основных направлениях психологических исследований как раз и недостает.
В конце XIX века изучение сознания было «практически неотличимо от философии духа», как пишет историк Джон О’Доннел[386]. Даже когда психологи обратились к экспериментам и психология стала наукой, она осталась верна своему названию от древнегреческого слова «психе», что означает «дух». Так называемые отцы научной психологии, самые известные из которых – немец Вильгельм Вундт и американец Уильям Джеймс (см. рис. 11) – считали объектом своих исследований субъективное индивидуальное сознание, а главнейшим методом его изучения была интроспекция. Таким образом, современная психология прочно коренится в представлении о сознании как о самодостаточной сущности, которую следует изучать изнутри, что обобщает традицию Рене Декарта, который поверял собственное существование интроспекцией, о чем и говорит его бессмертный афоризм: «Я мыслю, следовательно, я существую».
Рис. 11. Знаменитые психологи XIX–XX веков. Вверху слева: Вильгельм Вундт. Вверху справа: Уильям Джеймс. Внизу слева: Джон Б. Уотсон. Внизу справа: Б. Ф. Скиннер
Вильгельм Вундт написал первый учебник по экспериментальной психологии и основал первую, как принято считать, современную психологическую лабораторию при Лейпцигском университете в 1879 году. Говорят, что в юности у Вундта была привычка мечтать, что мешало обучению, но, возможно, подготовило его к дальнейшей профессиональной деятельности[387]. Еще в бытность студентом-медиком он заинтересовался научными исследованиями под руководством дяди, профессора анатомии и физиологии, а затем занял завидную постоянную должность ассистента известного физика и физиолога Германа фон Гельмгольца. Обретя независимость, Вундт на основании этого многогранного опыта составил подробную программу и предался исследованиям внутренней природы человеческого мозга.
Исследования Вундта строились на интроспекции, и их целью было препарировать структуру сознания и разложить ее на элементы – чувства и ощущения: этот подход получил название структурализм. Вундт писал: «В психологии человек смотрит на себя словно бы изнутри и пытается объяснить взаимоотношения процессов, которые выявляет подобное внутреннее наблюдение».[388] В лаборатории Вундт и его исследовательская группа проводили эксперименты по изучению ментальных ответов на тщательно подобранные внешние стимулы. Вундт стремился уподобить психологию физике, поэтому его сотрудники применяли всякого рода точные измерительные приборы, которые сейчас кажутся устарелыми и диковинными. В арсенал практического психолога входил, например, тахистоскоп – устройство для воздействия на испытуемого зрительными стимулами в течение очень краткого времени, а также кимограф – автоматический механический прибор для записи данных, и хроноскоп, сверхбыстрый секундомер, засекавший миллисекунды[389]. Типичный эксперимент Вундта состоял в том, что его ученики измеряли продолжительность ментального процесса, поместив испытуемого перед тахистоскопом, после чего перед ним мелькал зрительный стимул, а исследователи измеряли, с какой задержкой испытуемый сообщит о своих субъективных ощущениях. Результаты выглядели как список периодов реакции: 30 миллисекунд – на распознавание цвета, 50 – на узнавание буквы, 80 – на то, чтобы сделать выбор, и так далее. По результатам простых измерений, полученных от большого числа испытуемых при разных условиях эксперимента, делались обобщенные выводы. Например, Вундт отметил, что распознавать отдельные буквы готического шрифта, принятого в то время в Германии, труднее, чем романские, однако слова, написанные этими шрифтами, распознаются за одинаковое время; из этого он сделал вывод, что когнитивная операция чтения слова не зависит от распознавания букв, из которых оно состоит[390].
Таким образом, хотя эксперименты Вундта были нацелены на взаимодействие между внутренним и внешним миром личности, в основном его интересовали внутренние процессы, а манипуляции внешним сенсорным миром были лишь средством. Внешние стимулы служили орудием запуска ментальных процессов, которые и были для Вундта подлинным объектом исследования. С точки зрения Вундта, экспериментальная психология «прежде всего воздействует потому, что ведет извне вовнутрь», но «ее внимание главным образом нацелено… на психологическую сторону»[391]. Кроме того, Вундт не считал нужным изучать мозг, а следовательно, старался не углубляться в механизмы, обеспечивающие поступление стимулов в сознание человека и меняющие его. Мозг для него теснее ассоциировался с царством внешнего, физического, он был соединен со Вселенной стимулов, но не имел отношения к царству внутренних психологических явлений. Вундт полагал, что попытки связать эти два царства по большей части спекулятивны и не нужны для понимания сознания. Размышления о физиологии мозга «вынуждают полностью отказаться от поисков практической основы для ментальных наук», – писал он в 1897 году[392]. Подобные взгляды всячески дорабатывал и пропагандировал ученик Вундта Эдвард Титченер, англичанин, который учился в Лейпциге, а впоследствии, осев в Корнельском университете, импортировал структурализм в Америку. Титченер еще сильнее был убежден в необходимости изучать сознание изнутри. «Экспериментальная интроспекция… наш единственный надежный метод познания себя, – уверенно объявлял он. – Другого пути в психологию нет»[393].
Современником Вундта и Титченера был Уильям Джеймс, который читал первый курс по психологии в Гарвардском университете и был научным руководителем первой диссертации по психологии, написанной в Гарварде. Джеймс был отпрыском состоятельного, просвещенного новоанглийского семейства, однако с интеллектуальной точки зрения добился всего сам, поскольку, прежде чем заняться изучением еще не вполне родившейся академической науки, пробовал себя и в искусстве, и в химии, и в медицине[394]. Несмотря на то что Джеймс и его знаменитые европейские коллеги по изучению сознания были собратьями по оружию, Джеймс отзывался о них, мягко говоря, недоброжелательно. Дотошный интеллектуальный подход Вундта и его учеников «истощает терпение и едва ли мог возникнуть в стране, чьи жители умеют скучать», – жаловался Джеймс[395]. Сам он стоял за практическую психологию, нацеленную на исследование сознания и мозга с точки зрения функций, которые они научились исполнять в ходе эволюции, а не компонентов, из которых они состоят.
Всевозможными хитрыми приспособлениями и приборами структуралистов Джеймс не пользовался, однако был целиком и полностью согласен с их мнением, что разум следует изучать изнутри. «Интроспективное наблюдение – вот на что мы должны полагаться в первую очередь, всегда и неизменно… – писал Джеймс. – Я считаю это самым фундаментальным из всех постулатов психологии»[396]. В отличие от Вундта, Джеймс в своем главном труде «The Principles of Psychology» («Научные основы психологии», 1890) поклялся в верности биологическому подходу к сознанию, посвятив первые две главы мозгу. Но хотя Джеймс постулировал, что ментальным процессам соответствуют процессы в мозге, ему было трудно объяснить их причинно-следственные взаимодействия. «Природные объекты и процессы… модифицируют мозг, но не учат его распознавать самих себя», – утверждал он. Таким образом, внешний мир влияет на физиологию нервной системы, но контроль над сознанием и познанием остается делом внутренним. В конечном итоге Джеймс высказывается за дуализм тела-разума: «Предположение, будто состояние мозга каким-то загадочным образом влияет на душу и та реагирует на него своими сознательными аффектами, с моей точки зрения, не выдерживает никакой логической критики».
В психологическом сообществе того времени преобладали представления, подобные взглядам Джеймса, Вундта и Титченера – психологию следует изучать изнутри. Эти идеи распространялись, будто волны, по целому океану литературы – говорят, что один лишь Вундт написал более 50 тысяч страниц[397]. Расходились они и через океан в буквальном смысле слова: многие студенты, учившиеся в Гарварде, Лейпциге и Корнелле, стали впоследствии сотрудниками первых кафедр психологии, возникших в Европе и Америке[398]. Некоторые представители второго поколения уже не делали такого упора на интроспекцию и изучение индивидуального сознания, как их наставники, но были среди них и те, кто находил способы убедить большой мир в справедливости именно такого подхода и следствий из него. Поэтому публичное лицо психологии отражало ее внутреннюю академическую форму, строящуюся на идее самодостаточного разума, практически не подверженного влиянию своего положения в природе и обществе.
В итоге на рубеже XIX–XX веков прикладная психология основывалась на эссенциалистском представлении о человеческой природе – на идее, что склонности и способности человека врожденны и зачастую неизменны. Самым известным воплощением этого подхода стала зародившаяся индустрия ментального тестирования, основанная на представлении об интеллекте как о врожденном качестве, которое можно объективно измерить. Первые тесты на интеллект и методы их интерпретации активно разрабатывали Чарльз Спирман, Эдвард Торндайк и Джеймс Кеттелл (все они были протеже Вундта и Джеймса). К примеру, в американской армии особенно широко применялись тесты Торндайка.
Некоторые психологи того времени увлеклись и боковой ветвью эссенциализма – евгеникой. Известным сторонником и тестирования на интеллект, и евгеники был гарвардский психолог Роберт Йеркс, чьим наставником был ученик Вундта Гуго Мюнстерберг. Йеркс утверждал, что «искусство выведения улучшенных людей настоятельно требует измерения особенностей тела и разума человека»[399]. Выдающимся евгенистом был и Каттелл; некоторое время он служил лаборантом-исследователем у сэра Фрэнсиса Гальтона, британского ученого и энциклопедиста, который и ввел термин «евгеника» в 1883 году. Каттелл был и яростным поборником академической и личной свободы, что с современной точки зрения куда менее спорно, – и такой индивидуализм опять же вполне соответствовал духу психологии того времени. Такой активизм подтолкнул Каттелла к тому, чтобы провести публичную кампанию против призыва американцев на Первую мировую войну[400]; за это он впал в такую немилость, что был вынужден в 1917 году оставить место профессора в Колумбийском университете. Даже в эпоху, когда превыше всего ставились врожденные способности человека, его возможности сопротивляться воздействию среды, как видно, были ограничены.
* * *
Начало XX века знаменовалось целой чередой войн и революций. Еще до того, как балканские конфликты приняли злокачественный оборот и разожгли мировой пожар, Китай освободился от тысячелетнего династического правления, ирландцы развязали партизанскую войну против Британии, Мексика погрузилась в десятилетие гражданских войн. Первая мировая привела к падению монархий и реорганизации классовой структуры общества в Европе и за ее пределами. Пролетариат сбросил цепи. От Таллина на Балтике до Дубровника на Адриатике на обломках континентальных империй зародился архипелаг новых стран. Тем временем оттоманская западная Азия распалась на лоскутное одеяло искусственных государств, которые и по сей день находятся на грани взрыва от недовольства.
Весной 1913 года революция разразилась и в психологии: профессор из университета Джонса Хопкинса Джон Б. Уотсон (см. рис. 11) опубликовал полемический манифест под официальным названием «Psychology as the Behaviorist Views It» («Психология с точки зрения бихевиориста»). Манифест появился в журнале «Psychological Review» в виде безобидной на первый взгляд статьи на 19 страниц[401]. Однако первый же абзац выстреливал залпом иконоборческих заявлений, нацеленным не только на психологию Вундта и Джеймса, но и на главенство рода человеческого как таковое.
Психология с точки зрения бихевиориста – чисто объективная экспериментальная естественнонаучная дисциплина. Ее теоретическая цель – прогнозировать и контролировать поведение. Интроспекция не занимает сколько-нибудь существенного места среди ее методов, а ее данные, зависящие от того, легко ли их интерпретировать в терминах сознания, не имеют никакого научного значения. Бихевиорист стремится составить единую схему животной реакции и поэтому не проводит никакого различия между человеком и зверем. Поведение человека со всей его сложностью и тонкостью для бихевиориста лишь часть общего плана исследований.
Этой беспощадной тирадой Уотсон возвестил о намерении перевернуть шкалу приоритетов в своей области, создав новую науку – бихевиоризм. Уотсон и его последователи считали, что психологам следует сосредоточиться исключительно на изучении наблюдаемого извне поведения и его зависимости от внешних факторов, которыми можно управлять экспериментально. Целью бихевиористов было сформулировать законы, позволяющие прививать и изменять поведенческие паттерны извне, раз и навсегда отринув всяческие спекуляции о происходящем внутри. Бихевиоризм не стремился препарировать укромные уголки психики – он их просто игнорировал. Более ранние работы, анализировавшие поведение человека с позиции непроверяемых психологических категорий, получили клеймо ментализма – это было общее пренебрежительное прозвище для всех субъективных направлений психологии минувших эпох. Бихевиористы полагали, что даже исследования интеллекта животных в прошлом были слишком уж искажены менталистским подходом, грешили всяческого рода антропоморфизмом, который хорош в народных сказках, но неуместен в науке[402]. Приверженцы нового направления, которое основал Уотсон, считали, что бесстрастному бихевиористскому наблюдению и манипуляциям в равной мере подлежат и люди, и животные.
Поначалу боевой клич Уотсона вызвал противоречивые чувства. Маститые психологи по большей части на него не отозвались. Титченер считал бихевиоризм неумелой попыткой «заменить науку технологией», нацеленной скорее на поведенческий контроль, чем на понимание чего бы то ни было[403]. Роберт Йеркс категорически протестовал против стремления Уотсона «сбросить за борт… метод самонаблюдения»[404], а Джеймс Каттелл из Колумбийского университета, и сам не чуждый жарким диспутам, объявил Уотсона в «излишнем радикализме». Однако и внутри, и вне психологической науки нашлось много тех, кому позиция Уотсона показалась привлекательной. Историк Франц Самельсон выдвинул теорию, согласно которой бихевиористские настроения вполне соответствовали пробудившемуся в канун Первой мировой войны интересу к социальному контролю, а риторика Уотсона собрала столько сторонников, поскольку «сочетала в себе притягательность трезвой науки, прагматическую полезность и идеологический либерализм»[405]. И хотя европейские психологи, как известно, были против бихевиоризма, альтернативы, которые они предлагали, в том числе школа гештальта Макса Вертгеймера и другие направления, оказались не такими влиятельными. А ориентированная на пациента аналитическая психиатрия Зигмунда Фрейда и Карла Юнга была модной среди широкой публики, но не считалась достаточно авторитетной в научных кругах[406]. Бихевиоризм захватил верховенство в американской психологии – и, в сущности, на полвека исключил из научного дискурса вопросы интроспекции, сознания и прочих внутренних когнитивных процессов.
Если Уотсон был Моисеем этого движения[407], то великий русский ученый Иван Петрович Павлов стал его неопалимой купиной. Бихевиористы стремились понять, как окружение управляет поведением, и вдохновлялись всемирно известными экспериментами Павлова по управлению рефлексами. Главным элементом парадигмы Павлова были отношения стимула-реакции, способность некоторых внешних стимулов вызывать воспроизводимую и, очевидно, автоматическую реакцию у животного. Особенно знамениты его опыты по изучению слюноотделения у собак в ответ на пищевые стимулы – это врожденная способность, которой не надо учиться[408]. Однако Павлов установил, что можно искусственно задать – обусловить – новые отношения стимула-реакции. Он разработал процедуру, известную ныне как вырабатывание условного рефлекса, и добился нужного эффекта, сочетая возбудительный стимул – запах мяса – со стимулом, который раньше был нейтральным, – звонком. Когда собака в ходе эксперимента много раз слышит звонок и после этого получает пищу, она приучается выделять слюну при звуке звонка. Так невинный звонок, незначительный элемент окружения, начинает контролировать поведение животного[409].
Уотсон полагал, что подобные отношения стимула-реакции объясняют большинство видов поведения даже у людей и что при помощи обусловливания можно научить занятиям любой сложности. Согласно этой точке зрения окружение играет в определении поведения индивидуума несравнимо более важную роль, чем любые внутренние качества, по крайней мере в пределах возможностей данного биологического вида. Уотсон сам понимал, что несколько преувеличивает, однако утверждал, что сможет взять любого здорового младенца и «воспитать его так, что он станет специалистом по тому, что я сам выберу, – врачом, юристом, художником, крупным коммерсантом и – о да! – даже вором и попрошайкой, какими бы ни были его таланты, склонности, способности, призвание и к какой бы расе ни принадлежали его предки»[410]. Такая формулировка молчаливо намекает на особую восприимчивость младенцев к обучению и обусловливанию – современные ученые описывают это свойство в терминах периодов раннего развития, когда на формирующийся мозг легко повлиять. Уотсон и другие бихевиористы были не особенно склонны углубляться в неврологические процессы; они избегали инвазивных методов наподобие микроскопии или записи данных с помощью электродов и ограничивались анализом поведенческих феноменов, которые можно было наблюдать и контролировать непосредственно.
Карьере Уотсона настал конец после скандального адюльтера с ассистенткой, и в 1920 году он был вынужден уйти с академической должности, однако вскоре появилось второе поколение ученых, которые закрепили позиции бихевиоризма в психологии. Главным представителем необихевиористов стал Беррес Фредерик (Б. Ф.) Скиннер (см. рис. 11), ученый и популяризатор, которого называли самым авторитетным психологом XX века[411]. Скиннер пропагандировал экспериментальный подход, который называл оперантным обусловливанием: по его методу животные учились ассоциировать свои действия с изначально приятными или неприятными стимулами[412]. В качестве примера оперантного обусловливания часто приводят следующую ситуацию. Крысу помещают в незнакомую механизированную коробку с рычагом с одной стороны. Каждый раз, когда крыса нажимает на рычаг, механизм выдает ей немного корма. Поначалу крыса нажимает на рычаг лишь случайно, поскольку исследует коробку, однако, несколько раз получив награду, усваивает, что получение корма зависит от нажатия на рычаг. После этого она нажимает на рычаг чаще и целеустремленнее, и такое поведение называют подкрепленным. Применение этого метода позволяет научить животных выполнять довольно сложные задачи – пробегать лабиринты, анализировать сенсорные данные. Скиннер считал оперантное обусловливание методом обучения, с помощью которого можно добиться любого поведения и от человека – научить его чему угодно, от езды на велосипеде до иностранного языка[413].
Бихевиористы, и в том числе Скиннер, хотели получить результат не только в лаборатории, но и во внешнем мире, и для этого применяли методы научения вне лабораторий. Несколько бихевиористов разработали на основе своих научных принципов образовательные программы. Сидней Бижу, ученик Скиннера, экспериментировал с наградами и наказаниями при воспитании и обучении детей (он изучал и применяющийся сейчас повсеместно метод, когда ребенка за провинность отправляют «подумать» в свою комнату)[414]. Методы Бижу легли в основу более общего подхода – прикладного анализа поведения, ПАП (applied behavioral analysis, ABA), призванного при помощи методов обусловливания улучшать поведение в самых разных контекстах, от пищевых расстройств до душевных болезней[415]. Варианты АВА-терапии применяются и по сей день[416]. Кроме того, принципы бихевиоризма легли в основу разработки обучающих машин. Первые обучающие автоматы изобрели в двадцатые годы прошлого века, однако за их усовершенствование и рекламу взялся лично Скиннер. Хотя его усилия по постановке обучающих машин на коммерческие рельсы увенчались лишь умеренным успехом, издательской фирме «Grolier» вполне удалось вывести на рынок устройство «MIN/MAX»: за первые два года было продано около ста тысяч штук. «MIN/MAX» представляло собой пластмассовую коробку, оборудованную роликом, как у пишущей машинки; обучающиеся видели учебный материал в маленьком окошке. Они должны были отвечать на вопросы, которые показывала им машина, а затем получали «подкрепление» – мгновенную обратную связь в виде оценки, верен ответ или нет; все это было очень похоже на современные обучающие компьютерные программы[417].
Еще сильнее обобщили бихевиористский подход с его стремлением влиять на поступки через организацию окружения несколько выдающихся архитекторов и градостроителей середины XX века. Французский архитектор швейцарского происхождения Ле Корбюзье в 1923 году, как известно, назвал дома «машинами для жилья» – чисто бихевиористская метафора, всего на несколько лет опередившая появление коробок Скиннера[418]. Ле Корбюзье и другие первопроходцы модернистской архитектуры вроде Фрэнка Ллойда Райта и Вальтера Гропиуса широко экспериментировали с планами открытых пространств и жилых зданий со множеством помещений общего пользования, которые через архитектуру культивировали особые паттерны поведения в обиходе. Возник и целый ряд общинных поселений, вдохновленных романом Скиннера «Walden Two» («Уолден-два») – бихевиористской утопией в его понимании[419]. Такие поселения руководствовались бихевиористской политикой, в частности, системой вознаграждения за труд баллами и строгой эгалитарной моралью, игнорировавшей врожденные различия между людьми[420].
Для бихевиористов упор на контроль поведения извне и отказ от учета внутренних факторов приводил к пренебрежению нейрофизиологией как таковой. Как ни парадоксально, диссертация самого Джона Уотсона была посвящена исследованию связи мозговой деятельности и поведения у крыс, но в дальнейшем он пришел к мысли, что уделять особое внимание центральной нервной системе не нужно. Уотсон был сторонником холистического подхода к биологии, сродни воззрениям, о которых я говорил в главе 5. По словам Уотсона, «бихевиориста интересует работа организма в целом», поэтому он должен «живо интересоваться нервной системой, но лишь как неотъемлемой частью организма в целом»[421]. Уотсон противопоставлял эту концепцию подходу сторонников интроспекции, которые, по его словам, считали мозг «черным ящиком», куда кладут все, что нельзя объяснить в терминах сугубо ментальных. Однако при этом Уотсон настаивал, что в его время науке и технике было еще не по силам справиться с задачей анализа мозговой деятельности, поэтому утверждал, что при его жизни ящик останется черным. Прошло 30 лет, и Скиннер по-новому обосновал, почему не нужно заниматься механизмами мозга. С его точки зрения нервная система лишь посредник, обеспечивающий причинно-следственные связи между средой и поведением человека. Коротко говоря, все самое интересное происходит не в мозге. А как человек заинтересованный прежде всего в предсказании и контроле поведения, Скиннер утверждал, что поэтому изучать мозг и не нужно, и не целесообразно. «Исследовать мозг нам не требуется, – постоянно говорил он, по воспоминаниям современников. – Ведь у нас есть оперантное обусловливание»[422].
По представлениям бихевиористов, среда обусловливает личность так же, как художник пишет картину. Окружение определяет содержание, окраску и последовательность жизни человека. Сегодняшние ученые иногда уподобляют мозг мощной машине, однако бихевиористы были больше склонны считать машиной окружение, которое внедряет и применяет правила подкрепления поведения и тем самым формирует людей, появляющихся на свет в наивном природном состоянии. Фатальный просчет бихевиоризма состоит в ложной дихотомии между пассивной личностью и активным окружением – именно этот контраст привел к превращению личности в субстрат для воздействия и не более того. Хотя любой бихевиористский эксперимент был основан на пристальном внимании к внешним факторам, никто не задумывался, как сама личность участвует в интерпретации Вселенной, в том числе и о роли мозга. Кроме того, бихевиористы ничего не могли сказать о сугубо внутренних процессах, не приводящих к наблюдаемым действиям. В их учении нет места внутренней жизни, мыслям и ощущениям, как нет места мозгу. Таков был дуализм бихевиористского толка: между внутренним и внешним проводилась четкая грань, и действующие силы помещались исключительно вовне личности – полная противоположность дуализму предшественников, в том числе Джеймса, которые полагали, что всем управляет дух или разум, действующий изнутри.
Философ Джон Серл, смеясь над бихевиористской позицией, рассказывал анекдот. Два строго объективных бихевиориста в постели подводят итоги после занятий любовью: «Тебе было очень хорошо, а мне?»[423]. Субъективных чувств для них не существует, только наблюдаемое поведение. Однако главная неудача поджидала бихевиоризм даже не в спальне. Психологи-бихевиористы все больше стремились описать человеческую деятельность высшего уровня в терминах обусловливания низшего уровня и все чаще сталкивались с серьезными недостатками своей теории как таковой. В 1959 году бихевиористскую систему ждал смертельный удар. Молодой лингвист Ноам Хомский опубликовал одну из самых ярких уничижительных критических статей в истории науки, а мишенью для нее стал лично Скиннер. Формально критика Хомского была рецензией на книгу Скиннера «Вербальное поведение», где делалась попытка описать человеческий язык с позиции оперантного обусловливания. Скиннер утверждал, что вербальные диалоги можно объяснить теми же отношениями стимула-реакции, которые формируются при обусловливании[424]. По мнению Скиннера, подкрепление связывает различные высказывания со сложными стимулами в реальном мире; таким образом, стимулы определяют, что именно говорится в том или ином контексте. Хомский не оставил камня на камне от этой идеи, назвав ее расплывчатой и упрощенческой[425]. Однако он не ограничился критикой содержания книги Скиннера, а рассмотрел все краеугольные камни бихевиоризма в более широком смысле и развенчал этот подход в целом, а не только применительно к языку. Его обзор «Вербального поведения» стал такой же крупной вехой в психологии, как и манифест Уотсона.
Хомский утверждал, что вне строго контролируемой обстановки бихевиористской лаборатории понятия стимула, реакции и подкрепления определены так плохо, что практически теряют смысл. Особенно сложно рассматривать с таких позиций ситуации с участием большого количества стимулов, в которых производится много различных действий. Скажем, если маленькая девочка заплакала после того, как намочила подгузник, играя с игрушками в своей кроватке, а в это время дедушка пел ей песню, и при этом ей дают печенье, какое из множества действий девочки подкрепляется и какие стимулы ассоциируются с наградой-печеньем? Кроме того, Хомский отметил многочисленные примеры действий, совершаемых безо всякого подкрепления, – скажем, неустанную работу ученых над исследованиями, которые почти никого, кроме них, не интересуют и за результаты которых они не получат никакой очевидной награды. Как бихевиоризм объяснит, что придает столько сил этим умникам? В защиту Скиннера (и на основании своего собственного опыта как ученого) могу заметить, что здесь все же есть некоторые внешние мотивы, однако Хомский хотел высказать более общее соображение. Он утверждал, что действия, которые мы совершаем, не ожидая награды, можно убедительно объяснить лишь внутренними когнитивными факторами – иначе говоря, вариантами ментализма, столь ненавистного бихевиористам. Напротив, Хомский заключил, что «открытиями, сделанными в лабораториях теоретиков подкрепления… можно объяснить сложное человеческое поведение лишь очень грубо и поверхностно»[426].
Статья Хомского, бичующая Скиннера, стала катализатором решительного разворота психологии обратно в сторону изучения внутренних процессов личности, и теперь это называют когнитивной революцией. Исполинский маятник качнулся в очередной раз, табу бихевиоризма были сняты, и сознание снова стало приличной темой для обсуждения. Некоторые идеи, характерные для психологии до прихода Уотсона, в результате когнитивной революции получили вторую жизнь. Прежде всего это была твердая убежденность, что главная движущая сила в жизни человека – это не окружение, а сознание. Психолог Стивен Пинкер так описывает когнитивистскую картину мира: «Разум связан с миром через органы чувств, преобразующие физическую энергию в информационные структуры мозга, и двигательные программы, с помощью которых мозг контролирует мускулы»[427]. Ментальная деятельность, существование которой в мозге наконец признали, подобно главнокомандующему, с которым мы уже встретились в главе 5, руководит действиями, основанными на входящих данных, с присущими ей авторитетностью, гибкостью и независимостью.
После когнитивной революции была возрождена и еще одна старая идея – представление о сознании как об аппарате, разделенном на множество компонентов, каждый из которых от природы предназначен для выполнения какой-то своей конкретной задачи. Такая «балканизация» мозга заставила вернуться к главным принципам структурализма по Вундту, но резко противоречила бихевиористскому подходу к людям как к чистым листам, которые только и ждут, когда окружающий мир их обусловит. Сам Хомский стоял за то, что в мозге есть лингвистический орган, нейронный механизм, который имеется у всех и без которого невозможна словесная коммуникация[428]. Психологи-когнитивисты предполагали, что сознание и мозг содержат отдельные модули для многих других функций – распознавания объектов, возбуждения эмоций, хранения и пробуждения воспоминаний, решения задач и так далее. Пинкер отмечает сходство такой картины и с традиционными для западной культуры концепциями духовной и интеллектуальной жизни. «В таком виде, в каком теория человеческой природы предстает после когнитивной революции, она имеет больше общего с иудео-христианской теорией природы человека… чем с бихевиоризмом, – пишет он. – Поведение не просто спонтанно или реактивно… Оно рождается во внутренней борьбе между модулями психики с их различными целями и намерениями»[429].
После когнитивной революции научный прогресс и возрожденная ориентация на внутренние качества личности совместно способствовали конвергенции психологии с нейрофизиологией. Теперь и ученые, и широкая публика приравнивали ментальные функции к мозговым процессам. Этому особенно помогло появление в 80–90-е годы методов функционального сканирования мозга, которые позволили ученым проверять гипотезы о совмещении элементов ментальной и нервной организаций. В эпоху когнитивной науки возврат к идее о сложности разума прекрасно гармонировал с расцветом исследований вместилища разума, которое казалось органом бесконечно сложным. Не менее важная конвергенция наблюдалась на границе психологии и недавно возникшей и бурно развивающейся информатики. Именно на этой грани зародились численные теории ментальной функции, и среди первопроходцев в этой области был психолог Дэвид Марр, занимавшийся вопросами чувственного восприятия[430]. Марр славился тем, что считал сознание и разум устройством по переработке информации, основанном на вычислительном преобразовании входящих в исходящие при помощи алгоритмов, физически прописанных в «железе»[431]. Многие психологи и нейрофизиологи того времени, увлекшиеся подобными описаниями, стали утверждать, будто «разум – это программное обеспечение мозга», и тем самым обобщали вычислительную модель ментальной обработки информации и превращали ее в полноценную метафору биологического функционирования, о которой мы говорили в главе 2[432].
В то время сакрализация мозга дошла до апогея, и легко понять почему. Течения когнитивной революции превозносили мозг в той же степени, в какой преуменьшали значение внешнего мира. Нейрофизиология стала сверхпопулярной темой для обсуждения, а слово «бихевиоризм» превратилось в ругательное, поскольку ассоциировалось и с научной поверхностностью, и с государственным контролем над поведением граждан в странах вроде СССР при Сталине[433]. Со свержением бихевиоризма любые попытки понять, на чем основаны ментальные процессы в диапазоне от гениальности художника до наркомании, немедленно приводили к размышлениям о мозге, а учет внемозговых воздействий, соответственно, проводился гораздо реже[434]. Некоторые комментаторы для описания этого явления даже ввели в обращение слово нейроэссенциализм[435]. «Многие из нас явно или неявно убеждены… что именно мозг определяет, кто мы есть, – пишет философ Адина Роскис, определяя этот неологизм. – Поэтому, исследуя мозг, мы исследуем „я“»[436]. Представление, что центральная нервная система составляет нашу суть как личностей, повторяет эссенциалистские убеждения сторонников Вундта и Джеймса, считавших сознание набором врожденных черт, и Йеркса и Каттела, отстаивавших идею измерения врожденных качеств при помощи тестов на интеллект и их искусственной селекции в рамках евгенических движений начала XX века. Сходство старых и новых видов, пожалуй, и в самом деле объясняет, почему современная психология и нейрофизиология так хорошо соответствуют традиционным западным концепциям души.
Сакрализация мозга и научный дуализм, о которых мы говорили в части I, способствуют нейроэссенциализму, поскольку делают упор на качества мозга, напоминающие душу: непостижимость, могущество и даже потенциальное бессмертие. Биохимическая общность и причинно-следственные связи между мозгом, телом и средой не учитываются, и роль главнокомандующего и контролера отводится мозгу и только ему. В результате грань между внутренними и внешними воздействиями остается такой же четкой, как во дни былых – измов, когда о мозге по большей части забывали.
* * *
Итак, мы убедились, что когнитивная революция и развитие нейрофизиологии вывели мозг на центральное место фактора, который объясняет в нашей жизни все. Нейроэссенциалистский подход, согласно которому наши основные качества определяются мозгом, отражает продолжающийся откат от бихевиоризма с его упором на среду. Однако современная мозгоцентрическая точка зрения, в точности как и бихевиоризм, зачастую не в состоянии дать целостную картину совместного воздействия внутренних и внешних факторов, руководящих деятельностью человека. Она сосредоточена на роли мозга до такой степени, что исключает остальные факторы, влияющие на то, что человек думает и делает. Это особенно очевидно на конкретном примере нейроэссенциализма в действии.
Самое известное в мире воплощение нейроэссенциализма провело золотые годы, мирно покоясь в сосуде с формальдегидом, вдали от мирской суеты и цивилизации, в банке образцов мозга в столице Техаса Остине[437]. Однако на заслуженный отдых этот экспонат ушел после бурного прошлого, которое навеки запечатлелось в его слоях серого и белого вещества, словно складки и пятна на старой газете. Прежде всего, знаменитый мозг был отнюдь не целым и невредимым. Вскоре после того, как этот орган изъяли из естественного вместилища, нож патологоанатома рассек его на филе, безжалостно выставив его внутренние структуры на всеобщее обозрение для аутопсии. Многие разрезы выявили грубые повреждения. Левые лобная и височная доли, участки за глазом и ухом, где некогда таились когнитивные и сенсорные способности, были жестоко изувечены. Мозговые ткани оказались нашпигованы осколками кости, которые вогнали туда раскаленные свинцовые пули, пробившие некогда несокрушимую броню черепа. А в другой части мозга, у розоватого пятна красного ядра, ткани пронзены другой пулей – злокачественной опухолью размером с орех, которая наверняка убила бы своего обладателя, если бы металлические снаряды не успели первыми[438]. История этой опухоли и органа, где она находилась, ясно показывает, что нам и сегодня не удалось решить проблему равновесия между силами, действующими на личность извне и изнутри. Первоначальный владелец злополучного мозга, бывший моряк и опытный снайпер Чарльз Уитмен, совершил одно из самых страшных массовых убийств в истории Америки. Рано утром 1 августа 1966 года он зарезал мать и жену. Затем он принес небольшой арсенал огнестрельного оружия на самый верх главного здания Техасского университета – башни высотой в 93,5 метра – и открыл стрельбу, в результате которой были убиты и ранены 48 человек в самой башне и вокруг нее. Бойня продолжалась два часа, но в конце концов полиции Остина удалось окружить Уитмена, и офицер Хьюстон Маккой уложил стрелка двумя выстрелами из дробовика. Эта бойня стала ужасным потрясением для общества, не привыкшего к военным действиям на городских улицах в мирное время. «Во многих отношениях Уитмен заставил Америку осознать, что такое убийство и как беззащитны мирные люди в свободном открытом обществе», – пишет Гэри Лаверн в своей книге «Снайпер в башне»[439].
Но тут на авансцену вышел мозг Уитмена. В течение нескольких месяцев до преступления Уитмен страдал головными болями и обратился к психиатру. В предсмертной записке он предположил, что страдает какой-то психической болезнью, и попросил следователей сделать подробное вскрытие, чтобы определить, что с ним произошло. При вскрытии была обнаружена опухоль неподалеку от гипоталамуса и миндалевидного тела Уитмена – эти участки мозга отвечают за контроль над эмоциями, – и тогда возникло предположение, что она, вероятно, и есть причина непостижимого злодеяния[440]. Особенно охотно поверили, что именно опухоль изуродовала личность «техасского стрелка» и именно больной мозг заставил его совершить ужасное преступление, друзья и родные Уитмена[441].
Джозеф Леду, специалист по миндалевидному телу, считает, что даже простого предположения, что опухоль могла как-то сказаться на поведении преступника, было бы достаточно, чтобы снизить ему срок тюремного заключения, если бы Уитмен дожил до суда[442]. Нейрофизиолог Дэвид Иглмен заходит гораздо дальше – он утверждает, что случаи, подобные истории Уитмена, подрывают саму идею ответственности за преступления, поскольку доказывают, что определяющую роль в поведении играет биология мозга. Контролировать свою биологию мы не в силах – так можно ли заставлять нас отвечать за нее? Иглмен предрекает, что скоро «мы сможем выявлять паттерны на невообразимо малом масштабе микросвязей, коррелирующих с отклонениями в поведении»[443]. Замечание Иглмена вовсе не так уж тенденциозно. Технология сканирования мозга уже позволяет наблюдать мозг преступников in situ, и это одно из самых обсуждаемых приложений фМРТ в наши дни. «Адвокаты сплошь и рядом заказывают МРТ мозга своих подзащитных и утверждают, что те не могли себя контролировать из-за неврологических нарушений», – пишет исследователь права Джеффри Розен и добавляет, что дошло до того, что «один суд во Флориде постановил, что отсутствие нейрофизиологических данных при вынесении смертного приговора считается основанием для его отмены»[444].
Эти точки зрения наглядно показывают, как сильно влияние нейроэссенциализма, который здесь выражается в предположении, что у мозга человека могут быть неотъемлемые и, вероятно, не подлежащие изменению свойства, которых достаточно, чтобы истолковать природу действий этого человека, не только преступных. У такого предположения могут быть далеко идущие следствия. Если наш мозг служит причиной действий, которые мы не в состоянии осознанно контролировать, разве можем мы по-прежнему заставлять людей отвечать за их поступки? Нам следует объявлять виновным или невиновным в преступлении не человека, а его мозг. Нам следует не наказывать правонарушителя за биологические особенности, над которыми он не властен, а лечить отклонения, которые мы найдем у него в мозге, а если не найдем, изолировать его лишь в интересах общества, как не выпускали бы на дорогу неисправный автомобиль. Нейробиолог из Стэнфорда Роберт Сапольски едко замечает, что «хотя оценивать людей с чисто медицинских позиций и приравнивать их к поломанным машинам бесчеловечно, это все же не в пример человечнее, чем оценивать их с чисто морализаторских позиций и клеймить грешниками»[445].
Мозг Чарльза Уитмена, лениво покоившийся в шкафу в Остине, служил воплощенным символом этих идей – а потом в один прекрасный день исчез. Мозговое вещество убийцы входило в коллекцию примерно из 200 неврологических образцов, завещанных Техасскому университету в конце 80-х. Лет через 30 фотограф Адам Ворхис и журналист Алекс Ханнафорд заинтересовались мозгом «техасского снайпера», когда работали над книгой об этой коллекции[446]. Их исследование привело к открытию, что примерно половина препаратов, в том числе и мозг Уитмена, исчезли. «Это тайна, достойная хорошего детективного романа: сто препаратов мозга исчезли из университета, и никто, похоже, не знает, что с ними приключилось», – писал Ханнафорд на страницах «Atlantic»[447]. Под пристальным вниманием СМИ исследователи из Техасского университета бросились разгадывать загадку и вскоре сообщили, что утраченные образцы, вероятно, были списаны и уничтожены в 2002 году как биологические отходы[448].
Таинственное исчезновение мозга Уитмена вдохновляет нас на мысленный эксперимент с целью понять, чем плох нейроэссенциализм. Зададимся вопросом, что было бы, если бы мозг совсем стерли с общей картины? Что было бы, если бы мозг Уитмена исчез до того, как до него добрались врачи, и злокачественное новообразование (как и любое другое неврологическое отклонение) не стало бы основой для логического объяснения преступления?
Вот и ответ: тогда нам пришлось бы искать факторы, повлиявшие на это событие, в другом месте, и мы легко нашли бы их в материалах дела. Например, мы сразу ощутили бы, что Уитмен всю жизнь прожил в атмосфере социальной напряженности. Мы поняли бы, что у убийцы были плохие отношения с отцом, сторонником жесткой дисциплины, который бил мать Уитмена и разрушил их брак всего за несколько месяцев до трагедии. Мы обнаружили бы, что у Уитмена была целая череда неприятностей в профессиональной жизни: ему пришлось бросить университет из-за плохой успеваемости, а уже в рядах морских пехотинцев пройти унизительный трибунал и процедуру разжалования. Мы бы отметили, что Уитмен употреблял наркотики (в день стрельбы при нем был пузырек амфетамина). Нам бросилось бы в глаза, с какой легкостью Уитмен раздобыл свой арсенал, и мы поняли бы, что он был погружен в культуру насилия. Мы бы увидели, что Уитмен был крепко сложен и в прекрасной физической форме, без которых ему не удалось бы совершить преступление. Вероятно, мы приняли бы во внимание и удушающий зной в момент стрельбы – температура воздуха в то утро достигала 38 ºC, что, вероятно, сыграло свою роль в высвобождении скрытой агрессии у преступника. Короче говоря, к преступлению с той же вероятностью, что и особенности мозга убийцы, привело и множество внешних обстоятельств.
Случай «техасского снайпера» – символ дихотомии между внутренними и внешними причинами человеческого поведения, сохраняющейся до сих пор. Существуют два отчета о действиях убийцы – с внутренней и с внешней точки зрения. Первый – субъективная история – что-то подобное рассказали бы отцы психологии в XIX веке, с которыми мы познакомились в начале этой главы: стоит лишь заменить «сознание» на «мозг», и все встанет на свои места. Второй – рассказ, который мы вполне могли бы услышать от Джона Уотсона или Б. Ф. Скиннера. И те, и другие возложили бы моральную ответственность на Чарльза Уитмена – в этом они единодушны. Что именно привело к трагедии августа 1966 года: опухоль в мозге Уитмена или судьбоносное событие в его окружении, – не влияет на меру метафизической вины, которую мы возлагаем на его плечи, в обоих случаях Уитмен стал пешкой в великой игре жизни и смерти, в которую играет природа. Однако нарративы изнутри и извне различаются тем, в какой степени они побуждают нас сосредоточиться на конкретном человеке и складе его характера либо на его окружении и обществе. Они заставляют нас ставить на первое место разные факторы и предлагают разные способы профилактики грядущих катастроф. А главное – они различаются по тому, под каким углом они предлагают размышлять о правосудии и правонарушениях: как о действиях конкретного человека или как о результате взаимодействий, влияющих на конкретных людей. Нейроэссенциализм заставляет сосредоточиться на личности и ее мозге, но при этом мы затираем вторую половину картины.
* * *
Если раскинуть сети еще шире, можно найти примеры нейроэссенциализма в самых разных сферах жизни. В любом контексте описывать то или иное явление в терминах сугубо неврологических, как правило, не дает нам увидеть варианты нарративов, основанные на внешних факторах, действующих в окружении мозга, а не внутри него. Пытаясь найти причины, касающиеся исключительно мозга, мы поддаемся, по словам философа Мэри Миджли, «соблазну упрощения»[449].
Мы считаем мозг исполином среди причин, председателем, а не рядовым участником совещания внешних и внутренних голосов, каждый из которых наверняка достоин быть услышанным. Сакрализация мозга заставляет нас ставить мозг в привилегированное положение, в любой ситуации отвлекает от размышлений о важности организма, окружения и общества, даже если мы молчаливо признаем, что у них есть своя роль. А это, в свою очередь, влияет на то, как мы понимаем и решаем целый ряд общественных и поведенческих проблем в реальном мире.
Почему подростки не такие, как взрослые? Все мы отмечали, как склонна молодежь к перепадам настроения и как беспечно себя ведет по сравнению со взрослыми. «Старости не сжиться с юностью шальною:/ Юность так беспечна, старость так грустна;/ Юность – утро лета, старость – ночь зимою;/ Юность – летний жар, а старость холодна», – писал великий Бард[450]. Нейрофизиолог-когнитивист Сара-Джейн Блейкмор утверждает, что стереотипно-подростковые черты вроде склонности к риску, неумения держать себя в руках и застенчивости, вероятно, объясняются биологическими особенностями незрелого мозга. Мозг подростка – не такой же, как у взрослого, только неопытный: данные фМРТ показывают, что мозг подростка отличается от мозга взрослого и структурно, и динамически. «В лимбической системе подростков обнаружены области, по сравнению с мозгом взрослых особо чувствительные к приятным ощущениям при рискованных действиях, – говорит доктор Блейкмор. – В то же самое время префронтальная кора… которая не дает нам слишком сильно рисковать, у подростков сформирована еще отнюдь не окончательно»[451].
Однако объяснять незрелое поведение подростков незрелостью их мозга тоже весьма рискованно. Во-первых, нет нужды говорить, что отличия между биологией подростка и биологией взрослого отнюдь не ограничиваются нервной системой. На самооценку подростков и их реакцию в тех или иных ситуациях сильнейшим образом влияют не только особенности мозга, но и гормональные и другие физиологические факторы. Стоит также отметить, что современные старшие подростки по стандартам доисторических времен – люди в самом расцвете сил: когда эволюция увела нас в сторону от предков-обезьян, ожидаемая продолжительность жизни была, скорее всего, значительно меньше 30 лет[452]. Мозг сегодняшнего юноши или девушки в пятидесятитысячном году до нашей эры вполне сошел бы за взрослый. Современные подростки отличаются от своих сверстников из позднего палеолита скорее культурно, чем физиологически. Это подсказывает, что черты, из-за которых нынешние подростки кажутся незрелыми, вероятно, относятся не к биологии, а к культуре. Здесь и сейчас подростки живут в мире, совсем не похожем на взрослый. Количество и качество социальных взаимодействий у них такое, что взрослым и не снилось, сценарий их жизни пишется и управляется по правилам, с которыми согласится далеко не каждый взрослый, цели, которые они ставят перед собой изо дня в день, сильно отличаются от целей их родителей, бабушек и дедушек. Так что распутать этот клубок и отделить следствия биологии мозга от внешних факторов, прямо скажем, невозможно. Но если мы стремимся понять и по возможности скорректировать конкретные недостатки наших друзей и родственников-подростков, сосредотачиваться на особенностях их мозга было бы упрощенчеством.
Как человек становится наркоманом? Наркотики не просто более мощные версии всего того, что нам нравится, вроде вкусной еды или солнечной погоды: они проникают прямо в мозг и непосредственно влияют на поведение нервных клеток. За последние два десятилетия был достигнут колоссальный прогресс в выявлении и изучении мозговых процессов, участвующих в восприимчивости к наркотикам – над этим работала и моя собственная лаборатория. Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками США определяет наркотическую зависимость как «хроническое рецидивирующее заболевание мозга, характеризующееся компульсивным поиском и употреблением наркотиков без учета вредных последствий»[453]. Такая формулировка разработана Институтом не случайно, а с целью борьбы с моральной стигматизацией наркомании[454]. Судя по всему, когда мы говорим о наркомании в терминах подсознательных мозговых функций, это снимает с зависимого часть вины, как данные о патологии мозга, по всей видимости, оправдывают преступников вроде Чарльза Уитмена.
Однако, чтобы простить наркомана, не обязательно обвинять биологию мозга. Общеизвестно, что риск наркомании повышают и внешние социально-культурные факторы – давление сверстников и слабая семейная структура, а также принадлежность к мужскому полу и нищее детство[455]. Едва ли человека, очутившегося в таких условиях, можно обвинять с большим правом, чем обвинять человека, страдающего заболеванием мозга, в том, что он болен. Однако описание наркомании как заболевания мозга чревато тем, что мы перекроем себе некоторые пути ее лечения. Салли Сэйтел и Скотт Лилиенфельд полагают, что модель заболевания мозга «отвлекает внимание от перспективных поведенческих методов терапии, избавляющих от неизбежности рецидива»[456]. Психиатр Лэнс Доудс отстаивает похожую точку зрения – он делает ставку на внешние стимулы, подталкивающие к наркомании. «Аддиктивным действиям способствуют эмоционально значимые события… и их можно заместить другими эмоционально осмысленными действиями»[457]. Если взглянуть на вещи еще шире, то наркомания требует работы с общественно-культурными явлениями, в отличие от других неинфекционных болезней, например, рака. Не исключено, что меры по борьбе с бедностью, сохранению семей и улучшения школьного образования окажутся столь же действенными, что и работа с сугубо мозговыми процессами, связанными с наркоманией, в том числе медикаментозное лечение. Наркомания – явление многомерное, и важно помнить о тех его измерениях, которые выходят за пределы головы.
Как человек становится выдающимся художником, ученым, предпринимателем? Герой комедии Мела Брукса «Молодой Франкенштейн», снятой в 1974 году, убежден, что его рукотворный монстр станет гением, если ему пересадят мозг великого немецкого «ученого и святого» Ганса Дельбрюка[458]. Но разве для того, чтобы стать великим и внести свой вклад в общественную жизнь, не нужно ничего, кроме великого мозга? Из главы 1 мы узнали, что исследователи вот уже более 100 лет не могут связать выдающиеся личные достижения с какими бы то ни было свойствами мозга. Популяризатор науки Брайан Баррелл учит нас, что «никакие исследования… „элитных“ мозгов так и не выявили источника интеллектуального величия», но это вовсе не обескураживает наших современников, упорно продолжающих поиски[459]. Современные исследователи применяют сканирование мозга, чтобы выявить, по выражению психолога, лауреата Национальной научной медали США Нэнси Андреасен, «неповторимые черты творческого мозга»[460]. В своих работах Андреасен выявляла паттерны функционирования мозга, якобы характерные для писателей, художников и ученых в отличие от представителей менее творческих профессий. Другие исследователи изучали, как проявляются на фМРТ импровизации, нестандартное мышление и другие характерные элементы творчества.
Мало кто из ученых станет спорить, что за многими когнитивными способностями стоят какие-то биологические механизмы в мозге, но еще нам известно, что на воплощение этих способностей в актах творчества оказывают колоссальное влияние и культура, и образование, и экономическое положение. Исследования однояйцовых близнецов показали, что роль генетики, которая должна определять врожденные аспекты структуры мозга, по меньшей мере неоднозначна[461]. Между тем больше всего нобелевских лауреатов с большим опережением дала миру страна с самым разнородным населением с точки зрения этнической принадлежности и предположительно неврологических особенностей – США. Такая статистика заставляет усомниться, что творчеству в разных сферах жизни способствует какой-то определенный тип мозга или набор качеств. Иначе говоря, вероятно, никакого «творческого мозга» в природе не существует.
Психолог Кевин Данбар изучал творчество в лабораториях молекулярной биологии и обнаружил, что новые идеи чаще всего возникают в ходе группового обсуждения, в которое каждый участник делает свой неповторимый вклад, а не зарождаются в мозге ученых-одиночек, работающих в относительной изоляции. В некоторых случаях принцип, согласно которому творчество возникает при слиянии разнородных идей, создает новаторские дисциплины – например, нанотехнолгию или климатологию. Даже если одиночки работают самостоятельно, идеи, которые их осеняют, зачастую бывают спровоцированы разнообразием внешних стимулов[462]. «Смена перспективы и физического местонахождения довольно простым способом вынуждает проявлять вдумчивость. В таких случаях нам приходится заново рассматривать мир, смотреть на вещи под иным углом, – пишет журналистка Мария Конникова, исследовавшая творческий процесс[463]. – <…> Смена перспективы может дать толчок, необходимый для принятия трудного решения или пробуждающий креативность там, где ее прежде не было». А представление, что акты творчества порождены «творческим мозгом», сводит сокровищницу биологических и внешних факторов к одному-единственному нейроэссенциалистскому самородку. Если мы пытаемся выявить суть творчества и способствовать ему в обществе, внимание к миру вокруг мозга, вероятно, не менее важно, чем культивация мозга как такового.
Откуда берется мораль и что заставляет человека оценивать поступки как плохие и хорошие? Возродившееся движение сторонников считать мораль врожденным механизмом мозга – одно из самых удивительных проявлений современного нейроэссенциализма. В 1819 году Франц Галль поместил орган «нравственного чувства» надо лбом, там, где сходятся правая и левая лобные доли[464]. Современные ученые думают несколько иначе: Лео Паскаль, Пауло Родригес и Давид Гальярдо-Пухоль из Барселонского университета пишут, что «мораль – это совокупность сложных эмоционально-когнитивных процессов, отражающихся на множестве областей мозга»[465]. Исследования фМРТ указывают на связь между морально-этическими суждениями и активацией областей, ассоциируемых с целым рядом процессов, от эмпатии и эмоций до памяти и принятия решений. Подобные находки соответствуют нашим интуитивным представлениям о том, как сложны механизмы решения моральных проблем, а еще – показывают, где физически обрабатываются всякого рода размышления, которым мы предаемся. Однако, если мы будем рассматривать моральные рассуждения с исключительно неврологической точки зрения, то в очередной раз отвлечемся от важности воздействия среды и общества. Как и другие решения, которые мы принимаем, моральный выбор в большой степени зависит и от состояния нашего организма, и от неосязаемых внешних факторов. На наши морально-этические суждения вполне способны влиять и немозговые факторы, которые сказываются на эмоциональной сфере, – например, они вызывают у нас предубеждение против агрессии как таковой или, наоборот, склонность ее оправдывать. Еще сильнее подвержен влиянию социальных магнитов наш внутренний моральный компас. Самый очевидный пример – мы понижаем планку, когда считаем, что нас никто не видит. И, напротив, мы способны на сомнительные поступки, если нам кажется, что их примет общество. Это и продемонстрировал ошеломляющий эксперимент Стэнли Милгрэма из Йельского университета. В 1963 году Милгрэм провел исследование, показавшее, что две трети из группы из 40 испытуемых-мужчин, выбранных случайным образом, готовы нанести совершенно незнакомым людям крайне болезненный удар током (450 вольт), если этого требует от них экспериментатор в обстановке лаборатории[466]. Психолог Джошуа Грин, возглавляющий гарвардскую Лабораторию морально-когнитивных процессов, отмечает, что неврологические механизмы, задействованные при принятии морально-этических решений, «вовсе не относятся специфически к морали»[467]. Более того, ту или иную дилемму делает нравственной только связь с внешним контекстом и культурно обусловленные суждения окружающих о том, как надо и как нельзя себя вести. Если мы сведем морально-этическую логику к процессам в мозге, не зависящим от особенностей среды, которые на самом деле на них влияют, то рискуем упустить это из виду.
* * *
Вопрос, что делает человека таким, какой он есть, подобен главному вопросу исторической науки: почему события разворачивались так, а не иначе? Чеканный ответ на этот вопрос дал шотландский историк Томас Карлейль: «Всемирная история, история того, что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в сущности, история великих людей, потрудившихся здесь, на земле»[468]. Карлейль взирал на окружающий культурный ландшафт начала 40-х годов XIX века и видел, что «все, содеянное в этом мире, представляет, в сущности, внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в наш мир». Такова была теория великой роли личности в истории, гипотеза, согласно которой мысли нескольких выдающихся деятелей преобразовывали целые цивилизации и определяли ход событий. По метафоре Карлейля человек, подобный поэтам Данте и Шекспиру, ученым Джонсону и Руссо, тиранам Кромвелю и Наполеону, – прямо-таки «природное светило, сияющее, как дар неба; источник природной, оригинальной прозорливости, мужества и героического благородства, распространяющий всюду свои лучи, в сиянии которых всякая душа чувствует себя хорошо», в отличие от темной народной массы вокруг. Но в современной культуре, подорванной сакрализацией мозга, сияние исходит не от великих людей прошлого, а от нашего мозга. Именно такую картину описывал сам Уильям Джеймс, когда писал, что все изобретения человечества были «проблесками гения в голове одиночки, которые никак не проявлялись во внешней среде»[469]. Слова Джеймса напрямую связаны с сияющими изображениями мозга в сегодняшних популярных статьях по нейрофизиологии и со сведением проблем современного мира к проблемам мозга. Однако полностью отвергать нейроэссенциалистский тезис, что мозг – автономный внутренний движитель наших действий, значит придерживаться столь же радикального антитезиса – бихевиористского представления, согласно которому все действия человека объясняются в первую очередь средой.
Сегодня в наших силах примирить противников. Когнитивный бунт против бихевиоризма уходит в прошлое, мы все отчетливее понимаем, как мозг взаимодействует с окружением, и нам больше не нужно считать, что представления о человеческой природе с упором на внутреннее и внешнее совсем не обязательно противопоставлены. В эпоху нейрофизиологии мы не вправе сомневаться ни в жизни своего сознания, ни в центральной роли, которую в ней играет мозг. Но при этом мы не можем сомневаться, что воздействие внешних сил простирается до самых потаенных уголков нашего мозга, питая наши мысли непрерывным потоком входящих сенсорных данных, от которого не укрыться. А еще мы не можем отрицать, что любое наше действие совершается под влиянием эфемерных событий и явлений в нашем окружении – от формы дверных ручек у нас дома до социальных структур, в которых мы принимаем участие. Наука учит нас, что нервная система полностью интегрирована в это окружение, состоит из тех же веществ и подчиняется тем же законам причины и следствия, что и весь мир, и наш биологический разум есть продукт этого синтеза. Наш мозг – не загадочное светило, сияющее внутренним светом на фоне черной бездны. Это природная призма, преломляющая свет Вселенной сама в себя. Биологическая среда мозга и есть то место, где интроспективный мир Вундта и современных нейроэссенциалистов сливается безо всяких границ с экстравертивным миром Уотсона и Скиннера. Ведь они едины и неделимы.
Глава восьмая За пределами поврежденного мозга
Если все, что вы делаете, делается из-за мозга, то дефекты поведения с неизбежностью объясняются дефектами мозга. В сущности, считать душевные болезни нарушениями работы мозга по-своему логично: недаром эта перемена совпала с развитием нейрофизиологии и расцветом сакрализации мозга. Сторонники приравнивания душевных болезней к дисфункциям мозга утверждают, что так удается побороть стигматизацию, традиционно сопровождающую психиатрические расстройства. Если недуги вроде депрессии и шизофрении рассматривать как заболевания мозга, это смягчает тенденцию винить душевнобольных в их патологиях. Мы же не говорим, что человек виноват, что у него больные легкие или печень, зачем же обвинять тех, у кого больной мозг? «Шизофрения – такая же болезнь, как пневмония, – говорит выдающийся нейрофизиолог Эрик Кэндел. – Если считать ее болезнью мозга, это тут же исключает всякую стигматизацию»[470]. Есть данные, что переосмысление душевных болезней в биологических терминах способствует тому, чтобы больные с соответствующими жалобами охотнее обращались за помощью, а это невероятно важно и для самих пациентов, и для их родных и близких[471]. Как видно, признать, что у тебя органическое заболевание, не в пример легче, чем признать, что у тебя извращенная душа.
Еще не так давно душевнобольные считались морально ответственными за свои неразумные поступки и неподчинение общественным нормам. По словам французского социолога-теоретика Мишеля Фуко, в Европе эпохи Просвещения безумцами считали тех, кто «по собственной воле преступает границы буржуазного порядка и, лишенный рассудка, оказывается вне его сакральной этики»[472]. В своем шедевре «История безумия в классическую эпоху» Фуко пишет, что в те времена безумцы рассматривались не как жертвы болезни, а как нарушители норм человеческого общежития: они не подчинялись требованиям общества и за это оказывались, в сущности, в тюрьмах, где их подвергали внесудебным наказаниям и всякого рода лишениям. Даже реформаторы лечебниц для душевнобольных XIX века – Сэмюэль Тьюк и Филипп Пинель – по-прежнему пытались наставить своих пациентов на путь истинный, пусть и более гуманными методами лечения. «Считается крайне важным для дальнейшего излечения всячески способствовать воздействию религиозных принципов на разум душевнобольных», – писал Тьюк в 1813 году[473]. По данным Фуко, даже в доброжелательной атмосфере лечебницы времен Тьюка все равно считалось, что безумие – это «преступление против общества, подлежащее надзору, осуждению и наказанию», что оно должно изолироваться от «мира этики»[474]. Определение психических болезней как заболеваний мозга – это, вероятно, лучший способ вывести их из сферы этической изоляции, о которой пишут Фуко и другие исследователи.
Подобным же образом программы лечения, мотивированные исключительно биологией и действующие на определенные мозговые механизмы, помогают при психических расстройствах не в пример лучше, чем многие методы сомнительной действенности и ценности вроде кандалов и водолечения, практиковавшиеся в прошлом. Но при этом душевные болезни в наши дни по-прежнему представляют собой большую и на удивление трудноразрешимую проблему для общества. Согласно статистике Национального альянса по душевным болезням, крупной организации, защищающей права больных, от психических расстройств страдает примерно одна пятая часть взрослых американцев ежегодно, а тяжелые душевные болезни обходятся бюджету США более чем в 190 миллиардов долларов упущенной выгоды[475]. При всем при том, невзирая на все старания помочь больным признать свое состояние и обеспечить им доступную терапию, ежегодно без лечения остается более половины взрослых, страдающих душевными расстройствами. Национальный альянс по душевным болезням отмечает, что одна лишь депрессия становится «главной причиной нетрудоспособности во всем мире», а 90 % самоубийств в США связаны с душевными болезнями. Очевидно, впереди большая работа.
Из этой главы вы узнаете, что душевные болезни остаются бичом нашего общества, в частности, из-за той же сакрализации мозга. Идеализация этого органа и упор на его определяющую роль в психических заболеваниях мешают бороться с ними по трем основным направлениям. Во-первых, вместо стигматизации душевных болезней сакрализация мозга порождает новое явление, которое тоже вредит психиатрическим больным: она стигматизирует «сломавшийся мозг». Во-вторых, если внимание самих больных, врачей и исследователей сосредоточено исключительно на мозге, приравнивание душевных болезней к болезням мозга заставляет упустить из виду потенциально эффективные методы лечения, не затрагивающие мозг физически. В-третьих, поскольку проблемы отдельного мозга – это всегда проблемы отдельного человека, избыточное внимание к неврологическим причинам душевных расстройств преуменьшает роль культуры и окружения, которые действуют вне отдельной личности, и у нас складывается впечатление, будто выявлять и корректировать внешние факторы, способствующие распространенности психических недугов, – задача второстепенная. За всеми этими сложностями стоит все та же нейроэссенциалистская тенденция, с которой мы познакомились в предыдущей главе: склонность сводить проблемы общества к проблемам мозга. В контексте душевного здоровья нейроэссенциалистский подход сказывается на исследовательских программах и медицинской практике, затрагивающих судьбы миллиардов людей.
* * *
В любой американской исследовательской лаборатории наверняка найдутся тетради в рыжих картонных обложках, в которых все биологи и химики ведут записи о своей повседневной работе. Когда молодой исследователь впервые открывает такую тетрадь, его зачастую охватывает ужас: страницы толстого фолианта из желтой миллиметровки видятся ему неподъемной глыбой работы, которую придется осилить в самое ближайшее время. Но дни идут, страницы постепенно заполняются рукописными отчетами об устройстве экспериментов, их особенностях и результатах, к которым, как правило, прилагаются вклеенные распечатки и фотографии, отражающие главные выводы. Заполненные тетради хранятся вечно, поскольку это зачастую единственный осязаемый продукт долгих и нередко изнурительных дней и ночей тяжкой работы за лабораторным столом. Если студент или молодой ученый покидает лабораторию в поисках лучшей жизни, его тетради по традиции передаются начальнику лаборатории. У меня в кабинете две полки таких тетрадей, часть из них я исписал собственноручно, когда в конце девяностых годов стал независимым молодым исследователем.
23 июля 2012 года такую тетрадь нашли в канцелярии Медицинского кампуса имени семейства Аншутц при Университете штата Колорадо[476]. Она была засунута в большой конверт вместе с пачкой обугленных 20-долларовых купюр. Открывать эту тетрадь было особенно страшно. Она была исписана патологическими измышлениями Джеймса Холмса, бывшего аспиранта-нейрофизиолога, который за три дня до этого совершил одно из самых страшных массовых убийств в американской истории в кинотеатре в колорадском городе Аврора. Холмс не передал тетрадь своим научным руководителям в университете, а послал ее вместе с обгоревшими деньгами по почте своему бывшему психиатру перед тем, как совершить преступление. И в этой тетради Холмс фиксировал не ход своих научных исследований, а свои соображения по поводу массовых убийств, от социопатических рассуждений до планов места преступления с пометками[477]. Это был отчет о пути гораздо более мучительном, чем любая череда провальных экспериментов любого, самого неудачливого ученого, – а его кульминацией стала трагедия десятков невинных людей.
Практически на каждой странице тетради Холмса можно найти свидетельства того, каким нигилистическим и деструктивным было его мировоззрение, однако, в отличие от «техасского снайпера» Чарльза Уитмена, о препарате мозга которого мы узнали из главы 7, Холмс уже пришел к выводу, что во всех его горестях виноват именно мозг. Он много раз повторял, что его мозг и разум «неисправны». Под заголовком «Самодиагностика сломанного сознания» Холмс привел список из 13 психических болезней – от дисфорической мании до синдрома беспокойных ног. Далее он раскрыл тему «ментальной поломки»:
Я пытался все исправить. Я сделал это своей главной целью, но применять поломанный инструмент для его же починки оказалось неподъемной задачей. Мне казалось, что нейрофизиология поможет мне, но к успеху это не привело. Чтобы реабилитировать сломанный разум, нужно выпотрошить душу. Я не мог принести душу в жертву ради того, чтобы получить «нормальный» разум. Несмотря на свои биологические дефекты, я бился и бился без конца. Я постоянно защищался от своей предопределенной участи и от склонности ошибаться, свойственной человеку.
Хотя тирады Холмса были во многом бессмысленны, в них все же прослеживалась основная тема: он считал себя крайне и неисправимо ущербным и душевно, и физически. После ареста Холмс все время возвращался к теме сломанного мозга во время встреч с психиатром, которого назначил ему суд. На самом суде Холмс говорил, что сломанный мозг не давал ему нормально взаимодействовать с людьми, отчего он возненавидел все человечество[478]. Холмс вовсе не отказывался лечиться от психических расстройств, охотно признавал их у себя и говорил о них с врачами. Холмс обращался к психологам и психиатрам с подросткового возраста и всего за несколько недель до преступления посещал терапевта в Университете штата Колорадо[479]. Кроме того, он принимал различные препараты, в том числе бензодиазепины – известное средство от тревожности – и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, которые часто прописывают как антидепрессанты. Холмс был уверен, что его дефекты «биологические», и даже нейрофизиологию решил изучать отчасти для того, чтобы работать с ними. Однако сознавать, что у него «болезнь мозга», было для Холмса куда мучительнее, чем, к примеру, знать, что у него какое-то респираторное заболевание или даже рак. По всей видимости, ни вины, ни ответственности за свое состояние он не ощущал, но чувствовать свою физическую неполноценность, вероятно, ему было еще тяжелее.
Кроме всего прочего, Джеймс Холмс далеко не единственный, кому пришлось страдать от стигмы «сломанного мозга». Если нам хочется познакомиться с более сбалансированной точкой зрения, чем у Холмса, стоит обратиться к Джеку Брагену, которому в 18 лет поставили диагноз «шизофрения», а сейчас он время от времени публикует статьи о душевных болезнях в местной газете в Беркли[480]. Браген пишет, как модель «сломанного мозга» применительно к душевным болезням мешает больным принять свое состояние и согласиться на лечение: «Чтобы принимать лекарства, не обязательно соглашаться, что у тебя ущербный мозг, но если не признавать неврологические дефекты, исчезает сама причина принимать лекарства»[481]. Признать, что у тебя какой-то мозговой дефект, – шаг очень трудный и, по опыту Брагена, «требует не только умения безусловно принимать самого себя, но еще и смелости и чувства собственного достоинства». Стигматизация самого себя – важный вопрос для многих людей, страдающих психическими расстройствами[482]. Психиатрические больные, которые считают, что неврологическая судьба беспощадна к ним и с этим ничего не поделаешь, зачастую опускают руки и в итоге не делают всего возможного, чтобы улучшить свое положение. Таковы трудности перевода с языка личной ответственности и силы воли на язык биологических причин и нейрофизиологии.
Хотя наука все увереннее отождествляет душевные болезни с заболеваниями мозга, имеющими биологическую основу, это, похоже, не помогает поколебать принятую в обществе стигматизацию психиатрических больных. Масштабный международный анализ перемен в отношении к душевным болезням в Европе и Америке с 1989 по 2009 год выявил, что современное общество осведомлено о неврологических причинах депрессии и шизофрении значительно лучше, однако к больным с такими диагнозами относится по-прежнему настороженно[483]. На эти результаты повлияли факторы, неочевидно противоречащие друг другу. Психолог Патрик Корриган, один из авторов исследования, считает, что биологические объяснения душевых болезней, вероятно, заставляют общество не так охотно признавать, что оно с предубеждением относится к душевнобольным. Корриган и его коллега Эми Уотсон предполагают, что «те, кто знает, что психическое расстройство – это биологически обусловленный недуг и пациент заболел помимо собственной воли, с меньшей вероятностью признаются, что сторонятся душевнобольных»[484]. Тем не менее, авторы подчеркивают, что «биологические объяснения опасны тем, что намекают, будто душевнобольные фундаментально отличаются от здоровых или в меньшей степени достойны считаться людьми». При таких обстоятельствах общество склонно считать, что душевнобольные потенциально опасны или не отвечают за себя. Это лишь обостряет стремление держаться подальше от психиатрических больных или всячески контролировать их и законодательно регламентировать их жизнь.
Именно защитой общества от дефективной биологии объяснялись кошмарные издевательства, которым подвергались душевнобольные на протяжении всей истории. В XX веке в Европе и Америке были принудительно стерилизованы тысячи людей, которых считали интеллектуально неполноценными[485]. Печально известный пример – случай Кэрри Бек. Эта 18-летняя девушка, у которой якобы был «разум девятилетней девочки», в 1924 году забеременела вне брака и в результате попала в Колонию для эпилептиков и слабоумных штата Виргиния[486]. Родных у Кэрри не было, защитить ее было некому, и после родов ей без ее согласия перевязали фаллопиевы трубы; мать девушки попала в то же учреждение несколькими годами раньше и тоже находилась на попечении штата. Кэрри Бек подала в суд и дошла до Верховного суда США, но в конечном итоге проиграла дело. Верховный судья Оливер Уэнделл Холмс посчитал, что решение о стерилизации вполне оправдано: «Будет лучше для всего мира, если общество не станет ждать, когда ему придется наказывать дегенеративное потомство за преступления или обрекать его на голодную смерть из-за полной беспомощности, а заранее лишит возможности продолжать род тех, кто для этого явно непригоден… Трех поколений неполноценных вполне достаточно»[487]. То есть даже этот юрист, отличавшийся необычайно прогрессивными для своего времени взглядами, считал душевную болезнь физическим дефектом, настолько тяжелым, что для его искоренения следовало прибегнуть к средству, которое мы сегодня считаем бесчеловечным.
В июле 1990 года в немецком городе Тюбинген прошли необычные похороны, ставшие символом крайних проявлений стигматизации душевных болезней[488]. Хоронили не человека, а собрание проб для научных экспериментов, в том числе образцы мозговой ткани, полученные от жертв фашистской программы «эвтаназии» душевнобольных. Эти пробы были зримым воплощением прямой связи между нейрофизиологией эпохи нацизма и официальной политикой массовых убийств, которая привела к гибели 70 с лишним тысяч пациентов психиатрических больниц по всей Германии и Австрии с 1939 по 1941 год[489]. Убийства стали кульминацией последовательно проводившийся нацистами агитационной кампании: в обществе внедряли представления о душевнобольных как о недочеловеках, истощавших ресурсы нации. Считалось, что душевные болезни у жертв этих убийств врожденные и неизлечимые, а их причина – наследственные биологические особенности, не соответствующие чистоте германской расы. Это избиение невинных было на руку, в частности, Юлиусу Галлервордену, неврологу-нацисту, который изучал пробы мозга больных с целью связать душевные болезни со свойствами мозга, которые лишают человека права на жизнь[490]. Говорят, что Галлерворден изучил мозг почти 700 жертв эвтаназии, и весьма вероятно, что некоторые из них были убиты исключительно ради продолжения исследований[491]. Пробы мозговых тканей Галлервордена хранились в числе прочих научных коллекций несколько десятков лет после Второй мировой войны, что поставило учреждения, которые держали их у себя, в крайне неловкое положение[492]. На месте погребения установлен мемориал, на котором высечены слова предостережения ученым, выходящим за морально-этические границы:
Сорванные с привычных мест, униженные, истерзанные,
Жертвы деспотизма или слепого закона,
Здесь они впервые обрели покой.
Наука, которая не уважала
Их прав и достоинства при жизни,
Даже после смерти решила использовать их тела.
Пусть этот камень станет напоминанием живым.
Приведенные здесь примеры – от Холмса до Галлервордена – показывают, что к болезням мозга относятся иначе, чем к болезням любого другого органа: их воспринимают так же глубоко лично и считают таким же поводом для унижения, как и царившую в прошлом и ныне развенчанную концепцию безумия. Новое определение душевных болезней как заболеваний мозга при всей своей научной точности и благонамеренности способно открыть дорогу хладнокровной дискриминации на основании нейробиологических особенностей. Поскольку обществу видится, что расстройства мозговой деятельности более устойчивы к внешним воздействиям, чем морально-этические пороки, дискриминация «по мозгу» может оказаться даже опаснее, чем моральное осуждение, с которым сталкивались прежние поколения психиатрических больных. Если у человека находят рак или сердечно-сосудистые болезни, это никак не сказывается на его чувстве собственного достоинства, в отличие от психических болезней, которые можно объяснить мозговыми дисфункциями. Нацисты истребляли не тех, у кого были метаболические или аутоиммунные нарушения, они убивали тех, у кого была шизофрения или неспособность к обучению. Если мы сводим человека к его мозгу и относимся к мозгу не так, как ко всем остальным органам, стигма «сломанного мозга» ранит гораздо больнее остальных печатей позора, которые общество налагает на болезни или недопустимые отклонения иного рода. В дальнейшем мы увидим, что новая стигма – не просто этически сомнительное отношение к людям с психическими расстройствами, но в некоторых случаях еще и безосновательное с научной точки зрения упрощенческое отношение к тому, почему, собственно, человек подпадает под определение психически больного.
* * *
В середине XIX века викторианцы с их обостренной чувствительностью считали естественным убрать неприличные душевные болезни с глаз долой. Этот рефлекс в сочетании с расширением диагностики душевных патологий как таковых привел к росту числа пациентов лечебниц примерно с 10 тысяч в 1800 году до 100 с лишним тысяч к концу столетия[493]. Чтобы вместить эту растущую популяцию, строились все новые сумасшедшие дома, однако спрос все равно сильно превышал предложение. Психиатрические больницы тех времен были полны противоречий: общие гуманные цели сталкивались с повседневной реальностью, поскольку система была перегружена. Величественная неоклассическая или неоготическая архитектура, широкие коридоры, отделанные красивой плиткой, а иногда даже просторные бальные залы – все это претендовало на аристократизм и роскошь, но в самих палатах из-за перенаселенности условия были совсем другие (см. рис. 12)[494]. Надзирали над всем этим почтенные доктора, которых называли алиенистами от французского слова «aliéné» («безумный» или просто «чужой»), что наталкивает на мысль об «отчужденной» душе, покинувшей тело страдальца. Многие методы лечения и вправду были чуждыми утонченному обществу – от широко используемых кандалов, ножных гирь, смирительных рубашек и камер с обитыми стенами до практики одурманивать пациентов бромидами – успокоительными средствами, от которых в наши дни отказались, поскольку выяснилось, что они токсичны и вызывают множество побочных эффектов[495]. Идеи Тьюка и Пинеля, которые настаивали на морально-этическом воспитании душевнобольных, шли бок о бок с куда более жестокими видами «воспитания». Скажем, на фотографии, сделанной в 1869 году в знаменитой Лечебнице для бедных душевнобольных в Вест-Ридинге, изображен старик в робе, напоминающей тюремную, привязанный к креслу за шею и за руки; несчастному сдавливают лоб обручем, и он кривится от боли. Кто хотя бы раз видел эту фотографию, уже не сможет ее забыть[496].
Рис. 12. Бальный зал в психиатрической Лечебнице Клейбери, ок. 1893 (вверху); мужчина в смирительном кресле, лечебница для бедных душевнобольных в Вест-Ридинге, 1869 (внизу). Оба снимка публикуются с разрешения Библиотеки Вэлкам в Лондоне
На взгляд современного человека, у лечебниц XIX века была и другая аномальная черта: там была несоразмерно велика доля больных, чьи недуги были вызваны соматическими или внешними причинами[497]. Сегодня большинство госпитализируемых психиатрических больных страдают шизофренией, маниакально-депрессивным психозом или тяжелой депрессией (все эти состояния часто называют болезнями мозга), а в документах XIX века приводятся всевозможные причины для госпитализации, самые странные и зачастую не имеющие отношения к мозгу: чаще всего это финансовые трудности, взрывной темперамент и мастурбация у мужчин и домашние скандалы, «женские болезни» и роды у женщин[498].
Самым страшным недугом в викторианских лечебницах для душевнобольных был так называемый прогрессивный паралич – прогрессирующая деменция и утрата моторных навыков, характерная для поздних стадий сифилиса, инфекционной болезни, передающейся половым путем[499]. Этот недуг свел в могилу композитора Роберта Шумана, о чем мы говорили в главе 5. В отчете, составленном в 1826 году, французский психиатр Луи-Флорантен Кальмей дает леденящее душу поэтапное описание этой болезни – «усиливается бред, исчезает рассудок, сужаются эмоции, пациент не узнает даже самых близких. Постепенное ослабление высших функций перемежается пароксизмальными фазами различной продолжительности, когда бред усиливается вдвое, а возбуждение достигает предела»[500]. По подсчетам, с прогрессивным параличом в британские сумасшедшие дома поступало до 20 % больных, и до появления антибиотиков в первой трети XX века болезнь была распространена на эпидемическом уровне[501]. На Континенте, а также в некоторых областях Нового Света обитателей лечебниц косила другая распространенная пагуба – пеллагра, смертоносный синдром «трех Д»: диарея, дерматит и деменция[502]. Одна из самых страшных вспышек пеллагры произошла на американском Юге на рубеже XIX–XX веков, когда болезнь, по некоторым оценкам, поразила четверть миллиона человек[503]. Впоследствии американский эпидемиолог венгерского происхождения Джозеф Гольдбергер обнаружил, что пеллагра вызывается не какой-то внешней биологической причиной, а недостатком в рационе витамина B3[504].
Итак, самые распространенные душевные болезни XIX века можно было вылечить антибиотиками и витаминными добавками, и это примечательно с двух точек зрения. С одной стороны, однозначно биологическая природа психиатрических синдромов, вызванных сифилисом и недостатком витамина B3, – и то, и другое вызывает дегенерацию нейронов центральной нервной системы – служит доказательством, что человеческое сознание имеет физиологическую основу. С другой стороны, этиология прогрессивного паралича и пеллагры – это довод против приравнивания душевных болезней к заболеваниям мозга как такового. Паралич и пеллагра воздействуют на поведение человека через мозг, но не вызваны мозгом. Подобные патологии служат примером многослойности контекста, в котором возникают различные психические расстройства. Налицо когнитивные и поведенческие отклонения, как и сопровождающие их биологические аномалии мозга. Но налицо и более широкая сеть причинно-следственных обстоятельств, в том числе не только конкретные стимулы или болезнетворные факторы, вызывающие мозговую дисфункцию, но и среда и общество, в котором все эти обстоятельства возникли. То есть прогрессивный паралич, например, – это одновременно и заболевание мозга, и инфекционная болезнь, и общественное зло. Именно об этой сложности писал польский врач и историк медицины Людвиг Флек, когда рассказывал о хитросплетениях моральных и медицинских представлений о сифилисе в эпоху до Нового времени[505].
Если в прошлом душевные болезни вызывались сочетанием внешних и внутренних факторов, то некоторые современные душевные болезни подобным же образом «делокализованы». В главах 6 и 7 мы рассматривали, в какой степени на нервную деятельность и поведение влияют факторы вне мозга. Разумеется, неудивительно, что и патологии нервной деятельности и поведения тоже объясняются сложным сочетанием факторов. Более того, есть надежные данные в пользу как внешних, так и внутренних причин душевных расстройств, из которых складывается причинно-следственная сеть, исключающая любые простые параллели между психическими нарушениями и болезнями мозга.
Хотя мы мало знаем о биологической основе большинства психических расстройств и не можем определить, «в какой степени» то или иное состояние определяется внешними и внутренними воздействиями, можно составить картину в общих чертах, если рассмотреть, как те или иные психические болезни наследуются детьми от родителей. Если болезнь наследуется так же, как, скажем, темные волосы или маленький рост, это значит, что она вызывается факторами, записанными в генах и присутствующими в ДНК в момент зачатия. Следовательно, соотнесение психических болезней с генетическими данными позволяет определить, какие болезни передаются по наследству и в какой степени[506]. Если у человека, страдающего психическим расстройством, есть однояйцовый близнец, проще всего проверить, есть ли генетический риск, узнав, есть ли такое же расстройство и у близнеца[507]. Поскольку у однояйцовых близнецов гены одинаковы на 100 %, у них должны быть и общие особенности вроде шизофрении или депрессии, если эти расстройства заданы генетически. Конечно, у подавляющего большинства людей, страдающих психическими болезнями, нет однояйцовых близнецов, однако это не мешает нам искать генетические причины подобных расстройств, а для этого изучать семейную историю: может быть, болезнь проявлялась у близких родственников. Поскольку у каждого из нас очень велика доля генов, общих с родителями, братьями, сестрами и детьми, следует ожидать, что если болезнь имеет генетическую природу, аномальные черты проявятся у родственников больного с большей вероятностью. С прогрессом технологии генетического картирования появился другой действенный способ проверить, есть ли у той или иной болезни наследственный компонент: собрать генетические данные у тысяч людей, и больных, и здоровых, и изучить, в какой степени наличие болезни соотносится с наличием того или иного варианта или набора вариантов генов. Разумеется, при подобных исследованиях очень важно исключить искажение результатов под воздействием сторонних факторов. Например, при изучении генетических факторов у близнецов важно отличать общие факторы среды от общей генетики близнецов[508]. Для этого исследователи формируют контрольные группы, например, при изучении близнецов – группы разнояйцовых братьев и сестер-близнецов испытуемых, а при изучении семей – группы приемных родственников: у членов таких групп факторы среды одинаковы с испытуемыми, а генетика разная.
Все эти методы позволили ученым вычислить, какую долю распространенности многих психических заболеваний можно объяснить вариациями генетического характера (эта величина называется наследуемость)[509]. Болезни с наследуемостью 1 объясняются исключительно генетическими особенностями, а болезни с наследуемостью 0 считаются результатом исключительно внешних воздействий. На основании надежных данных, полученных в ходе множества исследований по состоянию на 2012 год, генетики Патрик Салливан, Марк Дэли и Майкл О’Донован рассчитали наследуемость нескольких распространенных психических болезней[510]. Возглавила список шизофрения – ее наследуемость составляет 0,81; в самом низу оказалась большая депрессия с наследуемостью 0,37. У других состояний: маниакально-депрессивного психоза, СДВГ, никотиновой зависимости и нервной анорексии – значения получились промежуточные. Вывод очевиден: самые распространенные психические расстройства вызываются и генетикой, и средой, а следовательно, объяснить эти болезни одними лишь врожденными биологическими факторами не удается.
Однако в интерпретации статистики наследуемости есть свои тонкости. Например, показатель наследуемости болезни вроде большой депрессии можно толковать двояко: либо случаи болезни в целом одинаково слабо коррелируют с целым рядом генетических факторов, либо какая-то доля случаев идеально соответствует конкретным генам, а какая-то доля вообще не объясняется генетикой. Примечательно, что наследуемость не отражает специфику того, как болезни проявляются, и никогда не предсказывает, что послужит пусковым механизмом для конкретных эпизодов депрессии, маниакально-депрессивного психоза, шизофрении и т. п. у того или иного больного. Кроме того, важно учесть, что наличие или отсутствие генетических корреляций у психической болезни не гарантирует и не исключает роли биологии мозга как главной причины болезни. Гены, коррелирующие с болезнью, могут, к примеру, действовать на мозг лишь косвенно (скажем, влиять на состав веществ, определяющих физиологию эмоций, вне мозга или менять внешний вид больного таким образом, что это отражается на его социальном статусе)[511]. Напротив, отсутствие четкой связи между генами и психическим расстройством не означает, что это расстройство не вызывается в первую очередь патологией мозга. Например, черепно-мозговые травмы часто приводят к психическим осложнениям, к которым генетика не имеет прямого отношения[512]. Мозг так или иначе затрагивается при любой болезни, влияющей на поведение, но одна лишь генетика не позволяет определить, какую роль играет в этом аномалия мозга – служит главной причиной или эффектом второго порядка. Хотя генетические данные говорят, что главную роль в душевных болезнях играет среда, нам необходимо взглянуть на мир в целом, чтобы понять, какова природа этого воздействия.
Именно эту цель поставили перед собой в 30-е годы прошлого века два социолога из Чикагского университета. Незадолго до этого под эгидой университета была организована Чикагская социологическая школа – движение ученых-активистов, которые исследовали разные районы американских городов и документировали закономерности быта их обитателей. Среди этих ученых была Рут Шонли Каван, которая в 1928 году опубликовала революционную работу о повышенной частотности самоубийств «в районах преобладающей социальной дезорганизации»[513]. Ее результаты натолкнули молодого аспиранта Роберта Фэриса на мысль применить принцип Каван к исследованиям психических болезней[514]. В сотрудничестве со своим соучеником Г. Уорреном Данэмом Фэрис изучил 35 000 случаев душевных расстройств в Чикаго и окрестностях на протяжении более 13 лет. Эти данные выявили поразительную закономерность: распространенность шизофрении, самой загадочной из душевных болезней, тесно коррелировала с городской средой (см. рис. 13)[515].
Количество случаев шизофрении достигало пика в бедных районах в центре города, примерно там, где сейчас стоит зеркальная скульптура Клауд-Гейт Аниша Капура, и плавно снижалось в зависимости от расстояния от эпицентра. В благополучных зеленых жилых районах вроде Хайленд-парк на севере или Гайд-парк на юге заболеваемость шизофренией составляла всего около 20 % от данных по центру города. Этот результат никак не зависел от расы или национальности жителей разных районов. Кроме того, он относился только к шизофрении: душевные расстройства вроде депрессии или маниакально-депрессивного психоза такой закономерности не подчинялись. Фарис и Данэм опубликовали свои результаты в 1939 году в виде книги «Душевные расстройства в городских районах»[516], которая и по сей день считается вехой в развитии психиатрической эпидемиологии.
Рис. 13. Карта статистики по распространенности шизофрении в Чикаго на 1922–1931 годы, составленная Робертом Фэрисом и Г. Уорреном Данэмом по данным государственных больниц Чикаго, Элджина и Канкаки в 1939 году
К середине XX века психиатрические патологии было принято связывать в первую очередь с общественными трудностями и воздействием среды[517]. Фэриса и Данэма критиковали за то, что и они не были свободны от этого предрассудка и не учитывали данные о наследуемости шизофрении, которые в те годы уже были доступны[518]. Однако дальнейшие исследования прояснили и подтвердили многие их находки[519]. Начнем с того, что похожие корреляции между городской средой обитания и шизофренией впоследствии проявились во множестве городов в целом ряде стран. Некоторые ученые предполагали, что этот эффект объясняется «социальным дрейфом» людей, склонных к психозам, в те городские районы, где стандарты жизни ниже и больше распространена наркомания, однако эксперименты европейских ученых показали, что если человек просто родился или вырос в городе, этого уже достаточно, чтобы у него в дальнейшем повысился риск возникновения шизофрении[520]. Убедительного объяснения, почему жизнь в городе так явно связана с шизофренией, пока не найдено, но само существование этой корреляции – отрезвляющее доказательство роли среды в возникновении этой особенно разрушительной душевной болезни.
Эпидемиологи обнаружили и другие интереснейшие связи между особенностями среды и психическими недугами[521]. Например, та же шизофрения связана с принадлежностью к этническому меньшинству, особенно у иммигрантов африканского и афро-карибского происхождения и их потомков в странах с преимущественно белым населением, в отличие от исторической родины. Марихуана и другие нелегальные наркотики, по всей видимости, повышают риск шизофрении примерно вдвое. Наконец, вероятность заболеть заметно повышается у тех, кто родился зимой, неважно, в каком полушарии, что наталкивает на мысль о связи с сезонными инфекционными болезнями. А заболеваемость большой депрессией выше у безработных, в том числе и у домохозяек, которые не ищут работу[522]. Шансы заболеть депрессией у разведенных, вдовых и расставшихся с партнерами вдвое выше, чем у состоящих в браке или тех, кто никогда не был в браке, даже с поправкой на возраст и пол. У маниакально-депрессивного психоза, который сочетает в себе черты шизофрении и депрессии, прослеживаются связи с факторами, характерными и для той, и для другой болезни: он чаще встречается как у людей с низким образованием и доходом, так и среди разведенных и овдовевших[523].
Пожалуй, мы и без помощи эпидемиологов догадываемся, что душевные болезни по меньшей мере отчасти вызваны внешними обстоятельствами. Писатель Эли Визель заметил, что «в каждом из нас, и в болезни, и в здравии, есть потайной уголок, потаенная область, откуда открывается выход в безумие… Один неверный шаг, один несчастливый удар судьбы – и мы соскальзываем или падаем туда безо всякой надежды взлететь обратно»[524]. Всем нам знакомы примеры из книг, подтверждающие мысль Визеля. В полуавтобиографическом романе Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком» героиня скатывается в депрессию, когда ей отказывают в участии в программе для начинающих писателей, и это накладывается на давно появившееся у нее ощущение профессиональной и личной несостоятельности[525]. А Раскольников, герой романа «Преступление и наказание» Достоевского, переживает периоды безумия, когда осознает последствия чудовищного убийства, которое он совершил[526]. Самый знаменитый пример – шекспировский король Лир, который сошел с ума из-за черствости своих дочерей: странствовать в бурю его отправили не собственные гены, а те, кто их унаследовал[527].
Причины психических болезней не менее сложны, чем сакральный мозг: ведь это и окружение, и генетика, и биология, занимающая промежуточное положение между ними. Как мы уже знаем, больной мозг уподобляли сломанному автомобилю; но психическая болезнь больше похожа на автокатастрофу, к которой привело сразу несколько факторов. Автокатастрофа – результат сочетания разного рода отклонений у машины, водителя и дороги; так и психическое расстройство вызывается и временными особенностями мозговой деятельности, и генетической предрасположенностью, и окружением, и обществом в целом. Иногда бывает, что автомобиль попросту не приспособлен для таких дорожных условий, так и душевнобольной человек не в состоянии выстоять в тех или иных обстоятельствах или при той или иной последовательности событий, которые привели к срыву. Данные, подтверждающие, что у психических расстройств могут быть самые разные причины, не удивляют тех, кто работает с душевнобольными пациентами или сам страдает психической болезнью.
Но и здесь общую картину искажает сакрализация мозга. Если мы слишком сосредоточимся на мозге как таковом, то упустим контекст, который заставляет мозг функционировать так, а не иначе. А это игнорирует главный урок нейрофизиологии: мозг – биологический орган из плоти и крови, на который влияет континуум причин и следствий. Однако есть и более веская причина не сводить душевные болезни к патологиям одного лишь мозга, и она касается концепции психического недуга как такового.
* * *
Седьмого июля 1970 года в одном московском подвале состоялся суд над русской поэтессой Натальей Горбаневской[528]. Она уже несколько месяцев оставалась под арестом после того, как опубликовала в самиздате отчет о демонстрации против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году, в которой, кроме самой Горбаневской, участвовало еще семь диссидентов. Теперь против нее выдвинули обвинение по статье 190-1 УК СССР, в которой говорилось о «систематическом изготовлении и распространении клеветнических измышлений, порочащих советский государственный строй». Больше никаких конкретных обвинений не было, однако в любом случае защитить себя Горбаневская не могла. В это время она находилась в печально знаменитой «Бутырке», где когда-то отбывал срок сам основатель КГБ Дзержинский[529]. Более того, Горбаневскую осмотрели врачи и постановили, что она не может принимать участие в заседаниях суда по состоянию здоровья. Специалисты из Института имени Сербского – всесоюзного центра судебной психиатрии – вынесли заключение, что подсудимая «является невменяемой и нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице специального типа»[530]. Самые важные показания на процессе дал заведующий диагностическим отделением института имени Сербского Даниил Лунц. Он сообщил, что Горбаневская страдает «вялотекущей шизофренией», которая «не характеризуется грубо очерченными психотическими явлениями, такими как бред, галлюцинации и т. д.», но вызывает «специфические для шизофрении изменения мышления, эмоциональности и критических способностей». Поскольку никаких явных симптомов названо не было, адвокат Софья Каллистратова ничего не могла возразить против экспертного мнения Лунца. Но поскольку у нее был огромный опыт защиты диссидентов, она прекрасно понимала, чем чреват его вердикт. «Вялотекущую шизофрению» изобрел Андрей Снежневский, директор Института психиатрии Академии медицинских наук СССР и главнейший авторитет в советской психиатрии того времени[531]. Этот фантомный диагноз был основанием для принудительной госпитализации многих противников советского режима. Жертв на неопределенный срок помещали в психиатрические больницы по всей стране, где их изолировали от общества, били и насильно лечили. Защита Горбаневской, зная, что исход процесса предрешен, поняла, что остался только один выход – умолять. «Если моя дочь совершила преступление, приговорите ее к любому, пусть к тяжкому наказанию, но не помещайте абсолютно здорового человека в психиатрическую больницу», – просит суд мать подсудимой[532].
Горбаневская отбыла в медицинском заключении два года; ее одурманивали лекарствами, в какой-то момент она даже объявила голодовку[533]. В 1972 году она вышла на свободу, а вскоре после этого бежала во Францию, где и прожила до самой смерти – она скончалась в 2013 году[534]. Популярная певица Джоан Баэз исполнила в ее честь песню, где были такие строки: «Безумна ли ты, как они говорят, или просто всеми покинута… Я знаю, что ты никогда не услышишь эту песню, Наталья Горбаневская»[535]. Хотя это предсказание не сбылось и Наталья Горбаневская, к счастью, провела вторую половину жизни в относительном благополучии, сотни других диссидентов из стран социалистического лагеря не могли этим похвастаться. Практика принудительного психиатрического лечения политических противников сохранилась до падения СССР в 1991 году, а в других странах, как считается, принята до сих пор[536].
Советская карательная психиатрия не вызывает ничего, кроме ужаса и отвращения, и врачей вроде Лунца и Снежневского мы, естественно, считаем преступниками. Кто-то из советских эмигрантов сказал, что Лунц ничем не лучше тех врачей, которые проводили чудовищные эксперименты над узниками фашистских концлагерей[537]. Однако Уолтер Райх, профессор психиатрии и поведенческих наук в Университете Джорджа Вашингтона, придерживался другого мнения. В 1982 году он побывал в Советском Союзе и лично беседовал с Андреем Снежневским. Вскоре после этого Райх написал статью в «Нью-Йорк Таймс», где заметил, что «природа политической жизни и общественные представления в СССР таковы, что несогласие и в самом деле кажется там странным, а из-за природы диагностической системы Снежневского эта странность в некоторых случаях стала называться шизофренией»[538]. Иными словами, врачи из Института имени Сербского, возможно, ставили Горбаневской и другим политическим заключенным диагноз «вялотекущая шизофрения» из добросовестного заблуждения: по выражению Райха, они «были искренне убеждены, что диссиденты больны».
Сама возможность гипотезы Райха свидетельствует, что в концепции душевных болезней как заболеваний мозга есть фундаментальная логическая ошибка: понятие психической болезни по сути своей субъективно. В отличие от многих других заболеваний, где есть возбудитель, нагноение, новообразование или травма, которые можно найти, а можно и не найти, диагноз большинства психических расстройств основывается на мнении профессионала, который выносит суждение, и на принятые в обществе стандарты, которым человек должен соответствовать. Когда-то такие стандарты задавались неформально в виде культурных требований, приличного поведения или морального кодекса, а сегодня в США эталоны душевного здоровья кодифицированы в библии психиатрической профессии – «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам» («Diagnostic and Statistical Manual», DSM)[539]. Самое последнее, пятое издание DSM составлено международной командой, в которую вошли более 160 специалистов по психологии, психиатрии и общей медицине, а в качестве консультантов привлекли более 300 экспертов из самых разных профессиональных групп и сообществ. Приветствовалась также обратная связь от рядовых читателей[540]. В DSM-5 приведены списки признаков примерно 300 разных психических расстройств, и каждый из них – результат консенсуса отдельных специалистов и групп, работавших над проектом.
Хотя психиатрическое сообщество в целом соглашалось с перечнем основных признаков некоторых психических расстройств еще со времени первого издания, вышедшего в 1952 году, и не требовало ничего менять, границы большинства недугов оставались размытыми. Например, согласно DSM, чтобы поставить диагноз «шизофрения», нужно выявить у больного в течение одного месяца два симптома из нижеперечисленных: бред, галлюцинации, расстройства речи, расстройства поведения и отрицательные эмоции. Далее критерии уточняются: «Со времени дебюта расстройства значительную долю времени уровень функционирования должен быть ниже уровня, наблюдавшегося до дебюта»[541]. Очевидно, что период в один месяц взят произвольно, а врач-диагност должен сам решать, в какой момент произошел дебют расстройства, и оценивать тяжесть симптомов (когда, например, мечты о карьере кинозвезды переходят грань между честолюбием и бредом и когда разговоры с дорогими покойниками из духовного опыта превращаются в галлюцинацию?). Об участии социальных факторов в определении психиатрических расстройств свидетельствует и изменение классификации болезней за последние 60 лет[542]. В 1952 году в DSM было всего 106 расстройств – втрое меньше, чем перечислено в DSM-5. По пути исчезли статьи «невроз» и «гомосексуализм», однако появились «аутизм» и «синдром дефицита внимания». Отчасти эти перемены можно приписать новым научным данным, отчасти они лишь отражают сдвиг культурных представлений. В конечном итоге определение душевной болезни во многом статистическое: границы здравого рассудка зависят от нравов большинства в том или ином месте в то или иное время.
Журналист Этан Уоттерс изучил положение дел во всех уголках планеты и своими глазами увидел, насколько изменчиво восприятие душевной патологии. Он описывает экзотические психические состояния, в том числе амок – так малайцы называют внезапный приступ насилия или суицидального поведения, или зар – истерические припадки у ближневосточных женщин, которые, как правило, возникают во время ритуальных экстатических танцев и пения[543].
Уоттерс отмечает, что межкультурные исследования выявили «внушительное количество доказательств, что психические расстройства никогда не были одинаковыми во всем мире, ни по форме, ни по распространенности, а всегда вызываются и формируются этическими представлениями того или иного времени и места»[544]. А кроме того, он отмечает проникновение американской психиатрической практики в другие культуры: особенно очевидным это становится, когда в других странах принимают американскую классификацию болезней. В результате этого проникновения на смену древним местным недугам приходят психические расстройства из DSM. Как пишет Уоттерс, «горстка психических расстройств – в том числе депрессия, посттравматический стрессовый синдром и анорексия – распространяются по другим культурам со скоростью инфекционных болезней».
А если психические болезни определяются культурой, значит, любые генетические или нейрофизиологические особенности, соответствующие этим болезням, тоже подвержены культурному влиянию. Если бы советские генетики обнаружили, что вялотекущей шизофрении у диссидентов соответствуют определенные гены, обладание этими генами считалось бы фактором риска возникновения этой «болезни» у тех, у кого диссидентство еще «не проявилось». Биологи изучали бы, почему именно эти гены приводят к тому, что человек заболевает вялотекущей шизофренией. Они даже моделировали бы эту болезнь у мышей при помощи новейших молекулярных технологий – меняли бы гены мышей по образцу генов людей-диссидентов, а потом прилежно изучали бы этих мышей при помощи целого арсенала биологических методов. Такие гипотетические исследования очень напоминали бы труды многих настоящих ученых, которые сегодня работают с заболеваниями из списка DSM; вероятно, они даже принесли бы какие-то плоды. Например, выяснилось бы, что людей подталкивают к диссидентству генетически обусловленные личностные черты, вот почему у них проявляются психологические особенности, которые якобы заметили доктора вроде Снежневского и Лунца. Однако означали бы эти гены и любые связанные с ними нейрофизиологические явления, что в их основе лежит «болезнь мозга»? Не исключено, что диссидентское поведение и в самом деле связано с какими-то генетическими и физиологическими особенностями, но считать их дефектами, вызывающими болезнь, – такая же субъективность, как диагнозы врачей из Института имени Сербского.
В 1960 году психиатр Томас Сас предложил радикальное решение этого парадокса в эссе с провокационным названием «Миф о душевной болезни». Сас считал, что «идея психиатрического симптома… неразрывно связана с социальным, в том числе этическим, контекстом, в котором она сформулирована»[545]. «А для тех, кто считает психиатрические симптомы признаками болезни мозга, концепция душевной болезни избыточна и обманчива». Иначе говоря, если и в самом деле в мозге человека есть какая-то аномалия, которую можно выявить, обсуждать ее с точки зрения психики бессмысленно: ничего нового это не даст. А душевные болезни, которым не соответствуют очевидные аномалии мозга, Сас считал «житейскими проблемами», которые не следует относить к сфере медицины и лечить лекарствами и госпитализацией. В то время Саса сочли еретиком, многие коллеги-психиатры воспринимали отрицание психических болезней как безответственные нападки на свою профессию, но находились и такие, кто считал Саса защитником больных от произвола медицинского истеблишмента, а его деятельность – достойной всяческих похвал[546]. С критикой Саса можно и не соглашаться, но она в любом случае подчеркивает, к каким серьезным последствиям приводит тот или иной угол зрения на психические болезни: определение психического заболевания диктует нам, как его лечить.
* * *
Мы убедились, что психическая болезнь – явление многослойное: и проявления, и восприятие болезни зависят от факторов культуры и среды и от их взаимодействия с особенностями человеческой биологии. В той степени, в какой мы сосредотачиваемся на одном уровне и пренебрегаем другим, искажаются и наши представления о подходящих методах лечения. Например, если бы в XIX веке мы раз и навсегда решили, что прогрессивный паралич – это в первую очередь болезнь мозга, нам едва ли пришло бы в голову, что он вызывается бактериальной инфекцией и его надо лечить антибиотиками (когда они появились). Мы предпочли бы лекарства, которые непосредственно борются с дегенерацией мозга, вызванной сифилисом. В том числе, например, так называемые нейропротекторы, то есть вещества, тормозящие нейродегенерацию, – в частности, кофеин, рыбий жир и витамин Е[547]. А если бы мы решили считать эту болезнь результатом упадка нравов, как, собственно, и было до эры современной медицины, то скорее были бы склонны воспитывать у пациентов мораль и нравственность, поощрять моногамный стиль жизни и регулировать проституцию[548].
Вопрос, как лучше анализировать психические болезни, – в сущности, одна из самых спорных тем в медицине. Психиатр из Рочестерского университета Джордж Либман Энгель еще в 1977 году описал два полюса этих дебатов в своей авторитетной статье в журнале «Science»[549]. Энгель предложил биопсихосоциальную модель: следует учитывать и биологические аспекты болезни, и психологические и социальные факторы, которые влияют на восприятие симптоматики и реакцию пациента на лечение. Этот подход Энгель противопоставил биомедицинской модели, согласно которой болезнь определяется конкретной биологической причиной, как правило, на молекулярном уровне, и лечится исключительно медикаментами, хирургическими операциями и другими медицинскими методами. В этом споре Энгель отнюдь не придерживался нейтралитета: в 40-е годы еще совсем молодым врачом он занялся так называемой психосоматической медициной, которая изучает влияние социально-психологических факторов на функции организма[550]. Защищая свою специальность от напора молекулярной медицины и растущего авторитета биомедицинской точки зрения, Энгель сокрушался, что врачи в наши дни зачастую считают, будто «им не следует учитывать психосоциальные вопросы, над которыми медицина не властна и за которые она не отвечает», либо ограничиваются в своих исследованиях «поведенческими расстройствами, которые вызваны мозговой дисфункцией»[551].
Контраст между крайностями по Энгелю в некотором смысле отражает две доминирующие формы психиатрического лечения в наши дни: это разговорная и медикаментозная терапия[552]. Разговорная терапия бывает самая разная, но все ее методы призваны помочь пациентам преодолевать трудности на психологическом или социальном уровне. Это и психоаналитические подходы, сосредоточенные на выявлении бессознательных или забытых мыслей и их влиянии на эмоциональные расстройства, и более современные техники, например, когнитивно-поведенческая терапия, цель которой – отучить пациентов от непродуктивных привычек и в мыслях, и в действиях[553]. Фармакологическое лечение, напротив, непосредственно изменяет физиологические процессы в мозге. Многие медикаменты нацелены на конкретные нейрохимические процессы, в том числе селективные ингибиторы обратного захвата серотонина при лечении депрессии, а также бензодиазепины, которые действуют как седативные средства, подражая действию важнейшего тормозного медиатора в головном мозге – гамма-аминомасляной кислоты[554]. А иногда механизм действия нейрохимических веществ не известен, но их все равно прописывают, например, литий при маниакально-депрессивном психозе[555].
Последние обзоры методов лечения выявляют отчетливую тенденцию расширять применение лекарств и отходить от психотерапии. Эта статистика показывает, что в медицинской культуре усугубляется перекос, против которого протестовал Энгель еще 40 лет назад. Часто цитируют доклад компании «Medco Health Solutions», согласно которому с 2001 по 2010 год неуклонно повышалось количество американцев, и взрослых, и детей, которые принимали различные лекарства от психических расстройств[556]. За этот период доля взрослых, принимающих антидепрессанты или нейролептики последнего поколения, увеличилась примерно вдвое. Похожее исследование, проведенное в Англии, показало, что с 1998 по 2010 год лекарства от душевных расстройств выписывали все чаще – примерно на 7 % в год[557]. Тем временем исследование журнала «American Journal of Psychiatry» показало, что доля пациентов, проходивших психотерапию в связи с психическими расстройствами, с 1998 года по 2007 год снизилась с 56 %до 43 %, а доля пациентов, которых лечат медикаментами, возросла с 44 % до 57 %[558].
Едва ли можно доказать, что рост применения лекарств при психических расстройствах – это результат укрепления веры в определяющую роль биологии мозга, но такая связь представляется вероятной. Мы знаем, что просвещенность общества в области нейрофизиологии стремительно росла в тот же период, что и популярность психофармакологии. Те же обзоры, которые указали на корреляцию между склонностью верить объяснениям, основанным на мозговой деятельности, и стигматизацией психических болезней, обнаружили и корреляцию между нейрофизиологической грамотностью и относительной готовностью принимать психиатрические лекарственные препараты[559]. Логично, что если общество считает, что шизофрения или депрессия вызываются дисбалансом в нейрохимических процессах или другими дисфункциями мозга, больные охотнее соглашаются лечить свои расстройства лекарствами, которые воздействуют непосредственно на мозг. Психиатр Салли Сэйтел и психолог Скотт Лилиенфельд с этой логикой согласны, но сомневаются в результате. Они пишут, что «модель заболевания мозга сужает диапазон клинических средств» и «делает излишний упор на ценность фармацевтического вмешательства»[560]. Автор научно-популярных статей по медицине Роберт Уитакер идет еще дальше и винит расширение использования медикаментов в эпидемии психиатрических побочных эффектов. Уитакер убежден, что обществу внушают ложные представления об эффективности психофармакологии. Он говорит, что пациентов с детства приучают к мысли, что «у них с мозгом что-то не так и теперь им, вероятно, придется пожизненно принимать психиатрические лекарства, как „диабетики принимают инсулин“»[561].
Но ведь дихотомия между лекарством для мозга и разговором для сознания – ложная дихотомия, отчасти подкрепляемая сакрализацией мозга. Даже если мы признаем, что мозг играет главную роль в нашем сознании и поведении, нетрудно понять, что страдальцу должен помочь широкий спектр методов воздействия на мозг, и изнутри, и снаружи. Напротив, нельзя игнорировать тот факт, что психотерапия действует не на метафизическую душу, а на физического человека, которому полный сочувствия голос полезен не меньше, чем эффективное лекарство. «Разделение методов лечения на биологические и психосоциальные, на фармакотерапию и психотерапию, – миф, поскольку цель и тех, и других методов – нездоровое функционирование нервной системы», – разъясняют Аарон Проссер, Бартош Хелфер и Штефан Лойхт в недавней редакционной статье в журнале «British Journal of Psychiatry»[562]. Они подчеркивают, что разница просто в образе действия: лекарства обеспечивают относительно неспецифические изменения в химии мозга, а разговорная терапия – «индивидуально подобранную модуляцию» тех же биологических явлений. Это важный вывод, поскольку он ставит под сомнение идею о ненаучной природе немедикаментозных методов лечения психических расстройств, а следовательно, облегчает пациентам задачу найти тот метод лечения, который принесет им больше всего пользы.
Дихотомия между фармакотерапией и психотерапией ложна и по другой причине: ни тот, ни другой подход не рассматривает проблему психической болезни на уровне общества и культуры. И лекарства, и разговоры узко нацелены на сознание или мозг конкретного пациента, так что с давних времен почти ничего не изменилось. Однако взаимосвязь мозга, тела и окружения подсказывает, что выявление и лечение психических болезней должно происходить на уровне, выходящем за рамки внутренней жизни личности. История учит, что классические синдромы прогрессивного паралича и пеллагры не удалось бы искоренить, если бы не эпидемиологические исследования и не последовавшие за ними масштабные мероприятия в области здравоохранения. Кроме того, тесная корреляция шизофрении с детством в городе, а маниакально-депрессивного психоза – с низким доходом и образованием показывает, что роль контекста в психиатрии еще предстоит исследовать. Поэтому нельзя считать психические болезни просто проблемами индивидуального мозга или сознания: каждого больного следует рассматривать в широком контексте – где и как он живет, какие социальные силы и факторы среды действуют на него параллельно с биологическими факторами и как все это совокупно влияет на его душевное здоровье. Без эффективной работы с этими контекстуальными силами невозможно облегчить бремя психической болезни.
Если рассматривать психическую болезнь не как проблему отдельного человека, а как вопрос его жизненных обстоятельств, это станет одним из самых действенных способов ослабить стигму. Патрик Корриган и Эми Уотсон называют такие контекстуальные картины психиатрических расстройств психосоциальными – то есть пользуются старым термином Энгеля, но опускают «био». «Мы не утверждаем, что психическая болезнь подобна любой другой медицинской проблеме, – говорят исследователи. – Психосоциальная картина психической болезни делает упор на стрессогенные факторы среды и травму как на главные причины недуга»[563]. Корриган и Уотсон цитируют несколько исследований и пишут, что «в противоположность биологической аргументации, психосоциальное толкование душевной болезни, как выяснилось, сильно улучшает имидж больного и уменьшает страх заболеть». Вместо того чтобы дегуманизировать больных, обвиняя во всем «сломанный мозг», и ставить их вне закона, осуждая за «нравственное уродство», психосоциальное толкование рисует душевную болезнь как «понятную реакцию на житейские события».
В наши дни, вероятно, распознавать факторы среды и общества, влияющие на психическое здоровье, и работать с ними стало легче благодаря достижениям науки и техники. Об этом заговорили, в частности, в 2015 году, когда Томас Инсел, в то время – глава Национального института психического здоровья, потряс коллег заявлением, что покидает свой пост и уходит в технологический гигант «Google». Свое решение Инсел обосновал тем, что давно мечтает задействовать Интернет для усовершенствования диагностики и методов лечения. «Технология способна обеспечить почти весь диагностический процесс, поскольку можно применять датчики и собирать объективную информацию о поведении», – говорит Инсел, намекая, что подобные измерения, вероятно, придут на смену диагнозам по DSM[564]. Сеть взаимосвязанных датчиков поможет распознать неуловимые колебания в голосе или поведении человека, которые просигнализируют о начале психического расстройства. «Кроме того, многие методы лечения психических болезней – это психосоциальные интервенции, а их можно делать и при помощи смартфона», – добавляет Инсел. Особенно настойчиво он советует проводить дистанционно, при помощи смартфонов и планшетов, сеансы когнитивно-поведенческой терапии, поскольку это снизит барьеры, мешающие получить лечение[565].
Вокруг интернет-методов в психиатрии ведутся жаркие споры, особенно по вопросу о распознавании психических болезней при помощи онлайн-наблюдения за поведением человека. Например, депрессию можно выявить и диагностировать на основании закономерностей пользования Интернетом, а возможно, и по содержанию поисковых запросов. Психологи Эдриен Уорд и Пьеркарло Вальдесоло пишут, что «частый обмен файлами, интенсивная электронная переписка по почте и в чатах, склонность быстро переключаться с сайта на сайт или на другие онлайн-ресурсы – все это указывает на риск возникновения симптомов депрессии»[566]. Можно было бы задействовать подобные данные для выявления тех, кому нужно медицинское обследование, если бы не очевидные сложности, связанные с охраной частной жизни. Однако, если выйти на уровень выше, мы столкнемся с менее спорной мыслью, что можно анонимно соотносить данные о поведении в Интернете и его патологических закономерностях с общественными факторами и особенностями среды – характеристиками тех или иных регионов, экономическим положением, культурными нишами и т. п. Тогда интернет-скрининг послужил бы своего рода переписью психического здоровья населения, причем его чувствительность к самым разным критериям была бы несравнимо выше, чем у любого доступного в наши дни опроса. Так могут выглядеть современные классические исследования по психиатрической эпидемиологии, которые с небывалой ясностью покажут, что психическое здоровье – это не просто «сломанный мозг» конкретного человека, а феномен гораздо более масштабный, зависящий от ментального ландшафта, в котором обитают люди во всем мире.
Технология способна стать инструментом, который позволит понять, как взаимосвязан мозг со здоровьем и с болезнью, что он дает и что он получает в обоих случаях. Если мы высветим причинно-следственную сеть, окружающую каждого из нас, то технология в этой роли поможет преодолеть представления, что наш мозг не более чем физический аналог независимой души, в наличие которой у себя мы когда-то верили. Кроме того, технология может стать инструментом целенаправленного изменения мозга и его функционирования, о чем уже несколько десятилетий постоянно пишут фантасты и футуристы. Из следующей главы мы узнаем, как сакрализация мозга питает подобные фантазии и в чем она их ограничивает.
Глава девятая Нейротехнологический беспредел
Первый в мире Супермен обладал суперсилой, поскольку согласился изменить свой мозг. Еще до появления Кал-Эла, загадочного пришельца с другой планеты, который благодаря земному Солнцу обрел способности, и не снившиеся простым смертным, создатели комиксов придумали Билла Данна – жалкого землянина, который превратился в трансчеловека, выпив снадобье, изготовленное другим землянином[567]. Дело было в разгар Великой Депрессии, Данн стоял в очереди за бесплатной едой, и его наугад выхватил оттуда беспринципный химик по фамилии Смолли. Ученый посулил сытно накормить бездомного, и тот согласился пойти к нему домой – а там его опоили психотропным зельем, которое Смолли только что изобрел. Сначала Данну стало плохо, у него начались галлюцинации, но потом он пришел в себя и обнаружил, что обрел сверхспособности – стал телепатом и ясновидящим. «Я – словно губка, которая впитывает все тайны на свете, – заявил новоявленный Супермен. – Я познал все науки, и самые глубокие вопросы для моего неимоверного интеллекта – детская игра. Да я же бог!»
Данн-Супермен быстро учится пользоваться своими новообретенными талантами, но, как правило, за чужой счет. Он внушает окружающим желание одаривать его деньгами. Продавщица в магазине безо всяких вопросов вручает ему 10 долларов, а вскоре один богатей выписывает ему чек на 40 тысяч долларов (на наши деньги 700 тысяч), хотя даже никогда его не видел. Поскольку Супермен предвидит будущее, он крайне удачно вкладывает деньги. Но чем больше он уверен в своих силах, тем разрушительнее становятся его поступки. Он убивает Смолли и пытается развязать глобальный конфликт, раскрыв все дипломатические карты в вымышленной Лиге Наций. Затем Данн едва не убивает незадачливого журналиста, которого отправили выяснить, кто он такой, – и тут действие зелья внезапно начинает слабеть. Данн превращается обратно в несчастного бездомного, и последнее пророческое видение, которое ему предстает, – это зрелище его самого в очереди за бесплатной едой.
Странная история Билла Данна появилась в 1933 году в самодельном малотиражном журнале в виде девятистраничного комикса под названием «Владычество Супермена» («The Reign of the Superman»). Придумали и опубликовали его два старшеклассника по имени Джером Сигел и Джо Шустер. Два года спустя друзья переосмыслили образ своего Супермена и превратили его в того самого Человека из стали, которого мы знаем и любим, в 1938 году продали свою идею в издательство «Detective Comics» – а что было дальше, всем известно[568]. Слава супергероя с Криптона росла и ширилась, и о его скучноватом прототипе все забыли. Однако давняя история о заурядном человеке, который стал незаурядным благодаря технологическому воздействию на мозг, сказка, которую придумали два подростка, в наши дни мощно резонирует с надеждами и страхами нашей эпохи – эпохи, когда футуристические технологии модификации и управления нервной системой человека все чаще воплощаются в реальность.
Среди чудес современной нейротехнологии – таблетки, которые делают людей умнее, устройства, которые на расстоянии следят за нервной деятельностью или стимулируют ее, и генетические методики, способные влиять на структуру мозга как такового[569]. Легко представить себе подобные инструменты в арсенале героя или антигероя из комикса, и история Сигела и Шустера подсказывает, что здесь может пойти наперекосяк: ведь перечень опасностей отнюдь не исчерпывается экспериментами над людьми и бессовестной эксплуатацией достижений науки и техники ради личной выгоды и в ущерб окружающим. В реальном мире нам следует очень тщательно обдумывать, как применять новинки нейротехнологии, чтобы никому не навредить и не нарушить моральный кодекс. Кроме того, мы должны выбирать, какие технологии нам следует разрабатывать и с какой целью. Что нам делать – стремиться к созданию настоящих суперменов или любыми средствами ограждать себя от их появления?
В этой главе мы рассмотрим, как сакрализация и идеализация мозга влияет на наши представления о нейротехнологии. Мы увидим, как сакрализация усиливает соблазн искусственного вмешательства в мозговую деятельность, но при этом способствует искусственному разделению между технологиями прямого и косвенного воздействия на мозг. Более приземленный подход к мозгу и его отношениям с организмом и средой, скорее всего, размыл бы подобные разграничения и изменил нашу точку зрения на нейротехнологию и ее развитие, а главное, побудил бы нас уделять больше внимания социальным вопросам, связанным с теми нейротехнологическими факторами, которые манипулируют нашим мозгом не так явно.
* * *
Пожалуй, самый яркий пример того, как соблазнительна и опасна нейротехнология, – идея «хакнуть мозг», о которой в последние годы так часто твердят в популярных СМИ, что это стало мемом[570]. Надежды и тревоги, связанные с этой мыслью, отражают популярное, но сомнительное представление, что целенаправленное изменение человеческого мозга – это практический способ изменить жизнь человека. В статье в «Atlantic», опубликованной в 2015 году, которая так и называется – «Как хакнуть мозг», журналист Мария Конникова непосредственно связывает это выражение с футуристической целью развить человеческий интеллект до нечеловеческих масштабов[571]. Другие авторы делают упор на предпринимаемые уже сейчас попытки повлиять на поведение при помощи электрической или магнитной стимуляции мозга. Тем или иным разновидностям мозгового хакерства посвящено множество лекций из модной серии TED – об этом говорил и нейрохирург Андрес Лозано, чье выступление посвящено тому, как хакнуть мозг, чтобы укрепить здоровье, и фокусник и гипнотизер Кейт Берри, которого нам следует «считать… хакером человеческого мозга»[572]. Тон таких выступлений, как правило, ликующий: «Неужели нужны еще доказательства, что будущее уже настало?» – вопрошает веб-сайт TED[573]. Но есть и те, у кого все это не вызывает особого энтузиазма. Скажем, та же Мария Конникова задается вопросом, не приведет ли мозговое хакерство к «дистопии, в которой судьба человека полностью определяется доступом к технологии усиления когнитивных способностей» или к ситуации, когда «какой-нибудь Большой Брат получит контроль над нашим сознанием».
Хакнуть – это современное, живое слово, и коннотации у него такие же неоднозначные, как у самой этой идеи. С моей точки зрения слово «hacking» в первую очередь означает применение грубой силы и наводит на мысли о тесаках, мачете, серпах и их применении в контексте вроде мясницкой лавки, вырубания джунглей и геноцида в Руанде. А мои студенты из Массачусетского технологического института прежде всего вспоминают о компьютерном взломе. В университете, где пять из десяти самых популярных курсов так или иначе относятся к программированию, хакерство понимают как относительно безобидную в большинстве случаев шалость, развлечение для одержимых компьютерщиков, которые соревнуются друг с другом, кто незаметнее проникнет в чужую систему безопасности, программное обеспечение или «железо» и остроумнее поменяет там что-нибудь. Студенты Массачусетского технологического института славятся своими хакерскими навыками и зачастую проделывают высокотехнологичные фокусы, чтобы произвести впечатление на соучеников, а иногда и на кого-то вне университета[574]. Вот, например, однажды наши хакеры отправили полицейскую машину на самый верх Большого купола на территории кампуса, а в другой раз украли у соперников из Калифорнийского технологического их знаменитую пушку, символ университета, и установили ее у себя. Казалось бы, эти противоположные значения слова «hacking» связаны очень слабо, но и то, и другое предполагает вторжение и бесцеремонность. Например, хакнуть чей-то айфон не значит расколоть его пополам, но все же предполагает, что кто-то грубо вторгается в запретное для него пространство программного обеспечения устройства. Хотя хакнуть что-то шутки ради совсем не так жестоко, как рубить тушу тесаком, это тоже зачастую делается безо всякой деликатности и любыми доступными средствами.
Наверное, большинство из нас считает, будто «хакнуть мозг» ближе к цифровому определению хакерства: так и видишь, как кто-то вторгается в мозг и управляет им, подсоединив его проводками к каким-то рукотворным устройствам со сложными сканерами. Поэтому идея мозгового хакерства подпитывается вездесущей аналогией «мозг-компьютер», которую мы рассмотрели в главе 2. Хакнуть мозг – это даже шикарно и модно: ведь здесь умелое применение последних технических новинок сочетается с остроумием шутников из Массачусетского технологического. Но на самом деле крови и грязи тут тоже предостаточно. Ведь чтобы хакнуть мозг, нужно так или иначе атаковать его – или физически, в ходе хирургической операции, когда нарушается сама структура биологических тканей, либо менее инвазивными методами вроде фМРТ, которые тем не менее вторгаются в укромные уголки мозга. Так что хакнуть мозг – это не обязательно мило и симпатично.
Чаще всего манипуляции на мозге проводятся по медицинским показаниям. Более ста лет врачи для лечения самых разных неврологических и нервно-психиатрических болезней, а также опухолей мозга практиковали исключительно резекционную нейрохирургию – рассечение мозговых структур. Самая печально знаменитая резекционная операция – префронтальная лоботомия, применявшаяся ранее для лечения шизофрении. В наши дни от нее отказались. Эту процедуру разработал в 30-е годы прошлого века португальский нейрохирург Антониу Эгаш Мониш[575]. В ходе лоботомии перерезают белое вещество лобных долей мозга, разрушая нервные связи между этими областями и остальной корой головного мозга. В некоторых случаях это смягчает симптомы психоза, но лишь ценой значительного риска для оперируемого. Один вариант операции предполагает, что хирург при помощи молотка вбивает в глазницу пациента длинную металлическую иглу, а затем, покачивая ею, рассекает глубинные мозговые структуры: «hacking» в самом буквальном смысле слова (см. рис. 14)[576]. Около 5 % больных умирали во время операции, более чем у каждого десятого развивались послеоперационные судорожные припадки, а многие другие впадали в кататонию или теряли интерес к окружающему[577]. Тем не менее лоботомии подвергались тысячи пациентов до конца 60-х годов, в том числе и знаменитости – сестра Джона Ф. Кеннеди Розмари и первая леди Аргентины Эва Перон (Эвита)[578].
Рис. 14. Мозговое хакерство – технологии прошлого и настоящего. Слева вверху: схема трансорбитальной лоботомии, разработанная хирургом Уолтером Фрименом (W. Freeman, «Transorbital leucotomy: The deep frontal cut», «Proceedings of the Royal Society of Medicine» 41, 1 Suppl [1949]: 8–12, ©1949, The Royal Society of Medicine; (печатается с разрешения SAGE Publications, Ltd.); справа вверху: хирургические инструменты для лоботомии по Фримену (Библиотека Вэлкам, Лондон); слева внизу: Кэти Хатчинсон управляет протезом руки при помощи нейрокомпьютерного интерфейса; справа внизу: крупный план электродов «BrainGate», имплантированных в мозг Кэти Хатчинсон. (Изображения в нижнем ряду публикуются с разрешения braingate.org)
Лоботомия впала в немилость около полувека назад, однако очень похожие на нее формы хирургического мозгового хакерства широко применяются и сегодня. Чаще всего резективным процедурам подвергаются больные эпилепсией, у которых судорожные припадки не удается контролировать лекарствами; ежегодно проводятся сотни таких операций. В тех случаях, когда причиной судорог становится очаг патологической активности в конкретных областях мозга, врачи пытаются ограничить частоту или тяжесть приступов, разрушив сам очаг или нервные связи вокруг него. Хотя современные операции при эпилепсии приводят к существенным осложнениям меньше чем в 10 % случаев, в прошлом у этого метода бывали просто поразительные провалы. Самый знаменитый случай – история Генри Молисона, которому в 1953 году при операции по поводу эпилепсии удалили правый и левый участки гиппокампа, лишив его краткосрочной памяти до конца дней[579]. Случай Молисона натолкнул ученых на пересмотр представлений о роли гиппокампа в формировании памяти – и в очередной раз подчеркнул, как опасны подобные инвазивные методы.
Современные формы хакерства по медицинским показаниям в дополнение к скальпелю нейрохирурга предлагают более тонкие подходы. Большую популярность завоевала техника глубокой стимуляции мозга, которую применяют для лечения двигательных нарушений, в том числе болезни Паркинсона, и обсессивно-компульсивного расстройства; на сегодня этой процедуре подверглись свыше 100 тысяч больных[580]. Глубокая стимуляция мозга предполагает введение электродов в мозг через крошечные отверстия, высверленные в черепе. Каждый электрод подкожными проводами соединен к имплантированному модулю управления размером с печеньице, и этот модуль регулярно посылает по проводам слабые импульсы электрического тока, понемногу подпитывая энергией нейроны в окрестностях кончика электрода. Считается, что метод глубокой стимуляции мозга, как и резективная хирургия, в первую очередь направлен на дезактивацию тканей в окрестностях зоны вмешательства, однако это воздействие обратимо и может применяться лишь по необходимости. Экспериментальные методы мозгового хакерства применяют электроды и для стимуляции, и для записи сигналов из мозга пациента. Полученную информацию применяют для контроля над методами вроде глубокой стимуляции в реальном времени[581]. Кроме того, записи мозговой деятельности помогают парализованным пациентам взаимодействовать с протезами и другими внешними устройствами при помощи так называемых нейрокомпьютерных интерфейсов[582].
Блистательной демонстрацией успеха этой технологии стал смелый эксперимент нейрофизиологов Джона Донохью, Ли Хохберга и их коллег. Они вживили комплект из 97 микроэлектродов в кору головного мозга парализованной женщины по имени Кэти Хатчинсон[583]. Нейрокомпьютерный интерфейс позволил пациентке силой мысли управлять роботизированной рукой, и она впервые после тяжелого инсульта, который поразил ее 15 лет назад, смогла самостоятельно попить кофе (см. рис. 14).
Прорывы вроде случая Кэти Хатчинсон будоражат воображение и подливают масла в огонь восхищения мозговым хакерством. Управлять механическим устройством при помощи одной лишь нейронной активности достойно супергероя – Кэти Хатчинсон для нас почти как Чудо-Женщина, которая силой мысли управляет невидимым самолетом[584]. Вдруг подобные суперсилы поджидают и нас с вами прямо за углом? На такие мысли наталкивают и исследования, не имеющие прямого отношения к лечению больных. Скажем, исследователи из Вашингтонского университета при помощи электроэнцефалограммы (ЭЭГ) контролировали устройство для транскраниальной магнитотерапии (ТКМТ), которое при помощи прицельных магнитных эффектов дезактивирует участки мозга под самым черепом[585]. Ученые подсоединили аппаратуру для ЭЭГ и ТКМТ к двум испытуемым, находившимся в разных комнатах, и оказалось, что человек, к которому подсоединены электроды для ЭЭГ, может удаленно вмешиваться в мозговую деятельность второго участника – то есть исследователям удалось наладить коммуникацию между двумя мозгами, пусть и очень примитивную, но все же напоминающую телепатическую связь между талосианами в «Звездном пути»[586]. В прессе широко освещался и другой случай, когда нейрофизиологи из Калифорнийского университета в Беркли при помощи компьютерного алгоритма реконструировали видео по сканам фМРТ, снятым, когда испытуемый смотрел это видео[587]. Исследователи получили размытую версию оригинального видеоролика, и это вызвало разговоры, что подобные методы можно применять как рудиментарную форму чтения мыслей. «Человеческий мозг, подобно компьютеру, беззащитен перед хакерскими атаками», – говорилось в одной статье об этой работе[588].
Целая когорта самопровозглашенных технопророков предсказывает, что нынешние методы мозгового хакерства вскоре превратятся в еще более фантастические инновации, о которых мы еще не догадываемся. «Пройдет 20 лет, и у нас появятся нанороботы, которые проникнут в мозг по капиллярам и в сущности соединят нашу кору головного мозга с синтетической корой в облаке, таким образом расширив ее», – предсказывает Реймонд Курцвейл, писатель и инженер[589]. Курцвейл считает, что грядущее слияние человеческого интеллекта с искусственным радикально изменит положение человека в мире благодаря синтезу, который сам ученый и его последователи называют сингулярностью[590]. Ему вторит Митио Каку, физик и популяризатор науки: «Может быть, когда-нибудь ученые создадут „Интернет разума“, или мозговую сеть, с помощью которой мысли и эмоции будут рассылаться по всему миру. Даже сны можно будет записывать и затем отсылать „мозгопочтой“ по сети», – пишет он, вероятно, вспомнив эксперимент по реконструкции видео, проделанный в Беркли[591]. Многие скептически относятся к подобным предсказаниям, однако смелые прогнозы Курцвейла и Каку все же привлекают внимание.
Футуристические перспективы мозгового хакерства затрагивают даже военных. Можно относиться к этому как угодно, но командование давно уже интересуется отнюдь не только возвращением в строй раненых солдат. Агентство DARPA (Управление перспективных исследовательских программ в области обороны), финансирующее самые смелые армейские проекты, отчасти рассчитывает задействовать нейрофизиологию для «оптимизации человеческих способностей и поведения» на поле боя[592]. Другой крупный прорыв намечается в области «понимания и улучшения взаимодействий между биологическим и физическим миром в целях создания бесшовных гибридных систем». Чтобы развеять всякие сомнения по поводу того, для чего нужны такие системы, команда инженеров из DARPA подсоединила полностью парализованную ниже шеи женщину по имени Джен Шойерман к нейрокомпьютерному интерфейсу – примерно как у Кэти Хатчинсон; инженеры показали, что Джен может двигать роботизированной рукой, а затем сделали так, чтобы она силой мысли управляла симулятором F-35, самого современного боевого самолета в распоряжении министерства обороны США. Директор DARPA Арати Прабхакар рассказала об этой живой Чудо-Женщине на конференции «Будущее войны» в 2015 году. «Теперь мы видим будущее, где мы сумеем освободить мозг от ограничений человеческого организма», – гордо заявила Арати Прабхакар[593]. Сама мысль избавить мозг от бренного тела, хакнув его, отражает увлечение и восхищение нейротехнологией в современном мире. Но еще эта мысль коренится в сакрализации мозга и влечет за собой три заблуждения, связанные с проблемами, которые мы с вами обсуждали на страницах этой книги. Во-первых, это мысль, что мозг в принципе можно отделить от остального организма – идея, ясно показывающая, что мозг стал заменителем бестелесной души дуалиста. Из главы 5 мы узнали, что это неверно не только с философской, но и с биологической точки зрения, – такая концепция противоречит тому факту, что человеческое поведение во многом строится на взаимодействии мозга и тела. Второе заблуждение – подспудное ощущение, что мозг сильнее тела и у него меньше ограничений. В главе 2 приводится критика дискурса, согласно которому у тела и мозга принципиально разный образ действия – мозг более абстрактный и словно бы неорганический. На самом деле биологические субстраты мозга и организма в целом имеют качественно одинаковые слабые стороны – в том числе ограниченную силу и выносливость, а также восприимчивость к травмам и инфекциям и подверженность старению.
Третье заблуждение – мысль, что хакнуть мозг – это хороший способ избавиться от всех ограничений разом. На практике для этого не создано ни одного подходящего устройства. Конечно, от последних побед человеческой нейротехнологии захватывает дух, но все они в той или иной степени ограничены, поскольку хакерство предполагает не только метафорическое, но и физическое насилие. Даже при неинвазивных манипуляциях вроде ТКМТ, говорят, возникает такое чувство, будто у тебя в голове долбит дятел, а грубое подобие телепатии, для которого они требуются, похоже, плохо заменяет старую добрую речь[594]. А более осмысленное неврологическое вмешательство требует рискованных операций на мозге, на которые никто не согласится без крайней необходимости. Тяжелым инвалидам эти технологии позволяют лишь восстановить некоторые функции, да и то отчасти. Способность управлять протезом руки или улучшить свое состояние при помощи глубокой стимуляции мозга – крупный успех только для человека, который до этого был совершенно беспомощен, и любой здоровый подросток с джойстиком управляет симулятором F-35 лучше Чудо-Женщины из DARPA. Естественно, стоит и дальше работать над технологиями реабилитации больных при различных болезнях и черепно-мозговых травмах, однако потенциал применения таких устройств для того, чтобы расширить возможности здорового мозга, пока видится лишь в отдаленной перспективе, да и вообще это как-то малопривлекательно и даже опасно. Тем не менее нейрофизиологическим фантазиям, подкрепленным сакрализацией мозга, отведено особое место в мечтах тех, кто размышляет об эволюции человечества как биологического вида, и вскоре мы в этом убедимся.
* * *
Кого только не было в списке кандидатов на президентских выборах США 2016 года[595], но самой необычной кандидатурой, пожалуй, был все-таки Золтан Иштван. Иштван – основатель первой политической партии, связанной с так называемым трансгуманистским движением, и кандидат от нее. Он представляет «растущую группу, состоящую из футуристов, борцов за увеличение продолжительности жизни, биохакеров, технологов, сторонников теории сингулярности, крионицистов, технооптимистов и многих других людей научного склада ума», которые всячески стремятся победить смерть и приветствуют радикальные технологические перемены[596]. «Кому не хочется, чтобы его жизнь стала лучше благодаря достижениям науки и техники?» – спрашивает Иштван[597]. Трансгуманистская партия не набрала нужное количество голосов ни в одном из штатов, однако заранее обреченная на провал заявка Иштвана все же попала в выпуски новостей на самых популярных каналах, получила поддержку Роберта Ф. Кеннеди-третьего и завоевала более 20 000 подписчиков в «Твиттере»[598].
Иштван – в прошлом журналист, и его квадратная челюсть и атлетическое сложение никак не соответствуют его приверженности делу, подобающему скорее хилякам-отличникам. Будущий политик впервые заявил о себе публично в 2013 году, когда опубликовал роман «Ставка на трансгуманизм», где рассказывается о правителе-философе по имени Джетро Найтс, который вводит мир в эпоху мира, технофилии и небывалого долголетия[599]. У Найтса, как и у его реального предшественника-философа Иммануила Канта, есть категорический императив – золотое правило, которое велит ему и его соратникам-трансгуманистам «беречь собственную жизнь превыше всего остального». Они уверены, что никакой загробной жизни не будет, и поэтому решают сделать все возможное, чтобы достичь бессмертия. Герой Иштвана приходит к мысли, что «самое разумное и самое важное направление поисков бессмертия – соединение нейронов мозга с компьютерной электроникой с целью скачать человеческое сознание». В идиллическом обществе, которое строит Найтс, у каждого в голове вживлен компьютерный чип, который позволяет мгновенно общаться с другими людьми и устройствами. «Чтобы сохранять молодость и здоровье и быть конкурентоспособными, – пишет Иштван, – люди тратили деньги на функциональное усовершенствование своих тел и на улучшение функционирования мозга, а не на одежду, машины и другие материальные блага». Смартфоны и компьютеры интегрировались в нейронную сеть мозга, поэтому все «постоянно общались, постоянно учились и постоянно развивались».
Нейротехнологии вроде тех, о которых пишет Иштван, глубоко вплетены в ткань трансгуманизма, что показывает, как идеализация мозга формирует весьма смелые представления о будущем, где главной целью человека и общества станет улучшение когнитивных способностей личности. Вдохновитель трансгуманизма Роберт Антон Уилсон более 30 лет назад писал о грядущей «интенсификации интеллекта», которая «расширит сознание и восприимчивость к сигналам и информации»[600]. Уилсон полагал, что «Интенсификация интеллекта достижима, поскольку достижения современной нейрофизиологии показывают нам, как изменить любой рефлекс, возникший в результате импринтинга, обусловливания или обучения и прежде нас ограничивавший». Воплощение нейрофизиологических знаний в виде инженерных имплантатов и интерфейсов предсказал еще в конце 80-х Ферейдун М. Эсфендиари, иранский баскетболист, участник Олимпийских игр, который стал первым в мире самопровозглашенным трансгуманистом и сменил имя на FM-2030[601]. В воображении людей вроде FM-2030 футуристические инструменты мозгового интерфейса – это не только усовершенствованные нейрокомпьютерные интерфейсы, напоминающие кинотрилогию «Матрица» и боргов из «Звездного пути», но и нанороботы, которых мы уже упоминали[602]. Нанороботы будут так малы, что смогут свободно плавать по всему организму и взаимодействовать с отдельными клетками мозга[603]. Хотя некоторые эксперты по нанотехнологиям сомневаются, что создавать распознаваемых роботов таких размеров физически возможно, и Рей Курцвейл, и другие футуристы, похоже, твердо верят в могущество подобных устройств[604]. Даже Николас Негропонте, специалист по информатике из Массачусетского технологического института и в прошлом руководитель его знаменитой Медиа-лаборатории, когда-то рекламировал потенциальные возможности нейро-нанороботов и утверждал, что «теоретически возможно загрузить к тебе в кровоток всего Шекспира, и крошки-роботы доберутся до разных областей мозга и поместят туда кусочки Шекспира или кусочки французского, если ты хочешь выучить французский»[605]. Разумеется, такие рейдерские налеты на сознание могут привести к любым результатам, отнюдь не обязательно благоприятным. Веб-сериал «H+: Цифровой сериал» рассказывает об эпидемии нейрокомпьютерных наноинтерфейсов, которые атакуют мозговые имплантаты и поражают всех модифицированных людей, которые ими обладают[606].
Многие трансгуманисты, как и литературный Джетро Найтс, уверены, что через мозг пролегает и путь к бессмертию. В общественном сознании бытует убеждение, что достичь бессмертия можно, если скачать все содержимое мозга человека и загрузить его в новое тело или, скажем, в симулированную среду. Мозг снова функционально приравнивается к душе, самодостаточной и отделимой от тела. «Перезагрузка – это шаг к постгуманизму, – говорит идеолог трансгуманизма Наташа Вита-Мор. – Это копирование и передача мозга, когнитивных качеств человека, в небиологическую систему, например, в компьютерную… И вы окажетесь в совершенно иной Вселенной из цифровой материи. Это будет очень красивая симулированная среда»[607]. Многие исследователи, чтобы обеспечить такую перезагрузку, делают ставку на полный анатомический анализ мозговых тканей – коннектомику, хотя современные методы не позволяют даже приблизиться к решению задачи о полном сканировании мозга, не говоря уже о симуляции соответствующих биологических процессов[608]. А чтобы скоротать время до тех пор, когда технический прогресс догонит их ожидания, некоторые трансгуманисты обращаются к крионике как к средству законсервировать мозг после телесной смерти. В главе 5 мы познакомились с фондом «Alcor Life Extension Foundation», который за 80 000 долларов предлагает заморозить мозги клиентов и хранить их неопределенно долго[609]. Глава фонда – Макс Мор, муж Наташи Вита-Мор, философ-трансгуманист, который завещал заморозить и свой собственный мозг после смерти[610]. Одним из первых клиентов «Alcor» был и трансгуманист-первопроходец FM-2030, которому, увы, не удалось осуществить свою мечту о бессмертии: он скончался от рака поджелудочной железы в возрасте 69 лет[611]. Его замороженная голова вот уже почти 20 лет мокнет в баке с жидким азотом в штаб-квартире «Alcor» в городе Скоттсдейле в штате Аризона[612].
Поиски путей к улучшению когнитивных способностей и бессмертию через технологии, связанные с мозгом, тоже свидетельствуют о сакрализации мозга и отрицании нашей биологической природы, причем все это доведено до абсурда. Мозгу приписывается способность стать порталом на высший план человеческого бытия, и он обретает статус религиозной сущности. Поскольку человек якобы может улучшить и продлить жизнь благодаря нейротехнологии, из этого не просто следует, что личность приравнивается к мозгу: такое мировоззрение предполагает, что можно манипулировать существованием человека, манипулируя только мозгом, а это уже солипсизм. Такой подход в целом игнорирует сложную текстуру внутренней жизни человека, все ее взаимосвязи со средой и обществом, и опошляет все проблемы человеческого общества, поскольку сосредоточен на индивидуальных экзистенциальных вопросах, интересующих в основном людей благополучных. «Даже в тех случаях, когда говорится о пользе [трансгуманистических нововведений] для общества, эта польза воспринимается скорее как кумулятивный результат улучшения жизни отдельных людей», – пишет специалист в области этики Лаура Карбера[613]. И в самом деле, трудно найти место коллективным ценностям – равенству, эмпатии и альтруизму – в трансгуманистской культуре, где каждый в первую очередь стремится защитить свое личное существование, а в особенности существование своего мозга.
Такая позиция не так уж далека от настроений большинства, как может показаться на первый взгляд. Хотя трансгуманисты пока что маргиналы, у этой группы обширные связи с различными профессиональными сообществами. На недавних конференциях трансгуманистов выступали выдающиеся нейрофизиологи, над достижением трансгуманистских целей, возможно, трудятся несколько светил биологической науки. Как мы уже видели, трансгуманистские идеи сильно влияют на деятельность военных агентств вроде DARPA. О растущей популярности трансгуманистских целей говорят и некоторые тенденции в области крупного бизнеса – в частности, гиганты Кремниевой долины все чаще делают инвестиции в исследования по борьбе со старением[614]. Даже за пределами этих силовых центров заметная доля обывателей поддается трансгуманистическим соблазнам в надежде стать умнее и прожить дольше. Да и вообще многие цели трансгуманистов не так уж отличаются от целей современной медицины и образования в широком смысле слова. Другое дело – средства, при помощи которых трансгуманисты рассчитывают улучшить человеческую породу: как они соотносятся с более практичными современными альтернативами?
Есть несколько причин выступить против трансгуманистских идей улучшения человеческой расы посредством целенаправленных технических изменений организма (в противоположность тому, чтобы позволить естественному отбору сделать свое дело). Нет недостатка в культурных табу, запрещающих «играть в бога» с человеческим организмом, однако есть возражения и более общие – они основаны на принципе непредвиденных последствий: грубое вмешательство в проверенные временем физиологические процессы, отточенные в ходе эволюции, может привести к чему угодно. Если менять человека при помощи различных технологических методов, будь то мозговые имплантаты, генная инженерия или лекарства, увеличивающие продолжительность жизни, вероятны побочные эффекты, которые проявятся и у отдельных людей, и у целых групп. Мир, где никто не умирает, столкнется с колоссальными трудностями, не связанными с методами достижения бессмертия. Либо придется жестко контролировать рождаемость, либо рано или поздно встать перед необходимостью делить власть и ресурсы между триллионами транслюдей с неизбежными конфликтами за жизненное пространство. Отсутствие преемственности поколений нанесет сокрушительный удар по культурному и научному прогрессу человечества. Известный афоризм историка науки Томаса Куна гласит, что новые научные теории, как правило, прививаются лишь после того, как буквально вымрут упорные «староверы»[615]. Свежие идеи, свежие амбиции, свежая кровь отчаянно нужны не только в науке, но и во многих других сферах жизни. Неужели мы рискнем потенциальными творческими достижениями, кристаллизовав общество, законсервировав его?
Кроме всего прочего, трансгуманисты ставят перед собой цель сделать всех умнее; цель эта благая, не поспоришь, но отрицательные стороны могут быть даже у нее – по крайней мере, с точки зрения эволюции. Есть довольно много данных, что у современных людей наблюдается отрицательная корреляция между образованием и плодовитостью[616]. А вдруг транслюди с повышенными когнитивными способностями так увлекутся своей гениальностью, что перестанут размножаться? Если взглянуть на нашу планету, легко видеть, что наибольших успехов и численности добились вовсе не те организмы, которые располагают наивысшим интеллектом. Вот, например, жуки: они пробыли на Земле примерно в 100 раз дольше нашего и составляют 25 % всех известных видов, а численность их популяции, скорее всего, сильно превосходит 10 триллионов[617]. Великий биолог Дж. Б. С. Холдейн как-то заметил, что Бог, похоже, «не в меру страстно любит жучков»[618].
А трансгуманисты не в меру страстно любят нейротехнологии – и это характерно для их особого взгляда на человечество и ясно показывает, к каким перекосам приводит идеализация мозга. Мы с вами вполне способны представить себе будущее, где вокруг полным-полно изящных изобретений, облегчающих нам жизнь, а типичный трансгуманист хочет, чтобы технологические новинки физически проникали в нас, особенно в голову. Как будто всякие устройства, которыми мы пользуемся, почему-то станут лучше и мощнее, если будут напрямую подсоединены к мозгу. Мы могли бы загружать информацию из Интернета прямо в мозг, минуя стадию чтения. Мы могли бы водить машины просто силой мысли, даже не двигая руками. Мы могли бы общаться, не напрягая голосовые связки и не раздувая легкие. В каждом случае электронные технологии вроде нейронных нанороботов или мозговых микрочипов делают ненужными биологические компоненты, которые, по мысли трансгуманистов, нам только мешают. Такие представления о нейротехнологии перебрасывают мозг в цифровую Вселенную будущего, а остальной организм по большей части остается далеко позади.
Но зачем прямо подключать к мозгу технические устройства, которые улучшают наши когнитивные способности и помогают лучше владеть собой и управлять своим окружением? Видимо, это связано с желанием добраться до сути личности – в полном соответствии с девизом нейроэссенциалистов «Мы – это наш мозг»[619]. Однако с практической точки зрения это крайне узколобо. «Почти все преимущества мозговых имплантатов, которые только можно вообразить, мы вполне способны получить при помощи тех же устройств, только расположенных вне мозга, и через природные интерфейсы, скажем, глаза, которые проецируют сотни миллионов битов информации в секунду прямо в мозг», – пишет философ Ник Бостром из Оксфордского института будущего человечества[620]. Представьте себе, например, что вы хотите составить у собеседника представление о жуке; у вас есть выбор – или показать фотографию, или простимулировать непосредственно клетки мозга, чтобы вызвать то же самое изображение. Оба способа по определению создадут один и тот же паттерн мозговой деятельности, соответствующий восприятию жука, но нет никаких сомнений, что показать человеку картинку гораздо проще. И напротив, чтобы прописать идею жука непосредственно в мозг, потребуется инвазивная манипуляция, не говоря уже о познаниях о функционировании мозга, далеко превосходящих все, чем мы располагаем на сегодня. Даже если бы мы уже обладали достаточным пониманием всех механизмов, нам пришлось бы обойти биологические пути ввода и вывода данных, окружающих мозг, а для этого сильно усовершенствовать механизмы, служившие человечеству верой и правдой миллионы лет.
Знакомые примеры из реальной жизни подтверждают, что технические средства способны заметно улучшить умственную деятельность человека без непосредственного контакта с мозгом. Четыре с лишним тысячи лет назад шумеры из южного Междуречья изобрели счеты – вероятно, первую в мире вычислительную машину[621]. Такие устройства позволяют пользователям быстро оперировать с такими большими числами, которые не удержать в краткосрочной памяти и не обработать в ходе эндогенных мыслительных процессов. Величайшее средство улучшения когнитивных способностей человечества – это, вероятно, изобретение систем письма в различных культурах – и на древнем Ближнем Востоке, и в Китае времен династии Шан, и в доколумбовой Мезоамерике[622]. В некотором смысле сила письменного сообщения на том и зиждется, что мозг исключается из уравнения, как только записаны его мысли, поэтому письменные депеши надежнее, чем послания, запечатленные в памяти гонца. Философ Энди Кларк утверждает, что внешние устройства вроде счетов и записей формируют часть «расширенного сознания» человека, который ими пользуется, точно так же как чисто мозговые процессы или функционирование с участием нейроимплантатов[623]. Сознание и личность «лучше всего считать расширенной системой, объединением биологического организма и внешних ресурсов», которые не обязательно прятать под кожу, писал Кларк в авторитетном эссе, которое он создал в 1998 году в соавторстве с Дэвидом Челмерсом[624].
Подпускать внешние когнитивные ресурсы слишком близко к мозгу очень рискованно, даже если удастся преодолеть биологические препятствия. Скажем, по своему опыту могу признаться, что мой смартфон стал необходимым дополнением ко всем процессам познания и коммуникации, но у меня нет ни малейшего желания подключать его к мозгу: он и без того беспардонно вмешивается в мою жизнь[625]. Та же картина и с компьютерами, которыми я пользуюсь в ходе научных исследований: это чудесные машины, которые ловко перерабатывают огромные числа и помогают нам с коллегами решать различные задачи в лаборатории – но если вживить их нам прямо в череп, никаких дополнительных преимуществ это не даст. Если бы мы при помощи каких-то интерфейсов подсоединили такие компьютеры непосредственно к мозгу, не исключено, что они постоянно отвлекали бы нас, а результаты их вычислений искажались бы постоянным потоком нейронных входящих данных. Пожалуй, единственный «когнитивный протез», которого пока не хватает нам, бостонцам, – это какое-то устройство, которое научит водителей аккуратнее вести себя за рулем, но и здесь, скорее всего, ничего не придется подключать прямо к мозгу[626]. Однако в этом случае промышленность избрала другую тактику, не имеющую практически никакого отношения к когнитивным способностям человека: изобретатели учат машины ездить самостоятельно, без водителей[627].
Медицинская практика также показывает, что нейротехнология, воздействующая на мозг извне, предпочтительнее устройств, вживляемых внутрь. В 1968 году физиолог и ветеран ВВС Джайлс Скей Бриндли, склонный к эпатажным поступкам, вживил в зрительную кору слепого пациента набор из 80 электродов для стимуляции мозга[628]. Затем он пустил по электродам микроскопически слабый ток, и у пациента появились так называемые фосфены – световые пятна, какие иногда появляются перед глазами, когда их протираешь. Местоположение фосфенов зависело от того, какой именно электрод стимулируется, что означает, что стимуляция разных комбинаций электродов в принципе могла восстановить пространственное восприятие в какой-то рудиментарной форме. Бриндли с соавтором написали о своих успехах триумфальную статью, где предположили, что когда-нибудь подобный метод позволит слепым «читать печатный и письменный текст, возможно, со скоростью, сопоставимой с обычной скоростью чтения у зрячих». Но в дальнейшем Бриндли прославился не возвращением зрения слепцам, а изобретением препарата, вызывающего эрекцию: говорят, как-то раз он снял штаны перед большой аудиторией на крупной конференции и продемонстрировал свои успехи наглядно[629]. Однако идея Бриндли, что при помощи мозговых имплантатов можно добиваться восприятия изображений, впоследствии была вытеснена конкурирующим методом – применением похожих наборов электродов не в мозге, а в самом глазе[630]. Протезы сетчатки зачастую действуют лучше не только потому, что их относительно легче вживлять, но и потому, что они в большей степени опираются на естественные процессы передачи зрительной информации в мозг. А слуховые кохлеарные имплантаты зарекомендовали себя лучше, чем имплантаты в слуховую кору, и стали сейчас главным методом лечения обратимой глухоты.
Кроме того, периферийная нейротехнология – особенно перспективный путь к улучшению крупной и мелкой моторики человека. Исследователи уже разработали независимые от мозга способы восстанавливать двигательные функции у пациентов, утративших конечности. Так называемая целевая мышечная реиннервация позволяет хирургам связывать периферические нервы утраченной конечности с другими группами мышц, которые, в свою очередь, управляют протезом[631]. В 2015 году Лес Бо, которому было 59 лет, получил возможность пройти эту процедуру в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе[632]. Бо потерял обе руки еще подростком в результате удара током. После неврологического переподключения у него появились две кибернетические руки, крепившиеся на культи и двигавшиеся по команде мышц груди и плеч, подвергшихся реиннервации. У Бо ушло целых 10 дней на то, чтобы научиться контролировать новые руки, зато потом он смог складывать кубики и пить из чашки. В отличие от «запертых» больных вроде Кэти Хатчинсон и Джен Шойерман, утративших всякую связь с телом ниже шеи, Лесу Бо не требовалось контролировать свои протезы напрямую через мозг. Однако едва ли его мозг от этого меньше участвовал в управлении искусственными руками. Моторные исходящие данные из мозга Бо запускали подвергнутые реиннервации мышцы, которые непосредственно управляли руками, но этот процесс опирался на вовлеченность мозга в более широкую биологическую среду, а не на попытки обойти ее.
Однако подобный подход выходит за рамки реабилитации инвалидов и применяется и для того, чтобы придать дополнительные способности здоровым людям. Речь идет о так называемых экзоскелетах, которые делают своего носителя сильнее и выносливее и благодаря системе приводов и скоб позволяют человеку исполнять задачи, требующие большой физической силы[633]. Тони Старк, герой «Железного человека», комикса издательства «Марвел», управляет мощным экзоскелетом при помощи импульсов своего мозга, однако реальные экспериментальные экзоскелеты повинуются сигналам тела своих носителей[634]. Скажем, экзоскелет HAL-5, созданный японской компанией «Cyberdyne», контролируется в основном через набор электродов, крепящихся к поверхности кожи; они считывают импульсы мускулатуры своего носителя и интерпретируют их как команды, регулирующие движение скафандра. Этот экзоскелет немного напоминает доспехи штурмовика из «Звездных войн» и позволяет человеку средних физических возможностей без особых усилий поднимать грузы в 50 кило[635].
Самое близкое подобие Супермена, которое мы можем создать сегодня, вероятно, будет щеголять в экзоскелете производства «Cyberdyne» и в полной мере пользоваться выдающимися средствами связи и вычислительными приборами в виде портативных или нательных электронных устройств. Если этот Супермен будет видеть сквозь стены, то потому, что в его распоряжении окажется дистанционно управляемый дрон с камерой. Если он сможет различать людей в темноте, то потому, что на нем будут инфракрасные очки. Если у него будет суперавтомобиль или суперсамолет, вероятно, они будут «супер» просто потому, что их оснастят автономными механизмами управления, а вовсе не подсоединят к серому веществу владельца. Наш современный Супермен будет воплощением мозга в теле, личностью, чья нервная система получает больше входных данных и преобразует их в большее число действий с помощью периферийных вспомогательных устройств, связанных неинвазивными интерфейсами с разными элементами его естественной человеческой физиологии. Такой герой станет полной противоположностью трансгуманистских представлений о «хакнутом мозге» как главном секрете выхода за границы человеческих возможностей. Попытки усовершенствовать мозг инвазивными нейротехнологическими методами имеют смысл лишь в воображаемом мире, где мозг видится этаким отшельником, отделенным от окружения, где он самодостаточен, как душа. Если согласиться, что мозг – биологический орган, функционирующий в интеграции с остальным организмом и средой, нейротехнолгические расширители человеческих способностей уже не нужно применять исключительно к мозгу.
* * *
Казалось бы, футуристические фантазии об улучшении когнитивных способностей пока маячат очень далеко, однако их последствия уже сейчас тревожат многих из нас. В 2004 году политолог Фрэнсис Фукуяма в своем эссе назвал трансгуманизм «одной из самых опасных идеологий в мире», поскольку он чреват поправками к представлениям о равенстве в трансгуманистском стиле, на основании интеллектуального превосходства. «Если мы начнем превращать себя во что-то высшее, на какие права станут претендовать эти усовершенствованные существа, какими правами будут они обладать по сравнению с теми, кто остался позади? – спрашивает Фукуяма. – Если кто-то уйдет вперед, смогут ли оставшиеся позволить себе не последовать за ним? Прибавьте сюда последствия для граждан беднейших государств – для них чудеса биотехнологии так и останутся недосягаемыми – и угроза идее равенства станет еще страшнее»[636].
Опасения, подобные соображениям Фукуямы, в современном обществе, вероятно, более обоснованны, чем нам кажется на первый взгляд. Хотя имплантаты и нанороботы из трансгуманистских фантазий, вероятно, так никогда и не появятся, нашим современникам доступен другой класс расширителей интеллекта. Это так называемые ноотропные средства (от древнегреческих слов, означающих «изменение разума») – препараты, которые принимают внутрь, улучшающие внимание, память и другие когнитивные способности. Ноотропные средства по духу напоминают волшебное зелье, которое одарило Билла Данна возможностями Супермена, но на самом деле они не такие уж и волшебные. Самые распространенные ноотропы – относительно слабые природные стимуляторы вроде тех же никотина и кофеина, скромные усилители интеллекта, о которых мы немного поговорили в главе 5. Кроме того, к ноотропам относятся некоторые биологически активные добавки, в том числе омега-3 жирные кислоты, которые, как считается, способствуют оптимистичному настрою, и рацетамы – препараты, моделирующие деятельность основных нейромедиаторов в мозге[637]. Самые мощные ноотропы – это проверенные временем рецептурные стимуляторы, скажем, амфетамин и метилфенидат, которые продают в США под коммерческими названиями аддерол и риталин соответственно для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также сильнодействующие средства против сонливости, например, модафинил, который применяют и в медицине, и в армии для поддержания бодрости и остроты внимания[638]. Хотя тяжелые рецептурные ноотропы в США легальны только при назначении врача, ими часто злоупотребляют – в частности, студенты, которым хочется отличиться на экзаменах[639]. Чаще всего они получают лекарства от знакомых, которые приобретают их по законным рецептам, а потом применяют их не для лечения, а для учебных авралов. Исследование, проведенное в 2005 году и охватившее больше 100 четырехлетних колледжей в США, показало, что в среднем 7 % студентов незаконно принимают рецептурные стимуляторы, а в некоторых учебных заведениях эта цифра доходит до 25 %[640]. Несколько исследований заставили усомниться, что ноотропы рецептурной мощности и в самом деле улучшают успеваемость, но их популярность в кампусах многое говорит о вере в их действенность[641]. Студенты, незаконно принимающие рецептурные ноотропы, наверняка ценят потенциальную пользу этих средств настолько, что ради нее готовы рискнуть уголовным наказанием в случае, если их поймают.
Нерецептурные ноотропы в наши дни абсолютно легальны, но и с ними связан целый ряд серьезных вопросов. Стартапы из Кремниевой долины, в том числе «Nootrobox» и «truBrain», заработали миллионы долларов инвестиций на продаже препаратов, в состав которых входят ингредиенты, предположительно обладающие ноотропным действием[642]. У подобной модной продукции всегда есть увлеченные последователи из числа так называемых биохакеров, которые хотят пользоваться всеми преимуществами медикаментозного усиления интеллекта без досадного сопутствующего законодательства. Например, «Nootrobox» продает «рационы» из биодобавок, составленных из аптечных ноотропных средств, – от кофейных жевательных конфет до капсул со смесью из центеллы азиатской («готу кола»), родиолы цельнолистной и всевозможных витаминов и аналогов нейромедиаторов[643]. Каждый ингредиент, по словам создателя, «в целом считается безопасным» по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, однако доказательств их эффективности так же «в целом» мало, и в настоящее время компания проводит клинические испытания, чтобы доказать эффективность своих товаров[644].
Неважно, кто вы – замученный студент, мечтающий раздобыть лекарство, чтобы хорошо сдать экзамены, или честолюбивый предприниматель, подумывающий, не стоит ли потратить сотню долларов в месяц на разрекламированные «умные таблетки», чтобы стать еще умнее; наверняка вы уже заподозрили, что кое-какие вопросы Фукуямы стали актуальны. Если вам приходится состязаться с соучениками или сотрудниками, которые принимают ноотропы, можете ли вы позволить себе не следовать их примеру, если учесть, как беспощадна в наши дни конкуренция? Торговцы ноотропами сознательно наживаются на ваших тревогах. «Если не принимаешь „Alpha BRAIN“, то даешь фору другим», – предостерегает веб-сайт компании «Onnit», рекламирующий ее растительную добавку для усиления мозговой деятельности[645]. С этим соглашаются и многие из мира конкуренции. По словам бизнесмена и автора книг по самопомощи Тима Феррисса, «подобно спортсмену-олимпийцу, который ради золотой медали пойдет практически на что угодно, даже если это сократит его жизнь на пять лет, вам следует задуматься, какие таблетки и микстуры стоит принимать»[646]. Именно такие умонастроения и наталкивают на мысли об ужасах дистопий. «Все это ведет к созданию общества, в котором я, пожалуй, не хотела бы жить, – сокрушается Маргарет Талбот, штатная сотрудница журнала „New Yorker“, – общества, где мы будем еще больше перегружены работой и еще теснее окружены техникой, чем сейчас, и где придется принимать лекарства, чтобы не отстать от всех, общества, где мы будем кормить детей академическими стероидами вдобавок к ежедневной порции витаминов»[647].
Подобные опасения, связанные с проникновением нейротехнологии в повседневную жизнь, – это обратная сторона восторга перед ее возможностями. Но как то, так и другое коренится в непомерно раздутом представлении о значимости мозга по сравнению со средой и организмом, и как то, так и другое может подтолкнуть к неверным выводам, как и непомерно раздутое представление о чем угодно в нашей культуре. Наверняка вы слышали расхожую фразу: «Кому террорист, а кому борец за свободу». Подобные высказывания подчеркивают, что, с одной стороны, людям свойственна субъективность, и они с легкостью клеймят своих врагов «террористами», а с другой – всегда найдется тот, кто оправдает неправое дело, за которое стоят настоящие террористы. К тому же, хотя страх перед терроризмом всегда занимает первые места в опросах общественного мнения, один колумнист из «New York Times» справедливо указывает, что за последние годы гораздо больше американцев утонуло в собственных ваннах, чем погибло от рук террористов. Как бы кто ни относился к тем или иным группам, терроризму как явлению уделяют гораздо больше внимания, чем он заслуживает, если судить по его объективному влиянию на общество[648].
Подобной закономерности подчиняются и мозговые технологии с их пропагандистами и очернителями. Мы уже отмечали ненормальную страсть трансгуманистов и им подобных к технологическим подходам, физически влияющим на мозг, хотя более периферийные технологии позволяют достичь лучших результатов безо всех рисков и сложностей, связанных с непосредственными интервенциями в мозг. Подобным же образом опасения, что нейротехнология, в том числе ноотропы, может привести к антисоциальным последствиям, вероятно, отражают искусственное и нецелесообразное разграничение между теми стратегиями повышения когнитивных способностей, которые воздействуют на мозг, и теми, которые влияют на его окружение. Если кто-то по примеру Фукуямы беспокоится, что нейротехнология усугубит неравенство и приведет к гиперконкуренции в обществе, его должны точно так же беспокоить другие меры, которые не так прямо влияют на мозг, но приводят к аналогичным последствиям. Нейротехнология – не террорист и не борец за свободу, а просто одно из множества жизненных обстоятельств, чье воздействие неоднозначно и зависит от контекста.
На самом деле специалисты по этике, размышляющие о последствиях применения ноотропов, в целом быстро переключаются на континуум явлений, в пределах которого следует рассматривать «умные таблетки». В 2008 году в журнале «Nature» появилась заметка об ответственном применении лекарств, улучшающих когнитивные способности, которую написала группа специалистов во главе с Генри Грили, директором Программы «Нейрофизиология и общество» при Стенфордском университете. Ученые проводят параллели между применением ноотропов и другими способами улучшить мозговую деятельность: образованием, питанием, физическими упражнениями и сном – и утверждают, что «с морально-этической точки зрения лекарства, улучшающие когнитивные способности, ничем не отличаются от других, более привычных способов ее улучшить», а «нормальной реакцией со стороны общества было бы, в частности, сделать все эти средства доступными и минимизировать риск»[649]. Британская медицинская ассоциация также проанализировала этические вопросы, связанные с усилением когнитивных способностей, и провела примерно те же параллели. Экспертная группа при Ассоциации помещает дебаты об искусственных методах улучшения в широкий контекст и подчеркивает, что «нам следует помнить, что на здоровье, благополучие и социальные успехи прямо или косвенно влияют самые разные общественные факторы». «Если сосредоточиться лишь на одном из них, скажем, на когнитивных способностях человека, – утверждают авторы, – мы упустим из виду тот факт, что на способность человека добиться процветания, физического и психологического, и успеха в обществе влияет множество разных социальных переменных»[650].
Мир относится к человеку и его мозгу совершенно по-разному с колыбели до могилы. Некоторые дети с рождения обладают биологическими особенностями, предопределяющими достижения в учебе: возможно, у них лучше внимание, усидчивость, память или реакция. Но главное даже не это: некоторые дети рождаются у активных небезразличных родителей, которые на день рождения дарят им книжки вместо игрушек и записывают в разные кружки и секции, едва малыши научатся говорить. Различия в уровне жизни влияют на развитие интеллекта с самых разных сторон: от способности родителей тратить время на помощь ребенку с учебой до возможности тратить деньги на предметы роскоши вроде компьютеров и частных уроков. Традиции семьи и широкий социальный контекст играет огромную роль помимо образования как такового, они определяют качество жизни во всем, что касается эмоционального благополучия, честолюбия, здоровья. Когда дети вырастают и покидают семью, привитые в детстве принципы остаются с ними, как, разумеется, и предрассудки, определяемые социально-экономическим происхождением. Следует раз и навсегда уяснить себе, что социально детерминированные факторы влияют на мозг ничуть не меньше, чем генетические особенности или ноотропное средство. Мозг пластичен и подвержен самым разным внешним воздействиям. Образование и ценности отпечатываются в нем подобно другим воспоминаниям и в результате влияют на поведение в дальнейшем. Экономическое и социальное благополучие определяет уровень стресса и соответствующие физиологические механизмы, охватывающие организм в целом. По всем этим причинам представляется маловероятным, чтобы доступные сегодня нейротехнологии существенно испортили и без того ухабистое игровое поле для пестрой команды общества из восьми миллиардов нервных систем.
Из этого вовсе не следует, что нельзя задавать вопросы о регулировании оборота ноотропов. Конечно, необходим дальнейший анализ и законодательные меры, особенно если учесть, как распространена в США наркомания и как мало у нас данных о безопасности и эффективности безрецептурных ноотропных средств[651]. Но если целью контроля над оборотом ноотропов и применением других нейротехнологий, влияющих на когнитивные способности, станет гарантия, что они не поспособствуют неравенству, как боятся критики вроде Фукуямы, пожалуй, не в меньшей степени стоит задуматься, как бы компенсировать несправедливое распределение «нейротехнологий-лайт» – скажем, активных родителей и конкурентной атмосферы, которые уже сейчас усугубляют неравенство гораздо сильнее, чем любое мозговое хакерство, будь то лекарства или устройства.
* * *
Неудивительно, что и мозговые хакеры, и сторонники улучшения человека считают своим божеством-покровителем титана Прометея: его история служит символом некоторых соображений, которые я попытался сформулировать в этой главе. Древнегреческий миф гласит, что Прометей вылепил из глины первого человека, а затем сделал людей могущественными, даровав им огонь, украденный с горы Олимп против воли самого Зевса. За то, что Прометей ослушался главного из богов-олимпийцев, его навеки приковали к скале, и каждый день к нему прилетал голодный орел, который пожирал его печень. В конце концов его освободил герой Геракл. «Прометей похитил огонь у богов ради людей. Это все, что нужно в наши дни юному хакеру, чтобы он сделал Прометея своим кумиром», – говорит идеолог культуры Кен Гоффман[652]. Отголоски легенды о Прометее мы видим и в историях людей вроде Эдварда Сноудена, который рассказал о тайных делишках Агентства национальной безопасности и за это оказался в изгнании, или Аарона Шварца, хакера-активиста, который развернул кампанию за открытый доступ к интернет-ресурсам, был за это арестован и впоследствии покончил с собой[653]. А поскольку самого Прометея в конце концов освободили, его изобретательность оправдана, а подаренная людям технология принята с благодарностью. Но если изобретателя освободить, у него появится возможность делать дальнейшие изобретения и, вероятно, снова впасть в немилость.
Я уже писал, что страхи и надежды, связанные с нейротехнологиями, следует раз и навсегда перестать связывать с мозгом, как Прометея – с его скалой. Мозг – всего лишь призма, сквозь которую преломляются мириады внутренних и внешних воздействий, поэтому мы должны делать ставку на изменение этих воздействий, а не на манипуляции с самой призмой. Если мы усвоим, что мечты о будущем сознания не имеют отношения к мозгу, то заметно расширим простор для изобретения новых технологий. Что же касается опасений по поводу нежелательных побочных эффектов, нам стоит не только задуматься о методах воздействия на мозг с целью усилить когнитивные способности, но и взглянуть на вещи шире – и тогда у нас, вероятно, появятся новые стимулы работать с уже существующим неравенством в образовании и культуре. Ведь его влияние на наш мозг так же объективно, как и воздействие любой таблетки или имплантанта, и оно уже пронизывает все наше общество.
Сакрализация мозга мешает нам размышлять о нейротехнологии примерно так же, как ограничивает представления о психических болезнях и о месте человека в обществе, о чем мы говорили в главах 7 и 8. В этих случаях сакрализация подталкивает к тому, чтобы анализировать сложности человека исключительно с точки зрения его мозга. У сакрализации мозга один ответ на вопросы о том, что делает нас теми, кто мы есть, почему у нас возникают душевные расстройства и как нам улучшить свои когнитивные способности, и этот ответ – мозг. Однако главный урок нейрофизиологии гласит, что мозг – биотический орган, укорененный в континууме природных причин, следствий и связей, которые совокупно составляют наше биологическое сознание. А значит, ограничиваться одним лишь мозгом нельзя. Любой вопрос об изменении или толковании поведения человека предполагает множество ответов на разных уровнях, касающихся не только мозга, но и организма в целом и среды, в которой он обитает. В эпоху эпидемии эгоцентризма и эгоизма, когда социально ориентированные ценности минувших поколений отходят в прошлое, мысль, что ты не только твой мозг, становится едва ли не главнейшим уроком, какой только может преподать нам наука. Если мы усвоим его, то откажемся от мифов об особых качествах мозга, уподобляющих его душе, и поймем, что мозг физиологически неотделим от окружения. Только тогда мы по-настоящему поймем, какое место мы как биологические существа занимаем во взаимосвязанной Вселенной.
Глава десятая Как живется в баке с физраствором
Эта глава не похожа на остальные. Это история обо мне и о том, как опыт научил меня ценить место моего мозга в мире[654]. Все началось неожиданно – в испанском ресторанчике, где подают тапас, возле моей работы в городе Кембридже, штат Массачусетс. Мы с моей женой Наоми приметили «Ла Менте Кебрада» еще весной, когда он только открылся, но места, похоже, надо было бронировать за месяц. Когда нам предложили столик в тот самый вечер, когда мы запланировали романтическое свидание, мы, конечно, с радостью воспользовались случаем.
Был конец октября, и, когда мы шли в ресторан с парковки, ледяной ветер трепал наши пальто и завывал в ушах. Деревья вокруг так и раскачивались, и почти голые ветки свидетельствовали о поражении в ежегодной битве с осенью. Я весь напрягся, дышать стало трудно – тело словно отказывалось иметь что-то общее с этим ненастьем.
В зале нам удалось укрыться от холода, зато ушам пришлось еще хуже. По всем стенам вибрировали мощные динамики, а певица на сцене была явно не в своем уме, и порывам ветра, оставшимся за дверью, нечего было и тягаться с ее воплями. Девушка у дверей посмотрела нам в глаза и проговорила: «Здравствуйте», – но нам пришлось читать, что она сказала, по ее ярко накрашенным губам.
– У нас забронирован столик! – закричал я, изо всех сил стараясь перекрыть шум.
Мы протолкались мимо толпы бородатых гедонистов в кожаных куртках, галдевших у барной стойки, и юркнули за занавеску из бус. Все кругом неярко мерцало – и золотая мозаика на стенах и полу, и мебель, обитая лиловым бархатом; вся эта бордельная роскошь тускло отражала свет разнородных люстр и бра, словно закупленных без разбору в лавке старьевщика. В довершение всего под потолком, будто порхая, покачивалась свиная туша. Над дверью водрузили трио больших вороньих чучел, разодетых, как музыканты-марьячи, и я так загляделся на них, что чуть не наткнулся на огромную бычью голову: бык словно собирался броситься на меня со стены. Мы пробрались мимо всего этого зоомузея по лабиринту шумных столиков к единственному пустому уголку во всем заведении, где нас без лишних церемоний затолкали за столик, где и локтем было не пошевелить.
– Ну что, попробуем кузнечиков-чапулинес? – спросила Наоми.
Аппетитом я в тот вечер похвастаться не мог, но любопытство при виде экзотических блюд в меню разыгралось вовсю. Мне захотелось тако с муравьиными яйцами – и, естественно, омлета с бараньими мозгами. При мысли, что придется есть мозги, Наоми опешила, но мы все же решили попробовать их, а там как пойдет.
Гром грянул, едва я проглотил первый кусочек тортильи. У меня невыносимо заболел живот, к горлу подкатила тошнота, и я со всех ног метнулся обратно, мимо грозного быка, прямиком в туалет. Согнувшись над унитазом, я понемногу пришел в себя – и обнаружил, что все кругом красное. Не такое яркое, как пронзительно-алые кузнечики с солью и перцем, но все же краснее, чем анемично-коричневатый оттенок сангрии, которую мы пили. И тут до меня дошло, что это тот самый простой, элементарный красный цвет, который пятнает рубашку матадора, если тот замешкается. Это была кровь, много крови, и она бурлила подо мной, будто красная тряпка, вызывающая на бой.
Мое незапланированное бегство, разумеется, очень встревожило Наоми, и до меня донесся ее голос – она звала меня, перекрывая гомон в зале. Я наскоро умылся и на подгибающихся ногах ощупью вышел из туалета. Скупо освещенный зал показался мне еще темнее, когда я появился на пороге и с трудом различил силуэт Наоми перед собой. Я рассказал ей, что случилось, и она сказала, что меня надо срочно везти в больницу. Интеллект подсказал, что она совершенно права, но мне едва хватило сил, чтобы пробиться обратно сквозь толпу, шум и ветер. Это было так трудно, что я только и мечтал поддаться смертельной истоме, бросить это тело и воспарить в вечный стасис, где разум сможет наконец обрести покой.
Но долгий путь привел нас не туда, а в приемный покой больницы, где отовсюду светили яркие флуоресцентные лампы и раздавались настойчивые требования сообщить сведения о страховке. Мы с Наоми дрейфовали по палатам и комнатам ожидания с геологической медлительностью, что мне не то чтобы претило, только вот на каждом шагу со всех сторон меня бомбардировали сенсорные раздражители, лишая надежды на настоящий покой. Грубое давление манжеты тонометра, холодная слизь геля для УЗИ, резкий укол шприца – все это только усугубляло мои страдания, будто мало было неуемной боли в животе. Когда меня наконец уложили в удобную постель, оказалось, что это только для того, чтобы затолкать мне в глотку змееподобный зонд эндоскопа. За все эти ужасы я был вознагражден молчаливым присутствием Наоми рядом со мной и успокоительным ощущением ее руки на моем плече. Когда же пытки кончились и я задремал, последним, что я видел, была моя жена, медленно таявшая в тумане под мерное попискивание аппаратуры на заднем плане.
Сколько я пробыл без сознания, не знаю. Снилась мне бесконечная череда медицинских мучений. Меня совали в сканеры, которые невыносимо громко жужжали и гудели вокруг меня, в меня тыкали хирургическими инструментами, которые бурили мне живот и дырявили желудок, а потом придавили какими-то тяжелыми металлическими покрывалами не хуже бедняги Джайлса Кори, которого во время гонений на Салемских ведьм пытали, завалив камнями. Говорят, Кори мучили два дня без перерыва; подозреваю, что мой беспокойный сон длился не меньше.
Когда я очнулся, то увидел перед собой не Наоми, а какого-то старика в серебряных очках, с растрепанной шевелюрой и длинной белой бородой в тон халату.
– Я доктор Питерс, – сказал он.
– Где моя жена?
– Ей сюда нельзя. Нам с вами надо поговорить наедине.
Мы были не там, где я заснул. Ни следа суеты и писка больницы – только что-то очень похожее на музыку для медитаций. Комната была просторная, и кроме койки, на которой я лежал, в ней не было ничего – только стул и тумбочка. В углу виднелась закрытая дверь. Стены были голые, не считая большого плаката прямо напротив меня. На плакате красовался величественный, но неестественно яркий горный хребет, а на его фоне – слова: «Никогда не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь, никогда, никогда, никогда». Черчилль, подумал я[655].
– У вас была четвертая стадия рака желудка с метастазами, – сказал старик. – У вас отказали органы, потом остановилось сердце, но теперь вы здоровы.
– Здоров?!
– Да, по просьбе вашей жены ваш мозг был сохранен. Теперь он живет на системе жизнеобеспечения и будет жить сколько угодно. Все самое главное в вас удалось сохранить, а тело больше не будет вас обременять.
Ошарашенный такими новостями, я даже не знал, что сказать. Впрочем, в одном я был уверен: по крайней мере отчасти мои телесные ощущения остались со мной. Боль, которая терзала меня в тот вечер, прошла, но руки и ноги иногда покалывало, как будто я их отлежал. Да и вообще на постели передо мной лежало наглядное доказательство моей телесности. Руки невольно дернулись, будто их пощекотали перышком, ноги заерзали, как только я вспомнил о них.
– Ваши ощущения – это компьютерная симуляция, – заметил Питерс, будто угадал мои мысли. – Вашу анатомию сгенерировала программа.
– Глупости! – воскликнул я, не веря своим ушам. Терпение у меня кончилось. Я бы взорвался, если бы не остатки летаргии, которая сковала мои эмоции. Протестовать мне хотелось по-прежнему, но гнев и страх, которые я ощущал, почему-то не вызывали порыва к действию, как можно было бы ожидать в такой ситуации. Даже мои слова и те были лишены обычной выразительности и интонации. Как будто за меня говорил чей-то чужой голос.
– Неужели вы думаете, что поверю всему, что вы говорите? Что происходит, когда я смогу увидеть жену?
– Позвольте объяснить вам еще кое-что. – Врач явно старался меня успокоить.
И вдруг и он, и вся комната растаяли, и я обнаружил, что нахожусь в анатомическом театре. Сцену освещали три огромных хирургических прожектора. Повсюду гудели и попискивали мониторы, отслеживавшие жизненные показатели, а сбоку стояло сразу несколько компьютеров с экранами, на которых тянулись прямые линии.
Наркозный аппарат распространял снотворные испарения, а рядом тихонько шипела большая металлическая цистерна на колесах, тоже испуская какой-то газ. Посреди всего этого вокруг каталки столпились люди в белых халатах. На каталке лежал какой-то продолговатый предмет, полностью накрытый зелеными хирургическими простынями – виднелась только голова. Лицо под маской для анестезии я узнал сразу: это был я.
Я огорошенно смотрел, как один из медиков сбрил мне волосы электробритвой, – так странно было наблюдать за происходящим со стороны. Может быть, я еще сплю? Два ассистента зажали мою голову в тисках. Потом кто-то властный шагнул к каталке и рассек мне кожу на голове скальпелем. Настоящий я прямо-таки ощутил прикосновение лезвия.
– Прекратите! – закричал я, когда хирург начал снимать кожу с головы, обнажая череп. На миг вся бригада застыла – а потом исчезла. Я снова очутился в спартанской спальне, а передо мной все так же стоял доктор Питерс.
– Вы посмотрели запись нейрохирургической операции, которую перенесли, – объяснил он. – Ваш мозг извлекли при помощи самых передовых на тот момент методов и инструментов. Его заморозили, и последние 54 года он благополучно пролежал в жидком азоте, но теперь мы знаем, как оживлять замороженный мозг. Сохраненный мозг мы научились подсоединять к биоэлектронным нейроинтерфейсам ввода-вывода, симулирующим восприятие реальности. Сегодня мы включили ваш симулятор. Поздравляю с возвращением к жизни.
Теперь я уже не сомневался, что еще сплю, и попробовал ущипнуть себя со всей силы. Но все мои старания не привели ни к чему, кроме нейтрального ощущения легкого безобидного нажатия на кожу. Я сам не знал, чего мне не хватает – физической силы или способности осязать. Что бы еще сделать? Я попытался прикусить язык. И снова совсем не больно, как будто жуешь большую жевательную резинку – и все.
– Реакцию боли подавили, – сообщил мой собеседник, снова вторгаясь в мой поток сознания. – Иначе свободные нервные окончания причиняли бы вам нескончаемые мучения. Восприятие боли вам больше и не нужно: поскольку ваше тело – симуляция, болезни и травмы вам не грозят.
Итак, доктор по-прежнему городил свою чушь, и это меня одновременно и забавляло, и озадачивало. Надо было как-то разгадать эту загадку, и я решил положиться на грубую силу. Сбросил одеяло, которым был накрыт, и кинулся к двери. Ощущения были какие-то нереальные, будто я не бежал, а плыл по воздуху. Но когда я ударил плечом в белую дверь и попытался нажать ручку, препятствие на ощупь оказалось самое настоящее. Питерс не попытался меня остановить, будто ему было безразлично, что я тщетно пытаюсь сбежать.
– Симулированное окружение не позволит вам покинуть комнату, но вы можете выбрать другие варианты окружения и получить доступ к другим возможностям симулятора, если воспользуетесь вот этим.
Он извлек из-под халата маленький планшет и положил на тумбочку. После чего исчез.
* * *
Я был словно узник в одиночной камере – то впадал в ярость, то думал, что сошел с ума. В отсутствие смены дня и ночи я мог отсчитывать время только по этим переходам. Но и они были притуплены той эмоциональной ущербностью, которую я обнаружил у себя, едва очнувшись в этой комнатушке. Я часто засыпал, хотя не мог оценить, надолго ли. Еще я часто думал о жене и о том, как ее найти. Все это время слова Уинстона Черчилля на плакате передо мной вдохновляли меня сопротивляться мысли, что россказни Питерса, возможно, чистая правда: «Никогда не сдавайтесь». Но бывали у меня и моменты слабости, когда альтернативная реальность, в которой я обитал, манила смириться с ней.
И вот в один из таких моментов я впервые взял с тумбочки планшет, который оставил мне доктор. В отличие от компьютеров, к которым я привык, у этого устройства была только одна кнопка. Я нажал ее, и рядом тут же появилась фигура доктора Питерса.
– Чем бы вы хотели заняться? – спросил он.
– Я хочу увидеть свою жену, – тут же ответил я.
Комната растаяла, все пространство передо мной заполнилось коллажем из фотографий Наоми. Я узнал портрет, который она повесила на своем профессиональном сайте, снимки из ее старых альбомов. Были здесь и фото с нашей свадьбы. Но попадались снимки, которых я раньше не видел, и на них у Наоми было больше морщин, и вообще она казалась постаревшей по сравнению с тем, какой она была в ту ночь, когда мы поехали в больницу. На некоторых она была и вовсе старушкой – такой она выглядела бы далеко за 80. Только глаза остались прежними – а еще подтянутый профессиональный облик. Но никаких несоответствий и размытых участков, которые выдают отредактированные фотографии, я не заметил. Эти снимки были подлинные – а если подделка, то мастерская.
– Где она сейчас? – спросил я доктора Питерса, который молча маячил где-то на периферии поля зрения.
– Она скончалась восемь лет назад, – сообщил он мне.
Коллаж растаял и превратился в слова, и когда я в них вчитался, то понял, что передо мной некролог Наоми. Текст появлялся и исчезал сам собой, когда я его прочитывал, и поначалу это был рассказ о жизни, которую я знал не хуже собственной. Но вскоре речь зашла о событиях, которых я не застал. Оказалось, что Наоми стала руководителем научно-исследовательских работ в некоммерческой организации, где работала. Написала книгу. Ее первый муж умер от рака желудка, через девять лет она снова вышла замуж, но снова овдовела в 2053 году.
В глубине души я все-таки был склонен поверить рассказам доктора, и эта часть меня, соответственно, была готова смириться с этой новостью – что я больше никогда не увижусь с женой. Казалось бы, это должен был быть один из самых мучительных моментов в моей жизни, но я воспринял его на удивление безразлично. Сердце не заколотилось, дыхание не участилось. Ни комка в горле, ни слез в глазах. В напряженные минуты я всегда был склонен к потливости, но сейчас кожа осталась такой же сухой, как и глаза. Со мной не произошло ровным счетом ничего – разве что покалывание в руках и ногах слегка усилилось. Собственная безмятежность встревожила меня точно так же, как и само известие о кончине Наоми.
Я решил сменить тему и снова обратился к Питерсу:
– Покажите мне, пожалуйста, где я нахожусь сейчас.
Некролог моей жены исчез, мы очутились в большом зале, заставленном черными, как сажа, столами. Было сыро, в воздухе витал острый запах – что-то вроде созревающего сыра. На столах ровными рядами выстроилось множество прозрачных цилиндрических аквариумов сантиметров по 30 диаметром и высотой, разгороженные стенками. Я различил очертания человеческих мозгов, которые тихонько колыхались, будто мягкие розовые кораллы, в преломляющей свет жидкости в сосудах. Эти аквариумы были соединены пластиковыми трубочками с чем-то вроде маленьких холодильников на полу под столами. Кроме того, пучки трубок и волокон исходили из самих мозгов и вели к разъемам в стенках, а с обратной стороны стенок эти разъемы, в свою очередь, соединялись со штабелями оборудования, которое гудело и пульсировало на стеллажах, установленных над аквариумами. Все было опутано проводами, они змеились вокруг машин и толстыми фестонами свисали с подвесных полок, которые тянулись под потолком через всю комнату.
– Вот этот мозг – вы, – сказал доктор Питерс, когда мы подошли к сосуду с этикеткой «2017–13».
Орган, хранившийся в аквариуме номер 2017–13, насколько я мог судить, на вид был ничем не примечателен. Просто один из тысяч таких же образчиков в этой лаборатории, каждый из которых когда-то был частью целого человека со своими неповторимыми житейскими коллизиями, историями и невзгодами. Глядя на контуры, которые будто выпячивались на меня, искаженные кривым стеклом сосуда, я невольно подумал о сырых сосисках, свернутых в большой неопрятный узел. Вблизи мне было видно волокнистую сеть лиловатых сосудиков, покрывавших всю поверхность мозга, будто темная плесень. Тонкие провода, соединявшие мозг с интерфейсом, вылезали из глубин мозговой ткани, будто черви-паразиты. Где же все мои интересы, страсти, надежды и таланты? Неужели все это сосредоточено в этой банке? Даже в нынешнем состоянии, когда все эмоции были притуплены, мне было отвратительно думать, что вся моя сущность сведена к этому комку умирающих тканей.
Я протянул руку и прикоснулся к сосуду. Он был теплый и слабо вибрировал: наверное, этот мерный двойной ритм исходил от подсоединенных к нему аппаратов жизнеобеспечения. Вибрация вошла в резонанс с моими мыслями – и вдруг я ощутил непреодолимое желание опрокинуть сосуд. Но когда я толкнул его, он не сдвинулся с места. Другой рукой я схватил провода, выходившие из аквариума, и рванул изо всей силы. И снова тщетно – провода даже не изогнулись.
Где-то за правым плечом раздался голос доктора Питерса:
– Физически вы не здесь. Хотя вы чувствуете все это благодаря симулятору, изменить вы ничего не сможете.
Я снова обнаружил, что из моего невероятного заключения нет никакого выхода.
* * *
Мало-помалу я привык к ограничениям новой реальности – и понемногу начал обнаруживать, какие свободы она мне сулит, и пользоваться ими. Стоило мне прикоснуться к кнопке, как появлялся доктор Питерс, и я просил его показать мне что угодно или перенести туда, куда мне хотелось. Доктор стал моим проводником по местам, которые я всю жизнь мечтал повидать, и наставником во всем, что я всю жизнь мечтал узнать. Я любовался заходом солнца над дворцом Далай-ламы в Лхасе, посетил гробницу великого завоевателя Тамерлана в Самарканде, взобрался на нагорье Бандиагара в Мали и повидал огромную глиняную мечеть в Дженне, обошел руины римской Пальмиры до их трагического разрушения, поплавал с последним синим китом и прогулялся по поверхности Марса.
Я узнал, что могу прочитать практически любую книгу и статью, посмотреть любой кинофильм, любую программу, которую показывали по телевидению или передавали по радио; к тому же в моем распоряжении была огромная коллекция записей спектаклей, лекций и выставок. Я изучал просторы симулированной реакции, занимался то тем, то этим, руководствуясь исключительно свободными ассоциациями. Не знаю, сколько раз я смотрел девятую часть «Крестного отца» и в 4D, и в мультисенсорном издании 5D. Параллельно я побывал на всех представлениях оперного фестиваля в Байройте в 2043 году, не купив ни единого билета, и полюбил патуфонию – новое искусство, которое появилось в середине XXI века и сочетает в себе классические струнные импровизации с боевыми искусствами Океании. Меня очень воодушевила интернациональная утопия, о которой говорила на инаугурации Мина аль-Махсус, 55-й президент США. И послушал, как мой преемник читает курс по биониженерии, который когда-то вел я сам в Массачусетском технологическом институте: нынешний преподаватель родился в год моей смерти. Но самым познавательным был семинар по технологии нейронной симуляции. На этих занятиях я узнал о прогрессе в биоэлектронике и в понимании сенсорно-моторной нейрофизиологии, благодаря которому стало возможным создание интерфейса всего мозга – судя по всему, именно эти достижения науки и техники стояли за моей нынешней жизнью мозга в сосуде.
Вкусы и пристрастия у меня были взрослые, а жил я как ребенок. Бесконечные годы, которые я тратил на все, что привлекало мое внимание, на глупости и прихоти, я проводил безо всякой оглядки на впустую проведенное время и несделанные дела. Я изучал что хотел, занимался чем угодно, и ничто мне не мешало. Впрочем, я был избавлен и от тривиальных тягот младенчества. Никто не будил меня по утрам, никто не говорил, что надо почистить зубы, никто не звал за стол. Зов природы умолк, биологических позывов у меня не было. Переодеваться, мыться, причесываться мне было больше не нужно – в симуляторе я всегда выглядел безупречно. Иногда я все-таки уставал. Тогда, как правило, я просил доктора Питерса отправить меня обратно в комнатку поспать, но вскоре оказалось, что и это делать не обязательно. Один раз я заснул, когда сплавлялся на плоту по пенным порогам реки Колорадо, и, вместо того чтобы утонуть или разбиться о скалы, проснулся в знакомой комнате, где меня, как обычно, приветствовал железный запрет Черчилля со стены.
Так я и не узнал, почему на стену моей комнаты – главной страницы моего симулятора – повесили именно эту цитату. Возможно, просто так, безо всяких причин, как вешают картины в приемной стоматолога, но мне по-прежнему очень хотелось приписать ей высший смысл. Сначала фраза «никогда не сдавайтесь» отражала мое сопротивление доктору Питерсу. Потом она, похоже, намекала мне, что надо смириться с этим удивительным бессмертием. В конце концов я решил, что все так и было: я умирал от рака желудка, мой мозг заморозили, а теперь у меня вот такая неврологическая загробная жизнь. «Никогда, никогда, никогда» – это, видимо, о том, что моя нервная система выстояла под последним сокрушительным ударом природы и теперь обрела пост-телесное существование, по-видимому, вечное.
Но еще эти слова не давали мне забыть о других «никогда», неизбежных в моем нынешнем состоянии. Я обречен никогда больше не видеть жену, родных, друзей – да, если уж на то пошло, ни одной живой души: люди представали передо мной лишь в крайне ограниченных формах, к которым давал мне доступ симулятор – на картинах, в видеозаписях или в виртуальной реальности, где я чувствовал себя вуайеристом. Физическую сторону моей прежней жизни мне тоже было уже никогда не испытать. Нейроинтерфейс обеспечивал меня всеми сенсорными данными, которых можно было ожидать при симуляции деятельности, но в этой симуляции попадались заметные пробелы. Например, еда утратила для меня всяческое значение – я никогда не ощущал голода, мне не нужно было подкреплять силы. Спорт свелся к компьютерным играм – физически мне все давалось без малейших усилий, но и гормональной радости от движения я больше не ощущал. Даже самые увлекательные приключения не приносили того восторга, какой я знал в реальной жизни. Я мог бы покорить Эверест без малейшего напряжения, ничего не боясь, но, очутившись на вершине, не почувствовал бы и тени триумфа. При всей точности симуляции у меня не было ни мышц, которые напрягались бы, когда мне пришлось бы нащупывать ногой узенький карниз на заледенелой скале, ни дыхания, которое занялось бы, когда в лицо ударил порыв ветра, ни сердца, которое заколотилось бы, если бы я оступился на неизвестном склоне. И если бы на подъеме меня подкосила усталость, то лишь от скуки, а не от напряжения.
Мой путь мозга в аквариуме все длился и длился – и вот уже скука сменила и тоску по тому, что осталось в прошлом. Апатию усугубляла притупленность эмоций, которую я ощутил в первые минуты знакомства с доктором Питерсом: теперь я понимал, что все дело в отсутствии взаимодействия мозга с другими органами, которое нейрокомпьютерный интерфейс не мог симулировать. В результате я мог наблюдать самые великолепные пейзажи, самые жуткие сцены человеческих страданий – и это не затрагивало в моей душе никаких струн. В отсутствие источников эмоций я начал уставать от постоянного потока знаний и впечатлений в симулируемом пространстве. Эти знания не к чему было приложить, а впечатлениями не с кем поделиться. Без взаимодействия с реальным миром, без задач, за которые стоило браться, без самых простых сложностей повседневной телесной жизни я лишился значимых целей. Я превратился просто во вместилище данных, поступающих от нейрокомпьютерного интерфейса, в такой же придаток к нему, каким сам он служил для моих маленьких серых клеточек.
Я мечтал вернуться в реальность, хотел, чтобы мой мозг поместили в живое тело, пусть даже и не мое. Мою нервную систему ждало бы избавление даже в теле самого жалкого нищего, самого одинокого наркомана. Страдания, вызванные бедностью и болезнью, вполне уравновешивались бы возможностью стремиться к целям и исполнять обязательства, которые приносили бы искреннее удовлетворение и мне самому, и окружающим. В теле любого человека, лишь бы целого, в любом социальном контексте мой мозг чувствовал бы себя уютнее, чем в нынешнем приниженном положении. Пусть ему сотрут всю память, путь он родится заново в голове младенца – все равно у него будет шанс запылать от страсти и устремлений, которые когда-то были так важны для моего воплощенного «я». Но мне было ясно, что это в принципе невозможно, и тогда я начал мечтать о том конце, которого чудом избежал 54 года назад. Может, инкубатор даст сбой или в мои ткани внезапно проникнет инфекция. Ничего, подожду: у меня в распоряжении буквально вечность.
Однако вместо этого мозг по-прежнему продолжал метаться от одного увлечения к другому, а объем внимания у него все сокращался и сокращался. Симулятор обеспечивал меня всем, чего требовали полушария, а каждый эпизод влек за собой все следующие и следующие – но это вело в никуда. Мы с моим устройством то спешили на лекцию по квантовой гравитации, то мчались в родной город Эйнштейна, то кидались изучать средневековые ремесленные гильдии, то смотрели исторически-документальные фильмы о Вормсском рейхстаге. Или, скажем, наблюдали виртуальное воссоздание путешествий Дарвина, а потом изучали происхождение видов на Мадагаскаре, прослеживали австронезийские миграции – и в результате катались на серфинге у побережья Южной Калифорнии. Я был лишен четкого восприятия времени и поэтому не понимал, сколько длится путешествие вокруг света – 80 дней, часов, минут или лет. Где мы окажемся в следующий миг, определялось случайной фразой в тексте, мелькнувшим лицом, проблеском света, который подослал мне симулятор, – все это заставляло мой подневольный мозг практически рефлекторно сделать следующий шаг. Мысли мои превратились в головокружительную неряшливую мозаику, чувство направления исчезло, превратившись в беспорядочный круговорот непрерывных изменений. Но тут все снова изменилось.
* * *
В тот день мой симулятор отключился. А может быть, в ту ночь – в тогдашнем состоянии мне неоткуда было это узнать. Нет, не то чтобы все разом почернело. Дымка нейронной стимуляции, в которую я был погружен, просто превратилась в мозаику мигающих цветных пятен, которые загорались и тускнели, будто далекие фейерверки. Фантомное покалывание в конечностях стало случайным, оно непредсказуемо нарастало и стихало под беспорядочный звон, охвативший слуховую систему. В какой-то момент я ощутил, как по моему ставшему невидимым телу, словно лаская, пробежали мурашки – от ступней до макушки. Потом справа что-то ярко вспыхнуло и тут же рассыпалось на рой разбегавшихся точек. Я заметил слабый ритм, анданте из нескольких нот, то нараставших, то затихавших, едва заметное из-за какофонии – это были сдвоенные толчки, похожие на вибрацию механической системы жизнеобеспечения, благодаря которой мой мозг не умирал. Поток сознания то и дело необъяснимо прерывался – то ли это были припадки нарколепсии, то ли какая-то спазматическая активность, причина которой лежала где-то в моем мозге. Иногда из этой энтропии зарождались короткие сны, главными героями которых становились знакомые лица и места. Один раз я снова увидел жену за столиком «Ла Менте Кебрада», но тут из мглы на меня выскочил огромный бык, и все рассыпалось на красно-фиолетовые пятна.
В последние сознательные моменты я собирался с силами и диктовал эту книгу тому, что осталось от моего нейрокомпьютерного интерфейса. Но поскольку мои впечатления больше не подкреплялись непрерывными входящими данными, я постепенно утратил способность формулировать мысли и отличать истинные воспоминания от ложных. Связных изображений становилось все меньше, и мои чувства начали путаться, сливаться друг с другом. Я уже не мог понять, увидел я или услышал какой-то фантомный звук, ощутил кожей или на вкус фантомное прикосновение. Мысли утратили сложность, сам язык моего сознания преобразился. Слова и картинки перестали быть строительным материалом для идей, уступили место элементарным ощущениям различной частоты, продолжительности и интенсивности, которые играли мне, будто симфонический оркестр. Без симулятора эти чувства, должно быть, возникали просто из машинерии, которая поддерживала жизнь в моих останках, – из-за того, что по жидкости в сосуде шла рябь, менялись температура и влажность в зале, где он стоял, или проходил мимо какой-нибудь случайный посетитель, обдав аквариум волной тепла. Все эти стимулы нарушали тонкое равновесие клеток и химических веществ, из которых состоял мой сохранившийся орган, и запускали каскады реакций, которые иногда порождали сознание. Моя личность растворилась в окружении.
Напрасно я ужаснулся, когда увидел свой мозг в этом зале, – на самом деле он всегда там был. Удивительные приключения, которые я пережил после отделения мозга от тела, были лишь результатом замены сложного органического вместилища для мозга, которым я обладал в прошлом, на более простой контейнер. И в уютном человеческом теле, и в симбиозе с нейросимулятором, и в физрастворе, где он пассивно существовал на системах жизнеобеспечения, мой мозг всегда делал одно и то же – воспринимал поток данных из окружения и преобразовывал его в действия во внешнем мире, в выходящие данные, передаваемые на нейрокомпьютерный интерфейс, или в какие-нибудь еле уловимые вещества, испускаемые в раствор, в котором он хранится. Что бы я ни ощущал (или думал, что ощущаю) – все это были лишь шаги на этом пути. Симулятор не сумел подарить мне ощущение полноты бытия, поскольку у него не было соответствующих функций, чтобы сыграть все биологические роли моего умершего организма и тем самым обеспечить сложнейший, богатейший контекст, окружавший меня, когда я жил в своем теле. Но даже если бы этот симулятор был совершенным, мозг в аквариуме никогда не был бы мной. Наоборот – я был и мозгом, и аквариумом, и комнатой, и миром вокруг. Я был своей историей, своим обществом, этой симуляцией и всеми стимулами, которые на меня влияли. Орган, хранивший мои воспоминания в перепутанице клеточных взаимодействий и в нейрохимическом бульоне, был особой частью меня, но эта часть была неразрывно связана с целым. Почти все то, что делало меня мной, возникло потому, что делала с моим мозгом среда, – это были отнюдь не достижения мозга как такового. Я понял это по тому, как резко я переменился, когда тела не стало, а контролировать мою активность начал симулятор входящих данных. Даже прежде, когда я жил в своем теле, человек, которым я был, и все, что я делал, было продуктом взаимодействия между моей физиологией и окружением в той же степени, что и сейчас, когда мой мозг находился в бездушном сосуде. В тот вечер, когда мне сделали операцию, мое решение пойти в ресторан определялось соматическими сигналами, данными органов чувств и социальными взаимодействиями, и они же позволили проявиться симптомам болезни, отправили меня в больницу и обеспечивали мне все ужасные ощущения во время медицинских процедур. Будь у меня в тот вечер другой мозг, события, вероятно, разворачивались бы несколько иначе, – но, скорее всего, примерно так же.
Доктор Питерс проповедовал идею сакрализации мозга, учил, что все самое главное во мне лежит в мозге. Он пообещал, что мое тело больше не будет проблемой, и заявил, что я – это изолированная масса нервной ткани, плавающая в сосуде. Под его руководством мой мозг вступил в загробную жизнь, как душа на небеса. Но когда Питерс и его программисты сочиняли мой нейро-рай, они провели ложную грань между мозгом и телом, между мозгом и окружением. Симуляция упустила из виду самый фундаментальный урок нейрофизиологии: наш мозг – биотическая сущность, органически вплетенная в физический мир, и его нельзя извлечь из этого мира без тяжелых потерь. Когда мир, который я знал, устранили из моей нервной системы, я стал лишь частью прежней личности, а жизнь, к которой меня вернули, – ущербной и неполной.
* * *
Мы, люди, тысячелетиями жаждали определить, что составляет нас как личность. Древние египтяне верили в трехчастную душу, которая состояла из «ка», «ба» и «ах» – из сущностей, которые по отдельности заключали в себе свойства быть живым и обладать неповторимой личностью[656]. В древнейших индийских текстах говорится об «атмане» – живом начале, которое переходит от одного существа к другому в ходе повторяющихся циклов рождения, смерти и возрождения[657]. Пятикнижие учит нас, что у человека есть «нефеш» – эфемерный дух, умирающий вместе со своим обладателем, тогда как классическая европейская культура полагает, что у каждого из нас есть бессмертная душа, которую Новый Завет называет греческим словом «психе»[658]. Сегодня многие пришли к убеждению, что мы есть наш мозг, изолированный от мира резервуар огромной сложности, который загадочным образом руководит нашей жизнью. Моя книга по большей части посвящена недостаткам подобного кредо наших дней, как с научной, так и с практической точки зрения.
Мозг и вправду играет особую роль, поскольку помогает управлять нашим поведением, не сводя нас к какой-то сущности. Это перевалочный пункт для множества стимулов, которые совместно действуют на нас и через нас. В наш просвещенный век, когда так ценится функция мозга как биологического посредника и проводника всевозможных факторов, у нас должно быть больше возможностей искать источники достоинства, интеллекта, успеха и патологии как в глубинах личности, так и за ее пределами. Хотелось бы, чтобы мы находили более удачные решения многих проблем и дома, и в обществе благодаря медицине, технологиям, а также правосудию. Хотелось бы, чтобы мы лучше понимали, как обстоятельства других людей влияли бы на наш мозг, будь мы на их месте, – и тогда нам было бы легче посочувствовать тяготам тех, кому повезло меньше, чем нам. Чем лучше мы во всем этом разберемся, тем лучше научимся понимать друг друга – и тем быстрее двинемся вперед все вместе.
Благодарности
Я благодарен всем тем, кто помогал мне закончить эту книгу и довести ее до типографии. Особенно я в долгу перед моей покойной коллегой Сьюзан Коркин, которая вдохновила меня своей собственной книгой, давала дельные советы в начале работы над рукописью и познакомила меня с миром книгоиздания. Несомненно, именно она послужила катализатором, без которого мой проект не сдвинулся бы с мертвой точки; сколько ни благодари ее, все будет мало. Кроме того, я хотел бы отдельно поблагодарить Нэнси Кэнвишер за советы и моральную поддержку на ранних стадиях создания книги и за мудрые подсказки, которые она мне давала на всем протяжении работы.
На более поздних стадиях мне очень помогали многие друзья и коллеги. Когда книга начала расти и вызревать, мне было бы трудно настроиться на нужный лад без замечаний Роберта Аджемана, Авиада Хая, Чарльза Дженнингса и Лоры Шульц. Особенно важную роль сыграли подробные пометки Авиада и Чарльза. Свой вклад внесли и неформальные разговоры со многими другими друзьями и знакомыми, и я хотел бы поблагодарить и коллег из Массачусетского технологического института, и моих студентов и аспирантов, и сотрудников моей лаборатории, которые участвовали в этих разговорах, даже если не знали, что я собираю материалы для книги.
Низкий поклон моим литературным агентам Кристине Мур и Эндрю Уайли, которые сочли мою затею перспективной и взялись работать со мной. Кристина стояла за меня горой, нашла мне издателя и помогла пройти по профессиональным лабиринтам, совсем не похожим на те, к которым я привык. Настоящим подарком для меня стал коллектив «Basic Books». Огромное спасибо моим редакторам Ти-Джею Келлехеру и Элен Бартелеми за их подробную и глубокую правку текста и за энтузиазм, с которым они относились к книге. Еще я в большом долгу перед Кэрри Наполитано, Колином Трейси, Бет Райт, Конни Капоне и Келси Одорчук за их помощь.
Но больше всего я обязан своим родным. Мне повезло родиться в академическом микрокосме, а когда я женился на представительнице соседней научной Вселенной, удовольствие лишь удвоилось. Мои родители Джей и Шейла Джасанофф навели меня на тот путь, который я впоследствии избрал. И хотя я не оправдал их гуманистических надежд и стал ученым, эта книга дала нам возможность для примирения. Мама выделила время на подробную профессиональную вычитку текста, и ее редактура оказалась бесценной. Моя сестра Майя Джасанофф провела меня через все этапы издательского процесса и дала кое-какие советы по тексту, за что ей большое спасибо. Дядя моей жены Борис Кац тоже сделал очень ценные замечания по поводу некоторых глав. Непрямое, но существенное влияние на книгу оказали и моя теща Аня Шприт, и ее партнер Павел Заславский, и мой тесть Виктор Кац, и его жена Лена Будрене.
Книга посвящена двум главным людям в моей жизни – жене Любе и дочери Нине. Обе они относились к работе над проектом с огромным терпением, хотя он отнял много времени, которое я мог бы посвятить семье. Люба всячески помогала мне на протяжении всей работы, кроме последней главы, и стала моим первым редактором; на ней я опробовал все свои идеи. Нина терпеть не может все, что связано с мозгом, но я обожаю ее не за это.
Об авторе
Алан Джасанофф – нейрофизиолог и биоинженер из Массачусетского технологического института, лауреат нескольких премий.
Живет в Бельмонте в штате Массачусетс.
1
Hilary Putnam, «Reason, Truth, and History» (New York: Cambridge University Press, 1981).
Вернуться
2
Amy Harmon, «A Dying Young Woman’s Hope in Cryonics and a Future», «New York Times», 12 сентября 2015 г.
Вернуться
3
На сайте «Alcor Life Extension Foundation», компании, которая заморозила и хранит мозг Ким Суоцци, перечислены десятки других клиентов, решивших подобным образом сохранить свой мозг.
Вернуться
4
Цит. по: Stanley Finger, «Minds Behind the Brain: A History of the Pioneers and Their Discoveries» (New York: Oxford University Press, 2000).
Вернуться
5
«Introduction to Neuroanatomy», Massachusetts Institute of Technology, 2001.
Вернуться
6
L. L. Moroz, «On the independent origins of complex brains and neurons», «Brain, Behavior and Evolution» 74 (2009): 177–190.
Вернуться
7
S. Kumar and S. B. Hedges, «A molecular timescale for vertebrate evolution», «Nature» 392 (1998): 917–920.
Вернуться
8
N. D. Leipzig and M. S. Shoichet, «The effect of substrate stiffness on adult neural stem cell behavior», «Biomaterials» 30 (2009): 6867–6878.
Вернуться
9
Jennifer Hay, «Complex Shear Modulus of Commercial Gelatin by Instrumented Indentation», «Agilent Technologies», 2011.
Вернуться
10
Henry McIlwain and Herman S. Bachelard, «Biochemistry and the Central Nervous System», 5th ed. (Edinburgh, UK: Churchill Livingstone, 1985).
Вернуться
11
«National Nutrient Database for Standard Reference Release 28, Entry for Raw Beef Brain», US Department of Agriculture, 18 марта 2017 г.
Вернуться
12
J. V. Ferraro et al., «Earliest archaeological evidence of persistent hominin carnivory», PLoS One 8 (2013): e62174.
Вернуться
13
Craig B. Stanford and Henry T. Bunn, eds., «Meat-Eating and Human Evolution» (New York: Oxford University Press, 2001).
Вернуться
14
L. Werdelin and M. E. Lewis, «Temporal change in functional richness and evenness in the eastern African Plio-Pleistocene carnivoran guild», «PLoS One» 8 (2013): e57944.
Вернуться
15
Ferraro et al., «Earliest archaeological evidence».
Вернуться
16
Mario Batali, «Calves Brain Ravioli with Oxtail Ragu by Grandma Leonetta Batali», -brain-ravioli/
Вернуться
17
Diana Kennedy, «The Cuisines of Mexico» (New York: William Morrow Cookbooks, 1989).
Вернуться
18
Мусульмане, в отличие от христиан и иудеев, верят, что Ибрагим (Авраам) собирался принести в жертву не Исаака, а Исмаила (Измаила).
Вернуться
19
Ian Crofton, «A Curious History of Food and Drink» (New York: Quercus, 2014).
Вернуться
20
P. P. Liberski et al., «Kuru: Genes, cannibals and neuropathology», «Journal of Neuropathology & Experimental Neurology» 71 (2012): 92–103.
Вернуться
21
D. C. Gajdusek, «Correspondence on the Discovery and Original Investigations on Kuru: Smadel-Gajdusek Correspondence, 1955–1958» (Bethesda, MD: National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke, National Institutes of Health, 1975).
Вернуться
22
Shirley Lindenbaum, «Kuru Sorcery: Disease and Danger in the New Guinea Highlands», 2nd ed. (New York: Routledge, 2013).
Вернуться
23
Dimitra Karamanides, «Pythagoras: Pioneering Mathematician and Musical Theorist of Ancient Greece», Library of Greek Philosophers (New York: Rosen Central, 2006).
Вернуться
24
Nina Edwards, «Offal: A Global History» (London: Reaktion Books, 2013).
Вернуться
25
Речь идет о базе данных ; поиск блюд из печени, желудка, языка, почек и мозгов проводился 4 марта 2014 года.
Вернуться
26
Katherine Simons, «Food Preference and Compliance with Dietary Advice Among Patients of a General Practice» (PhD thesis, University of Exeter, 1990).
Вернуться
27
S. Mennell, «Food and the quantum theory of taboo», «Etnofoor» 4 (1991): 63–77.
Вернуться
28
S. M. Sternson and D. Atasoy, «Agouti-related protein neuron circuits that regulate appetite», «Neuroendocrinology» 100 (2014): 95–102.
Вернуться
29
J. B. Ancel Keys, Austin Henschel, Olaf Mickelsen, and Henry L. Taylor, «The Biology of Human Starvation» (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1950).
Вернуться
30
D. Baker and N. Keramidas, «The psychology of hunger», «Monitor on Psychology» 44 (2013): 66.
Вернуться
31
Stanley Finger, «Minds Behind the Brain: A History of the Pioneers and Their Discoveries» (New York: Oxford University Press, 2000).
Вернуться
32
P. Wright, «George Combe – phrenologist, philosopher, psychologist (1788–1858)», Cortex 41 (2005): 447–451.
Вернуться
33
William Douglas Woody and Wayne Viney, «A History of Psychology: The Emergence of Science and Applications», 6th ed. (New York: Routledge, 2017).
Вернуться
34
Stephen J. Gould, «The Mismeasure of Man» (New York: W. W. Norton, 1996).
Вернуться
35
Brian Burrell, «Postcards from the Brain Museum: The Improbable Search for Meaning in the Matter of Famous Minds» (New York: Broadway Books, 2004).
Вернуться
36
R. Schweizer, A. Wittmann, and J. Frahm, «A rare anatomical variation newly identifies the brains of C. F. Gauss and C. H. Fuchs in a collection at the University of Göttingen», Brain 137 (2014): e269.
Вернуться
37
Gould, «The Mismeasure of Man».
Вернуться
38
M. D. Gregory et al., «Regional variations in brain gyrification are associated with general cognitive ability in humans», «Current Biology» 26 (2016): 1301–1305.
Вернуться
39
Гарвардский университет, Больница имени Маклина, Гарвардский центр ресурсов мозговых тканей, hbtrc.mclean.harvard.edu
Вернуться
40
George H. W. Bush, «Presidential Proclamation 6158», 1990.
Вернуться
41
R. F. Robert, W. Baughman, M. Guzman, and M. F. Huerta, «The National Institutes of Health Blueprint for Neuroscience Research», «Journal of Neuroscience» 26 (2006): 10329–10331.
Вернуться
42
Office of the Press Secretary, «Fact Sheet: BRAIN Initiative», The White House, 2013; HBP-PS Consortium, «The Human Brain Project: A Report to the European Commission», 2012.
Вернуться
43
«Annual Meeting Attendance (1971–2014)», Society for Neuroscience, -Meeting/Past-and-Future-Annual-Meetings/Annual-Meeting-Attendance-Statistics/AM-Attendance-Totals-All-Years
Вернуться
44
G. E. Moore, «Cramming more components onto integrated circuits», «Proceedings of the Institute of Electrical and Electronics Engineers» 86 (1965): 82–85.
Вернуться
45
Поиск среди книг по «математике и естественным наукам», ключевое слово «brain» (только печатные издания), май 2014 года.
Вернуться
46
Поиск каталожных единиц Американской национальной медицинской библиотеки (US National Library of Medicine) на сайте по ключевым словам «brain» и «neuron», май 2014 года.
Вернуться
47
Carly Stockwell, «Same As It Ever Was: Top 10 Most Popular College Majors», «USA Today», 26 октября 2014 года.
Вернуться
48
«Table 322.10: Bachelor’s Degrees Conferred by Postsecondary Institutions, by Field of Study: Selected Years, 1970–71 Through 2014–15», National Center for Education Statistics, nces.ed.gov.
Вернуться
49
Karen W. Arenson, «Lining Up to Get a Lecture: A Class with 1,600 Students and One Popular Teacher», «New York Times», November 17, 2000.
Вернуться
50
«Мозг Морбиуса» – пятая серия тринадцатого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» («British Broadcasting Corporation», режиссер Кристофер Барри), состоящая из четырёх эпизодов, которые были показаны в период с 3 по 24 января 1976 года.
Вернуться
51
Eric R. Kandel, James H. Schwartz, and Thomas M. Jessell, eds., «Principles of Neural Science», 3rd ed. (New York: Appleton & Lange, 1991); Mark F. Bear, Barry W. Connors, and Michael A. Paradiso, «Neuroscience: Exploring the Brain», 3rd ed. (Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2006); David E. Presti, «Foundational Concepts in Neuroscience: A Brain-Mind Odyssey» (New York: W. W. Norton, 2015); Paul A. Young, Paul H. Young, and Daniel L. Tolbert, «Basic Clinical Neuroscience», 3rd ed. (Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015).
Вернуться
52
Arianna Huffington, «Picasso: Creator and Destroyer», «Atlantic» (июнь 1988).
Вернуться
53
C. G. Jung, «Wandlungen und Symbole der Libido» (Vienna: Franz Deuticke, 1912).
Вернуться
54
Betty Friedan, «The Feminine Mystique» (New York: W. W. Norton, 1963).
Вернуться
55
Edward Said, «Orientalism» (New York: Pantheon Books, 1978).
Вернуться
56
Sigmund Freud, «An Autobiographical Study», translated and ed. James Strachey, «Complete Psychological Works of Sigmund Freud» (New York: W. W. Norton, 1989).
Вернуться
57
Penny Bailey, «Translating Galen», Wellcome Trust Blog, blog.wellcome.ac.uk/2009/08/18/translating-galen, 18 августа 2009 года.
Вернуться
58
Stanley Finger, «Origins of Neuroscience: A History of Explorations into Brain Function» (New York: Oxford University Press, 2001).
Вернуться
59
Гладиаторские бои отошли в прошлое, однако черепно-мозговые травмы получают и при других обстоятельствах, и они и в наши дни снабжают неврологов и нейрофизиологов данными, которые наталкивают на важные открытия. В других разделах этой книги приведено много подобных примеров.
Вернуться
60
C. G. Gross, «Galen and the squealing pig», «Neuroscientist» 4 (1998): 216–221.
Вернуться
61
Edwin Clarke and Kenneth Dewhurst, «An Illustrated History of Brain Function: Imaging the Brain from Antiquity to the Present» (San Francisco: Norman Publishing, 1996).
Вернуться
62
Andreas Vesalius, «De Humani Corporis Fabrica», цит. по: Charles J. Singer, «Vesalius on the Human Brain: Introduction, Translation of Text, Translation of Descriptions of Figures, Notes to the Translations, Figures» (London: Oxford University Press, 1952).
Вернуться
63
Платон, «Федр», Перевод А. Н. Егунова // Платон. Собр. соч. в 4 томах. Том 2. М.: Мысль, 1993.
Вернуться
64
Charles S. Sherrington, «Man on His Nature» (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1940).
Вернуться
65
K. L. Kirkland, «High-tech brains: A history of technology-based analogies and models of nerve and brain function», «Perspectives in Biology and Medicine» 45 (2002): 212–223.
Вернуться
66
Arthur Keith, «The Engines of the Human Body: Being the Substance of Christmas Lectures Given at the Royal Institution of Great Britain, Christmas, 1916–1917» (London: Williams and Norgate, 1920).
Вернуться
67
J. R. Searle, «Minds, brains, and programs», «Behavioral and Brain Sciences» 3 (1980): 417–457; Роджер Пенроуз, «Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и законах физики» (Москва: Едиториал УРСС, ЛКИ, 2015).
Вернуться
68
«Мозг Спока», «Звездный путь», 3 сезон, эпизод 1, режиссер Марк Дэниелс, «CBS Television», 20 сентября 1968 года.
Вернуться
69
Айзек Азимов, «Я, робот» (Москва: Знание, 1964); «Автостопом по галактике», реж. Гарт Дженнингс (Buena Vista Pictures, 2005).
Вернуться
70
M. Raibert, K. Blankespoor, G. Nelson, R. Playter, and the BigDog Team, «BigDog, the rough-terrain quadruped robot», «Proceedings of the 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control» (2008): 10822–10825; S. Colombano, F. Kirchner, D. Spenneberg, and J. Hanratty, «Exploration of planetary terrains with a legged robot as a scout adjunct to a rover», «Space 2004 Conference and Exhibit, American Institute of Aeronautics and Astronautics» (2004): 1–9.
Вернуться
71
John von Neumann, «The Computer and the Brain» (New Haven, CT: Yale University Press, 1958).
Вернуться
72
R. D. Fields, «A new mechanism of nervous system plasticity: Activity-dependent myelination», «Nature Reviews Neuroscience» 16 (2015): 756–767; Mark Carwardine, «Natural History Museum Book of Animal Records» (Richmond Hill, ON: Firefly Books, 2013).
Вернуться
73
A. Roxin, N. Brunel, D. Hansel, G. Mongillo, and C. van Vreeswijk, «On the distribution of firing rates in networks of cortical neurons», «Journal of Neuroscience» 31 (2011): 16217–16226.
Вернуться
74
Lingua franca – язык или диалект, используемый по взаимной договоренности для общения между людьми, для которых он не родной.
Вернуться
75
Например, процессоры «Intel Skylake», установленные в лэптопы Apple Macbook Pro 2016 года, содержат почти два миллиарда транзисторов, примерно в 50 раз меньше, чем нейронов в человеческом мозге.
Вернуться
76
E. Aksay et al., «Functional dissection of circuitry in a neural integrator», «Nature Neuroscience» 10 (2007): 494–504.
Вернуться
77
A. Borst and M. Helmstaedter, «Common circuit design in fly and mammalian motion vision», «Nature Neuroscience» 18 (2015): 1067–1076.
Вернуться
78
W. Schultz, «Neuronal reward and decision signals: From theories to data», «Physiological Reviews» 95 (2015): 853–951.
Вернуться
79
Richard S. Sutton and Andrew G. Barto, «Reinforcement Learning: An Introduction» (Cambridge, MA: MIT Press, 1998).
Вернуться
80
Claude E. Shannon and Warren Weaver, «The Mathematical Theory of Communication» (Urbana: University of Illinois Press, 1998; перевод на русский язык см. в сб. «Работы по теории информации и кибернетике» (Москва: ИИЛ, 1963), пер. С. Карпова.
Вернуться
81
Fred Rieke, David Warland, Rob de Ruyter van Steveninck, and William Bialek, «Spikes: Exploring the Neural Code» (Cambridge, MA: MIT Press, 1997).
Вернуться
82
C. R. Gallistel and Adam Philip King, «Memory and the Computational Brain: Why Cognitive Science Will Transform Neuroscience» (Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2010).
Вернуться
83
A. M. Turing, «On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem», «Proceedings of the London Mathematical Society» s2–42 (1937): 230–265.
Вернуться
84
S. Tonegawa, X. Liu, S. Ramirez, and R. Redondo, «Memory engram cells have come of age», «Neuron» 87 (2015): 918–931.
Вернуться
85
Norman Macrae, «John von Neumann» (New York: Pantheon Books, 1992).
Вернуться
86
Эрвин Шредингер. Что такое жизнь? (М.: Гос. изд-во иностр. лит., 1947).
Вернуться
87
Роджер Пенроуз. Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и законах физики (М.: Едиториал УРСС, ЛКИ, 2015).
Вернуться
88
F. Crick and C. Koch, «Towards a neurobiological theory of consciousness», «Seminars in the Neurosciences» 2 (1990): 263–275; Francis Crick, «The Astonishing Hypothesis» (New York: Touchstone, 1994).
Вернуться
89
Marleen Rozemond, «Descartes’s Dualism» (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998).
Вернуться
90
Рене Декарт. Страсти души // Рене Декарт. Сочинения: в 2 т / Т. 1. Пер. А. Сынопалова. (М.: Мысль, 1989).
Вернуться
91
Christopher Badcock, «Freud: Fraud or Folk-Psychologist?», «Psychology Today», September 3, 2012; Saul McLeod, «Id, Ego and Superego», SimplyPsychology, , 2007.
Вернуться
92
Bandai, «Body and Brain Connection – Xbox 360», Amazon.com.
Вернуться
93
Dorothy Senior, «The Gay King: Charles II, His Court and Times» (New York: Brentano’s, 1911).
Вернуться
94
На языке теории телесных жидкостей избыток крови назывался «плетора».
Вернуться
95
Setti Rengachary and Richard Ellenbogen, eds., «Principles of Neurosurgery», 2nd ed. (New York: Elsevier Mosby, 2004).
Вернуться
96
S. Herculano-Houzel, «The glia/neuron ratio: How it varies uniformly across brain structures and species and what that means for brain physiology and evolution», «Glia» 62 (2014): 1377–1391.
Вернуться
97
Gina Kolata and Lawrence K. Altman, «Weighing Hope and Reality in Kennedy’s Cancer Battle», «New York Times», August 27, 2009.
Вернуться
98
Любопытно, что структура Национальных институтов здоровья США практически законодательно закрепляет привычную дихотомию тела и разума, что отражено в инфраструктуре государственных управлений по нейромедицине и нейрофизиологическим исследованиям. Исследованиями патологий вроде инсульта или сотрясения мозга занимается так называемый Национальный институт неврологических заболеваний и инсульта (National Institute for Neurological Diseases and Stroke, NINDS), а когнитивными расстройствами мозговой деятельности – другие управления в пределах Национальных институтов здоровья: Национальный институт душевного здоровья (National Institute for Mental Health, NIMH) и Национальный институт наркомании (National Institute for Drug Addiction, NIDA).
Вернуться
99
N. Bazargani and D. Attwell, «Astrocyte calcium signaling: The third wave», «Nature Neuroscience» 19 (2016): 182–189.
Вернуться
100
J. Schummers, H. Yu, and M. Sur, «Tuned responses of astrocytes and their influence on hemodynamic signals in the visual cortex», «Science» 320 (2008): 1638–1643.
Вернуться
101
Stefano Zago, Lorenzo Lorusso, Roberta Ferrucci, and Alberto Priori, «Functional Neuroimaging: A Historical Perspective», в сб.: «Neuroimaging: Methods», ed. Peter Bright (Rijeka, Croatia: InTechOpen, 2012).
Вернуться
102
G. Garthwaite et al., «Signaling from blood vessels to CNS axons through nitric oxide», «Journal of Neuroscience» 26 (2006): 7730–7740; E. Ruusuvuori and K. Kaila, «Carbonic anhydrases and brain pH in the control of neuronal excitability», «Subcellular Biochemistry» 75 (2014): 271–290.
Вернуться
103
C. I. Moore and R. Cao, «The hemo-neural hypothesis: On the role of blood flow in information processing», «Journal of Neurophysiology» 99 (2008): 2035–2047.
Вернуться
104
M. Hausser, «Optogenetics: The age of light», «Nature Methods» 11 (2014): 1012–1014.
Вернуться
105
T. Sasaki et al., «Application of an optogenetic byway for perturbing neuronal activity via glial photostimulation», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 109 (2012): 20720–20725.
Вернуться
106
X. Han et al., «Forebrain engraftment by human glial progenitor cells enhances synaptic plasticity and learning in adult mice», «Cell Stem Cell» 12 (2013): 342–353.
Вернуться
107
Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, Lawrence C. Katz, Anthony-Samuel LaMantia, James O. McNamara, and S. Mark Williams, eds., «Neuroscience», 2nd ed. (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2001).
Вернуться
108
John E. Dowling, «The Retina: An Approachable Part of the Brain» (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1987).
Вернуться
109
D. Li, C. Agulhon, E. Schmidt, M. Oheim, and N. Ropert, «New tools for investigating astrocyte-to-neuron communication», «Frontiers in Cellular Neuroscience» 7 (2013): 193.
Вернуться
110
J. O. Schenk, «The functioning neuronal transporter for dopamine: Kinetic mechanisms and effects of amphetamines, cocaine and methylphenidate», «Progress in Drug Research» 59 (2002): 111–131.
Вернуться
111
B. Barbour and M. Hausser, «Intersynaptic diffusion of neurotransmitter», «Trends in Neuroscience» 20 (1997): 377–384.
Вернуться
112
N. Arnth-Jensen, D. Jabaudon, and M. Scanziani, «Cooperation between independent hippocampal synapses is controlled by glutamate uptake», Nature Neuroscience 5 (2002): 325–331; P. Marcaggi and D. Attwell, «Short- and long-term depression of rat cerebellar parallel fibre synaptic transmission mediated by synaptic crosstalk», «Journal of Physiology» 578 (2007): 545–550; Y. Okubo et al., «Imaging extrasynaptic glutamate dynamics in the brain», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 107 (2010): 6526–6531.
Вернуться
113
K. H. Taber and R. A. Hurley, «Volume transmission in the brain: Beyond the synapse», «Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience» 26 (2014): iv, 1–4.
Вернуться
114
S. R. Lockery and M. B. Goodman, «The quest for action potentials in C. elegans neurons hits a plateau», «Nature Neuroscience» 12 (2009): 377–378.
Вернуться
115
Даглас Хофштадтер. Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда / пер. М. Эскиной. (Самара: «Бахрах-М», 2001).
Вернуться
116
В онлайн-словаре «Urban Dictionary» можно найти следующие комментарии пользователей: 1) «Относится к паре в неоднозначных отношениях между „просто друзья“ и „встречается с…“. Кроме того, может использоваться для выражения неудовлетворенности имеющимися романтическими отношениями». 2) «Любые романтические отношения, в которых что-то не устраивает; страх считаться одиноким; попытка удержать что-то, что близится к концу; надежда все исправить; стадия отрицания при разрыве отношений». 3) «Пара, которая не может решить, кто они – друзья, друзья с привилегиями или находятся в романтических отношениях». %27s+complicated
Вернуться
117
Christof Koch, цит. в Ira Flatow, «Decoding „the Most Complex Object in the Universe,“» «Talk of the Nation», National Public Radio, 14 июня 2013 г.
Вернуться
118
David Eagleman, «Incognito: The Secret Lives of the Brain». (New York: Vintage Books, 2012).
Вернуться
119
Alun Anderson, «Brain Work», «Economist», 17 ноября 2011 г.
Вернуться
120
Robin Murray, quoted in Edi Stark, «The Brain Is the „Most Complicated Thing in the Universe“». «Stark Talk», BBC Radio Scotland, 28 мая 2012 г.
Вернуться
121
Вольтер, цит. по: Julian Cribb, «The Self-Deceiver (Homo delusus)», Глава 9 из кн. «Surviving the 21st Century: Humanity’s Ten Great Challenges and How We Can Overcome Them» (Cham, Switzerland: Springer International, 2016).
Вернуться
122
Brian Thomas, «Brain’s Complexity „Is Beyond Anything Imagined,“» Institute for Creation Research, -complexity-is-beyond-anything/, 17 января 2011 г.
Вернуться
123
«Krishna: The Beautiful Legend of God», translated by Edwin F. Bryant (New York: Penguin, 2004).
Вернуться
124
Paul Lettinck, «Aristotle’s Meteorology and Its Reception in the Arab World» (Boston: Brill, 1999).
Вернуться
125
Галилео Галилей. Звездный вестник // Галилео Галилей. Избранные труды в двух томах. Т. 1. / пер. И. Веселовского. (М.: Наука, 1964).
Вернуться
126
Репродукция приведена в кн.: Stanley Finger, «Minds Behind the Brain: A History of the Pioneers and Their Discoveries» (New York: Oxford University Press, 2000).
Вернуться
127
Richard Rapport, «Nerve Endings: The Discovery of the Synapse» (New York: W. W. Norton, 2005).
Вернуться
128
W. A. Mozart and L. Da Ponte, «Don Giovanni» (New York: Ricordi, 1986).
Вернуться
129
«ATLAS Fact Sheet», European Organization for Nuclear Research (CERN), 2011.
Вернуться
130
С точки зрения управления данными очень удачно, что большинство событий, происходящих в детекторе АТЛАС, отсеиваются триггерными механизмами детектора, так что остается лишь около 200 «интересных» событий в секунду.
Вернуться
131
M. Temming, «How Many Stars Are There in the Universe?» «Sky & Telescope», 15 июля 2014 г.
Вернуться
132
Карл Саган. Миллиарды и миллиарды. Размышления о жизни и смерти на рубеже тысячелетий. (М.: Альпина нон-фикшн, 2018).
Вернуться
133
S. Herculano-Houzel and R. Lent, «Isotropic fractionator: A simple, rapid method for the quantification of total cell and neuron numbers in the brain», «Journal of Neuroscience» 25 (2005): 2518–2521.
Вернуться
134
F. A. Azevedo et al., «Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain», «Journal of Comparative Neurology» 513 (2009): 532–541.
Вернуться
135
J. DeFelipe, P. Marco, I. Busturia, and A. Merchan-Perez, «Estimation of the number of synapses in the cerebral cortex: Methodological considerations», Cerebral Cortex 9 (1999): 722–732.
Вернуться
136
Опубликованные оценки количества синапсов на нейрон значительно разнятся, но большинство источников указывают результаты в диапазоне от тысячи до 10 тысяч, а некоторые даже больше.
Вернуться
137
Y. Ko et al., «Cell type-specific genes show striking and distinct patterns of spatial expression in the mouse brain», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 110 (2013): 3095–3100.
Вернуться
138
D. Attwell and S. B. Laughlin, «An energy budget for signaling in the grey matter of the brain», «Journal of Cerebral Blood Flow Metabolism» 21 (2001): 1133–1145.
Вернуться
139
B. Pakkenberg et al., «Aging and the human neocortex», «Experimental Gerontology» 38 (2003): 95–99; «Table HM-20: Public Road Length, 2013, Miles by Functional System», Office of Highway Policy Information, Federal Highway Administration, , данные на 21 октября 2014 г.
Вернуться
140
E. Bianconi et al., «An estimation of the number of cells in the human body», «Annals in Human Biology» 40 (2013): 463–471.
Вернуться
141
Sebastian Seung, «Connectome: How the Brain’s Wiring Makes Us Who We Are» (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2012).
Вернуться
142
M. Helmstaedter et al., «Connectomic reconstruction of the inner plexiform layer in the mouse retina», «Nature» 500 (2013): 168–174; John E. Dowling, «The Retina: An Approachable Part of the Brain» (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1987).
Вернуться
143
J. S. Allen, H. Damasio, and T. J. Grabowski, «Normal neuroanatomical variation in the human brain: an MRI-volumetric study», «American Journal of Physical Anthropology» 118 (2002): 341–358.
Вернуться
144
A. W. Toga and P. M. Thompson, «Genetics of brain structure and intelligence», «Annual Review of Neuroscience» 28 (2005): 1–23.
Вернуться
145
S. Herculano-Houzel, D. J. Messeder, K. Fonseca-Azevedo, and N. A. Pantoja, «When larger brains do not have more neurons: Increased numbers of cells are compensated by decreased average cell size across mouse individuals», «Frontiers in Neuroanatomy» 9 (2015): 64.
Вернуться
146
N. C. Fox and J. M. Schott, «Imaging cerebral atrophy: Normal ageing to Alzheimer’s disease», «Lancet» 363 (2004): 392–394.
Вернуться
147
F. Yu, Q. J. Jiang, X. Y. Sun, and R. W. Zhang, «A new case of complete primary cerebellar agenesis: Clinical and imaging findings in a living patient», Brain 138 (2015): e353.
Вернуться
148
E. P. Vining et al., «Why would you remove half a brain? The outcome of 58 children after hemispherectomy – the Johns Hopkins experience: 1968 to 1996», «Pediatrics» 100 (1997): 163–171.
Вернуться
149
C. C. Abbott, «Intelligence of the crow», «Science» 1 (1883): 576.
Вернуться
150
N. J. Emery and N. S. Clayton, «The mentality of crows: Convergent evolution of intelligence in corvids and apes», «Science» 306 (2004): 1903–1907.
Вернуться
151
Irene M. Pepperberg, «Alex & Me: How a Scientist and a Parrot Discovered a Hidden World of Animal Intelligence – and Formed a Deep Bond in the Process» (New York: HarperCollins, 2008).
Вернуться
152
A. N. Iwaniuk, K. M. Dean, and J. E. Nelson, «Interspecific allometry of the brain and brain regions in parrots (psittaciformes): Comparisons with other birds and primates», «Brain, Behavior and Evolution» 65 (2005): 40–59; J. Mehlhorn, G. R. Hunt, R. D. Gray, G. Rehkamper, and O. Gunturkun, «Toolmaking New Caledonian crows have large associative brain areas», «Brain, Behavior and Evolution» 75 (2010): 63–70.
Вернуться
153
S. Olkowicz et al., «Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 113 (2016): 7255–7260; S. Herculano-Houzel, «The remarkable, yet not extraordinary, human brain as a scaled-up primate brain and its associated cost», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 109, Suppl 1 (2012): 10661–10668.
Вернуться
154
G. Roth and U. Dicke, «Evolution of the brain and intelligence», «Trends in Cognitive Science» 9 (2005): 250–257.
Вернуться
155
S. Herculano-Houzel, B. Mota, and R. Lent, «Cellular scaling rules for rodent brains», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 103 (2006): 12138–12143; J. L. Kruger, N. Patzke, K. Fuxe, N. C. Bennett, and P. R. Manger, «Nuclear organization of cholinergic, putative catecholaminergic, serotonergic and orexinergic systems in the brain of the African pygmy mouse (Mus minutoides): Organizational complexity is preserved in small brains», «Journal of Chemical Neuroanatomy» 44 (2012): 45–56. Количество нейронов у карликовой мыши в публикациях не указано, но приблизительное число 60 миллионов нейронов можно получить исходя из предположений, что, согласно наблюдениям Эркулану-Озель и ее группы, размер мозга у представителей семейства грызунов пропорционален количеству нейронов в степени 1,587. В статье Herculano-Houzel et al. приводятся референтные значения для мышей – 71 миллион нейронов и масса мозга 417 мг, а масса мозга карликовой мыши составляет 275 мг, как указано в статье Kruger et al.
Вернуться
156
M. A. Seid, A. Castillo, and W. T. Wcislo, «The allometry of brain miniaturization in ants», «Brain, Behavior and Evolution» 77 (2011): 5–13.
Вернуться
157
Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой отбор // Чарльз Дарвин. Сочинения / пер. под ред. И. Сеченова. Т. 5 (М.: Изд-во АН СССР, 1953).
Вернуться
158
Harry J. Jerison, «Evolution of the Brain and Intelligence» (New York: Academic, 1973).
Вернуться
159
X. Jiang et al., «Principles of connectivity among morphologically defined cell types in adult neocortex», «Science» 350 (2015): aac9462.
Вернуться
160
V. B. Mountcastle, «The columnar organization of the neocortex», «Brain» 120 (Part 4) (1997): 701–722.
Вернуться
161
«Richard Feynman’s Blackboard at Time of His Death», Caltech Image Archive, archives-dc.library.caltech.edu.
Вернуться
162
Sean Hill, «Whole Brain Simulation», в кн.: «The Future of the Brain», ed. Gary Marcus and Jeremy Freeman (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015).
Вернуться
163
HBP-PS Consortium, «The Human Brain Project: A Report to the European Commission», 2012.
Вернуться
164
A. P. Alivisatos et al., «The brain activity map project and the challenge of functional connectomics», «Neuron» 74 (2012): 970–974.
Вернуться
165
C. I. Bargmann and E. Marder, «From the connectome to brain function», «Nature Methods» 10 (2013): 483–490.
Вернуться
166
Peter Shadbolt, «Scientists Upload a Worm’s Mind into a Lego Robot», CNN, 21 января 2015 года.
Вернуться
167
В принципе, никто не спорит, что машины еще играют представительскую роль, влияют на климат, служат источником энергии, заменяют жилище, но в основном эти роли несущественны, и по сравнению с главной ими можно пренебречь.
Вернуться
168
Stephen J. Gould, «The Mismeasure of Man» (New York: W. W. Norton, 1996).
Вернуться
169
Ralph L. Holloway, Chet C. Sherwood, Patrick R. Hof, and James K. Rilling, «Evolution of the Brain in Humans – Paleoneurology», «Encyclopedia of Neuroscience», ed. Marc D. Binder, Nobutaka Hirokawa, and Uwe Windhorst (Berlin, Germany: Springer, 2009).
Вернуться
170
D. Falk et al., «The brain of LB1, Homo floresiensis», «Science» 308 (2005): 242–245.
Вернуться
171
J. DeFelipe, «The evolution of the brain, the human nature of cortical circuits, and intellectual creativity», «Frontiers in Neuroanatomy» 5 (2011): 29.
Вернуться
172
B. Holmes, «How many uncontacted tribes are there in the world?» «New Scientist», 22 августа 2013 года.
Вернуться
173
Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 1979 год получили Аллен Кормак и Годфри Хаунсфилд «за изобретение томографии при помощи компьютера», а Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2003 год – Пол Лотербур и Питер Мэнсфилд «за изобретение метода магнитно-резонансной томографии».
Вернуться
174
Поиск на PubMed по ключевому слову «neuroimaging» дает в среднем 10 039 статей в год за пятилетний период 2012–2016 гг. Поиск статей, в которых одновременно упоминаются слова «brain» и «imaging», дает в среднем 17 270 статей в год за тот же период.
Вернуться
175
W. Belliveau et al., «Functional mapping of the human visual cortex by magnetic resonance imaging», «Science» 254 (1991): 716–719; S. Ogawa et al., «Intrinsic signal changes accompanying sensory stimulation: Functional brain mapping with magnetic resonance imaging», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 89 (1992): 5951–5955.
Вернуться
176
S. A. Huettel, A. W. Song, and G. McCarthy, eds., «Functional Magnetic Resonance Imaging», 3rd ed. (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2014).
Вернуться
177
S. Schleim, T. M. Spranger, S. Erk, and H. Walter, «From moral to legal judgment: The influence of normative context in lawyers and other academics», «Social Cognitive and Affective Neuroscience» 6 (2011): 48–57; S. M. McClure et al., «Neural correlates of behavioral preference for culturally familiar drinks», «Neuron» 44 (2004): 379–387.
Вернуться
178
B. R. Rosen and R. L. Savoy, «fMRI at 20: Has it changed the world?», «NeuroImage» 62 (2012): 1316–1324.
Вернуться
179
Поиск на LexisNexis Academic по ключевому слову «fMRI» с ограничением типа контента и категории «newspapers» дал 1187 результатов за период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2017 года.
Вернуться
180
Marco Iacobini, Joshua Freedman, and Jonas Kaplan, «This Is Your Brain on Politics», «New York Times», 11 ноября 2007 года; Benedict Carey, «Watching New Love As It Sears the Brain», «New York Times», 31 мая 2005 года.
Вернуться
181
Sally Satel and Scott O. Lilienfeld, «Brainwashed: The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience» (New York: Basic Books, 2013).
Вернуться
182
D. P. McCabe and A. D. Castel, «Seeing is believing: The effect of brain images on judgments of scientific reasoning», «Cognition» 107 (2008): 343–352.
Вернуться
183
C. J. Hook and M. J. Farah, «Look again: Effects of brain images and mind-brain dualism on lay evaluations of research», «Journal of Cognitive Neuroscience» 25 (2013): 1397–1405.
Вернуться
184
M. Kaufman, «Meditation Gives Brain a Charge, Study Finds», «Washington Post», 3 января 2005 года.
Вернуться
185
A. Brefczynski-Lewis, A. Lutz, H. S. Schaefer, D. B. Levinson, and R. J. Davidson, «Neural correlates of attentional expertise in long-term meditation practitioners», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 104 (2007): 11483–11488.
Вернуться
186
Sharon Begley, «How Thinking Can Change the Brain», «Wall Street Journal», 19 января 2007 года.
Вернуться
187
D. Biello, «Searching for God in the brain», «Scientific American» 18 (2007): 38–45.
Вернуться
188
A. B. Newberg, N. A. Wintering, D. Morgan, and M. R. Waldman, «The measurement of regional cerebral blood flow during glossolalia: A preliminary SPECT study», «Psychiatry Research» 148 (2006): 67–71.
Вернуться
189
V. Mabrey and R. Sherwood, «Speaking in Tongues: Alternative Voices in Faith», ABC News, 20 марта 2007 года.
Вернуться
190
Scientific American – старейший научно-популярный американский журнал, выпускающийся с 28 августа 1845 года. Рассказывает о новых и инновационных исследованиях доступно как для специалистов, так и для дилетантов.
Вернуться
191
Biello, «Searching for God in the brain».
Вернуться
192
Mario Beauregard, «Brain Wars: The Scientific Battle over the Existence of the Mind and the Proof That Will Change the Way We Live Our Lives» (New York: HarperCollins, 2012).
Вернуться
193
«The Scanner Story», реж. Майкл Уайгл, EMITEL Productions, 1977.
Вернуться
194
M. Ter-Pogossian, M. E. Phelps, E. J. Hoffman, and N. A. Mullani, «A positron-emission transaxial tomograph for nuclear imaging (PETT)», «Radiology» 114 (1975): 89–98.
Вернуться
195
A. Newberg, A. Alavi, and M. Reivich, «Determination of regional cerebral function with FDG-PET imaging in neuropsychiatric disorders», «Seminars in Nuclear Medicine» 32 (2002): 13–34.
Вернуться
196
Michael E. Phelps, «PET: Molecular Imaging and Its Biological Applications» (New York: Springer, 2004).
Вернуться
197
W. E. Klunk et al., «Imaging brain amyloid in Alzheimer’s disease with Pittsburgh Compound-B», «Annals of Neurology» 55 (2004): 306–319.
Вернуться
198
Peter Doggers, «Magnus Carlsen Checkmates Bill Gates in 12 Seconds», Chess.com, chess.com/news/view/bill-gates-vsmagnus-carlsen-checkmate-in-12-seconds-8224, 24 января 2014 года.
Вернуться
199
Belliveau et al., «Functional mapping of the human visual cortex by magnetic resonance imaging».
Вернуться
200
S. Ogawa, T. M. Lee, A. R. Kay, and D. W. Tank, «Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 87 (1990): 9868–9872; S. Ogawa et al., «Intrinsic signal changes accompanying sensory stimulation.»
Вернуться
201
N. K. Logothetis, «What we can do and what we cannot do with fMRI», «Nature» 453 (2008): 869–878.
Вернуться
202
Elizabeth Landau, «Scan a Brain, Read a Mind?», CNN, 12 апреля 2014 года.
Вернуться
203
William B. Penny, Karl J. Friston, John T. Ashburner, Stefan J. Kiebel, and Thomas E. Nichols, eds., «Statistical Parametric Mapping: The Analysis of Functional Brain Images» (New York: Academic, 2006).
Вернуться
204
Современная болонская копченая колбаса происходит от традиционной свиной колбасы мортаделлы, которую делают на севере Италии. Сегодня копченые колбасы готовят не только из свинины, и они так сильно переработаны, что от них очень далеко до животного сырья, из которого их делают, а тем более до живой свиньи.
Вернуться
205
C. M. Bennett, M. B. Miller, and G. L. Wolford, «Neural correlates of interspecies perspective taking in the post-mortem Atlantic Salmon: An argument for multiple comparisons correction», «Journal of Serendipitous and Unexpected Results» 1 (2010): 1–5.
Вернуться
206
«About the Ig Nobel Prizes», Improbable Research, .
Вернуться
207
E. Vul, C. Harris, P. Winkielman, and H. Pashler, «Puzzlingly high correlations in fMRI studies of emotion, personality, and social cognition», «Perspectives on Psychological Science» 4 (2009): 274–290.
Вернуться
208
Nancy Kanwisher, «A Neural Portrait of the Human Mind», TED Conferences, 19 марта 2014 года.
Вернуться
209
C. W. Domanski, «Mysterious „Monsieur Leborgne“: The mystery of the famous patient in the history of neuropsychology is explained», «Journal of the History of Neuroscience» 22 (2013): 47–52.
Вернуться
210
Kanwisher, «A Neural Portrait».
Вернуться
211
D. Dobbs, «Fact or phrenology?», «Scientific American» 16 (2005): 24.
Вернуться
212
R. A. Poldrack, «Mapping mental function to brain structure: How can cognitive neuroimaging succeed?», «Perspectives on Psychological Science» 5 (2010): 753–761.
Вернуться
213
T. K. Inagaki and N. I. Eisenberger, «Neural correlates of giving support to a loved one», «Psychosomatic Medicine» 74 (2012): 3–7; C. Lamm, C. D. Batson, and J. Decety, «The neural substrate of human empathy: Effects of perspective-taking and cognitive appraisal», «Journal Cognitive Neuroscience» 19 (2007): 42–58; K. H. Lee et al., «Neural correlates of superior intelligence: Stronger recruitment of posterior parietal cortex», «NeuroImage» 29 (2006): 578–586.
Вернуться
214
Martin Lindstrom, «You Love Your iPhone. Literally», «New York Times», 30 сентября 2011 года.
Вернуться
215
Jonah Lehrer, «Imagine: How Creativity Works» (Boston: Houghton Mifflin, 2012).
Вернуться
216
Francis Crick, «The Astonishing Hypothesis» (New York: Touchstone, 1994).
Вернуться
217
Neuroskeptic, «Brain Scanning – Just the Tip of the Iceberg?», Neuroskeptic Blog, -scanning-just-the-tip-of-the-iceberg/#.XBIzqGlx3b0, 21 марта 2012 года.
Вернуться
218
J. V. Haxby et al., «Distributed and overlapping representations of faces and objects in ventral temporal cortex», «Science» 293 (2001): 2425–2430.
Вернуться
219
A. Shmuel, M. Augath, A. Oeltermann, and N. K. Logothetis, «Negative functional MRI response correlates with decreases in neuronal activity in monkey visual area V1», «Nature Neuroscience» 9 (2006): 569–577.
Вернуться
220
Артур Конан Дойл, «Серебряный», из сб. «Архив Шерлока Холмса», пер. Ю. Жуковой.
Вернуться
221
William R. Uttal, The New Phrenology: The Limits of Localizing Cognitive Processes in the Brain (Cambridge, MA: MIT Press, 2003).
Вернуться
222
Daniel Dennett, «Consciousness Explained» (Boston: Back Bay Books, 1992).
Вернуться
223
Сэмюэл Беккет, «В ожидании Годо. Трагикомедия в двух актах». Пер. Н. Санниковой
Вернуться
224
Logothetis, «What we can do and what we cannot do with fMRI».
Вернуться
225
N. Kanwisher and G. Yovel, «The fusiform face area: A cortical region specialized for the perception of faces», «Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences» 361 (2006): 2109–2128.
Вернуться
226
M. B. Ahrens, M. B. Orger, D. N. Robson, J. M. Li, and P. J. Keller, «Whole-brain functional imaging at cellular resolution using light-sheet microscopy», «Nature Methods» 10 (2013): 413–420.
Вернуться
227
B. B. Bartelle, A. Barandov, and A. Jasanoff, «Molecular fMRI», «Journal of Neuroscience» 36 (2016): 4139–4148.
Вернуться
228
Timothy Leary, Your Brain Is God (Berkeley, CA: Ronin, 2001).
Вернуться
229
Eric R. Kandel, «Your Mind Is Nothing but Neurons, and That’s Fine», Big Think, /a-biological-basis-for-the-unconscious.
Вернуться
230
Francis Crick, «The Astonishing Hypothesis» (New York: Touchstone, 1994).
Вернуться
231
Robert Lee Hotz, «A Neuron’s Obsession Hints at Biology of Thoughts», «Wall Street Journal», 9 октября 2009 года.
Вернуться
232
Фридрих Ницше. «Так говорил Заратустра», пер. Ю. Антоновского. (СПб.: Азбука, 2012).
Вернуться
233
Людвиг Витгенштейн. «Философские исследования», пер. Л. Добросельского (М.: АСТ, 2011).
Вернуться
234
Maxwell R. Bennett and Peter M. S. Hacker, «Philosophical Foundations of Neuroscience» (Malden, MA: Blackwell, 2003).
Вернуться
235
Daniel Dennett, «Philosophy as Naive Anthropology: Comment on Bennett and Hacker» // «Neuroscience and Philosophy: Brain, Mind, and Language», ed. Maxwell Bennett et al. (New York: Columbia University Press, 2007).
Вернуться
236
Patricia Churchland, «Touching a Nerve: The Self as Brain» (New York: W. W. Norton, 2013); Derek Parfit, «Reasons and Persons» (New York: Oxford University Press, 1984).
Вернуться
237
R. S. Boyer, E. A. Rodin, T. C. Grey, and R. C. Connolly, «The skull and cervical spine radiographs of Tutankhamen: A critical appraisal», «American Journal of Neuroradiology» 24 (2003): 1142–1147.
Вернуться
238
A. A. Fanous and W. T. Couldwell, «Transnasal excerebration surgery in ancient Egypt», «Journal of Neurosurgery» 116 (2012): 743–748.
Вернуться
239
«The Brain Preservation Foundation», .
Вернуться
240
Alcor Life Extension Foundation: The World’s Leader in Cryonics, .
Вернуться
241
S. W. Bridge, «The neuropreservation option: Head first into the future», «Cryonics» 16 (1995): 4–7.
Вернуться
242
K. Hussein, E. Matin and A. G. Nerlich, «Paleopathology of the juvenile Pharaoh Tutankhamun: 90th anniversary of discovery», «Virchows Archiv» 463 (2013): 475–479.
Вернуться
243
Z. Hawass et al., «Ancestry and pathology in King Tutankhamun’s family», «Journal of the American Medical Association» 303 (2010): 638–647.
Вернуться
244
World Health Organization Communicable Diseases Cluster, «Severe falciparum malaria», «Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene» 94, Suppl 1 (2000): S1–90.
Вернуться
245
Edward Shorter, «A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac» (New York: John Wiley & Sons, 1997)
Вернуться
246
Hans-Joachim Kreuzer, Interview by Wolf-Dieter Seiffert, «Schumann’s „Late Works,“» Schumann Forum 2010, henleusa.com/en/schumann-anniversary-2010/schumann-forum/the-lateworks.html.
Вернуться
247
B. Felker, J. J. Yazel, and D. Short, «Mortality and medical comorbidity among psychiatric patients: A review», «Psychiatric Services» 47 (1996): 1356–1363.
Вернуться
248
Eric J. Nestler, Steven E. Hyman, David M. Holtzman, and Robert C. Malenka, «Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience» (New York: McGraw-Hill Education, 2015).
Вернуться
249
A. W. Tank and D. Lee Wong, «Peripheral and central effects of circulating catecholamines», «Comprehensive Physiology» 5 (2015): 1–15.
Вернуться
250
A. Schulz and C. Vogele, «Interoception and stress», «Frontiers in Psychology» 6 (2015): 993.
Вернуться
251
L. M. Glynn, E. P. Davis, and C. A. Sandman, «New insights into the role of perinatal HPA-axis dysregulation in postpartum depression», «Neuropeptides» 47 (2013): 363–370.
Вернуться
252
Чарльз Дарвин. «Выражение эмоций у животных и человека» // Чарльз Дарвин. Сочинения /пер. под ред. Е. Павловского. Т. 5. (М.: Изд-во АН СССР, 1953).
Вернуться
253
William James, «The Principles of Psychology» (New York: Henry Holt and Company, 1890).
Вернуться
254
Психолог Лайза Фельдман Баррет утверждает, напротив, что данные о специфичности физиологических реакций на эмоции несколько переоценены. Она подвергает сомнению сами определения эмоциональных категорий и считает, что эмоциональные реакции более изменчивы и расплывчаты, чем мы привыкли думать. Лайза Фельдман Баррет предлагает альтернативную точку зрения, которая «не отрицает важность реакций, сохранившихся в ходе эволюции, но лишает эмоции привилегированного статуса врожденных рефлекторных дуг или модулей» (L. F. Barrett, «Perspectives on Psychological Science» 1 [2006]: 28–58). См. также S. D. Kreibig, «Autonomic nervous system activity in emotion: A review», «Biological Psychiatry» 84 (2010): 394–421.
Вернуться
255
L. Nummenmaa, E. Glerean, R. Hari, and J. K. Hietanen, «Bodily maps of emotions», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 111 (2014): 646–651.
Вернуться
256
Antonio Damasio, «Descartes Error: Emotion, Reason, and the Human Brain» (New York: G. P. Putnam, 1994).
Вернуться
257
A. R. Damasio, «The somatic marker hypothesis and the possible functions of the prefrontal cortex», «Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences» 351 (1996): 1413–1420.
Вернуться
258
B. D. Dunn, T. Dalgleish, and A. D. Lawrence, «The somatic marker hypothesis: A critical evaluation», «Neuroscience & Biobehavioral Reviews» 30 (2006): 239–271.
Вернуться
259
Joseph E. LeDoux, «The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life» (New York: Simon & Schuster, 1996).
Вернуться
260
Даниэль Канеман. Думай медленно… решай быстро / пер. Школа перевода Баканова. (М.: АСТ, 2014).
Вернуться
261
В статье, опубликованной в 1978 году в журнале «Journal of the American Medical Association» (27: 141–162), Мирон Шоненфельд (Myron Schonenfeld) предположил, что у Паганини, скорее всего, был синдром Марфана, редкое генетическое расстройство.
Вернуться
262
Цит. по: A. Pedrazzini, A. Martelli, and S. Tocco, «Niccolò Paganini: The hands of a genius», «Acta Biomedica» 86 (2015): 27–31.
Вернуться
263
Carl Guhr, «Paganini’s Art of Playing the Violin: With a Treatise on Single and Double Harmonic Notes», translated by S. Novello (London: Novello & Co., 1915).
Вернуться
264
W. K. Bühler, «Gauss: A Biographical Study» (New York: Springer, 1981).
Вернуться
265
George Lakoff and Rafael E. Núñez, «Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being» (New York: Basic Books, 2000).
Вернуться
266
A. D. Wilson and S. Golonka, «Embodied cognition is not what you think it is», «Frontiers in Psychology» 4 (2013): 58.
Вернуться
267
L. M. Gordon et al., «Dental materials: Amorphous intergranular phases control the properties of rodent tooth enamel», «Science» 347 (2015): 746–750.
Вернуться
268
E. N. Woodcock, «Fifty Years a Hunter and a Trapper» (St. Louis: A. R. Harding, 1913).
Вернуться
269
Louise Barrett, «Beyond the Brain: How Body and Environment Shape Animal and Human Minds» (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011).
Вернуться
270
James J. Gibson, «The Theory of Affordances», в кн. «Perceiving, Acting, and Knowing: Toward an Ecological Psychology», ed. Robert Shaw and John Bransford (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1977).
Вернуться
271
Джордж Лакофф, Марк Джонсон. Метафоры, которыми мы живем / пер. А. Баранова, А. Морозовой. (М.: ЛКИ, 2008).
Вернуться
272
A. Eerland, T. M. Guadalupe, and R. A. Zwaan, «Leaning to the left makes the Eiffel Tower seem smaller: Posture-modulated estimation», «Psychological Science» 22 (2011): 1511–1514.
Вернуться
273
L. K. Miles, L. K. Nind, and C. N. Macrae, «Moving through time», «Psychological Science» 21 (2010): 222–223.
Вернуться
274
J. M. Northey, N. Cherbuin, K. L. Pumpa, D. J. Smee, and B. Rattray, «Exercise interventions for cognitive function in adults older than 50: A systematic review with meta-analysis», «British Journal of Sports Medicine» (2017).
Вернуться
275
E. P. Cox et al., «Relationship between physical activity and cognitive function in apparently healthy young to middle-aged adults: A systematic review», «Journal of Science and Medicine in Sport» 19 (2016): 616–628.
Вернуться
276
M. Oppezzo and D. L. Schwartz, «Give your ideas some legs: The positive effect of walking on creative thinking», «Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition» 40 (2014): 1142–1152.
Вернуться
277
K. Weigmann, «Why exercise is good for your brain: A closer look at the underlying mechanisms suggests that some sports, especially combined with mental activity, may be more effective than others», «EMBO Reports» 15 (2014): 745–748.
Вернуться
278
Claire Sylvia with William Novak, «A Change of Heart: A Memoir» (New York: Warner Books, 1997).
Вернуться
279
Joe Shute, «The Life-Saving Operations That Change Personalities», «Telegraph», 6 февраля 2015 года.
Вернуться
280
Will Oremus, «Personality Transplant», «Slate», 26 марта 2012 года.
Вернуться
281
B. Bunzel, B. Schmidl-Mohl, A. Grundbock, and G. Wollenek, «Does changing the heart mean changing personality? A retrospective inquiry on 47 heart transplant patients», «Quality of Life Research» 1 (1992): 251–256.
Вернуться
282
M. E. Olbrisch, S. M. Benedict, K. Ashe, and J. L. Levenson, «Psychological assessment and care of organ transplant patients», «Journal of Consulting and Clinical Psychology» 70 (2002): 771–783.
Вернуться
283
K. Mattarozzi, L. Cretella, M. Guarino, and A. Stracciari, «Minimal hepatic encephalopathy: Follow-up 10 years after successful liver transplantation», «Transplantation» 93 (2012): 639–643.
Вернуться
284
Michael D. Gershon, «The Second Brain: The Scientific Basis of Gut Instinct and a Groundbreaking New Understanding of Nervous Disorders of the Stomach and Intestine» (New York: HarperCollins, 1998).
Вернуться
285
S. Fass, «Gastric Sleeve Surgery – The Expert’s Guide», Obesity Coverage, obesitycoverage.com, 13 апреля 2017 года.
Вернуться
286
H. Woodberries, «Personality Changes – It’s a Huge Deal!!» Gastric Sleeve Discussion Forum, gastricsleeve.com (10 марта 2012 года).
Вернуться
287
Jeff Seidel, «After Bariatric Surgery, the Rules of Marriage Often Change», «Seattle Times», 1 июня 2011 года.
Вернуться
288
CDC Newsroom, «Nearly Half a Million Americans Suffered from Clostridium difficile Infections in a Single Year», Centers for Disease Control and Prevention (25 февраля 2015 года).
Вернуться
289
Peter A. Smith, «Can the Bacteria in Your Gut Explain Your Mood?» «New York Times», 23 июня 2015 года; T. G. Dinan, R. M. Stilling, C. Stanton, and J. F. Cryan, «Collective unconscious: How gut microbes shape human behavior», «Journal of Psychiatric Research» 63 (2015): 1–9.
Вернуться
290
P. Bercik et al., «The intestinal microbiota affect central levels of brain-derived neurotropic factor and behavior in mice», «Gastroenterology» 141 (2011): 599–609.
Вернуться
291
J. A. Bravo et al., «Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 108 (2011): 16050–16055.
Вернуться
292
K. Tillisch et al., «Consumption of fermented milk product with probiotic modulates brain activity», Gastroenterology 144 (2013): 1394–1401.
Вернуться
293
J. M. Harlow, «Recovery from the passage of an iron bar through the head», «Publication of the Massachusetts Medical Society» 2 (1869): 327–347; A. Bechara, H. Damasio, D. Tranel, and A. R. Damasio, «The Iowa Gambling Task and the somatic marker hypothesis: Some questions and answers», «Trends in Cognitive Science» 9 (2005): 159–162; discussion 62–64.
Вернуться
294
J. Horgan, «The forgotten era of brain chips», «Scientific American» 293 (2005): 66–73.
Вернуться
295
J. Gorman, «Brain Control in a Flash of Light», «New York Times», 21 апреля 2014 года.
Вернуться
296
W. R. Lovallo et al., «Caffeine stimulation of cortisol secretion across the waking hours in relation to caffeine intake levels», «Psychosomatic Medicine» 67 (2005): 734–739; J. R. Schwartz and T. Roth, «Neurophysiology of sleep and wakefulness: Basic science and clinical implications», «Current Neuropharmacology» 6 (2008): 367–378.
Вернуться
297
Отсылка к стихотворению английского поэта Джона Донна (1572–1631) «No man is an island». – Прим. ред.
Вернуться
298
Peter M. Milner, «The Autonomous Brain: A Neural Theory of Attention and Learning» (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1999).
Вернуться
299
P. Haggard, «Human volition: Towards a neuroscience of will», «Nature Reviews Neuroscience» 9 (2008): 934–946.
Вернуться
300
B. Libet, C. A. Gleason, E. W. Wright, and D. K. Pearl, «Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential): The unconscious initiation of a freely voluntary act», «Brain» 106 (Part 3) (1983): 623–642.
Вернуться
301
David Eagleman, «Incognito: The Secret Lives of the Brain» (New York: Vintage Books, 2012).
Вернуться
302
«Головоломка», режиссеры Пит Доктер и Рональдо Дель Кармен (Walt Disney Studios, 2015).
Вернуться
303
Гилберт Райл. Понятие сознания. (М.: Идея-Пресс, 2000).
Вернуться
304
Артур Шопенгауэр. Конкурсное сочинение «О свободе воли» // А. Шопенгауэр. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. Малые философские сочинения / пер. под ред. А. Чанышева. (М.: ТЕРРА, 2001).
Вернуться
305
«Fodor’s Tokyo», ed. Stephanie E. Butler (New York: Random House, 2011).
Вернуться
306
Three-Monkeys, three-monkeys.info.
Вернуться
307
Juhi Saklani, «Eyewitness Gandhi» (New York: DK Publishing, 2014).
Вернуться
308
Neil Strauss, «Mafia Songs Break a Code of Silence; A Gory Italian Folk Form Attracts Fans, and Critics», «New York Times», 22 июля 2002 года.
Вернуться
309
«The Bhagavad Gita», translated by Laurie L. Patton. (New York: Penguin Classics, 2008).
Вернуться
310
H. B. Barlow, W. R. Levick, and M. Yoon, «Responses to single quanta of light in retinal ganglion cells of the cat», «Vision Research», Suppl 3 (1971): 87–101.
Вернуться
311
M. Meister, R. O. Wong, D. A. Baylor, and C. J. Shatz, «Synchronous bursts of action potentials in ganglion cells of the developing mammalian retina», «Science» 252 (1991): 939–943.
Вернуться
312
K. Koch et al., «How much the eye tells the brain», «Current Biology» 16 (2006): 1428–1434.
Вернуться
313
B. C. Moore, «Coding of sounds in the auditory system and its relevance to signal processing and coding in cochlear implants», «Otology & Neurotology» 24 (2003): 243–254.
Вернуться
314
R. S. Johansson and A. B. Vallbo, «Tactile sensibility in the human hand: Relative and absolute densities of four types of mechanoreceptive units in glabrous skin», «Journal of Physiology» 286 (1979): 283–300.
Вернуться
315
Daniel L. Schacter, Daniel T. Gilbert, Daniel M. Wegner, and Matthew K. Nock, «Psychology», 3rd ed. (New York: Worth Publishers, 2014).
Вернуться
316
T. Connelly, A. Savigner, and M. Ma, «Spontaneous and sensory-evoked activity in mouse olfactory sensory neurons with defined odorant receptors», «Journal of Neurophysiology» 110 (2013): 55–62.
Вернуться
317
Eric Griffith, «How Fast Is Your Internet Connection… Really?» «PC Magazine», 2 июня 2017 года.
Вернуться
318
E. V. Evarts, «Relation of Discharge Frequency to Conduction Velocity in Pyramidal Tract Neurons», «Journal of Neurophysiology» 28 (1965): 216–228; L. Firmin et al., «Axon diameters and conduction velocities in the macaque pyramidal tract», «Journal of Neurophysiology» 112 (2014): 1229–1240.
Вернуться
319
David C. Van Essen, «Organization of Visual Areas in Macaque and Human Cerebral Cortex» // «Visual Neurosciences», vol. 1, ed. Leo M. Chalupa and John S. Werner. (Cambridge, MA: MIT Press, 2004).
Вернуться
320
N. Naue et al., «Auditory event – related response in visual cortex modulates subsequent visual responses in humans», «Journal of Neuroscience» 31 (2011): 7729–7736; C. Kayser, C. I. Petkov, and N. K. Logothetis, «Multisensory interactions in primate auditory cortex: fMRI and electrophysiology», «Hearing Research» 258 (2009): 80–88.
Вернуться
321
Micah M. Murray and Mark T. Wallace, eds., «The Neural Bases of Multisensory Processes» (Boca Raton, FL: CRC, 2012).
Вернуться
322
M. T. Schmolesky et al., «Signal timing across the macaque visual system», «Journal of Neurophysiology» 79 (1998): 3272–3278.
Вернуться
323
M. E. Raichle et al., «A default mode of brain function», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 98 (2001): 676–682.
Вернуться
324
B. Biswal, F. Z. Yetkin, V. M. Haughton, and J. S. Hyde, «Functional connectivity in the motor cortex of resting human brain using echo-planar MRI», «Magnetic Resonance in Medicine» 34 (1995): 537–541.
Вернуться
325
K. R. Van Dijk et al., «Intrinsic functional connectivity as a tool for human connectomics: Theory, properties, and optimization», «Journal of Neurophysiology» 103 (2010): 297–321.
Вернуться
326
V. Betti et al., «Natural scenes viewing alters the dynamics of functional connectivity in the human brain», «Neuron» 79 (2013): 782–797.
Вернуться
327
T. Vanderwal, C. Kelly, J. Eilbott, L. C. Mayes, and F. X. Castellanos, «Inscapes: A movie paradigm to improve compliance in functional magnetic resonance imaging», «NeuroImage» 122 (2015): 222–232.
Вернуться
328
N. Gaab, J. D. Gabrieli, and G. H. Glover, «Resting in peace or noise: Scanner background noise suppresses default-mode network», «Human Brain Mapping» 29 (2008): 858–867.
Вернуться
329
J. H. Kaas, «The evolution of neocortex in primates», «Progress in Brain Research» 195 (2012): 91–102.
Вернуться
330
Камю Альбер. Посторонний / пер. Н. Немчиновой // Камю Альбер. Сочинения. (М.: Прометей, 1989).
Вернуться
331
Matthew H. Bowker, «Meursault and Moral Freedom: The Stranger’s Unique Challenge to an Enlightenment Ideal», в сб.: Albert Camus’s The Stranger: Critical Essays, ed. Peter Francev (Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars, 2014).
Вернуться
332
A. Vrij, J. van der Steen, and L. Koppelaar, «Aggression of police officers as a function of temperature: An experiment with the fire arms training system», Journal of Community & Applied Social Psychology 4 (1994): 365–370.
Вернуться
333
S. M. Hsiang, M. Burke, and E. Miguel, «Quantifying the influence of climate on human conflict», «Science» 341 (2013): 123567.
Вернуться
334
E. G. Cohn and J. Rotton, «Assault as a function of time and temperature: A moderator-variable time-series analysis», «Journal of Personality and Social Psychology» 72 (1997): 1322–1334.
Вернуться
335
L. Taylor, S. L. Watkins, H. Marshall, B. J. Dascombe, and J. Foster, «The impact of different environmental conditions on cognitive function: A focused review», «Frontiers in Physiology» 6 (2015): 372.
Вернуться
336
G. Greenberg, «The effects of ambient temperature and population density on aggression in two inbred strains of mice, Mus musculus», «Behaviour» 42 (1972): 119–130.
Вернуться
337
Caroline Overy and E. M. Tansey, eds., «The Recent History of Seasonal Affective Disorder (SAD): The Transcript of a Witness Seminar», Wellcome Witnesses to Contemporary Medicine, vol. 51 (London: Queen Mary, University of London, 2014).
Вернуться
338
N. E. Rosenthal et al., «Seasonal affective disorder: A description of the syndrome and preliminary findings with light therapy», «Archives of General Psychiatry» 41 (1984): 72–80; A. Magnusson, «An overview of epidemiological studies on seasonal affective disorder», «Acta Psychiatrica Scandinavica» 101 (2000): 176–184; K. A. Roecklein and K. J. Rohan, «Seasonal affective disorder: An overview and update», «Psychiatry» 2 (2005): 20–26.
Вернуться
339
G. Pail et al., «Bright-light therapy in the treatment of mood disorders», «Neuropsychobiology» 64 (2011): 152–162.
Вернуться
340
Roecklein and Rohan, «Seasonal affective disorder.»
Вернуться
341
Кандинский В… О духовном в искусстве / пер. Н. Маньковской. (М.: Рипол Классик, 2016).
Вернуться
342
Michael York, «The A to Z of New Age Movements» (Lanham, MD: Scarecrow, 2009).
Вернуться
343
A. J. Pleasonton, «The Influence of the Blue Ray of the Sunlight and of the Blue Colour of the Sky; in Developing Animal and Vegetable Life, in Arresting Disease and in Restoring Health in Acute and Chronic Disorders to Human and Domestic Animals». (Philadelphia: Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1876).
Вернуться
344
Adam Alter, «Drunk Tank Pink: And Other Unexpected Forces That Shape How We Think, Feel, and Behave» (New York: Penguin, 2014).
Вернуться
345
A. G. Schauss, «Tranquilizing effect of color reduces aggressive behavior and potential violence», «Orthomolecular Psychiatry» 8 (1979): 218–221.
Вернуться
346
J. E. Gilliam and D. Unruh, «The effects of Baker – Miller pink on biological, physical and cognitive behaviour», «Journal of Orthomolecular Medicine» 3 (1988): 202–206.
Вернуться
347
P. Valdez and A. Mehrabian, «Effects of color on emotions», «Journal of Experimental Psychology: General» 123 (1994): 394–409.
Вернуться
348
A. J. Elliot, M. A. Maier, A. C. Moller, R. Friedman, and J. Meinhardt, «Color and psychological functioning: The effect of red on performance attainment», «Journal of Experimental Psychology: General» 136 (2007): 154–168.
Вернуться
349
R. Mehta and R. J. Zhu, «Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive task performances», «Science» 323 (2009): 1226–1229.
Вернуться
350
P. Salamé and A. D. Baddeley, «Disruption of short-term memory by unattended speech: Implications for the structure of working memory», «Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior» 21 (1982): 150–164; D. M. Jones and W. J. Macken, «Irrelevant tones produce an irrelevant speech effect: Implications for phonological coding in working memory», «Journal of Experimental Psychology» 19 (1993): 369–381.
Вернуться
351
E. M. Elliott, «The irrelevant-speech effect and children: Theoretical implications of developmental change», «Memory and Cognition» 30 (2002): 478–487.
Вернуться
352
S. Murphy and P. Dalton, «Out of touch? Visual load induces inattentional numbness», «Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 42 (2016): 761–765.
Вернуться
353
S. Brodoehl, C. M. Klingner, and O. W. Witte, «Eye closure enhances dark night perceptions», Science Reports 5 (2015): 10515.
Вернуться
354
H. McGurk and J. MacDonald, «Hearing lips and seeing voices», «Nature» 264 (1976): 746–748. Эффект Мак-Гурка был впервые продемонстрирован следующим образом: группе испытуемых одновременно обеспечивали зрительные и слуховые стимулы, а затем спрашивали, что испытуемые восприняли. Можете сами испытать на себе этот эффект: в Сети много соответствующих роликов.
Вернуться
355
M. Corbetta and G. L. Shulman, «Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain», «Nature Reviews Neuroscience» 3 (2002): 201–215.
Вернуться
356
William James, «The Principles of Psychology» (New York: Henry Holt and Company, 1890).
Вернуться
357
R. J. Krauzlis, A. Bollimunta, F. Arcizet, and L. Wang, «Attention as an effect not a cause», «Trends in Cognitive Science» 18 (2014): 457–464.
Вернуться
358
Corbetta and Shulman, «Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain».
Вернуться
359
Хэндфорд М… Где Волли? (СПб.: Речь, 2018) и другие книги этой серии.
Вернуться
360
N. P. Bichot, A. F. Rossi, and R. Desimone, «Parallel and serial neural mechanisms for visual search in macaque area V4», «Science» 308 (2005): 529–534.
Вернуться
361
H. F. Credidio, E. N. Teixeira, S. D. Reis, A. A. Moreira, and J. S. Andrade Jr., «Statistical patterns of visual search for hidden objects», «Scientific Reports» 2 (2012): 920.
Вернуться
362
I. Mertens, H. Siegmund, and O. J. Grusser, «Gaze motor asymmetries in the perception of faces during a memory task», «Neuropsychologia» 31 (1993): 989–998.
Вернуться
363
Пруст М. В поисках утраченного времени // Полное издание: В 2 т. (М.: АЛЬФА-КНИГА, 2009); Во И. Возвращение в Брайдсхед. (М.: АСТ, 2016).
Вернуться
364
Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. (М.: Наука, 1966).
Вернуться
365
Медина Д. Правила мозга. Что стоит знать о мозге вам и вашим детям. (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018).
Вернуться
366
Alyson Gausby, «Attention Spans», Consumer Insights, Microsoft Canada, 2015.
Вернуться
367
Solomon E. Asch, «Effects of Group Pressure upon the Modification and Distortion of Judgments», в сб. «Groups, Leadership and Men: Research in Human Relations», ed. H. Guetzkow (Oxford, UK: Carnegie, 1951).
Вернуться
368
S. E. Asch, «Opinions and social pressure», «Scientific American» (Ноябрь 1955 года).
Вернуться
369
H. C. Breiter et al., «Response and habituation of the human amygdala during visual processing of facial expression», «Neuron» 17 (1996): 875–887.
Вернуться
370
A. J. Bartholomew and E. T. Cirulli, «Individual variation in contagious yawning susceptibility is highly stable and largely unexplained by empathy or other known factors», «PLoS One» 9 (2014): e91773.
Вернуться
371
S. Kouider and E. Dupoux, «Subliminal speech priming», «Psychological Science» 16 (2005): 617–625.
Вернуться
372
S. Kouider, V. de Gardelle, S. Dehaene, E. Dupoux, and C. Pallier, «Cerebral bases of subliminal speech priming», «NeuroImage» 49 (2010): 922–929.
Вернуться
373
Atul Gawande, «Hellhole», «New Yorker», 30 марта 2009 года; Sal Rodriguez, «Solitary Confinement: FAQ», Solitary Watch, solitarywatch.com/facts/faq, 31 марта 2012 года.
Вернуться
374
Sal Rodriguez, «Fact Sheet: Psychological Effects of Solitary Confinement», Solitary Watch, solitarywatch.com/facts/factsheets, 4 июня 2011 года.
Вернуться
375
Shruti Ravindran, «Twilight in the Box», «Aeon», 27 февраля 2014 г.
Вернуться
376
P. Gendreau, N. L. Freedman, G. J. Wilde, and G. D. Scott, «Changes in EEG alpha frequency and evoked response latency during solitary confinement», «Journal of Abnormal Psychology» 79 (1972): 545–549.
Вернуться
377
Jan Harold Brunvand, ed., «American Folklore: An Encyclopedia» (New York: Garland, 1996).
Вернуться
378
«Extramarital Affairs Topline», Pew Research Center, 2014.
Вернуться
379
R. Khan, «Genetic map of Europe; genes vary as a function of distance», «Gene Expression», 21 мая 2008 года.
Вернуться
380
Газзанига М… Кто за главного? Свобода воли с точки зрения нейробиологии / пер. А. Якименко. (М.: АСТ; Корпус, 2017).
Вернуться
381
Донн Джон. По ком звонит колокол. Обращения к Господу в час нужды и бедствий. Схватка Смерти, или Утешение душе, ввиду смертельной жизни и живой смерти нашего тела / пер. А. Нестерова. (М.: Enigma, 2004).
Вернуться
382
Барак Обама, выступление на конференции Национальной ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Филадельфия, 2015.
Вернуться
383
Рональд Рейган, речь на Национальном съезде республиканской партии. Майами, 1968.
Вернуться
384
Представления Маркса об истории как о классовой борьбе популярнее всего изложены в «Манифесте коммунистической партии», который Маркс написал совместно с Фридрихом Энгельсом. «Манифест» был анонимно опубликован в Германии в 1848 году.
Вернуться
385
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ранние философские работы. (СПб.: Академический проект, 2010).
Вернуться
386
John M. O’Donnell, «The Origins of Behaviorism: American Psychology», 1870–1920 (New York: New York University Press, 1985).
Вернуться
387
S. Diamond, «Wundt Before Leipzig», в кн.: «Wilhelm Wundt and the Making of a Scientific Psychology», ed. R. W. Rieber (New York: Springer, 1980).
Вернуться
388
W. Wundt, «Principles of Physiological Psychology» // «Wilhelm Wundt and the Making of a Scientific Psychology», ed. R. W. Rieber (New York: Plenum, 1980).
Вернуться
389
K. Danziger, «The history of introspection revisited», «Journal of the History of Behavioral Sciences» 16 (1980): 241–262.
Вернуться
390
W. Wundt, «Lectures on Human and Animalт Psychology» (New York: Macmillan, 1896).
Вернуться
391
Wundt, «Principles of Physiological Psychology».
Вернуться
392
W. M. Wundt, «Outlines of Psychology» (Leipzig, Germany: W. Engelman, 1897).
Вернуться
393
Edward B. Titchener, «A Primer of Psychology» (New York: Macmillan, 1899).
Вернуться
394
Отец Уильяма Джеймса, Генри Джеймс-старший, был известным богословом, а в число братьев и сестер Уильяма входили писатель Генри Джеймс и мемуаристка Элис Джеймс.
Вернуться
395
William James, «The Principles of Psychology» (New York: Henry Holt and Company, 1890).
Вернуться
396
James, «The Principles of Psychology».
Вернуться
397
A. Kim, «Wilhelm Maximilian Wundt», «The Stanford Encyclopedia of Philosophy», ed. Edward N. Zalta (Stanford, CA: Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information, Stanford University).
Вернуться
398
Самые выдающиеся примеры – Освальд Кюльпе из Вюрцбургского университета, Грэнвилл Стэнли Холл из Университета Джонса Хопкинса, а затем Университета Кларка, Эдвард Торндайк и Джеймс Кеттелл из Колумбийского университета, Эдвин Боринг из Гарварда и Чарльз Спирман из Лондонского Университетского колледжа.
Вернуться
399
R. M. Yerkes, «Eugenic bearing of measurements of intelligence in the United States Army», «Eugenics Review» 14 (1923): 225–245.
Вернуться
400
C. S. Gruber, «Academic freedom at Columbia University, 1917–1918: The case of James McKeen Cattell», «AAUP Bulletin» 58 (1972): 297–305.
Вернуться
401
J. B. Watson, «Psychology as the behaviorist views it», Psychological Review 20 (1913): 158–177.
Вернуться
402
D. N. Robinson, «An Intellectual History of Psychology» (Madison: University of Wisconsin Press, 1986).
Вернуться
403
E. B. Titchener, «On „Psychology as the behaviorist views it,“» «Proceedings of the American Philosophical Society» 53 (1914): 1–17.
Вернуться
404
R. M. Yerkes, «Comparative psychology: A question of definitions», «The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods» 10, 1913: 580–582; J. B. Watson, «Behavior: An Introduction to Comparative Psychology» (New York: Henry Holt and Company, 1914).
Вернуться
405
F. Samelson, «Struggle for scientific authority: The reception of Watson’s behaviorism, 1913–1920», «Journal of History of the Behavioral Sciences» 17 (1981): 399–425.
Вернуться
406
История психологии очерчена в этой главе, безусловно, в самых общих чертах, и мы не уделяем должного внимания многим ученым, сыгравшим важную роль в этой области, особенно Фрейду, которому я уделил на этих страницах незаслуженно мало места. Резонно заявить, что его упор на структуру индивидуального бессознательного в целом соответствует воззрениям психологов конца XIX века с их ставкой на интроспекцию, однако в целом его подход значительно цельнее и «научнее». Академические психологи в целом отвергали теорию Фрейда, но нашелся человек, примиривший их, – Г. Стэнли Холл, который учился и у Джеймса, и у Вундта и глубоко исследовал психологические теории по всему спектру. Холл принимал Фрейда во время его единственной поездки в Америку в 1909 году. Сам Холл занимался и паранормальной психологией, и ментальным анализом религиозных деятелей.
Вернуться
407
Michael Specter, «Drool», «New Yorker», 24 ноября 2014 года.
Вернуться
408
Daniel P. Todes, «Ivan Pavlov: A Russian Life in Science» (New York: Oxford University Press, 2014).
Вернуться
409
С примерами условных рефлексов мы сталкивались в главе 2, где шла речь об эксперименте Шульца и его коллег, которые связали зрительный стимул с наградой в ходе изучения дофаминовой нейронной функции при обучении у обезьян, а Недергаард и ее коллеги ассоциировали звуковой сигнал с легким ударом тока, чтобы исследовать способность к обучению у мышей, которым пересадили клетки человеческой нейроглии.
Вернуться
410
John B. Watson, Behaviorism (New York: W. W. Norton, 1925).
Вернуться
411
S. J. Haggbloom et al., «The 100 most eminent psychologists of the 20th century», «Review of General Psychology» 6 (2002): 139–152.
Вернуться
412
Самое известное описание феномена оперантного обусловливания см. в книге: B. F. Skinner, The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis (New York: Appleton-Century-Crofts, 1938). Однако само понятие часто приписывают Эдварду Торндайку, который утверждал, что обучение, основанное на действии, опирается на так называемый «закон эффекта»: «Из нескольких реакций на одну и ту же ситуацию при прочих равных условиях прочнее всего связываются с ситуацией те, которые сопровождаются (непосредственно или сразу после) удовлетворением животного желания, так что при повторении ситуации с большой вероятностью повторятся и они, а у тех ситуаций, которые сопровождаются (непосредственно или сразу после) дискомфортом для животного, при прочих равных условиях, связь с ситуацией ослабляется, так что при повторении ситуации такие реакции повторятся с меньшей вероятностью. Чем больше удовлетворение и дискомфорт, тем сильнее укрепляются или ослабляются связи» (Edward L. Thorndike, «Animal Intelligence» (New York: Macmillan, 1911)).
Вернуться
413
B. F. Skinner, «Science and Human Behavior» (New York: Macmillan, 1953). Современники Скиннера разработали и изучали целый ряд вариантов оперантного обусловливания, в том числе, например, сопряженное обусловливание (contiguous conditioning) Эдвина Гатри, латентное научение Эдварда Толмена и оперантное избегание Мюррея Сидмана.
Вернуться
414
Benedict Carey, «Sidney W. Bijou, Child Psychologist, Is Dead at 100», New York Times, July 21, 2009.
Вернуться
415
D. M. Baer, M. M. Wolf, and T. R. Risley, «Some current dimensions of applied behavior analysis», Journal of Applied Behavioral Analysis 1 (1968): 91–97.
Вернуться
416
J. Pear, «Behaviorism in North America since Skinner: A personal perspective», «Operants» Q4 (2015): 10–14.
Вернуться
417
J. Ludy and T. Benjamin, «A history of teaching machines», «American Psychologist» 43 (1988): 703–712.
Вернуться
418
Le Corbusier, «Toward an Architecture», (Los Angeles: Getty Research Institute, 2007).
Вернуться
419
B. F. Skinner, «Walden Two» (New York: Macmillan, 1948).
Вернуться
420
A. Sanguinetti, «The design of intentional communities: A recycled perspective on sustainable neighborhoods», «Behavior and Social Issues» 21 (2012): 5–25.
Вернуться
421
Watson, Behaviorism.
Вернуться
422
Б. Ф. Скиннер, цит. в кн. Temple Grandin, «Animals in Translation: Using the Mysteries of Autism to Decode Animal Behavior» (New York: Scribner, 2005).
Вернуться
423
Джон Серл, цит. в: Steven R. Postrel and Edward Feser, «Reality Principles: An Interview with John R. Searle», «Reason» (февраль 2000 года).
Вернуться
424
B. F. Skinner, «Verbal Behavior» (New York: Appleton-Century-Crofts, 1957).
Вернуться
425
Noam Chomsky, «A review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior», «Language» 35 (1959): 26–58.
Вернуться
426
Chomsky, «A review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior».
Вернуться
427
Пинкер С. Чистый лист: природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня / пер. Г. Бородиной. (М.: Альпина нон-фикшн, 2018).
Вернуться
428
Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. (М.: Изд-во МГУ, 1972).
Вернуться
429
Pinker, «The Blank Slate».
Вернуться
430
M. Rescorla, «The computational theory of mind», «The Stanford Encyclopedia of Philosophy», ed. Edward N. Zalta (Stanford, CA: Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information, Stanford University, n. d.).
Вернуться
431
David Marr, «Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information» (San Francisco: W. H. Freeman, 1982).
Вернуться
432
Ned Block, «The Mind as the Software of the Brain», в сб.: «Thinking», vol. 3 of «An Invitation to Cognitive Science», 2nd ed., ed. Daniel N. Osherson et al. (Cambridge, MA: MIT Press, 1995).
Вернуться
433
Пинкер. «Чистый лист».
Вернуться
434
Полностью мозгоцентрические представления о ментальных функциях встречали некоторое сопротивление, и в число самых примечательных примеров входят и направления мысли, связанные с «воплощенным познанием», о котором мы говорили в главе 5, и другие течения, подчеркивавшие важность взаимодействия мозга и остального организма, в том числе учение Дамасио о соматических маркерах или реакциях стресса, охватывающих весь организм.
Вернуться
435
Peter B. Reiner, «The Rise of Neuroessentialism», в кн.: «Oxford Handbook of Neuroethics», ed. Judy Illes and Barbara J. Sahakian (New York: Oxford University Press, 2011).
Вернуться
436
A. Roskies, «Neuroethics for the new millennium», «Neuron» 35 (2002): 21–23.
Вернуться
437
Alex Hannaford, «The Mysterious Vanishing Brains», «Atlantic», 2 декабря 2014 года.
Вернуться
438
C. D. Chenar, «Charles Whitman Autopsy Report», Cook Funeral Home, Austin, TX, 1966.
Вернуться
439
Gary M. Lavergne, «A Sniper in the Tower: The Charles Whitman Murders» (Denton: University of North Texas Press, 1997).
Вернуться
440
Governor’s Committee and Invited Consultants, «Report to the Governor, Medical Aspects, Charles J. Whitman Catastrophe», Austin, TX, 1966.
Вернуться
441
Lavergne, «A Sniper in the Tower».
Вернуться
442
Joseph LeDoux, «Inside the Brain, Behind the Music, Part 5», The Beautiful Brain Blog, 23 июля 2010 года.
Вернуться
443
David Eagleman, «The Brain on Trial», «Atlantic» (июль/август 2011 года).
Вернуться
444
Jeffrey Rosen, «The Brain on the Stand», «New York Times Magazine», 11 марта 2007 года.
Вернуться
445
R. M. Sapolsky, «The frontal cortex and the criminal justice system», «Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B: Biological Sciences» 359 (2004): 1787–1796.
Вернуться
446
Adam Voorhes and Alex Hannaford, «Malformed: Forgotten Brains of the Texas State Mental Hospital» (New York: Powerhouse Books, 2014).
Вернуться
447
Hannaford, «The Mysterious Vanishing Brains.»
Вернуться
448
Rick Jervis and Doug Stanglin, «Mystery of Missing University of Texas Brains Solved», «USA Today», 3 декабря 2014 года.
Вернуться
449
Mary Midgley, «The Myths We Live By» (New York: Routledge, 2003).
Вернуться
450
Шекспир У. Страстный пилигрим // Шекспир Уильям. Полное собрание сочинений: В 8 т. Т. VII / пер. В. Давиденковой-Голубевой. (М.: Гослитиздат, 1949). —
Вернуться
451
Sarah-Jayne Blakemore, «The Mysterious Workings of the Adolescent Brain», TED Conferences, 17 сентября 2012 года.
Вернуться
452
Maggie Koerth-Baker, «Who Lives Longest?» «New York Times Magazine», 19 марта 2013 года.
Вернуться
453
«The Science of Drug Abuse and Addiction: The Basics», National Institute of Drug Abuse, -guide/science-drug-use-addiction-basics.
Вернуться
454
A. I. Leshner, «Addiction is a brain disease, and it matters», «Science» 278 (1997): 45–47.
Вернуться
455
J. D. Hawkins, R. F. Catalano, and J. Y. Miller, «Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention», «Psychological Bulletin» 112 (1992): 64–105; Mayo Clinic Staff, «Drug addiction (substance use disorder)», Mayo Clinic, -conditions/drug-addiction/symptoms-causes/syc-20365112.
Вернуться
456
Sally Satel and Scott O. Lilienfeld, «Brainwashed: The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience» (New York: Basic Books, 2013).
Вернуться
457
Lance Dodes, «Is Addiction Really a Disease?» «Psychology Today», 17 декабря 2011 года.
Вернуться
458
«Молодой Франкенштейн», режиссер Мел Брукс, киностудия «20th Century Fox», 1974.
Вернуться
459
Brian Burrell, «Postcards from the Brain Museum: The Improbable Search for Meaning in the Matter of Famous Minds» (New York: Broadway Books, 2004).
Вернуться
460
Nancy C. Andreasen, «Secrets of the Creative Brain», «Atlantic» (July/August 2014).
Вернуться
461
M. Reznikoff, G. Domino, C. Bridges, and M. Honeyman, «Creative abilities in identical and fraternal twins», «Behavioral Genetics» 3 (1973): 365–377; A. A. Vinkhuyzen, S. van der Sluis, D. Posthuma, and D. I. Boomsma, «The heritability of aptitude and exceptional talent across different domains in adolescents and young adults», «Behavioral Genetics» 39 (2009): 380–392; C. Kandler et al., «The nature of creativity: The roles of genetic factors, personality traits, cognitive abilities, and environmental sources», «Journal of Personality & Social Psychology» 111 (2016): 230–249.
Вернуться
462
Kevin Dunbar, «How Scientists Think: On-line Creativity and Conceptual Change in Science», в кн.: «Creative Thought: An Investigation of Conceptual Structures and Processes», ed. Thomas B. Ward, Steven M. Smith, and Jyotsna Vaid (Washington, DC: American Psychological Association, 1997).
Вернуться
463
Конникова М. Выдающийся ум. Мыслить как Шерлок Холмс. (М.: Азбука Бизнес, 2014).
Вернуться
464
Jan Verplaetse, «Localising the Moral Sense: Neuroscience and the Search for the Cerebral Seat of Morality, 1800–1930» (New York: Springer, 2009).
Вернуться
465
L. Pascual, P. Rodrigues, and D. Gallardo-Pujol, «How does morality work in the brain? A functional and structural perspective of moral behavior», «Frontiers in Integrative Neuroscience» 7 (2013): 65.
Вернуться
466
S. Milgram, «Behavioral study of obedience», «Journal of Abnormal and Social Psychology» 67 (1963): 371–378.
Вернуться
467
Lauren Cassani Davis, «Do Emotions and Morality mix?» «Atlantic», 5 февраля 2016 года.
Вернуться
468
Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории / Пер. В. Яковенко. (СПб.: 1908).
Вернуться
469
William James, «Great Men, Great Thoughts, and the Environment», «Atlantic Monthly» (октябрь 1880 года).
Вернуться
470
K. Weir, «The roots of mental illness», «Monitor on Psychology» 43 (2012): 30.
Вернуться
471
G. Schomerus et al., «Evolution of public attitudes about mental illness: A systematic review and meta-analysis», «Acta Psychiatrica Scandinavica» 125 (2012): 440–452.
Вернуться
472
Фуко М. История безумия в классическую эпоху / пер. И. Стаф. (СПб.: Университетская книга, 1997).
Вернуться
473
Samuel Tuke, «Description of the Retreat, an Institution near York, for Insane Persons of the Society of Friends: Containing an Account of Its Origins and Progress, the Modes of Treatment, and a Statement of Cases» (York, UK: Isaac Peirce, 1813).
Вернуться
474
Фуко М. История безумия в классическую эпоху.
Вернуться
475
«Mental Health Facts in America», National Alliance on Mental Illness, 2015, nami.org/Learn-More/Mental-Health-By-the-Numbers.
Вернуться
476
Doug Stanglin, «Aurora Suspect James Holmes Sent His Doctor Burned Money», «USA Today», 10 декабря 2012 года.
Вернуться
477
James Holmes, Laboratory Notebook, University of Colorado, 2012.
Вернуться
478
Ann O’Neill, Ana Cabrera, and Sara Weisfeldt, «A Look Inside the „Broken“ Mind of James Holmes», CNN, 10 июня 2017 года.
Вернуться
479
Ann O’Neill and Sara Weisfeldt, «Psychiatrist: Holmes Thought 3–4 Times a Day About Killing», CNN, 10 июня 2017 года.
Вернуться
480
Jack Bragen, «Schizophrenia: My 35-Year Battle» (Raleigh, NC: Lulu, 2015).
Вернуться
481
Jack Bragen, «On Mental Illness: The Sacrifices of Being Medicated», «Berkeley Daily Planet», 11 мая 2011 года.
Вернуться
482
P. W. Corrigan, J. E. Larson, and N. Rusch, «Self-stigma and the „why try“ effect: Impact on life goals and evidence-based practices», «World Psychiatry» 8 (2009): 75–81.
Вернуться
483
Schomerus et al., «Evolution of public attitudes about mental illness: A systematic review and meta-analysis.»
Вернуться
484
P. W. Corrigan and A. C. Watson, «At issue: Stop the stigma: Call mental illness a brain disease», «Schizophrenia Bulletin» 30 (2004): 477–479.
Вернуться
485
P. R. Reilly, «Eugenics and involuntary sterilization: 1907–2015», «Annual Review of Genomics and Human Genetics» 16 (2015): 351–368.
Вернуться
486
Dana Goldstein, «Sterilization’s Cruel Inheritance», «New Republic», 4 марта 2016 года.
Вернуться
487
Carrie Buck v. John Hendren Bell, 274 U.S. 200 (1927).
Вернуться
488
J. Pfeiffer, «Neuropathology in the Third Reich», Brain Pathology 1 (1991): 125–131.
Вернуться
489
Henry Friedlander, «The Origins of Nazi Genocide: From Euthanasia to the Final Solution» (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997).
Вернуться
490
J. T. Hughes, «Neuropathology in Germany during World War II: Julius Hallervorden (1882–1965) and the Nazi programme of „euthanasia,“» «Journal of Medical Biography» 15 (2007): 116–122.
Вернуться
491
J. Pfeiffer, «Phases in the postwar German Reception of the „euthanasia program“ (1939–1945) involving the killing of the mentally disabled and its exploitation by neuroscientists», «Journal of the History of the Neurosciences» 15 (2006): 210–244.
Вернуться
492
R. Ahren, «German Institute Finds Brain Parts Used by Nazis for Research During, and After, WWII», «Times of Israel», 31 августа 2016 года.
Вернуться
493
Roy Porter, «Madness and Its Institutions», в кн.: «Medicine in Society: Historical Essays», ed. Andrew Wear (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992).
Вернуться
494
Mark Davis, «Asylum: Inside the Pauper Lunatic Asylums» (Stroud, UK: Amberley, 2014).
Вернуться
495
H. R. Rollin, «Psychiatry in Britain one hundred years ago», «British Journal of Psychiatry» 183 (2003): 292–298.
Вернуться
496
Chris Pleasance, «Faces from the Asylum: Harrowing Portraits of Patients at Victorian „Lunatic“ Hospital Where They Were Treated for „Mania, Melancholia and General Paralysis of the Insane,“» «Daily Mail», 18 марта 2015 года.
Вернуться
497
Ezra Susser, Sharon Schwartz, Alfredo Morabia, and Evelyn J. Bromet, eds., «Psychiatric Epidemiology: Searching for the Causes of Mental Disorders» (New York: Oxford University Press, 2006).
Вернуться
498
W. S. Bainbridge, «Religious insanity in America: The official nineteenth-century theory», «Sociological Analysis» 45 (1984).
Вернуться
499
G. Davis, «The most deadly disease of asylumdom: General paralysis of the insane and Scottish psychiatry, c. 1840–1940», «Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh» 42 (2012): 266–273.
Вернуться
500
J. M. S. Pearce, «Brain disease leading to mental illness: A concept initiated by the discovery of general paralysis of the insane», «European Neurology» 67 (2012): 272–278.
Вернуться
501
J. Hurn, «The changing fortunes of the general paralytic», «Wellcome History» 4 (1997): 5.
Вернуться
502
«Pellagra and Its Prevention and Control in Major Emergencies», World Health Organization, 2000.
Вернуться
503
Charles S. Bryan, «Asylum Doctor: James Woods Babcock and the Red Plague of Pellagra» (Columbia: University of South Carolina Press, 2014).
Вернуться
504
V. P. Sydenstricker, «The history of pellagra, its recognition as a disorder of nutrition and its conquest», «American Journal of Clinical Nutrition» 6 (1958): 409–414.
Вернуться
505
Флек Людвиг. Возникновение и развитие научного факта: Введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива. (М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999).
Вернуться
506
Stephen V. Faraone, Stephen J. Glatt, and Ming T. Tsuang, «Genetic Epidemiology», в кн. «Textbook of Psychiatric Epidemiology», ed. Ming T. Tsuang, Mauricio Tohen, and Peter B. Jones (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011).
Вернуться
507
R. Plomin, M. J. Owen, and P. McGuffin, «The genetic basis of complex human behaviors», «Science» 264 (1994): 1733–1739.
Вернуться
508
Judith Allardyce, Jim van Os, «Examining Gene-Environment Interplay in Psychiatric Disorders», в кн.: Tsuang, Tohen, and Jones, eds., «Textbook of Psychiatric Epidemiology».
Вернуться
509
M. Burmeister, M. G. McInnis, and S. Zollner, «Psychiatric genetics: Progress amid controversy», «Nature Reviews Genetics» 9 (2008): 527–540.
Вернуться
510
P. F. Sullivan, M. J. Daly, and M. O’Donovan, «Genetic architectures of psychiatric disorders: The emerging picture and its implications», «Nature Reviews Genetics» 13 (2012): 537–551.
Вернуться
511
Такую точку зрения поддерживает крупное исследование, проведенное в 2014 году (F. A. Wright et al., «Heritability and genomics of gene expression in peripheral blood», «Nature» Genetics» 46 [2014]: 430–437): ученые обнаружили, что около 70 % генов, связываемых с наследственными расстройствами аутистического спектра или умственной отсталостью, ассоциируются с изменениями экспрессии генов, которые влияют на состав крови, то есть физиологическое воздействие на функционирование мозга, вероятно, оказывают внемозговые факторы. В 2013 году обзор исследований связи между ожирением и депрессией у молодежи и подростков (D. Nemiary et al., „The relationship between obesity and depression among adolescents“, „Psychiatric Annual“ 42 [2013]: 305–308), в частности, показал, что тучные подростки с большей вероятностью сталкиваются с трудностями в школе и психолого-психиатрическими расстройствами, что в значительной степени связано с травлей и недовольством своим телом. Поскольку ожирение, в свою очередь, отчасти вызывается генетическими причинами, связь депрессии и ожирения служит яркой иллюстрацией того, как гены опосредованно влияют на мозг и сознание.
Вернуться
512
M. Schwarzbold et al., «Psychiatric disorders and traumatic brain injury», «Neuropsychiatric Disease and Treatment» 4 (2008): 797–816.
Вернуться
513
Ruth Shonle Cavan, «Suicide» (Chicago: University of Chicago Press, 1928).
Вернуться
514
J. Faris, «Robert E. Lee Faris and the discipline of sociology», «ASA Footnotes» 26 (1998): 8.
Вернуться
515
Robert E. L. Faris and H. Warren Dunham, «Mental Disorders in Urban Areas: An Ecological Study of Schizophrenia and Other Psychoses» (Chicago: University of Chicago Press, 1939).
Вернуться
516
(Robert E. L. Faris, W. H. Dunham, «Mental Disorders in Urban Areas»)
Вернуться
517
A. V. Horwitz and G. N. Grob, «The checkered history of American psychiatric epidemiology», «Milbank Quarterly» 89 (2011): 628–657.
Вернуться
518
J. D. Page, «Review of Mental Disorders in Urban Areas», «Journal of Educational Psychology» 30 (1939): 706–708.
Вернуться
519
W. W. Eaton, «Residence, social class, and schizophrenia», «Journal of Health and Social Behavior» 15 (1974): 289–299.
Вернуться
520
Monica Charalambides, Craig Morgan, and Robin M. Murray, «Epidemiology of Migration and Serious Mental Illness: The Example of Migrants to Europe», в кн. Tsuang, Tohen, and Jones, eds., «Textbook of Psychiatric Epidemiology»; G. Lewis, A. David, S. Andreasson, and P. Allebeck, «Schizophrenia and city life», «Lancet» 340 (1992): 137–140; M. Marcelis, F. Navarro-Mateu, R. Murray, J. P. Selten, and J. van Os, «Urbanization and psychosis: A study of 1942–1978 birth cohorts in the Netherlands», «Psychological Medicine» 28 (1998): 871–879.
Вернуться
521
William W. Eaton, Chuan-Yu Chen, and Evelyn J. Bromet, «Epidemiology of Schizophrenia», в кн.: Tsuang, Tohen, and Jones, eds., «Textbook of Psychiatric Epidemiology».
Вернуться
522
D. S. Hasin, M. C. Fenton, and M. M. Weissman, «Epidemiology of Depressive Disorders», в кн.: Tsuang, Tohen, and Jones, eds., «Textbook of Psychiatric Epidemiology».
Вернуться
523
Kathleen R. Merikangas and Mauricio Tohen, «Epidemiology of Bipolar Disorder in Adults and Children», в кн.: Tsuang, Tohen, and Jones, eds., «Textbook of Psychiatric Epidemiology».
Вернуться
524
Elie Wiesel, «A Mad Desire to Dance» (New York: Alfred A. Knopf, 2009).
Вернуться
525
Плат Сильвия. Под стеклянным колпаком. (М.: АСТ, 2017).
Вернуться
526
Достоевский Ф. М. Преступление и наказание (М.: Эксмо, 2006).
Вернуться
527
Когда обезумевший Лир странствует в бурю по степи во второй сцене третьего действия, то призывает на себя гнев стихий, чтобы усугубить свои душевные муки:
Но вы, прислужники и подлипалы У дочерей-злодеек, с ними вместе С небес разите голову седую И старую, как эта. (Пер. М. Кузмина)Вернуться
528
«Суд над Натальей Горбаневской» // Хроника текущих событий. 31 августа 1970 года.
Вернуться
529
«Арест Натальи Горбаневской» // «Хроника текущих событий», 31 декабря 1969 года.
Вернуться
530
«Суд над Натальей Горбаневской».
Вернуться
531
H. Merskey and B. Shafran, «Political hazards in the diagnosis of „sluggish schizophrenia“», «British Journal of Psychiatry» 148 (1986): 247–256.
Вернуться
532
«Суд над Натальей Горбаневской».
Вернуться
533
Sidney Bloch and Peter Reddaway, «Russia’s Political Hospitals: The Abuse of Psychiatry in the Soviet Union» (London: Futura, 1978).
Вернуться
534
Douglas Martin, «Natalya Gorbanevskaya, Soviet Dissident and Poet, Dies at 77», «New York Times», 1 декабря 2013 года.
Вернуться
535
R. Apps, G. Moore, and S. Guppy, «Natalia», «Joan Baez: From Every Stage» (A & M Records, 1976).
Вернуться
536
R. van Voren, «Political abuse of psychiatry – An historical overview», «Schizophrenia Bulletin» 36 (2010): 33–35.
Вернуться
537
Эпплбаум Энн. ГУЛАГ. (М.: АСТ, 2017).
Вернуться
538
Walter Reich, «The World of Soviet Psychiatry», «New York Times», 30 января 1983 года.
Вернуться
539
F. Jabr, «The newest edition of psychiatry’s „Bible,“ the DSM-5, is complete», «Scientific American», 28 января 2013 года.
Вернуться
540
«The People Behind DSM-5», American Psychiatric Association, 2013.
Вернуться
541
«Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5», 5th ed. (Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2013).
Вернуться
542
A. Suris, R. Holliday, and C. S. North, «The evolution of the classification of psychiatric disorders», «Behavioral Science» 6 (2016): 5.
Вернуться
543
Ethan Watters, «Crazy Like Us» (New York: Free Press, 2010).
Вернуться
544
Ethan Watters, «The Americanization of Mental Illness», «New York Times Magazine», 8 января 2010 года.
Вернуться
545
T. Szasz, «The myth of mental illness», «American Psychology» 15 (1960): 113–118.
Вернуться
546
J. Oliver, «The myth of Thomas Szasz», «New Atlantis» (Summer 2006); Benedict Carey, «Dr. Thomas Szasz, Psychiatrist Who Led Movement Against His Field, Dies at 92», «New York Times», 11 сентября 2012 года.
Вернуться
547
A. L. Petraglia, E. A. Winkler, and J. E. Bailes, «Stuck at the bench: Potential natural neuroprotective compounds for concussion», «Surgical Neurology International» 2 (2011): 146.
Вернуться
548
Claude Quétel, «History of Syphilis» (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990).
Вернуться
549
G. L. Engel, «The need for a new medical model: A challenge for biomedicine», «Science» 196 (1977): 129–136.
Вернуться
550
T. M. Brown, «George Engel and Rochester’s Biopsychosocial Tradition: Historical and Developmental Perspectives», в кн.: «The Biopsychosocial Approach: Past, Present, and Future», ed. Richard M. Frankel, Timothy E. Quill, and Susan H. McDaniel (Rochester, NY: University of Rochester Press, 2003).
Вернуться
551
Engel, «The need for a new medical model.»
Вернуться
552
«Mental Health Treatment & Services», National Alliance on Mental Illness, nami.org/Learn-More/Treatment.
Вернуться
553
Oliver Burkeman, «Therapy Wars: The Revenge of Freud», «Guardian», 7 января 2016 года.
Вернуться
554
J. R. Cooper, F. E. Bloom, and R. H. Roth, «The Biochemical Basis of Neuropharmacology» (New York: Oxford University Press, 2003).
Вернуться
555
G. S. Malhi and T. Outhred, «Therapeutic mechanisms of lithium in bipolar disorder: Recent advances and current understanding», «CNS Drugs» 30 (2016): 931–949.
Вернуться
556
«America’s State of Mind», Medco Health Solutions, 2011.
Вернуться
557
S. Ilyas and J. Moncrieff, «Trends in prescriptions and costs of drugs for mental disorders in England, 1998–2010», «British Journal of Psychiatry» 200 (2012): 393–398.
Вернуться
558
M. Olfson and S. C. Marcus, «National trends in outpatient psychotherapy», «American Journal of Psychiatry» 167 (2010): 1456–1463.
Вернуться
559
Schomerus et al., «Evolution of public attitudes about mental illness: A systematic review and meta-analysis.»
Вернуться
560
S. Satel and S. O. Lilienfeld, «Addiction and the brain-disease fallacy», «Frontiers in Psychiatry» 4 (2013): 141.
Вернуться
561
Robert Whitaker, «Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America» (New York: Crown Publishers, 2010).
Вернуться
562
A. Prosser, B. Helfer, and S. Leucht, «Biological v. psychosocial treatments: A myth about pharmacotherapy v. psychotherapy», «British Journal of Psychiatry» 208 (2016): 309–311.
Вернуться
563
Corrigan and Watson, «At issue: Stop the stigma.»
Вернуться
564
Antonio Regalado, «Why America’s Top Mental Health Researcher Joined Alphabet», «Technology Review», 21 сентября 2015 года.
Вернуться
565
Подразделение «Google», куда перешел Инсел, вскоре было преобразовано в исследовательскую компанию «Verily». В 2017 году Инсел ушел из «Verily» и стал сооснователем фирмы «Mindstrong», которая тоже ставит перед собой цель задействовать информационные технологии, чтобы с помощью смартфонов диагностировать психические расстройства и наблюдать за их течением.
Вернуться
566
A. F. Ward and P. Valdesolo, «What internet habits say about mental health», «Scientific American», 14 августа 2012 года.
Вернуться
567
Whitney Ellsworth, Robert J. Maxwell, and Bernard Luber, «Adventures of Superman», Warner Bros. Television, 19 сентября 1952 года; Jerome Siegel and Joe Shuster, «The Reign of the Superman», январь 1933 года.
Вернуться
568
Deborah Friedell, «Kryptonomics», «New Yorker», 24 июня 2013 года.
Вернуться
569
P. Frati et al., «Smart drugs and synthetic androgens for cognitive and physical enhancement: Revolving doors of cosmetic neurology», «Current Neuropharmacology» 13 (2015): 5–11; K. Smith, «Brain decoding: Reading minds», «Nature» 502 (2013): 428–430; E. Dayan, N. Censor, E. R. Buch, M. Sandrini, and L. G. Cohen, «Noninvasive brain stimulation: From physiology to network dynamics and back», «Nature Neuroscience» 16 (2013): 838–844; K. S. Bosley et al., «CRISPR germline engineering – The community speaks», «Nature Biotechnology» 33 (2015): 478–486.
Вернуться
570
Поиск в системе LexisNexis Academic по словам «hacking» и «brain» дает более 2000 газетных и онлайн-статей за период с 25 декабря 2011 года по 25 декабря 2016-го, то есть в среднем более 400 публикаций в год.
Вернуться
571
Maria Konnikova, «Hacking the Brain», «Atlantic» (июнь 2015).
Вернуться
572
Andres Lozano, «Can Hacking the Brain Make You Healthier?» «TED Radio Hour», National Public Radio, 9 августа 2013 года; Keith Barry, «Brain Magic», TED Conferences, 21 июля 2008 года.
Вернуться
573
Greg Gage, Miguel Nicolelis, Tan Le, David Eagleman, Andres Lozano, and Todd Kuiken, «Tech That Can Hack Your Brain», плейлист TED (6 выступлений), ted.com/playlists/392/tech_that_can_hack_your_brain.
Вернуться
574
T. F. Peterson, «Nightwork: A History of Hacks and Pranks at MIT» (Cambridge, MA: MIT Press, 2011).
Вернуться
575
G. A. Mashour, E. E. Walker, and R. L. Martuza, «Psychosurgery: Past, present, and future», «Brain Research: Brain Research Reviews» 48 (2005): 409–419.
Вернуться
576
B. M. Collins and H. J. Stam, «Freeman’s transorbital lobotomy as an anomaly: A material culture examination of surgical instruments and operative spaces», «History of Psychology» 18 (2015): 119–131.
Вернуться
577
T. Hilchy. «Dr. James Watts, U. S. Pioneer in Use of Lobotomy, Dies at 90», «New York Times», November 10, 1994; W. Freeman, «Lobotomy and epilepsy: A study of 1000 patients», «Neurology» 3 (1953): 479–494.
Вернуться
578
G. J. Young et al., «Evita’s lobotomy», «Journal of Clinical Neuroscience» 22 (2015): 1883–1888.
Вернуться
579
Suzanne Corkin, «Permanent Present Tense: The Unforgettable Life of the Amnesic Patient, H. M». (New York: Basic Books, 2013).
Вернуться
580
H. Shen, «Neuroscience: Tuning the brain», «Nature» 507 (2014): 290–292; Michael S. Okun and Pamela R. Zeilman, «Parkinson’s Disease: Guide to Deep Brain Stimulation Therapy», National Parkinson Foundation, 2014.
Вернуться
581
A. S. Widge et al., «Treating refractory mental illness with closed-loop brain stimulation: Progress towards a patient-specific transdiagnostic approach», «Experimental Neurology» 287 (2017): 461–472.
Вернуться
582
M. A. Lebedev and M. A. Nicolelis, «Brain-machine interfaces: From basic science to neuroprostheses and neurorehabilitation», «Physiological Reviews» 97 (2017): 767–837.
Вернуться
583
Benedict Carey, «Paralyzed, Moving a Robot with Their Minds», «New York Times», 16 мая 2012 года.
Вернуться
584
M. K. Manning and A. Irvine, «The DC Comics Encyclopedia» (New York: DK Publishing, 2016).
Вернуться
585
R. P. Rao et al., «A direct brain-to-brain interface in humans», «PLoS One» 9 (2014): e111332.
Вернуться
586
«Зверинец», режиссеры Марк Дэниелс и Роберт Батлер, «Звездный путь», сезон 1, эпизоды 11 и 12, CBS Television, 17–24 ноября 1966 года.
Вернуться
587
K. N. Kay, T. Naselaris, R. J. Prenger, and J. L. Gallant, «Identifying natural images from human brain activity», «Nature» 452 (2008): 352–355.
Вернуться
588
Tanya Lewis, «How Human Brains Could Be Hacked», LiveScience Blog, -how-human-brain-could-be-hacked.html, 3 июля 2013 года.
Вернуться
589
Raymond Kurzweil, «Get Ready for Hybrid Thinking», TED Conferences, 14 июня 2017 года.
Вернуться
590
Raymond Kurzweil, «The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology» (New York: Viking, 2005).
Вернуться
591
Каку Митио. Будущее разума / пер. Н. Лисовой (М.: Альпина Нон-фикшн, 2018).
Вернуться
592
Biological Technologies Office, «DARPABAA-16–33», Defense Advanced Research Projects Agency, 2016.
Вернуться
593
Abby Phillip, «A Paralyzed Woman Flew an F-35 Fighter Jet in a Simulator – Using Only Her Mind», «Washington Post», 3 марта 2015 года.
Вернуться
594
Vanessa Barbara, «Woodpecker to Fix My Brain», «New York Times», 27 сентября 2015 года.
Вернуться
595
John Oliver, «Third Parties», «Last Week Tonight», HBO, 16 октября 2016.
Вернуться
596
Zoltan Istvan, «Should a Transhumanist Run for US President?» «Huffington Post», 8 октября 2014 года.
Вернуться
597
«Zoltan Istvan and Steve Fuller», Brain Bar Budapest Conference, brainbar.com, 2 июня 2016 года.
Вернуться
598
A. Roussi, «Now This Is an „Outsider Candidate“: Zoltan Istvan, a Transhumanist Running for President, Wants to Make You Immortal», «Salon», 19 февраля 2016 года.
Вернуться
599
Zoltan Istvan, «The Transhumanist Wager» (Reno, NV: Futurity Imagine Media, 2013).
Вернуться
600
Robert Anton Wilson, «Prometheus Rising» (Las Vegas: New Falcon Publications, 1983).
Вернуться
601
D. Martin, «Futurist Known as FM-2030 Is Dead at 69», «New York Times», 11 июля 2000 года.
Вернуться
602
«Матрица», режиссеры Лана и Лилли Вачовски, Warner Bros., 1999; «Кто такой Кью», режиссер Роб Боуман, «Звездный путь: следующее поколение», сезон 2, эпизод 16, CBS Television, 8 мая 1989 года.
Вернуться
603
Kevin Shapiro, «This Is Your Brain on Nanobots», «Commentary Magazine», 1 декабря 2005 года.
Вернуться
604
A. Moscatelli, «The struggle for control», «Nature Nanotechnology» 8 (2013): 888–890; C. Toumey, «Nanobots today», «Nature Nanotechnology» 8 (2013): 475–476.
Вернуться
605
Nicholas Negroponte, «Nanobots in Your Brain Could Be the Future of Learning», , 13 декабря 2014 года.
Вернуться
606
H+: The Digital Series, режиссер Стюарт Хендлер, youtube.com/user/HplusDigitalSeries, 8 августа 2012 года.
Вернуться
607
Natasha Vita-More, цит. в: Kevin Holmes, «Talking to the Future Humans: Natasha Vita-More», Vice, 11 октября 2011 года, vice.com/en_us/article/mvpeyq/talking-to-the-future-humans-natasha-vita-moreinterview-sex.
Вернуться
608
Sebastian Seung, «Connectome: How the Brain’s Wiring Makes Us Who We Are» (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2012).
Вернуться
609
Цена указана на 15 июня 2017 года по данным сайта .
Вернуться
610
C. Michallon, «British „Futurist“ Who Runs Cryogenics Facility Says He Plans to Freeze Just His Brain – and Insists His body Is „Replaceable,“» «Daily Mail», 26 декабря 2016 года.
Вернуться
611
F. Chamberlain, «A tribute to FM-2030», «Cryonics» 21 (2000): 10–14.
Вернуться
612
Там же, в отделении «Alcor» в Аризоне, хранятся и останки Ким Суоцци.
Вернуться
613
Laura Y. Cabrera, «Rethinking Human Enhancement: Social Enhancement and Emergent Technologies» (New York: Palgrave Macmillan, 2015).
Вернуться
614
T. Friend, «Silicon Valley’s Quest to Live Forever», «New Yorker», 3 апреля 2017 года.
Вернуться
615
Кун Томас. Структура научных революций. (М.: АСТ Neoclassic, 2009).
Вернуться
616
R. Lynn and M. V. Court, «New evidence of dysgenic fertility for intelligence in the United States», «Intelligence» 32 (2004): 193–201.
Вернуться
617
O. Béthoux, «The earliest beetle identified», «Journal of Paleontology» 83 (2009): 931–937; N. E. Stork, J. McBroom, C. Gely, and A. J. Hamilton, «New approaches narrow global species estimates for beetles, insects, and terrestrial arthropods», «Proceedings of the National Academy of Sciences» 112 (2015): 7519–7523.
Вернуться
618
«Beetlemania», «Economist», 18 марта 2015 года.
Вернуться
619
S. W. Bridge, «The neuropreservation option: Head first into the future», «Cryonics» 16 (1995): 4–7.
Вернуться
620
Nick Bostrom, «Superintelligence», BookTV Lecture, C-SPAN, 12 сентября 2014 года. Оценка потока зрительных данных, поступающих в мозг, у Бострома значительно выше, чем цифры, которые я привожу в главе 6, однако она, вероятно, основана не на исходящих данных с сетчатки в мозг, а на входящих данных на сетчатку. Сетчатка содержит около 100 миллионов фоторецепторов, которые различают свет из окружающей среды, но эта информация сильно сжимается и лишь потом покидает глаз. То, что мозг «видит», на самом деле лишь спайки, переносимые примерно миллионом ганглиозных клеток по сетчатке, и только они составляют исходящую с сетчатки информацию, что и стало основой для моей оценки в 10 мегабайт в секунду на один глаз.
Вернуться
621
Yoshihide Igarashi, Tom Altman, Mariko Funada, and Barbara Kamiyama, «Computing: A Historical and Technical Perspective» (Boca Raton, FL: CRC, 2014).
Вернуться
622
Christopher Woods, ed., «Visible Language: Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond» (Chicago: University of Chicago Press, 2010).
Вернуться
623
Andy Clark, «Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension» (New York: Oxford University Press, 2011).
Вернуться
624
A. Clark and D. J. Chalmers, «The extended mind», «Analysis» 58 (1998): 10–23.
Вернуться
625
В 2014 году Верховный суд США при рассмотрении дела «Райли против штата Калифорния» вынес решение, что изучать содержимое современного сотового телефона без ордера неконституционно. Председатель Верховного суда Джон Робертс, выступая от имени единогласного большинства, писал, что смартфоны – «настолько вездесущая и постоянная составляющая повседневной жизни, что пресловутый марсианин решил бы, будто это важная часть человеческой анатомии»
Вернуться
626
Бостонцы славятся своим рискованным поведением на дорогах.
Вернуться
627
Tim Adams, «Self-Driving Cars: From 2020 You Will Become a Permanent Backseat Driver», «Guardian», 13 сентября 2015 года.
Вернуться
628
G. S. Brindley and W. S. Lewin, «The sensations produced by electrical stimulation of the visual cortex», «Journal of Physiology» 196 (1968): 479–493.
Вернуться
629
M. Abrahams, «A Stiff Test for the History Books», «Guardian», 16 марта 2009 года.
Вернуться
630
D. Ghezzi, «Retinal prostheses: Progress toward the next generation implants», «Frontiers in Neuroscience» 9 (2015): 290.
Вернуться
631
M. S. Gart, J. M. Souza, and G. A. Dumanian, «Targeted muscle reinnervation in the upper extremity amputee: A technical roadmap», «Journal of Hand Surgery (American Volume)» 40 (2015): 1877–1888.
Вернуться
632
E. Cott, «Prosthetic Limbs, Controlled by Thought», «New York Times», 20 мая 2015 года.
Вернуться
633
A. M. Dollar and H. Herr, «Lower extremity exoskeletons and active otheroses: Challenges and state-of-the-art», «IEEE Transactions on Robotics» 24 (2008): 144–158.
Вернуться
634
E. Paul Zehr, «Assembling an Avenger – Inside the Brain of Iron Man», Scientific American Guest Blog, -blog/assembling-an-avenger-inside-the-brain-of-iron-man/ 26 сентября 2012 года.
Вернуться
635
E. Guizzo and H. Goldstein, «The rise of the body bots», «IEEE Spectrum», 1 октября 2005 года.
Вернуться
636
Francis Fukuyama, «Transhumanism», «Foreign Policy» (сентябрь-октябрь 2004).
Вернуться
637
G. Grosso et al., «Omega-3 fatty acids and depression: Scientific evidence and biological mechanisms», «Oxidative Medicine and Cellular Longevity» 2014 (2014): 313570; A. G. Malykh and M. R. Sadaie, «Piracetam and piracetam-like drugs: From basic science to novel clinical applications to CNS disorders», Drugs 70 (2010): 287–312.
Вернуться
638
A. Dance, «Smart drugs: A dose of intelligence», «Nature» 531 (2016): S2–3.
Вернуться
639
Margaret Talbot, «Brain Gain», «New Yorker», 27 апреля 2009 года.
Вернуться
640
S. E. McCabe, J. R. Knight, C. J. Teter, and H. Wechsler, «Nonmedical use of prescription stimulants among US college students: Prevalence and correlates from a national survey», «Addiction» 100 (2005): 96–106.
Вернуться
641
J. Currie, M. Stabile, and L. E. Jones, «Do stimulant medications improve educational and behavioral outcomes for children with ADHD?» «Journal of Health Economics» 37 (2014): 58–69; I. Ilieva, J. Boland, and M. J. Farah, «Objective and subjective cognitive enhancing effects of mixed amphetamine salts in healthy people», «Neuropharmacology» 64 (2013): 496–505; «AMA Confronts the Rise of Nootropics», American Medical Association, www.ama-assn.org/ama-confronts-rise-nootropics, 14 июня 2016 года.
Вернуться
642
T. Amirtha, «Scientists and Silicon Valley Want to Prove Psychoactive Drugs Are Healthy», «Guardian», 8 февраля 2016 года.
Вернуться
643
«Products», Nootrobox, .
Вернуться
644
Nootrobox, Inc., «The Effects of SPRINT, a Combination of Natural Ingredients, on Cognition in Healthy Young Volunteers», Clinical Trials Database, National Institutes of Health, 2016.
Вернуться
645
«Alpha Brain», Onnit Labs, 15 июня 2017 года.
Вернуться
646
Laurie Segall and Erica Fink, «Are Smart Drugs Driving Silicon Valley?» CNN, 26 января 2015 года.
Вернуться
647
Talbot, «Brain Gain.»
Вернуться
648
Nicholas Kristof, «Overreacting to Terrorism», «New York Times», 24 марта 2016 года.
Вернуться
649
H. Greely et al., «Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the healthy», «Nature» 456 (2008): 702–705.
Вернуться
650
Expert Group on Cognitive Enhancements, «Boosting Your Brainpower: Ethical Aspects of Cognitive Enhancements», British Medical Association, 2007.
Вернуться
651
«Behavioral Health Trends in the United States: Results from the 2014 National Survey on Drug Use and Health», Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2015.
Вернуться
652
Ken Goffman (aka R. U. Sirius) and Dan Joy, «Counterculture Through the Ages: From Abraham to Acid House» (New York: Villard Books, 2004).
Вернуться
653
Glenn Greenwald, Ewen MacAskill, and Laura Poitras, «Edward Snowden: The Whistleblower Behind the NSA Surveillance Revelations», «Guardian», 11 июня 2013 года; Dominic Basulto, «Aaron Swartz and the Rise of the Hacktivist Hero», «Washington Post», 14 января 2013 года.
Вернуться
654
Надеюсь, читатель простит мне излишнюю поэтичность.
Вернуться
655
Winston Churchill, «Never Give In, Never (речь в Харроу)», National Churchill Museum, -give-in-never-never-never.html, 29 октября 1941 года.
Вернуться
656
James F. Romano, «Death, Burial, and Afterlife in Ancient Egypt», Carnegie Series on Egypt (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990). Иногда исследователи древнеегипетских верований указывают на дальнейшее подразделение компонентов души, в число которых входят имя человека и репрезентации его сердца и тени.
Вернуться
657
«The Rig Veda: An Anthology» (New York: Penguin, 2005).
Вернуться
658
Matt Stefon, ed., «Judaism: History, Belief, and Practice» (New York: Britannica Educational, 2012); Joshua Dickey, ed., «The Complete Koine-English Reference Bible: New Testament, Septuagint and Strong’s Concordance» (Seattle: Amazon Digital Services, 2014) (e-book).
Вернуться
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



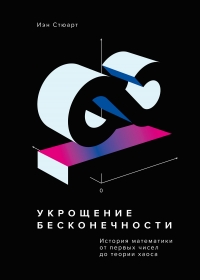

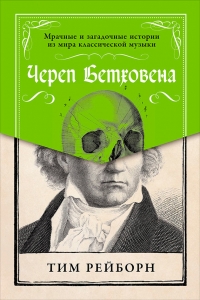

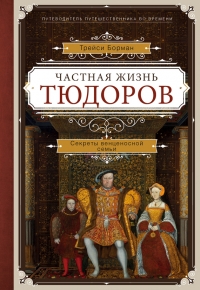
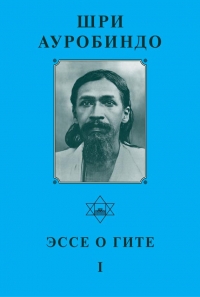
Комментарии к книге «Мозг - прошлое и будущее», Алан Джасанов
Всего 0 комментариев