Паулу Фрейре Педагогика угнетенных
Paulo Freire
PEDAGOGY OF THE OPPRESSED
(50th Anniversary Edition)
Перевод с английского Ирины Никитиной (предисловия, вступление, гл. 3 и 4, примечания ко всем разделам, послесловие, интервью с современными учеными), Марии Мальцевой-Самойлович (гл. 1 и 2, под редакцией Ирины Никитиной). Если не указано иное, перевод цитат во всех главах – Ирины Никитиной.
© Paulo Freire, 1970, 1993
© Donaldo Macedo, предисловие, 2018
© Ira Shor, послесловие, 2018
© Никитина И. В., Мальцева-Самойлович М. И., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018
КоЛибри®
* * *
Книга Фрейре… призывает всех педагогов в целом и критических педагогов в частности выйти за рамки фетишизации методов, которая парализует мышление, новаторство и творчество учителей.
Ноам Хомский, лингвист, публицист, философ«Педагогика угнетенных» обладает главным критерием классики: эта книга пережила свое время и своего создателя. Ее необходимо прочитать каждому учителю, для которого важна связь между образованием и социальными переменами.
Стенли Аронович, профессор социологии и культурологии, Городской университет Нью-ЙоркаБез сомнений, работа Фрейре вызвала впечатляющий отклик по всему миру. Возможно, он является наиболее влиятельным ученым в сфере образования.
Рамон Флеча, профессор социологии, Барселонский университетТеория Фрейре по сей день продолжает подталкивать ученых к тому, чтобы они рассматривали все разнообразие личностных и географических нюансов, которые необходимо учитывать, рассуждая об образовании. Фрейре призывает нас смотреть на все критически, особенно работая вместе с другими людьми в контексте сообщества при попытках решить насущные проблемы неравенства. Он также помещает исследования в область повседневной жизни – повседневных реалий, реальных судеб, реальных условий жизни людей, их борьбы и их чаяний – с тем чтобы сделать исследование доступным для людей, с которыми мы работаем и с которыми / про которых пишем эти самые исследования.
Валери Кинлок, декан педагогического факультета, Питтсбургский университетПосвящается угнетенным и всем тем, кто страдает и сражается вместе с ними
Предисловие к изданию, посвященному пятидесятилетию первой публикации
Не успел Нью-Йорк показать миру бублик стоимостью $1000, как местный ресторатор включил в меню шоколадный пломбир за $27 000, установив рекорд Гиннесса на самый дорогой десерт в мире.
Информационное агентство Reuters, 7 ноября 2007 г.[1]Для меня великая честь писать предисловие к книге Паулу Фрейре «Педагогика угнетенных» – книге, которая, без сомнения, уже стала классикой, ведь за последние полвека она постепенно завоевывает все большую популярность, по мере того как мир входит в мрачный XXI век. Ведущие интеллектуалы – Ноам Хомский, Зигмунт Бауман, Генри Геру, Арундати Рой, Эми Гудман, Тома Пикетти и другие – не раз взывали к благоразумию жителей нашей планеты, предупреждая о страшных последствиях (в число которых входит отрицание климатических изменений, бесстыдное экономическое неравенство, угроза ядерной катастрофы) гегемонии ультраправых политических сил, которая, если ее не сдерживают левые, может привести к полному исчезновению человечества, каким мы его знаем. Поэтому необходимо не только выбрать другой политический путь, но и учесть, что в его основе должно лежать развитие критического осознания людьми того факта, что они существуют в мире и взаимодействуют с ним – именно на этом положении настаивал Фрейре и именно оно пронизывает его гениальные, проницательные мысли, высказанные в «Педагогике угнетенных». Другими словами, «Педагогика угнетенных» была написана в основном не с целью предложить новую методологию (что противоречило бы представленной автором критике стереотипных моделей образования), а с целью простимулировать развитие освободительного образовательного процесса, который бросает ученикам вызов, призывает их к действию и требует, чтобы при помощи грамотности и критического мышления они учились изменять мир, в котором живут, вдумчиво и критически его оценивая; чтобы они могли выявлять разногласия и противоречия, присущие отношениям между угнетателями и угнетенными, и противостоять им. Таким образом, Фрейре писал «Педагогику угнетенных» в первую очередь с целью пробудить в угнетенных знание, творчество и неугасающую способность к критическому мышлению, которая необходима, чтобы обнажить, демифологизировать и понять отношения власти, которые поставили их в положение маргиналов, и через это осознание положить начало делу освобождения через праксис, который неизменно требует постоянного, непрекращающегося критического размышления и действия. Несмотря на то что в настоящее время все больше педагогов соглашаются с мыслями Фрейре, многие из них, в том числе те, кто придерживается либеральных и прогрессивных воззрений, не обращают внимания на то, что их политический дискурс непоследователен: с одной стороны, они осуждают условия угнетения, а с другой – приспосабливаются к господствующим структурам, которые непосредственно создали эту ситуацию угнетения. К этому вопросу мы вернемся чуть позже.
Приблизительно за месяц до безвременной кончины Паулу Фрейре, наступившей 2 мая 1997 года, мы с ним шли по Пятой авеню в Нью-Йорке и обсуждали очевидную противоречивость местного изобилия, которое позволяет одним кичиться своей состоятельностью и платить $27 000 за десерт в роскошном ресторане, в то время как тысячи бездомных, в том числе семей с детьми, спят в машинах, под мостами и в переполненных ночлежках. Анализ этих противоречий должен был стать основной целью курса, который мы с Фрейре собирались вместе вести на педагогическом факультете Гарвардского университета осенью 1997-го. Мы договорились, что будем призывать студентов к критическому диалогу в тех областях знания, которые обычно занимают второстепенное место в академическом мире, таких как этика, сущность демократии, выходящая за рамки избирательного цикла под названием «четыре года циркачества» (свидетелями которого мы стали совсем недавно, когда увенчалась успехом президентская кампания Дональда Трампа), и тщательное изучение идеологии и ее роли в процессе чтения слова и мира. Во время нашей прогулки по Пятой авеню Фрейре несколько раз спрашивал, нельзя ли нам остановиться, чтобы он мог более выразительно сформулировать свои мысли и поделиться тревогами в отношении разрушительных и угнетающих сил неолиберализма в развитых и развивающихся странах. Мы не раз отступали поближе к стене какого-нибудь величаво возвышающегося над нами здания, чтобы не стоять на пути у привычного, головокружительно неистового потока прохожих, то и дело стремящихся обогнать тех, кто замедлял шаг, чтобы удовлетворить свое потребительское любопытство и поглазеть на нескончаемые витрины, манящие модной одеждой и последними технологическими новинками, – типичная черта общества, одержимого потреблением, общества, где «деньги – мера всех вещей, а прибыль – главная цель. В глазах угнетателя единственное, что целесообразно, – это стремление получить больше – всегда больше, даже если при этом угнетенным останется меньше или они и вовсе лишатся всего. Для них “быть” значит “иметь”…» (см. главу 1). Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что частые просьбы Фрейре остановиться были связаны с утомлением, которое он испытывал из-за проблем с сердцем – болезни, о которой он очень мало говорил и на которую крайне редко жаловался.
Фрейре всегда оставался верен своему взгляду на историю как вероятность и горячо надеялся на возможность создания мира, где будет меньше дискриминации и больше справедливости, меньше дегуманизации и больше человечности, но тем не менее он всегда критически относился к «освободительной пропаганде… [которая может лишь] “заронить” в головы угнетенных веру в свободу, стремясь таким образом завоевать их доверие»[2]. Соответственно, Фрейре считал, что «правильный подход строится на диалоге… [процессе, который пробуждает] убеждение угнетенных в том, что они должны бороться за свою свободу, [которая представляет собой] не подарок, который им вручает революционный лидер, а результат их собственной консайентизации (conscientização)»[3]. Во время этой продолжительной и плодотворной прогулки Фрейре, отчасти в шутку, сказал мне, что «правящий класс никогда не отправит нас на отдых в Копакабану. Если мы хотим поехать в Копакабану, нам придется за это бороться». В ходе этой долгой – и последней – беседы Фрейре несколько раз выказывал досаду, подчас граничащую с «сущей яростью», как он имел обыкновение это называть, по отношению к некоторым прогрессивным ренегатам, которые приспосабливаются к неолиберальной теологии. Именно к их числу относился его друг, бывший президент Бразилии Фернанду Энрики, который, как и Фрейре, был сослан в Чили жестокой неонацистской военной диктатурой, представители которой убили и подвергли пыткам тысячи бразильцев. В сущности, бразильские эксперименты с неолиберализмом под эгидой правительства Фернанду Энрики обострили и без того тяжкие условия и повергли миллионы жителей Бразилии в голод, нищету и отчаяние, что, в свою очередь, привело к усугублению экономического и образовательного неравенства, одновременно дав волю систематической коррупции в правящих кругах. К сожалению, социалистические правительства западного мира того времени в большинстве своем изменили принципу борьбы за социальную справедливость, равенство и равноправие, склонившись к неолиберальной, помешанной на рынке идеологии, которая не только растоптала надежды людей, мечтавших о лучшем мире, но также свергла эти самые правительства, создав условия для вопиющей коррупции. Именно это произошло в Португалии, Испании и Греции. В Греции социалистическая партия под руководством премьер-министра Георгиоса Папандреу позволила коррупции достичь масштабов эпидемии, так что, к примеру, партия ПАСОК получила возможность скупать голоса, предлагая греческим гражданам, покидавшим США и желавшим улететь в Грецию, бесплатные авиабилеты при условии, что они проголосуют за социалистов. Подобные действия напоминают стратегии, которые регулярно критикуются западными демократами как попытки сфальсифицировать результаты выборов, которые, по их словам, словно чума поражают страны, уничижительно именуемые «банановыми республиками третьего мира». Можно сказать, что социалистические правительства на разных континентах потеряли власть, в частности, из-за возмутительных коррупционных скандалов, которые в целом положили начало появлению правоцентристских и крайне правых правительств (Греция, где на выборах победила леворадикальная партия СИРИЗА, стала исключением). Эти правительства пришли к власти за счет голосов недовольных и лишенных гражданских прав избирателей – избирателей, которые стали жертвами режима жесткой экономии, навязанного им неолиберальным политическим курсом.
Фрейре также не скрывал испытываемой им «сущей ярости», осуждая критическую позицию многих мягкотелых либералов и некоторых из так называемых критических педагогов, которые часто находят приют в стенах высших учебных заведений, скрывая свою зависимость от бесстыдного консюмеризма и одновременно набрасываясь в своем письменном дискурсе на рыночную теологию неолиберализма. Очень часто вкусы таких мягкотелых либералов и так называемых критических педагогов и их способы бытия в мире и взаимодействия с ним остаются, по словам Фрейре, неразрывно связанными с крайне неолиберальными рыночными взглядами, которые они сами осуждают на уровне письменного дискурса. В своих ежедневных поступках такие мягкотелые либералы и так называемые критические педагоги часто действуют отнюдь не так, как предписывает им праксис, превращая заявленный политический проект в ископаемое, в неясные аналитические разглагольствования, которые не могут выйти за рамки «отсроченного» действия – действия, спланированного с целью превратить существующее, присущее неолиберализму губительное обожествление рынка в новые демократические структуры, которые приведут к равенству, равноправию и формированию поистине демократических политических методов. Другими словами, многие мягкотелые либералы и так называемые критические педагоги кичатся своими левыми принципами, демонстративно провозглашая себя сторонниками марксизма (что в большинстве случаев высказывается лишь в письменном дискурсе или в безопасных стенах высших учебных заведений), а иногда чувствуют необходимость похвастаться также и тем, что, к примеру, их радикализм выходит за рамки идей Маркса, поскольку их политические принципы ближе к взглядам Мао – а эту позицию они считают еще более радикальной. В результате звание сторонника левых в академическом мире становится присваиваемой, экзотической политической и культурной валютой: принадлежность к марксистам, сидящим в башне из слоновой кости, обеспечивает человеку статус, но в реальности это всего лишь стильный бренд, олицетворение консюмеризма, поддерживаемое за счет манипуляций над пустым, символическим списком названий и ярлыков, которые в остальном по сути своей лишены какого-либо смысла. В сущности, бытующее в академическом мире звание «марксиста», которое используют некоторые критические педагоги, превращает этическую и политическую деятельность в спектакль, а левое мировоззрение – в товар широкого потребления. Становясь товаром, эти самовольно присвоенные «радикальные» позиции и звание радикала оказываются пустышками, утрачивая свое прогрессивное содержание до такой степени, что они становятся оторванными от принципиальных действий. Этот разрыв лежит в основе воспроизведения теологии неолиберализма, которая не одобряет коллективную общественную деятельность, основанную на критическом мышлении, и поощряет рьяный, беспощадный дух соперничества. Этот коварный процесс отрыва критического дискурса от действий позволяет поступать вопреки убеждениям: он дает самопровозглашенным марксистам на службе у институтов образования возможность, к примеру, заявлять, что они против расизма, и одновременно превращать борьбу с расовыми предубеждениями в безжизненные клише, которые не оставляют никакого педагогического пространства для критики идеологии, проповедующей превосходство белых. В ходе этого процесса их прогрессивные принципы часто используются, вводятся в действие лишь постольку, поскольку они изобличают расизм на уровне письменного критического дискурса, неизменно получая плоды привилегий от зацементированного узаконенного расизма, который они добровольно отказываются признавать и против которого добровольно отказываются бороться.
Таким образом, эти марксисты на службе у системы образования также игнорируют политическое и систематическое влияние расизма, которое ярко проявилось во время предвыборной кампании кандидатов в президенты США в 2016 году и которое приобретало все более ужасающие масштабы с каждым расчетливым высказыванием Дональда Трампа, направленным на разжигание ненависти со стороны белых против сограждан, а не против государства или условий, созданных во многом за счет неолиберального политического курса, с которыми взбешенные белые представители рабочего класса, как это ни парадоксально, согласны мириться. Избрание Трампа на пост президента США, в сущности, выявило ложь, скрывающуюся за появившимся после предвыборной гонки слоганом, который провозгласил, что «расизму пришел конец» – этот слоган был сформулирован после избрания Барака Обамы, первого темнокожего президента. Более того, отрицать существование расизма, одновременно расширяя гетто, превращая в норму конвейер под названием «из школы в тюрьму», который действует в основном для чернокожих и латиноамериканцев, и усугубляя нищету как побочный эффект расизма, означает проявлять расизм. Эти самопровозглашенные сторонники Маркса и Мао на службе у системы образования проявляют расизм, когда читают антирасистские проповеди, представляя расизм как некую абстрактную идею и сопротивляясь интеллектуальному и общественному давлению, которое требует, чтобы они превратили эту высказанную на уровне письменного критического дискурса абстрактную идею в действие, которое привело бы к радикальной демократизации общества и его институтов. Насколько радикально демократичны, скажем, университеты, если на большинстве факультетов учатся и преподают белые, если не считать горстки темнокожих профессоров и ничтожного количества небелых студентов? К примеру, играют ли расовые предубеждения какую-либо роль при почти полном отсутствии афроамериканцев на факультетах классической литературы – как среди преподавательского состава, так и среди студентов – или афроамериканцы генетически не предрасположены к изучению классики и, следовательно, неохотно поступают на подобные факультеты? Еще более пагубной представляется ситуация, когда такие самопровозглашенные левые на службе у системы образования присоединяются к общественной структуре отрицания укоренившегося расизма, что выражается в их высказываниях и поведении. Возьмем, к примеру, заявление либерального белого профессора, работающего в университете одного крупного города – учебном заведении, которое гордится своим этнокультурным разнообразием: «Мы просто хотим, чтобы эти черные ребята научились учиться». Подобные высказывания демонстрируют не только крайне этноцентрическое представление об акте познания, о чем проницательно рассуждает Фрейре в «Педагогике угнетенных», но также и то, что некоторые люди, делающие подобные ремарки, все еще носят кандалы идеологии превосходства белых, которая внедрила в их сознание мифы и убеждения в том, что дети, принадлежащие к определенной расе или культуре, от рождения не способны учиться до тех пор, пока не получат рецепты, предоставляемые педагогами бедным и угнетенным. Последние часто носят в своих кожаных сумках и портфелях от Gucci расфасованные планы уроков, по которым они собираются обучать, скажем, афроамериканцев тому, чего они еще не могли знать по определению, ведь до сих пор у них не было способности к обретению знания. Само существование в тех жестоких условиях, в которых были обречены расти эти небелые дети, свидетельствует о том, насколько хорошо они обучаются, ведь они сумели выжить в обстоятельствах «нечеловеческого неравенства», как его колко называл Джонатан Козол в некоторых своих книгах. Смогли бы сыновья и дочери этих педагогов-марксистов, сидящих в стенах университетов, вынести гнет столь глубоко укоренившихся проявлений социального неравенства и остаться невредимыми, одновременно показывая отличные результаты на итоговых квалификационных экзаменах? Вероятно, нет. Следовательно, само по себе выживание в условиях самого что ни на есть вопиющего расизма, сегрегации, гендерной и классовой дискриминации указывает не только на высокий уровень интеллекта тех детей, которых вытесняют в гетто, но также подтверждает теорию Говарда Гарднера о существовании множественного интеллекта, которая выходит за рамки западного представления об «интеллекте».
Что касается «сущей ярости», которую Фрейре продемонстрировал во время нашей с ним последней беседы, обличая некоторых критических педагогов, которые носят «шелковое белье», он до конца своей жизни использовал ее как творческую силу – как в своей писательской деятельности, например в последней книге «Педагогика свободы» (англ. Pedagogy of Freedom), так и в многочисленных беседах и лекциях, которые он проводил в последние годы по всему миру. Фрейре справедливо осуждал псевдокритических педагогов, чьи политические проекты социального равенства страдают от интеллектуальной непоследовательности и вопиющего карьеризма, подпитываемого тем, что Фрейре часто называл «этикой» рынка под эгидой неолиберализма. Другими словами, интеллектуальная непоследовательность многих критических педагогов в конечном счете определяет и ограничивает их политические проекты, превращая последние в обычный неолиберальный карьеризм. Однако важно отметить, что отвращение, которое Фрейре испытывал к таким карьеристам, не означает, что он выступал против стремления к продвижению по карьерной лестнице. Существует четкая разница между карьерой, которая не является механистической, а развивается как часть политического проекта, стремящегося, как часто говорил Фрейре, к созданию более цельного, менее несправедливого и более демократичного мира, и деятельностью карьериста, чей политический проект ставит своей целью личное продвижение по служебной лестнице и характеризуется казуистикой и несусветной жадностью, которая почти всегда приносит в жертву равенство, равноправие и истинную демократию. Иначе говоря, политический проект карьериста в конечном счете представляет собой его карьеру, и желая спасти эту карьеру, такой политик «не сможет инициировать диалог, осмысление и взаимодействие (или бросит эту затею), он будет срываться на слоганы, формальности, монологи и инструкции. Эта опасность может таиться в тех, кто поверхностно отнесся к переходу в стан борьбы за освобождение»[4]. Эта опасность кроется, к примеру, в отсутствии единства между рассуждениями о голоде, когда о нем пишут в безопасных стенах университета, и реально испытываемым голодом или между сочинением слоганов вроде «Я – сторонник идей Мао» и одновременной неготовностью отказаться от Gucci и освободиться от оков буржуазных ценностей, которые подпирают собой большинство неолиберальных проектов и придают большее значение присвоению и накоплению материальных богатств, чем распространению гуманизма. Как проницательно отметил Фрейре в «Педагогике угнетенных», «освобождение угнетенных – это освобождение мужчин и женщин, а не вещей. Соответственно, человек не освободит себя своими силами, но и другие не могут сделать это за него. Освобождение – человеческое явление – не может быть достигнуто теми, кто является людьми лишь наполовину. Любая попытка взаимодействовать с человеком как с получеловеком [как в случае с превосходством и главенством белых] лишь унижает его»[5]. Получеловек, которого волнуют лишь вещи, а не люди, никогда не сможет, да и не захочет, предложить форму грамотности, которая ведет к освобождению и эмансипации. Напротив, получеловек, который заинтересован в том, чтобы представлять окружающих как других, стремясь обесценить и отнести их к определенному типу, уже утратил свою человечность до такой степени, что не способен увидеть человеческое в других. Соответственно,
Для Фрейре грамотность была не способом подготовить учеников к жизни в мире труда, основанном на подчинении, или к строительству «карьеры», а способом научить их самостоятельно управлять своей жизнью. А самоуправление возможно, лишь если человек осуществил три основные цели образования: научился саморефлексии, то есть осознал смысл знаменитого изречения – «познай самого себя», что подразумевает и понимание того мира, в котором он живет, вместе с его экономическими, политическими и, что в равной степени важно, психологическими составляющими. Конкретно «критическая» педагогика помогает учащемуся увидеть и осознать те силы, которые до этого момента управляли его жизнью и, самое главное, формировали его сознание. Третья цель заключается в том, чтобы поспособствовать установлению оптимальных условий для создания новой жизни, нового порядка, при котором власть будет передана тем, кто на самом деле творит социальный мир, трансформируя природу и себя, или, по крайней мере, порядка, в котором станет возможной такая перспектива[6].
Поскольку Фрейре нередко упрекали в том, что в «Педагогике угнетенных» он недостаточно критично рассмотрел вопросы расовых отношений, одна из основных целей курса, который мы собирались вместе вести на педагогическом факультете Гарварда в 1997 году, заключалась в том, чтобы продолжить и развить нашу с ним беседу под названием «Диалог: культура, язык и раса» (англ. A Dialogue: Culture, Language, and Race), содержание которой было ранее опубликовано в журнале Harvard Educational Review[7]. В ходе этой беседы Фрейре, критически анализируя собственные доводы, объяснил, почему классовое угнетение заботило его больше, чем расовые отношения, когда он работал над «Педагогикой угнетенных», учитывая исторический контекст, который сформировал ситуацию угнетения в Бразилии – угнетения, которое испытал на себе сам Фрейре и члены его семьи, потерявшие статус представителей среднего класса и вынужденные уехать из города и поселиться среди низших слоев, в бедном районе под названием Морру-ду-Сауди. Обличение угнетения для Фрейре было не просто интеллектуальным упражнением, примеры которых мы часто находим в деятельности мягкотелых либералов и псевдокритичных педагогов. Великолепный интеллект и отвага, которую он проявлял, осуждая структуры угнетения, коренились в самом что ни на есть реальном и материальном опыте, ведь он вспоминал собственные детство и юность, прошедшие в нищете в Морру-ду-Сауди. Фрейре узнал, что такое голод, еще будучи ребенком, родившимся в семье, прежде принадлежавшей к среднему классу, но потерявшей свою финансовую опору. Именно это позволило ему, с одной стороны, отождествлять себя с «детьми с бедных городских окраин и чувствовать солидарность по отношению к ним»[8], а с другой – осознавать, что, «несмотря на голод, который дал нам солидарность… несмотря на связь, которая объединяла нас в совместном поиске способов выжить, что заменяло нам игры, для детей бедноты мы были людьми из другого мира, которые по некой случайности попали в их мир»[9]. Именно осознание подобных классовых границ неизбежно привело Фрейре к полному отрицанию общественной системы, основанной на классовом делении.
И хотя представители некоторых ответвлений постмодернизма опровергли бы детальный классовый анализ, представленный Фрейре в «Педагогике угнетенных», было бы огромной ошибкой, а может, и вовсе научным лицемерием притворяться, что сейчас мы живем в мире, где не существует классового деления. Хотя Фрейре очень хорошо понимал, что «невозможно охватить всю сложность материального угнетения и аффективных инвестиций, которые привязывают угнетенные группы к логике доминирования, в рамках одной логической схемы классовой борьбы»[10], он неизменно настаивал, что для глубокого понимания механизмов угнетения всегда необходимо идти в обход, то есть через некую форму классового анализа. В то же время постмодернистская позиция, приверженцы которой чрезмерно восхваляют политику идентичности, не только ведет к материализму, но также содержит в себе семена угнетения. Возьмем, к примеру, заявление Элизабет Уоррен, прогрессивного сенатора из штата Массачусетс, о том, что она относит себя к числу американских индейцев, хотя ее предки много поколений тому назад отделились от американских индейцев, и она росла как белый ребенок, полностью изолированный от угнетения, которое испытывают на себе жители резерваций. То, как сенатор Уоррен меркантильно пользуется собственной расовой принадлежностью, чтобы в более выгодном свете представить себя как кандидата на должность профессора на юридическом факультете Гарварда, и то, как Гарвардский университет пользуется фактом ее приема на работу для доказательства собственной приверженности принципам расового разнообразия, лишь доказывает, что господствующие институты полагаются на символические жесты, стремясь усилить собственную ограничительную политику, которая не приветствует представительство небелых групп за исключением небольшой горстки их представителей. В реальности беспринципное использование собственной расовой или гендерной принадлежности в меркантильных целях обесценивает саму суть Закона о гражданских правах[11]. Оно также вооружает сторонников сегрегации, патриархата и превосходства белых аргументами для того, чтобы отвергать и критиковать антидискриминационные законы, которые препятствуют дискриминации на основе расовых или гендерных отличий.
До самой смерти Фрейре смело осуждал позицию неолибералов, которые пропагандируют ложную концепцию «конца истории» и конца классового деления. В противовес идее о том, что общество достигло конечной точки своей эволюции и это лишает историю ее смысла, Фрейре всегда воспринимал историю как существующие обстоятельства улучшения человека, которое открывает возможности для лучшего будущего за счет осознания того факта, что «история – это время, полное возможностей, которое не подчиняется непреложным установкам, что будущее противоречиво, а не предрешено заранее, как считают фаталисты»[12]. Точно так же Фрейре беспрестанно отрицал любые ложные заявления об окончании классовой борьбы. При том, что он вновь и вновь пересматривал предложенные им ранее варианты классового анализа, он никогда не отвергал понятие «класс» и не отрицал важность этой теоретической категории для поиска лучшего понимания условий угнетения. Во время долгой беседы, которая состоялась между нами во время его последней поездки в Нью-Йорк (в сущности, это был последний раз, когда нам довелось поработать вместе), он в очередной раз сказал, что, хотя нельзя все свести к классовому делению, оно остается важным фактором, влияющим на понимание множественных форм угнетения. И хотя постструктуралисты, вероятно, жаждут провозгласить конец классового анализа, они не берут в расчет те ужасающие условия человеческого существования, которые, по рассказам Фрейре, заставили семью, жившую на Северо-Востоке Бразилии, рыться на свалке и собирать «куски чьей-то ампутированной груди, из которых они приготовили свой воскресный обед»[13].
Несмотря на то что судьба подарила мне возможность непрерывно сотрудничать с Паулу на протяжении шестнадцати лет (вначале – переводя его книги на английский, а позже – работая вместе с ним над другими трудами), и хотя я столько раз читал и перечитывал «Педагогику угнетенных», с каждым новым прочтением этой книги я углубляю свое понимание современного мира – мира, страдающего от сфабрикованных войн, растущей нищеты и вопиющей жадности. Не впадая в ложную скромность, скажу: я всегда полагал, что понимаю основные идеи Фрейре, тонкости и нюансы, которыми характеризуется «Педагогика угнетенных». Но я не был способен полностью ухватить всю сложность и многослойность философии Фрейре до тех пор, пока не посетил Морру-ду-Сауди, захудалый район на окраине города Ресифи на Северо-Востоке Бразилии.
Как я уже упоминал, Фрейре и его семья переехали туда после серьезнейшего экономического кризиса 1930-х годов, который бесцеремонно вырвал среднеклассовый коврик из-под ног его семьи. По мере того как экономическая ситуация ухудшалась, члены семьи Фрейре потеряли возможность оплачивать жилье в Ресифи и переехали в скромный домик в Морру-ду-Сауди, где и нашли приют Паулу, его братья и сестры, родители и другие близкие родственники. Я сразу увидел «Педагогику угнетенных» в другом измерении и по-новому осознал ее смысл. Войдя в их скромный дом с маленькими темными комнатами – ванной не было, а кое-где отсутствовал и потолок, – я в более широком контексте представил себе те травмирующие факторы, действие которых должен был испытать Фрейре, лицом к лицу столкнувшись с новой формой обучения под названием «жизнь» – жизнь, которую создала и упрочила жестокая система, безжалостно оттеснившая миллионы бразильцев в категорию полуграждан и полулюдей. Я также прогулялся по берегу пересыхающей реки, где Фрейре и его друзья когда-то купались рядом с женщинами из округи, ежедневно стиравшими там белье. Единственным полотенцем, которым Фрейре мог вытереть тело, было солнце.
Фрейре быстро понял, что его новая реальность окружена психологической классовой стеной, когда начал знакомиться со своими новыми друзьями и соседями – их человечность заставила его разделить стремление его тети Натерсии «скрывать» их бедность и ее желание понять, «почему другие члены семьи не готовы распроститься с немецким фортепиано [тети] Лурде или почему [его] отец продолжает носить галстук»[14], даже когда выполняет грязную работу в цеху. Но Фрейре вскоре понял, что, цепляясь за внешние атрибуты и традиции представителей среднего класса, его родственники лишь усугубляли свою боль – «боль, которая почти всегда встречала на своем пути оскорбительные выражения… [когда его мать, которой лавочники часто отказывали продавать продукты в долг, поскольку семья была неплатежеспособной], выходила из одного магазина и отправлялась на поиски другого, где почти всегда к уже услышанным оскорблениям добавлялись новые»[15]. В попытке оградить свою мать от таких ежедневных унижений Фрейре часто лазил на задние дворы к соседям, чтобы украсть курицу, которая и становилась единственным пропитанием для семьи за день, поскольку к тому моменту уже ни один торговец в городе не давал им продуктов в долг. Стараясь защитить среднеклассовую чувствительность родственников, Фрейре эвфемистично называл такие кражи «набегами на соседские дворы». Мать Фрейре была католичкой, которая, без сомнения, смотрела на эти «набеги» как на предательство своих моральных принципов, но она, вероятно, отдавала себе отчет в том, что «выбор у нее был невелик – отругать [Паулу] и заставить [его] вернуть еще теплую курицу соседям, либо приготовить птицу и накормить семью. Побеждал здравый смысл. Ничего не говоря, она брала курицу, проходила по двору на кухню и погружалась в работу, от которой уже успела отвыкнуть»[16]. Мать Фрейре знала, что красть соседскую курицу неправильно с точки зрения морали, да и вовсе незаконно, но также она знала, что существует и другое преступление, априори совершающееся обществом: производство голода. Как вспоминал Фрейре,
голод, [порожденный социальным неравенством], <…> «был настоящим, реальным голодом, и неизвестно было, когда он закончится. Совсем наоборот, мы столкнулись с тем голодом, который приходит самовольно и без предупреждения, который ведет себя по-хозяйски и конца которому не видно. Это голод, который, будь он чуть суровее, овладел бы нашими телами, сделал бы из них скелеты. Ноги, руки и пальцы истончаются. Глазницы становятся глубже, так что кажется, будто глаз почти не видно. Многие из моих одноклассников пережили такой голод, и сейчас от него страдают миллионы бразильцев, которых он беспощадно губит каждый год»[17].
Именно против такой формы насилия Фрейре яростно и страстно высказался в «Педагогике угнетенных». На самом деле я абсолютно уверен в том, что «Педагогика угнетенных» не была бы написана, не будь в судьбе Фрейре классового изгнания и голода. Читая и перечитывая мысли Фрейре после того, как я посетил его скромное жилище в Морру-ду-Сауди, обдумывая высказанное им осуждение дегуманизирующих условий жизни и его заявление о том, что «изменить что-то трудно, но возможно», я испытал огромное разнообразие эмоций, апогеем которых стало чувство огромной утраты после его кончины, – утраты, которую сопровождали «тоска, сомнения, ожидания и печаль»[18]. В то же время с каждой новой публикацией неопубликованных доселе работ Фрейре и с каждым новым трудом, посвященным его теориям освобождения людей, «мы можем торжественно радоваться возвращению [Фрейре]»[19], ведь он снова и снова вселяет в нас энергию и бросает нам вызов, призывая представлять себе менее жесткий, более справедливый и более демократичный мир. Однако, как упорно настаивал Фрейре в своих трудах, заявлению о создании более справедливого и человечного мира всегда должно предшествовать обличение господствующих сил, которые порождают, наполняют и формируют дискриминацию, нищету и дегуманизацию. Следовательно, обличение угнетающих социальных сил невозможно осуществить посредством простых менторских методологий, которые словно обезболивающее обездвиживают и дрессируют разум посредством банальной передачи информации – процесса, который Фрейре называл «банковским» способом обучения. Однако осуждение, которое Фрейре высказывал по отношению к простому использованию методов, все еще неверно трактуется и искажается. В попытках некоторых академиков выяснить, работают ли методы Фрейре и, словно извиняясь, привести примеры школ, которые успешно работают по методике Фрейре, есть глубокая ирония. Именно это сделал Говард Гарднер во время обсуждения идей Фрейре с Ноамом Хомским и Бруно делла Кьезе, которое состоялось в Гарварде в мае 2013 года в рамках цикла открытых лекций Askwith Forum, тем самым непозволительно упростив интеллектуальный вклад Фрейре и смысл его главных теорий. Столь открыто сведя ведущие теоретические и философские идеи Фрейре к рангу обычных методов, Гарднер продемонстрировал, что его хваленая теория «множественного интеллекта» подвержена влиянию предрассудков, особенно когда теории Фрейре отвергаются как «неуместные» (взгляд, который, очевидно, формируется и поддерживается за счет идеологии). Таким образом, требование, которое Гарднер предъявил Ноаму Хомскому, Бруно делла Кьезе, а также аудитории, а именно: привести конкретные примеры, которые бы продемонстрировали, как работает сама методика Фрейре[20], больше скрывает, чем проясняет. Настоящий вопрос в отношении идей Фрейре и теорий, изложенных в «Педагогике угнетенных», должен заключаться в том, следует ли воспринимать предложения Фрейре о распространении грамотности лишь как образовательную методику, как и ответил Гарднеру Ноам Хомский во время обсуждения. По словам Хомского, Фрейре использовал грамотность «как средство повышения уровня сознательности»[21]. Проще говоря, Хомский призвал всех педагогов в целом и критических педагогов в частности выйти за рамки фетишизации методов, которая парализует мышление, новаторство и творчество американских учителей. Этот феномен глубоко проанализировала Лилия И. Бартоломе в своей широко известной статье «За рамками фетишизации метода: на пути к гуманизирующей педагогике» (англ. Beyond the Methods Fetish: Toward a Humanizing Pedagogy), опубликованной в журнале Harvard Educational Review[22].
Таким образом, идеи Фрейре следует воспринимать не просто как образовательные методики распространения грамотности, а через критическое понимание введенного им термина консайентизация (conscientização) – концепта, который часто неправильно трактуется даже критическими педагогами, считающими себя последователями идей Фрейре, и с успехом игнорируется преподавателями, в интересы которых входит присваивание диалогического метода Фрейре в отрыве от его основных теоретических целей, в результате чего он превращается в автора самой обыкновенной образовательной методики. Вдобавок к «методологическому фетишу» многих педагогов одна из сложностей определения предложенного Фрейре понятия консайентизация заключается в том, что португальское слово conscientização нелегко произносить (носители португальского языка тоже испытывают трудности), а также в том, что большинство определений этого глубокого понятия не могут должным образом передать, что именно подразумевал под ним Фрейре. Он всегда настаивал на том, что перед тем как даже пытаться дать определение слову консайентизация, необходимо ухватиться за суть этого понятия и задаться вопросом: «Какое это должно быть определение, противопоставленное чему, за кого оно и против кого?» Начав задавать эти вопросы, мы вскоре поймем, что даже для многих последователей идей Фрейре понятие консайентизация представляет сложность, которая не ограничивается правильным произнесением этого слова, ведь это термин, который Фрейре, по крайней мере поначалу, отказывался даже переводить на английский, попросту заявляя: «Я против. Почему бы не принять этот термин? Я ведь не обязан был принимать слово стресс, но принял. Почему же вы не можете принять слово conscientização?»[23] В конце концов Фрейре согласился с приближенным переводом этого слова на английский термином сonscientization.
В представлении Фрейре для демистификации понятия консайентизация угнетенные обязательно должны вернуть себе свое слово по мере обретения собственного голоса. Для него это было «основополагающей темой стран третьего мира, которая подразумевает сложную, но осуществимую задачу, стоящую перед их гражданами: завоевание собственного права голоса, права произносить свое слово»[24]. Именно это право должны вернуть себе угнетенные – «право быть [собой], выбирать направление [своей] судьбы»[25]. Именно это право всеми мерами душат господствующие силы, стремясь завладеть словом угнетенных – словом, которое выявляет механизм угнетения и которое искажается или заглушается, как полагает Генри Геру, в «обществе, которое теряется в припадках исторической и социальной амнезии, [в обществе, в котором] гораздо легче украсть язык политики и общественной деятельности и превратить его в оружие, лишив понятия “демократия”, “свобода”, “справедливость” и “социальное государство” какого бы то ни было реального смысла»[26]. То, как господствующие угнетающие силы отнимают у людей язык – как и некоторые либеральные педагоги, которые завоевывают приверженцев, рассуждая о том, что необходимо «поддерживать меньшинства» и «давать им право голоса», несмотря на то что сами они представляют большинство, – становится очевидным при злоупотреблении эвфемизмами в академическом дискурсе и в средствах массовой информации.
Эвфемизм – это не только языковое средство, которое мистифицирует и искажает реальность, но еще и инструмент, часто используемый господствующими силами (СМИ, политическими экспертами, представителями образованных слоев населения) для того, чтобы отвлечь внимание публики от реальных проблем, существующих в обществе, таких как невероятное увеличение разрыва между доходами бедных и богатых, пагубное сокращение среднего класса и крупномасштабное отчуждение граждан, лишенных права собственности. Подавление или искажение языка – это тактика, которая, по словам Арундати Рой, по всей видимости, представляет собой
…незаконное присвоение слов и превращение последних в оружие… использование слов с целью скрыть истинные намерения и высказать с их помощью нечто прямо противоположное тому, что они означали изначально, в последнее время стало одной из самых блестящих стратегических побед, одержанных царями нового толка. Она позволила им вытеснить своих оппонентов на обочину общества, лишить их языка, с помощью которого те могли бы высказать критику в их адрес[27].
Когда способ секвестрации языка не работает, господствующие силы начинают применять другие, еще более мощные драконовские меры, что ярко проявилось, когда чиновник, работающий в одной из муниципальных школ города Тусон в Аризоне, запретил приносить в класс «Педагогику угнетенных» Фрейре, потому что, согласно словам инспектора из Аризонского департамента образования, «нам не следует учить [детей]… тому, что они – угнетенные»[28]. Другими словами, консайентизация (как процесс обретения необходимых инструментов критического мышления, с помощью которых ученики, вместо того чтобы пассивно принимать свое угнетенное состояние, смогли бы понять, каким образом институты власти отнимают у них право на равенство в обращении, доступе и справедливости) не является целью муниципальных школ города Тусон, где запрещается обсуждать вопросы, касающиеся расовых отношений, этики и идеологии, а учителей заставляют внедрять педагогические методы, основанные на полнейшей лжи, с помощью которой учащихся (в данном случае – относящихся к низшим слоям мексикано-американцев) становится легче дрессировать. Почти полное отсутствие общественного резонанса в США в отношении использования цензуры в печати и воровства слов, которые называют реальность и таким образом противостоят угнетению, «вполне может оказаться краеугольным камнем нашей гибели»[29]. Я поражаюсь, видя, как академики применяют эвфемизмы, агрессивно возражая против любого дискурса, который дробит господствующий язык и оголяет скрытую реальность с целью назвать ее. Еще более поразительно наблюдать за поведением педагогов, которые считают себя последователями Фрейре, но не понимают очевидного: угнетенные не способны через процесс консайентизации прийти к «более глубокому осознанию своей ситуации, [которое] заставляет людей воспринимать эту ситуацию как историческую реальность, которую можно преобразовать»[30], пока эти либеральные педагоги продолжают потворствовать зачистке языка, которая, к примеру, лишает смысла термин «угнетенные». Многие из этих либералов с готовностью принимают на вооружение эвфемизмы, в том числе «малообеспеченные», «лишенные гражданских прав», «экономически маргинальные», «меньшинства» и «находящиеся в группе риска», когда говорят об угнетенных, тем самым затуманивая реальные исторические условия, объясняющие ситуацию «“здесь и сейчас”… в которую [угнетенные] погружены, из которой они выходят и в которую они вмешиваются»[31], чтобы разоблачить угнетателей и оказать им сопротивление в ходе своей борьбы за право «стать полноценным человеком»[32]. Такая секвестрация языка отнимает у людей возможность понять суть диалектических отношений между угнетателями и угнетенными. Если есть угнетенные, значит, должен быть и угнетатель.
Таким образом, язык – это не только поле брани, это еще и незаменимый инструмент обдуманной критической демистификации процесса, лежащего в основе консайентизации, – процесса, который Фрейре отказывается упрощать и сводить к рангу обычной методики, готовой к употреблению прогрессивными педагогами из «первого» мира, которые очень часто остаются скованными привычкой «мистифицировать методы и способы, и, собственно, сводить консайентизацию к набору определенных методов и способов, используемых в Латинской Америке для распространения грамотности среди взрослых граждан»[33]. Итак, я уже упоминал, что основной целью Фрейре было не разработать методологию распространения грамотности, которая могла бы повсеместно использоваться в работе с угнетенными по всему миру. Его основная цель заключалась в том, чтобы помочь людям достичь консайентизации с опорой на грамотность и на соответствующие методы, созданные им для определенных групп взрослых учащихся. Другими словами, не важно, откуда мы, –
…все мы вовлечены в постоянный процесс консайентизации, будучи мыслящими существами, находящимися в диалектических отношениях с объективной реальностью, на которую мы воздействуем. В пространстве и времени изменяется лишь содержание, методы и цели консайентизации… [когда люди приходят к осознанию] и обретают способность обнажить реальность, в которой существуют, зная ее и понимая, что они знают[34].
Еще одно крайне ложное толкование понятия консайентизация заключается в восприятии этого концепта «как некоего экзотического, тропического термина, типичного словечка из стран третьего мира. Люди рассуждают о консайентизации так, будто она представляет собой цель нецелесообразную для “сложных обществ”, будто страны третьего мира не являются по-своему сложными»[35]. Ложная дихотомия между так называемыми странами первого мира и странами третьего мира представляет собой лишь очередной пример секвестрации языковых средств, целью которой является своеобразная мистификация – отвлекающий маневр, который служит механизмом воспроизведения, призванным создавать центр и ядро романизированных евроцентричных ценностей, вытесняя проявления прочих культур на обочину общественной жизни. Нынешние нападки на ислам и на мусульман – это наглядный пример, в котором западные СМИ, политические эксперты и академики часто объединяют всех религиозно-культурных экстремистов в одну группу и переносят их экстремизм на мусульман в целом, представляя их всех в качестве потенциальных террористов. В то же время мы с успехом игнорируем западных экстремистов, таких как евангелист Пэт Робертсон, который с успехом маскирует свою нетерпимость и свои постоянные нападки на женщин. Возьмем, к примеру, высказывание Робертсона о том, что «сторонники феминизма борются не за равноправие мужчин и женщин. Это социалистское, антисемейное политическое движение, которое призывает женщин бросать своих мужей, убивать своих детей, заниматься колдовством, разрушать капитализм и становиться лесбиянками»[36]. Если бы мы заменили Робертсона на талиба, а слова «социалистский» и «капитализм» поменяли местами, западные политики, СМИ и немусульманские религиозные лидеры на славу повеселились бы, критикуя примитивную природу ислама и его радикализм, и одновременно игнорируя разнообразие мусульманского мира, который объединяет миллиарды людей, относящихся к разным культурам, классам и народностям. Следовательно, социальные институты на западе и в большинстве уголков мира служат преимущественно для того, чтобы сдерживать и ограничивать эти так называемые примитивные культуры стран третьего мира, голос которых часто тонет в непрекращающейся болтовне господствующей культуры, – все это с целью сделать эти «молчаливые отрезки культур» невидимыми или, по крайней мере, вынести их за пределы общественных обсуждений или споров. Подход Фрейре к процессу консайентизации мог бы помочь нам выявить присущее западному миру стремление поддерживать невидимость, чтобы подчиненные культуры оставались в тени, а также чтобы не был виден экстремизм со стороны самих западных стран, который ничуть не менее террористичен, чем исламский радикализм. Как еще можно охарактеризовать дикость, проявленную американцами в Афганистане, Ираке и Вьетнаме, которая «часто доходила до абсолютного отсутствия каких-либо моральных принципов: добровольное участие в пытках, убийства ради учебной стрельбы, безжалостные расправы над детьми и младенцами»[37] – зверства, разговоров о которых в этическом или политическом контексте противник абортов Пэт Робертсон и иже с ним благополучно избегают? Именно наша неготовность или нежелание приобщиться к процессу обретения консайентизации повинны в том, что мы столь охотно принимаем великолепную ложь Робертсона о феминизме, даже подхватывая идею о ложной дихотомии между контекстами стран «первого» и третьего мира – идею, которая представляет собой идеологическое противопоставление, служащее главным образом для того, чтобы воспроизводить западный нарратив о «диких и примитивных» культурах третьего мира, что, в свою очередь, требует, чтобы Запад выполнял свой «моральный долг», «убивая детей и младенцев», спасая их от них самих. Один высокопоставленный военный, служащий в военно-морских силах США, заявил, что эти убийства оправданны, что «дерьмо случается» и что если бы эти дети выросли, «они бы вступили в Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама»[38]. Слишком много американцев остаются в стороне, когда в результате атак беспилотников и «умных бомб» погибают женщины и дети в Афганистане и в Пакистане, в то время как США выставляют себя борцом за права и свободы женщин. Западные СМИ, политические эксперты и большинство академиков также хранят молчание в отношении западного экстремизма, что ярко видно в «знаменитой реакции бывшего государственного секретаря Мадлен Олбрайт на появившуюся в 1996 году информацию о гибели 500 000 иракских детей, которые стали жертвами «санкций массового поражения»: «Оно того стоило»[39].
Общественная тенденция игнорировать очевидное в том, что касается внешней политики США, во многом похожа на поведение некоторых академиков и исследователей, беспрестанно пишущих заявки на получение грантов для изучения и распространения грамотности, скажем, на Гаити, одновременно игнорируя десятки тысяч гаитян, которые живут в США, ведут ежедневную борьбу за существование и вылетают из муниципальных школ, часто находящихся неподалеку от университетов, где работают эти академики. Произошедшее на Гаити в 2010 году разрушительное землетрясение и последовавшая за ним эпидемия холеры, принесенной на остров войсками ООН, поместила Гаити в поле зрения западных государств, чья реакция послужила примером своеобразного патернализма, превратившегося в филантропический расизм, который, по словам Альбера Мемми, представляет собой «единосущное проявление колониализма»[40]. Белые академики и исследователи едут на Гаити для сбора данных и антропологизируют страдающих гаитян – предмет их исследования, а затем возвращаются в свои университетские корпуса в США и начинают рассказывать студентам и коллегам экзотические истории, публиковать результаты своих исследований и получают постоянную работу в качестве преподавателей, в то время как десятки тысяч гаитян продолжают жить на острове, обреченные ютиться в трущобах и готовить печенье из грязи, пытаясь перехитрить свои желудки – заставляя себя думать, что они наполнены, и тем самым заглушать голод. Более того, потом эти туристы-антропологи, которые едут на Гаити изучать образ жизни гаитян и собирать данные, часто проявляют дискриминацию в отношении студентов-гаитян, посещающих их занятия в США. Я помню, как спросил одного белого преподавателя из США, который в 1980-х годах часто ездил на Гаити в рамках своих исследовательских проектов, спонсируемых за счет федеральных грантов, почему бы ему не посвятить часть своего времени работе с тысячами гаитян, живших неподалеку от университета, где он работал. Он ответил честно, если не сказать жалостливо: «По мнению учреждений, которые нас спонсируют, гаитяне, живущие в США, недостаточно “привлекательны” (sexy)». Если бы этот либеральный академик из «первого» мира присоединился к честному и суровому процессу обретения консайентизации, он, вероятно, не смог бы чувствовать себя так комфортно, строя карьеру ценой мытарств миллионов гаитян, которые остаются в плену бесчеловечности, звериного неравенства и нищеты. Будь он в состоянии увидеть связь между своими карьерными целями и поддержанием угнетения на Гаити (во многом за счет внешней политики США), он, возможно, увидел бы несообразность своего честного ответа. Может быть, этот исследователь смог бы более глубоко понять гаитян и осознал бы, что текущие условия их жизни во многом сформированы за счет интервенционистской политики Соединенных Штатов, проявившейся во вторжениях на Гаити, захвате острова и постоянной поддержке ультраправых диктаторов, которые в основном действуют вразрез с интересами абсолютного большинства своих сограждан. Посвятив себя честному размышлению и начав задавать вопросы самому себе, этот белый исследователь из США, возможно, осознал бы, что его политический проект в первую очередь служит целям его собственного продвижения по карьерной лестнице. Если бы этот академик из «первого» мира увидел все эти связи, он, вероятнее всего, осудил бы тех, кто даровал бывшим президентам США Клинтону и Бушу-старшему статус чуть ли не святых за их гуманитарную деятельность на Гаити после смертоносного землетрясения. Кто знает, может быть, этот белый педагог из Америки понял бы, что оба президента, учитывая их внешнюю политику, несли частичную ответственность за то море нищеты, в которое был погружен народ Гаити до землетрясения. К чему на самом деле привело землетрясение, так это к усугублению тех нечеловеческих условий, в которые были помещены десятки тысяч гаитян, и преданию сложившейся ситуации огласке точно так же, как ураган Катрина выставил напоказ укоренившийся расизм и дегуманизацию афроамериканцев в Новом Орлеане. Несмотря на весь ужас произошедшего на Гаити землетрясения, либеральный педагог из «первого» мира, вероятно, отказался бы платить $1320 за ночь, чтобы снять в роскошном пятизвездочном отеле Royal, на строительство которого ушло «7,5 миллиона долларов, предоставленных Международной финансовой корпорацией Всемирного банка… и два миллиона долларов, полученных из Фонда помощи Гаити Буша и Клинтона»[41] номер с видом на трущобы, лачуги и навесы. В то время как гуманитарная щедрость стран «первого» мира запятнана примерами такого оскорбительного афиширования изобилия капиталистических стран, более миллиона гаитян остаются бездомными и продолжают влачить жалкое существование в нечеловеческих условиях, в бараках и под навесами, без водопровода и канализации, без электричества и почти без еды, голодая целыми семьями. Если бы этот преподаватель из страны «первого» мира встал на путь обретения консайентизации, он, возможно, смог бы увидеть ложное благочестие, продемонстрированное бывшими президентами Бушем и Клинтоном, когда их приветствовали тысячи гаитян в Порт-о-Пренсе. Снисходительное презрение бывшего президента Буша к народу Гаити стало очевидно всему миру, когда на YouTube появилось видео, где он, пожав руку гаитянину из толпы, попытался вытереть ладонь о рубашку бывшего президента Клинтона.
Процесс обретения консайентизации, возможно, приподнял бы завесу привилегий, которыми на Гаити наслаждаются так называемые blans[42] – «белые». Это люди с белым цветом кожи или чужаки – иностранцы, которые влюбляются в экзотический нарратив острова, создаваемый ими для удовлетворения своих колониальных желаний и собственных потребностей, – нарратив, в целом имеющий мало отношения к реальности, в которой протекает повседневное существование пытающихся выжить гаитян. Во многом эти «белые» из стран «первого» мира, какими бы ни были их политические убеждения, оказываются не в состоянии понять, что их вид интервенции – это совсем не то же самое, что описываемая Фрейре педагогика угнетенных,
…оживленная подлинным, гуманистическим (не гуманитарным) великодушием, [которая] позиционирует себя как педагогику человечества. Педагогика, в основе которой лежат эгоистические интересы угнетателей (эгоизм, одетый в костюм мнимого патерналистского благородства) и которая превращает угнетенных в объект своей филантропии, сама по себе сохраняет и олицетворяет угнетение. Она является орудием дегуманизации[43].
Лучшим примером филантропии как воплощения дегуманизации служит деятельность Красного Креста – благотворительной организации, которая собрала более 400 миллионов долларов, чтобы облегчить страдания десятков тысяч гаитян, лишившихся крыши над головой в результате землетрясения, и на эти деньги возвела на острове роскошный отель, строительство которого обошлось в миллионы долларов[44], в то время как более миллиона гаитян все еще остаются бездомными. Пока шикарные отели предоставляют полчищам служащих из неправительственных организаций и прочих источников гуманитарной помощи возможность снять напряжение и за бокалом вина пообщаться со своими «белыми» друзьями и коллегами, которые руководят распределением жалованья в «первом» мире, десятки тысяч гаитян пытаются найти крышу над головой, шарят по свалкам в поисках съестного и борются за право вернуть себе свое «онтологическое и историческое призвание… стать полноценным человеком»[45]. Пока у иностранных работников достаточно средств, чтобы попасть в фешенебельный ресторан или получить доступ к услугам здравоохранения, включая психотерапию, большинство гаитян, потерявших жилье после землетрясения 2010 года, жаждут узнать, что же значит быть полноценным человеком. Возьмем, к примеру, данное американской журналисткой Эми Уиленц
описание Мак Макклелланд, правозащитницы и автора статей в журнале Mother Jones, которая словно простуду подхватила посттравматическое стрессовое расстройство, увидев, как недавно изнасилованная женщина-гаитянка упала в обморок, когда ей предоставили шанс опознать напавшего на нее мужчину. Получив эту психологическую травму, Макклелланд опубликовала рассказ о домашних сеансах терапии, которую она для себя выбрала: она попросила друга изнасиловать ее с максимальным правдоподобием, которое могли позволить их взаимоотношения[46].
Хотя тот факт, что Макклелланд в рамках своей гуманитарной работы после землетрясения на Гаити предпочла подвергнуть себя насилию в качестве терапии, попахивает нарциссизмом в последней стадии, в определенной степени он также свидетельствует о въевшемся, одетом «в костюм мнимого патерналистского благородства» эгоизме, свойственном гуманитарным интервенциям угнетателей, обернутым как щедрые подарки, которые, в свою очередь, олицетворяют собой эгоцентрическое добросердечие, царящее в странах «первого» мира. И дело не только в том, что такие филантропические интервенции в большинстве случаев оканчиваются полным провалом (как в случае Гаити), но и в том, что гуманитарные деятели из стран «первого» мира не в состоянии понять одно: освобождение достигается исключительно путем разрешения трений и противоречий в отношениях между угнетателями и угнетенными. Следовательно, «если цель угнетенных – обретение полной человечности, они никогда не достигнут своей цели, всего-навсего меняя местами условия этого противоречия, переставляя полюса»[47]. По тем же причинам угнетатель не может надеяться, что освободит угнетенных, переставив полюса, то есть напрямую испытав на себе насилие угнетения. Это лишь продолжение потребности угнетателя присваивать себе все, вплоть до страданий угнетенных, о чем, по-видимому, свидетельствует пример Макклелланд. Ее выбор терапевтических методов равноценен склонностям многих либеральных педагогов, которые чувствуют потребность сделать публичное заявление о том, что они вышли из рядов «господствующей бюрократии»[48], причастность к которой всегда приносила им выгоду, временно переехав вместе с семьей в гетто до тех пор, пока их дети не пойдут в школу. По словам Фрейре, освобождение никогда не предполагает демократизации насилия, нищеты или ужасающей бедности. Освобождение всегда разрешает противоречия между угнетателем и угнетенными, но это становится возможным лишь «благодаря появлению нового человека – не угнетенного и не угнетателя, а человека, стремящегося к освобождению»[49].
Неспособность разрешить противоречия между угнетателем и угнетенными, увидеть связи и стать «бродягой, который говорит очевидное», как сказал бы Фрейре, напрямую связана с тем, что Фрейре в «Педагогике угнетенных» назвал слабостями превалирующей «банковской» модели обучения – процесса, в результате которого
процесс обучения становится процессом внесения вклада в банк, в котором ученик – это счет, а учитель – вкладчик. Вместо общения с учащимся преподаватель ограничивается формальными уведомлениями и продолжает делать вклады, которые ученики терпеливо принимают, запоминают и повторяют. Такова «банковская» концепция обучения, в которой дозволенные ученикам действия ограничиваются получением, систематизацией и хранением взносов[50].
«Банковская» модель обучения реализуется в большинстве образовательных программ для бедных в виде подхода, основанного на достижении профпригодности и накоплении навыков. Это касается даже учреждений высшего образования (высшей формы механической грамотности для богатых), получаемого в виде профессиональной специализации. Однако, несмотря на внешние различия, эти два подхода имеют одну общую черту: они оба препятствуют развитию критического мышления, которое позволяет человеку «читать мир», критически оценивая его, и видеть причины и связи, скрывающиеся за голыми фактами и за тем, что может на первый взгляд показаться очевидным, но остается недопонятым. Распространение грамотности среди бедных путем «банковского» обучения по большей части представляет собой бездумную, бессмысленную зубрежку и выполнение заданий для «подготовки к экзамену, который включает в себя тест с несколькими вариантами ответа и попытку учеников написать полную чепуху, пародируя звучащий в их ушах наукообразный жаргон»[51]. Этот «банковский», механистический подход к обучению закладывает фундамент для обезболивания ума, как красноречиво выразился американский поэт Джон Эшбери в своей книге «Что есть поэзия?» (What Is Poetry?):
В школе Выпололи все мысли. То, что осталось, похоже на поле[52].Педагогическая «прополка», в случае тех учителей, которые некритически приняли «банковскую» модель образования, воплощается в применении бланков и рабочих тетрадей, в бездумной роботоподобной зубрежке и выполнении практических заданий, которые делят рутинную работу на этапы и контролируют ее ход. Этот конвейер зубрежки и практики, парализующий способность учеников мыслить, оставляет после себя плодотворную почву для преподавательского менторства, когда
повествование (в котором учитель выполняет роль повествующего) заставляет учеников механически запоминать его содержание. Хуже того: оно превращает их в «контейнеры», в «тару», которую должен «наполнить» учитель. Чем больше информации он «заливает» в эту тару, тем лучше он преподает. Чем безропотнее ученик позволяет себя наполнять, тем лучше он учится[53].
Ученики в этом случае оцениваются при помощи итоговых квалификационных экзаменов, зачастую отражающих милитаристскую, строго контролируемую передачу информации от преподавателя ученикам и последующее запоминание последними этого механически воспроизведенного «материала». Следовательно, основные результаты механистического «банковского» обучения неизбежно приводят к созданию образовательных структур, которые поощряют зубрежку и сводят приоритетные задачи образования к прагматическому требованию полной заморозки критических способностей учеников с целью «приручить социальный порядок во имя его самосохранения»[54].
Есть и другая крайность: приручение социального порядка может достигаться за счет другого, в равной степени механистического подхода к обучению богатых слоев населения путем гиперспециализации, которая, с одной стороны, заключается в передаче ученикам определенных навыков, словно банковских депозитов, а с другой – не одобряет проведение параллелей между разными областями знания, рассуждая о «чистой» и специализированной науке, требующей наличия специалистов – науке, которая, как сказал испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, «очень хорошо “знает” лишь свой крохотный уголок вселенной; но ровно ничего не знает обо всем остальном»[55]. На самом деле эта неспособность проводить связи между разными областями знания часто свидетельствует о невиданном невежестве, примером которого может служить преподавательница математики из одного крупного университета, заявившая, что у нее есть право на незнание. Она сказала это в ответ на новости о ходе войны в Ираке, когда (возможно, испытав дискомфорт от того, что ее коллеги открыто высказывались против этой войны) она резко произнесла: «У меня есть право не знать, о чем говорят в новостях». И хотя она имеет право неведения, как академик и гражданин демократического общества она также несет обязанность знать, чем занимаются лидеры государства, в котором она живет, и, возможно, находиться в неведении – не лучшая идея, когда права человека ставятся под угрозу, скажем, из-за варварской политики – политики, благодаря которой происходят ужасные вещи, например бомбардировки с использованием беспилотников, в результате которых неизменно гибнет ни в чем не повинное мирное население, женщины и дети, что правящими кругами расценивается как «печальная сторона войны» или просто «сопутствующие потери». Такая авторитарная бесчувственность и полное пренебрежение по отношению к человеческой жизни вновь проявились, когда президент Филиппин Родриго Дутерте «приказал военно-морским силам и береговой охране бомбить похитителей, если они попробуют скрыться… Мне говорят: “А что насчет пленных?” Извините, но это сопутствующие потери»[56].
Социальная организация знаний путем четкого очерчивания дисциплинарных границ еще больше углубляет процесс формирования класса специалистов, то есть инженеров, врачей, педагогов и так далее, причем каждая профессия подразделяется на еще более ограниченные области. Специалист такого рода «знаком лишь с одной из наук, да и из той он знает лишь малую часть, в которой непосредственно работает. Он даже считает достоинством отсутствие интереса ко всему, что лежит за пределами его узкой специальности, и называет “дилетантством” всякий интерес к широкому знанию»[57]. Такое «дилетантство» порицается через мистическую потребность достичь абсолютной объективной истины внутри собственного узкого поля, и в ходе этого процесса оно приручает ту разновидность специализированных знаний, которая не только отделяется от философии социальных и культурных отношений (служащей основой разнообразия укоренившихся в культуре мнений и знаний), но также скрывается за идеологией, создавая и поддерживая ложные дихотомии, строго очерченные дисциплинарными рамками. На этой идеологии также основано мнение о том, что «точные науки», «объективность» и «строгость научных исследований» следует отличать от неточных данных «гуманитарных наук» и от социологической и политической деятельности, которая изначально сформировала эти категории. Вдобавок такая «банковская» модель обучения ведет к фрагментации знания, что неизбежно снижает уровень критического осознания у учеников, заставляя их принимать реальность как данность и, следовательно, подрывает «критическое мышление, которое могло бы стать результатом их взаимодействия с миром в качестве его преобразователей. Чем покорнее они принимают навязанную им пассивную роль, тем больше они склонны просто приспосабливаться к уже существующему миру и к вложенному в них, словно в банк, раздробленному видению реальности»[58]. Мрачный результат заключается в том, что представители наиболее привилегированного класса, обладающие самыми большими богатствами и возможностями, таким образом отказываются от своего онтологического призвания быть агентами истории, которые могли бы не только трансформировать свой мир, но и поразмыслить над этой трансформацией. По словам Фрейре, «способность “банковского” обучения минимизировать или аннулировать творческую силу учеников и стимулировать их легковерность обслуживает интересы угнетателей, которые не хотят ни чтобы ученики увидели мир таким, какой он есть, ни чтобы они его изменили»[59].
«Банковская» модель обучения также часто оказывается тихой гаванью для большинства консервативных и многих либеральных педагогов, которые скрывают свое прагматичное и потребительское отношение к образованию под тем, что Фрейре называет «представлением о получении знания как “усвоении”, которое столь распространено в современной педагогической практике»[60]. Этот подход подразумевает, что ученики «недокормлены» и, соответственно, вынуждает учителя давать ученикам список книг, которые физически невозможно прочитать и которые никогда не разбираются и не обсуждаются в классе, под предлогом того, что «в сознании учеников есть “пробелы”, и, чтобы они обладали знаниями, их необходимо “восполнить”»[61]. Мне вспоминается один университетский преподаватель, который выдал своим студентам учебный план с 80-страничным списком литературы, при этом прекрасно понимая, что невозможно тщательно разобрать все эти тексты за один семестр. Это, безусловно, служит примером педагогического подхода, который ценит количество превыше качества. Тот же самый преподаватель потребовал от студентов, чтобы они написали работу объемом 40 страниц (почему не 25, 35 или 38?), которые он едва ли прочитал, не говоря уже о том, чтобы предоставить подробные и вдумчивые комментарии. Оценивая работу одного студента, насчитывавшую 54 страницы, преподаватель давал краткие комментарии, которые ограничивались словами «отличная работа», «высокая культура в противовес низкой», «замечательно» или «педагогическая мощь». В целом 54-страничный доклад получил 43 слова комментариев. Такой направленный на «усвоение» подход соответствует тому же представлению, из-за которого Жан-Поль Сартр, критикуя идею о том, что «знать значит есть», воскликнул: «Ох уж эта продовольственная философия!»[62] Это процесс, в результате которого «слова превращаются в обычные “лексические депозиты”» [преподавательской лексики], в хлеб преподавательских знаний, который ученики обязаны «съесть» и «переварить»[63] (имеется в виду заучивание списков определений без понимания сути изучаемого объекта; применение методов как набора инструментов без осознания того, что их использование свидетельствует о принадлежности к определенной идеологии, особенно сейчас, в том, что касается новых технологий; чтение шаблонных текстов, замаскированных под теорию, которая преуменьшает значение практики; и составление обширных глоссариев). Учащихся, которым без конца «скармливают» информацию, наполняя их, словно не способную мыслить тару, затем просят «срыгнуть» ее обратно во время стандартных экзаменов и тестов, разработанных, с одной стороны, чтобы подтвердить превосходство знаний/«банковского счета» преподавателя над знаниями учеников, а с другой – чтобы удовлетворить нарциссические потребности педагога (мотив, свойственный большинству гуманитарных (но не гуманистических) подходов к образованию). В конечном счете «продовольственный банковский» подход к обучению, пусть даже он скрывается под маской прогрессивного образования, ставит своей главной целью раскармливание мозга учеников через внесение «вкладов» учительских знаний. Поэтому в рамках такой педагогической модели ученики поглощают представления, «рожденные не их собственными креативными ученическими усилиями»[64]. Такой вид обучения, ориентированный на воспроизведение фактов, а не на понимание объекта изучения с целью получения новых знаний, неизбежно приводит к параличу эпистемологического любопытства учащегося и его творческого потенциала, из-за перегрузки навязанными педагогом знаниями, «которые в действительности… оказываются почти полностью отчужденными и отчуждающими и не имеющими почти ничего общего с той социокультурной реальностью, в которой живут ученики»[65].
В сущности, в «Педагогике угнетенных» Фрейре предлагает читателю идеологическую карту революционных изменений, осуществляемых на основе праксиса, которая «не предполагает дихотомии, разделяющей праксис на предварительную стадию размышления и последующий этап. Действие и размышление протекают одновременно»[66]. Проще говоря, Фрейре подталкивает нас к развитию критических мыслительных навыков, которые не позволят нам забыть опасные воспоминания, отмеченные клеймом ужасающего экономического неравенства, жестокого насилия и дегуманизации, которую необходимо осуждать. Такое порицание человеческих страданий необходимо для того, чтобы мы могли отстаивать интеллектуальную последовательность, которая, в свою очередь, требуется для понимания критической разницы между изучением голода, скажем, в роли туриста-антрополога, и реально испытываемого голода, между сетованием на проявления жестокости и опытом переживания насилия, между ложным благочестием или стремлением «подарить голос» угнетенным и ситуацией, когда институты власти заставляют вас молчать. Итак, псевдокритические педагоги, заявляющие о необходимости «дарить» людям небелого цвета кожи или женщинам голос, не осознают того, что голос – это не дар. Это демократическое право. Это человеческое право.
Фрейре всегда подчеркивал, что суть и смысл борьбы за освобождение заключается в возвращении этих прав, чего невозможно достичь без автономии. Автономия, в свою очередь, не может быть достигнута без настоящего взаимодействия с людьми, вместе с которыми мы боремся за освобождение. Другими словами, господствующий язык критики, которая осуждает социальную несправедливость лишь через письменный дискурс, но не предполагает осуществления соответствующих действий вместе с народом, представляет собой приспособленчество. Часто именно это происходит, когда академики, выступающие в роли туристов-антропологов на короткое время вступают в общность с людьми, например собирая данные для своего исследовательского проекта, но потом бросают эту обездоленную общность на произвол судьбы. Общность с угнетенными предполагает готовность совершить классовый и расовый суицид, который представляет собой нечто большее, чем простое «пересечение границы и переход из одного пространства в другое, пересечение географической границы, отделяющей угнетателей от угнетенных». Классовый суицид – это своего рода Пасха. Он предполагает проблематичное прохождение через культурный и идеологический контекст. Настоящее значение имеет приверженность осмысленной и долговечной солидарности с угнетенными»[67]. Как лаконично сформулировал Фрейре,
Отрицание общности революционных сил, стремление избежать диалога с людьми под предлогом попыток организовать их, усилить мощь революции или обеспечить объединенный фронт, – все это на самом деле свидетельствует о страхе свободы. О боязни поверить в людей или о нехватке этой веры. <…> Революция осуществляется не лидерами ради людей и не людьми ради лидеров: первые и вторые действуют сообща, объединенные незыблемой солидарностью. Эта солидарность возникает только тогда, когда лидеры подтверждают ее в ходе смиренного, полного любви и отваги взаимодействия с людьми. Не всем хватает храбрости для такого взаимодействия, но, избегая его, люди становятся несгибаемыми и начинают относиться к другим как к объектам; вместо того чтобы взращивать жизнь, они убивают ее; вместо того чтобы искать жизнь, они бегут от нее. А это характерные черты угнетателей[68].
Дональдо МачедоБостонский университет, Массачусетс, СШАПредисловие к первому англоязычному изданию (1970)
За последние десятилетия идеи и труды бразильского педагога Паулу Фрейре распространились с Северо-Востока Бразилии на целый континент и внесли большой вклад не только в сферу образования, но и в борьбу за национальное развитие в целом. В тот самый момент, когда обездоленные народные массы в Латинской Америке начали просыпаться от привычного летаргического сна и проявили страстное желание участвовать в развитии своих стран в роли Субъектов, Паулу Фрейре довел до совершенства метод преподавания, который необычайным образом способствовал этому процессу. На самом деле те, кто, научившись читать и писать, начинает по-новому осознавать свое собственное «я» и критически оценивать социальную ситуацию, в которой находится, часто берут на себя инициативу в деле трансформации общества, которое отняло у них эту возможность участия. Образование вновь оказывается подрывной силой.
Мы, жители США, постепенно узнаем о творчестве Паулу Фрейре, но до сих пор мы в основном воспринимали его как человека, внесшего вклад в образование безграмотных жителей третьего мира. Однако, присмотревшись повнимательнее, можно обнаружить, что как его методология, так и его философия образования столь же важны для нас, как и для обездоленных жителей Латинской Америки. Их борьба за то, чтобы стать свободными Субъектами и участвовать в трансформации собственного общества, во многом похожа на борьбу, которую ведут не только темнокожие и мексиканцы, но и молодые люди среднего класса в нашей стране. А острота и напряженность этой борьбы в развивающихся странах вполне могла бы дать нам новое понимание, новые модели и новую надежду в решении наших собственных проблем. По этой причине я полагаю, что публикация «Педагогики угнетенных» на английском языке – это своеобразная веха.
Идеи Паулу Фрейре представляют собой реакцию творческого ума и восприимчивого сознания на немыслимую бедность и страдания окружающих обездоленных людей. Он родился в 1921 году в бразильском городе Ресифи – центре одного из самых бедных и неразвитых регионов третьего мира, и вскоре был вынужден испытать эту жестокую реальность на себе. Когда экономический кризис 1929 года в США начал сказываться на ситуации в Бразилии, шаткое благополучие среднеклассовой семьи Фрейре рухнуло, и ему пришлось разделить участь «обездоленных мира сего». Это глубочайшим образом повлияло на его судьбу, когда он пережил муки голода и начал отставать в школе из-за вызванной недоеданием апатии. Это же заставило его в возрасте одиннадцати лет поклясться, что он посвятит свою жизнь борьбе против голода, чтобы другим детям никогда не пришлось познать те страдания, которые он испытал тогда.
В раннем возрасте разделив участь бедноты, Паулу Фрейре также открыл для себя то, что он описывает как «культуру молчания» обездоленных. Он пришел к пониманию того, что их невежество и апатия были прямым следствием ситуации экономического, социального и политического доминирования – и патернализма, – жертвами которых они оказались. Вместо того чтобы мотивировать их и давать им возможность узнать настоящую реальность их мира и отреагировать на нее, людей «погрузили» в ситуацию, в которой проявление критического мышления и соответствующей реакции оказывалось практически невозможным. Ему стало ясно, что сама система образования представляла собой один из главных инструментов поддержания культуры молчания.
Столкнувшись с этой проблемой, имевшей непосредственное отношение к его собственному существованию, Фрейре сосредоточил свое внимание на сфере образования и начал работать в ней. Он посвятил многие годы процессу изучения и размышлениям, благодаря которым в философии педагогики появилось нечто совершенно новое и необычное. Оказавшись непосредственным участником борьбы за освобождение мужчин и женщин для создания нового мира, он обратился к идеям и опыту людей, живших в самых разных условиях и придерживавшихся разных философских взглядов – по его собственным словам, к «Сартру и Мунье, Эриху Фромму и Луи Альтюссеру, Хосе Ортеге-и-Гассету и Мао, Мартину Лютеру Кингу и Че Геваре, Унамуно и Маркузе». Воспользовавшись выводами этих людей, он выработал поистине оригинальный взгляд на образование, который основан на необходимости отреагировать на реальную действительность Латинской Америки.
Фрейре впервые выразил свои идеи в области философии образования в 1959 году, защищая докторскую диссертацию в университете Ресифи, и позднее – во время работы в качестве профессора исторических наук и философии образования в том же учебном заведении, а также во время его ранних экспериментов по обучению безграмотных жителей города. Разработанная им методология широко использовалась католиками и участниками других кампаний по распространению грамотности, проводившихся на Северо-Востоке Бразилии, и была воспринята как настолько серьезная угроза старому режиму, что Фрейре был заключен в тюрьму сразу после военного переворота 1964 года. Когда через семьдесят дней Фрейре вышел на свободу и ему посоветовали покинуть страну, он отправился в Чили, где прожил пять лет, работая для ЮНЕСКО и Чилийского института аграрной реформы по программам образования для взрослых. После этого он выступал в роли консультанта на педагогическом факультете Гарвардского университета и тесно сотрудничал с рядом групп, проводивших новые образовательные эксперименты в сельской области и в городах. В настоящий момент (1970 г. – Ред.) он занимает должность специального консультанта в Отделе образования Всемирного совета церквей в Женеве.
Перу Фрейре принадлежит множество статей на португальском и испанском, а его первая книга – «Образование как практика освобождения» (порт. Educação como Prática da Liberdade) была опубликована в Бразилии в 1967 году. Его последний и самый исчерпывающий труд – «Педагогика угнетенных» – первая из его работ, публикующихся в США.
Нет смысла пытаться в рамках этого короткого вступления в нескольких абзацах обобщить то, что автор описывает на десятках страниц. Это было бы оскорбительной недооценкой богатства, глубины и сложности его идей. Но, может быть, здесь есть место свидетельству – личному свидетельству – относительно того, почему диалог с идеями Паулу Фрейре представляется мне столь захватывающим приключением. Я настолько пресытился абстрактностью и стерильностью, которыми характеризуется большинство интеллектуальных трудов в современном академическом сообществе, что меня крайне воодушевляют размышления, основанные исключительно на историческом контексте, которые рождаются в разгар борьбы за создание нового социального порядка и поэтому представляют собой единство теории и практики. И меня обнадеживает, что столь значимая фигура, как Паулу Фрейре, воплощает собой повторное открытие призвания гуманистов, коими должны быть интеллектуалы, и демонстрирует, что мысль способна отбрасывать принятые ограничения и открывать дорогу в новое будущее.
Фрейре способен на это, потому что он отталкивается от одного основополагающего тезиса: онтологическое (как он сам его называет) предназначение человека заключается в том, чтобы быть Субъектом, который воздействует на окружающий мир, меняет его и, делая это, неизменно приближается к возможности жить более полной и богатой жизнью – как индивидуально, так и коллективно. Этот мир, частью которого он является, не статичен и не замкнут, это не данность, которую человек обязан принять и к которой должен приспособиться. Это скорее проблема, над которой необходимо поработать и которую можно решить. Это материал, которым человек пользуется, творя историю, задача, которую он выполняет, преодолевая всегда и везде то, что лишает его человечности, и осмеливаясь создавать что-то качественно новое. По мнению Фрейре, необходимые для осуществления этой задачи ресурсы в настоящее время обеспечиваются продвинутыми технологиями нашего западного мира, но социальное видение, которое заставляет нас отвергать существующий порядок и показывать, что история еще не закончилась, возникает в первую очередь на основе страданий и борьбы жителей третьего мира.
С этим связано убеждение Фрейре (которое сейчас подтверждается обширным накопленным опытом) в том, что каждый человек, каким бы «невежественным» или погруженным в «культуру молчания» он ни был, способен взглянуть на мир с критической точки зрения, вступая в диалог с окружающими. Имея необходимые для такого диалога инструменты, этот индивид может постепенно воспринять личную и социальную реальность вместе с существующими в ней противоречиями, осознать свое восприятие этой реальности и начать взаимодействовать с ней на основе критического анализа. В ходе этого процесса преодолевается старая патерналистская модель отношений между учителем и учеником. Крестьянину лучше удастся упростить этот процесс для своего соседа, чем «преподавателю», привлеченному со стороны. «Люди обучают друг друга, а посредником в их взаимодействии выступает мир».
Когда это происходит, слово обретает новую силу. Оно больше не является чем-то абстрактным или магическим, а представляет собой средство, с помощью которого люди раскрывают себя и свой потенциал, давая названия окружающим их вещам. Как сказал Фрейре, каждый индивид отвоевывает свое право сказать собственное слово, дать имя окружающему миру.
Когда безграмотный крестьянин участвует в подобном образовательном опыте, он приходит к новому осознанию своего «я», обретает новое чувство собственного достоинства, в нем пробуждается новая надежда. Не раз случалось, что после нескольких часов занятий крестьяне поразительным образом выражали следующие открытия: «Теперь я понимаю, что я личность – образованная личность». «Мы были слепы, а теперь наши глаза открылись». «Раньше слова ничего для меня не значили. Теперь они говорят со мной, и я могу заставить их говорить». «Теперь мы больше не будем мертвым грузом для кооперативной фермы». Когда это происходит во время обучения чтению, мужчины и женщины обнаруживают, что они – творцы культуры и что любой их труд может быть творческим. «Я работаю и, делая это, преобразую мир». И поскольку те, кто был полностью оттеснен на обочину социальной жизни, столь радикально меняются, они больше не готовы быть простыми объектами, реагирующими на происходящие вокруг них изменения. Возрастает вероятность того, что они решат взять на себя бремя борьбы за изменение структур общества, которые до этого служили делу их угнетения. По этой причине выдающийся бразильский студент, изучающий государственное развитие, недавно высказал мнение о том, что проведение подобной образовательной работы среди людей представляет собой новый фактор социальных изменений и развития, «новый инструмент управления в странах третьего мира, с помощью которого они могут сломать традиционные структуры и стать частью современного мира».
С первого взгляда кажется, что предложенная Паулу Фрейре методика обучения безграмотных жителей Латинской Америки принадлежит другому миру, отличному от того, в котором живем мы, граждане США. Разумеется, абсурдным было бы утверждать, что ее следует копировать в нашей стране. Но в этих двух случаях есть определенные параллели, которые не стоит игнорировать. Наше технологически развитое общество стремительно превращает нас в объекты и подспудно программирует нас на подчинение той логике, на которой основано его устройство. И поскольку это происходит, мы тоже оказываемся погруженными в своеобразную «культуру молчания».
Парадокс заключается в том, что те же технологии, которые делают это, также создают и новую степень восприимчивости к тому, что происходит. В первую очередь в среде молодежи новые средства информации вместе с разрушением старых представлений о власти создают предпосылки для острого осознания этого нового вида оков. Молодым кажется, что их право на собственный голос было у них украдено и что не многое важнее, чем борьба за его возвращение. Они также понимают, что существующая сегодня система образования – от детского сада до университета – это их враг.
Не существует нейтрального процесса обучения. Образование либо выступает в качестве инструмента, используемого для того, чтобы облегчить процесс приобщения молодого поколения к логике существующей системы и воспитать в них конформизм по отношению к ней, либо становится «практикой свободы», средством, с помощью которого мужчины и женщины с критической и творческой точки зрения оценивают реальность и узнают способы участия в трансформации окружающего мира. Развитие педагогической методологии, которая облегчает этот процесс, неизбежно приведет к возникновению напряжения и конфликтов внутри нашего общества. Но оно также может ускорить формирование нового человека и ознаменовать начало новой эпохи в истории западного мира. Тем, кто стремится к решению этой задачи и ищет необходимые для экспериментирования понятия и инструменты, идеи Паулу Фрейре принесут большую пользу на многие годы.
Ричард ШоллВступление
Эти страницы, которые служат вступлением к «Педагогике угнетенных», представляют собой результат наблюдений, сделанных мною за шесть лет политической ссылки, – наблюдений, которые соединились с теми, что были накоплены до этого во время моей педагогической деятельности в Бразилии.
Как во время обучающих курсов, в ходе которых анализировалась роль консайентизации (conscientização)[69], так и во время реальных экспериментов с техникой обучения, которую действительно можно назвать освобождающей, мне приходилось сталкиваться со «страхом свободы», о котором говорится в главе 1. Нередко участники обучающих курсов обращают внимание на «опасность, которую влечет за собой консайентизация», что свидетельствует о присущем им самим страхе свободы. По их словам, критическое мышление анархично. Другие вторят, что критическое мышление ведет к беспорядку. Некоторые, однако, признают: «Какой смысл это отрицать? Я боялся свободы. Теперь не боюсь!»
В ходе одной из таких дискуссий группа обсуждала, может ли консайентизация мужчин и женщин в отношении определенного проявления социальной несправедливости привести их к «разрушительному фанатизму» или к «чувству полного крушения их мира». В самый разгар спора подал голос один из участников, который до этого многие годы работал на заводе: «Возможно, один я здесь родился в семье рабочих. Не могу сказать, что понял все, о чем вы только что говорили, но одно могу сказать точно – когда я пришел на эти курсы, я был наивен, и когда понял, насколько я наивен, то начал мыслить критически. Но это открытие не сделало меня фанатиком, и никакого крушения я не чувствую».
Сомнения в том, что касается возможных эффектов, которые влечет за собой консайентизация, предполагают тезис, который сам сомневающийся не всегда выражает эксплицитно: жертвам несправедливости лучше не осознавать, что они таковыми являются. Однако на самом деле консайентизация не приводит людей к «разрушительному фанатизму». Напротив, давая им возможность присоединиться к историческому процессу в роли ответственных Субъектов[70], консайентизация позволяет им присоединиться к поиску самоутверждения и, следовательно, исключает фанатизм.
Пробуждение критического мышления ведет к выражению социального недовольства именно потому, что это недовольство представляет собой реальную составляющую ситуации угнетения[71].
Страх свободы, который не всегда осознается человеком, которому он присущ, заставляет его видеть призраков. Такой индивид, в сущности, ищет убежище в попытках достичь защищенности, предпочитая ее рискам, с которыми сопряжена свобода. Как утверждает Гегель,
…только риском жизнью подтверждается свобода. <…> Индивид, который не рисковал жизнью, может быть, конечно, признан личностью, но истины этой признанности как некоторого самостоятельного самосознания он не достиг[72].
Однако мужчины и женщины редко открыто признают свой страх свободы, они склонны маскировать его (порой подсознательно), преподнося себя в качестве защитников свободы. Они придают своим сомнениям и опасениям окраску мудрой рассудительности, приличествующей стражам свободы. Но они путают свободу с поддержанием статус-кво, так что если консайентизация угрожает поставить его под сомнение, создается впечатление, будто оно угрожает и самой свободе.
«Педагогика угнетенных» родилась не только как результат исследований и размышлений. Эта книга основана на конкретных ситуациях, и в ней описывается реакция трудящихся (крестьян и городских жителей) и представителей среднего класса, за которыми я непосредственно или косвенно наблюдал в ходе своей педагогической деятельности. Дальнейшие наблюдения дадут мне возможность скорректировать или подтвердить те выводы, которые выдвигаются в этой вступительной работе.
Эта книга, возможно, спровоцирует негативную реакцию многих читателей. Некоторые воспримут мою позицию в отношении проблемы человеческого освобождения как чисто идеалистическую, а может быть, даже скажут, что обсуждение онтологического призвания, любви, диалога, надежды, смирения и сочувствия – это не что иное, как пустая реакционная болтовня. Другие не примут (или не захотят принять) высказанное мной осуждение ситуации угнетения, которая выгодна угнетателям. Соответственно, этот откровенно экспериментальный труд предназначен для радикалов. Я уверен, что христиане и марксисты, хоть они могут со мною не согласиться полностью или отчасти, дочитают его до конца. Но читатель, который принимает как догму закрытые «иррациональные» положения, отвергнет диалог, который я надеюсь начать благодаря этой книге.
Сектантство, основанное на фанатизме, всегда ограничивает. Радикализм, подпитываемый критическим мышлением, всегда подталкивает к творчеству. Сектантство мифологизирует и тем самым разобщает; радикализм критикует и тем самым освобождает. Радикализм предполагает усиленную приверженность выбранной позиции, и, следовательно, еще большую вовлеченность в попытки трансформировать конкретную объективную реальность. Сектантство же, будучи иррациональным и мифологизирующим, превращает реальность в ложную (а следовательно, неизменяемую) «реальность».
Сектантство в любых политических кругах становится препятствием эмансипации человечества. Его ультраправая разновидность, к сожалению, не всегда провоцирует появление своего естественного противника – радикализации революционеров. Нередко сами революционеры становятся реакционерами, впадая в сектантство в процессе реакции на сектантство правых. Эта перспектива, однако, не должна заставлять радикалов становиться послушными пешками в руках элиты. Будучи участниками процесса освобождения, они не могут бездействовать, видя насилие угнетателей.
И вместе с тем радикал не может быть субъективистом. Для такого индивида субъективное существует только в связи с объективным (с конкретной реальностью, которая представляет собой объект анализа). Субъективность и объективность, таким образом, сливаются в диалектическое единство, рождая знание, которое неразрывно связано с действием, и наоборот.
Со своей стороны, ослепленный иррационализмом сектант, какими бы ни были его убеждения, не воспринимает (и не может воспринимать) движущую силу реальности – или же неправильно ее интерпретирует. Если такой человек и мыслит диалектично, то это «прирученная диалектика». Такой ультраправый фанатик (которых я ранее называл «урожденными сектантами»[73]) хочет замедлить исторический процесс, «приручить» время и, следовательно, «приручить» людей. Сектант левого толка полностью сбивается с верного пути, когда пытается диалектически интерпретировать реальность и историю, и, в сущности, встает на позиции фатализма.
Ультраправый сектант отличается от своего левого товарища тем, что первый пытается «приручить» настоящее, так, чтобы (как он надеется) будущее воспроизводило это «прирученное» настоящее, в то время как последний полагает, что будущее предопределено и подобно неизбежной судьбе, року или участи. Для правого сектанта связанное с прошлым «сегодня» – это нечто заданное и неизменное. В представлении левого сектанта «завтра» утверждено заранее, предопределено и неотвратимо. Как этот правый, так и этот левый – реакционеры, потому что, отталкиваясь от своих ложных взглядов на историю, они оба начинают предпринимать действия, которые отрицают свободу. То, что один из них представляет себе «выдрессированное» настоящее, а другой – предопределенное будущее, не означает, что из-за этого они опускают руки и становятся пассивными наблюдателями (причем первый ожидает, что настоящее будет продолжаться, а второй ждет, когда пройдет уже «известное» будущее). Напротив, шагая по замкнутому «кругу уверенности» и не имея возможности из него выйти, эти индивиды «создают» собственную правду. Она не похожа на правду мужчин и женщин, которые борются за построение будущего и идут на связанные с этим самым строительством риски. Не похожа она и на правду людей, которые сражаются плечом к плечу и вместе учатся строить это будущее, которое является не получаемой людьми данностью, а скорее чем-то, что они создают. В равной степени воспринимая историю с собственнической точки зрения, оба типа сектантов остаются без поддержки народа – а это все равно, что выступать против него.
В то время как правый сектант, закрываясь в «своей» правде, всего-навсего реализует свою естественную роль, левый, становясь несгибаемым сектантом, отрицает собственную сущность. Однако, каждый из них, вращаясь вокруг «своей» правды, чувствует угрозу, когда эта правда ставится под сомнение. Другими словами, каждый из них расценивает все, что не является «его» правдой, как ложь. Как мне однажды сказал журналист Марсио Морейра Альвес, «они оба страдают от отсутствия сомнений».
Радикал, преданный борьбе за освобождение человечества, не становится пленником «круга уверенности», внутри которого пленницей становится и сама реальность. Напротив, чем радикальнее настроен человек, тем лучше он понимает реальность, и, следовательно, лучше зная ее, он может более продуктивно ее преобразовывать. Такой индивид не боится встать лицом к лицу с настоящим миром, услышать и увидеть его. Такой человек не боится встретиться с народом или вступить с ним в диалог[74]. Такой человек не считает себя собственником истории или всех людей, или освободителем угнетенных, но при этом в ходе истории он посвящает себя борьбе на их стороне.
«Педагогика угнетенных» – вступительный труд, канва которого представлена на последующих страницах, – это задача для радикалов, с которой сектанты не справятся.
Я буду доволен, если среди читателей этой книги найдутся те, кому хватит способностей критически мыслить, чтобы поправить имеющиеся в ней ошибки и двусмысленности, углубить мои утверждения и указать на аспекты, которые я упустил. Возможно, некоторые поставят под сомнение мое право рассуждать о действиях, направленных на революционные культурные изменения – то есть о том, в чем мне не приходилось участвовать лично. Однако тот факт, что сам я никогда не участвовал в революционных действиях, не отнимает у меня возможности рассуждать на эту тему. Более того, во время работы педагогом я использовал методы диалога и постановки проблем, в результате чего накопил довольно богатый запас материала, что заставило меня пойти на риск и высказать утверждения, содержащиеся в этой книге.
Я надеюсь, что из всего сказанного на этих страницах несомненным останется, по крайней мере, следующее: мое доверие к народу и моя вера в людей и в создание мира, в котором будет проще любить.
Здесь я хотел бы выразить благодарность Эльзе – моей жене и первому читателю, за понимание и поддержку, проявленную в отношении моей работы, которая принадлежит в том числе и ей. Я также хотел бы поблагодарить ряд моих друзей за их комментарии к рукописи. Рискуя упустить некоторые имена, я упомяну следующие: Жуан да Вейга Коутиньу, Ричард Шолл, Джим Лэм, Майра и Жовелино Рамос, Паулу де Тарсо, Альмину Аффонсу, Плиниу Сампайу, Эрнани Мария Фиори, Марсела Гажарду, Хосе Луис Фиори и Жуан Закариоти. Разумеется, ответственность за выдвинутые в этой книге утверждения лежит на мне и ни на ком больше.
Паулу ФрейреГлава 1
Обоснование педагогики угнетенных; описание противоречия между угнетателями и угнетенными и способов его преодоления; угнетение и угнетатели, угнетение и угнетенные; освобождение как процесс, основанный на взаимодействии, а не как подарок или самостоятельное достижение
С аксиологической точки зрения проблема гуманизации всегда была для человечества центральной, но теперь ее значимость становится неопровержимой[75]. Озабоченность вопросом гуманизации одновременно приводит к осознанию дегуманизации не только как онтологической возможности, но и как исторической реальности. Видя, каких масштабов достигает дегуманизация, человек может задаться вопросом о том, реальна ли возможность гуманизации как таковая. В ходе исторического процесса, в конкретном объективном контексте, как гуманизация, так и дегуманизация сосуществуют в качестве возможностей, которые может выбрать для себя человек как несовершенное существо, осознающее свое несовершенство.
Однако, хотя как гуманизация, так и дегуманизация представляют собой реальную альтернативу, только первая является истинным предназначением человека. Это предназначение постоянно отрицается и в то же время подтверждается этим же отрицанием. На пути гуманизации встает несправедливость, эксплуатация, угнетение и насилие угнетателей. Но истинность этого предназначения подтверждается стремлением угнетенных к свободе и справедливости и их борьбой за возвращение утраченной ими человечности.
Дегуманизация, которая оставляет свою печать не только на тех, кого насильно лишили звания человека, но и на тех, кто это сделал (пусть и немного иначе), – это отступление от предназначения, которое заключается в том, чтобы становиться человеком в полном смысле этого слова. Это отступление случается в истории, но оно не является историческим призванием человека. Ведь признать, что дегуманизация – это историческое призвание человека, значило бы впасть либо в цинизм, либо в полное отчаяние. Тогда борьба за гуманизацию, за освобождение трудящихся, за преодоление разобщенности, за признание мужчин и женщин личностями – все это потеряло бы смысл. Эта борьба возможна лишь потому, что, будучи конкретным историческим фактом, дегуманизация – это не данность, а результат несправедливого социального порядка, который порождает в угнетателях стремление к насилию, которое, в свою очередь, обесчеловечивает угнетенных.
Поскольку это противоречит стремлению стать наиболее человечным, рано или поздно лишенные своего человеческого «я» угнетенные начинают бороться против тех, кто не позволяет им быть полноценными людьми. Но для того, чтобы эта борьба имела смысл, угнетенные в попытках вновь обрести свою утраченную человечность – эти попытки сами по себе представляют способ создать ее – должны становиться не угнетателями угнетенных, а скорее спасателями человеческого как в одних, так и в других.
Собственно, в этом и состоит великая гуманистическая и историческая задача угнетенных: освободить себя и своих угнетателей. Угнетатели, которые угнетают, эксплуатируют и насилуют, опираясь на свою власть, не могут найти в этой власти сил на то, чтобы освободить угнетенных или самих себя. Только сила, порождаемая слабостью угнетенных, может быть достаточной, чтобы подарить свободу и тем и другим. Любые попытки «ослабить» власть угнетателей из уважения к слабости угнетенных всегда проявляет себя как некое фальшивое великодушие; на самом же деле такие попытки никогда не приводят к большему. Для того чтобы не терять возможность проявлять подобное «великодушие», угнетатели также должны поддерживать несправедливость. Несправедливый социальный порядок представляет собой постоянный источник такого «великодушия», которое подпитывается смертью, отчаянием и бедностью. Именно поэтому те, кто выражает подобное «великодушие», впадают в отчаяние при возникновении малейшей угрозы для его источников.
Истинное великодушие заключается именно в борьбе за искоренение самих первопричин, питающих фальшивое милосердие. Мнимое милосердие вынуждает испуганных и подавленных, «отвергнутых» протягивать трясущиеся руки. Истинное великодушие заключается в постоянной борьбе за то, чтобы у них – будь то отдельные индивиды или целые народы – все реже возникало желание протягивать руки в мольбе, чтобы эти руки становились подлинно человеческими – руками, которые работают и, работая, преобразуют мир.
Однако этот урок и это знание должны исходить от самих угнетенных и от тех, кто по-настоящему с ними солидарен. Как отдельные личности или как целые народы, выбрав путь борьбы за восстановление своей человечности, они также выберут путь борьбы за восстановление истинного великодушия. Кто лучше самих угнетенных может понять ужасающую суть общества угнетения? Кто больше, чем сами угнетенные, страдает от последствий угнетения? Кто лучше их понимает необходимость освобождения? Они не получат свободу волей случая – они обретут ее через практический поиск этой свободы и осознание необходимости бороться за нее. И эта борьба благодаря цели, привнесенной в нее угнетенными, станет актом любви в противовес отсутствию любви, которое лежит в основе жестокости угнетателей, отсутствию любви – пусть и облаченному в костюм фальшивого великодушия.
Но почти всегда на начальной стадии борьбы угнетенные вместо того, чтобы бороться за свободу, склонны становиться угнетателями или «субугнетателями». Сама структура их рассуждений обусловлена противоречиями конкретной ситуации, в которой они существуют и которая сформировала их «я». Их идеал – быть человеком, но человек для них – это угнетатель. Такова их модель человеческой природы. Причина возникновения этого феномена заключается в том, что на определенном этапе своего существования угнетенные принимают тот факт, что они находятся «в сцепке» с угнетателем. В таких условиях они не способны «воспринимать» его достаточно четко, чтобы объективизировать его, то есть видеть «в отрыве» от себя. Это вовсе не означает, что угнетенные не осознают, что их притесняют. Но их восприятие себя в качестве угнетенных искажается ввиду их погружения в реальность угнетения. На этом этапе их восприятие себя как противоположности угнетателю еще не означает, что они вовлечены в борьбу за преодоление этого противоречия[76]. Этот полюс стремится не к освобождению, а к отождествлению с противоположным полюсом.
В такой ситуации угнетенные не думают о «новом человеке», который должен родиться в результате разрешения этого противоречия, когда угнетение уступит место свободе. В их представлении сам новый мужчина или новая женщина становится угнетателем. Их видение нового человека индивидуалистично; отождествляя себя с угнетателями, они не осознают, что являются личностями или представителями угнетенного класса. Они хотят аграрных реформ не для того, чтобы обрести свободу, а для того, чтобы завладеть землей и стать землевладельцами или, говоря точнее, хозяевами других трудящихся. Редкий крестьянин, «поднявшись» до позиции надсмотрщика, не становится еще большим тираном по отношению к своим бывшим товарищам, чем сам владелец. Это происходит потому, что сам контекст ситуации, в которой находится крестьянин, а именно – угнетение, остается неизменным. В приведенном примере надсмотрщик, если он хочет сохранить свое положение, обязан быть таким же жестоким, как хозяин, а то и более. Это хорошо иллюстрирует наше предыдущее утверждение о том, что на начальной стадии борьбы угнетенные находят в угнетателе модель «состоявшегося человека».
Даже революция, которая преобразовывает конкретную ситуацию угнетения, начиная процесс освобождения, должна противостоять этому феномену. Многие из угнетенных, которые прямо или косвенно участвуют в революции, находясь под воздействием мифов старого порядка, рассчитывают, что это будет их личная, частная революция. Тень бывшего угнетателя до сих пор нависает над ними.
«Страх свободы», которым страдают угнетенные[77], страх, который может как вызвать у них желание принять на себя роль угнетателя, так и навеки приковать их к позиции угнетенных, необходимо исследовать. Один из основных элементов взаимоотношений между угнетателем и угнетенным – это распоряжение. Каждое распоряжение представляет собой навязывание выбора одного человека другому, что трансформирует сознание того, кому выдаются указания, в сознание человека, который подчиняется сознанию распорядителя. Таким образом, поведение угнетенных – это заданное поведение, которое следует принципам угнетателя.
Угнетенные, впитавшие образ угнетателя и принявшие его принципы, боятся свободы. Свобода вынудила бы их избавиться от этого образа, заменив его независимостью и ответственностью. Свобода не дается просто так, а завоевывается в борьбе. За ней нужно следовать постоянно, с ощущением полной ответственности. Свобода – это не тот идеал, что находится вне человека, и не та идея, которая становится мифом. Скорее это необходимое условие поиска человеческой полноценности.
Чтобы превозмочь ситуацию угнетения, люди должны в первую очередь критически оценить ее причины, чтобы через преобразующие действия создать новую ситуацию, в которой станет возможным движение на пути к всеобъемлющей человечности. Но борьба за то, чтобы стать полноценным человеком, уже началась вместе с борьбой за изменение ситуации. Хотя ситуация угнетения одновременно является бесчеловечной и обесчеловечивает, накладывая отпечаток как на самих угнетателей, так и на тех, кого они угнетают, именно последние должны за обе стороны вести борьбу за обретение более полной человечности. Угнетатель, лишающийся человечности из-за того, что он унижает чужое человеческое достоинство, неспособен вести эту борьбу.
Однако тем угнетенным, которые приспособились к системе доминирования, в которую они погружены, и которые подчинились ей, противопоказано вести борьбу за свободу, поскольку они не готовы пойти на связанные с ней риски. Более того, их борьба за свободу угрожает не только угнетателям, но и их собственным угнетенным товарищам, которые боятся еще больших притеснений. Когда они обнаруживают внутри себя стремление к свободе, они решают, что его можно будет реализовать, только если такое же стремление появится у их товарищей. Но пока над ними довлеет страх свободы, они отказываются обращаться к другим с призывами, слышать призывы других и даже призывы своей собственной совести. Подлинному товариществу они предпочитают стадность, созидательному общению, которое порождается свободой или даже самой погоней за свободой, они предпочитают комфорт конформизма.
Угнетенные страдают от двойственности, которая утвердилась в самой основе их сущности. Они осознают, что их подлинное существование невозможно без свободы. Тем не менее, несмотря на то что они жаждут подлинного существования, они страшатся его. Они одновременно являются и самими собой, и угнетателями, чье сознание они переняли. Конфликт заключается в выборе между тем, быть ли полноценным собой или оставаться раздробленным; искоренить ли в себе угнетателя или не искоренять его; в выборе между человеческой солидарностью и отчужденностью; между тем, чтобы следовать предписаниям или принимать решения самостоятельно; между тем, чтобы быть зрителем или актером; между действием и иллюзией действия, которая основана на действиях угнетателей; между тем, чтобы высказываться или оставаться безмолвными, лишенными силы творить и воссоздавать, силы изменять мир. В этом заключается трагическая дилемма угнетенных, которую необходимо учитывать, занимаясь их образованием.
В этой книге представлены некоторые аспекты того, что автор называет «педагогикой угнетенных», педагогикой, которую необходимо разрабатывать совместно с угнетенными (будь то отдельные индивиды или целые народы), а не для них, как часть их непрекращающейся борьбы за возвращение собственной человечности. Эта педагогика превращает угнетение и его причины в объекты рефлексии угнетенных, и эти размышления становятся отправной точкой для их вовлечения в борьбу за освобождение. А в ходе этой борьбы такая педагогика будет создаваться и обновляться.
Основная проблема заключается в следующем: как могут угнетенные, будучи раздробленными, неподлинными личностями, участвовать в разработке педагогики своего освобождения? Только осознав себя «хозяевами» своего угнетателя, они смогут внести вклад в развитие собственной освободительной педагогики. До тех пор, пока они живут в дуалистическом мире, где быть означает быть как кто-то, а быть как кто-то означает быть как угнетатель, этот вклад не станет возможным. Педагогика угнетенных – это инструмент, с помощью которого они смогут критически оценить ситуацию и осознать, что как они сами, так и их угнетатели представляют собой проявления дегуманизации.
Таким образом, освобождение – это роды, причем тяжелые. Заново рожденная личность, будь то мужчина или женщина, выживет, только если на смену противоречий между угнетателями и угнетаемыми придет всеобщая гуманизация. Или, говоря другими словами, разрешение этого противоречия рождается в муках, в результате которых на свет появляется новый человек: нет более угнетенных, нет более угнетателей, существует лишь человек, постоянно стремящийся к свободе.
Такого решения невозможно достичь, оставаясь на позициях идеализма. Чтобы угнетенные могли вести борьбу за свое освобождение, они должны воспринимать реальность не как замкнутый мир, из которого нет выхода, а как некую ограничивающую ситуацию, которую они могут изменить. Такое восприятие реальности представляет собой необходимое, но не единственное условие освобождения; оно должно стать мотивацией освободительных действий. Также и осознание угнетенными диалектического характера их взаимоотношений с угнетателем (не будь их, не существовал бы угнетатель)[78] само по себе не означает освобождения. Угнетенные могут преодолеть это противоречие, в плену которого они оказались, только тогда, когда такое восприятие реальности заставит их присоединиться к борьбе за собственное освобождение.
То же самое справедливо в отношении уважения угнетателя как отдельной личности. Осознание того, что он выполняет роль угнетателя, может стать причиной сильных душевных мук, но совсем не обязательно, что оно приведет к солидарности с угнетенными. Рационализация вины через патерналистское отношение к угнетаемым, которых при этом не переставая держат на коротком поводке зависимости, не сработает. Выразить солидарность означает войти в положение тех, с кем ты солидарен; это радикальная позиция. Если, как пишет Гегель[79], угнетенных характеризует их подчинение сознанию хозяина, настоящая солидарность с угнетенными подразумевает борьбу на их стороне – борьбу за трансформацию объективной реальности, которая сделала их «существующими для других». Угнетатель станет солидарным с угнетенными только тогда, когда он прекратит относиться к ним как к некой абстрактной категории и начнет видеть в них личностей, с которыми обращаются несправедливо, которых лишили голоса, чей труд преступно обесценивается, – когда он прекратит делать благочестивые, сентиментальные и индивидуалистические жесты и рискнет действовать во имя любви. Настоящую солидарность можно увидеть только в безграничности этого акта любви, в его экзистенциальности и в его праксисе. Лицемерно утверждать, что мужчины и женщины – это личности и, будучи таковыми, заслуживают свободы, но при этом на практике не делать ничего, чтобы воплотить эти принципы в жизнь.
Поскольку противоречие «угнетатель – угнетенный» устанавливается в конкретной ситуации, разрешение этого противоречия должно быть объективно подтверждено. Отсюда вытекает обязательное условие – как для того, кто осознал себя угнетателем, так и для угнетенных: эту конкретную ситуацию, порождающую угнетение, необходимо изменить.
Выдвигать это радикальное требование объективной трансформации реальности, сражаться с субъективистским параличом, который может превратить осознание угнетения в тихое ожидание того, что оно как-нибудь исчезнет само по себе, не означает упускать значимость субъективности и ее роль в борьбе за изменение существующих структур. Напротив, невозможно вообразить объективность в отрыве от субъективности. Они неделимы и не могут существовать друг без друга. Отделение объективности от субъективности, отрицание последней во время анализа реальности или воздействия на нее, – это объективизм. И то же время отрицание объективности в ходе анализа или действия ведет к субъективизму, который в свою очередь толкает к солипсизму: такая позиция подразумевает отрицание действий как таковых, поскольку отрицает объективную реальность. В данном случае речь идет не об объективизме, не о субъективизме и даже не о психологизме, а о субъективности и объективности в постоянном диалектическом взаимодействии.
Было бы наивным и смешным недооценивать роль субъективности в процессе преобразования мира и истории. Это значило бы представить себе невозможное: мир без людей. Эта объективистская позиция столь же бесхитростна, как и субъективизм, который постулирует взгляд на человека вне мира. Мир и человек не могут существовать отдельно друг от друга, они находятся в постоянном взаимодействии. Маркс, как и любой другой критический и реалистический мыслитель, не отстаивает эту дихотомию. Маркс критиковал и научным путем разрушил вовсе не субъективность, а субъективизм и психологизм. Точно так же, как объективная социальная реальность существует не по воле случая, а как продукт человеческой деятельности, так же и изменяется она не случайно. Если человечество создает социальную реальность (которая, по закону обратного действия, поворачивается к нему спиной и устанавливает условия его существования), то трансформация этой реальности представляет собой историческую задачу – задачу для всего человечества.
Реальность, которая становится угнетающей, приводит к противопоставлению двух групп людей – угнетателей и угнетенных. Последние, чья задача заключается в борьбе за собственное освобождение вместе с теми, кто с ними по-настоящему солидарен, должны добиться критического осознания угнетения через праксис этой борьбы. Одним из самых тяжелых препятствий, которые встают на пути к достижению свободы, является то, что реальность угнетения поглощает всех, кто находится внутри ее и таким образом подчиняет сознание человека[80]. Если говорить о его функциях, угнетение приручает. Чтобы больше не быть его добычей, человек должен сделать шаг в сторону и обратиться против него. Этого можно добиться только посредством праксиса: через размышления о мире и воздействие на него с целью его изменить.
Необходимо сделать настоящее угнетение еще более угнетающим через осознание этого явления и опустив этот позор и бесчестье на еще более низкий уровень позора и бесчестья[81].
Призыв сделать «настоящее угнетение еще более угнетающим через осознание этого явления» соотносится с диалектической связью субъективности и объективности. Только при такой взаимозависимости возможен настоящий праксис, без которого не представляется возможным разрешить противоречие между угнетателями и угнетенными. Чтобы достичь этой цели, угнетенные должны критически оценивать реальность, вместе с тем объективизируя ее и воздействуя на нее. Просто восприятие реальности, за которым не следует такое критическое вмешательство, не приведет к трансформации объективной реальности – именно поэтому его нельзя считать подлинным восприятием. Это пример чисто субъективного восприятия человека, который отказывается от объективной реальности и создает ее фальшивую замену.
Другой вид ложного восприятия возникает, когда изменения в объективной реальности ставят под угрозу индивидуальные или классовые интересы того, кто ее воспринимает. В первом случае отсутствие критического вмешательства в реальность связано с тем, что эта реальность фальшива, во втором случае – с тем, что такое вмешательство противоречит классовым интересам воспринимающего реальность индивида. В последнем случае этот человек склонен к «невротическому» поведению. Явление существует; но и сам факт его существования и его последствия могут оказаться пагубными для этого индивида. Поэтому возникает необходимость не столько отрицать сам факт его существования, сколько смотреть на него под другим углом. Эта рационализация, будучи защитным механизмом, в итоге перекликается с субъективизмом. Факт, который не отрицается, но суть которого рационализируется, теряет свою объективную основу. Он перестает быть конкретным и превращается в миф, созданный для защиты класса, к которому принадлежит воспринимающий реальность индивид.
Именно тут кроется причина тех запретов и трудностей (о которых более подробно мы будем говорить в главе 4), которые создаются для того, чтобы удержать людей от критического вмешательства в реальность. Угнетатель превосходно понимает, что такое вмешательство противоречит его интересам. Что им не противоречит – это сделать так, чтобы люди оставались погруженными в эту реальность, беспомощные перед лицом существующего угнетения. Здесь уместным будет процитировать предупреждение Лукача, обращенное к революционной партии:
…она должна, говоря словами Маркса, разъяснять массам их собственные действия, чтобы таким путем не только сохранить последовательность революционного опыта пролетариата, но и сознательно и активно способствовать его дальнейшему развитию[82].
Подчеркивая эту необходимость, Лукач, бесспорно, поднимает вопрос о критическом вмешательстве. «Разъяснять массам их собственные действия» означает прояснять и истолковывать эти действия как в отношении их взаимосвязи с объективными фактами, которыми они были вызваны, так и их цели. Чем больше люди приоткрывают завесу над этой бросающей им вызов реальностью, которая должна быть объектом их преобразующих действий, тем более критично они взаимодействуют с этой реальностью. Таким образом, они «сознательно и активно способствуют дальнейшему развитию» своего революционного опыта. Человеческая деятельность не существовала бы, не будь объективной реальности, мира, который воплощает для человека сущность «не-я» и бросает ему вызов; так же как человеческая деятельность не существовала бы, если бы человечество не представляло собой «проект» и если бы человек не был способен выходить за пределы самого себя к преодолению себя, воспринимать реальность и понимать ее для того, чтобы преобразовывать.
В диалектике мир и действие глубоко взаимозависимы. Но деятельность становится человеческой только в том случае, если человек не просто занимается ею, но и заинтересован в ней, то есть если она не отделяется от процесса осмысления. Осмысление как основа деятельности, по Лукачу, является безоговорочным условием для возможности «разъяснять массам их собственные действия», и необходимость осмысления также подразумевается в целях, которые он приписывает этим разъяснениям: «сознательно и активно способствовать дальнейшему развитию [революционного опыта]».
В нашем же случае это требование рассматривается не в отношении разъяснения, а скорее как необходимость вести диалог с людьми об их действиях. Что бы ни происходило, реальность никогда не изменяется сама по себе[83], и долг «разъяснять массам их собственные действия», о котором говорит Лукач, когда обращается к революционной партии, соотносится с нашим утверждением о необходимости критического вмешательства человека в реальность через праксис. Именно на этом строится педагогика угнетенных, то есть педагогика людей, вовлеченных в борьбу за собственное освобождение. И те, кто осознал или начинает осознавать свое угнетенное положение, должны стать разработчиками этой педагогики. Поистине освободительная педагогика не должна дистанцироваться от угнетенных, обращаясь с ними как с несчастными и предоставляя им угнетателей в качестве моделей для подражания. Угнетенные в борьбе за свое освобождение должны служить примером самим себе.
Педагогика угнетенных, оживленная подлинным, гуманистическим (не гуманитарным) великодушием, позиционирует себя как педагогику человечества. Педагогика, в основе которой лежат эгоистические интересы угнетателей (эгоизм, одетый в костюм мнимого патерналистского благородства), и которая превращает угнетенных в объект своей филантропии, сама по себе сохраняет и олицетворяет угнетение. Она является орудием дегуманизации. Именно поэтому, как мы утверждали ранее, педагогика угнетенных не может разрабатываться или практиковаться угнетателями. Если бы угнетатели не только отстаивали, но и реализовывали принципы освободительного образования, возникло бы противоречие.
Но если внедрение освободительной педагогики требует политической власти, которой лишены угнетенные, каким образом возможна реализация педагогики угнетенных до того, как свершится революция? Это самый насущный вопрос, возможный ответ на который, по крайней мере, в общих чертах, изложен в главе 4. Один из аспектов этого решения заключается в различении систематического обучения, которое можно изменить, только обладая политической властью, и образовательными проектами, которые должны проводиться вместе с угнетенными в процессе их организации.
Педагогика угнетенных – как гуманистическая и освободительная педагогика – делится на два четких этапа. На первом этапе угнетенные открывают для себя суть мира угнетения и через праксис берут на себя задачу преобразовать его. На втором этапе, после того как реальность угнетения уже была преобразована, эта педагогика перестает принадлежать угнетенным и становится педагогикой всех людей, которые находятся в процессе стремления к перманентной свободе. На обоих этапах культура господства сталкивается с культурным сопротивлением через всестороннюю деятельность[84]. На первом этапе это противостояние возникает вследствие изменения отношения угнетенных к миру угнетения; на втором этапе – благодаря развенчанию мифов, созданных и культивируемых при старом порядке, которые словно призраки преследуют новую систему, строящуюся в результате революционных преобразований.
На первом этапе педагогика должна решить проблему сознания угнетенных и сознания угнетателей, проблему тех, кто угнетает, и тех, кто страдает от угнетения. Педагогика должна учитывать их поведение, их взгляд на мир и их этические принципы. Особенная проблема заключается в двойственности угнетенных: они противоречивые, раздробленные личности, сформированные и существующие в конкретной ситуации угнетения и насилия.
Любая ситуация, в которой «А» объективно эксплуатирует «Б» или препятствует его стремлению к самоутверждению в качестве ответственной личности представляет собой ситуацию угнетения. Такая ситуация сама по себе является насилием, даже если загримировать ее ложным великодушием, поскольку она препятствует онтологическому и историческому призванию человека быть более человечным. Как только устанавливаются отношения, основанные на угнетении, можно считать, что насилие уже началось. В истории не было ни единого случая, когда насилие инициировалось угнетенными. Как они могут быть его инициаторами, если они сами и есть результат насилия? Как они могут участвовать в создании какого-то явления, если его объективное установление заставило их существовать в качестве угнетенных? Не было бы угнетенных, если бы их существованию не предшествовала ситуация насилия, ставшая основой их подчинения.
Насилие исходит от тех, кто угнетает, кто эксплуатирует, кто не признает в другом личность, а не от тех, кого угнетают, эксплуатируют и кого не признают личностью. Неприязнь культивируют не те, кого не любят, а те, кто не способен любить, потому что любит только себя. Жестокость инициируют не те, кто подвержен ей и бессилен перед ее лицом, а насильники, те, кто с помощью своей власти создает конкретную ситуацию, в которой рождаются «отверженные». Деспотизм исходит не от тех, над кем тиранствуют, а от самих тиранов. Ненависть порождают не презираемые, а те, кто презирает. Человечество отрицают не те, у кого была отнята человечность, а те, кто отнимает ее (тем самым лишая человечности самого себя). Сила используется не теми, кто стал слабым под давлением сильных, а сильными, которые сделали слабыми других.
В глазах угнетателей, однако, недружелюбными, «насильствующими», «дикими» «злыми» или «яростными» всегда предстают угнетенные (которых они, разумеется, называют не угнетенными, а – в зависимости от того, являются ли они гражданами того же государства – «теми людьми», или «слепыми и завистливыми массами», или «дикарями», или «туземцами», или «провокаторами».
И все же – как это ни парадоксально – именно в ответной реакции угнетенных на насилие своих угнетателей можно увидеть жест любви. Осознанно или неосознанно, но акт восстания угнетенных (который всегда или почти всегда по уровню насилия равноценен исходному насилию угнетателей) может инициировать любовь. Тогда как насилие угнетателей не позволяет угнетенным в полной мере ощущать себя людьми, их ответ на это насилие основывается на желании отстоять свое право на человечность. Обесчеловечивая других людей и нарушая их права, угнетатели теряют собственную человечность. Когда же угнетенные в борьбе за право быть человеком забирают у угнетателей власть, с помощью которой те доминируют и подавляют, они возрождают человечность угнетателей, потерянную ими в процессе угнетения.
Только угнетенные, освободив самих себя, способны освободить своих угнетателей. Последние, как угнетающий класс, не могут освободить ни себя, ни других. Именно поэтому крайне важно, чтобы угнетенные вели борьбу за разрешение противоречия, пленниками которого они оказались; и это противоречие будет разрешено только благодаря появлению нового человека – не угнетенного и не угнетателя, а человека, стремящегося к освобождению. Если цель угнетенных – обретение полной человечности, они никогда не достигнут своей цели, всего-навсего меняя местами условия этого противоречия, переставляя полюса.
Это может показаться чрезмерным упрощением, но это не упрощение. В действительности разрешение противоречия между угнетателями и угнетенными подразумевает исчезновение угнетателей как доминирующего класса. Однако ограничения, налагаемые бывшими угнетенными на своих угнетателей, чтобы последние не могли восстановить свое прежнее положение, не являются угнетением. Действие становится актом угнетения только тогда, когда оно не позволяет человеку быть полноценным. Соответственно, эти необходимые ограничения сами по себе не означают, что вчерашние угнетенные стали сегодняшними угнетателями. Действия, препятствующие восстановлению угнетающего режима, не могут сравниться с действиями, с помощью которых он создается и поддерживается, с помощью которых небольшая группа людей отнимает у большинства их право быть человеком.
Однако в тот момент, когда новый режим затвердевает и превращается в «господствующую бюрократию»[85], гуманистический аспект борьбы теряется и дальнейший разговор об освобождении не представляется возможным. Отсюда и вытекает наше настойчивое утверждение о том, что истинное разрешение противоречия между угнетателями и угнетенными заключается не в том, чтобы попросту поменять его участников местами, не в том, чтобы переставить полюса. Не заключается оно и в замене бывших угнетателей на новых, которые будут продолжать подчинять себе угнетенных, и все это – во имя освобождения.
Но даже если противоречие разрешается по-настоящему, путем установления нового порядка освобожденными трудящимися, вчерашние угнетатели не чувствуют себя освобожденными. Напротив, они искренне считают себя угнетенными. Приобретя опыт угнетения других, они воспринимают любую ситуацию, отличную от их прошлого, как ситуацию угнетения. Раньше они могли есть, наряжаться, носить обувь, получать образование, путешествовать, слушать Бетховена; в то время как у миллионов других людей не было еды, не было ни одежды, ни обуви, ни возможности учиться и путешествовать – что уж говорить о Бетховене. Любое ограничение, которое накладывается на подобный образ жизни во имя прав общества, кажется бывшим угнетателям вопиющим нарушением их личных прав – несмотря на то что у них самих не было никакого уважения к миллионам людей, которые страдали и гибли от голода, боли, горя и отчаяния. В представлении угнетателей звание «человек» касается только их самих; другие люди – это просто «вещи». Для угнетателей существует лишь одно право: их право жить в мире, право, которое противопоставлено праву угнетенных на выживание (право, которое порой даже не признается ими, а лишь допускается). И они идут на эту уступку только потому, что существование угнетенных необходимо для их собственного существования.
Подобное поведение, подобное понимание мира и людей (которое неизбежно вынуждает угнетателей противостоять установлению нового режима) объясняется их опытом существования в рядах господствующего класса. Как только устанавливается ситуация насилия и угнетения, она порождает особый образ жизни и поведения для тех, кто в ней оказался – как для угнетателей, так и для угнетенных. И те и другие погружены в эту ситуацию, на тех и на других лежит печать угнетения. Анализ существующих ситуаций угнетения показывает, что они зарождаются в момент акта насилия – инициированного теми, кто обладает властью. Это насилие как процесс сохраняется поколениями угнетателей, которые становятся его наследниками и растут в этом климате. Этот климат порождает в угнетателе крайне властное сознание – властное по отношению к миру и к людям. В отрыве от прямой, конкретной и материальной власти над миром и людьми сознание угнетателя не может понять себя, и даже вовсе не может существовать. Фромм писал, что подобное сознание, отделенное от власти, «потеряет контакт с миром». Сознание угнетателя склонно превращать все, что его окружает, в объект доминирования. Земля, собственность, продукты производства, творения людей, сами люди, время – все получает статус объектов, находящихся в его распоряжении.
В своем необузданном желании владеть угнетатель убеждает себя, что он может преобразовать все, что угодно, в объект своей власти приобретателя – отсюда их строго материалистичная концепция существования. Деньги – мера всех вещей, а прибыль – главная цель. В глазах угнетателя единственное, что целесообразно, – это стремление получить больше – всегда больше, – даже если при этом угнетенным останется меньше, или они и вовсе лишатся всего. Для них «быть» значит «иметь» и принадлежать к классу тех, кто «имеет».
Поскольку ситуация угнетения выгодна для угнетателей, они не могут осознать, что если обладание является условием существования, то оно одинаково необходимо для всех людей. Именно поэтому их великодушие фальшиво. Человечность – это «вещь», и они имеют исключительное право обладать ею, словно это их наследственная собственность. С точки зрения угнетателя, гуманизация «других», то есть людей, это не борьба за полноценную человечность, а подрывная деятельность.
Угнетатели не воспринимают свою монополию на то, чтобы иметь больше, как привилегию, которая обесчеловечивает других и их самих. Они не способны увидеть, что в эгоистичной погоне за обладанием, в которой они участвуют как представители класса собственников, они задыхаются в собственном имуществе и более не существуют, а лишь имеют. Для них «иметь больше» есть неотъемлемое право – право, которое они приобрели благодаря своим собственным «усилиям», собственному «мужеству идти на риск». Если другие не имеют больше, чем они, то только потому, что те некомпетентны и ленивы, а хуже всего – непростительно неблагодарны по отношению к «великодушным жестам» доминирующего класса. Именно потому, что они «неблагодарны» и «завистливы», угнетенных воспринимают как потенциальных врагов, за которыми необходимо следить.
Иначе и быть не может. Если как подрывная деятельность воспринимается гуманизация угнетенных, то и их свобода – тоже. Отсюда вытекает необходимость постоянного контроля. И чем больше угнетатели контролируют угнетенных, тем быстрее они превращают их в, казалось бы, безжизненные «вещи». Эта склонность сознания угнетателей «обезодушевлять» всех и все, с кем или с чем оно сталкивается, своей жаждой обладать, бесспорно напоминает склонность к садизму.
Радость полного господства над другим человеком (или другой живой тварью), собственно, и есть суть садистского побуждения. Эту мысль можно выразить иначе: цель садизма заключается в том, чтобы сделать человека вещью, превратив живое в нечто неживое, поскольку живое через полное и абсолютное подчинение теряет существенное свойство жизни – свободу[86].
Садистская любовь есть любовь извращенная – любовь смерти, а не жизни. Итак, одна из характеристик сознания угнетателя и его некрофилического взгляда на мир – это садизм. Поскольку сознание угнетателя в своем стремлении доминировать пытается подавить потребность в исследовании, любопытство и творческую силу, которые являются отличительными чертами жизни, оно убивает жизнь. Угнетатели все больше и больше используют достижения науки и современные технологии – бесспорно, мощные инструменты – в своих целях: для поддержки порядка угнетения через манипуляции и репрессии[87]. Угнетенные как объекты, «вещи» не имеют никаких целей, за исключением тех, что им предписывают угнетатели.
В этом контексте актуален и другой вопрос, важность которого не вызывает сомнений: определенные члены класса угнетателей присоединяются к угнетенным в их борьбе за освобождение и, следовательно, перемещаются с одного полюса противоречия на другой. Они играют основополагающую роль и играли ее на протяжении всей истории этой борьбы. Однако случается, что, переставая быть эксплуататорами или безучастными наблюдателями, или попросту наследниками эксплуататоров и перемещаясь на сторону эксплуатируемых, они практически всегда несут на себе печать своего происхождения: свои предубеждения и искажения, которые включают в себя сомнения в способности других людей мыслить, желать и знать. Соответственно, эти единомышленники народа постоянно рискуют впасть в благотворительность, столь же пагубную, как и та, которой страдают угнетатели. Щедрость угнетателей подпитывается несправедливым порядком, который необходимо поддерживать для того, чтобы оправдать эту щедрость. И в то же время наши новообращенные по-настоящему хотят изменить несправедливый порядок; но из-за своего прошлого опыта убеждены в том, что именно они должны быть исполнителями этой трансформации. Они говорят о людях, но не доверяют им; а ведь доверие к людям – это необходимое условие революционных изменений. Настоящего гуманиста можно быстрее отличить по его доверию к людям, которое вовлекает его в их борьбу, чем по тысячам поступков, совершенных во имя народа, но без доверия к нему.
Тот, кто действительно посвящает себя людям, должен постоянно перепроверять себя. Это настолько радикальный переход, что он не допускает двойственного поведения. Утверждать о подобной приверженности и при этом считать себя хранителем революционной мудрости – которую в дальнейшем надо донести до других людей (или навязать им) – означает остаться верным старому порядку. Человек, который заявляет о своей приверженности борьбе за освобождение, но при этом не готов войти в единую общину с людьми, которых он продолжает воспринимать как совершенно невежественных, занимается плачевным самообманом. Те новообращенные, которые сближаются с людьми, но чувствуют беспокойство каждый раз, когда делают шаг, каждый раз, когда выражают сомнение, каждый раз, когда выдвигают предложение и предпринимают попытки навязать другим свой «статус», испытывают ностальгию по своему происхождению.
Обращение к людям требует полного перерождения. Те, кто решился на этот поступок, должны принять новую форму существования, они больше не могут оставаться такими, как прежде. Только через товарищество с угнетенными новообращенные могут понять особенности их образа жизни и поведения, которые в различные моменты отражают структуру господства. Одна из таких характерных черт – упомянутая ранее экзистенциальная дуальность угнетенного, который является одновременно и самим собой, и угнетателем, чей образ он впитал. Соответственно, до тех пор, пока он не «определил» своего угнетателя конкретно и не включил свое собственное сознание, он практически всегда будет придерживаться фаталистического взгляда на свое положение.
Крестьянин обретает смелость, которая ему нужна для того, чтобы преодолеть свою зависимость, только тогда, когда осознает, что зависим. До тех пор он просто следует за своим хозяином и говорит: «Что же я могу сделать? Я ведь всего лишь крестьянин»[88].
Поверхностный анализ часто приводит к такой интерпретации подобного фатализма, как покорность, которая представляет собой особенность национального характера. Фатализм под маской покорности есть порождение исторической и социологической ситуации, а никак не ключевая черта поведения людей. Практически всегда его связывают с происками судьбы, или провидения, или фортуны – неотвратимых сил, – или с искаженным представлением о Боге. Находясь во власти мифов и колдовства, угнетенные (особенно крестьяне, которые тесно связаны с природой)[89] воспринимают свои страдания – продукт их эксплуатации – как Божью волю, будто именно Бог создал этот «организованный беспорядок».
Поглощенные реальностью, угнетенные не могут ясно воспринимать «порядок», который служит интересам угнетателей, чей образ они впитали. Ограничения этого порядка только распаляют их, поэтому часто они прибегают к горизонтальному насилию, ни за что ни про что отыгрываясь на своих собственных товарищах.
Колонизированный человек в первую очередь будет направлять ту агрессию, которая в нем накопилась, против своего собственного народа. Это та стадия, на которой чернокожие в Северной Африке начали избивать друг друга, а полицейские и судьи, столкнувшись с невиданной волной преступлений, не знали, за что хвататься и кого защищать. <…> До тех пор, пока у колонистов и у полицейских есть право бесконечно бороться с местными, оскорблять их и заставлять приползать на коленях, местный будет тянуться к ножу при малейшем проявлении враждебности или агрессии к нему со стороны другого местного, ведь последнее, что ему остается, – защищать себя как личность перед лицом своего брата[90].
Возможно, что подобное поведение представляет собой очередное проявление дуальности угнетенных. Поскольку угнетатель существует внутри их угнетенных товарищей, нападая на них, они косвенно атакуют и своего угнетателя.
И вместе с тем в определенный момент своего экзистенциального опыта угнетенные ощущают непреодолимую тягу к угнетателям и к их образу жизни. Они становятся одержимы желанием разделить этот образ жизни. Отчуждение порождает в угнетенных жажду любой ценой уподобиться угнетателям, подражать им, следовать за ними. Этот феномен особенно распространен среди угнетенных среднего класса, которые страстно желают быть похожими на «знатных» мужчин и женщин высшего класса. Альбер Мемми в своей выдающейся аналитической работе, посвященной «менталитету колонизированного», пишет, что испытывал к колонизаторам презрение, смешанное со «страстным» влечением к ним.
Как может колонизатор заботиться о своих работниках, если он периодически расстреливает толпу колонизированных? Как может колонизированный столь жестоко отказываться от себя и при этом предъявлять хозяину такие завышенные требования? Как может он ненавидеть колонизаторов и при этом так страстно ими восхищаться? (Я тоже наперекор себе испытывал это восхищение.)[91]
Самоуничижение – еще одна характерная черта угнетенных, которая вытекает из интернализации мнения их угнетателя о них. Они так часто слышат, что ни на что не годятся, ничего не знают и ни на что не способны – что они больные, ленивые и бесполезные, – что в конце концов сами начинают верить в собственную непригодность.
Крестьянин ощущает себя ущербным по отношению к хозяину, потому что тот производит впечатление единственного человека, который знает, как обстоят дела, и способен ими управлять[92].
Они называют себя невежественными и говорят, что только «профессор» обладает знаниями и только его они обязаны слушать. Критерии навязываемых им знаний довольно типичны. «Почему бы вам, – спросил один из таких участников круглого стола, – сначала не объяснить, что изображено на картинках? Так мы сэкономим время, и голова не будет болеть»[93].
Они почти никогда не осознают, что тоже «знают, как обстоят дела», потому что научились этому, взаимодействуя с миром и с другими людьми. Учитывая обстоятельства, обусловившие дуальность их сознания, нет ничего удивительного в том, что они перестают доверять сами себе.
Нередко крестьяне, участвующие в образовательных проектах, начинают живо обсуждать какую-нибудь продуктивную тему, а потом резко останавливаются и обращаются к преподавателю: «Простите, мы должны вести себя тихо и слушать вас. Вы – тот человек, который знает, а мы ничего не знаем». Они часто настаивают, что ничем не отличаются от животных; а если и признают, что разница все-таки есть, то в пользу животных. «Они свободнее нас».
Однако поразительно наблюдать за тем, как это самоуничижение меняется с началом изменений в ситуации угнетения. Я слышал, как на собрании в одном асентамьенто[94] крестьянский лидер произнес: «Они утверждали, что мы бесполезны, потому что мы ленивые пьяницы. Это ложь. Теперь, когда к нам проявили уважение как к людям, мы всем покажем, что мы никогда не ленились и не пили. Нас эксплуатировали!»
Пока угнетенные будут находиться в плену двойственности, они будут отказываться от борьбы и страдать от недостатка уверенности в себе. Они волшебным образом глубоко верят в неуязвимость и мощь угнетателя[95]. Магическая сила власти землевладельцев особенно широко распространена в сельской местности. Один мой друг социолог рассказал мне о группе вооруженных крестьян, которые захватили крупное поместье в одной из стран Латинской Америки. По тактическим соображениям они планировали взять землевладельца в заложники. Но ни один из них не осмелился охранять его; одно только его присутствие было для них устрашающим. Возможно, противостояние хозяину также вызывало в них чувство вины. Но на самом деле хозяин был «внутри» их.
Угнетенные должны своими глазами увидеть доказательства уязвимости угнетателя, чтобы в них начала зарождаться уверенность в том, что он не всесилен. Пока этого не произойдет, они будут продолжать чувствовать себя побитыми, надломленными и запуганными[96]. До тех пор, пока угнетенные не осозна́ют истинных причин своего состояния, они будут обреченно «принимать» свое порабощение. Более того, при столкновении с необходимостью бороться за свою свободу и самоутверждение они склонны реагировать пассивно и отчужденно. Тем не менее шаг за шагом они начинают пробовать различные формы бунтарских действий. Постепенно двигаясь к освобождению, человек должен следить за подобной пассивностью и не пропустить момент пробуждения.
Обладая неестественным взглядом на мир и самих себя, угнетенные чувствуют себя «вещами», которыми владеет угнетатель. Для последнего быть значит иметь, практически всегда – за счет тех, у кого нет ничего. Для угнетенных, в определенный момент их экзистенциального опыта, быть означает быть непохожим на угнетателя, но быть под ним, зависеть от него. Соответственно, угнетенные от него эмоционально зависимы.
Крестьянин зависим. Он не может говорить, чего он хочет. Он страдает до тех пор, пока не осознает свою зависимость. Он спускает пар дома, крича на детей, бьет их и впадает в отчаяние. Он жалуется на жену и думает, что все ужасно. Он не выпускает пар при хозяине, потому что считает, что хозяин – существо высшего порядка. Сплошь и рядом рабочий народ топит свое горе в вине[97].
Эта абсолютная эмоциональная зависимость может привести к тому, что Фромм называет некрофильным поведением: разрушением жизни – собственной и своих угнетенных товарищей.
Только когда угнетенный обнаружит угнетателя и вольется в организованную борьбу за свое освобождение, он начнет верить в себя. Это открытие не может быть абсолютно интеллектуальным, но должно включать в себя действие. При этом оно не может быть сведено к одним только действиям, оно требует серьезного осознания: только тогда оно перейдет в праксис.
На любой стадии борьбы за освобождение угнетенных необходимо вести с ними критический и освобождающий диалог, который предполагает активное действие[98]. Содержание этого диалога может и должно варьироваться в зависимости от исторических условий и того уровня, на котором угнетенный воспринимает реальность. Но заменить монологи, слоганы и коммюнике на диалог означает попытаться дать угнетенному свободу при помощи инструментов подчинения. Пытаясь освободить угнетенных, не принимая их право на осознанное участие в акте освобождения, мы относимся к ним как к неким объектам, которые мы должны спасти из горящего здания; мы заманиваем их в популистскую ловушку и превращаем в массы, которыми можно манипулировать.
На всех уровнях своего освобождения угнетенный должен осознавать себя мужчиной или женщиной, чье онтологическое и историческое призвание заключается в том, чтобы стать полноценным человеком. Осмысление и действие становятся непреложным требованием, когда мы не совершаем ошибочной попытки отделить суть человечности от ее исторических форм.
Настаивая на том, что угнетенные должны размышлять над конкретной ситуацией, в которой они оказались, я не призываю к диванной революции. Напротив, размышления – настоящие размышления – приводят к действию. И вместе с тем, когда ситуация требует действий, это действие станет настоящим праксисом, только если его последствия станут объектом критического осмысления. В этом смысле праксис становится для угнетенных новым смыслом жизни; и революция, которая ознаменовывает собой исторический момент, отражающий этот смысл, бесполезна без их сопутствующего осознанного участия. Иначе действие останется пустым активизмом.
Однако, чтобы достичь такого праксиса, необходимо доверять угнетенным и их способности размышлять разумно. Тот, кто не обладает этим доверием, не сможет инициировать диалог, осмысление и взаимодействие (или бросит эту затею), он будет срываться на слоганы, формальности, монологи и инструкции. Эта опасность может таиться в тех, кто поверхностно отнесся к переходу в стан борьбы за освобождение.
Политическая деятельность на стороне угнетенных обязана быть педагогической деятельностью в самом настоящем смысле этого слова, а следовательно, деятельностью вместе с угнетенными. Тот, кто трудится во имя освобождения, никогда не должен пользоваться эмоциональной зависимостью угнетенных – зависимостью, возникшей в результате конкретной ситуации доминирования, в которой они находятся и которая породила их ложный взгляд на мир. Использовать их зависимость для создания еще большей зависимости – тактика, присущая угнетателям.
В ходе освободительной деятельности мы должны рассматривать эту зависимость как уязвимое место и обязаны путем размышлений и активных действий трансформировать ее в независимость. Однако даже лидер с самыми благими намерениями не может даровать кому-то независимость как некий подарок. Освобождение угнетенных – это освобождение мужчин и женщин, а не вещей. Соответственно, человек не освободит себя своими силами, но и другие не могут сделать это за него. Освобождение – человеческое явление – не может быть достигнуто теми, кто является людьми лишь наполовину. Любая попытка взаимодействовать с человеком как с получеловеком лишь унижает его. Если человек уже лишен человечности вследствие пережитого угнетения, борьба за его освобождение не должна включать методы дегуманизации.
Таким образом, метод, которым следует пользоваться революционным лидерам в борьбе за освобождение, – это не «освободительная пропаганда». Также лидеры не могут попросту «заронить» в головы угнетенных веру в свободу, стремясь таким образом завоевать их доверие. Правильный подход заключается в диалоге. Убеждение угнетенных в том, что они должны бороться за свою свободу, – это не подарок, который им вручает революционный лидер, а результат их собственной консайентизации (conscientização).
Революционные лидеры должны понимать, что их собственная убежденность в необходимости борьбы (а это обязательная составляющая революционной мудрости) не была дарована им кем-то другим – если только она истинна. Это убеждение нельзя упаковать в коробку и продать; оно достигается только с помощью полного осознания и действия. Лишь собственная вовлеченность этих лидеров в реальность, в историческую ситуацию заставила их критически оценить ее и захотеть изменений.
Точно так же угнетенные (которые не присоединяются к борьбе до тех пор, пока не дойдут до этого убеждения, и которые, если они не посвящают себя этой борьбе, не отвечают необходимым для нее требованиям) должны прийти к этому убеждению как Субъекты, а не как объекты. Они также должны критически вмешаться в ситуацию, в которой находятся и печать которой на себе несут; никакая пропаганда не поможет этого достичь. Хотя убежденность в необходимости борьбы (без которой сама борьба становится нецелесообразной) обязательна для революционных лидеров (на самом деле именно эта убежденность и привела их к лидерству), она столь же необходима и для угнетенных. Точнее говоря, она необходима, если лидер собирается провести трансформацию для угнетенных, а не вместе с ними. Я убежден в том, что только последнюю форму трансформации следует считать состоятельной[99].
Цель этих рассуждений заключается в том, чтобы защитить в высшей степени педагогический характер революции. На всем протяжении истории человечества те революционные лидеры, которые утверждали, что угнетенные должны присоединиться к борьбе за свою свободу – и это очевидно – также подспудно признавали педагогический аспект этой борьбы. Тем не менее многие из этих лидеров (возможно, из-за естественных и понятных предрассудков, связанных с педагогикой) в итоге начинали использовать «педагогические» методы, заимствованные у угнетателей. Они отреклись от педагогических действий в процессе освобождения, а для убеждения стали использовать пропаганду.
Чрезвычайно важно, чтобы угнетенные осознали, что, когда они присоединяются к борьбе за гуманизацию, с этого момента они также начинают нести полную ответственность за эту борьбу. Они должны осознавать, что они сражаются не просто за свободу от голода, но и за…
…свободу созидать и строить, удивляться и на что-то отваживаться. Такая свобода предполагает, что индивид активен и полон сознания ответственности, что он не является рабом или хорошо смазанной шестеренкой в машине… Недостаточно, чтобы люди не были рабами; если общественные условия приводят к существованию автоматов, результатом будет не любовь к живому, а любовь к мертвому[100].
Угнетенные, которые сформировались в сеющих смерть условиях гнета, должны найти в своей борьбе путь к жизнеутверждающей человечности, которая заключается не просто в том, чтобы иметь больше еды (хотя она включает в себя обладание достаточным количеством еды и не может упускать этот аспект). Угнетенные были подчинены именно потому, что оказались в ситуации, когда их воспринимали как вещи. Чтобы вернуть себе человечность, они должны отказаться от позиции вещей и начать бороться как люди. Это радикальное условие. Они не могут влиться в борьбу в качестве объектов, чтобы позднее стать людьми.
Борьба начинается с осознания человеком того, что его уничтожили. Пропаганда, манипуляция, управление – все эти орудия господства – не могут быть инструментами, которые помогут вернуть им человечность. Единственный эффективный инструмент – это педагогика гуманизации, в которой революционный лидер устанавливает с угнетенными отношения, основанные на постоянном диалоге. Методология педагогики гуманизации перестает быть инструментом, с помощью которого учитель (в данном случае революционный лидер) может манипулировать учениками (в данном случае угнетенными), поскольку она отражает осознанность самих учеников.
Фактически метод является внешней формой осознанности, проявляющейся в действиях, которая перенимает фундаментальную характеристику осознанности – наличие намерения. Смысл осознанности – бытие с миром, и это поведение постоянно и неизбежно. Соответственно, осознанность, по сути своей, – это «путь к чему-то, что лежит вне сознания, отделено от него, к тому, что окружает его и что оно осознает в рамках своих умозрительных возможностей. Таким образом, осознание по определению является методом, в самом общем смысле этого слова[101].
Соответственно, революционные лидеры должны практиковать обучение с совместным намерением. Как учителя, так и ученики (лидеры и народ), совместно погружающиеся в реальность, действуют как Субъекты, не только для того, чтобы раскрыть истинную сущность этой реальности и прийти к ее критическому осмыслению, но и для того, чтобы воссоздать это знание. Приобретая эти знания о реальности посредством размышлений и активных действий, они обнаруживают, что являются теми, кто ее постоянно воспроизводит. В этом смысле роль угнетенных в борьбе за их освобождение будет тем, чем должна быть: не псевдоучастием, а вовлеченностью, основанной на убеждениях.
Глава 2
Критика «банковской» концепции образования как инструмента угнетения, описание ее базовых постулатов; педагогическая методика, основанная на постановке проблем, как инструмент освобождения, описание ее базовых постулатов; «банковская» концепция и противоречие между учителем и учеником; методика постановки проблем и преодоление противоречия между учителем и учеником; образование как процесс взаимодействия, посредником в котором выступает мир; люди как несовершенные создания, осознающие свое несовершенство, и их стремление становиться более полноценными людьми
Тщательный анализ учительско-ученических взаимоотношений внутри и вне школы выявляет их качественно нарративный характер. Эти взаимоотношения включают в себя повествующего Субъекта (учителя) и терпеливых, внимающих объектов (учеников). Содержание такого общения, будь то моральные ценности или эмпирические данные о реальности, в процессе повествования нередко становится безжизненным и окаменевшим. Образование страдает недугом повествования.
Учитель говорит о реальности так, словно она неподвижна, статична, систематизированна и предсказуема. Или же он рассуждает на тему, абсолютно чуждую экзистенциальному опыту учеников. Его задача – «наполнить» учеников содержанием своего повествования – содержанием, не имеющим отношения к реальности, оторванным от условий, которые его породили и которые могут придавать ему смысл. Слова теряют конкретность и становятся бессмысленным, отчужденным и отчуждающим пустословием.
Таким образом, отличительная черта такого нарративного обучения – это благозвучность слов, а не их преобразовательная сила. «Четыре умножить на четыре равно шестнадцать; столица штата Пара – город Белен». Ученик конспектирует, запоминает и повторяет эти слова, не осознавая, что же на самом деле означает «четыре умножить на четыре», и не воспринимая истинного смысла слова «столица» во фразе «столица штата Пара – город Белен», то есть не понимая, какую роль играет Белен в жизни штата Пара, а Пара – в жизни Бразилии.
Повествование (в котором учитель выполняет роль повествующего) заставляет учеников механически запоминать его содержание. Хуже того: оно превращает их в «контейнеры», в «тару», которую должен «наполнить» учитель. Чем больше информации он «заливает» в эту тару, тем лучше он преподает. Чем безропотнее ученик позволяет себя наполнять, тем лучше он учится.
Таким образом, процесс обучения становится процессом внесения вклада в банк, в котором ученик – это счет, а учитель – вкладчик. Вместо общения с учащимся преподаватель ограничивается формальными уведомлениями и продолжает делать вклады, которые ученики терпеливо принимают, запоминают и повторяют. Такова «банковская» концепция обучения, в которой дозволенные ученикам действия ограничиваются получением, систематизацией и хранением взносов. Правда, кроме этого у них есть возможность стать коллекционерами или каталогизаторами той информации, которую они сохраняют. Но в конечном счете, пройдя через эту (в лучшем случае) бессмысленную систему, сами люди превращаются в архивные записи из-за недостатка творчества, преобразований и знаний. Ведь без исследования, без праксиса индивид не сможет быть полноценным человеком. Знание рождается только путем новых и новых открытий, путем беспрестанных, нетерпеливых, безостановочных поисков, которые люди ведут в этом мире, взаимодействуя с ним и друг с другом.
В «банковской» концепции обучения те, кто считает себя обладателями знаний, преподносят их тем, кто, по их мнению, не знает ничего, словно некий дар. Проецирование на других представления об абсолютном невежестве (отличительная черта идеологии угнетения) отвергает суть обучения и получения знаний как процессов исследования. Преподаватель преподносит себя ученикам как необходимую противоположность их самих. Навешивая на них ярлык абсолютного невежества, он оправдывает собственное существование. Ученики, отчужденные, как рабы в диалектике Гегеля, принимают свое невежество как оправдание существования учителя, но в отличие от гегелевского раба они никогда не осознают, что обучают своего преподавателя.
И в то же время raison d’être, то есть смысл существования освободительного образования, заключается в его стремлении к примирению. Обучение должно начинаться с разрешения противоречия между учителем и учеником, с примирения полюсов этого противоречия, так, чтобы и учитель, и ученик одновременно были и тем и другим.
Решения этого противоречия нет и не может быть в рамках «банковской» концепции обучения. Напротив, такое обучение поддерживает и даже стимулирует это противоречие через следующие позиции и практики, которые отражают общество угнетения в целом:
а) учитель обучает, учеников обучают;
б) учитель знает все, ученики не знают ничего;
в) учитель думает, об учениках думают;
г) учитель говорит, ученики слушают – безропотно;
д) учитель дисциплинирует, ученики соблюдают дисциплину;
е) учитель выбирает и навязывает свой выбор, ученики подчиняются;
ж) учитель действует, а у учеников создается иллюзия действий через действия учителя;
з) учитель подбирает содержание программы, ученики (без предварительных объяснений) подстраиваются под нее;
и) учитель подменяет авторитет знаний собственным профессиональным авторитетом, который он противопоставляет свободе своих учеников;
к) учитель – Субъект образовательного процесса, ученики же – лишь объекты.
Неудивительно, что в рамках «банковской» концепции человек рассматривается как податливое, управляемое существо. Чем больше ученики работают над хранением вложенных в них депозитов, тем меньше они развивают критическое мышление, которое могло бы стать результатом их взаимодействия с миром в качестве его преобразователей. Чем покорнее они принимают навязанную им пассивную роль, тем больше они склонны просто приспосабливаться к уже существующему миру и к вложенному в них, словно в банк, раздробленному видению реальности.
Способность «банковского» обучения минимизировать или аннулировать творческую силу учеников и стимулировать их легковерность обслуживает интересы угнетателей, которые не хотят ни чтобы ученики увидели мир таким, какой он есть, ни чтобы они его изменили. Угнетатели используют свое «человеколюбие» для того, чтобы поддерживать выгодную для них ситуацию. Поэтому они – почти инстинктивно – отрицательно реагируют на любые эксперименты в образовании, которые направлены на развитие критических способностей и которые, не ограничиваясь узким видением реальности, выявляют взаимосвязи между разными явлениями и разными вопросами.
На самом деле интересы угнетателей заключаются в том, чтобы «изменить сознание угнетенных, а не ситуацию, которая их угнетает»[102], поскольку чем эффективнее угнетенных заставляют приспосабливаться к существующей ситуации, тем легче ими управлять. Чтобы достичь этой цели, угнетатели используют «банковскую» концепцию обучения вместе с социальным аппаратом патернализма, внутри которого угнетенные носят эвфемистическое звание «иждивенцев». К ним относятся как к особым случаям, как к маргиналам, отклоняющимся от общего представления о «хорошем, организованном и справедливом» обществе. Угнетенные рассматриваются как патология здорового общества, которое, следовательно, должно приспособить этот «несостоятельный и ленивый» народ к своим принципам, изменив их мировосприятие. Этих маргиналов необходимо «интегрировать», «встроить» в здоровое общество, от которого они «отказались».
Правда, однако, заключается в том, что угнетенные – это вовсе не «маргиналы», не те, кто живет «вне» общества. Они всегда были «внутри» – внутри той структуры, которая сделала их «людьми для других». Правильным решением было бы не «интегрировать» их в структуру угнетения, а трансформировать эту структуру таким образом, чтобы они стали «людьми для себя». Такая трансформация, конечно, противоречит целям угнетателей, и именно поэтому они используют «банковскую» концепцию обучения, чтобы избежать угрозы, которая может исходить от консайентизации учеников.
Например, «банковский» подход к обучению взрослых никогда не требует от учеников критического восприятия реальности. Взамен этого на уроках будут подниматься такие жизненно важные вопросы, как то, дал ли Роджер зеленую траву козлику, и будет подчеркиваться, что крайне важно выучить, что Роджер, напротив, дал зеленую траву кролику. «Гуманизм» «банковского» подхода скрывает под собой намерение превратить ученика в автомат, что напрямую отрицает его онтологическое призвание стать полноценным человеком.
Те, кто использует «банковский» подход, осознанно или по незнанию (ведь есть несметное количество благонамеренных «банковских клерков»-учителей, которые не осознают, что служат лишь делу дегуманизации), не замечают, что их вклады сами по себе противоречат реальности. Но рано или поздно эти противоречия могут заставить изначально пассивных учеников действовать против подобной дрессировки и попыток приручить их реальность. Через свой экзистенциальный опыт они могут осознать, что их текущий образ жизни несовместим с их потребностью стать полноценными людьми. Постоянно взаимодействуя с реальностью, они могут понять, что в действительности реальность – это процесс, который постоянно изменяется. Если человек – искатель, чья онтологическая потребность заключается в гуманизации, рано или поздно он может осознать противоречие, которое навязывает ему «банковское» образование, и присоединиться к борьбе за свое освобождение.
Но революционный педагог, сторонник гуманизма, только и ждет, когда эта возможность станет реальностью. С самого начала его усилия, как и усилия его учеников, должны быть направлены на обретение критического мышления и взаимное стремление к гуманизации. Он должен быть полон глубокой веры в людей и в их творческую силу. Чтобы достичь этого, учитель в своих взаимоотношениях с учениками должен стать их партнером.
«Банковская» концепция не приемлет такого партнерства, и на это есть причины. Разрешить противоречие между учителем и учеником, отказаться от роли вкладчика, распорядителя, укротителя и вместо этого принять роль ученика среди учеников значило бы подорвать силу угнетения и помочь делу освобождения.
«Банковская» концепция подразумевает дихотомию между человеком и миром: личность существует лишь в мире, а не с миром и с другими людьми; человек – зритель, а не воссоздатель. С этой точки зрения личность является не сознательным существом (corpo consciente), а скорее обладателем некоего сознания – пустого «разума», пассивно открытого к принятию вкладов реальности из внешнего мира. Например, моя парта, мои учебники, моя чашка кофе – все объекты, которые находятся передо мной как кусочки окружающего меня мира, – были бы «внутри» меня, точно так же, как я прямо сейчас нахожусь в моем кабинете. Такой подход не делает различия между двумя явлениями: быть доступным сознанию и находиться внутри сознания. Тем не менее это различие является существенным: объекты, которые меня окружают, лишь доступны моему сознанию, но не находятся внутри его. Я знаю о них, но они не внутри меня.
Из «банковского» представления о сознании логически следует, что роль преподавателя заключается в управлении процессом, в ходе которого внешний мир «внедряется» в учеников. Задача учителя – организовать процесс, который сам по себе уже происходит спонтанно и в ходе которого студенты «наполняются» депозитами информации – то есть, по мнению педагога, истинным знанием[103]. И поскольку люди «впитывают» мир как пассивные существа, образование должно сделать их еще более пассивными и адаптировать их к этому миру. Образованный индивид – это адаптированная личность, потому что он лучше «приспособлен» к миру. На практике эта концепция отлично соответствует целям угнетателей, чей покой зависит от того, насколько хорошо люди приспосабливаются к миру, созданному угнетателями, и как редко они подвергают его сомнениям.
Чем сильнее большинство адаптируется к установкам, которые им предписывает доминирующее меньшинство (тем самым лишая их права на свои собственные намерения), тем легче меньшинству продолжать диктовать свои условия. Теория и практика «банковского» обучения служат этой цели, и довольно эффективно. Буквоедство, требования к чтению[104], методика оценки «знаний», дистанция между учителем и учеником, критерии поощрения: все составляющие этого фабрикатного подхода исключают необходимость мыслить.
Учитель-клерк не понимает, что его гипертрофированная роль не гарантирует настоящей защищенности, ведь человек должен стремиться жить вместе с другими, в солидарности с ними. Учитель не может ставить себя выше своих учеников, не может даже просто сосуществовать с ними. Солидарность требует истинного общения, а концепция, которой придерживаются такие педагоги, провоцирует страх общения и отказ от него.
И тем не менее человеческая жизнь может обрести смысл только через общение. Правильность мыслей учителя подтверждается лишь правильностью мыслей его учеников. Учитель не может думать за своего ученика, как и навязывать ему свои мысли. Процесс истинного мышления – мышления, сосредоточенного на реальности, – не может происходить в башне из слоновой кости: он возможен только в общении. Если принять за правду тот факт, что мысль обретает смысл, только когда ее порождают действия по преобразованию мира, то подчинение учеников учителю становится невозможным.
Поскольку «банковское» обучение начинается с ложного представления о человеке как об объекте, оно не может способствовать развитию явления, которое Фромм называет «биофилией», – вместо этого оно порождает противоположный феномен: «некрофилию».
В то время как жизнь характеризуется структурированным, функциональным ростом, некрофил любит все, что не растет, все, что механично. Некрофил движим потребностью превращать органическое в неорганическое, он воспринимает жизнь механически, как будто все живые люди являются вещами. <…>
Для него существенно только воспоминание, а не живое переживание, существенно обладание, а не бытие. Некрофил вступает в отношение с объектом, цветком или человеком только тогда, когда он им обладает; поэтому угроза его обладанию означает для него угрозу ему самому; если он теряет владение, то он теряет контакт с миром. <…> Он хотел бы господствовать над другими и при этом убивать жизнь[105].
Угнетение – тотальный контроль – это проявление некрофилии; оно питается любовью к смерти, а не к жизни. Банковская концепция образования, обслуживающая интересы угнетения, также является некрофилией. Основанная на механистическом, статичном, натуралистичном, пространственном взгляде на сознание, эта концепция превращает учеников в получающие информацию объекты. Она пытается контролировать мысли и действия, заставляет людей приспосабливаться к миру и подавляет их творческую силу.
Когда попытки человека действовать ответственно постоянно натыкаются на препятствия, когда он чувствует, что не имеет возможности реализовать свои способности, он страдает. «Это страдание от импотенции приводит к разрушению внутреннего равновесия»[106]. Но неспособность действовать, которая вызывает человеческие мучения, также подталкивает их к тому, чтобы отринуть свое бессилие, пытаться
…восстановить свою способность к действию. Может ли он это сделать и каким образом? Одна возможность заключается в том, чтобы подчинить себя некой личности или группе, которая располагает властью, и идентифицировать себя с ней. Посредством такой символической причастности к жизни другого человек обретает иллюзию самостоятельного действия, в то время как на самом деле он лишь подчиняет себя тем, кто действует, и становится их частью[107].
Быть может, популистские манифестации лучше всего демонстрируют подобное поведение угнетенных, которые, идентифицируя себя с харизматичными лидерами, начинают чувствовать, будто они и сами активно и эффективно действуют. Протест, который они выражают, появляясь на исторической арене, мотивирован этим желанием действовать эффективно. Господствующая элита полагает, что лучший способ устранить проблему – усилить доминирование и угнетение, якобы во имя свободы, порядка и общественного спокойствия (а точнее – спокойствия элиты). Таким образом они (и, с их точки зрения, это логично) борются с «насилием, которое сопровождает забастовки рабочих, и на одном дыхании призывают государство использовать насилие, чтобы подавить эти самые забастовки»[108].
Обучение как упражнение по подчинению стимулирует доверчивость учеников с идеологическим намерением (которое часто не осознают сами педагоги) обработать их для последующей адаптации к миру угнетения. Выдвигая это обвинение, мы не питаем наивной надежды на то, что господствующая элита просто так откажется от подобной практики. Наша цель – обратить внимание настоящих гуманистов на тот факт, что они не могут использовать «банковскую» методику обучения в борьбе за освобождение, ведь она служит совершенно обратной цели. Революционное общество также не может позаимствовать эту методику у общества угнетения. Революционное общество, в котором практикуется «банковское» обучение, либо находится в заблуждении, либо не доверяет народу. В любом случае оно чувствует угрозу реакции со стороны угнетенных.
К сожалению, те, кто отстаивает идею освобождения, сами окружены той атмосферой, которая порождает «банковскую» концепцию, и, находясь под ее влиянием, зачастую не осознают ее истинного значения и ее дегуманизирующей силы. Тогда, как это ни парадоксально, они начинают использовать те же самые инструменты отчуждения для того, что они считают попытками достичь освобождения. На самом деле некоторые «революционеры» называют «наивными», «мечтателями» или даже «реакционерами» тех, кто может бросить вызов этой образовательной практике. Но нельзя освободить людей путем отчуждения. Настоящее освобождение – процесс гуманизации – это не очередной депозит, который следует «вложить» в людей. Освобождение – это праксис: действия и рассуждения людей о мире, направленные на его трансформацию. Те, кто по-настоящему предан идее освобождения, не могут принять ни механистический взгляд на сознание, как на некий пустой сосуд, который необходимо наполнить, ни использование банковских методов господства (пропаганды, слоганов-вкладов) во имя освобождения.
Те, кто по-настоящему предан идее освобождения, обязаны полностью отвергнуть «банковскую» концепцию и вместо этого начать воспринимать людей как сознательных существ, а сознание – как сознание, которое стремится к взаимодействию с миром. Они должны отказаться от идеи, что цель образования заключается во внесении вкладов, и заменить ее постановкой проблем, с которыми сталкиваются люди, взаимодействуя с миром. Образование, основанное на постановке проблем, отвечающее сути сознания – наличию намерения, – отвергает формальности и основывается на общении. Такой подход олицетворяет главное свойство сознания: осознание – намерение, направленное не только на объекты, но и на само себя в том смысле, который подразумевает Ясперс, говоря о «расколе», то есть сознание как осознание сознания.
Освободительное обучение состоит из актов познания, а не передачи информации. Это ситуация обучения, в которой познаваемый объект (который вовсе не является конечной целью акта познания) служит промежуточным звеном между действующими лицами познавательного процесса – учителем с одной стороны и учениками – с другой. Соответственно, обучение, основанное на постановке проблем, с самого начала требует разрешения противоречия между учителем и учеником. В противном случае диалогические взаимоотношения – необходимое условие, которое лежит в основе взаимодействия между действующими лицами при восприятии одного познаваемого объекта, – становятся невозможны.
На самом деле обучение, основанное на постановке проблем, ломающее вертикальную парадигму, характерную для «банковского» подхода, может успешно служить цели освобождения, только если будет преодолено вышеизложенное противоречие. Благодаря диалогу перестают существовать такие понятия, как учитель [для] ученика и ученик [для] учителя, и появляются другие: учитель-ученик с учеником-учителем. Учитель – это больше не тот, кто учит, а тот, кто и сам обучается в процессе диалога с учениками, которые во время обучения и сами становятся учителями. Все они становятся ответственными за процесс, в ходе которого все они развиваются. В нем становятся неприемлемыми аргументы, основанные на «авторитете»; для того чтобы авторитет сохранялся, он должен выступать за свободу, а не против нее. Здесь никто не учит других и не обучается самостоятельно. Лишь мир как таковой связывает людей, которые обучают друг друга при помощи познаваемых объектов, которые в «банковском» подходе «принадлежат» педагогу.
«Банковская» концепция (в своем стремлении все разбивать на две части) различает две стадии работы преподавателя. Во время первой стадии учитель познает познаваемый объект, готовясь к урокам в своем кабинете или лаборатории; во время второй стадии он передает своим ученикам знания об этом объекте. От учеников ждут не знания, а запоминания сведений, которые дает им учитель. Ученики также не совершают действий, связанных с познанием, поскольку предмет, на который оно должно быть направлено, является собственностью учителя, а не пищей для критического мышления учителя и учеников. Отсюда и созданная во имя «сохранения культурного наследия и знаний» система, которая не позволяет достичь ни истинных знаний, ни настоящей культуры.
Метод постановки проблем не делит на две части деятельность учителя и ученика: он не подразумевает «познания» с одной стороны и «повествования» – с другой. Он всегда подразумевает познание, не важно, идет ли речь о подготовке проекта или о диалоге с учениками. Учитель не присваивает себе познаваемые объекты, они являются объектами размышления как для учителя, так и для его учеников. Таким образом, учитель, практикующий метод постановки проблем, постоянно преобразовывает свои размышления в размышления своих студентов. Ученики – больше не молчаливые слушатели – во время диалога с преподавателем становятся мыслящими критически соисследователями. Учитель предлагает ученикам материал для рассмотрения и пересматривает свои прежние выводы по мере того, как ученики делятся своими собственными мыслями. Роль учителя в этом подходе заключается в том, чтобы творить – вместе с учениками создавать условия, при которых [общепринятое] знание на уровне doxa сменяется истинным знанием на уровне logos.
В то время как «банковский» подход обездвиживает и подавляет творческий потенциал, обучение, основанное на постановке проблем, инициирует постоянную жажду открытия реальности. Первый пытается держать сознание в спящем состоянии, последний стремится к проявлению сознания и критическому вмешательству в реальность.
Ученики, перед которыми все чаще ставятся проблемы, связанные с ними и с их взаимодействием с миром и существованием в нем, начинают все отчетливее чувствовать, что им бросается вызов, и они обязаны ответить на него. Поскольку они понимают, что этот вызов связан и с другими проблемами в общем контексте и что это вовсе не теоретический вопрос, их понимание становится все более критическим, и их отчуждение от мира постепенно исчезает. Их ответ на брошенный вызов выявляет новые проблемы, которые приносят им новое понимание, и со временем ученики осознают, что преследуют некую цель.
Обучение как акт свободы – в противовес обучению как акту господства – отрицает, что человек – это абстрактное, независимое, изолированное и оторванное от мира существо; подобный подход также отрицает, что мир существует как реальность, отдельная от человека. Подлинное размышление не рассматривает ни абстрактного человека, ни мир без людей, а только людей во взаимосвязи с миром. В этой взаимосвязи сознание и мир синхронизированны: сознание не предшествует миру и не следует за ним.
Сознание и мир даны одновременно: мир, по своей сущности внешний для сознания, по своей сущности также тесно связан с ним[109].
Во время занятий одного из наших культурных кружков в Чили мы с группой, используя кодификацию[110], обсуждали антропологическую концепцию культуры. В разгар дискуссии один крестьянин, который в рамках «банковской» концепции обучения считался бы абсолютно невежественным, произнес: «Теперь я вижу, что без человека нет и мира». Тогда учитель сказал: «Давайте ради дискуссии представим, что все люди на земле в один момент умерли, но сама земля осталась – вместе с деревьями, птицами, животными, реками, морями, звездами… Разве это не было бы миром?» – «О нет, – решительно ответил крестьянин. – Не осталось бы никого, кто бы сказал, что это – мир».
Этот крестьянин хотел выразить идею о том, что тогда в мире не осталось бы сознания, из которого неизбежно вытекает существование мира сознания. «Я» не может существовать без «не-я». В свою очередь, «не-я» зависит от этого существования. Мир, который порождает сознание, становится миром этого сознания. Из этого вытекает процитированное выше высказывание Сартра: «Сознание и мир даны единовременно».
Как только люди, одновременно рассуждая и о себе и о мире, расширяют границы своего восприятия, они начинают направлять свои наблюдения на явления, которые прежде казались непримечательными:
Когда я в собственном смысле слова воспринимаю нечто, замечая его, я обращен к предмету, например к листу бумаги, я схватываю его как здесь и теперь сущее. Схватывать значит выхватывать, все воспринимание наделено неким задним планом опытного постижения. Вокруг листа бумаги лежат книги, карандаши, стоит чернильница и т. д., и все это тоже «воспринимается» мною, все это перцептивно есть здесь, в «поле созерцания», однако пока я обращаюсь в сторону листа бумаги, они лишены любого, хотя бы и вторичного, обращения и схватывания. Они являлись, но не были выхвачены, не были положены для себя. Подобным образом любое восприятие вещи обладает ореолом фоновых созерцаний (или фоновых смотрений, если считать, что в созерцании уже заключается обращенность к предмету), и это тоже «переживание сознания», или же, короче, «сознание», причем сознание всего того, что на деле заключено в том предметном «заднем плане», или «фоне», какой созерцается вместе с созерцаемым в восприятии[111].
То, что объективно существует, но не постигнуто в глубоком смысле (если было постигнуто вообще), начинает «выделяться» и приобретает характер проблемы, а следовательно – вызова. Таким образом, человек начинает выделять элементы из своего «фонового созерцания» и размышлять о них. Теперь эти элементы являются для него объектами рассмотрения, а значит, объектами его действий и познания.
В рамках обучения, основанного на постановке проблем, человек развивает свою способность критически осознавать, каким образом люди существуют в мире, с которым они взаимодействуют и в котором находятся; они начинают видеть мир не как статичную реальность, а как процесс, как трансформацию. Хотя диалектические взаимоотношения человека с миром существуют независимо от того, каким образом эти отношения воспринимаются (и воспринимаются ли они вообще), также верно и то, что форма действий, которой они придерживаются, в большой степени зависит от того, как они осознают себя в этом мире. Следовательно, учитель-ученик и ученик-учитель одновременно размышляют о себе и об окружающем мире, не отделяя этих размышлений от действий, и таким образом придерживаются истинной формы мыслей и действий.
Следует еще раз подчеркнуть, что во время анализа этих двух концепций и практик образования обнаруживается, что они находятся в конфликте по отношению друг к другу. «Банковское» образование по понятным причинам пытается, мистифицируя реальность, скрыть определенные факты, которые объясняют, каким образом человек существует в мире; задача обучения, основанного на постановке проблем, – демифологизация. Первое противостоит диалогу; второе позиционирует диалог как необходимое условие акта познания, раскрывающего реальность. В «банковском» обучении ученик рассматривается как объект, которому оказывается помощь; в подходе, основанном на постановке проблем, ученик становится критическим мыслителем. «Банковское» обучение подавляет творчество и приручает (хоть и не может полностью уничтожить) наличие намерения как характеристику сознания, изолируя последнее от мира и тем самым отказывая человеку в его праве на онтологическое и историческое стремление к тому, чтобы стать более человечным. Методика постановки проблем базируется на творчестве и поощряет истинные рассуждения и действия, направленные на реальность, тем самым отвечая на стремления людей как существ, которые становятся самими собой только путем исследования и творческой трансформации. Итак, подведем итог: «банковская» теория и практика, обездвиживающая и сдерживающая силы человека, не учитывает того факта, что люди существуют в историческом контексте; теория и практика постановки проблем берет историчность человека за отправную точку.
Согласно методике постановки проблем, человек – это существо, которое находится в процессе становления – незаконченное, несовершенное существо, которое пребывает в такой же незавершенной реальности. Действительно, в отличие от других животных, которые являются незавершенными, но не историческими, люди знают о том, что несовершенны, они осознают свою незаконченность. В этом несовершенстве и в этом осознании и лежит основа обучения как явления, которое присуще исключительно человеку. Незавершенный характер человеческого существа и склонность реальности к трансформации требует, чтобы обучение было непрерывным процессом.
Таким образом, обучение постоянно преобразуется в праксисе. Чтобы быть, оно должно стать. Его «продолжительность» (в бергсоновском значении слова) основана на взаимодействии таких противоположных понятий, как постоянство и изменения. «Банковский» метод делает акцент на постоянстве и становится реакционным; методика постановки проблем, которая не принимает ни «послушное» настоящее, ни предопределенное будущее, основывается на динамичном настоящем и становится революционной.
Методика постановки проблем – это революционное будущее. Следовательно, она является пророческой (и поэтому многообещающей). Следовательно, она отвечает исторической природе человека. Следовательно, в ней человек воспринимается как существо, способное выйти за рамки самого себя, которое движется вперед и смотрит в будущее, для кого неподвижность представляет смертельную угрозу, которое смотрит в прошлое лишь для того, чтобы более ясно осознать, чем и кем оно является на самом деле, чтобы более мудро подойти к построению будущего. Следовательно, эта методика согласуется с движением, которое воспринимает человека как существо, осознающее свое несовершенство – историческое движение, которое имеет свою точку отсчета, своих Субъектов и свои цели.
Точка отсчета этого движения находится в самих людях. Но, поскольку человек не существует в отрыве от мира, от реальности, это движение должно начинаться с взаимоотношений мира и человека. Соответственно, точка отсчета должна всегда находиться там, где люди, «здесь и сейчас», то есть в ситуации, в которую они погружены, из которой они выходят и в которую они вмешиваются. Лишь отталкиваясь от этой ситуации – которая определяет ее восприятие людьми, – они могут начать двигаться дальше. Чтобы сделать это по-настоящему, они должны осознать свое положение не как предопределенное и неизменимое, а лишь как ограниченное временем – и, следовательно, подталкивающее к действиям.
В то время как «банковская» методика прямо или косвенно усиливает фаталистическое восприятие людьми той ситуации, в которой они находятся, методика постановки проблем преподносит саму эту ситуацию как проблему. Как только ситуация становится объектом познания людей, наивное или магическое восприятие, которое является причиной их фатализма, дает дорогу восприятию, способному воспринимать себя, даже когда оно направлено на реальность и, таким образом, может быть критически объективным относительно этой реальности.
Более глубокое осознание своей ситуации заставляет людей воспринимать эту ситуацию как историческую реальность, которую можно преобразовать. Покорность уступает место желанию трансформировать и исследовать, и человек чувствует, что способен на это. Если бы люди как исторические существа, участвующие вместе с другими людьми в движении, направленном на исследование, не контролировали это движение, это можно было бы (и следует) расценивать как акт насилия над их человечностью. Любая ситуация, в которой одни люди не позволяют другим участвовать в процессе исследования, является актом насилия. Не важно, какие при этом используются средства: запрещать человеку принимать собственные решения означает превращать его в объект.
Это движение исследования должно быть направлено на очеловечивание – историческое призвание человека. Желание стать полноценным человеком тем не менее невозможно осуществить через изоляцию или индивидуализм, а лишь в сообществе и солидарности с другими; таким образом, это призвание невозможно реализовать в антагонизме между угнетенными и угнетателями. Никто не сможет стать настоящим человеком, пока он препятствует другим людям в их стремлении достичь этой же цели. Попытки быть более полноценным человеком, думая только о себе, приводят к эгоистическому стремлению иметь больше, которое представляет собой проявление дегуманизации. Это не значит, что обладание не является основополагающим аспектом бытия человека. Именно потому, что иметь человеку необходимо, обладание одних людей не должно служить преградой для обладания других людей, не должно представлять собой силу, с помощью которой первые подавляют последних.
Методика постановки проблем как гуманистический и освободительный праксис выдвигает в качестве основополагающей мысль о том, что люди, подвергающиеся подчинению, обязаны бороться за свое освобождение. Исходя из этого, она позволяет учителям и ученикам стать Субъектами образовательного процесса, преодолев авторитаризм и отчуждающий интеллектуализм; она также позволяет человеку выйти за границы ложного восприятия реальности. Мир, который больше не является чем-то, что можно описать обманчивыми понятиями, становится объектом трансформирующих действий человека, которые ведут к его гуманизации.
Обучение, основанное на постановке проблем, не обслуживает и не может обслуживать интересы угнетателей. Никакой основанный на угнетении порядок не может позволить угнетенным задавать вопрос: почему? Несмотря на то что лишь революционное общество способно систематически внедрить такую систему образования, революционные лидеры могут начать пользоваться этой методикой еще до того, как им удастся полностью взять власть в свои руки. Во время революционного процесса лидеры не могут использовать «банковскую» систему обучения в качестве временной меры, оправдывая это целесообразностью и намереваясь позднее начать действовать поистине революционно. Они должны вести себя революционно – то есть диалогически – с самого начала.
Глава 3
Диалогизм как суть образования и способ достижения свободы; диалогизм и диалог; диалог и составление образовательной программы; взаимоотношения мира и человека; использование «генеративных тем» при составлении образовательной программы как способ достижения свободы; исследование «генеративных тем» и его методология, пробуждение критического сознания через исследование «генеративных тем»; различные стадии упомянутого исследования
Пытаясь анализировать диалог как явление, присущее человеку, мы обнаруживаем то, что является самой сутью диалога – слово. Но слово – это нечто большее, чем просто инструмент, который дает возможность вести диалог, соответственно, мы должны выявить его составляющие. Внутри слова мы находим два аспекта – размышление и действие – в столь тесном взаимодействии, что если пожертвовать одним, пусть даже частично, тут же пострадает второе. Не существует настоящего слова, которое в то же время не являлось бы праксисом[112]. Таким образом, произносить настоящее слово – значит трансформировать мир[113].
Ненастоящее слово – слово, которое не способно трансформировать реальность, – рождается, когда на его составляющие накладывается дихотомия. Когда слово лишается присущего ему аспекта действия, размышление также автоматически страдает, и слово превращается в пустую болтовню, в пустословие, в отчужденное и отчуждающее «бла-бла». Оно становится пустым, оно больше не способно обличать существующий мир, поскольку обличение невозможно без приверженности цели трансформации, а трансформация – без действия.
И в то же время, если акцент делается исключительно на действии в ущерб размышлению, слово превращается в активизм. Последнее – действие ради действия – отрицает истинный праксис и уничтожает возможность ведения диалога. Любая дихотомия, создавая неестественные формы существования, также создает неестественные формы мысли, которые усиливают изначальную дихотомию.
Человеческое существование не может быть безмолвным, как и не может оно питаться ложными словами, а только лишь правдивыми – теми, с помощью которых люди трансформируют этот мир. Существовать – по-человечески – значит называть мир, изменять его. Как только мир получает имя, он, в свою очередь, заново предстает перед назвавшими его как некая проблема и требует, чтобы они назвали его заново. Люди обретают свою человеческую сущность не через молчание[114], а через слово, работу и действие-размышление.
Но, в то время как сказать истинное слово (которое представляет собой работу, праксис) означает трансформировать мир, право сказать это слово – не привилегия ограниченного числа людей, оно принадлежит каждому. Следовательно, никто не может сказать истинное слово в одиночку – как и сказать его за кого-то другого, в рамках предписаний, которые крадут слова у других людей.
Диалог – это взаимодействие двух людей, посредником в котором выступает мир и цель которого заключается в том, чтобы назвать этот мир. Следовательно, диалог не может происходить между теми, кто хочет назвать мир, и теми, кто не желает, чтобы он был назван – между теми, кто отрицает право других на свое слово, и теми, кто был лишен этого права. Те, кто был лишен своего исконного права говорить свое слово, должны вернуть себе это право и предотвратить продолжение этой дегуманизирующей агрессии.
Если люди трансформируют мир, называя его, то есть произнося свое слово, диалог выступает как способ, при помощи которого они достигают человеческой значимости. Таким образом, диалог – это экзистенциальная необходимость. И поскольку диалог – это взаимодействие, участники которого вместе направляют свои размышления и действия на мир, подлежащий трансформации и гуманизации, то диалог нельзя свести к процессу «вклада» идей одного человека в другого, как и к простому обмену идеями, которые «поглощаются» дискутирующими. Не является он и враждебным спором между теми, кто не озабочен ни задачей называния мира, ни поиском истины, а лишь навязыванием собственной правды. Поскольку диалог – это взаимодействие людей, которые называют мир, он не должен превращаться в ситуацию, где одни называют мир от имени других. Это акт творения, и он не должен служить хитроумным инструментом господства одних людей над другими. Доминирование, подразумевающееся в диалоге, – это господство его участников над миром, это покорение мира ради освобождения человечества.
Однако диалог не может существовать в отсутствии глубокой любви к миру и к людям. Процесс называния мира, который представляет собой акт созидания и воссоздания, невозможен, если он не основан на любви[115]. В то же время любовь – это фундамент диалога и сам диалог. Таким образом, он неизбежно становится задачей ответственных Субъектов и не может существовать при отношениях доминирования. Доминирование разоблачает патологию любви – садизм доминирующего и мазохизм подчиненного. Поскольку любовь – это проявление отваги, а не страха, любовь означает преданность другим. Не важно, где находятся угнетенные, акт любви – это приверженность их делу, то есть делу освобождения. И эта приверженность, будучи проявлением любви, предполагает диалог. Как проявление храбрости, любовь не может быть сентиментальной; как акт свободы, она не должна служить предлогом манипулирования. Она должна порождать другие акты свободы, иначе это не любовь. Лишь ликвидировав ситуацию угнетения, можно восстановить любовь, которую эта ситуация сделала невозможной. Если я не люблю мир, не люблю жизнь, не люблю людей – я не способен вступить в диалог.
И вместе с тем диалог не может существовать без скромности. Называние мира, посредством которого люди постоянно воссоздают его, не терпит высокомерия. Диалог как взаимодействие людей, верных цели изучения и действия, прерывается, если его участники (или один из них) проявляют надменность. Как можно вести диалог, постоянно видя невежество в других, но никогда не замечая свое собственное? Как можно вести диалог, воспринимая себя как случай, отдельный от всех прочих, и видя лишь «их», не в силах разглядеть в них отдельные «я»? Как можно вести диалог, считая себя членом закрытой группы «чистых» людей, хранителей правды и знаний, для которых все, кто не является членами этой группы, – это «те люди» или «чернь»? Как можно вести диалог, отталкиваясь от положения о том, что называние мира – это задача элиты и что присутствие народа на исторической арене – это признак деградации, которой, соответственно, следует избегать? Как можно вести диалог, отказываясь принимать вклад других людей или даже воспринимая его как оскорбление? Как можно вести диалог, опасаясь потерять свое место и даже испытывая мучения и слабость от одной только мысли о возможности такого исхода событий? Самодостаточность несовместима с диалогом. Те, кому не хватает скромности (или кто ее потерял), не могут пойти к людям, не могут стать их партнерами в деле называния мира. Тому, кто не способен признать, что он настолько же смертен, как и все остальные, предстоит пройти очень долгий путь, прежде чем он доберется до точки взаимодействия. В этой точке не существует ни абсолютных невежд, ни верховных мудрецов – лишь люди, которые вместе пытаются узнать больше, чем им уже известно.
Кроме того, диалог требует глубокой веры в человечество, веры в способность людей делать и переделывать, создавать и воссоздавать, веры в их призвание становиться все более человечными (которое представляет собой не привилегию элиты, а право, принадлежащее всем с рождения). Вера в людей – это условие, априори необходимое для ведения диалога, диалогически мыслящий человек верит в другого даже до того, как встретится с ним лицом к лицу. Его вера, однако, не наивна. Диалогически мыслящий человек критичен, и он знает, что, хотя люди обладают силой творить и трансформировать, в определенной ситуации отчуждения люди могут оказаться неспособными использовать эту силу. Однако последнее вовсе не разрушает его веру в людей: он воспринимает эту неспособность как вызов, на который следует ответить. Он убежден, что способность создавать и трансформировать, даже если в определенных ситуациях ей не позволяют реализоваться, склонна восстанавливаться. И это восстановление может произойти (не просто так, а во время и посредством борьбы за освобождение) благодаря замене рабского труда на труд освобожденных трудящихся, который привносит в жизнь энергию. Без такой веры в людей диалог становится фарсом, который неизбежно деградирует и превращается в патерналистское манипулирование.
Основанный на любви, смирении и вере диалог становится формой отношений на равных, из которых логически следует взаимное доверие его участников. Если бы диалог – полный любви, скромности и веры – не рождал этой атмосферы взаимного доверия, которая ведет участников дискуссии к еще более тесному партнерству в деле называния мира, возникло бы противоречие. Очевидно, что это доверие полностью отсутствует в антидиалогическом «банковском» методе обучения. В то время как вера в человечество – это условие, априори необходимое для ведения диалога, доверие устанавливается в процессе диалога. Если этого не происходит, становится ясно, что предварительные условия оказались недостаточными. Ложная любовь, ложная скромность и слабая вера в других не могут стать основой доверия. Доверие строится на подтверждении истинных, конкретных намерений, которое один участник предоставляет другому участнику. Оно не может существовать, если слова этого участника не совпадают с его действиями. Говорить одно и делать другое, не принимать всерьез собственные слова – такая позиция не внушает доверия. Прославлять демократию и при этом затыкать людям рот – это фарс, рассуждать о гуманизме и отрицать человечность других людей – это лживость.
Не может диалог существовать и без надежды. Надежда коренится в несовершенстве человека, отталкиваясь от которого он ведет постоянные поиски – поиски, которые можно продолжать, лишь взаимодействуя с другими. Отчаяние – это форма молчания, отрицания мира и бегства от него. Дегуманизация, порождаемая несправедливым социальным порядком, должна вызывать не отчаяние, а надежду, которая ведет к непрестанной погоне за человечностью, несправедливо отнятой у людей. Надежда, однако, не заключается в том, чтобы сложить руки и ждать. До тех пор, пока я борюсь, мною движет надежда, и, если я сражаюсь, полный надежды, ждать я не могу. Будучи взаимодействием людей, которые стремятся обрести более полную человечность, диалог не может вестись в атмосфере отчаяния. Если участники диалога не ждут, что их усилия к чему-то приведут, их взаимодействие будет пустым и неплодотворным, формальным и утомительным.
И наконец, настоящий диалог не может существовать, если его участники не проявляют способности к критическому мышлению – мышлению, которое выявляет невидимую солидарность между миром и людьми и не признает никакой дихотомии между ними, мышлению, которое воспринимает реальность как процесс, как трансформацию, а не как нечто статичное, мышлению, которое не отделяет себя от действия, а постоянно погружается во вре́менное, не боясь пойти на связанный с этим риск. Критическое мышление контрастирует с наивным мышлением, которое воспринимает «историческое время как массу, как наслоение пластов приобретенного в прошлом опыта»[116], из которого должно появиться нормализованное и «послушное» настоящее. Наивно мыслящему человеку важно приспособиться к этому нормализованному «сегодня». Для критика же важна постоянная трансформация реальности, которая стимулирует постоянную гуманизацию людей. Как сказал Пьер Фертер:
Цель больше не будет заключаться в том, чтобы ликвидировать риск временности, цепляясь за гарантированное пространство, она будет заключаться в том, чтобы сделать пространство временным… Вселенная представляется мне не как пространство, довлеющее надо мной как некая массивная сущность, к которой я могу лишь приспособиться, а как некий объем, некая сфера, которая обретает форму, когда я воздействую на нее[117].
Цель обладателя наивного мышления заключается именно в том, чтобы крепко держаться за гарантированное пространство и приспосабливаться к нему. Таким образом, отрицая временность, такое мышление отрицает и само себя.
Лишь диалог, требующий критического мышления, также способен генерировать его. Без диалога нет коммуникации, а без коммуникации не может быть настоящего обучения. Обучение, способное разрешить противоречие между учителем и учеником, возможно лишь в ситуации, где они оба направляют свой акт познания на объект, служащий посредником между ними. Таким образом, диалогический характер обучения как проявления свободы начинается не тогда, когда учитель-ученик встречается с учениками-учителями в ситуации преподавания, а когда первый сначала спрашивает себя, о чем он будет вести диалог с последними. А задуматься о содержании диалога, в сущности, значит задуматься о содержании учебной программы.
Для антидиалогического, «банковского» педагога вопрос содержания касается лишь программы, которую он будет излагать своим ученикам, и он отвечает на собственный вопрос, составляя собственную программу. Для диалогического педагога, ставящего проблемы, содержание образовательной программы – это не подарок и не установка – не кусочки информации, которые следует «внести на банковский счет» учеников – а скорее подготовленное для людей, организованное, систематизированное и разработанное «отображение» тех вещей, о которых они хотят знать больше[118].
Настоящее обучение не осуществляется индивидом А ради индивида Б или индивидом А об индивиде Б, а скорее А вместе с Б, причем посредником между ними выступает мир – мир, который впечатляет их обоих и бросает обоим вызов, давая начало взглядам и мнениям о себе. Эти взгляды, пропитанные тревогами, сомнениями, надеждами или отчаянием, подразумевают значимые темы, на основе которых может быть выстроено содержание образовательной программы. Желая создать идеальную модель «хорошего человека», наивно воспринятый гуманизм часто не замечает конкретной, настоящей ситуации, в которой существуют реальные люди. Истинный гуманизм, по словам Пьера Фертера, «заключается в том, чтобы позволить проявиться осознанию нашей истинной человечности, которое является условием и обязанностью, ситуацией и проектом»[119]. Мы попросту не можем обратиться к трудящимся – будь то горожане или сельские жители[120], – отталкиваясь от «банковского» подхода, дать им «знания» или навязать им модель «хорошего человека», представленную в программе, содержание которой мы выбрали самостоятельно. Многие политические и образовательные планы провалились, потому что их авторы составляли их в соответствии со своими личными взглядами на реальность, ни разу не постаравшись учесть (разве что в качестве простых объектов своих собственных действий) людей, находящихся в этой ситуации, для которых якобы предназначалась их программа.
Настоящий педагог-гуманист и истинный революционер выбирает в качестве объекта действий реальность, которая должна быть преобразована им вместе с другими людьми, а не исключительно силами других людей. Угнетатели – это те, кто воздействует на людей, чтобы навязать им определенную идеологию и приспособить их к реальности, которая должна оставаться нетронутой. Однако, к сожалению, в своем желании заручиться поддержкой народа ради революционных действий революционные лидеры часто попадаются на крючок «банковской» стратегии при составлении программы от начала и до конца. Они предлагают крестьянам и городским рабочим проекты, которые соответствуют их собственному взгляду на мир, а не тому мировоззрению, которого придерживаются люди[121]. Они забывают, что их основополагающая цель – бороться с людьми плечом к плечу за возвращение их отнятой человечности, а не «привлекать народ на свою сторону». Этой фразе место не в словаре революционных лидеров, а в лексиконе угнетателей. Роль революционера – освобождать и быть освобожденным вместе с народом, а не пытаться привлечь его на свою сторону.
Представители доминирующей элиты в своей политической деятельности применяют «банковскую» концепцию, чтобы взращивать в угнетенных пассивность, что соответствует «погруженному» состоянию сознания последних, и пользоваться этой пассивностью, чтобы «заполнить» это сознание слоганами, которые еще больше усиливают страх свободы. Такая практика несовместима с по-настоящему освободительной деятельностью, в ходе которой слоганы угнетателей представляются как проблема, что помогает угнетенным «извергнуть» из себя эти слоганы. В конце концов, задача гуманистов уж точно не заключается в том, чтобы разводить собственные слоганы в противовес тем, что провозглашают угнетатели, чтобы в сознании угнетенных, словно на испытательном полигоне, квартировали слоганы то одной стороны, то другой. Напротив, задача гуманистов – помочь угнетенным осознать тот факт, что, оставаясь двойственными созданиями, внутри которых «живут» угнетатели, они не могут стать полноценными людьми.
Эта задача подразумевает, что революционным лидерам следует обращаться к людям не за тем, чтобы принести им послание о «спасении», а чтобы через диалог с ними узнать, какова их объективная ситуация и их осознание этой ситуации – различные уровни восприятия самих себя и мира, в котором они существуют и с которым взаимодействуют. Нельзя ждать положительных результатов от политической или образовательной программы, которая не отражает уважения к тому мировоззрению, которого придерживается народ. Такая программа представляет собой культурное вторжение[122], какими бы благими ни были намерения ее авторов.
Точкой отсчета для составления программы образовательных или политических действий должна быть настоящая, конкретная, реальная ситуация, отражающая стремления народа. Используя определенные базовые противоречия, мы должны представить людям настоящую, конкретную, реальную ситуацию в качестве проблемы, которая бросает им вызов и требует от них ответной реакции – не только на интеллектуальном уровне, но и на уровне действий[123].
Никогда не следует просто излагать информацию о существующей ситуации или предоставлять людям программы, которые никак или почти никак не связаны с их заботами, сомнениями, надеждами и страхами, – программы, которые на самом деле лишь усиливают страхи, таящиеся в сознании угнетенных. Наша роль заключается не в том, чтобы говорить с людьми о нашем собственном взгляде на мир или пытаться навязать им этот взгляд, а в том, чтобы вести с ними диалог об их мировоззрении и о нашем собственном. Мы должны осознавать, что их восприятие мира, по-разному выражающееся в их действиях, отражает их положение в существующем мире. Тот, кто ведет образовательную или политическую деятельность, которая не основана на критическом осознании этого положения, рискует стать либо «банкиром», либо вопиющим в пустыне.
Часто педагоги и политики говорят, но не добиваются понимания, потому что их язык не гармонирует с конкретным положением людей, к которым они обращаются. Соответственно, их слова превращаются лишь в отчужденные и отчуждающие разглагольствования. Язык педагога или политика (причем становится все очевиднее, что последний также должен быть педагогом, в самом широком смысле этого слова), как и язык народа, не может существовать без мысли; а ни язык, ни мысль не могут существовать без структуры, к которой они относятся. Чтобы продуктивно общаться с людьми, педагоги и политики обязаны понимать структурные условия, в которых диалектически формируются мысль и язык народа.
Чтобы найти подходящее содержание для образовательной программы, мы должны обратиться к реальности, которая служит посредником между людьми, и к восприятию этой реальности, которое свойственно педагогам и народу. Исследование того, что я назвал «тематической вселенной»[124] народа, то есть комплекса его «генеративных тем», начинает педагогический диалог как выражение свободы. Методология этого исследования также должна быть диалогической и предусматривать возможность не только обнаружить эти «генеративные темы», но и простимулировать процесс осознания этих тем самими людьми. В соответствии с освободительной задачей диалогического образования, в качестве объекта этого исследования выступают не люди (как если бы они были анатомическими элементами), а мысль и язык, с помощью которых люди обращаются к реальности, уровни, на которых они воспринимают ее, и их мировоззрение, в котором можно обнаружить их «генеративные темы».
Прежде чем более четко описать, что собой представляет «генеративная тема», и тем самым прояснить, что подразумевается под выражением «минимальная тематическая вселенная», нам представляется необходимым привести кое-какие размышления. Понятие «генеративной темы» – это не произвольное изобретение и не рабочая гипотеза, которую предстоит доказать. Будь оно гипотезой, которую следует доказать, изначальное исследование было бы нацелено не на то, чтобы выявить суть темы, а чтобы доказать само существование или отсутствие этих тем. В таком случае, прежде чем пытаться понять тему во всей ее полноте, значимости, множественности, со всеми ее трансформациями и историческими составляющими, нам сначала пришлось бы удостовериться, что она объективно существует, и лишь после этого мы смогли бы перейти к ее постижению. И, хотя критическая позиция и сомнения оправданны, представляется возможным доказать реальность «генеративной темы» – и не только через чей-то личный экзистенциальный опыт, но также и при помощи критических размышлений о взаимоотношениях человека и мира и о подразумевающихся ими взаимоотношениях между людьми.
Эта мысль заслуживает большего внимания. Следует вспомнить (каким бы тривиальным это ни показалось), что из всех несовершенных созданий один лишь человек воспринимает не только свои действия, но и самого себя как объект собственных размышлений. Эта способность отличает его от животных, которые не могут отделить себя от своей деятельности и поэтому не способны размышлять о ней. Это с виду поверхностное различие служит линией, которая разграничивает действия каждого человека в его жизненном пространстве. Поскольку деятельность животных – это продолжение их самих, результаты этой деятельности также неотделимы от них: животные не могут ни ставить цели, ни придавать происходящим из-за них изменениям в природе какой-то особый смысл. Более того, «решение» выполнить то или иное действие принимается не самим животным, а его видом. Соответственно, животные в основе своей являются «существами в себе».
Не обладая способностью ни решать за себя, ни объективизировать себя или свою деятельность, не имея целей, которые они сами себе поставили, находясь в состоянии «погруженности» в мир, которому они не могут придать никакого значения, не имея ни «завтра», ни «сегодня» и всегда находясь в безграничном настоящем, животные представляют собой существ вне истории. Их внеисторическая жизнь протекает не в «мире», в строгом смысле этого слова. Для животного мир не представляет собой «не-я», которое помогло бы ему выделить себя в качестве «я». Человеческий мир, который историчен, служит лишь реквизитом для такого «существа в себе». Животные не воспринимают окружение, с которым они сталкиваются, как вызов, они лишь испытывают воздействие внешних раздражителей. Эта жизнь не заставляет идти на риск, ведь они не знают, что это значит. Для них риск – это не вызов, который воспринимается после размышлений, он лишь «подмечается» ими по знакам, которые о нем свидетельствуют, и, соответственно, не требует принятия ответного решения.
Следовательно, животные не способны посвятить себя чему-либо. Их внеисторическая сущность не позволяет им «принять на себя ответственность» за жизнь. И поскольку они не «принимают ответственность» за нее, они не могут строить ее, а раз они не могут строить ее, они не могут изменять ее структуру. Не могут они и знать, что жизнь их разрушает, поскольку они не способны расширить свой «бутафорный» мир и сделать его значимым, символичным миром, который включает в себя культуру и историю. В результате животные не стремятся «оживотнить» свое окружение, чтобы сделать себя полноценными животными, и не «обезживотнивают» друг друга. Даже в лесу они остаются «существами в себе», такими же животными, как и в зоопарке.
Люди же, напротив, осознают свою деятельность и воспринимают мир, в котором они находятся, действуя в зависимости от преследуемых ими целей, причем их решения коренятся в них самих и в их взаимодействии с миром и с другими людьми. Они наполняют мир своим творческим присутствием, трансформируя его, – в отличие от животных, они не просто живут, но и существуют[125], и их существование исторично. Животные проживают свою жизнь в безвременных, плоских, универсальных «декорациях». Люди существуют в мире, который они постоянно воссоздают и трансформируют. «Здесь» – это единственная среда обитания, в контакт с которой вступают животные. Для людей «здесь» – это не только лишь физическое пространство, но и историческое.
Строго говоря, «здесь», «сейчас», «там», «завтра» и «вчера» не существуют для животного, у которого нет самосознания и жизнь которого четко определена. Животные не способны преодолеть границы «здесь», «сейчас» или «там».
Люди же, осознавая самих себя и, следовательно, окружающий мир и будучи сознательными существами, находятся в диалектическом взаимодействии между очерченными границами и собственной свободой. Отделяя себя от мира, который они объективизируют, отделяя себя от собственной деятельности, находя основу своих решений в самих себе и в своих взаимоотношениях с миром и с другими людьми, они преодолевают ситуации, которые их ограничивают, – «ограничивающие ситуации»[126]. Как только последние начинают восприниматься людьми как кандалы, как препятствия освобождению, эти ситуации становятся рельефными, выделяясь на общем фоне, показывая свою истинную суть как конкретные исторические параметры существующей реальности. Люди отвечают на брошенный им вызов действиями, которые Виейра Пинту называет «действиями против ограничений» и которые направлены на отрицание и преодоление, а не на пассивное принятие «данности».
Таким образом, атмосферу отчаяния создают не сами по себе ограничивающие ситуации, а их восприятие людьми в определенный исторический момент: воспринимаются ли они как оковы или как непреодолимые барьеры. Поскольку критическое восприятие воплощается в действиях, рождается атмосфера надежды и уверенности, которая заставляет людей предпринимать попытки преодоления ограничивающих ситуаций. Этой цели можно достичь только путем воздействия на конкретную историческую реальность, в которой существуют ограничивающие ситуации. По мере того как реальность трансформируется и эти ситуации сходят на нет, будут появляться новые, которые, в свою очередь, будут провоцировать новые действия против ограничений.
В бутафорном мире животных нет ограничивающих ситуаций ввиду его внеисторического характера. Таким же образом у животных отсутствует способность выполнять действия против ограничений, которые требуют решительности по отношению к миру – возможности отделиться от него и объективизировать его, чтобы изменить. Органически связанные со своими декорациями, животные не видят разницы между собой и окружающим миром. Соответственно, они сдерживаются не ограничивающими ситуациями (которые историчны), а всеми декорациями в целом. И подходящая для животных роль – не взаимодействовать с этими декорациями (в таком случае декорации стали бы миром), а приспосабливаться к ним. Таким образом, когда животные «создают» гнездо, улей или нору, они создают не объекты, которые служат результатом «действий против ограничений», то есть реакций, направленных на трансформацию. Их созидательная деятельность подчинена принципу удовлетворения физической потребности, которая служит лишь раздражителем, но не вызовом. «Объект, созданный животным, принадлежит непосредственно его физическому телу, в то время как человек свободно взаимодействует с тем, что он создает»[127].
Лишь то, что создается в результате деятельности живого существа, но не принадлежит его физическому телу (хоть и может нести на себе его печать), способно придать некий смысл контексту, который таким образом превращается в мир. Существо, способное на такое созидание (которое, исходя из этого, должно осознавать само себя и являться «существом для себя»), больше не смогло бы быть, если бы оно не находилось в процессе бытия в мире, к которому оно относится, так же как и мир больше не существовал бы, не будь этого живого существа.
Разница между животными, которые (поскольку их деятельность не представляет собой действия против ограничений) не могут создавать объекты, отделенные от них самих, и человеком, который посредством своих действий над миром создает культуру и историю, заключается в том, что лишь человек – это существо, нацеленное на праксис. Лишь человек олицетворяет собой праксис, который, как размышление и действие, поистине трансформирующие реальность, является источником знания и созидания. Деятельность животных, которая происходит без праксиса, – это не созидание, в отличие от трансформирующей деятельности человека.
Именно в качестве трансформирующих и творческих существ люди, в постоянном взаимодействии с реальностью, производят не только материальные блага – осязаемые предметы, но также и социальные институты, идеи и понятия[128]. Посредством непрекращающегося праксиса люди одновременно создают историю и становятся историко-социальными существами. Поскольку в отличие от животных люди могут делить время на три измерения – прошлое, настоящее и будущее, их история в зависимости от их собственных творений развивается как постоянный процесс трансформации, внутри которого материализуются эпохальные единицы. Это не четко очерченные периоды времени, не статичные отсеки, внутри которых заключены люди. Если бы это было так, исчезло бы основополагающее условие истории – ее непрерывность. Напротив, эти эпохальные единицы находятся во взаимосвязи в динамике исторической непрерывности[129].
Эпоху характеризует совокупность идей, понятий, надежд, сомнений, ценностей и трудностей в диалектическом взаимодействии с их противоположностями, которые стремятся к полноте. Конкретное отражение многих из этих идей, ценностей, понятий и надежд, а также препятствий, стоящих на пути полной гуманизации человека, составляет темы этой эпохи. Эти темы влекут за собой другие, которые им противоречат или даже прямо противоположны им. Они также указывают на задачи, которые следует выполнить. Таким образом, исторические темы никогда не бывают изолированными, независимыми, отчужденными или статичными – они всегда диалектически взаимодействуют со своими противоположностями. Нельзя также обнаружить эти темы нигде, кроме взаимоотношений мира и человека. Совокупность взаимодействующих тем эпохи составляет ее «тематическую вселенную».
Сталкиваясь с этой «вселенной тем» в диалектическом противоречии, люди занимают в равной степени противоречивые позиции: одни стремятся сохранить существующие структуры, другие – изменить их. По мере того как углубляется антагонизм между темами, которые являются отражением реальности, появляется тенденция к мифологизации этих тем и самой реальности, создающая атмосферу иррациональности и сектантства. Эта атмосфера угрожает выцедить из этих тем их глубокий смысл и лишить их характерного динамического аспекта. В такой ситуации сама порождающая мифы иррациональность становится основополагающей темой. Противоположная ей тема – критический и динамичный взгляд на мир – стремится выявить истинную сущность реальности, сорвать с нее маску мифологизации и достичь полного осознания задачи человека: постоянной трансформации реальности во благо освобождения людей.
В конечном счете эти темы[130] содержат в себе ограничивающие ситуации и содержатся в них. Задачи, которые они предполагают, требуют действий против ограничений. Когда эти темы скрыты ограничивающими ситуациями и из-за этого не могут ясно восприниматься, соответствующие задачи – реакции людей, выражающиеся в их исторической деятельности, – не могут быть выполнены критически и по-настоящему. При таких обстоятельствах люди не способны выйти из ограничивающей ситуации и увидеть, что за ее пределами – и в противовес ей – существует некая неопробованная возможность.
Итак, ограничивающие ситуации предполагают существование людей, которым эти ситуации прямо или косвенно выгодны, и тех, чье существование с их помощью отрицается и кого они ставят в подчиненное положение. Как только последние начинают воспринимать эти ситуации как рубеж, отделяющий «бытие» от «бытия в качестве более полноценного человека», а не как рубеж между бытием и небытием, они начинают направлять свои все более критические действия на достижение неопробованной возможности, которую подразумевает такое восприятие. И в то же время те, кому выгодна существующая ограничивающая ситуация, относятся к этой неопробованной возможности как к угрозе, которая не должна материализоваться, и их действия направлены на поддержание статус-кво. Следовательно, освободительные действия над историческим окружением должны соответствовать не только «генеративным темам», но и тому, как эти темы воспринимаются. Это требование, в свою очередь, влечет за собой еще одно: исследование значимых тем.
«Генеративные темы» можно представить в виде концентрических окружностей – от общего к частному. Самая обширная эпохальная единица, которая включает в себя ряд разнообразных единиц и подъединиц – континентальных, региональных, национальных и т. д., – содержит темы универсального характера. Я считаю, что основополагающая тема нашей эпохи – это тема господства, которая подразумевает свою противоположность – тему освобождения как цель, которую необходимо достичь. Именно эта мучительная тема придает нашей эпохе антропологический характер, упоминавшийся ранее. Для того чтобы достичь гуманизации, которая предполагает искоренение дегуманизирующего угнетения, совершенно необходимо преодолеть ограничивающие ситуации, в которых люди превращаются в вещи.
Внутри более мелких окружностей мы найдем темы и ограничивающие ситуации, характерные для обществ (на одном или на разных континентах), которые на основе этих тем и ситуаций имеют исторические сходства. Например, недоразвитость, которую нельзя понять в отрыве от отношений зависимости, представляет собой ограничивающую ситуацию, характерную для обществ третьего мира. Задача, которую подразумевает эта ограничивающая ситуация, заключается в преодолении противоречивых отношений между такими обществами-«объектами» и обществами-метрополиями. Эта задача представляет собой неопробованную возможность для стран третьего мира.
Любое общество внутри более широкой эпохальной единицы содержит, помимо универсальных, континентальных или исторически схожих тем, свои собственные темы и собственные ограничивающие ситуации. Внутри еще более мелких окружностей можно обнаружить различные темы в одном и том же обществе, разделенном на регионы и подрегионы, каждый из которых связан с обществом в целом. Они представляют собой эпохальные подъединицы. Например, внутри одной национальной единицы можно обнаружить противоречивое «сосуществование неединовременного».
Внутри этих подъединиц национальные темы могут восприниматься или не восприниматься во всей их значимости. Люди могут их просто чувствовать, а иногда и этого не происходит. Но отсутствие тем внутри подъединиц попросту невозможно. Тот факт, что индивиды, проживающие на определенной территории, не воспринимают ту или иную «генеративную тему» или воспринимают ее искаженно, может лишь подтверждать существование ограничивающей ситуации угнетения, в которую до сих пор погружены люди.
В целом угнетаемое сознание, которое еще не осознало ограничивающую ситуацию во всей ее полноте, видит только ее вторичные проявления и перекладывает на них подавляющую силу, которая является атрибутом ограничивающей ситуации[131]. Этот факт крайне важен для исследования «генеративных тем». Когда людям не хватает критического понимания реальности, в которой они существуют, они воспринимают ее в виде фрагментов: они не могут взглянуть на них как на взаимодействующие между собой части целого и не способны по-настоящему познать свою реальность. Чтобы по-настоящему познать ее, им бы пришлось выбрать совсем иную исходную точку, а именно обрести полное восприятие всего контекста для того, чтобы затем отделить и изолировать его составляющие и посредством этого анализа достичь более ясного восприятия целого.
Как для методологии тематического исследования, так и для педагогического метода постановки проблем характерна цель рассмотреть значимые аспекты контекстуальной реальности, в которой живет индивид, – анализ этой реальности позволит ему увидеть взаимодействие различных ее элементов. Между тем эти значимые аспекты, которые, в свою очередь, состоят из взаимодействующих между собой частей, следует воспринимать как аспекты единой реальности. Таким образом, критический анализ существенного экзистенциального аспекта делает возможным новое, критическое отношение к ограничивающим ситуациям. Восприятие и понимание реальности корректируются и приобретают новую глубину. Когда исследование «генеративной темы», содержащейся в минимальной тематической вселенной (которая представляет собой взаимодействующие «генеративные темы»), проводится по методологии консайентизации, оно таким образом знакомит или начинает знакомить людей с критической формой мышления об их мире.
Однако, в случае, если люди воспринимают реальность как плотную, непроницаемую и обволакивающую, необходимо исследование посредством абстракции. Этот метод подразумевает не сведение конкретного к абстрактному (это стало бы отрицанием его диалектической сущности), а сохранение обоих элементов в качестве двух противоположностей, которые диалектически взаимодействуют между собой в ходе размышления. Прекрасным примером этого диалогического течения мысли служит анализ конкретной экзистенциальной «закодированной» ситуации[132]. Ее «дешифровка» требует движения от абстрактного к конкретному. Это подразумевает переход от частного к целому, а затем – возвращение к частному, что, в свою очередь, требует, чтобы Субъект узнал себя в объекте (в конкретной закодированной экзистенциальной ситуации) и воспринял объект как ситуацию, в которой он находится вместе с другими Субъектами. Если декодирование проводится успешно, это напоминающее приливы и отливы движение от абстрактного к конкретному, которое происходит в ходе анализа зашифрованной ситуации, ведет к преодолению абстракции при помощи критического восприятия конкретного, которое уже перестало быть плотной, непроницаемой реальностью.
Сталкиваясь с закодированной экзистенциальной ситуацией (зарисовкой или фотографией, которая через абстракцию ведет к конкретности экзистенциальной реальности), человек склонен «расщеплять» эту закодированную ситуацию. В процессе расшифровки это разделение соответствует стадии, которую мы называем «описанием ситуации», и оно облегчает обнаружение взаимодействия между частями расчлененного целого. Это целое (зашифрованная ситуация), которое прежде воспринималось лишь разрозненно, начинает обретать смысл по мере того, как мысль течет обратно к нему от его частных аспектов. Однако, поскольку кодирование – это отображение экзистенциальной ситуации, дешифровщик склонен делать шаг от этого отображения к самой что ни на есть конкретной ситуации, в которой он находится и с которой взаимодействует. Таким образом, возможно понятийно объяснить, почему индивиды начинают по-другому себя вести по отношению к объективной реальности, как только она перестает выглядеть как тупик и обретает свою истинную сущность, превращаясь в вызов, на который человек должен ответить.
На всех стадиях дешифровки люди внешне выражают свой взгляд на мир. И в том, как они мыслят о мире и как взаимодействуют с ним – фаталистично, динамично или статично, – можно увидеть их «генеративные темы». Группа, которая не выражает свою «генеративную тематику» конкретно (факт, который, как может показаться, свидетельствует об отсутствии этих тем), напротив, доказывает наличие крайне важной темы – темы молчания. Тема молчания указывает на систему немоты перед лицом подавляющей силы ограничивающих ситуаций.
Нам следует еще раз подчеркнуть, что «генеративную тему» нельзя обнаружить в людях, оторванных от реальности, или в реальности, оторванной от людей, и уж тем более на «ничейной земле». Ее можно понять лишь в контексте взаимоотношений мира и человека. Исследовать «генеративную тему» – значит исследовать мышление человека касательно реальности и действий, которые он производит над ней, то есть его праксис. Именно по этой причине предлагаемая нами методология требует, чтобы исследователи и люди (которые обычно рассматриваются в качестве объектов этого исследования) действовали как соисследователи. Чем активнее люди ведут себя по отношению к исследованию собственных тем, тем больше они углубляют свое критическое понимание реальности и, истолковывая эти темы, овладевают ею.
Некоторые могут подумать, что не стоит подключать людей в качестве исследователей к поиску их собственных значимых тем, что их навязчивое вмешательство (NB: «вмешательство» тех, кто наиболее заинтересован – или должен быть заинтересован – в собственном образовании) «искажает» результаты и тем самым подрывает объективность исследования. Это мнение ошибочно предполагает, что темы существуют в изначальном, объективном, чистом виде, вне людей, словно темы – это предметы. На самом же деле темы существуют в людях и в их взаимоотношениях с миром, в контексте конкретных фактов. Один и тот же объективный факт может породить совокупности разных «генеративных тем» в разных эпохальных подъединицах. Таким образом, существует связь между данным объективным фактом, человеческим восприятием этого факта и «генеративными темами».
Та или иная значимая тема выражается людьми, и определенный момент выражения будет отличаться от более раннего момента, если человек изменил свое восприятие объективных фактов, с которыми связаны эти темы. С точки зрения исследователя, самое важное – зафиксировать начальную точку, в которой люди визуализируют «данность», и удостовериться, произошли ли в процессе исследования какие-либо изменения в их восприятии реальности. (Объективная реальность, разумеется, остается неизменной. Если в ходе исследования изменяется восприятие этой реальности, это никоим образом не подрывает адекватность исследования.)
Мы должны осознавать, что стремления, мотивы и цели, которые подразумевает определенная значимая тема, – это человеческие стремления, мотивы и цели. Они существуют не «где-то там», неизвестно где, как некие статичные сущности, – они происходят. Они столь же историчны, как и сами люди. Следовательно, их нельзя понять в отрыве от последних. Постичь смысл этих тем и понять их – значит понять и людей, которые их воплощают, и реальность, к которой они относятся. Но именно потому, что невозможно понять эти темы в отрыве от людей, необходимо, чтобы все заинтересованные также поняли их. Таким образом, тематическое исследование становится общим стремлением к осознанию реальности и собственного «я», что превращает это исследование в начальную точку образовательного процесса или культурной деятельности освободительного характера.
Настоящая опасность такого исследования заключается не в том, что его предполагаемые объекты, обнаружив себя в роли соисследователей, могут «исказить» аналитические результаты. Напротив, опасность заключается в риске сместить фокус исследования со значимых тем на самих людей, тем самым превращая последних в объекты исследования. Поскольку это исследование должно служить основой для разработки образовательной программы, в которой учитель-ученик и ученики-учителя совместно познают один и тот же объект, оно само также должно быть основано на взаимодействии.
Тематическое исследование, которое осуществляется в человеческом мире, не может сводиться к механическим операциям. Будучи процессом поиска, обретения знания, а следовательно, созидания, оно требует, чтобы исследователи интерпретировали проблемы, связывая между собой значимые темы. Исследование будет наиболее образовательным, когда станет наиболее критичным, а наиболее критичным – когда его участники начнут избегать принципов ограниченного, или «сфокусированного», взгляда на реальность и начнут стремиться к полному пониманию реальности. Таким образом, процесс поиска значимых тем должен включать в себя внимание к связям между темами, задачу постановки этих тем в качестве проблем и внимание к их историко-культурным контекстам.
Точно так же, как педагог не может разрабатывать программу для людей, так и исследователь не может разрабатывать «путеводители» для исследования тематической вселенной, отталкиваясь от принципов, которые предопределил он сам. Как образование, так и исследование, существующее для его поддержки, должны быть «сострадательными» видами деятельности, в этимологическом смысле этого слова. Другими словами, они должны включать в себя общение и совместный опыт существования в реальности, которая воспринимается во всей сложности ее постоянного «становления».
Исследователь, который во имя научной объективности превращает живое в неживое, нечто становящееся – в нечто существующее, жизнь – в смерть, – это человек, который боится изменений. Он воспринимает изменения (он их не отрицает, но и не жаждет) не как признак жизни, а как признак смерти и разложения. Да, он хочет изучать их, но для того, чтобы остановить, а не для того, чтобы стимулировать или углубить их. Однако, воспринимая изменения как признак смерти и превращая людей в пассивные объекты исследования ради того, чтобы прийти к жестким моделям, он выдает собственный характер уничтожителя жизни.
Повторяю, исследование тематик включает в себя исследование мышления людей – мышления, которое возникает только в людях и среди людей, вместе стремящихся познать реальность. Я не могу думать за других или вместо других, так же как и другие не могут думать за меня. Пусть люди мыслят суеверно или наивно, но лишь вновь обдумывая свои предположения через действие, они способны измениться. Созидание и действие на основе своих собственных идей, а не потребление идей чужих должны служить основой этого процесса.
Люди как существа, находящиеся «в ситуации», оказываются прикованными к определенным пространственно-временным условиям, которые оставляют на них след и на которых след оставляют они сами. Они будут стремиться размышлять над собственной ситуационностью до тех пор, пока не почувствуют, что она бросает им вызов, призывая воздействовать на нее. Люди существуют, потому что они существуют в какой-то ситуации. И они тем быстрее будут становиться чем-то большим, чем больше они не только критически размышляют над собственным существованием, но и критически воздействуют на него.
Размышление о ситуационности – это размышление о самом что ни на есть основном условии существования – о критическом мышлении, посредством которого люди начинают видеть друг друга находящимися в определенной ситуации. Лишь когда эта ситуация перестает восприниматься как плотная, обволакивающая реальность или как мучительный тупик и они могут начать воспринимать ее как объективно проблематичную ситуацию – лишь тогда они могут посвятить себя какой-то цели. Люди выходят из состояния погруженности и обретают способность вмешиваться в реальность по мере того, как раскрывается ее суть. Таким образом, вмешательство в реальность – сама историческая осознанность – это шаг, который следует за выходом из состояния погруженности и возникает как результат консайентизации существующей ситуации. Консайентизация – это углубление осознанности, характерное для любого выхода из состояния погруженности.
Таким образом, любое тематическое исследование, которое углубляет историческую осознанность, является поистине обучающим, а настоящее обучение всегда исследует процесс мышления. Чем больше педагоги и другие люди исследуют мышление человека и тем самым вместе обучаются, тем дальше простираются их исследования. Обучение и тематическое исследование в рамках методики постановки проблем представляют собой лишь разные этапы одного и того же процесса.
В отличие от антидиалогических и антикоммуникативных «вкладов банковского метода» содержание программы в методике постановки проблем, которая является преимущественно диалогической, составляется и систематизируется на основе мировоззрения учеников, в котором обнаруживаются их «генеративные темы». Таким образом, содержание программы постоянно расширяется и обновляется. Задача диалогического педагога, в составе междисциплинарной команды работающего над тематической вселенной, которую выявляет их исследование, заключается в том, чтобы представить «отображение» этой вселенной для людей, от которых он ее изначально и получил, и «отобразить» ее не в форме лекции, а в форме проблемы.
Скажем, к примеру, что группе поручено координировать план образования взрослых граждан в сельской местности с высоким процентом безграмотности. План включает в себя кампанию по ликвидации безграмотности и стадию дальнейшего обучения. В ходе первого этапа методика постановки проблем составит задачу найти и исследовать «генеративное слово». На стадии дальнейшего обучения проходит поиск и исследование «генеративной темы».
Однако здесь мы с вами рассмотрим только исследование «генеративных тем», или значимых тематик[133]. После того как исследователи определили, в каком регионе они будут работать и заранее ознакомились с ним через вторичные источники, начинается первая стадия исследования. Это начало (как и начало любой другой человеческой деятельности) предполагает определенные трудности и риски, которые в определенной степени нормальны, хотя не всегда очевидны при первом контакте с гражданами, проживающими в этом регионе. Во время этого первого взаимодействия исследователям необходимо убедить значительное количество людей прийти на неформальную встречу, чтобы поговорить о целях, с которыми они приехали. Во время этой встречи они объясняют причины своего исследования, то, как оно будет проводиться и для чего будет использовано. Затем они объясняют, что это исследование будет невозможно провести без отношений взаимного доверия и понимания. Если участники соглашаются и на проведение исследования, и на дальнейший процесс[134], исследователям следует пригласить волонтеров из числа участников на роль помощников. Эти волонтеры помогут собрать необходимые сведения о жизни людей в данной местности. Однако еще важнее активное участие этих волонтеров в процессе самого исследования.
Между тем исследователи начинают посещать выбранную местность, никогда не навязываясь, выступая в роли сочувствующих наблюдателей и проявляя понимание по отношению к тому, что они видят. Хотя исследователи, приезжающие в ту или иную местность, являются носителями определенных личностных ценностей, которые влияют на их восприятие (что само по себе нормально), это не означает, что они могут превращать тематическое исследование в способ навязывать их.
Единственный аспект этих ценностей, который, как хотелось бы надеяться, смогут перенять люди, темы которых исследуются, – это критическое восприятие мира, предполагающее правильный метод подхода к реальности, нацеленный на раскрытие ее сути (предполагается, что исследователи обладают этим качеством). Критическое восприятие нельзя навязать. Таким образом, с самого начала тематическое исследование представляет собой образовательную работу, культурную деятельность.
Во время своих визитов исследователи ставят себе критическую «цель» в отношении изучаемой территории – так, будто для них она является огромным неповторимым живым кодом, который необходимо расшифровать. Они воспринимают этот регион как нечто целое и, раз за разом приезжая туда, пытаются «расщепить» его, анализируя частные аспекты, которые их впечатляют. Через этот процесс они расширяют свое понимание того, как взаимодействуют разные составляющие, что в будущем поможет им проникнуть в суть целого.
Во время этой стадии расшифровки исследователи наблюдают определенные моменты жизни людей в этой местности – иногда напрямую, иногда через неформальные беседы с жителями. Они фиксируют все в своих записных книжках, включая с виду незначительные пункты: как люди разговаривают, их стиль жизни, поведение в церкви и на работе. Они записывают язык – выражения, лексикон и синтаксис (не ошибки в произношении, а присущий местным жителям способ формулирования мысли)[135].
Крайне важно, чтобы исследователи наблюдали за жизнью в этой местности в разных обстоятельствах: работа на полях, встречи местного товарищества (следует отмечать особенности поведения участников, используемый ими язык и отношения между председателями и членами), роль женщин и молодых людей, досуг, игры и спорт, разговоры с людьми у них дома (следует отмечать особенности взаимоотношений между мужем и женой, а также между родителями и детьми). Никакая деятельность не должна укрыться от внимания исследователей во время первоначального изучения области.
После каждого посещения исследователю следует составлять краткий отчет для обсуждения с остальными членами команды, чтобы оценить предварительные результаты, полученные как профессиональными исследователями, так и местными ассистентами. Чтобы облегчить участие ассистентов, обсуждения предварительных результатов должны проводиться непосредственно в изучаемой местности.
Обсуждение результатов представляет собой вторую стадию дешифровки уникального живого кода. Когда каждый человек в своем эссе описывает, как он воспринял и ощутил на себе определенный случай или ситуацию, его толкование усложняет задачу другим дешифровщикам, воспроизводя для них ту же самую реальность, на которую ориентировались они сами. В этот момент они на основе чужих наблюдений пересматривают свои собственные, прежние наблюдения. Таким образом, анализ, проведенный каждым отдельным дешифровщиком, диалогически отсылает их всех назад к расчлененному целому, которое вновь становится совокупностью, требующей от исследователей нового анализа, после которого будет проведено новое критическое обсуждение результатов. Представители местных жителей всегда участвуют в деятельности членов исследовательской команды.
Чем больше члены группы разделяют и вновь объединяют целое, тем ближе они подходят к ядрам основных и второстепенных противоречий, в которые вовлечены жители региона. Отыскивая эти противоречия, исследователи на данной стадии могут даже составить содержание своей образовательной программы. На самом деле, если содержание программы отражает эти противоречия, она, несомненно, включает значимые для этой области темы. И можно с уверенностью заявлять, что действия, основанные на таких наблюдениях, увенчаются успехом с гораздо большей долей вероятности, чем те, что основаны на «распоряжениях сверху». Однако исследователям не следует поддаваться на этот соблазн. Основная задача, начиная с поиска ядер этих противоречий (которые включают в себя основные противоречия социума как более крупной эпохальной единицы), заключается в том, чтобы изучить уровень осознания этих противоречий самими жителями.
В сущности, эти противоречия представляют собой ограничивающие ситуации, включают в себя темы и очерчивают задачи. Если индивиды находятся в плену ограничивающих ситуаций и не способны отделить себя от них, их темой в отношении этих ситуаций будет фатализм, а задача, предполагаемая этой темой, – это отсутствие задачи. Таким образом, хотя ограничивающая ситуация – это объективная реальность, которая возбуждает в индивидах потребности, исследователям необходимо вместе с этими индивидами изучать уровень осознания ими этих ситуаций.
Ограничивающая ситуация, будучи конкретной реальностью, может породить совершенно противоположные темы и задачи для жителей разных регионов (и даже из подрегионов одного и того же региона). Таким образом, исследователи в первую очередь должны концентрироваться на изучении того, что Голдман называет реальным осознанием (англ. real consciousness) и потенциальным осознанием (англ. potential consciousness).
Реальное осознание – это результат множественных препятствий и отклонений, которые под воздействием разных факторов эмпирической реальности противопоставляются и предоставляются для осуществления потенциальным осознанием[136].
Реальное осознание предполагает невозможность восприятия неопробованной возможности, которая лежит за пределами ограничивающих ситуаций. Но, в то время как неопробованная возможность не может быть достигнута на уровне «реального [или текущего] осознания», ее можно осуществить посредством «опробования», которое выделяет ее ранее не осознававшуюся целесообразность. Неопробованная возможность и реальное осознание взаимосвязаны, так же как опробование и потенциальное осознание. Голдмановское понятие «потенциального сознания» напоминает то, что Николаи называет термином «невыявленные практические решения» (наша «неопробованная возможность»), которые противопоставлены «выявленным практическим решениям» или «текущим решениям»[137], соответствующим голдмановскому «реальному осознанию». Соответственно, тот факт, что на первой стадии исследования его участники могут приблизительно выявить совокупность противоречий, не дает им права начинать составление образовательной программы. Это все еще их восприятие реальности, а не то, которое свойственно людям.
Вторая стадия исследования начинается с выделения комплекса противоречий. Неизменно действуя как команда, исследователи выбирают некоторые из этих противоречий для разработки шифров, которые будут использоваться в тематическом исследовании. Поскольку эти шифры (зарисовки и фотографии[138]) являются объектами, которые направляют дешифровщиков в ходе критического анализа, создание этих шифров должно основываться на определенных принципах, отличных от тех, которые обычно используются при составлении наглядных пособий.
Первое требование заключается в том, что эти шифры обязательно должны отражать ситуации, знакомые индивидам, чья тематика изучается, чтобы они могли легко распознать эти ситуации (а значит, и понять, как они сами соотносятся с ними). Недопустимо (как во время процесса исследования, так и на последующей стадии, когда значимая тематика представляется в качестве содержания программы) использование изображений реальности, которые незнакомы участникам. Такая процедура (хоть она и диалектична, поскольку, анализируя незнакомую им реальность, индивиды могли бы сравнить ее со своей собственной и обнаружить ограничения, присущие как первой, так и второй) не может предшествовать более базовому процессу, продиктованному состоянием погруженности, в котором находятся участники, то есть процессу, в ходе которого индивиды, анализируя свою собственную реальность, начинают осознавать свое прежнее искаженное восприятие и тем самым приобретают новое восприятие этой реальности.
Столь же основополагающим требованием подготовки шифров является необходимость сделать так, чтобы их тематическое ядро не было ни слишком эксплицированным, ни слишком завуалированным. В первом случае они могут превратиться в обычную пропаганду, так что не потребуется никакой дешифровки помимо изложения очевидно предопределенного содержания. Поскольку они отражают экзистенциальные ситуации, шифры должны быть простыми в своей сложности и предусматривать различные варианты дешифровки, дабы избежать промывки мозгов, свойственной пропаганде. Шифры – это не слоганы, это познаваемые объекты, задачи, на которые должно быть направлено критическое мышление дешифровщиков.
Для того чтобы предусмотреть различные возможности анализа в ходе процесса дешифровки, шифры следует составить в виде «тематического веера». Когда дешифровщики размышляют над ними, коды должны раскрываться в направлении других тем. Это раскрытие (которого не происходит, если тематическое содержание слишком эксплицировано или слишком завуалировано) незаменимо для восприятия диалектических взаимоотношений, существующих между темами и их противоположностями. Соответственно, шифры, отражающие социальную ситуацию, должны образовывать объективное единство. Все элементы должны взаимодействовать, составляя целое.
В процессе дешифровки участники внешне выражают свои темы и тем самым эксплицируют свое «реальное осознание» мира. Делая это, они начинают видеть, как они сами действовали, непосредственно находясь в той ситуации, которую они теперь анализируют и тем самым достигают «восприятия своего прежнего восприятия». Обретая это осознание, они начинают по-другому воспринимать реальность; по мере того как расширяется горизонт их восприятия, им становится проще обнаруживать в своем «фоновом осознании» диалектические взаимоотношения между двумя аспектами реальности.
Стимулируя «восприятие прежнего восприятия» и «знание прежнего знания», дешифровка стимулирует также и появление нового восприятия, и развитие нового знания. Эти новые восприятие и знание систематически продолжаются по мере введения образовательного плана, который превращает неопробованную возможность в опробование, по мере того как потенциальное осознание встает на место реального осознания.
Процесс подготовки шифров также требует, чтобы они, насколько это возможно, были «всесторонними» и отражали все противоречия, которые составляют общую систему противоречий изучаемого региона[139]. Во время подготовки каждого из этих «всесторонних» шифров также должны кодироваться и другие «содержащиеся» в них противоречия. Дешифровка первых будет диалектически проясняться по мере дешифровки последних.
В связи с этим очень ценный вклад в наш метод был внесен Габриэлем Боде, молодым чиновником из Чили, который работает в одном из самых важных государственных учреждений страны – Институте сельскохозяйственного развития (исп. Instituto de Desarollo Agropecuario)[140]. Во время использования этого метода на стадии дальнейшего обучения сам Боде заметил, что крестьяне начинали проявлять интерес к обсуждению, только когда шифры непосредственно относились к их наболевшим проблемам. На любое отклонение в шифрах, как и на любые попытки педагога направить обсуждение дешифровки в иное русло, участники отвечали молчанием или равнодушием. Кроме того, он заметил, что, даже когда содержание шифров[141] было сфокусировано на их проблемах, крестьяне не могли систематически концентрироваться на обсуждении, часто отклонялись от темы и никогда не доходили до обобщения. Также они почти никогда не замечали связи между их проблемами и прямыми или косвенными причинами этих проблем. Можно сказать, что они оказывались не способны воспринять неопробованную возможность, лежащую за пределами ограничивающей ситуации, которая порождала их проблемы.
Тогда Боде решил поэкспериментировать и попробовал одновременно проецировать разные ситуации – эта техника и стала его самым ценным достижением. Сначала педагог проецирует очень простой шифр определенной экзистенциальной ситуации. Боде называет свой первый шифр «основным». Этот шифр представляет собой базовое ядро и раскрывается в тематический веер «вспомогательных» шифров. После того как ученики расшифровывают основной шифр, преподаватель сохраняет этот спроецированный образ, отсылая к нему участников, и на его фоне успешно проецирует вспомогательные шифры. При помощи этих вспомогательных шифров, которые непосредственно связаны с основным шифром, он поддерживает в участниках живой интерес, и в результате им удается прийти к обобщению.
Большое достижение Габриэля Боде заключается в том, что, показав диалектическую взаимосвязь между основными и вспомогательными шифрами, он смог передать участникам ощущение целостности. Индивиды, которые погружены в реальность и только лишь чувствуют свои потребности, выходят из этой реальности и начинают видеть причины своих нужд. Таким образом они могут превзойти уровень реального осознания и гораздо быстрее перейти к потенциальному осознанию.
Когда шифры подготовлены и все их возможные тематические грани изучены междисциплинарной командой, исследователи запускают третью стадию исследования, возвращаясь на изучаемую территорию, чтобы начать декодирующие диалоги в «кружках тематического исследования»[142]. Эти обсуждения, в ходе которых расшифровывается подготовленный на предшествующей стадии материал, записываются на пленку, чтобы междисциплинарная группа могла провести дальнейший анализ[143]. Вдобавок к тому, что исследователь выступает в роли координатора дешифровки, встречи посещают два других специалиста – психолог и социолог. Их задача заключается в том, чтобы подмечать и записывать существенные (или с виду несущественные) реакции дешифровщиков.
Во время дешифровки координатор должен не только слушать учеников, но также провоцировать их на рассуждение, представляя в качестве проблем как зашифрованную экзистенциальную ситуацию, так и их собственные ответы. Благодаря очистительной силе этой методологии члены кружков тематического исследования выражают ряд чувств и мнений о себе, о мире, о других людях, которые они, возможно, не стали бы выражать в других обстоятельствах.
Во время одного из тематических исследований[144], проводившегося в Сантьяго, группа местных жителей из трущоб обсуждала следующую ситуацию: пьяный шагает по улице, трое молодых людей разговаривают на углу. Члены группы отметили, что «единственный, кто плодотворно работает и кто полезен для своей страны, это пьяница, который возвращается домой, весь день проработав за маленькую зарплату, и который волнуется о своей семье, потому что не может в должной мере удовлетворить ее потребности. Он – единственный работник. Он – честный работник и пьяница, как мы».
Исследователь[145] намеревался поговорить об аспектах алкоголизма. Возможно, он не добился бы приведенных выше ответов, если бы предоставил участникам вопросник, разработанный им самим. Если бы их спросили напрямую, они, быть может, и вовсе не признались бы, что выпивают. Но, комментируя зашифрованную экзистенциальную ситуацию, которую они смогли распознать и в которой смогли узнать себя, они высказали то, что чувствовали на самом деле.
Их комментарии имеют два важных аспекта. С одной стороны, они вербализируют связь между низким уровнем заработной платы, ощущением людей, что их эксплуатируют, и пьянством: пьянство как бегство от реальности, как попытка преодолеть фрустрацию бездействия, как неизбежно саморазрушительный выбор. С другой стороны, они демонстрируют потребность высоко оценивать пьяницу. Он – «единственный, кто полезен для своей страны, потому что он работает, пока остальные только болтают». Похвалив пьяницу, участники затем отождествляют себя с ним, как работники, которые тоже пьют, – «честные работники».
Для сравнения представьте себе, какой провал постиг бы педагога-моралиста[146], который стал бы читать проповеди против алкоголизма, представляя в качестве примера добродетели нечто, что для этих людей выражением добродетели не является. В этом и в других случаях единственной благоразумной процедурой будет консайентизация ситуации, которой следует добиваться с самого начала тематического исследования. (Разумеется, консайентизация не заканчивается на уровне простого субъективного восприятия ситуации, а через действие готовит людей к борьбе против препятствий, стоящих на пути их гуманизации.)
В другом случае, на этот раз с крестьянами, я заметил, что неизменным мотивом на протяжении всего обсуждения ситуации, изображавшей работу на полях, было требование увеличить заработную плату и признание необходимости объединиться, чтобы создать союз и добиться этой конкретной цели. В ходе сессии обсуждались три различные ситуации, но мотив оставался одним и тем же.
Теперь представьте себе педагога, который составил для этих людей свою образовательную программу, основанную на чтении «благоразумных» текстов, из которых можно узнать, что «вода находится в колодце». Но именно это все время и происходит как в образовании, так и в политике, потому что люди не осознают, что диалогическая природа образования начинается с тематического исследования.
После того как завершается расшифровка в тематических кружках, начинается последняя стадия исследования, когда исследователи осуществляют систематическое междисциплинарное изучение полученных результатов. Прослушивая записи, сделанные во время сессий дешифровки, изучая сделанные психологами и социологами замечания, исследователи начинают составлять список тем, эксплицитно или имплицитно выраженных в утверждениях, сделанных участниками во время этих сессий. Эти темы должны быть классифицированы по различным социальным наукам. Классификация не означает, что при разработке программы эти темы будут восприниматься как принадлежащие к изолированным категориям, но лишь что определенная тема будет рассматриваться особым образом в рамках каждой социальной науки, с которой она связана. К примеру, тема развития особенно подходит для области экономики, но не только для нее. На этой теме также будут фокусироваться социология, антропология и социальная психология (области, изучающие культурные изменения и модификации человеческих мнений и ценностей, то есть вопросы, которые в равной степени относятся и к философии развития). На ней будет фокусироваться политология (область, изучающая решения, которые включают в себя развитие), педагогика и т. д. Таким образом, к темам, которые характеризуют одно целое, никогда не следует подходить жестко. Было бы очень жаль, если бы после исследования этих тем во всем богатстве их взаимопроникновения с другими аспектами реальности с ними стали бы обращаться так, что их богатство (а следовательно, и их мощь) оказалось бы принесенным в жертву строгости специалистов.
По завершении разграничения тем каждый специалист предоставляет междисциплинарной команде проект «изложения» своей темы. Излагая свою тему, он ищет основные ядра, которые, составляя единицы изучения и выстраиваясь в определенную последовательность, представляют общий обзор темы. По мере того, как обсуждается каждый конкретный проект, другие специалисты выдвигают свои предложения. Они могут быть включены в проект и/или краткое эссе, которые следует написать по каждой теме. Эти эссе, к которым прилагаются рекомендуемые списки литературы, представляют собой ценные наглядные пособия при подготовке учителей-учеников, которые будут работать в «культурных кружках».
В ходе этих попыток изложить значимые темы команда осознает необходимость включить в программу некоторые основополагающие темы, которые не были предложены никем напрямую во время предыдущих стадий исследования. Введение этих тем представляется необходимым, а также соответствует диалогическому характеру образования. Если составление образовательной программы диалогично, значит, ученики-учителя также имеют право участвовать в выборе ранее не предложенных тем. Я называю последние «буферными темами» из-за их функции. Они могут либо упростить связывание двух других тем в одном из разделов программы, заполнив возможный пробел между ними, либо проиллюстрировать взаимоотношения между основным содержанием программы и мировоззрением людей. Таким образом, одна из этих тем может быть включена в начало тематических единиц.
Антропологический характер культуры – это одна из подобных буферных тем. Она проясняет роль людей в мире и их взаимодействие с миром в роли трансформирующих, а не приспосабливающихся созданий[147].
По завершении процесса изложения тем[148] начинается стадия их кодификации – выбора наилучшего канала коммуникации для каждой темы и ее отображения. Кодификация может быть простой или сложной. Для первой используются либо визуальные (иллюстрации или графические изображения), либо тактильные, либо аудиальные средства. Для последней используются различные каналы[149]. Выбор графических средств зависит не только от кодируемого материала, но также и от уровня грамотности индивидов, с которыми предстоит общаться.
После кодификации тем начинается подготовка дидактического материала (фотографий, слайдов, фильмов, плакатов, текстов для чтения и т. д.). Члены команды могут предложить темы или аспекты некоторых тем приглашенным специалистам в качестве тем для записываемых интервью.
Давайте возьмем в качестве примера тему развития. Команда обращается за помощью к двум или более экономистам, принадлежащим к различным школам, рассказывает им о программе и приглашает их для интервью на языке, который будет понятен аудитории. Если специалисты принимают приглашение, записывается интервью длиной 15–20 минут. Можно сделать снимок каждого из специалистов, пока тот говорит.
Перед тем как представить записанное интервью культурному кружку, необходимо озвучить, кем является говорящий, что он написал, сделал или чем занимается сейчас. В это время на экран проецируется фотография выступающего. К примеру, если говорящий – это университетский преподаватель, вступление может включать обсуждение того, что участники думают об университетах и чего ждут от них. Группе уже объяснили, что после записи интервью состоится обсуждение его содержания (которое служит аудиошифром). Затем команда докладывает специалисту о реакциях участников во время дискуссии. Эта техника помогает интеллектуалам, которые часто руководствуются благими намерениями, но нередко оказываются отчужденными от реальности народа, наладить контакт с этой реальностью. Она также дает людям возможность послушать и покритиковать мысли интеллектуалов.
Некоторые темы или ядра могут быть представлены в виде коротких инсценировок, содержащих в себе только темы, но не решения! Инсценировка служит шифром, ситуацией, позиционирующей проблему, которую следует обсудить.
Еще один дидактический источник (постольку, поскольку он используется для постановки проблем, а не как составляющая «банковского» подхода к образованию) – это чтение и обсуждение журнальных статей, газет и глав из книг (начиная с отдельных абзацев). Как и в этом случае с записыванием интервью, перед тем как начинать дискуссию в группе, необходимо представить автора, после чего обсуждается содержание.
Аналогично, необходимо анализировать содержание передовых газетных статей, выходящих после определенных событий: «Почему разные газеты столь по-разному интерпретируют один и тот же факт?» Такая практика помогает развить критичность, так что люди начинают реагировать на газеты и сводки новостей не как пассивные объекты, принимающие направленные на них «формальные уведомления», а как существа, обладающие сознанием, которое стремится быть свободным.
Когда готов весь дидактический материал, к которому следует добавить небольшие вступительные брошюры, команда педагогов может представить людям их собственные темы в систематизированной и расширенной форме. Эти темы, полученные от самих людей, возвращаются к ним – но не в качестве содержания, которое следует принять как некий вклад, а в качестве проблем, которые необходимо решить.
Первоочередная задача педагогов, занимающихся базовым образованием, – представить общую программу образовательной кампании. Люди обнаружат себя участниками этой программы, и она не будет казаться им странной, поскольку они участвовали в ее создании. Педагоги также объяснят (на основе диалогического характера образования) наличие в программе буферных тем и их значение.
Если педагогам не хватает средств для того, чтобы провести предварительное тематическое исследование так, как описано выше, они могут, обладая минимальными знаниями о ситуации, выбрать некоторые базовые темы, которые будут служить «шифрами для изучения». Соответственно, они могут начать со вступительных тем и одновременно запустить дальнейшее тематическое исследование.
Одна из этих базовых тем (которую я считаю центральной и обязательной) – это антропологический характер культуры. Не важно, являются ли люди крестьянами или городскими рабочими, учатся они читать или участвуют в программе дальнейшего образования: обсуждение этого аспекта должно быть точкой отсчета в поиске дальнейших знаний (в инструментальном смысле слова). Обсуждая мир культуры, они выражают свой уровень осознания реальности, который подразумевает различные темы. Их обсуждение затрагивает различные аспекты реальности, которую они начинают воспринимать все более и более критично. В свою очередь, эти аспекты включают многие другие темы.
Обладая большим опытом, я могу утверждать, что понятие культуры, когда его обсуждают, обращая внимание на все его признаки или на большинство этих признаков, может обеспечить множество различных аспектов образовательной программы. Вдобавок после нескольких дней диалога с членами культурного кружка педагоги могут прямо спросить участников: «Какие еще темы или предметы мы можем обсудить, кроме этих?» По мере того как каждый участник отвечает, сказанное им фиксируется и немедленно предлагается группе в качестве проблемы.
К примеру, один из членов группы может сказать: «Я не прочь поговорить о национализме». «Что ж, хорошо!» – говорит педагог, записывая его предложение, и добавляет: «Что такое национализм? Почему нас интересует обсуждение национализма?» Мой опыт показывает, что, когда то или иное предложение позиционируется для группы как проблема, всплывают новые темы. Если в районе, где, скажем, в один вечер встречаются 30 культурных кружков, все координаторы (педагоги) будут поступать именно так, центральная команда получит широкий спектр тематического материала для изучения.
Самое важное с точки зрения освободительного образования – сделать так, чтобы люди почувствовали себя хозяевами своего мышления, обсуждая мышление и взгляды на мир, эксплицитно и имплицитно выраженные в их собственных предложениях и высказываниях их товарищей. Поскольку этот взгляд на образование начинается с убежденности в том, что нельзя предлагать собственную программу, а необходимо искать ее содержание в диалогическом общении с людьми, он служит для внедрения педагогики угнетенных, в разработке которой должны участвовать и они сами.
Глава 4
Антидиалогизм и диалогизм как матрицы противоположных теорий культурной деятельности: первый – как инструмент угнетения, второй – как инструмент освобождения; теория антидиалогической деятельности и ее характерные черты: покорение, стремление разделять и властвовать, манипулирование и культурная интервенция; теория диалогической деятельности и ее характерные черты: сотрудничество, единство, организация и культурный синтез
В этой главе, где анализируются теории культурной деятельности, разработанные на основе антидиалогических и диалогических матриц, будут часто упоминаться мысли, сформулированные в предыдущих главах, – либо с целью развить эти идеи, либо чтобы прояснить смысл новых утверждений.
Для начала стоит вновь подчеркнуть, что человек как существо, ориентированное на праксис, отличается от животных, которые ориентированы исключительно на действие. Животные не анализируют мир – они погружены в него. Люди же, напротив, выныривают из этого мира, объективизируют его и, делая это, могут понять и трансформировать его посредством труда.
Животные, которым труд не свойствен, живут в некоем окружении, за пределы которого они выйти не способны. Следовательно, каждый вид животных живет в подходящем для него контексте, и эти контексты, хоть и открыты для человека, не могут взаимодействовать между собой.
Что касается человеческой деятельности, она состоит из действия и размышления: она представляет собой праксис, трансформацию мира. И как праксис она требует наличия истолковывающей ее теории. Человеческая деятельность – это теория и практика, размышление и действие. Ее нельзя сводить к пустословию или активизму, как мы уже подчеркивали в главе 2.
Знаменитое высказывание Ленина «без революционной теории не может быть и революционного движения»[150] означает, что революция достигается не через пустословие или активизм, а через праксис, то есть через размышление и действие, направленные на структуры, которые необходимо трансформировать. Революционное движение, борющееся за трансформацию этих структур, ни в коем случае не должно приписывать лидерам роль мыслителей, а угнетенным – простых исполнителей.
Если истинная преданность народу, которая подразумевает трансформацию угнетающей его реальности, требует наличия теории трансформирующей деятельности, эта теория обязана выделять людям основополагающую роль в процессе трансформации. Лидеры не могут относиться к угнетенным как к простым активистам, которым не следует давать возможности размышлять, а следует лишь поддерживать в них иллюзию действия, в то время как на самом деле ими все так же манипулируют, в данном случае – предполагаемые противники манипуляции.
Лидеры действительно несут ответственность за координацию революционной деятельности, а иногда и за управление, но отнимая у угнетенных право на праксис, они тем самым обесценивают и свой собственный праксис. Навязывая другим собственное слово, они подделывают его и порождают противоречие между своими методами и целями. Если они по-настоящему преданны делу освобождения, их действия и размышления не могут осуществляться в отрыве от действий и размышлений других людей.
Революционный праксис должен быть противопоставлен праксису доминирующей элиты, поскольку они антагоничны по своей природе. Революционный праксис не терпит абсурдной дихотомии, при которой праксис народа заключается лишь в том, чтобы следовать за решениями лидеров, – дихотомии, отражающей директивные методы доминирующей элиты. Революционный праксис – это единство, и лидеры не могут относиться к угнетенным как к своей собственности.
Манипулирование, выдумывание слоганов, внесение «банковских вкладов», муштровка и система предписаний не могут быть составляющими революционного праксиса именно потому, что они являются составляющими праксиса доминирования. Если правитель хочет господствовать, его единственный выбор – отнять у людей право на истинный праксис, право произносить собственное слово и самостоятельно мыслить. Он не может действовать на диалогической основе, ведь это означало бы, что он либо отказался от господства и присоединился к делу угнетенных, либо потерял власть по ошибке.
Революционные лидеры, которые не действуют на диалогической основе в своих взаимоотношениях с людьми, либо сохраняют характеристики господствующих правителей и не являются по-настоящему революционными, либо обладают совершенно неверным представлением о собственной роли и, находясь в плену своего сектантства, являются столь же антиреволюционными. Они могут даже добиться власти. Но ценность любой революции, произошедшей в результате антидиалогических действий, крайне сомнительна.
Чрезвычайно важно, чтобы угнетенные участвовали в революционном процессе, все более критически осознавая свою роль в качестве Субъектов трансформации. Я убежден, что если они вовлекаются в этот процесс, оставаясь двойственными созданиями (отчасти – самими собой и отчасти – угнетателями, которые таятся внутри их), и если они приходят к власти, все еще воплощая эту двойственность, навязанную им ситуацией угнетения, они будут лишь воображать, что достигли власти[151]. Их экзистенциальная двойственность может даже поспособствовать созданию атмосферы сектантства, что ведет к установлению бюрократических механизмов, препятствующих революции. Если угнетенные не осознают этой двойственности в ходе революционного процесса, они будут участвовать в нем, проявляя скорее реваншизм, чем стремление к революции[152]. Они могут жаждать революции как пути к достижению господства, но не к освобождению.
Если революционные лидеры, олицетворяющие истинный гуманизм, сталкиваются с проблемами и трудностями, то перед группой лидеров, которые пытаются (пусть даже исходя из самых благих намерений) осуществить революцию ради людей, встанут проблемы и трудности гораздо более серьезные. Их попытки равноценны осуществлению революции без людей, ведь последние вовлекаются в революционный процесс при помощи тех же методов и процедур, что используются для их угнетения.
Диалог с людьми крайне необходим для любой настоящей революции. Именно он делает ее революцией и отличает от военного переворота. От переворота никто не ждет диалога, а только лишь обмана (ради достижения «легитимности») или применения силы (ради подавления). Рано или поздно организаторы настоящей революции должны начать мужественный диалог с людьми. Сама ее легитимность зиждется на этом диалоге[153]. Революция не может бояться людей, их самовыражения, их непосредственного участия в управлении. Она должна быть им подотчетна, должна откровенно рассказывать им о своих достижениях, ошибках, просчетах и трудностях.
Чем раньше начнется диалог, тем более революционным, в истинном смысле слова, будет освободительное движение. Наличие диалога, который крайне необходим революции, соотносится с другим важным условием: люди – это создания, которые не могут обрести полную человечность без коммуникации, поскольку они по своей природе ориентированы на общение. Препятствовать коммуникации означает сводить людей к статусу «вещей», а это занятие угнетателей, но не революционеров.
Позвольте мне подчеркнуть, что, отстаивая важность праксиса, я не подразумеваю никакой дихотомии, которая делила бы его на первую стадию размышления и последующую стадию действия. Действие и размышление осуществляются одновременно. Однако в ходе критического анализа реальности может обнаружиться, что определенная форма действий невозможна или неуместна в данный момент. Того, кто посредством размышлений осознает неосуществимость или неуместность тех или иных действий (которые, соответственно, следует отложить или заменить другими), по этой причине нельзя обвинить в бездействии. Критическое размышление – это тоже действие.
Ранее я высказал мысль о том, что в образовании попытка учителя-ученика понять определенный познаваемый объект не исчерпывается одним этим объектом, поскольку этот акт распространяется на прочих учеников-учителей так, что познаваемый объект становится посредником, который способствует их пониманию. То же самое можно сказать и о революционных действиях. А именно: угнетенные и лидеры в равной степени являются Субъектами революционных действий, а реальность служит посредником в трансформирующей деятельности обеих групп. Согласно этой теории, нельзя говорить о наличии деятеля или просто о деятелях, но только о деятелях, находящихся во взаимодействии.
Может показаться, что это утверждение подразумевает разделение, дихотомию, разрыв революционных сил. На самом деле оно означает прямо противоположное – их общность. Глядя поверх общности, мы действительно видим дихотомию: лидеры с одной стороны и люди – с другой – точная копия взаимоотношений, основанных на угнетении. Отрицание общности революционных сил, стремление избежать диалога с людьми под предлогом попыток организовать их, усилить мощь революции или обеспечить объединенный фронт, – все это на самом деле свидетельствует о страхе свободы. О боязни поверить в людей или о нехватке этой веры. Но если людям нельзя доверять, нет причин для освобождения; в таком случае революция осуществляется даже не ради людей, а самими людьми ради лидеров, что означает полное самоотрицание первых.
Революция осуществляется не лидерами ради людей и не людьми ради лидеров: первые и вторые действуют сообща, объединенные незыблемой солидарностью. Эта солидарность рождается только тогда, когда лидеры подтверждают ее в ходе смиренного, полного любви и отваги взаимодействия с людьми. Не всем хватает храбрости для такого взаимодействия, но избегая его, люди становятся несгибаемыми и начинают относиться к другим как к объектам; вместо того чтобы взращивать жизнь, они убивают ее; вместо того чтобы искать жизнь, они бегут от нее. А это характерные черты угнетателей.
Некоторые могут подумать, что заявлять о необходимости диалога – взаимодействия между людьми, существующими в мире, с целью трансформировать этот мир – наивно и субъективно идеалистично[154]. Тем не менее нет ничего реальнее или конкретнее, чем существующие в мире и взаимодействующие с ним люди, чем люди, контактирующие между собой – и в некоторых случаях конфликтующие друг с другом как угнетающие и угнетаемые классы.
Истинная революция пытается трансформировать реальность, которая порождает подобное дегуманизирующее положение дел. Те, чьим интересам служит эта реальность, не могут осуществлять такую трансформацию – она должна достигаться жертвами тирании и их лидерами. Эта истина, однако, должна проявляться лишь как следствие обстоятельств, то есть лидеры обязаны стать ее воплощением через приобщение к народу. В этой общности обе группы растут вместе, и лидеры не становятся самопровозглашенными предводителями, а устанавливаются или превращаются в настоящих лидеров через свой праксис, который един с праксисом народа.
Многие люди, связанные механистическим восприятием реальности, не отдают себе отчета в том, что конкретная ситуация, в которой находятся индивиды, обусловливает их осознание мира и что это осознание, в свою очередь, обусловливает их взгляды и способы взаимодействия с реальностью. Они полагают, что реальность можно трансформировать механически[155], не представляя ложное осознание реальности человеком в качестве проблемы, или через революционные действия, посредством развития все менее и менее ложного осознания. Не существует исторической реальности, которая при этом не была бы человеческой. Не существует истории без человечества и истории для людей, есть лишь история человечества, которую творят люди и которая (как отметил Маркс), в свою очередь, творит их. Большинство людей становятся подавляемыми и отчужденными, когда у них отнимают право участвовать в истории в роли Субъектов. Таким образом, для того чтобы люди преодолели свое положение объектов и вместо этого приобрели статус Субъектов – а именно в этом и заключается цель любой истинной революции, – требуется, чтобы они направляли свои действия, а также размышления, на реальность, которую необходимо трансформировать.
Действительно, было бы идеализмом утверждать, что посредством простых размышлений над реальностью угнетения и обнаружения себя в роли объектов люди уже становятся Субъектами. Но в то же время достижение такого восприятия само по себе не означает, что думающий уже стал Субъектом, оно все же свидетельствует, как отметил один из моих соисследователей[156], о том, что думающий стал «Субъектом в перспективе» – перспективе, которая подталкивает его к упрочению своего новообретенного статуса.
И вместе с тем было бы неверно полагать, что активизм (который не равноценен настоящим действиям) – это путь к революции. Люди могут быть по-настоящему критичны лишь при условии, что они сполна проживают свой праксис, то есть если их действия охватывают критическое размышление, которое все больше и больше систематизирует их мышление и таким образом заставляет их двигаться от совершенно наивного знания реальности к более высокому уровню, который позволит им осознать причины, обусловливающие эту реальность. Отнимая у людей это право, революционные лидеры подрывают свою собственную способность мыслить – или, по крайней мере, мыслить правильно. Революционные лидеры не могут мыслить без людей или ради людей, а только лишь вместе с людьми.
Что касается членов господствующей элиты, они могут мыслить – и мыслят – без людей, хотя совсем не думать о людях – это в их случае непозволительная роскошь, ведь для них это способ лучше узнать их и, соответственно, более эффективно ими управлять. Следовательно, все, что кажется диалогом или общением между элитой и массами, в действительности представляет собой преподнесение «коммюнике», содержание которых направлено на дрессировку.
Почему представители господствующей элиты не теряют свою силу, если они не думают вместе с людьми? Потому что последние представляют собой их полную противоположность, саму причину их существования. Если бы элита думала вместе с людьми, это противоречие оказалось бы преодолено и она утратила бы свое господствующее положение. С точки зрения угнетателей любой эпохи, правильное мышление предполагает отсутствие мышления со стороны людей.
Некий господин Гидди, позднее занявший пост президента Королевского общества, выразил возражения, параллель которым можно найти в любой другой стране: «Каким бы прельстительным ни был в теории проект по обеспечению образования для трудящихся классов бедноты, оно бы пагубно сказалось на их морали и благосостоянии. Оно научило бы их презирать свой жизненный удел, вместо того, чтобы делать из них хороших слуг для сельского хозяйства и прочих видов деятельности, вместо того, чтобы учить их подчинению, образование сделало бы их капризными и вздорными, что ясно видно в графствах с развитой промышленностью. Это позволило бы им читать подстрекательские брошюрки, зловредные издания и публикации, направленные против христианства, это сделало бы их надменными по отношению к руководителям, и через несколько лет закону пришлось бы использовать против них жесткую силу[157].
Чего в действительности хотел господин Гидди (и чего сейчас хотят члены элиты, хоть они и не выступают против всеобщего образования столь открыто и цинично), так это чтобы люди не думали. Поскольку в любую эпоху такие господа Гидди, будучи представителями класса угнетателей, не могут думать вместе с людьми, они также не могут позволить людям думать самостоятельно.
Однако нельзя сказать то же самое о революционных лидерах. Если они не думают вместе с людьми, они становятся безжизненными. Люди – это формирующая их матрица, а не простые объекты, о которых следует думать. Хотя иногда революционным лидерам также приходится думать и о людях, чтобы лучше их понимать, такое мышление отличается от мышления элиты, поскольку, думая о людях, чтобы их освободить (а не господствовать над ними), лидеры вкладывают часть себя в размышления о них. Первое представляет собой мышление хозяина, второе – товарища.
Господство по своей природе требует лишь наличия двух полюсов – господствующих и тех, над кем господствуют, – которые вместе образуют конфликт двух противоположностей. Революционное освобождение, которое стремится разрешить этот конфликт, предполагает не только существование этих двух полюсов, но также и группы лидеров, которая появляется в результате этого стремления. Она либо отождествляет себя с людьми, находящимися в состоянии угнетения, либо не является революционной. Просто думать о народе, не пытаясь думать вместе с ним, как делают угнетатели, – это верный путь к тому, чтобы потерять качество революционного лидера.
В процессе угнетения представители элиты питаются за счет «смерти заживо», жертвами которой становятся угнетенные, и обретают свою аутентичность в вертикальных взаимоотношениях с последними. В ходе революционного процесса появляющиеся лидеры могут достичь аутентичности лишь одним путем: они должны «умереть», чтобы возродиться благодаря угнетенным и вместе с ними.
Мы можем законно утверждать, что в процессе угнетения кто-то угнетает кого-то другого, но нельзя сказать, что в процессе революции кто-то кого-то освобождает или освобождает сам себя – можно лишь сказать, что люди, находящиеся в общности, освобождают друг друга. Мы утверждаем это не затем, чтобы преуменьшить значимость революционных лидеров, а, напротив, чтобы подчеркнуть их ценность. Что может быть важнее, чем жизнь и работа вместе с угнетенными, с «отверженными мира сего», с «проклятыми Земли»? В этой общности революционные лидеры должны находить не только свой raison d’être, но и повод для ликования. Сама их природа позволяет революционным лидерам делать то, на что господствующая элита – по самой своей природе – по-настоящему не способна.
Любое обращение элиты как класса к угнетенным выражается в ложной щедрости, как описано в главе 1. Но революционные лидеры не могут быть ложно щедрыми и не могут манипулировать. В то время как угнетающая элита процветает, затаптывая народ, революционные лидеры могут процветать, лишь находясь в общности с людьми. Другими словами, дело в том, что деятельность угнетателя не может быть гуманистической, а деятельность революционера непременно должна быть именно такой.
Как антигуманизм угнетателей, так и революционный гуманизм пользуется достижениями науки. Но, когда наука и технология служат первому, с их помощью угнетенным навязывается статус «вещей», а когда они служат второму, с их помощью проповедуется гуманизация. Однако следует отметить, что во втором случае угнетенные становятся Субъектами этого процесса, и их не следует воспринимать лишь как объект научного интереса.
Научный революционный гуманизм не может во имя революции относиться к угнетенным как к объектам, которые необходимо анализировать и которым (на основе этого анализа) следует давать предписания о том, как себя вести. Это означало бы поддаться одному из мифов идеологии угнетателей: абсолютизированию невежества. Этот миф подразумевает существование кого-то, кто выносит суждение о невежестве другого. Тот, кто выносит это суждение, преподносит себя и прочих представителей класса, к которому он принадлежит, как людей, которые обладают неким знанием и были рождены, чтобы обладать им; тем самым других людей он преподносит в качестве неких посторонних сущностей. Слова представителей его класса становятся «правдой», которую он навязывает или пытается навязать другим людям – угнетенным, чье слово было у них украдено. Те, кто крадет чужие слова, взращивают в себе сомнения в способностях других людей и считают их ни на что не годными. Каждый раз, произнося свое слово и оставаясь глухими к словам тех, кому они говорить запретили, они все больше привыкают к власти и приобретают пристрастие к управлению, раздаче приказов и командованию. Они больше не могут жить, не имея возможности давать кому-то указания. Диалог при таких обстоятельствах невозможен.
Что касается революционных лидеров, основывающихся на науке и гуманизме, они не могут поверить в миф о невежестве людей. У них нет права даже на секунду усомниться в том, что это всего лишь миф. Они не могут поверить, будто они, и только они, что-то знают, ведь это значило бы усомниться в людях. Хотя они могут с полным основанием считать, что благодаря своему революционному сознанию обладают революционным знанием более высокого уровня, чем то эмпирическое знание, что есть у людей, они, однако же, не должны навязывать последним себя и свои знания. Им следует не осыпать людей слоганами, а вступать с ними в диалог, чтобы эмпирические знания людей о реальности, подпитываемые критическим знанием лидеров, постепенно превращались в знание о причинах, породивших эту реальность.
Было бы наивным ожидать, что элита угнетателей отвергнет миф, абсолютизирующий невежество людей. Что касается революционных лидеров, если бы они не делали этого, возникло бы противоречие, и оно бы еще больше углубилось, если бы они начали действовать в соответствии с этим мифом. Задача революционных лидеров заключается в том, чтобы представить в качестве проблемы не только этот миф, но и все другие мифы, используемые элитой угнетателей в целях угнетения. Если же революционные лидеры вместо этого настойчиво перенимают методы господства угнетателей, люди могут отреагировать одним из следующих способов. В определенных исторических обстоятельствах лидеры могут приручить их, «вкладывая» в них новую информацию. В других обстоятельствах их могут испугать «словесные угрозы» угнетателям, которые в них квартируют[158]. Ни в той, ни в другой ситуации они не становятся революционными. В первом случае создается иллюзия революции, во втором революция невозможна.
Некоторые руководствующиеся благими намерениями, но заблуждающиеся люди полагают, что, поскольку диалогический процесс продолжителен[159] (каковым он, к слову, не является), им следует осуществлять революцию без общения, используя «коммюнике», и что, как только революция победит, тогда-то они и начнут предпринимать радикальные образовательные меры. Кроме того, они оправдывают такой подход, говоря, что невозможно давать образование (с освободительными целями), предварительно не захватив власть.
Стоит проанализировать некоторые основополагающие пункты приведенных выше суждений. Эти люди (или большинство из них) верят в необходимость диалога с людьми, но не считают, что этот диалог можно начать до захвата власти. Отрицая вероятность того, что лидеры могут действовать в целях критического образования еще до захвата власти, они отрицают образовательное качество революции как культурной деятельности, которая вот-вот перерастет в культурную революцию. В то же время они путают культурную деятельность с новой системой образования, которую следует вводить, как только власть будет захвачена.
Как мы уже отмечали, было бы поистине наивно ожидать от угнетающей элиты, что она начнет внедрять освободительное образование. Однако, поскольку революция, без сомнения, основана на образовании (в том смысле, что если она не стремится к освобождению, то это не революция), захват власти – это лишь один момент (каким бы решающим он ни был) революционного процесса. И поскольку это процесс, революционное «до» принадлежит обществу угнетателей и может быть воспринято лишь революционным сознанием.
Революция возникает как социальное явление внутри общества угнетения. Постольку, поскольку она представляет собой культурную деятельность, она обязана учитывать потенциальные возможности той социальной реальности, в которой она зарождается. Любое явление развивается (или трансформируется) внутри себя через взаимодействие существующих в нем противоречий. Внешнее влияние, хоть и необходимо, но эффективно, только если оно соответствует этим потенциальным возможностям[160]. Новизна революции зарождается внутри старого, основанного на угнетении общества. Захват власти представляет собой лишь решающий момент продолжительного революционного процесса. В рамках динамичного, а не статичного взгляда на революцию не существует абсолютного «до» или «после», которые были бы разделены разграничительной линией захвата власти.
Зарождаясь в объективных условиях, революция стремится преодолеть ситуацию угнетения, закладывая фундамент общества, состоящего из людей, которые постоянно стремятся к освобождению. Образовательное, диалогическое качество революции, которое делает ее, в том числе, и «культурной революцией», должно характеризовать ее на всех этапах. Этот образовательный аспект представляет собой один из самых эффективных инструментов для того, чтобы противодействовать созданию революционных институтов и не позволить революционному движению расслоиться под воздействием контрреволюционной бюрократии, ведь контрреволюция осуществляется революционерами, вставшими в ряды реакционеров.
Если бы невозможно было вести с людьми диалог до захвата власти из-за того, что у них нет опыта ведения диалога, тогда люди не имели бы и возможности прийти к власти, ведь у них точно так же нет опыта управления. Революционный процесс динамичен, и именно в этой непрекращающейся динамике, в праксисе людей с революционными лидерами и первые и вторые учатся как диалогу, так и управлению. (Это столь же очевидно, как утверждение о том, что человек учится плавать, находясь в воде, а не в библиотеке.)
Диалог с людьми – это не уступка и не подарок, и уж тем более не тактика, которую следует использовать в целях господства. Диалог как взаимодействие людей с целью «называния» мира – это основополагающее требование их истинной гуманизации. По словам Гайо Петровича:
Свободной может быть лишь та деятельность, посредством которой человек меняет мир и самого себя. <…> Реальное состояние свободы – это знание границ необходимости, осознание творческих способностей человека. <…> Борьба за свободное общество не является таковой, если посредством ее не достигается более высокий уровень индивидуальной свободы[161].
Если этот взгляд справедлив, революционный процесс неизбежно становится образовательным по своему характеру. Таким образом, дорога к революции предполагает открытость людям, а не непроницаемость по отношению к ним, она требует общности с людьми и не терпит недоверия. Как отметил Ленин, чем больше революция требует теории, тем больше ее лидеры должны взаимодействовать с людьми, чтобы противостоять силе угнетения.
На основе этих общих положений давайте приступим к более глубокому анализу теорий антидиалогической и диалогической деятельности.
Покорение
Первая характеристика антидиалогической деятельности – это необходимость покорять. Антидиалогически настроенный индивид в своих взаимоотношениях с другими людьми стремится их покорить – всецело и любыми средствами, от самых жестких до более изощренных, от самых репрессивных до более заботливых (патернализм).
Любой акт покорения подразумевает наличие захватчика и того, что или кого он покоряет. Захватчик навязывает покоренным свои цели и превращает их в свою собственность. Он накладывает свой собственный трафарет на покоренных, которые перенимают его форму и становятся двойственными созданиями, в которых «квартирует» кто-то другой. Акт покорения, который сводит людей к статусу вещей, изначально представляет собой некрофилию.
Так же как антидиалогическая деятельность возникает как явление, сопровождающее реальную, конкретную ситуацию угнетения, так и диалогическая деятельность необходима для революционного преодоления этой ситуации. Индивид ведет себя антидиалогически или диалогически не в абстракции, а в реальном мире. Нельзя сказать, что он сначала действует антидиалогически, а потом становится угнетателем, он является и тем и другим одновременно. В рамках объективной ситуации угнетения антидиалог необходим угнетателю как способ дальнейшего угнетения – не только экономического, но и культурного: покоренные лишаются своего слова, своего права на самовыражение, своей культуры. Далее, как только положено начало ситуации угнетения, антидиалог становится необходимым условием ее сохранения.
Поскольку освободительная деятельность диалогична по своей природе, диалог не может быть ее апостериорным следствием: он должен ее сопровождать. И поскольку освобождение должно быть постоянным условием, диалог становится постоянным аспектом освободительной деятельности[162].
Желание (или скорее необходимость) покорять всегда присутствует в антидиалогической деятельности. С этой целью угнетатели пытаются нивелировать в угнетенных качество, которое делает их «анализаторами» мира. Поскольку угнетатели не могут достичь полного уничтожения этого качества, они вынуждены мифологизировать мир. Для того чтобы представить для рассмотрения угнетенных и порабощенных мир обмана, созданный с целью усилить их отчужденность и пассивность, угнетатели разрабатывают ряд методов, препятствующих любым попыткам представить мир как проблему и вместо этого показывающих его как нечто фиксированное, как данность, как то, к чему люди, выступающие в роли простых наблюдателей, вынуждены приспосабливаться.
Угнетателям необходимо обращаться к людям, чтобы посредством подчинения заставлять их оставаться пассивными. Однако эта приблизительная пародия диалога не подразумевает взаимодействия с людьми и не требует настоящего общения. Она основана на вкладывании мифов в сознание угнетенных, что необходимо угнетателям для поддержания статус-кво: к примеру, мифа о том, что основанный на угнетении порядок – это «свободное общество»; мифа о том, что все люди вольны работать там, где хотят, что, если им не нравится их начальник, они могут от него уйти и начать искать другую работу, что каждый, кто достаточно трудолюбив, может стать предпринимателем, или, хуже того, мифа о том, что уличный торговец – это такой же предприниматель, как и владелец крупной фабрики; мифа о всеобщем праве на образование, который существует несмотря на то, что лишь крохотная доля всех бразильских детей, поступающих в начальную школу, дойдет до стен университета; мифа о том, что все люди равны, который поддерживается несмотря на то, что вопрос «ты знаешь, с кем разговариваешь?» все еще звучит не так уж и редко; мифа о героизме класса угнетателей, которые представляются как защитники «западной христианской цивилизации», противостоящие «варварству материализма»; мифа о щедрости и благородстве элиты, который бытует несмотря на то, что на самом деле они как класс лишь сеют отдельные «благие дела» (этот миф можно развить в миф о «бескорыстной помощи», который на международном уровне резко раскритиковал папа римский Иоанн XXIII)[163]; мифа о том, что члены господствующей элиты, «осознавая свой долг», пропагандируют развитие народа, так что людям в качестве благодарности следует принять слова элиты и поступать сообразно им; мифа о том, что неповиновение – это грех против Господа; мифа о том, что частная собственность – это основополагающее условие человеческого развития (постольку, поскольку лишь угнетатели считаются настоящими людьми); мифа о трудолюбии угнетателей и лени и бесчестности угнетенных, а также мифа о том, что вторые по природе своей занимают подчиненное положение по отношению к первым[164].
Все эти мифы (и другие, которые мог бы перечислить и сам читатель), впитывание которых является необходимым условием подчинения угнетенных, преподносятся им через хорошо организованную пропаганду и слоганы, через средства массовой «коммуникации» – будто подобное отчуждение равноценно истинному общению![165]
Итак, любая угнетающая реальность в то же время непременно является антидиалогической, так же как и любой антидиалог неизменно предполагает, что угнетатели без устали посвящают себя постоянному покорению угнетенных. В Древнем Риме господствующая элита говорила о необходимости давать людям «хлеба и зрелищ», чтобы «смягчить» их и обеспечить собственное спокойствие. Сегодня, как и в любую другую эпоху, господствующая элита продолжает (это своеобразная форма «первородного греха») испытывать нужду в покорении других людей – будь то с помощью хлеба и зрелищ или без них. Содержание и методы покорения варьируются в зависимости от исторического контекста, но что не меняется (при условии, что господствующая элита существует), так это некрофилическая потребность в угнетении.
Разделяй и властвуй
Это еще один основополагающий аспект теории деятельности угнетателей, столь же древний, как и само угнетение. Подчиняя большинство и господствуя над ним, составляющие меньшинство угнетатели должны разделять массы, чтобы оставаться у власти. Меньшинство не может позволить себе допустить объединение людей, ведь это, несомненно, стало бы серьезной угрозой их гегемонии. Соответственно, угнетатели любыми способами (в том числе насильственными) пресекают любые действия, которые могли бы пробудить в угнетенных хоть малейшее желание объединиться. Такие понятия, как «единство», «организация» и «борьба», сразу же маркируются как опасные. На самом деле эти понятия, разумеется, и впрямь опасны (для угнетателей), ведь их осознание необходимо для освободительных действий.
В интересы угнетателей входит стремление еще больше ослабить угнетенных, изолировать их, создать и углубить разрывы между ними. Это делается различными методами, от репрессивных мер правительственной бюрократии до форм культурной деятельности, посредством которых угнетатели манипулируют людьми, создавая у них впечатление, будто им помогают.
Одна из характеристик угнетающей культурной деятельности, которую почти никогда не осознают преданные своему делу, но наивные профессионалы, – это подчеркивание важности сфокусированного взгляда на проблемы, в отличие от стремления смотреть на них как на разные аспекты одного целого. Чем больше тот или иной регион или область, входящие в проект «местного развития», дробится на «местные сообщества», без изучения этих сообществ одновременно и как сущностей, представляющих собой нечто целое, и как частей более крупного целого (территории, региона и так далее), которое, в свою очередь является частью еще более крупного целого (государства как части континентального единства), тем больше усугубляется отчужденность людей друг от друга. А чем глубже их отчужденность, тем легче разделять их и мешать им объединиться. Такие формы локальной деятельности, углубляя локальный характер жизни угнетенных (особенно в сельской местности), не позволяют им критически воспринимать реальность и держат их в изоляции от проблем угнетенных людей из других регионов страны[166].
Тот же эффект разделения возникает в связи с так называемыми «курсами тренировки лидеров», которые (хоть и проводятся многими организаторами без подобных намерений) в конечном счете провоцируют отчуждение. Такие курсы основаны на наивном предположении, что можно поспособствовать развитию сообщества, обучая лидеров, – будто части развивают целое, а не целое, развиваясь, развивает части. Те члены сообщества, которые выказывают достаточные лидерские качества, чтобы их отобрали для прохождения этих курсов, всегда отражают и выражают цели индивидов, входящих в их местное сообщество. Они находятся в гармонии с образом жизни и восприятием реальности, которые характерны для их товарищей, пусть они и выказывают особые способности, которые наделяют их статусом «лидеров». По окончании курсов они возвращаются в свое местное сообщество, обладая ресурсами, которых у них прежде не было, и либо используют эти ресурсы, чтобы контролировать находящееся в состоянии погруженности и подчинения сознание своих товарищей, либо становятся чужими в своем местном сообществе и их прежнее лидерство тем самым ставится под угрозу. Чтобы не потерять своего лидерского статуса, они, скорее всего, предпочтут и дальше манипулировать своим местным сообществом, но более эффективными методами.
Когда культурная деятельность как целостный и объединяющий процесс ориентирована на целое сообщество, а не только на его лидеров, происходит обратное. Либо бывшие лидеры растут вместе со всеми, либо им на смену приходят новые лидеры, появляющиеся как отражение нового сознания членов сообщества.
Угнетатели не одобряют развития сообщества как целого, они предпочитают тренировку отдельных лидеров. Разумеется, последнее, поддерживая состояние отчуждения, затрудняет появление осознания и критического вмешательства в целостную реальность. А без критического вмешательства всегда сложно достичь полного единства угнетенных как класса.
Классовый конфликт – это еще одно явление, которое вызывает недовольство угнетателей, поскольку они не желают воспринимать себя как угнетающий класс. Как бы они ни старались, они не могут отрицать существование социальных классов и поэтому проповедуют необходимость понимания и гармонии между теми, кто покупает, и теми, кто вынужден продавать свой труд[167]. Однако нескрываемый антагонизм, который присутствует между этими двумя классами, делает такую «гармонию» невозможной[168]. Элита призывает к гармонии между классами, будто классы – это случайные скопления людей, которые воскресным днем с любопытством смотрят на магазинную витрину. Единственную гармонию, которая возможна и которую можно продемонстрировать, следует искать среди самих угнетателей. Хотя они могут отклоняться от правила и время от времени даже сталкиваться между собой по вопросам групповых интересов, они мгновенно объединяются при возникновении любой угрозы их классу. Схожим образом, гармония среди угнетенных возможна лишь тогда, когда члены этого класса вовлечены в борьбу за освобождение. Лишь в исключительных случаях оба класса не только могут, но и вынуждены объединяться и действовать сообща, но как только чрезвычайная ситуация, заставившая их объединиться, минует, конфликт, которым определяется их существование и который на самом деле никуда не исчез, возобновляется.
Любые действия господствующего класса выявляют его потребность разделять, дабы способствовать поддержанию ситуации угнетения. Его вмешательство в деятельность союзов, поддержка определенных «представителей» подчиненных классов (которые на самом деле представляют интересы угнетателей, а не своих товарищей), продвижение граждан, которые выказывают лидерские способности и могли бы представлять собой угрозу, если бы их не «смягчали» подобным образом, раздача бонусов одним и наказаний другим – все это способы разделять, чтобы сохранить систему, которая выгодна элите. Это формы деятельности, которая эксплуатирует, прямо или косвенно, одну из слабых сторон угнетенных – их базовое чувство неуверенности. Угнетенные чувствуют неуверенность, будучи двойственными созданиями, в которых «квартирует» угнетатель. С одной стороны, они сопротивляются ему, с другой, на определенной стадии отношений, он их привлекает. В этих обстоятельствах угнетатели с легкостью получают положительные результаты в своих попытках сеять рознь.
Вдобавок угнетенные по опыту знают, какую цену можно заплатить, если не принять «приглашение», предложенное с целью предотвратить их объединение в единый класс: можно потерять работу и обнаружить свое имя в «черном списке» – это значит, что по меньшей мере все двери на другую работу тоже будут закрыты. Таким образом, их базовое чувство неуверенности напрямую связано с порабощением их труда (которое на самом деле подразумевает порабощение их личности, как подчеркнул епископ Сплит).
Люди испытывают удовлетворение от своей деятельности, лишь имея возможность создавать свой мир (а это мир человеческий), и создают они его посредством своего трансформирующего труда. Выходит, что самореализация людей связана с полнотой реализации мира. Если находиться в мире работы для человека означает быть полностью зависимым, чувствовать неуверенность и постоянную угрозу – если его труд ему не принадлежит, – он не может достичь удовлетворения от того, что делает. Работа, которая не бесплатна, перестает быть делом, приносящим удовлетворение, и становится эффективным средством дегуманизации.
Любые действия угнетенных, направленные на объединение, указывают на другие действия. Они означают, что рано или поздно угнетенные увидят себя в положении людей, лишенных индивидуальности, и обнаружат, что до тех пор, пока они остаются разделенными, они будут легкой добычей для манипулирования и господства. Единство и организованность могут позволить им превратить свою слабость в трансформирующую силу, с помощью которой они могут воссоздать мир заново и сделать его более человечным[169]. Более человечный мир, о котором они по праву мечтают, представляет собой противоположность «человеческого мира» угнетателей, исключительное право собственности на который принадлежит угнетателям, которые проповедуют невозможную гармонию между собой (теми, кто дегуманизирует) и угнетенными (теми, кого дегуманизируют). Поскольку угнетатели и угнетенные прямо противоположны друг другу, то, что служит интересам одной группы, ущемляет интересы другой.
Таким образом, разделение ради поддержания статус-кво неизбежно становится основной целью в теории антидиалогической деятельности. Вдобавок к этому правители стараются преподносить себя в качестве спасителей тех людей, которых они дегуманизируют и разделяют. Это мессианство, однако, не способно скрыть их истинное намерение – спасение себя самих. Они хотят спасти свои богатства, свою власть, свой образ жизни – все то, что позволяет им подчинять себе других. Их ошибка заключается в том, что человек не может спасти сам себя (как бы мы ни трактовали слово «спасение») ни как индивид, ни как член класса угнетателей. Спасения можно достичь лишь вместе с другими. Однако постольку, поскольку представители элиты угнетают других, они не могут быть вместе с угнетенными, ведь в основе угнетения лежит тот факт, что они настроены против них.
Психоанализ действий угнетателей может обнаружить «ложное благородство» последних (описанное в главе 1) как один из аспектов, характеризующих присущее им чувство вины. Посредством этого ложного благородства угнетатель стремится не только сохранить несправедливый и некрофильный порядок, но также «купить» себе умиротворение. Но дело в том, что умиротворение купить нельзя, его можно обрести лишь через солидарность и акты любви, которые не могут воплотиться в угнетении. Следовательно, мессианский элемент теории антидиалогической деятельности углубляет первую характеристику такой деятельности – необходимость покорять.
Поскольку необходимо разделять людей, чтобы поддерживать статус-кво и (тем самым) власть правителей, угнетателям крайне важно сделать так, чтобы угнетенные не поняли их стратегию. Поэтому первые должны убедить последних в том, что их «защищают» от демонических действий «маргиналов, бандитов и врагов Господа» (ведь именно так называют людей, которые посвятили и сейчас посвящают свою жизнь храброму делу борьбы за гуманизацию). Для того чтобы разделять и запутывать людей, разрушители называют себя созидателями и обвиняют истинных созидателей в том, что они провоцируют разрушение. Однако история всегда ставит все на свои места. Сегодня, хотя в официальной терминологии Тирадентис[170] все еще называется конспиратором (Inconfidente), а освободительное движение, которым он руководил, – сговором (Inconfidência), национальным героем все же считают не того, кто назвал Тирадентиса «бандитом», приказал его повесить, четвертовать и разбросать части его тела по улицам соседних деревень, чтобы неповадно было[171]. Герой – это Тирадентис. История уничтожила «титул», данный ему элитой, и представила его действия такими, какими они были на самом деле. Герои – это те люди, которые в свое время стремились к объединению ради освобождения, а не те, кто использовал свои полномочия, чтобы «разделять и властвовать».
Манипулирование
Манипулирование – это еще один аспект теории антидиалогической деятельности, и, как и стратегия разделения, оно представляет собой инструмент покорения, ведь именно в нем заключается цель, вокруг которой вращаются все аспекты этой теории. Посредством манипулирования господствующая элита пытается подстроить массы под свои цели. И чем более политически незрелыми являются эти люди (будь то сельские или городские жители), тем легче ими манипулировать тем, кто не желает терять власть.
Людьми можно манипулировать с помощью ряда мифов, описанных ранее в этой главе, а также посредством еще одного мифа: буржуазия предоставляет себя людям в качестве модели, демонстрируя им возможность и самим подняться по социальной лестнице. Однако, для того чтобы эти мифы выполняли свою функцию, люди должны принять слова буржуазии как правду.
В рамках определенных исторических условий манипулирование осуществляется через заключение пактов между господствующими и подчиненными классами – пактов, которые при поверхностном рассмотрении могут создать иллюзию диалога между ними. В реальности же эти пакты не говорят о наличии диалога, ведь их истинные цели продиктованы однозначными интересами господствующей элиты. В конечном счете правители используют эти пакты для того, чтобы достичь своих собственных целей[172]. Поддержка, которую люди оказывают так называемой «национальной буржуазии» ради защиты так называемого «национального капитализма», – очень уместный пример. Рано или поздно эти пакты неизменно усугубляют подчиненное состояние людей. Вопрос об их заключении поднимается только тогда, когда люди начинают (пусть и наивно) подниматься над историческим процессом, перестают быть простыми наблюдателями и проявляют первые признаки агрессивности – этого достаточно, чтобы обеспокоить и напугать господствующую элиту и заставить ее удвоить меры по манипулированию.
На этой исторической стадии манипулирование становится основополагающим средством сохранения господства. До того как люди начнут выходить из состояния погруженности, нет манипулирования (в строгом смысле этого слова), есть скорее полное подавление. Когда угнетенные почти полностью погружены в реальность, нет нужды ими манипулировать. В теории антидиалогической деятельности манипулирование является ответной реакцией угнетателей на новые конкретные условия исторического процесса. Посредством манипулирования господствующая элита может привести людей к своеобразной ложной «организации» и тем самым избежать угрожающей альтернативы – возможности того, что люди, вышедшие и выходящие из состояния погружения, объединятся по-настоящему[173]. У людей, когда они входят в исторический процесс, есть две возможные альтернативы: либо они по-настоящему объединятся ради своего освобождения, либо ими будет манипулировать элита. Настоящее объединение, разумеется, не будет стимулироваться правителями – это задача революционных лидеров.
Бывает, однако, что большие группы угнетенных формируют городской пролетариат, особенно в наиболее промышленно развитых регионах страны. Хотя эти группы время от времени бывают нетерпеливы, им не хватает революционного сознания и они считают себя привилегированными. Манипулирование, со всеми его обещаниями и обманом, обычно находит в их среде благодатную почву.
Противоядие от манипулирования можно найти в критическом, осознанном революционном объединении, которое представит людям в качестве проблем их положение в историческом процессе, национальную реальность и само манипулирование. Как сказал Франциско Вефферт:
Вся политика левых основана на массах и зависит от сознания последних. Если в этом сознании будет царить замешательство, левые потеряют свой фундамент, и их крушение станет неизбежным, хотя (как в случае Бразилии) левые могут ошибочно полагать, что они могут достичь революции путем быстрого возврата к власти[174].
В ситуации манипулирования левым почти всегда не терпится «быстро вернуться к власти», они забывают о необходимости объединиться с угнетенными и образовать с ними единую структуру и скатываются к невозможному «диалогу» с господствующей элитой. В результате эта элита начинает ими манипулировать, и нередко сами левые становятся частью игры угнетателей, которую последние называют «реализмом».
Манипулирование как покорение, целям которого оно служит, пытается обездвижить людей, не позволить им мыслить. Ведь если к присутствию людей на исторической арене добавится еще и их критическое мышление об этом процессе, угроза их выхода из состояния погруженности материализуется в революцию. Не важно, как мы называем это правильное мышление – «революционным сознанием» или «классовым сознанием», но оно является необходимым исходным условием революции. Господствующая элита так хорошо осознает этот факт, что инстинктивно использует любые методы, в том числе и физическое насилие, лишь бы не позволить людям думать. Ее представители обладают тонкой интуицией, которая помогает им понять, что диалог развивает способность к критике. В то время как некоторые революционные лидеры считают диалог с народом «буржуазной и реакционной» деятельностью, буржуазия воспринимает диалог между угнетенными и революционными лидерами как самую что ни на есть реальную опасность, которой следует избегать.
Один из методов манипулирования заключается в том, чтобы прививать гражданам буржуазный аппетит к личному успеху. Иногда манипулирование осуществляется непосредственно элитой, а иногда – косвенно, через популистских лидеров. Как отмечает Вефферт, эти лидеры служат посредниками между олигархической элитой и народом. Таким образом, возникновение популизма как стиля политической деятельности по понятным причинам совпадает с выходом угнетенных из состояния погруженности. Популистский лидер, формирующийся в результате этого процесса, представляет собой двойственное существо, «амфибию», которая живет сразу в двух средах. Он мечется туда-сюда между народом и господствующей элитой и несет на себе отпечаток обеих групп.
Поскольку такой популистский лидер попросту манипулирует людьми, вместо того чтобы бороться за их истинное объединение, он никак или почти никак не служит революции. Лишь отринув характерную для него двойственность характера и действий и решив действовать в интересах народа (то есть перестав быть популистом), он может отказаться от манипулирования и посвятить себя революционной задаче объединения людей. В этот момент он перестает быть посредником между народом и элитой и становится парадоксом, возникшим в ее среде, после чего представители элиты незамедлительно объединяются, чтобы его усмирить. Взгляните, как драматично и в конечном счете справедливо выразился Жетулиу Варгас[175], обращаясь к рабочим на праздновании Первого мая во время его последнего срока на посту главы государства:
Я хочу сказать вам, что огромная работа по обновлению, которую начала осуществлять моя администрация, не может быть закончена успешно без поддержки и ежедневного, крепкого сотрудничества со стороны рабочих[176].
Затем Варгас говорил о первых 90 днях, проведенных на посту президента, которые, по его словам, были посвящены «оценке сложностей и препятствий, которые тут и там возводятся против действий правительства». Он напрямую обращался к народу, говоря о том, как глубоко он чувствует гнет «отчаяния, бедности, высокой стоимости жизни, низкой заработной платы <…> отчаяния обездоленных и требований большинства, которое живет с надеждой на лучшее будущее».
Затем его обращение к рабочим приобрело более объективные черты:
Я пришел, чтобы сказать, что в настоящий момент у администрации нет законов или конкретных инструментов для осуществления незамедлительных действий в целях защиты народной экономики. Поэтому необходимо, чтобы люди объединились – не только ради защиты собственных интересов, но также и ради обеспечения правительства базовой поддержкой, в которой оно нуждается, чтобы достичь поставленных целей. <…> Мне нужно ваше единство. Мне нужно, чтобы вы, в солидарности, объединились в союзы. Мне нужно, чтобы вы сформировали крепкий и сплоченный блок, который встанет плечом к плечу с правительством и даст ему силу, необходимую для решения ваших проблем. Мне нужно ваше единство, чтобы вы могли сражаться против диверсантов, чтобы вы не стали жертвами преследующих свои интересы аферистов и алчных негодяев, которые действуют во вред интересам народа. <…> Настал час воззвать к рабочим. Объединяйтесь в союзы как свободные и организованные силы. <…> В настоящий момент никакая администрация не сможет выжить и воспользоваться силой, необходимой, чтобы достичь поставленных социальных целей, не заручившись поддержкой организаций трудящихся[177].
Итак, в этой речи Варгас горячо обратился к народу с просьбой организоваться и объединиться для защиты своих прав. И как глава государства, он рассказал людям о препятствиях, преградах и бесчисленных трудностях, с которыми связано управление вместе с ними. Начиная с этого момента его администрация сталкивалась со все большими трудностями вплоть до трагической развязки в августе 1954-го. Если бы Варгас во время своего последнего срока не выказал столь открытого стремления к объединению людей, которое впоследствии оказалось связано с принятием ряда мер для защиты национальных интересов, реакционно настроенная элита, возможно, не стала бы предпринимать столь радикальные меры.
Любой популистский лидер, который движется (пусть и скрытно) по направлению к народу любым другим путем, кроме как в качестве посредника олигархов, будет задавлен последними, если у них достаточно сил, чтобы его остановить. Но, при условии, что этот лидер ограничивается патернализмом и деятельностью по обеспечению социального благосостояния, даже если между ним и группами олигархов, интересы которых затрагиваются, могут время от времени возникать разногласия, глубинные расхождения появляются редко. Дело в том, что программы социального благосостояния как инструменты манипулирования в конечном счете служат цели покорения. Они действуют как обезболивающее, отвлекающее угнетенных от истинных причин их проблем и от конкретных способов решить эти проблемы. Они расщепляют угнетенных на группы граждан, каждый из которых надеется получить для себя больше бонусов. Однако в этой ситуации есть и положительная составляющая: те индивиды, которые получают помощь, всегда хотят больше; те, кто ее не получает, видят пример тех, кто ее получил, испытывают зависть и тоже хотят, чтобы им помогали. Поскольку господствующая элита не «помогает» всем, она, в конце концов, лишь усиливает сопротивление угнетенных.
Революционные лидеры должны извлекать выгоду из противоречий, на которых строится манипулирование, позиционируя его для угнетенных как проблему, чтобы их организовать.
Культурная интервенция
Теорию антидиалогической деятельности характеризует еще один основополагающий аспект: культурная интервенция, которая, как и тактика разделения и манипулирование, также служит цели покорения. Это явление означает, что интервенты проникают в культурный контекст другой группы, пренебрегая ее потенциальными возможностями. Они навязывают свой собственный взгляд на мир тем, кого они захватывают, и сковывают в них творческое начало, препятствуя их самовыражению.
Таким образом, культурная интервенция, будь она изысканной или грубой, всегда представляет собой акт насилия против людей, на чью культуру посягают, людей, которые теряют свою оригинальность или сталкиваются с угрозой потерять ее. При культурной интервенции (как и во всех других проявлениях антидиалогической деятельности) захватчики выступают в роли авторов и деятелей этого процесса, а те, кого они захватывают, – в роли объектов. Оккупанты придают форму, оккупируемые форму принимают. Оккупанты выбирают, оккупируемые следуют этому выбору – или предполагается, что они будут ему следовать. Оккупанты действуют, оккупируемые довольствуются лишь иллюзией действия, получаемой через действия оккупантов.
Любое господство предполагает интервенцию, иногда – физическую и нескрываемую, иногда – замаскированную, когда оккупант принимает на себя роль друга и помощника. В конечном счете интервенция – это разновидность экономического и культурного доминирования. Интервенция может осуществляться обществом-метрополией по отношению к зависимому обществу или же быть побочным обстоятельством господства одного класса над другим внутри одного и того же общества.
Культурное завоевание ведет к культурной ложности оккупируемых: они начинают перенимать ценности, стандарты и цели захватчиков. В своем стремлении доминировать, подгонять других под свои шаблоны и свой образ жизни захватчики желают узнать, как те, кого они захватывают, воспринимают реальность, – но лишь для того, чтобы иметь возможность более эффективно подчинять их себе[178]. Крайне важно, чтобы в ходе культурной интервенции оккупируемые начали смотреть на реальность с позиций захватчиков, а не со своих собственных, ведь чем больше они будут подражать оккупантам, тем более стабильным будет положение последних.
Чтобы культурная интервенция была успешной, необходимо, чтобы оккупируемые поверили в то, что их подчиненное положение – это изначально присущая им черта. Поскольку у всего есть противоположность, если оккупируемые считают себя людьми, занимающими подчиненное положение, они неизбежно должны видеть в оккупантах людей, которые занимают главенствующее положение. Ценности последних, таким образом, становятся для них образцовыми. Чем больше усугубляется интервенция и чем больше оккупируемые отчуждаются от своей собственной культуры и от самих себя, тем больше они хотят быть похожими на захватчиков – ходить как они, одеваться как они, разговаривать как они.
Социальное «я» представителя оккупированной культуры, как и любое другое социальное «я», формируется в социокультурных взаимоотношениях, существующих внутри социальной структуры, и поэтому отражает двойственность оккупированной культуры. Эта двойственность (которая была описана выше) объясняет, почему оккупированные и подчиненные индивиды в определенный момент своего экзистенциального опыта практически «сливаются» с «ты» угнетателя. «Я» угнетенного должно порвать эту связь с «ты» угнетателя, отстраниться от него, чтобы посмотреть на него более объективно, после чего угнетенный сможет посмотреть на себя критически и осознать конфликт, существующий между ним и угнетателем. Делая это, он «воспринимает» в качестве дегуманизирующей реальности ту структуру, внутри которой его угнетают. Такого качественного изменения в восприятии мира можно достичь только через праксис.
Культурная интервенция – это, с одной стороны, инструмент доминирования, а с другой – его результат. Таким образом, культурная деятельность, направленная на доминирование (как и другие формы антидиалогической деятельности), является не только обдуманной и спланированной, но, в другом смысле, также представляет собой продукт реальности угнетения.
К примеру, жесткая и ориентированная на угнетение социальная структура неизбежно влияет на институты воспитания и образования, существующие внутри этой структуры. Эти институты строят свои действия в соответствии с устройством всей структуры и перенимают мифы, присущие последней. Дом и школа (от детского сада до университета) существуют не в абстракции, а во времени и в пространстве. Внутри структуры доминирования они в большой степени функционируют как учреждения, готовящие будущих оккупантов.
Отношения между родителями и детьми дома обычно отражают объективные культурные условия окружающей социальной структуры. Если дома преобладают авторитарные, жесткие условия, основанные на доминировании, в этой семье будет взращиваться атмосфера угнетения[179]. По мере того как усиливается этот авторитаризм во взаимоотношениях родителей и детей, последние еще в раннем детстве все сильнее впитывают родительский авторитет.
Рассуждая (со свойственной ему ясностью) о проблеме некрофилии и биофилии, Фромм анализирует объективные условия, которые порождают и первое и второе, будь то до́ма (взаимоотношения родителей и детей в обстановке равнодушия и угнетения или любви и свободы) или в социокультурном контексте. Если детям, воспитанным в атмосфере угнетения и отсутствия любви, детям, которым не дали раскрыть свой потенциал, в юности не удается встать на путь истинного неповиновения, они либо скатываются в полное равнодушие, становятся отчужденными от реальности под воздействием авторитетов и мифов, использованных последними, чтобы «сформировать» их, либо принимают участие в деструктивной деятельности.
Атмосфера, существующая дома, находит продолжение в школьной среде, где ученики вскоре обнаруживают, что, если они хотят достичь какого-либо чувства удовлетворения, они (как и дома) должны адаптироваться к предписаниям, которые были даны свыше. Одно из этих предписаний заключается в том, что думать не следует.
Впитывая родительский авторитет через жесткую систему взаимоотношений, которая подкрепляется школой, эти молодые люди, становясь профессионалами (из-за страха свободы, вселенного в них этими взаимоотношениями), склонны повторять те же жесткие модели, которые были им по ошибке привиты. Возможно, это явление, а также их классовая позиция, могут объяснить, почему столько профессионалов придерживаются антидиалогических принципов[180]. Какой бы ни была случайность, которая заставляет их вступить в контакт с людьми, они почти непоколебимо убеждены, будто их миссия заключается в том, чтобы «дарить» последним знания и навыки. Они воспринимают себя как народных «покровителей». Программы их деятельности (которые мог бы составить любой хороший теоретик деятельности, ориентированной на угнетение) включают в себя их собственные цели, их собственные убеждения и их собственные заботы. Они не прислушиваются к людям, а вместо этого планомерно обучают их, как «избавиться от лени, которая порождает недоразвитость». Таким профессионалам кажется абсурдным даже рассматривать необходимость уважать свойственный людям «взгляд на мир». «Мировоззрение» же есть только у самих профессионалов. Столь же абсурдным они считают утверждение о том, что следует обязательно консультироваться с людьми, составляя образовательную программу. По их мнению, невежество людей настолько абсолютно, что они не способны ни на что, кроме как принимать то, чему их учат профессионалы.
Однако, когда на определенном этапе своего экзистенциального опыта оккупированные начинают так или иначе сопротивляться этой интервенции (к которой они могли ранее адаптироваться), профессионалы, чтобы оправдать свой провал, заявляют, что члены оккупированной группы «занимают подчиненное положение», потому что они «неблагодарные», «беспомощные», «убогие» или являются людьми «смешанной крови».
Руководствующиеся благими намерениями профессионалы (те, кто использует «интервенцию» не как продуманную идеологию, а как отражение своего собственного воспитания) в конце концов открывают для себя, что некоторые из их неудач в сфере педагогики следует относить не на счет врожденной неполноценности «простых людей из народа», а на счет насилия, которым характеризуется их собственный акт интервенции. Перед теми, кто делает для себя это открытие, предстает трудный выбор: они ощущают потребность в том, чтобы осудить такое вмешательство, но в них настолько укрепились модели доминирования, что подобное осуждение представляет угрозу их собственной личности. Осудить эту интервенцию для них значило бы положить конец своему двойственному статусу подчиненных и подчиняющих в одном лице. Это значило бы отказаться от всех мифов, которые питают эту интервенцию, и принять на вооружение принципы диалогической деятельности. Именно по этой причине это значило бы перестать быть над и внутри (в качестве чужаков) и вместо этого быть вместе с (в качестве товарищей). Таким образом, этими людьми овладевает страх свободы. В ходе этого травматического процесса они по понятным причинам склонны рационализировать свой страх различными отговорками.
Еще более сильный страх свободы испытывают те профессионалы, которые до сих пор не осознали захватнический характер своей деятельности, когда им говорят, что их деятельность является дегуманизирующей. Довольно часто, в особенности на стадии декодирования конкретных ситуаций, участники обучающих курсов раздраженно спрашивают координатора: «Ну и куда, по-вашему, вы нас направляете?» Координатор не пытается никого никуда «направлять», все дело в том, что, сталкиваясь с конкретной ситуацией как с проблемой, участники начинают осознавать, что, если они начнут более глубоко ее анализировать, им либо придется отторгнуть впитанные мифы, либо в очередной раз убедить себя в их правдивости. Отказ от этих мифов и их обличение в этот момент представляет для человека акт насилия над самим собой. И в то же время заявить о справедливости этих мифов – значит обнажить свою суть. Единственное, что им остается (и это действует как механизм самозащиты) – спроецировать на координатора свою собственную привычную практику: направление, покорение и интервенция[181].
Такая же склонность к отступлению, хоть и в меньших масштабах, свойственна людям из народа, которые замучены конкретной ситуацией угнетения и выдрессированы благотворительностью. Один из преподавателей организации Full Circle (англ. «Замкнутый круг»)[182], которая организовывала в Нью-Йорке полезную образовательную программу под руководством Роберта Фокса, рассказывает о следующем инциденте. Группе из нью-йоркского гетто предложили рассмотреть закодированную ситуацию с изображением кучи мусора на углу улицы – той же самой улицы, где проводились встречи этой группы. Один из участников сразу же сказал: «Я вижу улицу где-то в Африке или в Латинской Америке». «А почему не в Нью-Йорке?» – спросил преподаватель. «Потому что мы живем в США, а здесь такое невозможно». Без всяких сомнений, этот мужчина и некоторые из его товарищей, которые согласились с ним, предпочли отступить, столкнувшись с реальностью, которая была им столь неприятна, что даже сам факт ее признания казался им угрозой. Отчужденному человеку, чья личность сформировалась в культуре достижений и личного успеха, кажется, будто если он призна́ет, что находится в объективно неблагоприятной ситуации, он тем самым ограничит собственные возможности достижения успеха.
В приведенном примере, как и в случае с профессионалами, очевидна определяющая сила культуры, порождающей мифы, которые затем впитываются людьми. В обоих случаях культура доминирующего класса не позволяет людям утвердиться в качестве существ, принимающих решения. Ни профессионалы, ни участники дискуссии из нью-йоркских трущоб не говорят и не думают самостоятельно, как активные Субъекты исторического процесса. Никто из них не является теоретиком или идеологом господства. Напротив, они представляют собой эффект, который, в свою очередь, становится причиной господства. Это одна из наиболее серьезных проблем, которые должна решить революция, когда она придет к власти. Эта стадия требует максимальной политической мудрости, решительности и отваги со стороны лидеров, которые именно по этой причине должны быть достаточно проницательны, чтобы не встать на иррационально-сектантские позиции.
Профессионалы в любой области, учились они в университете или нет, – это личности, «обусловленные сверху»[183] культурой доминирования, которая сделала их двойственными созданиями. (Если бы они вышли из низших слоев, то получили бы такое же неправильное образование, а то и хуже.) Однако эти профессионалы необходимы для реорганизации нового общества. И поскольку многие из них, хоть и «боятся свободы» и не расположены к участию в гуманизирующей деятельности, на самом деле скорее просто-напросто заблуждаются, революция не просто может, но и должна вернуть их на свою сторону.
Это возвращение требует, чтобы революционные лидеры отталкивались от того, что ранее было диалогической культурной деятельностью, и, двигаясь дальше, инициировали «культурную революцию». На этом этапе революционные силы перерастают свою роль необходимого препятствия, встающего на пути тех, кто пытается отрицать человечность, и принимают новую и более смелую позицию, недвусмысленно приглашая к действию всех, кто хочет поучаствовать в реконструкции общества. В этом смысле «культурная революция» – это неизбежное продолжение диалогической культурной деятельности, которая должна осуществляться до того, как революция завоюет власть.
«Культурная революция» берет в качестве объекта для реконструкции все общество целиком, вместе со всеми человеческими занятиями. Общество нельзя реконструировать механически, культура, которая культурно воссоздается через революцию, – это основополагающий инструмент для такой реконструкции. «Культурная революция» – это максимальное усилие революционного режима, направленное на достижение консайентизации – она должна быть обращена ко всем, вне зависимости от их личностного пути.
Следовательно, эти усилия по достижению консайентизации не могут заключаться в технической или научной подготовке потенциальных специалистов. Новое общество становится качественно отличным от старого[184] не только лишь частично. Революционное общество не может приписывать технологиям те же цели, что и прежний социальный строй. Соответственно, способы обучения людей в этих двух обществах должны отличаться. Техническое и научное обучение не должно быть враждебным по отношению к гуманистическому образованию до тех пор, пока наука и технология в революционном обществе служат делу постоянного освобождения, делу гуманизации.
С этой точки зрения обучение индивидов в любой области (поскольку профессии существуют в пространстве и времени) требует понимания: а) культуры как суперструктуры, которая может сохранять живыми «пережитки» прошлого[185] внутри подструктуры, подвергающейся революционной трансформации и б) самой профессии как инструмента трансформации культуры. По мере того как культурная революция углубляет консайентизацию в творческом праксисе нового общества, люди начнут осознавать, почему остатки мифов, существовавших в старом обществе, продолжают жить и в новом. И тогда им удастся быстрее изгнать этих призраков, которые препятствуют возведению нового общества и всегда представляли собой серьезную проблему для революции. Через эти культурные пережитки общество угнетения продолжает свою захватническую деятельность – в данном случае оно захватывает само революционное общество.
Такая интервенция особенно ужасна, потому что она осуществляется не реорганизованной доминирующей элитой как таковой, а теми, кто сам участвовал в революции. Будучи людьми, в которых «квартирует» угнетатель, они сопротивляются, почти как мог бы сопротивляться он сам, основным шагам, которые далее должна предпринять революция. И будучи двойственными созданиями, они (также из-за пережитков прошлого) принимают в свои руки власть, которая становится бюрократизированной и жестоко их подавляет. В свою очередь, эту жестокую, подавляющую бюрократическую силу можно объяснить через то, что Альтюссер называет «реактивацией старых элементов»[186] в новом обществе, происходящей каждый раз, когда это позволяют особые обстоятельства.
Из-за всех вышеперечисленных причин я интерпретирую революционный процесс как диалогическую культурную деятельность, которая находит свое продолжение в «культурной революции» сразу после захвата власти. На обеих стадиях необходимы серьезные и глубокие усилия по достижению консайентизации, с помощью чего людям посредством истинного праксиса удается отказаться от статуса объектов и принять на себя роль исторических Субъектов.
Ну и наконец, культурная революция вырабатывает практику постоянного ведения диалога между лидерами и народом и обеспечивает участие людей в управлении. Таким образом, если и лидеры, и люди продолжают свою критическую деятельность, участникам революции будет проще защищать ее от бюрократических тенденций (которые ведут к новым формам угнетения) и от «интервенции» (которая всегда одинакова). Оккупант – и в буржуазном и в революционном обществе – может быть агрономом или социологом, экономистом или санитаром, священником или пастором, педагогом или социальным работником – или революционером.
Кроме того, культурная интервенция свидетельствует о том, что в конечном счете решения в отношении действий оккупируемых принимаются не ими самими, а оккупантами. А когда власть принятия решений не принадлежит тому, кто должен решать, у него остается лишь иллюзия принятия решений. Именно поэтому в двойственном, «зеркальном», оккупированном обществе невозможно никакое социально-экономическое развитие. Для развития необходимо, чтобы: а) было движение, ориентированное на поиск и творчество, а власть принятия решений находилась в руках искателя; б) чтобы это движение существовало не только в пространстве, но и в экзистенциальном времени сознательного искателя.
Итак, в то время как любое развитие представляет собой трансформацию, не любая трансформация – это развитие. Трансформация, происходящая в семени, которое при благоприятных условиях дает росток, – это не развитие. Точно так же трансформация животного – это не развитие. Трансформация семян и животных продиктована особенностями вида, к которому они принадлежат, и протекает во времени, которое им не принадлежит, поскольку время принадлежит человечеству.
Из всех несовершенных существ лишь люди способны развиваться. Поскольку человек – это историческое, автобиографичное «существо для себя», его трансформация (развитие) протекает в его собственном экзистенциальном времени и никогда – вне его. Люди, подверженные конкретным условиям угнетения, в которых они становятся отчужденными «существами для другого», принадлежащими ложному «существу для себя», от которого они зависят, не способны по-настоящему развиваться. Лишенные воли принимать собственные решения, которая передана в руки угнетателя, они следуют указаниям последнего. Угнетенные начинают развиваться лишь тогда, когда, преодолев противоречие, в которое они угодили, они становятся «существами для себя».
Если посмотреть на общество как на живое существо, становится очевидно, что лишь общество, которое является «существом для себя», способно развиваться. Общества, которые двойственны, «зеркальны», оккупированы и зависимы от общества-метрополии, развиваться не могут, потому что они находятся в состоянии отчуждения; их политическая, экономическая и культурная власть, необходимая для принятия решений, находится вне их самих, внутри общества-оккупанта. В конечном счете последнее определяет судьбу первого: простая трансформация, ведь именно их трансформация – а не развитие – служит интересам общества-метрополии.
Крайне важно видеть разницу между модернизацией и развитием. Первая, хоть и может отражаться на жизни отдельных групп, входящих в «общество-спутник», почти всегда генерируется искусственно, и пользу из нее извлекает в первую очередь общество-метрополия. Общество, которое лишь модернизируется, но не развивается, и дальше будет пребывать в зависимости от другого государства, даже если ему будут делегированы минимальные управленческие полномочия. Таков удел любого зависимого общества до тех пор, пока оно остается зависимым.
Для того чтобы определить, развивается ли то или иное общество, необходимо выйти за рамки критериев, основанных на показателях дохода «на душу населения» (которые представляются в форме статистики и вводят в заблуждение) и на изучении валового дохода. Базовый, элементарный критерий – это вопрос о том, является ли общество «существом для себя». Если нет, все остальные критерии указывают на модернизацию, а не на развитие.
Принципиальное противоречие, которым характеризуется двойственное общество, – это отношения зависимости между ним и обществом-метрополией. Как только это противоречие преодолевается, трансформация, до тех пор осуществлявшаяся через оказание «помощи», выгодной прежде всего обществу-метрополии, становится истинным развитием, выгодным для общества, «существующего для себя».
По описанным выше причинам чисто реформистские решения, которые принимаются обществами (несмотря на то что некоторые из таких реформ могут вызвать страх или даже панику со стороны более реакционно настроенных членов элиты), не помогают разрешить внешние и внутренние противоречия. Почти всегда общество-метрополия искусственно провоцирует принятие таких реформистских решений в ответ на требования исторического процесса, лишь по-новому укрепляя свою гегемонию. Общество-метрополия будто говорит: «Давайте проведем реформы, прежде чем народ начнет революцию». И чтобы достичь этой цели, обществу-метрополии ничего не остается, кроме как покорять, манипулировать, осуществлять экономическую и культурную (а иногда и военную) интервенцию в зависимое общество – интервенцию, в ходе которой лидеры элиты порабощенной страны во многом действуют как простые брокеры, работающие на лидеров общества-метрополии.
Завершая этот предварительный анализ теории антидиалогической деятельности, я бы хотел еще раз отметить, что революционные лидеры не должны использовать те же антидиалогические методы, что и угнетатели. Напротив, революционные лидеры должны идти по пути диалога и общения.
Прежде чем перейти к анализу теории диалогической деятельности, необходимо вкратце обсудить вопрос о том, как формируется группа революционных лидеров, а также о том, как это исторически и социологически сказывается на революционном процессе. Обычно лидерская группа состоит из людей, которые так или иначе принадлежали к социальному слою угнетателей. В какой-то момент своего экзистенциального опыта, в определенных исторических условиях, эти лидеры отвергают класс, к которому они раньше принадлежали, и присоединяются к угнетенным, испытывая истинную солидарность по отношению к ним (по крайней мере, на это хочется надеяться). Не важно, возникает ли это желание присоединиться как результат научного анализа реальности, но оно представляет собой (если является подлинным) акт любви и истинной преданности[187]. Присоединяясь к угнетенным, необходимо пойти к ним и начать с ними общаться. Люди должны увидеть себя в зарождающихся лидерах, а лидеры – узнать себя в людях.
Появившиеся лидеры непременно отражают конфликт с господствующей элитой, узнав о нем от угнетенных, которые, однако, могут на этом этапе не осознавать своего собственного угнетенного положения и не иметь возможности критически воспринимать свой антагонизм по отношению к угнетателям[188]. Они могут все еще находиться в состоянии, которое мы ранее назвали «слиянием» с угнетателем. И в то же время возможно, что из-за определенных объективных исторических условий они уже достигли относительно четкого восприятия своего угнетенного состояния.
В первом случае слияние (или частичное слияние) людей с угнетателем лишает их возможности (повторим мысль Фанона) обнаружить его вне их самих. Во втором случае они могут посмотреть на угнетателя со стороны и, таким образом, критически воспринять антагонизм, который характеризует их взаимоотношения с ним.
В первом случае угнетатель «квартирует» в людях, и их двойственность, которая становится результатом такого взаимодействия, вселяет в них страх свободы. Они (не без помощи угнетателя) прибегают к магическим объяснениям или ложному представлению о Боге, на которого они фаталистически перекладывают ответственность за свое угнетенное положение[189]. Очень маловероятно, что эти не доверяющие сами себе, забитые, отчаявшиеся люди станут сами стремиться к освобождению, ведь это акт неповиновения, который может представляться им ослушанием и несоблюдением воли Божьей, то есть недопустимой конфронтацией с судьбой. (Отсюда вытекает часто подчеркиваемая необходимость представлять мифы, которыми угнетатели кормят людей, в качестве проблем.) Во втором случае, если люди уже достигли относительно ясного представления об угнетении, которое позволяет им взглянуть на угнетателя в отрыве от них самих, они принимаются за борьбу с целью искоренить противоречие, жертвами которого они стали. В этот момент они преодолевают расстояние между «классовой необходимостью» и «классовым сознанием».
В первом случае революционные лидеры, к несчастью, невольно оказываются противопоставленными народу. Во втором случае появляющиеся лидеры почти немедленно получают от людей полную сочувствия поддержку, которая, как правило, усиливается в ходе революционной деятельности. Лидеры обращаются к людям спонтанно и ведут с ними диалог. Между людьми и революционными лидерами почти сразу возникает эмпатия: их взаимная преданность устанавливается практически мгновенно. Будучи товарищами, они считают себя в равной степени противопоставленными господствующей элите. Начиная с этого момента установившаяся практика ведения диалога между людьми и лидерами практически нерушима. Диалог будет продолжаться и после захвата власти, и люди будут знать, что ее захватили они.
Такое взаимодействие никоим образом не умаляет дух борьбы, отвагу, способность к любви или решительность, которыми должны обладать революционные лидеры. Фидель Кастро и его товарищи (которых в свое время многие называли «безответственными авантюристами») – в высшей степени диалогическая группа лидеров – отождествляли себя с народом, испытавшим на себе жестокое насилие диктатуры Батисты. Это объединение далось им нелегко, оно потребовало от лидеров смелости достаточно любить народ, чтобы быть готовыми пожертвовать собой ради него. Это потребовало от лидеров мужества, необходимого, чтобы они продолжали идти вперед после каждой катастрофы, движимые неизбывной надеждой на будущую победу, которая, будучи достигнута вместе с людьми, принадлежала бы не одним только лидерам, но и лидерам и народу или же народу, и в том числе лидерам.
Фидель постепенно поляризовал объединенный кубинский народ, который благодаря своему историческому опыту уже начал ломать свою связь с угнетателем. Такое «отстранение» от угнетателя помогло людям его объективизировать и увидеть, что они находятся в конфликте с ним. И поэтому Фидель никогда не вступал в противоречие с народом. (Случавшихся время от времени диверсий или предательств, о которых Че Гевара рассказывает в книге «Эпизоды революционной войны» (Pasajes de la Guerra Revolucionaria), где он также упоминает многих из присоединившихся, следовало ожидать.)
Таким образом, в зависимости от определенных исторических условий движение революционных лидеров к народу либо происходит по горизонтали, так что лидеры и народ формируют единое целое, противостоящее угнетателям, либо представляет собой треугольник, в котором революционные лидеры занимают верхний угол и противопоставлены как угнетателям, так и угнетенным. Как мы уже убедились, лидеры могут невольно оказаться в такой ситуации, если народ еще не достиг критического восприятия реальности угнетения.
Однако члены группы революционных лидеров практически никогда не осознают, что противопоставлены народу. Это осознание в самом деле болезненно, а сопротивление может служить защитным механизмом. В конце концов, лидерам, которые появились в процессе объединения с угнетенными, нелегко признать, что они противопоставлены тем, к кому они изначально присоединились. Важно подмечать неохоту, с которой они это осознают, при анализе определенных форм поведения со стороны революционных лидеров, невольно оказавшихся противопоставленными народу (при этом они не являются антагонистами по отношению к нему).
Для того чтобы осуществить революцию, революционным лидерам, несомненно, требуется приверженность народа. Когда лидеры, противопоставленные народу, пытаются завоевать эту приверженность, а вместо нее находят отстраненность и недоверие, они часто расценивают такую реакцию как признак изъянов, присущих самим людям. Они трактуют определенный исторический момент народного осознания как доказательство присущей людям неполноценности. Поскольку лидеры нуждаются в приверженности народа, чтобы можно было достичь революции (но в то же время не доверяют народу, в свою очередь, полному недоверия), они склонны применять те же методы, что используются господствующей элитой в целях угнетения. Рационализируя недостаток доверия по отношению к людям, лидеры заявляют, что невозможно вести с ними диалог до захвата власти, то есть делают выбор в пользу антидиалогической теории деятельности. С этого момента они (точно так же, как господствующая элита) пытаются покорить людей, приобретают мессианские черты, используют манипулирование и осуществляют культурную интервенцию. Двигаясь по этому пути – пути угнетения, они не достигнут революции, а если и достигнут, то она не будет настоящей.
Роль революционных лидеров (в любых обстоятельствах, но особенно в тех, что были описаны выше) заключается в том, чтобы, даже действуя, серьезно анализировать причины любых проявлений недоверия со стороны народа и отыскивать настоящие способы объединения с ним, способы помогать людям и самим себе критически воспринимать реальность, которая их угнетает.
Покоренное сознание имеет двойственный, неоднозначный характер, оно наполнено страхом и недоверием[190]. В своем дневнике о борьбе в Боливии Че Гевара несколько раз упоминает недостаток участия со стороны крестьян:
<…> мобилизация крестьян армией мало что дает, исключая разведывательную работу, которая нам несколько мешает. Но донесения крестьян недостаточно быстры и эффективны. Со временем нам удастся покончить с этим явлением. <…> Наиболее важные особенности минувшего месяца следующие: <…> полное отсутствие притока крестьян в наши ряды, хотя они понемногу перестают нас бояться, и мы вызываем у них восхищение. Это медленная работа, требующая большого терпения[191].
Страх и неэффективность действий крестьян объясняются тем, что их сознание впитывает в себя черты угнетателей.
Поведение и реакции угнетенных, которые заставляют угнетателей осуществлять культурную интервенцию, должны провоцировать революционеров на выбор другой теории деятельности. Революционных лидеров от господствующей элиты отличают не только их цели, но и их методы. Если они будут действовать так же, то и их цели станут такими же. Для господствующей элиты столь же парадоксально представлять людям отношения между миром и человеком в качестве проблемы, как для революционных лидеров – не делать этого.
Теперь давайте проанализируем теорию диалогической культурной деятельности и попытаемся выделить ее составные элементы.
Сотрудничество
В теории антидиалогической деятельности покорение (как одна из ее базовых характеристик) подразумевает наличие Субъекта, который покоряет другого человека и превращает его в «вещь». Согласно диалогической теории деятельности, Субъекты взаимодействуют, чтобы трансформировать реальность. Антидиалогическое, доминирующее «я» превращает подчиненное, покоренное «ты» в простое «это»[192]. Однако диалогическое «я» знает, что именно этому «ты» оно обязано своим существованием. Оно также знает, что это «ты», которому оно обязано своим существованием, в свою очередь, представляет собой «я», для которого оно является «ты». Таким образом, «я» и «ты» в диалектике этих взаимоотношений становятся двумя «ты», которые превращаются в два «я».
Диалогическая теория деятельности не подразумевает наличие Субъекта, который достигает господства посредством покорения, и подчиненного ему объекта. Вместо этого существуют Субъекты, которые взаимодействуют с целью назвать мир и затем его трансформировать. Если в определенный исторический момент угнетенные по ранее описанным причинам не способны реализовать свое призвание как Субъекты, позиционирование самого угнетения в качестве проблемы (которое всегда подразумевает ту или иную деятельность) поможет им реализовать это призвание.
Сказанное выше не означает, что диалогическая формулировка задачи не оставляет места для революционных лидеров. Это лишь подразумевает, что лидеры, несмотря на их важнейшую, основополагающую и незаменимую роль, не распоряжаются людьми как своей собственностью и не имеют права слепо направлять их к спасению. Такое спасение было бы всего лишь подарком лидеров народу, свидетельствующим о разрыве диалектической связи между ними и понижающим людей с позиции соавторов освободительной деятельности до роли простых объектов, на которые эта деятельность направлена.
Сотрудничества как характеристики диалогической деятельности, которая осуществляется исключительно Субъектами (при этом они могут выполнять разные функции и, следовательно, нести разную степень ответственности), можно достичь только через общение. Диалог как основная форма коммуникации должен лежать в основе любого сотрудничества. В теории диалогической деятельности нет места покорению людей под эгидой революционных целей, возможно лишь завоевание их приверженности. Диалог не навязывает, не манипулирует, не дрессирует, не выдумывает «слоганы». Это тем не менее не означает, что теория диалогической деятельности ведет в никуда или что диалогически настроенный человек не имеет четкого представления о том, чего он хочет, и о целях, которые он преследует.
Приверженность революционных лидеров угнетенным – это одновременно и приверженность свободе. И из-за этой приверженности лидеры не могут пытаться покорять угнетенных: они должны сделать так, чтобы последние сами присоединились к делу освобождения. Объединение, достигнутое через покорение, это не объединение, а «присоединение» покоренных к завоевателю, который решает, какой выбор предоставить первым. Истинное объединение основано на совпадении свободного выбора, оно не может произойти без коммуникации между людьми, посредником в которой выступает реальность.
Таким образом, сотрудничество заставляет диалогически настроенных Субъектов фокусировать внимание на реальности, которая выступает посредником между ними и (позиционируемая как проблема) бросает им вызов. Ответом на этот вызов служат действия, которые диалогические Субъекты осуществляют над реальностью с целью ее трансформировать. Позвольте мне подчеркнуть, что позиционирование реальности как проблемы не предполагает изобретения слоганов – оно подразумевает критический анализ проблемной реальности.
В противовес мифологизации, которой пользуется господствующая элита, диалогическая теория требует, чтобы мир был представлен таким, какой он есть. Однако никто не может обнажить истинный облик мира для кого-то другого. Один Субъект может начать этот процесс от лица других, но затем последние также должны стать Субъектами этого акта. Приверженность народа становится возможной благодаря такому обнажению истинного облика мира и их самих через подлинный праксис.
Проявляя свою приверженность, люди выказывают доверие как к себе, так и к революционным лидерам, начиная видеть их подлинность и преданность общему делу. Доверие людей по отношению к лидерам отражает уверенность лидеров в людях.
Эта уверенность, однако, не должна быть наивной. Лидеры должны верить в потенциальные возможности людей, и не могут относиться к ним лишь как к объектам собственных действий. Они должны верить, что люди способны участвовать в деле освобождения. Но в то же время двойственность угнетенных и «квартирующий» внутри их угнетатель должны вызывать у них недоверие. Соответственно, когда Че Гевара призывает революционеров никому не доверять[193], он не затрагивает фундаментальное условие теории диалогической деятельности. Он просто судит реалистично.
Хотя доверие – это основа диалога, оно не является априорным условием последнего, а рождается в результате этого взаимодействия, в ходе которого люди выступают в роли со-Субъектов, обличающих мир с целью его трансформировать. Но до тех пор, пока угнетатель «внутри» угнетенных продолжает быть сильнее их самих, их естественный страх свободы может заставить их осудить не мир, а революционных лидеров! Лидеры не могут быть легковерными, они должны быть настороже и допускать эту вероятность. Книга Че Гевары «Эпизоды революционной войны» подтверждает наличие этого риска – возможность не только дезертирства, но даже предательства общего дела. В этом сочинении, признавая необходимость наказывать дезертиров, чтобы сохранить сплоченность и дисциплину в группе, Че Гевара время от времени упоминает и некоторые факторы, объясняющие причины дезертирства. Один из них, возможно, самый важный, – это двойственный характер дезертиров.
Довольно наглядна другая часть сочинения Че Гевары, где он рассказывает о своей поездке (не только в качестве партизана, но и в качестве врача) в крестьянскую общину в горном массиве Сьерра-Маэстра и пересказывает разговор о сотрудничестве:
Именно там, в этих встречах, родилось понимание нами необходимости решительной перемены в жизни народа. Идея аграрной реформы приобрела четкие очертания, и требование о необходимости единения с народом перестало быть теорией, оно вошло неотъемлемой частью в нашу плоть и кровь.
Партизанский отряд и крестьянство стали сливаться в единую массу, причем никто не смог бы сказать, на каком именно отрезке нашего длинного пути это произошло. Что касается меня, я знаю только одно: в результате тех самых консультаций, которые я давал гуахиро Сьерры, моя стихийная и немного сентиментальная настроенность превратилась в более серьезную и решительную силу. Страдающие друзья – жители Сьерра-Маэстры – никогда не подозревали, какую роль они сыграли в качестве кузнецов нашей революционной идеологии[194].
Обратите внимание: Че Гевара подчеркивает, что единение с народом сыграло решающую роль в трансформации «стихийной и немного сентиментальной настроенности в более серьезную и решительную силу». Выходит, что именно в диалоге с крестьянами окончательно определился революционный праксис Че Гевары. Чего он не упомянул, вероятно, из скромности, так это того, что единение с народом стало возможным благодаря его личной скромности и способности к любви. И это неоспоримо диалогическое единение переросло в сотрудничество. Заметьте, Че Гевара (который не забирался на Сьерра-Маэстру вместе с Фиделем и его товарищами, когда они были недовольными юношами, искавшими приключений) признает, что его «единение с народом перестало быть теорией, оно вошло неотъемлемой частью в [его] плоть и кровь». Он подчеркивает, как с момента единения крестьяне стали «кузнецами революционной идеологии» партизан.
Даже своеобразный стиль, в котором Че Гевара пересказывает свой опыт и опыт своих товарищей и почти евангелическим языком описывает свои встречи с «бедными, верными» крестьянами, обнаруживает присущую этому выдающемуся человеку глубокую способность к любви и коммуникации. С этим связан и тот пыл, с которым он отзывается о работе другого преисполненного любви человека: Камило Торреса, «партизана-священника».
Без единения, которое порождает истинное сотрудничество, кубинский народ превратился бы в простое скопление объектов революционной деятельности людей со склонов Сьерра-Маэстры, и, будучи объектами, они не смогли бы стать приверженными общему делу. Большее, что могло произойти, – это их «присоединение», но это черта угнетения, а не революции.
В диалогической теории революционная деятельность ни на какой стадии не может отказаться от единения с людьми. Единение, в свою очередь, порождает сотрудничество, которое, как описывает Че Гевара, заставляет людей и лидеров слиться в единое целое. Такое слияние может произойти, только если революционные действия являются поистине человечными, основанными на эмпатии, любви, общении и скромности, чтобы они могли быть освободительными.
Революция любит и порождает жизнь, а для того, чтобы порождать жизнь, она может оказаться вынуждена пресекать попытки некоторых людей эту жизнь ограничивать. Вдобавок к циклу жизни и смерти, лежащему в основе природы, появляется другая разновидность смерти, идущая наперекор естественным законам бытия – смерть заживо, смерть, которой не позволяют осуществиться сполна[195].
Должно быть, здесь следует привести статистические данные, чтобы продемонстрировать, сколько бразильцев (и в целом латиноамериканцев) нельзя назвать людьми в полном смысле этого слова – это скорее «живые трупы»: отчаявшиеся мужчины, женщины и дети, ставшие жертвами бесконечной «невидимой войны»[196], в которой остатки их жизни поглощает туберкулез, бильгарциоз[197], детская диарея… бесчисленное множество болезней, от которых страдает беднота (и большинство которых в терминологии угнетателей именуются просто «тропическими болезнями»).
Отец Шену следующим образом комментирует возможную реакцию на столь серьезные ситуации, как те, что описаны выше:
Многие из священников, входящих в Совет, как и из осведомленных мирян, опасаются, что, столкнувшись с существующими в мире нуждами и страданиями, мы попросту начнем выражать эмоциональный протест и желание смягчить проявления и симптомы нищеты и несправедливости, не утруждаясь анализом их причин, который необходим, чтобы отвергнуть режим, заключающий в себе эту несправедливость и порождающий эту нищету[198].
Единство во имя освобождения
В то время как, согласно антидиалогической теории деятельности, угнетателями руководит необходимость разделять угнетенных, чтобы им было еще проще поддерживать состояние угнетения последних, диалогическая теория предполагает, что лидеры должны неустанно направлять свои усилия на объединение угнетенных (и объединение лидеров с угнетенными), чтобы достичь освобождения.
Сложность заключается в том, что этот аспект диалогической деятельности (как и все остальные) не может реализоваться в отрыве от праксиса. Праксис угнетения прост (или, по крайней мере, не сложен) для господствующей элиты. Но революционным лидерам непросто осуществлять праксис, направленный на освобождение. В первом случае угнетатели полагаются на использование инструментов власти, а во втором эта власть направлена против самих революционеров. Первые могут свободно объединяться, и, хотя в их среде могут происходить случайные временные расколы, они быстро объединяются вновь при появлении малейшей угрозы их принципиальным интересам. Последние не могут существовать без народа, и именно это условие служит первым препятствием для их попыток объединиться.
В самом деле, со стороны господствующей элиты было бы непоследовательным позволить революционным лидерам объединиться. Внутреннее единство господствующей элиты, которая усиливает и организует свою власть, требует, чтобы народ был разделен. Единство революционных лидеров существует лишь вместе с единством людей друг с другом и с ними. Единство элиты проистекает из ее антагонизма по отношению к народу, а единство революционных лидеров произрастает из единения с (объединенным) народом. Конкретная ситуация угнетения, которая порождает двойственность «я» угнетенных, тем самым делая их неоднозначными, эмоционально нестабильными и исполненными страха свободы существами, упрощает задачу разделять, которая стоит перед угнетателем, и препятствует объединению, которое необходимо для освобождения.
Кроме того, с объективной точки зрения господство само по себе сеет рознь. Оно удерживает «я» угнетенного в «сцепке» с реальностью, которая кажется всемогущей и всепоглощающей, а затем вызывает отчуждение, объясняя это могущество мистическими силами. Часть «я» угнетенного человека находится в реальности, с которой оно «сцеплено», а часть – вне самого человека, в мистических силах, на которые перекладывается ответственность за реальность, которую невозможно изменить. Человек мечется между одинаковыми прошлым и настоящим и безнадежным будущим. В его представлении он не находится в состоянии становления, а значит, не может иметь будущего, которое должно быть построено в единстве с другими. Но разрывая эту «сцепку» и объективизируя реальность, поднявшись над ней, он начинает оформляться как Субъект (как некое «я»), противостоящий реальности. В этот момент, раскалывая ложное единство своей раздробленной личности, он становится настоящим индивидом.
Чтобы разделять угнетенных, необходима идеология угнетения. Чтобы достичь их единства, напротив, требуется своеобразная культурная деятельность, в процессе которой они узнают, почему и как появилась их «сцепка» с реальностью – это требует разрушения идеологии. Таким образом, попытки объединить угнетенных требуют не просто выдумывания идеологических слоганов, ведь, искажая подлинные отношения между Субъектом и объективной реальностью, они отделяют когнитивное от эмоционального, а активные аспекты деятельности – от целостной неделимой личности.
Цель диалогической освободительной деятельности заключается не в том, чтобы «вытащить» угнетенных из мифологической реальности и «привязать» к какой-то другой. Напротив, цель диалогической деятельности заключается в том, чтобы дать угнетенным возможность осознать свою сцепку с несправедливой реальностью и пойти по пути ее трансформации.
Поскольку единство угнетенных подразумевает солидарность в их среде, вне зависимости от их конкретного статуса, это единство, без сомнения, требует наличия классового сознания. Однако состояние погруженности в реальность, характерное для крестьян Латинской Америки, означает, что, прежде чем осознать себя в роли угнетенного класса (или, по крайней мере, одновременно с этим), они должны достичь осознания себя в качестве угнетенных индивидов[199].
Европейским крестьянам представление в качестве проблемы того факта, что они являются людьми, может показаться странным. То же самое нельзя сказать о латиноамериканских крестьянах, ведь их мир, как правило, ограничивается территорией поместья, их жесты в определенной степени напоминают движения животных и деревьев, и они считают, что находятся с последними на равных.
Человек, неразрывно связанный таким образом с природой и с угнетателем, должен научиться воспринимать себя как личность, которой не позволяют быть. А сделать такое открытие в первую очередь означает научиться смотреть на себя как на Педро, Антонио или Жозефу. Это открытие подразумевает новое восприятие смысла, присущего названиям: слова «мир», «люди», «культура», «дерево», «работа», «животное» вновь приобретают свое истинное значение. Теперь крестьянин воспринимает себя как человека, трансформирующего реальность (которая до этого представляла собой некую мистическую сущность) посредством своего созидательного труда. Он обнаруживает, что (как человек) он больше не может оставаться «вещью», находящейся в собственности другого, и может перейти от осознания себя в роли угнетенного к осознанию своей принадлежности к угнетенному классу.
Любая попытка объединить крестьян при помощи активистских методов, которые основаны на «слоганах» и не затрагивают фундаментальных аспектов, порождает лишь видимость единства, придавая их действиям чисто механистический характер. Единство угнетенных рождается на человеческом уровне, а не на уровне вещей. Оно рождается в реальности, которая может быть по-настоящему понята лишь в контексте диалектики между подструктурой и суперструктурой.
Для того чтобы угнетенные объединились, они должны сначала порвать пуповину магии и мифа, которая соединяет их с миром угнетения: их единство друг с другом должно иметь другую природу. Для достижения этого необходимого единства революционный процесс должен с самого начала представлять собой культурную деятельность. Методы достижения единства угнетенных будут зависеть от их исторического и экзистенциального опыта внутри существующей социальной структуры.
Крестьяне живут в «закрытой» реальности с единым, компактным центром, где принимаются решения по их угнетению. Городские угнетенные живут в более широком контексте, который предполагает наличие множества различных командных центров угнетения. Крестьяне живут под контролем господствующего авторитета, который воплощает собой систему угнетения. В городе угнетенные подвергаются «безличностному угнетению». В обоих случаях угнетающая сила в той или иной степени «невидима»: в сельской местности – из-за ее близости к угнетенным, в городах – из-за ее рассредоточенности.
Тем не менее культурная деятельность в столь разных ситуациях преследует одну и ту же цель: прояснить для угнетенных объективную ситуацию, которая связывает их с угнетателями, вне зависимости от того, видимы последние или нет. Лишь те действия, которые избегают простого словоблудия и бесполезного разглагольствования с одной стороны и механистического активизма – с другой, могут быть противопоставлены попыткам доминирующей элиты разделить народ, и лишь с их помощью можно продвинуться на пути к объединению угнетенных.
Организация
В теории антидиалогической деятельности манипулирование представляется необходимым для покорения и господства. В диалогической теории такой манипуляции антагонистически противопоставляется организация людей. Она не только напрямую связана с единством, но также представляет собой процесс естественного зарождения этого единства. Соответственно, борьба лидеров за достижение единства неизбежно становится еще и попыткой организовать народ, которая требует, чтобы тот факт, что борьба за освобождение – это общая задача, находил подтверждение на практике. Это постоянное, смиренное и мужественное подтверждение, рождающееся из сотрудничества и общих усилий, направленных на освобождение людей, позволяет избежать угрозы антидиалогического контроля. Оно может выражаться в разных формах, в зависимости от исторических условий, в которых существует общество, однако само по себе оно является неотъемлемой составляющей революционной деятельности.
Следовательно, для того чтобы определить, что и как следует подтверждать, необходимо постоянно углубляющееся критическое знание текущего исторического контекста, присущего людям мировоззрения, основного конфликта, существующего в обществе, и принципа, лежащего в основе этого конфликта. Поскольку это исторические, диалогические, а значит, диалектические аспекты, не следует просто заимствовать их из других контекстов, не проанализировав тот контекст, в котором осуществляется это подтверждение. Поступить иначе значит абсолютизировать и мифологизировать относительное, а в этом случае отчуждение становится неизбежным. Подтверждение делом, согласно диалогической теории деятельности, – это одно из основных отражений культурного и образовательного характера революции.
Важнейшие элементы практического подтверждения, которые не меняются в зависимости от исторического контекста, включают в себя согласованность слов и действий, храбрость, которая заставляет тех, кто подтверждает свои убеждения, принимать существование как постоянный риск, радикализацию (но не сектантство), подталкивающую тех, кто подтверждает свои убеждения и тех, перед кем они их подтверждают, к постоянно набирающей обороты деятельности, мужество любить (которое является вовсе не способом адаптироваться к несправедливому миру, а скорее стремлением к трансформации этого мира в интересах все более полного освобождения человечества), и веру в людей, поскольку именно перед ними необходимо подтверждать верность своим убеждениям, хотя из-за их диалектических отношений с господствующей элитой это сказывается также и на ней (и она реагирует на эти подтверждения в присущей ей манере).
Любое подлинное (то есть критическое) подтверждение верности своим убеждениям подразумевает смелость идти на риск, в том числе допускать вероятность того, что лидерам не всегда будет удаваться немедленно завоевать приверженность народа. Если такое подтверждение не принесло плодов в определенный момент и при определенных обстоятельствах, это еще не значит, что оно не сможет принести результаты завтра. Поскольку подтверждение верности своим убеждениям – это не абстрактный акт, а действие – столкновение с миром и с людьми, оно не статично. Это динамическая составляющая, которая становится частью социального контекста, в котором она возникает. С этого момента она не перестает влиять на этот контекст[200].
В антидиалогической деятельности манипулирование служит обезболивающим, которое обездвиживает людей и облегчает процесс их подчинения. В диалогической деятельности манипулирование преодолевается через подлинную организацию. В антидиалогической деятельности манипулирование служит целям покорения, в диалогической – смелое и преисполненное любви подтверждение верности своим убеждениям служит целям организации.
Для господствующей элиты организация – в первую очередь объединение между собой. Для революционных лидеров организация – это объединение между собой и с людьми. В первом случае господствующая элита все больше структурирует свою власть, чтобы иметь возможность более эффективно доминировать и обезличивать. Во втором организация не противоречит собственной сути и цели, лишь если она представляет собой метод достижения свободы. Соответственно, дисциплину, необходимую для любой организации, не следует путать с муштровкой. Действительно, без лидерства, без дисциплины, без решительности и четких целей, без очерчивания задач, которые необходимо выполнить, и указания того, как необходимо отчитаться, организацию осуществить не удастся, и, следовательно, революционная деятельность будет подорвана. Этот факт, однако, никогда не сможет оправдать отношение к людям как к вещам, которыми следует пользоваться. Само по себе угнетение уже лишает человека личности – если революционные лидеры будут манипулировать людьми, вместо того чтобы добиваться их консайентизации, сама цель организации (а значит, освобождения) будет нивелирована.
Организация людей – это процесс, в ходе которого революционные лидеры, также лишенные возможности произносить собственное слово[201], учатся называть мир. Это опыт истинного обучения, и в силу этого он диалогичен. Поэтому лидеры не могут произносить свое слово в одиночку, они должны произносить его вместе с народом. Лидеры, которые отказываются действовать диалогически, вместо этого навязывая собственные решения, не организуют людей – они ими манипулируют. Они не освобождают и не освобождаются – они угнетают.
Тот факт, что лидеры, которые организуют людей, не имеют права своевольно навязывать кому бы то ни было собственное слово, не означает, что из-за этого они должны занять либералистские позиции, которые способствовали бы вольности среди людей, привыкших к угнетению. Диалогическая теория деятельности отрицает как авторитаризм, так и вседозволенность, и, следовательно, устанавливает ценность авторитета и свободы. Любая свобода подразумевает вероятность того, что при определенных обстоятельствах (и на разных экзистенциальных уровнях) она может стать властью. Свобода и власть не могут быть изолированными, их следует рассматривать во взаимодействии друг с другом[202].
Подлинная власть утверждается не через передачу властных полномочий, а через их делегирование или основанное на сочувствии объединение. Если власть просто передается от одной группы к другой или навязывается большинству, она деградирует и превращается в авторитаризм. Власть может избежать конфликта со свободой, только если она представляет собой «свободу, становящуюся властью». Если либо одно, либо второе принимает гипертрофированные масштабы, второе атрофируется. Так же, как власть не может существовать без свободы и наоборот, авторитаризм не может существовать, не отрицая свободу, а вседозволенность – не отрицая власть.
Согласно теории диалогической деятельности, для организации необходима власть, чтобы первая не стала авторитарной. Для нее также необходима свобода, чтобы она не стала разнузданной. Организация – это скорее в высшей степени образовательный процесс, в ходе которого лидеры и люди вместе практикуют подлинную власть и свободу, которую они могут установить в обществе, трансформируя реальность, которая служит посредником в их взаимодействии.
Культурный синтез
Культурная деятельность всегда представляет собой систематическую и продуманную форму действий, которая воздействует на социальную структуру либо с целью ее сохранить, либо с целью ее трансформировать. Как разновидность продуманной и систематической деятельности, любая культурная деятельность основана на той или иной теории, которая определяет ее цели и, соответственно, ее методы. Культурная деятельность служит либо целям господства (сознательно или неосознанно), либо цели освобождения людей. В то время как эти противоположные формы культурной деятельности воздействуют на социальную структуру, они создают диалектические отношения между постоянством и изменением.
Чтобы социальная структура чем-то была, она должна чем-то стать. Другими словами, становление — это способ, с помощью которого социальная структура выражает «продолжительность», если выражаться бергсоновскими терминами[203].
Антидиалогическая культурная деятельность, казалось бы, направлена на мифологизацию таких противоречий, с помощью которой она стремится избежать кардинальной трансформации реальности (или замедлить ее, насколько это возможно). Антидиалогическая деятельность эксплицитно или имплицитно направлена на сохранение внутри существующей социальной структуры ситуаций, выгодных тем, кто ее осуществляет. В то время как последние ни за то бы не приняли трансформацию системы, достаточно кардинальную для того, чтобы преодолеть существующие конфликты, они могут принять реформы, которые никак не влияют на их власть решать судьбу угнетенных. Таким образом, эта методика деятельности подразумевает покорение народа, его разделение, манипулирование им и культурную интервенцию. Она в основе своей обязательно представляет собой искусственно спровоцированные действия. Что касается диалогической деятельности, она характеризуется преодолением этого аспекта искусственности. Неспособность антидиалогической деятельности преодолеть свой искусственный характер – это следствие ее цели, которая заключается в господстве. Диалогическая деятельность на это способна, ведь ее цель заключается в освобождении.
В ходе культурной интервенции деятели (которым даже не приходится лично входить в оккупируемую культуру, ведь их действия все чаще осуществляются через технологические инструменты) навязывают свое господство людям, которым отдается роль наблюдателей, роль объектов. В контексте культурного синтеза деятели становятся едины с людьми, которые выступают в качестве соавторов действий, посредством которых они воздействуют на мир.
В ходе культурной интервенции и наблюдатели, и реальность, которую необходимо сохранить, предстают как объекты, на которые направлены действия угнетателей. В контексте культурного синтеза наблюдателей нет: объектом деятельности является реальность, которую следует трансформировать ради освобождения людей.
Таким образом, культурный синтез – это способ действия, направленный на конфронтацию с самой культурой как с инструментом сохранения тех самых структур, которые ее сформировали. Культурная деятельность как деятельность историческая является средством преодоления доминирующей отчужденной и отчуждающей культуры. В этом смысле любая подлинная революция представляет собой революцию культурную.
Исследование «генеративных тем», или значимых тематик народа, описанное в главе 3, служит точкой отсчета в процессе деятельности как культурного синтеза. В самом деле, невозможно разделить этот процесс на две отдельные стадии: первую – тематическое исследование и вторую – действие как культурный синтез. Такая дихотомия подразумевала бы наличие первой стадии, на которой люди, как пассивные объекты, подвергались бы изучению, анализу и исследованию со стороны исследователей: такая практика уместна в рамках антидиалогической деятельности. Такое разделение привело бы нас к наивному выводу, что представление о действии как о синтезе вытекает из представления о действии как о вторжении.
В диалогической теории нет места такому делению. Субъекты тематического исследования – это не только профессиональные исследователи, но и люди из народа, чья тематическая вселенная должна быть изучена. Исследование – начало действия и культурного синтеза – устанавливает атмосферу творчества, которая склонна развиваться на последующих стадиях этой деятельности. Такая атмосфера невозможна при культурной интервенции, которая через отчуждение убивает творческий энтузиазм оккупируемых, лишая их надежды и вселяя в них страх идти на риск и экспериментировать – риск, без которого невозможно настоящее творчество.
Оккупируемые, на каком бы уровне они ни находились, редко выходят за границы моделей, которые предписаны для них захватчиками. В контексте культурного синтеза захватчиков нет. Следовательно, нет и навязанных ими моделей. Вместо них есть деятели, которые критически анализируют реальность (никогда не отделяя этот анализ от действия) и в качестве Субъектов вмешиваются в исторический процесс.
Вместо того чтобы следовать заранее определенным планам, лидеры и люди, отождествляющие себя друг с другом, вместе вырабатывают принципы своих действий. В своем синтезе лидеры и люди каким-то образом перерождаются в своем новом знании и в своем новом действии. Знание отчужденной культуры подталкивает к деятельности, которая направлена на трансформацию и в результате которой появляется культура, свободная от отчуждения. Более рафинированные знания лидеров превращаются в эмпирические знания народа, в то время как знания последних углубляются за счет первых.
В рамках культурного синтеза (и только) возможно разрешить противоречие между мировоззрением лидеров и взглядами, которые свойственны людям, от чего выигрывают как первые, так и вторые. Культурный синтез не отрицает различий между этими двумя способами восприятия мира: в действительности он основан на этих различиях. Он отрицает интервенцию первого по отношению ко второму и устанавливает неоспоримый принцип поддержки, которую один оказывает другому.
Революционным лидерам не следует объединяться отдельно от людей. Любое противоречие с народом, возникшее случайно, из-за исторических условий, должно быть разрешено – не усилено посредством культурной интервенции в рамках навязанных отношений. Культурный синтез – это единственно верный путь.
Революционные деятели допускают много ошибок и просчетов, не учитывая нечто очень реальное для мировоззрения людей – мировоззрения, которое в эксплицитном и имплицитном виде содержит в себе их заботы, их сомнения, их надежды, их мнение о лидерах, их восприятие самих себя и угнетателей, их религиозные воззрения (почти всегда синкретические), их фатализм и их бунтарские порывы. Ни одну из этих составляющих нельзя рассматривать отдельно, ведь все они, взаимодействуя, составляют одно целое. Угнетатель заинтересован в том, чтобы узнать это целое лишь для того, чтобы углубить свое вмешательство с целью обрести и сохранить свое господство. Для революционных лидеров знание этого целого представляет собой необходимое условие их деятельности как культурного синтеза.
Культурный синтез (именно потому, что это синтез) не означает, что цели революционной деятельности должны ограничиваться надеждами, выраженными в мировоззрении народа. Если бы так случилось (под предлогом уважения к этому мировоззрению), революционные лидеры были бы связаны этим видением ситуации. Ни вмешательство в мировоззрение людей, ни простая адаптация лидеров к (часто наивным) чаяниям народа не приемлемы.
Следует уточнить: если в определенный исторический момент основные желания людей ограничиваются требованием повысить заработную плату, лидеры могут допустить две ошибки. Они могут ограничить свою деятельность поощрением этого требования[204] или же задавить это всеобщее желание и заменить его чем-то, что более масштабно, но еще не успело привлечь внимание народа. В первом случае революционные лидеры стараются приспособиться к требованиям людей. Во втором, не проявляя уважения к их чаяниям, они скатываются в русло культурной интервенции.
Решение заключается в синтезе: лидеры должны, с одной стороны, согласиться с народным требованием повысить заработную плату, а с другой – позиционировать само значение этого требования как проблему. Поступая таким образом, лидеры позиционируют в качестве проблемы реальную, конкретную историческую ситуацию, одним из аспектов которой является низкая заработная плата. Таким образом, станет ясно, что одно лишь требование о повышении заработной платы не может служить конечным способом решить проблему. Суть необходимого решения можно обнаружить в процитированных ранее словах священников из стран третьего мира о том, что «если рабочие каким-либо образом не станут хозяевами собственного труда, любые структурные реформы окажутся неэффективными… они должны быть хозяевами, а не продавцами своего труда… ведь любая покупка и продажа труда – это разновидность рабства».
Достичь критического осознания того факта, что необходимо быть «хозяином своего труда», что труд «составляет часть человеческой личности» и что «человек не может ни быть проданным, ни продать самого себя», означает перешагнуть рамки обманчивых, «болеутоляющих» решений. Это означает присоединиться к делу подлинной трансформации реальности, чтобы, гуманизируя ее, гуманизировать людей.
В рамках антидиалогической теории деятельности культурная интервенция служит целям манипулирования, которое, в свою очередь, служит целям покорения, а покорение – целям господства. Культурный синтез служит целям организации, а организация направлена на освобождение.
Данный труд посвящен одной очевидной истине: так же, как угнетателю, чтобы он мог угнетать, нужна теория деятельности угнетения, так и угнетенным, чтобы они могли обрести свободу, нужна своя теория деятельности.
Угнетатель разрабатывает свою теорию действий в отрыве от людей, ведь он им противопоставлен. Так и люди – до тех пор, пока их подавляют и угнетают, до тех пор, пока они впитывают образ угнетателя, – не могут самостоятельно выстроить теорию своей освободительной деятельности. Эта теория может родиться лишь в контексте взаимодействия людей и революционных лидеров, в их общности, в их совместном праксисе.
Послесловие Борьба продолжается
Теперь я принадлежу не к «массам», а к «людям» и могу требовать соблюдения своих прав.
Франциска Андраде, студентка, участвовавшая в собраниях культурного кружка Паулу Фрейре в Анжикусе, 1963 (Kirkendall, 40)Последнее собрание культурного кружка в бразильском муниципалитете Анжикус состоялось 2 апреля 1963 года. На нем присутствовал не только Паулу Фрейре, но и либеральный президент республики Жуан Гуларт. Фрейре сказал президенту, что «сегодня существует народ, который принимает решения, который восстает, который начинает осознавать свою судьбу и участвовать в бразильском историческом процессе». (Kirkendall, 40). На этой церемонии присутствовал еще один высокопоставленный гость – генерал Умберту Кастелу Бранку, который ровно через год, практически день в день, отменил демократию, свергнув президента Гуларта и свернув программу Паулу Фрейре, а его самого посадив за решетку.
В течение многих лет после этого в Бразилии царил мрак. Я бы даже сказала, что эта книга родилась во тьме или, еще лучше, что она родилась для борьбы с тьмой, а может, и вовсе для того, чтобы появилась надежда и началось противостояние угнетению. Одним из направлений деятельности развивающегося демократического движения в Бразилии стала методика Фрейре по обучению чтению и письму всего за 40 часов не слишком дорогостоящих занятий. Освоив основы грамотности, бедные крестьяне и рабочие наконец смогли получить право голоса после многолетнего молчания, навязанного им властями. За счет этого число избирателей из низших слоев населения значительно увеличилось. Если бы тысячи культурных кружков Фрейре открылись, как и планировалось, после ужасного апреля 1964 года, миллионы неграмотных рабочих смогли бы научиться читать и писать достаточно хорошо, чтобы зарегистрироваться в качестве избирателей и тем самым перетянуть политическую власть на сторону большинства. Чтобы не допустить этого, олигархия вместе с военными свергла администрацию Гуларта, которая победила на выборах и назначила Фрейре на государственный пост. После допросов и заключения в тюрьме Фрейре был вынужден покинуть страну. После этого до 1980 года он странствовал по свету со своей женой Эльзой и пятью детьми. Его книги были запрещены в Бразилии, а он сам – изгнан из родной страны на самом пике политической карьеры. Других, тех, кто не смог сбежать, посадили в тюрьму, подчинили или подвергли травле, в то время как консервативная элита, заручившаяся поддержкой генералов, вернула себе ничем не ограниченную власть. В последующие годы Паулу Фрейре использует свое изгнание с пользой, выступая перед толпами людей в Европе и Северной Америке, предоставляя консультации правительствам, общественно-политическим организациям и руководителям местных проектов, и постепенно становясь самым известным преподавателем и защитником социальной справедливости своего времени. Он писал «Педагогику угнетенных», когда еще свежи были раны, нанесенные стране государственным переворотом: «Методика постановки проблем – это революционное будущее… Любая ситуация, в которой одни люди не позволяют другим участвовать в процессе исследования, является актом насилия» (глава 2).
На свете мало книг, которые бы столь широко обсуждались, из которых делали бы столько выдержек, которые бы столь часто цитировались и использовались для обучения преподавателей, студентов, магистрантов и учеников старших классов некоторых школ (об этом свидетельствует запрет его книги в Тусоне в 2012 году). Как можно объяснить столь высокую популярность книги «Педагогика угнетенных» 50 лет спустя?
Всего в четырех коротких главах Фрейре удалось поднять широкий спектр вопросов:
1. Необходимо создание теории и практики критической педагогики, призванной ставить под вопрос статус-кво во имя социальной справедливости.
2. Эта теория и эта практика включают в себя «ситуативную педагогику», которая может быть адаптирована под определенное место, разных участников и различные условия.
3. Такая ситуативная педагогика обеспечивает богатый запас практических средств: диалогический метод обучения, «исследование, основанное на постановке проблем» вместо зазубривания, характерного для «банковской педагогики», «неопробованная возможность», «ограничивающие ситуации и действия против ограничений», «культурные кружки», «учитель-ученик и ученики-учителя», «лексическая вселенная», «генеративная тема» и «генеративное слово», «кодирование и декодирование», «консайентизация, или движение к критическому осознанию», «буферные темы» и «антропологическое представление о культуре», праксис или действие/размышление – цикличное теоретизирование практики и применение теории на практике.
4. Терминология критической теории и практики эволюционировала по мере того, как Паулу проводил эксперименты по обучению взрослых вне официальной школьной системы еще за 15 лет до государственного переворота. Впоследствии эта система была адаптирована для дошкольных, школьных и высших учебных заведений.
5. Будучи открытой для различных ситуаций практического применения критической педагогики, эта книга по своему содержанию пересекается с многокультурной, антирасистской и феминистской педагогикой, а также с другими движениями, появившимися в то время и схожим образом ориентированными на равенство, демократию и социальную справедливость.
6. Ориентированность этой книги на социальную справедливость проявилась только тогда, когда массовые движения за радикальные перемены стали глобальным феноменом, когда, по словам Мишеля Фуко, «широко распространились и все усиливаются критические отношения в определении вещей, институтов, практик, дискурсов», и после того, как в среде педагогов в наступление перешли сторонники конструктивистских методов и подхода, ориентированного на учеников.
7. Ориентированная на студента, конструктивистская и критикующая неравенство теория и практика Фрейре представляла обучение как политический процесс. Ни одна педагогика не может быть нейтральной, ведь она служит делу развития человека и тем или иным образом формирует его сознание в зависимости от идеологии, которой подчинено ее содержание, от характеризующих дискурс социальных отношений и учебного процесса, предусмотренного программой. Если педагогика или учебная программа не ставит под вопрос статус-кво, она, по определению, поддерживает его либо действием, либо бездействием.
8. Такой учебный процесс предлагает привлекательные моральные ценности, основанные на этике взаимопомощи и профессиональной ответственности за обучение тому, как создать менее жестокий и безжалостный мир. Обеспокоенность Фрейре гуманизацией и дегуманизацией заставила его поставить этот вопрос ребром на первой же странице.
9. И наконец, четвертая глава – это уникальное обращение к будущим революционным лидерам, а не просто совет для критических педагогов. В ней автор упрекает оппозиционных лидеров, которые осуждают господство, однако при этом опускаются до авторитарных монологов, проповедничества, абстрактных рассуждений, бюрократических правил и пропаганды (которая на уроках Фрейре запрещена).
Вышеперечисленные пункты могут объяснить столь долгую популярность и влияние этой небольшой книги, которая была написана скорее не как педагогический трактат, а появилась благодаря размышлениям Фрейре над собственной практикой и опытом. «“Педагогика угнетенных” родилась не только как результат исследований и размышлений, – пишет Фрейре во вступлении к книге. – Эта книга, – говорит он, – основана на конкретных ситуациях, и в ней описывается реакция трудящихся (крестьян и городских жителей) и представителей среднего класса, за которыми я непосредственно или косвенно наблюдал в ходе своей педагогической деятельности».
Паулу полагал, что критическое обучение в школах и при организации социальных движений требует больших умственных усилий и готовности идти на политический риск. Движения, у которых есть собственные образовательные программы, противостоят грозным властям, которых Паулу называет «силой у власти». Каждый день в школах и колледжах студенты и преподаватели строят свою жизнь, но в условиях, продиктованных извне и сверху («ограничивающие ситуации», которым как «действие против ограничения» противостоит критическая педагогика). Паулу был особенно сконцентрирован на том, чтобы сделать возможным критическое обучение в массовых движениях («сила, которая еще не у власти»), однако в 1989 году, когда Партия трудящихся взяла контроль над администрацией, он был назначен на пост министра образования штата Сан-Паулу, где насчитывалось 643 школы. В течение всей жизни и карьеры для Паулу самыми основополагающими из затронутых в этой книге вопросов оставались следующие: В каком мире мы живем? Почему он таков? Каким бы мы хотели его видеть? Как нам этого достичь?
Айра Шор, колледж Статен-Айленд, Городской университет Нью-Йорка, СШАНью-Йорк, апрель 2017 г.Примечания
Foucault Michel. Society Must Be Defended / Trans. by David Macey. N. Y.: Picador, 2003. (На рус. яз.: Фуко Мишель. Нужно защищать общество. СПб.: Наука, 2005.)
Freire Paulo. Pedagogy of the Oppressed / Trans. by Myra Bergman Ramos. Rev. 20th Anniversary Edition. N. Y.: Continuum, 1993.
Kirkendall Andrew J. Paulo Freire and the Cold War Politics of Literacy. Chapel Hill: UNC Press, 2010.
Интервью с современными учеными
Марина Апарисио Барберан Институт Паулу Фрейре, Испания
Пожалуйста, скажите несколько слов о том, чем вы занимаетесь, и о ваших текущих научных интересах.
Я политолог (получила диплом бакалавра в Университете Помпеу Фабра), специализируюсь на анализе и оценке общественной и социальной политики (также окончила курсы магистратуры в Университете Джонса Хопкинса и Университете Валенсии). Сфера моих научных интересов – анализ политики, политического и электорального поведения, политической и парламентской элиты.
Каким образом произошло ваше знакомство с «Педагогикой угнетенных» Фрейре?
Впервые я прочитала «Педагогику угнетенных» в 2006 году; я была участником и членом представительства Центра ресурсов и непрерывного образования (исп. Centro de Recursos y Educación Contínua Deputacion) в Валенсии, возглавляемого Пепом Апарисио Гуадасом (1999–2013). В этом центре я занималась публицистической работой, а также организационными и образовательными вопросами, имеющими отношение к моим навыкам и сфере деятельности. В то же время я продолжала изучать политологию, а также различные направления деятельности внутри общественных движений.
Прежде я читала некоторые работы Фрейре, но, я думаю, важно подчеркнуть, насколько меня захватила именно эта книга… его анализ, его слова, то, как он описывает различные аспекты реальной жизни, в которую все мы погружены, его конкретика, его идеи, его проницательность и ясность изложения… Можно сказать, что такие книги, как «Педагогика угнетенных», «Педагогика вопроса» (англ. Pedagogy of the Question) и «Педагогика надежды» (англ. Pedagogy of Hope), сыграли ключевую роль в формировании концепции и динамики чтения, а также словесного описания мира, и в воплощении этой идеи в жизнь.
Какова, на ваш взгляд, была бы реакция Паулу Фрейре на то, как его идеи применяются сегодня?
С моей точки зрения, у него были бы смешанные чувства. С одной стороны, он был бы рад увидеть, что его «утопия», теория и практика, его стиль жизни и работы стремительно распространились по всему миру, а общество находится в руках мужчин и женщин, вовлеченных в процесс субъективного восприятия и/или осознания.
С другой стороны, Фрейре оказался бы в определенной степени разочарован, узнай он, как многие его концепты ошибочно используются на практике – в университетах, правительствах и общественных движениях. Также он испытал бы замешательство, увидев, что значительная часть его анализа и аргументов, высказанных в «Педагогике угнетенных», могут использоваться и по сей день.
Каким, на ваш взгляд, должен быть сегодня университет, следующий теории Фрейре?
В центре внимания фрейреанского университета находилась бы методологическая деятельность по теоретическому и практическому вмешательству, ведущая к сознательной практике и культивирующая в университете культуру участия и сотрудничества. Другими словами, это был бы университет, где процесс обретения осознанности через диалог и постоянные дискуссии со сверстниками вел бы к началу процесса освобождения. То есть мы смогли бы освободиться от той динамики, тех действий и процедур, которые мы все усвоили, для того чтобы двигаться к демократичному, гибкому, открытому, объединенному обществу, где мы смогли бы побороть сектантство, в которое мы вовлечены как «Субъекты», и стать думающими мужчинами, женщинами и детьми (а не угнетенными субъектами).
Какую мысль, по вашему мнению, студентам следовало бы почерпнуть из «Педагогики угнетенных»?
Я не могу ограничиться чем-то одним. Я бы выбрала метод диалога и эмансипации, понимание политики, этики и образования через постановку проблем. Я бы выбрала критический анализ конкретных аспектов реальности. Но прежде всего я бы выбрала положение о том, что чтение мира предшествует чтению слова, причем как мир, так и слово находятся в процессе постоянной трансформации и мы всегда играем основные роли в осуществлении этих действий.
Ноам Хомский Массачусетский технологический институт, США
Пожалуйста, скажите несколько слов о том, чем вы занимаетесь, и о ваших текущих научных интересах.
Лингвистика, когнитивистика, философия.
Какова, на ваш взгляд, была бы реакция Паулу Фрейре на то, как его идеи применяются сегодня?
Я думаю, в целом он пришел бы в ужас от нынешних педагогических доктрин, которые предполагают лишь натаскивание на тесты.
Каким, на ваш взгляд, должен быть сегодня университет, следующий теории Фрейре?
Образование должно отвергать представление об обучении как о наполнении сосуда водой (фраза, которая использовалась в эпоху Просвещения, «банковская модель» по Фрейре) и вместо этого подталкивать студентов к активному поиску понимания, создавая среду взаимодействия между студентом и преподавательским составом. В значительной степени похожие принципы справедливы и в отношении преподавания точных наук в его наилучшем проявлении, а иногда и в отношении других областей.
Какую мысль, по вашему мнению, студентам следовало бы почерпнуть из «Педагогики угнетенных»?
Им следует понять, что обучение должно быть процессом познания себя, развития собственных способностей, раскрытия собственных интересов и открытого и независимого поиска волнующих лично их проблем в постоянном взаимодействии с другими.
Густаво Фишман Университет штата Аризона, США
Пожалуйста, скажите несколько слов о том, чем вы занимаетесь, и о ваших текущих научных интересах.
Я преподаю образовательную политику и руковожу программой edXchange[205] – проектом по мобилизации знаний в Педагогическом колледже Мэри Лу Фюльтон при Университете штата Аризона. Я начал карьеру в области образования в 1980-х как преподаватель муниципальной школы без какого-либо педагогического образования или исследовательских заслуг. Общее образование в то время было очень близко идеалам Фрейре и направлено не на авторитарный, а на контролируемый педагогический подход с целью социального освобождения.
Каким образом произошло ваше знакомство с «Педагогикой угнетенных» Фрейре?
Когда я впервые услышал о «Педагогике угнетенных», я вовсе не захотел ее читать, а, напротив, решил, что ее лучше проигнорировать. В 1977 году, когда мне было 16 лет, я изучал промышленную химию в техническом училище в Буэнос-Айресе. Я не очень разбирался в политике, но, как любой другой в этой стране, я четко осознавал, что мы живем в условиях жестокого диктаторского режима. Я до сих пор злюсь, вспоминая, в каком я был замешательстве, когда директор нашей школы, следуя указаниям Министерства образования, вывешивал объявления о том, что хранение книг из списка «безнравственного и опасного чтения» было доказательством «причастности к терроризму» и являлось достаточным основанием для исключения. Я помню, что мне было очень интересно, как это книга об образовании попала в длинный список «опасных» книг.
Семь лет спустя, в сентябре 1984 года, я был членом одной известной образовательной группы, которая на добровольных началах работала в бедном районе Буэнос-Айреса в рамках проекта по ликвидации безграмотности среди взрослых. И тогда мой отец сообщил мне, что Международный совет по образованию взрослых (ICAE) ищет волонтеров для организации ежегодного собрания. Главным докладчиком должен был стать Паулу Фрейре, который впервые возвращался в Аргентину после введения запрета на его книги. Я сразу же вызвался работать в команде, организующей это собрание, получил потрепанное издание «Педагогики угнетенных» и начал неофициальное изучение идей Фрейре.
Каким, на ваш взгляд, должен быть сегодня университет, следующий теории Фрейре?
Согласно заявлению Фрейре о том, что нужно быть простым, но избегать упрощений, у Университета Фрейре должны быть три основные характеристики. Во-первых, он должен быть создан для того, чтобы претворить в жизнь педагогику освобождения, преданную принципам свободы, равенства, всеохватности и солидарности. Благодаря педагогике освобождения студенты будут вовлечены в увлекательный, тщательный и практичный процесс обучения, труда и исследования. Во-вторых, состав студентов, преподавателей и администрации должен быть столь же разнообразен, как и их сообщества. Разнообразен в двух разных, но родственных смыслах: имеется в виду предоставление услуг различным секторам и всем социальным группам, а также разнообразие идей и ориентиров. И в-третьих, фрейреанский университет будет устроен как лаборатория совместного демократического управления.
Не могли бы вы описать, как и в какой мере работа Фрейре повлияла на педагогику?
Я думаю, влияние работ Фрейре выражается в первую очередь в том, что они продемонстрировали, как даже краткосрочный опыт демократичного обучения – в школе, где всего лишь один класс, или вообще вне школы, с детьми или взрослыми, – приносит свои плоды. Такой опыт учит нас не только ожидать большего от себя как от преподавателей или учеников, но также связывать личные и социальные действия с целью достижения равенства и солидарности.
Рамон Флеча Барселонский университет, Испания
Пожалуйста, скажите несколько слов о том, чем вы занимаетесь, и о ваших текущих научных интересах.
Я посвящаю себя научным исследованиям ради поиска интеллектуального и человеческого совершенства, фокусируясь на выявлении конкретных мер преодоления неравенства в различных социальных сферах: притеснение этносов и национальных меньшинств; дискриминация по гендерному признаку, особенно в исследованиях маскулинности; образование; экономика, в частности то, как организациям удается преодолевать неравенство доходов и т. д. Другими словами, изучение неравенства как такового меня никогда не интересовало, поскольку, на мой взгляд, подобный анализ приносит пользу лишь людям, которые им занимаются. Я, скорее, заинтересован в исследовании мер, предпринимаемых людьми для активного преодоления неравенства, что очень ценил Фрейре.
Какова, на ваш взгляд, была бы реакция Паулу Фрейре на то, как его идеи применяются сегодня?
Я не знаю, какова была бы его реакция, но могу точно сказать, что Фрейре обладал незаурядной интуицией и всегда шел впереди своего времени. В 1969 году в своей книге «Педагогика угнетенных» он уже разработал теорию диалогического действия, которая в социальной науке появилась лишь в 1981 году, двенадцатью годами позже в теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса. То, что Фрейре определял как диалогическое действие или диалогический подход, представляет собой современную тенденцию в социальных науках, экономике, социологии, антропологии и политологии. Я думаю, Фрейре был бы доволен тем, что социальные науки сегодня развиваются согласно диалогическому подходу, который он предвидел в 1960-х.
Не могли бы вы описать, как и в какой мере работа Фрейре повлияла на научные исследования?
Я думаю, что работа Фрейре имела исключительно положительный эффект. Диалогический подход помог продемонстрировать, что необходимо вести открытый диалог с людьми, которые являются предметом исследования. Однако дело в том, что этот термин «диалог» зачастую понимается в смысле, отличном от того, который закладывал в него Фрейре. Исследование должно представлять собой настоящий диалог с конечными пользователями результатов данного исследования. Испытуемый может хоть по восемь часов в день работать уборщиком на полную ставку: исследователю платят за расширение научных знаний. К сожалению, многие поняли лишь ту часть, где говорится про «ведение диалога с субъектами исследования», и выполняют лишь часть своих обязанностей, не стараясь работать в полную силу, как это делал Фрейре, и не утруждая себя чтением соответствующей специальной литературы в области социальных наук, чтобы использовать почерпнутые из нее знания для ведения диалога с людьми, ради которых исследование проводится.
Не могли бы вы описать, как и в какой мере работа Фрейре повлияла на педагогику?
Без сомнения, работа Фрейре вызвала впечатляющий отклик по всему миру. Возможно, он является наиболее влиятельным ученым в сфере образования. Проблема заключается в том, что зачастую его влияние не находит отражения в образовательной практике. Возьмем, к примеру, университеты, где многие называют себя последователями Фрейре, но ничего не делают для того, чтобы изменить существующие школьные условия или образовательные практики с тем, чтобы они соответствовали его учению.
Какую мысль, по вашему мнению, студентам следовало бы почерпнуть из «Педагогики угнетенных»?
Мне бы особенно хотелось, чтобы студенты выделили для себя то, что игнорируется большинством образовательных систем, а именно – право каждого ребенка на образование. Зачастую решения принимаются исходя из мотивов, которые далеки от таких причин, как улучшение результатов обучения каждого ребенка. Крайне важно, чтобы студенты, изучающие педагогику, взяли на себя это этическое и человеческое обязательство; это станет их истинной профессиональной задачей.
Рональд Дэвид Гласс Калифорнийский университет в Санта-Крусе, США
Пожалуйста, скажите несколько слов о том, чем вы занимаетесь, и о ваших текущих научных интересах.
Я придерживаюсь радикальных взглядов в философии образования и веду работу, которая берет свое начало в борьбе за справедливость. В Калифорнийском университете я руковожу Центром совместных исследований для создания справедливой Калифорнии (англ. UC Center for Collaborative Research for an Equitable California): мы сотрудничаем с притесняемыми сообществами для решения проблем в таких сферах, как экономика, занятость населения, образование, жилищные условия, обеспечение населения продовольствием, здравоохранение и защита окружающей среды. Кроме того, я возглавляю проект по изучению этических проблем, связанных с исследованиями в области социальных наук.
Какова, на ваш взгляд, была бы реакция Паулу Фрейре на то, как его идеи применяются сегодня?
В 1984 году по счастливой случайности мне выпала большая честь тесно сотрудничать с Паулу Фрейре, когда в течение месяца он жил у меня, и мы работали над организацией движения за достижение социальной справедливости в рамках образовательного проекта для взрослого населения. Мы подробно обсуждали вопрос о том, как его идеи прижились в различных сферах деятельности и в разных странах. Он был согласен со мной в том, что «критическая педагогика», методы которой используются в американских школах и которая якобы строится на теории Фрейре, на самом деле по большей части является лишь адаптацией радикализма, лежащего в основе его идей, даже несмотря на то, что она устанавливает более гуманистический подход к обучению. Образование как способ достижения свободы непременно подразумевает некое фактическое усилие и борьбу за изменение как мира, так и нашего собственного «я» (поскольку существующее в мире угнетение присутствует и в нас самих, так же как в структурах и процессах повседневной жизни). Но Фрейре не был пуристом ни в теории, ни на практике. Он целенаправленно делал все возможное в любом доступном пространстве, поэтому он был бы счастлив, что по всему миру люди находят своеобразное применение его идеям, пусть и в своих собственных контекстах, стремясь к достижению справедливости.
Каким, на ваш взгляд, должен быть сегодня университет, следующий теории Фрейре?
В университете, где обучение строится на идеях Фрейре, должны обсуждаться наиболее острые вопросы, касающиеся социального, экономического и политического неравенства. В таком учебном заведении решения о направленности исследований должны приниматься исходя из нужд наиболее притесняемых сообществ. Его руководители не могут игнорировать этическую и политическую составляющую заявлений об обладании знанием и культивации знаний. Они обязаны отдавать должное всем разновидностям знания. Они должны учитывать, что профессора, преподаваемые ими дисциплины и сами университеты запятнаны историями и идеологиями угнетения и эксплуатации. Такой университет должен уделять меньше внимания аттестации специалистов, и больше – пробуждению любопытства и формированию привычки систематически мыслить критически, а также пожизненной приверженности борьбе за справедливость.
Не могли бы вы описать, как и в какой мере работа Фрейре повлияла на педагогику?
Я думаю, в США работа Фрейре повлияла на школьную педагогику довольно незначительно. На мой взгляд, на его идеи ссылаются, прежде всего, как на этический или политический ярлык, который свидетельствует о стремлении педагога учитывать предшествующий опыт учеников. Часто это достигается путем (зачастую поверхностного) изучения второй главы «Педагогики угнетенных» и анализа знаменитого разграничения между «банковской» методикой и диалогическим обучением, или методикой постановки проблем. Такая одомашненная критическая педагогика, бесспорно, более человечна, она дает ученикам больше пространства для того, чтобы обрести свой голос и проявить свои интересы, она предлагает подход, отличный от господствующего дискурса и практики педагогики в общеобразовательных школах. Однако это очень ограниченное воплощение его теории. На самом деле, некоторые педагоги, в том числе члены организации «Учителя за социальную справедливость» (англ. Teachers for Social Justice), предпринимают попытки более полномасштабного воплощения теории Фрейре в жизнь и ищут способы связать работу в классе с деятельностью более крупных движений, стремящихся к общественным изменениям. Теория Фрейре используется в качестве педагогической методики при организации общественных движений, и здесь оно нашло гораздо более яркое выражение, особенно в странах Латинской Америки.
Валери Кинлок Питтсбургский университет, США
Пожалуйста, скажите несколько слов о том, чем вы занимаетесь, и о ваших текущих научных интересах.
Я – декан педагогического факультета имени Рене и Ричарда Голдманов в Питтсбургском университете, где мы вместе с коллегами разрабатываем важные инициативы в области образования на местном, национальном и мировом уровне. До того как стать деканом, я преподавала дисциплины, связанные с распространением грамотности, и занимала должность помощника декана в Университете штата Огайо, где вела проекты по расширению этнокультурного многообразия и учету индивидуальных особенностей в сфере образования, а также по международному сотрудничеству в сфере образования и привлечению школ и общественности. Моя работа направлена на изучение грамотности и социальной активности молодежи и старшего поколения как в школе, так и за ее пределами. Я являюсь автором статей, посвященных расовым проблемам, местам проживания, грамотности и культурному разнообразию, а также в настоящий момент участвую в проведении смежных исследований и в проектах по вовлечению большего числа людей.
Каким образом произошло ваше знакомство с «Педагогикой угнетенных» Фрейре?
Я открыла для себя «Педагогику угнетенных», когда изучала английский язык и литературу в Университете Джонсона К. Смита. Мы с друзьями и некоторыми преподавателями часто обсуждали афроамериканскую литературу, образ жизни чернокожих американцев, угнетение и силу языка и грамотности – это и подтолкнуло меня к тому, чтобы продолжить путешествие в мир самых разнообразных текстов темнокожих писателей и ученых. В одной из этих книг мне встретилась мысль о «чтении слова и чтении мира», и, пока я искала смысл этой фразы, я наткнулась на имя Паулу Фрейре и его книгу. После этого я прочла «Педагогику угнетенных» и влюбилась в рассуждения автора о критическом сознании и связях, которые должны формироваться между педагогами, учениками и миром.
Каким, на ваш взгляд, должен быть сегодня университет, следующий теории Фрейре?
Я думаю, такой университет включал бы в себя «открытые пространства», где люди могли бы собираться, чтобы проанализировать происходящие в мире события и возможные пути борьбы с угнетением и несправедливостью, способы уничтожить расизм, классовую дискриминацию, сексизм, неравенство и капитализм. Там царил бы дух свободы! Университет, открытый всем и каждому. Его политика была бы основана на стремлении формулировать и углублять наши позиции, системы взглядов и идеологии, имеющие отношение к критическому сознанию, сотрудничая с другими, работая во имя необходимых общественно-политических изменений и заботясь о ближних. Такой университет стал бы культурно насыщенной академической площадкой, служащей делу гуманизации.
Не могли бы вы описать, как и в какой мере работа Фрейре повлияла на научные исследования?
Теория Фрейре по сей день продолжает подталкивать ученых к тому, чтобы они рассматривали все разнообразие личностных и географических нюансов, которые необходимо учитывать, рассуждая об образовании. Фрейре призывает нас смотреть на все критически, особенно работая вместе с другими людьми в контексте сообщества при попытках решить насущные проблемы неравенства. Он также помещает исследования в область повседневной жизни – повседневных реалий, реальных судеб, реальных условий жизни людей, их борьбы и их чаяний – с тем, чтобы сделать исследование доступным для людей, с которыми мы работаем и с которыми / про которых пишем эти самые исследования. Таким образом, исследование – это не столько написание статей и монографий, сколько изобретение новых способов существования, которые могут в корне изменить мир к лучшему.
Какую мысль, по вашему мнению, студентам следовало бы почерпнуть из «Педагогики угнетенных»?
Я надеюсь, следующую: в своей работе Фрейре настаивает на том, что мы должны стремиться к уничтожению систем угнетения, «чтобы [студенты] стали “людьми для себя”», вместо того чтобы насильно «“интегрировать” их в структуру угнетения» (глава 2). Я полагаю, что, делая акцент на трансформации систем угнетения, автор имеет в виду все системы: школу, университет, политические структуры, под властью которых мы живем в своих уникальных жизненных контекстах. Кроме того, он взывает к солидарности, которая необходима, чтобы осуществить революцию и изменить мир.
Питер Мейо Мальтийский университет, Мальта
Пожалуйста, скажите несколько слов о том, чем вы занимаетесь, и о ваших текущих научных интересах.
Я вырос на Мальте, где и проработал несколько лет журналистом на полставки, затем начал преподавать и, в конце концов, закончив магистратуру в Альбертском университете и на педагогическом факультете Торонтского университета в Канаде, посвятил себя академической деятельности. Я специалист по социологии образования с упором на обучение взрослых, и мне также доводилось участвовать в университетских проектах в области просвещения, материалом для которых служили мероприятия, отражающие представления членов сообщества и, следовательно, берущие свое начало в народном сознании.
Каким образом произошло ваше знакомство с «Педагогикой угнетенных» Фрейре?
Мне впервые представился шанс прочесть «Педагогику угнетенных», когда я поступил в университет в городе Эдмонтон в канадской провинции Альберта, и эта книга, безусловно, стала для меня настоящим откровением. Я увидел в ней те идеи и детали, которых мне не хватало для должного понимания контекста, в котором ранее проходило мое обучение на Мальте. А именно: подчиненность, колониальное наследие, относительная бедность, классовые различия (в том числе языковые) и проблемы, касающиеся расовых отношений (некоторые из моих однокурсников были представителями африканского населения Мальты, а состав мальтийского общества в то время был далеко не таким многонациональным, каким он стал в последнее время).
Каким, на ваш взгляд, должен быть сегодня университет, следующий теории Фрейре?
Это был бы университет, в котором и само это образовательное учреждение, и предоставляемое им образование воспринимались бы как общественные блага, а не как товары для потребления. В таком университете на первом месте стояло бы взаимодействие с членами сообщества. Обучение в нем строилось бы вокруг экзистенциального опыта студентов, а знания извлекались бы из тематического исследования, проводимого внутри сообщества и произрастающего из него. Здесь модель ведения лекции как процесса передачи информации заменяется на модель, которая предполагает совместное исследование, включающее в себя сотрудничество лекторов, студентов и членов сообщества, а также обсуждение спорных вопросов, которые ставятся в такой форме, чтобы вызвать «эпистемологическое любопытство» и становятся предметом совместного исследования.
Не могли бы вы описать, как и в какой мере работа Фрейре повлияла на научные исследования?
Прежде всего, влияние Фрейре ощущается в подходе, известном как Исследование коллективной деятельности (англ. Participatory Action Research). Это форма коллективного исследования, в ходе которого члены сообщества сами с помощью специалистов изучают проблемы, затрагивающие жизнь их самих и их близких. Я считаю, что нам есть чему поучиться у Фрейре в том, что касается этики ведения исследований и той степени, в которой люди, чьи жизни и проблемы мы анализируем, в действительности участвуют в определении задач и хода исследования. Эти люди оказались бы в выигрыше, обладай они равным влиянием на весь ход исследования и его результаты. Процесс исследования и его итоги должны служить для улучшения их образа жизни. Это усилия, направленные на достижение цели, и они предполагают, что выбор исследования и его целей должен основываться на представлении о том, что знание и исследование не могут быть непредвзятыми. Иными словами, такое исследование проводится не только с целью интерпретировать мир, но и, прежде всего, с целью его изменить.
Не могли бы вы описать, как и в какой мере работа Фрейре повлияла на педагогику?
Фрейре вдохновил многих отказаться от иерархической, авторитарной модели обучения в пользу более демократического подхода, основанного на демократическом авторитете учителей, который не деградирует, скатываясь в авторитаризм. Он также вдохновил многих педагогов на то, чтобы они начали выделять политику в области образования и знания в отдельную область, воздерживаться от ложных притязаний на непредвзятость, и, что самое главное, он заострял внимание на коллективной стороне обучения и необходимости выстраивать его вокруг экзистенциального опыта учеников, учитывая их различия и постепенно двигаясь к обучению и знанию более высокого порядка.
Питер Макларен Чепменский университет, США
Пожалуйста, скажите несколько слов о том, чем вы занимаетесь, и о ваших текущих научных интересах.
Я работал учителем начальной школы в Джейн-Финч в Торонто – застроенном муниципальным жильем районе, который известен высоким уровнем преступности. Ценой больших усилий я завоевал себе репутацию учителя, прекрасно справляющегося с обучением иммигрантов из рабочего класса.
Впоследствии я несколько раз пытался поступить в докторантуру в области образования в университете Торонто и, наконец, был зачислен. За время обучения я опубликовал дневник, который вел во время работы учителем начальных классов. Я назвал эту книгу «Крики из коридора» (англ. Cries from the Corridor[206]), и в 1980 году в Канаде она стала бестселлером. После изнурительного литературного турне по стране я начал замечать, что во мне просыпается самокритика на основе того факта, что моя книга, как это ни прискорбно, не содержала теоретической базы, которая могла бы помочь читателям в понимании того, какое насилие над собой и отчуждение испытывали мои ученики. Педагоги как прогрессивных, так и радикальных взглядов все как один на протяжении десятилетий с содроганием относились к идее национальной образовательной реформы, которую, надо сказать, мало кто пытался воспринимать всерьез, тем самым упрочивая общепринятое обыкновение с недоверием относиться к идее о том, что образование может играть значительную роль в создании асимметричных отношений власти и в приобретении капиталистическим государством приоритетного положения. Я боялся, что моей книги недостаточно, чтобы помочь читателю разобраться в капиталистической модели обучения. Чтобы побороть расчетливое равнодушие деятелей образования, а также в достаточной степени доработать свой теоретический «боевой потенциал», я начал искать аналогии в разных дисциплинах, переключившись с Чосера, «Беовульфа», Шекспира и Блейка, которые интересовали меня ранее, на социологию знания, антропологию, критическую теорию и семиотику. Я обстоятельно изучил работы Мишеля Фуко, Умберто Эко, Эрнесто Лакло и других философов, приезжавших читать лекции. В конце концов, в 1984 году я закончил докторантуру, но меня не покидало чувство, что еще многому предстоит научиться.
По результатам своей докторской диссертации я опубликовал книгу «Преподавание как ритуальное действие» (англ. Schooling as a Ritual Performance), и, к моей великой радости, профессор Генри Геру согласился написать предисловие. Он стал моим наставником и предложил последовать за ним в Университет Майами в Огайо в качестве приглашенного профессора. Он познакомил меня с одним из своих лучших друзей – Дональдо Мачедо, от которого я много узнал о Паулу Фрейре и его идеях. Генри организовал мою встречу с Паулу в 1985 году. И представьте себе мое удивление (нет, шок), когда оказалось, что Паулу был знаком с моей работой. Он называл меня своим «собратом по интеллекту» и частью своей педагогической семьи. Впоследствии он любезно согласился написать два предисловия и одно послесловие к моим книгам. Позже до самой своей смерти он очень тепло ко мне относился, поддержал мой текущий проект по развитию критической педагогики в североамериканском пространстве, который затем преимущественно разворачивался в Латинской Америке и Азии.
Каким образом произошло ваше знакомство с «Педагогикой угнетенных» Фрейре?
Я прочел «Педагогику угнетенных», будучи докторантом в Университете Торонто. Она не входила в список дополнительной литературы по какому-либо предмету, ее мне посоветовал однокурсник, сидевший слева от меня, назвав ее книгой, обязательной к прочтению, поэтому я ее и прочитал вместе с текстами других педагогов, социологов и политологов, которые тогда изучал. Работа Паулу выделялась тем, что соответствовала моему опыту как ученика, так и педагога, каким бы драматичным это ни казалось. Она помогла мне более четко понять праксис и необходимость участвовать в решении социальных проблем и обращаться к работам теоретиков и философов, чтобы прояснить и углубить понимание этих жизненных ситуаций.
Какова, на ваш взгляд, была бы реакция Паулу Фрейре на то, как его идеи применяются сегодня?
Я думаю, Паулу, с присущей ему скромностью, был бы признателен за то, что его работа произвела сильное влияние на такое количество областей и стала сильным антидотом превалирующим формам социальной и политической амнезии, которые служат опорой основополагающим формам насилия в любом обществе. Я также думаю, что он бы критически отнесся к педагогическим подходам, которые носят название фрейреанских, но являются лишь адаптацией его работы, которая лишает его основные идеи тех радикальных принципов, которые представляют собой критику капитализма и на полном основании могут называться социалистическими.
Каким, на ваш взгляд, должен быть сегодня университет, следующий теории Фрейре?
В контексте Северной Америки политика фрейреанского университета строилась бы вокруг избавления от экономического неравенства и социального угнетения, связанного с сексуальной ориентацией, возрастом, видовыми и гендерными различиями, превосходством белой расы и колонизацией власти – всем тем, что так или иначе связано с неравным уровнем владения капиталом, с формированием капиталистических ценностей и эксплуатацией, отчуждением и тенденцией к абстрагированию, которые ему сопутствуют. Неравное владение капиталом можно преодолеть не через повышение темпов роста в рамках концептуальной модели неоклассической экономики, а лишь путем перехода от капитализма к его социалистической альтернативе. Фрейреанский университет стал бы площадкой для восстановления частного сектора, демократизации рабочих мест и учреждения коллективных советов, преданных модели активного участия и прямой демократии, уничтожения расового, классового и гендерного антагонизма, создания революционного критического гуманизма, выходящего за пределы частной собственности, и создания сообществ участвующих в общем деле учеников, и свободного объединения трудящихся, работающих ради общего блага человечества.
Не могли бы вы сказать, как и в какой степени работа Фрейре повлияла на научные исследования?
Работа Фрейре внесла внушительный вклад в зарождение и текущее развитие такого направления, как критическая педагогика. Последняя основывается на теоретической базе, близкой идеям Фрейре, а также в целом на критической социальной теории, в центре внимания которой находится праксис. Сравнительно недавно область критической педагогики расширилась и включила в себя революционную критическую педагогику, которая представляет собой попытку возродить марксистские эпистемологические основы работы Фрейре через развитие философии праксиса, построенной преимущественно на трудах Маркса, Гегеля и философов-гуманистов. Исследования Фрейре находят отклик в теологии, исследованиях грамотности, учении о композиции письма, литературе, прикладной лингвистике, социологии, антропологии, политической философии. Его работа породила многие области исследований, и это является доказательством того, что его учение применимо ко многим областям и работает во благо деколонизационной педагогики – педагогики надежды, трансформации себя и общества.
Какую мысль, по вашему мнению, студентам следовало бы почерпнуть из «Педагогики угнетенных»?
Я бы хотел, чтобы они не просто почерпнули какую-то одну идею из работы Фрейре, а поняли бы, что в их повседневной жизни есть педагогические аспекты, которые, в свою очередь, являясь также аспектами политическими, поднимают вопрос наших обязательств перед бедными, обездоленными и униженными, проясняют наше онтологическое и эпистемологическое сознание и бросают нам вызов, проверяя, насколько мы верны своему стремлению изменять мир к лучшему и создавать реальность, свободную от ненужного отчуждения и человеческих страданий.
Марго Оказава-Рей Университет штата Калифорния в Сан-Франциско, США, и Университет Филдинг Градуейт, США
Пожалуйста, скажите несколько слов о том, чем вы занимаетесь, и о ваших текущих научных интересах.
В своей деятельности, а это преподавание, исследовательская деятельность и политический активизм, я обращаю основное внимание на такие вопросы, как милитаризм, вооруженные конфликты и насилие над женщинами. Я изучала связи между милитаризмом, глобализацией экономики и их влиянием на местное население женского пола и иммигранток в Южной Корее, которые жили и работали вблизи американских военных баз. Я проводила мастер-классы по методологии ведения исследований в области феминизма для женщин-активисток в дельте Нигера, Гане, Сьерра-Леоне и Либерии. Я использую методы народного образования в контексте сообществ для проведения лекций по межкультурным различиям и лекций против расовой дискриминации, а также в рамках обучения бакалавров и магистров.
Каким образом произошло ваше знакомство с «Педагогикой угнетенных» Фрейре?
В конце 1970-х небольшая группа феминисток в Бостоне, США, начали вместе читать и изучать «Педагогику угнетенных», стремясь понять и создать радикальную методику, чтобы жить, понимать и преподавать согласно феминистскому девизу «личное – это политическое». Есть ли лучший способ это сделать, как не через идеи Фрейре? Раньше мы не осознавали, что создание групп для повышения феминистического сознания основывалось, хоть бы и неосознанно, на его работах. У него высокопарный стиль, и нам иногда претили элементы антифеминистического стиля: использование местоимений исключительно мужского рода и употребление слова «men»[207] в отношении ко всем людям. Тем не менее мы продолжали, и были за это сполна вознаграждены.
Какова, на ваш взгляд, была бы реакция Паулу Фрейре на то, как его учение используется сегодня?
Мне выпала честь познакомиться с Фрейре лично в 1980 году, и я была поражена его непритязательной и простой манерой держаться. Поэтому, мне кажется, что он был бы приятно удивлен тем, насколько широко его учение применяется педагогами по всему миру. Он также был бы сильно встревожен искажением и вырождением своих ключевых идей (таких как необходимость начинать с жизненного опыта ученика, читать слово и мир) в технократические концепции «личностно-ориентированных» подходов, которые можно резюмировать следующим образом: «Вы, ученики, конечно, можете выбрать, что хотите изучать, но последнее слово в составлении программы все равно остается за педагогом». Возможно, более важно то, что освободительная цель образования, о которой вновь и вновь говорил Фрейре, была отставлена в сторону, а мы продолжаем двигаться к механическому обучению и контекстному преподаванию на начальной, средней и старших ступенях образования.
Фрейре был бы поистине счастлив, что его работы обсуждаются в местах, подобных тем, где он начинал, а именно – в глубинке даже таких «развитых» стран, как Соединенные Штаты, где деревенские жители и рабочие вне зависимости от того, умеют ли они читать и писать, учатся анализировать, понимать и менять условия угнетения и изоляции, в которых они живут.
Каким, на ваш взгляд, должен быть сегодня университет, следующий теории Фрейре?
«Фрейреанский университет» сегодня – это оксюморон. Большинство университетов находятся во власти неолиберальных и консервативных сил, которые в любом случае приносят одинаковый вред, как бы мы ни меняли номенклатуру. Самыми радикальными образовательными площадками, которые действительно могли бы применять и продвигать идеи Фрейре, могли бы стать неформальные объединения, как я их называю, «свободные пространства», в том числе и различные движения, существующие, в том числе и внутри формальных структур, таких как университеты, где люди могли бы учиться и учить друг друга по мере того, как они сталкиваются с материальными и социальными условиями, которые так непосредственно и так ужасно влияют на их жизнь, по мере того, как они осознают, что наши жизни связаны друг с другом, что есть угнетаемые и угнетатели, доминирующие и подавляемые, говорящие, молчащие и те, кого заставляют молчать.
Не могли бы вы сказать, как и в какой степени работа Фрейре повлияла на научные исследования?
Методологии освобождения, с которыми я наиболее знакома – феминистическая и деколонизационная, – основаны на фрейреанской, феминистической и местной эпистемологии и методах исследования. Я видела, как идеи Фрейре креативно и убедительно воплощаются как в одном, так и в другом.
Примечания
1
Vivianne Rodrigues. New York’s $25,000 Dessert Sets Guinness Record // Reuters. 2007. November 7. -dessertidUSN0753679220071107.
(обратно)2
Paulo Freire. Pedagogy of the Oppressed. N. Y.: Continuum, 1970. P. 67. (См. гл. 1, с. 100 настоящего русского издания.)
(обратно)3
Ibid.
(обратно)4
Ibid. P. 66. (См. гл. 1, с. 99)
(обратно)5
Ibid. (См. гл. 1, с. 99)
(обратно)6
Stanley Aronowitz. Forward // Critical Pedagogy in Uncertain Times: Hope and Possibilities / ed. Sheila L. Macrine. N. Y.: Palgrave MacMillan, 2009. P. ix.
(обратно)7
Paulo Freire and Donaldo Macedo. A Dialogue, Language, and Race // Harvard Educational Review. Fall 1995. Vol. 65. № 3. P. 377–402.
(обратно)8
Paulo Freire. Letters to Cristina: Reflections on My Life and Work. N. Y.: Routledge, 1966. P. 21.
(обратно)9
Ibid.
(обратно)10
Henry A. Giroux. Radical Pedagogy and Educated Hope: Remembering Paulo Freire // Typewritten manuscript.
(обратно)11
Принятый в США в 1964 г. Закон о гражданских правах (Civil Rights Act) запретил расовую дискриминацию в сфере торговли, услуг и при приеме на работу. – Примеч. перев.
(обратно)12
Ibid.
(обратно)13
Paulo Freire and Donaldo Macedo. Typewritten manuscript.
(обратно)14
Freire. Letters to Cristina. P. 23.
(обратно)15
Ibid. P. 41.
(обратно)16
Ibid. P. 24.
(обратно)17
Ibid. P. 15.
(обратно)18
Ana Maria Araújo Freire. Prologue // Pedagogy of Indignation. Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2004. P. xxvii.
(обратно)19
Ibid.
(обратно)20
.
(обратно)21
Ibid.
(обратно)22
Lilia I. Bartolomé. Beyond the Methods Fetish: Toward a Humanizing Pedagogy // Harvard Educational Review. Summer 1994. Vol. 64. № 2. P. 173–194.
(обратно)23
Paulo Freire. The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation. N. Y.: Bergin & Garvey, 1985. P. 185.
(обратно)24
Paulo Freire. Cultural Action for Freedom // Harvard Educational Review, 1970. P. 4.
(обратно)25
Ibid. P. 4.
(обратно)26
Henry Giroux. The New Extremism and Politics of Distraction in the Age of Austerity // Truthout. 2013. January 22. -out.org/opinion/item/13998-the-new-extremism-and-politics-of-distraction-in-the-age-of-austerity.
(обратно)27
Arundhati Roy. What Have We Done to Democracy? // The Huffington Post. 2009. September. -roy/what-havewe-done-to-demo_b_301294.html.
(обратно)28
Tom Horne, interview by Allison Keyes. Tell Me More // National Public Radio News. 2010. May 13. .
(обратно)29
Arundhati Roy. What Have We Done to Democracy?
(обратно)30
Freire. Pedagogy of the Oppressed. P. 85. (См. гл. 2, с. 124)
(обратно)31
Ibid. (См. гл. 2, с. 123)
(обратно)32
Ibid. P. 35. (См. гл. 2, с. 124); Freire. The Politics of Education. P. 172.
(обратно)33
Ibid. P. 172.
(обратно)34
Ibid. P. 171.
(обратно)35
Ibid. P. 172.
(обратно)36
Timeless Whoppers – Pat Robertson // The Nation. 2013. January 10. -whoppers-pat-robertson.
(обратно)37
Jonathan Schell. The Real American War in Vietnam // The Nation. 2013. February 4. -american-war-vietnam.
(обратно)38
Ibid.
(обратно)39
Edward S. Herman. Beyond Chutzpah // Z Magazine. 2013. February. P. 6.
(обратно)40
Albert Memmi. The Colonizer and the Colonized. Boston: Beacon, 1991.
(обратно)41
Amy Wilentz. Letter from Haiti // The Nation. 2013. January 28. P. 22.
(обратно)42
Ibid.
(обратно)43
Freire. Pedagogy of the Oppressed. P. 54. (См. гл. 1, с. 84)
(обратно)44
Wilentz. Letter from Haiti. P. 22.
(обратно)45
Freire. Pedagogy of the Oppressed. P. 55. (См. гл. 1, с. 98)
(обратно)46
Madison Smartt Bell. Nine Years in One Day: On Haiti // The Nation. 2013. January 28. P. 22.
(обратно)47
Freire. Pedagogy of the Oppressed. P. 56. (См. гл. 1, с. 87)
(обратно)48
Ibid. P. 57. (См. гл. 1, с. 88)
(обратно)49
Ibid. P. 56. (См. гл. 1, с. 87)
(обратно)50
Ibid. P. 72. (См. гл. 2, с. 107)
(обратно)51
Patrick L. Courts. Literacies and Empowerment: The Meaning Makers. South Hadley, Massachusetts: Bergin & Garvey, 1991. P. 4.
(обратно)52
John Ashbery. What Is Poetry / Houseboat Days: Poems by John Ashbery. N. Y.: Penguin Books, 1977. P. 47. (Здесь цитируется в переводе Яна Пробштейна.)
(обратно)53
Freire. Pedagogy of the Oppressed. P. 72. (См. гл. 2, с. 107)
(обратно)54
Freire. The Politics of Education. P. 116.
(обратно)55
José Ortega y Gasset. The Revolt of the Masses. N. Y.: W. W. Norton, 1964. P. 111. (Здесь и далее цит. по: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Пер. с исп. А. Гелескула. М.: АСТ, 2005.)
(обратно)56
Duterte vows to hit militants, captives // The Boston Globe. 2017. January 16. P. A3.
(обратно)57
José Ortega y Gasset. Op. cit. P. 111.
(обратно)58
Freire. Pedagogy of the Oppressed. P. 73. (См. гл. 2, с. 109)
(обратно)59
Ibid.
(обратно)60
Paulo Freire. Cultural Action for Freedom // Harvard Educational Review, 1970. P. 7.
(обратно)61
Ibid.
(обратно)62
Cited in: Freire. Cultural Action for Freedom. P. 8.
(обратно)63
Ibid.
(обратно)64
Ibid.
(обратно)65
Ibid.
(обратно)66
Ibid. P. 128.
(обратно)67
Paulo Freire (ed.) with James Fraser, Donaldo Macedo, Tanya McKinnon and William Stokes. Mentoring the Mentor: A Critical Dialogue with Paulo Freire. N. Y.: Peter Lang Publishing, 1997). P. 316.
(обратно)68
Paulo Freire. Pedagogy of the Oppressed. N. Y.: Continuum International Publishing Group, 2000. P. 129. (См. гл. 4, с. 181, 182)
(обратно)69
Термином консайентизация (порт. conscientização – «осознание») обозначается приобретение способности воспринимать социальные, политические и экономические противоречия и предпринимать действия, нацеленные на искоренение существующих элементов угнетения. См. гл. 3. – Примеч. перев. с португ.
(обратно)70
Термин Субъекты употребляется в отношении людей, которые знают и действуют, в отличие от объектов, о которых знают и над которыми совершают действия. – Примеч. перев. с португ.
(обратно)71
Слова Франсишку Веффорта из предисловия к книге Паулу Фрейре «Образование как практика освобождения» (Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro, 1967).
(обратно)72
Цит. по: Гегель Г. В. Феноменология духа / Пер. с нем. Г. Г. Шпета. М.: Наука, 2000. С. 100.
(обратно)73
Из книги Паулу Фрейре «Образование как практика освобождения».
(обратно)74
«До тех пор, пока теоретическое знание остается привилегией горстки “академиков”, состоящих в Партии, она рискует сбиться с пути». Роза Люксембург. Социальная реформа или революция? Цитировалось [по англ. изданию: Rosa Luxembourg. Reform or Revolution] в книге Чарлза Райта Миллса «Марксисты» (C. Wright Mills. The Marxists. N. Y., 1963).
(обратно)75
Современные движения сопротивления, в первую очередь молодежные, хоть и отражают особенности конкретных ситуаций, в которых возникают, по своей сути демонстрируют озабоченность положением людей как живых существ в мире и их взаимодействие с ним – озабоченность тем, кем являются эти существа и как они существуют. Осуждая цивилизацию потребления, обличая бюрократию всевозможных видов, требуя преобразования университетской системы (изменения жестких принципов общения между студентами и преподавателями и помещения этих взаимоотношений в контекст существующей реальности), выдвигая предложения о трансформации самой реальности, чтобы стало возможным обновление университетов, атакуя старые порядки и традиционные институты в попытке утвердить право людей быть принимающими решения Субъектами, все эти движения воплощают стиль нашей эпохи – скорее антропологичный, чем антропоцентричный.
(обратно)76
На протяжении всей книги термином «противоречие» обозначается диалектический конфликт между антагонистичными социальными силами. – Примеч. перев. с португ.
(обратно)77
Тот же страх свободы также свойствен и угнетателям, хотя, разумеется, в несколько иной форме. Угнетенные боятся принять свободу – угнетатели боятся потерять «свободу» угнетать.
(обратно)78
Цит. по: Гегель Г. В. Феноменология духа. С. 101–103.
(обратно)79
Анализируя диалектические взаимоотношения между сознанием хозяина и сознанием угнетаемых им людей, Гегель пишет: «…два противоположных вида сознания: сознание самостоятельное, для которого для-себя-бытие есть сущность, другое – несамостоятельное, для которого жизнь или бытие для некоторого другого есть сущность; первое – господин, второе – раб». Там же, с. 101.
(обратно)80
«Действия, направленные на достижение освобождения, обязательно должны включать в себя момент восприятия и волеизъявления. Эти действия как предшествуют этому моменту, так и следуют за ним, поначалу выступая как его пролог, а затем – служа ему, продолжаясь и принося результаты в ходе истории. Однако действия, направленные на доминирование, не всегда подразумевают этот аспект, поскольку структура доминирования поддерживается собственным механическим и бессознательным механизмом». Из неопубликованной работы Хосе Луиса Фиори, который любезно разрешил мне процитировать его слова.
(обратно)81
Karl Marx and Friedrich Engels. La Sagrada Familia y otros Escritos. Mexico, 1962. P. 6. (В тексте цитаты курсив автора.)
(обратно)82
Лукач Д. Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей / Пер. с нем. М.: Международные отношения, 1989.
(обратно)83
«Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, – это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан» (Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Изд-во политической литературы, 1955. Т. 3. С. 1–4.
(обратно)84
По-видимому, в этом заключается основополагающий принцип «культурной революции» Мао.
(обратно)85
Подобную закостенелость не стоит отождествлять с ограничениями, налагаемыми на бывших угнетателей для того, чтобы они не могли восстановить старый порядок угнетения. К ней скорее относится попавшая в стагнацию и обернувшаяся против людей революция, использующая старый бюрократический государственный аппарат подавления (который должен быть кардинальным образом ликвидирован, как не раз подчеркивал Маркс).
(обратно)86
Erich Fromm. The Heart of Man. N. Y., 1966. P. 32. (Цит. по: Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992 / Пер. с нем. В. А. Закса. С. 26.)
(обратно)87
Чтобы более подробно ознакомиться с «властными формами социального контроля», см.: Herbert Marcuse. One-Dimensional Man. Boston, 1964; Eros and Civilization. Boston, 1955.
(обратно)88
Слова, сказанные одним крестьянином во время беседы с автором.
(обратно)89
См.: Candido Mendes. Memento dos vivos – A Esquerda católica no Brasil. Rio, 1966.
(обратно)90
Frantz Fanon. The Wretched of the Earth. N. Y., 1968. P. 52.
(обратно)91
The Colonizer and the Colonized. Boston, 1967. P. x.
(обратно)92
См. главу 3. – Примеч. перев. с португ.
(обратно)93
Слова, сказанные одним крестьянином во время беседы с автором.
(обратно)94
Словом асентамьенто (asentamiento) обозначается производственно-хозяйственная единица, использовавшаяся в ходе чилийской экспериментальной аграрной реформы. – Примеч. перев. с португ.
(обратно)95
«Крестьянин испытывает почти инстинктивный страх перед хозяином». Из беседы с крестьянином.
(обратно)96
См.: Regis Debray. Revolution in the Revolution? N. Y., 1967.
(обратно)97
Из беседы с крестьянином.
(обратно)98
Разумеется, не открыто: это лишь спровоцировало бы гнев угнетателя и привело бы к еще большему угнетению.
(обратно)99
Эти вопросы будут более подробно обсуждаться в главе 4.
(обратно)100
Цит. по: Фромм Э. Душа человека. С. 40.
(обратно)101
Из незаконченной работы Альваро Виейры Пинту о философии науки. На мой взгляд, процитированный отрывок крайне важен для понимания педагогики постановки проблем (которая будет описана в главе 2). Я выражаю благодарность профессору Виейре Пинту за то, что он дал мне разрешение процитировать его работу до ее публикации.
(обратно)102
Simone de Beauvoir. La Pensée de Droite. Aujord’hui (Paris); ST, El Pensamiento político de la Derecha. Buenos Aires, 1963. P. 34.
(обратно)103
Это представление соотносится с тем, что Сартр называет «питанием», или «усвоением», которое становится основой обучения, когда знания «скармливаются» ученикам педагогом, чтобы наполнить их. (См. русский перевод статьи Сартра 1939 г.: Сартр Ж.-П. Основная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность // Проблемы онтологии в современной буржуазной философии. Рига, 1988.)
(обратно)104
К примеру, некоторые университетские преподаватели в своих списках литературы уточняют, что следует прочесть страницы с 10 по 15, и делают это, чтобы «помочь» своим ученикам!
(обратно)105
Цит. по: Фромм Э. Душа человека. С. 32.
(обратно)106
Там же. С. 25.
(обратно)107
Там же.
(обратно)108
Reinhold Niebuhr. Moral Man and Immoral Society. N. Y., 1960. Р. 130. (На рус. яз.: Нибур Р. Нравственный человек и безнравственное общество, 1932.)
(обратно)109
Сартр Ж.-П. Указ. соч.
(обратно)110
См. главу 3.
(обратно)111
Edmund Husserl. Ideas – General Introduction to Pure Phenomenology. L., 1969. P. 105, 106. (Цит. по: Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии / Пер. с нем. А. В. Михайлова. М.: Академический проект, 2009. Кн. 1.)
(обратно)112
Приносим в жертву действие = пустословие
Приносим в жертву размышление = активизм
(обратно)113
Некоторые из этих размышлений стали результатом разговоров с профессором Эрнани Марией Фиори.
(обратно)114
Разумеется, речь не идет о молчании, сопровождающем глубокие размышления, погружаясь в которые человек лишь «внешне» покидает мир, отгораживаясь от него, чтобы посмотреть на него целиком, и тем самым не отделяясь от него. Подобное отстранение может быть настоящим, лишь когда размышляющий «купается» в реальности, но не когда оно отражает презрение к миру и бегство от него – своеобразную «историческую шизофрению».
(обратно)115
Я все более и более убеждаюсь в том, что истинные революционеры должны воспринимать революцию, исходя из ее творческой и освободительной сути, как акт любви. Я не согласен с тем, что революция, которая невозможна без теории революции – а следовательно, науки, – несовместима с любовью. Напротив: революция делается людьми с целью достичь гуманизации. В самом деле, что может быть более глубинным мотивом, заставляющим граждан вставать в ряды революционеров, чем дегуманизация людей? Искажение, которое накладывается капиталистическим миром на слово «любовь», не может отнять у революции ее исконный характер любви, как не может и помешать революционерам заявлять о своей любви к жизни. Че Гевара (признавая риск «показаться нелепым») не побоялся заявить о ней: «Позвольте мне сказать, хоть я и рискую показаться нелепым, что истинный революционер руководствуется сильным чувством любви. Невозможно представить себе настоящего революционера, не обладающего этим качеством» (Venceremos – The Speeches and Writings of Che Guevara, edited by John Gerassi. N. Y., 1969. P. 398).
(обратно)116
Из письма друга.
(обратно)117
Pierre Furter. Educação e Vida. Rio, 1966. P. 26, 27.
(обратно)118
Во время долгой беседы с Мальро Мао Цзэдун заявил: «Вы знаете, что я уже долгое время утверждаю: мы должны ясно объяснять массам то, что мы беспорядочно получили от них» (Andrê Malraux. Anti-Memoirs. N. Y., 1968. Р. 361, 362). Это утверждение содержит в себе целую диалогическую теорию того, как выстроить содержание образовательной программы, которое не может быть основано на том, что, по мнению педагога, будет лучше для учеников.
(обратно)119
Furter. Op. cit. P. 165.
(обратно)120
Последние, обычно помещенные в колониальный контекст, почти как плод, связанный пуповиной с матерью, связаны с миром природы, в отношении которой они чувствуют себя составными частями, нежели теми, кто ее формирует.
(обратно)121
«Работники культуры должны горячо и вдохновенно служить народу, должны быть тесно связаны с массами, а не отрываться от них. Чтобы установить тесную связь с массами, нужно исходить из потребностей масс, из их желаний. Во всякой работе для масс следует исходить из их потребностей, а не из каких-либо, пусть даже самых лучших, личных побуждений. Часто бывает, что потребность масс в определенных преобразованиях объективно уже существует, субъективное же сознание этой необходимости в массах еще не созрело, у них еще нет решимости, еще нет желания осуществить эти преобразования, и тогда мы должны терпеливо ждать; только когда в результате нашей работы массы в своем большинстве проникнутся сознанием необходимости, решимостью и желанием осуществить данные преобразования – только тогда следует их осуществлять; действуя иначе, рискуешь оторваться от масс. <…> Здесь действуют два принципа: принцип реальной потребности масс, а не надуманной потребности, существующей только в наших головах, и принцип добровольного желания масс, решимости, проявляемой самими массами, а не решимости, которую мы проявляем за них» (Selected Works of Mao-Tse-Tung. Vol. III. The United Front in Cultural Work. October 30, 1944. Peking, 1967. P. 186, 187. Цит. по: Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 4. М.: Издательство иностранной литературы, 1953. С. 423–428).
(обратно)122
Этот вопрос будет более детально проанализирован в главе 4.
(обратно)123
Использование «банковского» метода столь же противоречиво для истинного гуманиста, как приверженность методике постановки проблем – для крайних правых.
(обратно)124
Выражение «значимая тематика» используется с той же коннотацией.
(обратно)125
В английском языке слова «жить» (live) и «существовать» (exist) приобрели коннотации, противоположные их этимологии. В данном случае слово «жить» используется как базовое понятие, предполагающее исключительно выживание, а слово «существовать» подразумевает более глубокую вовлеченность в процесс «становления».
(обратно)126
Профессор Альваро Виейра Пинту четко анализирует проблему «ограничивающих ситуаций», используя это понятие без пессимистического аспекта, который можно изначально увидеть у Ясперса. По Виейре Пинту, «ограничивающие ситуации» – это не «непреодолимые границы, где заканчиваются возможности, а реальные границы, где все возможности начинаются», это не «рубеж, отделяющий бытие от небытия, а рубеж, за которым бытие превращается в бытие в качестве чего-то большего» (Alvaro Vieira Pinto. Consciência e Realidade Nacional. Rio de Janeiro, 1960. Vol. II. P. 284).
(обратно)127
Karl Marx. Economic and Philosophical Manuscripts of 1844 / Dirk Struik, ed. N. Y., 1964. P. 113.
(обратно)128
Об этом вопросе читайте подробнее в работе Карела Косика «Диалектика конкретного» (Karel Kosik. Dialética de lo Concreto. Mexico, 1967).
(обратно)129
По вопросу исторических эпох см.: Hans Freyer. Teoría de la época atual / Trad. de Luis Villoro. México: FCE, 1958.
(обратно)130
Я назвал эти темы «генеративными», поскольку (как бы они ни воспринимались и какие бы действия они ни провоцировали) они способны вновь раскрыться в столь же большое количество тем, которые, в свою очередь, призывают к выполнению новых задач.
(обратно)131
Индивиды, принадлежащие к среднему классу, часто демонстрируют подобное поведение, хоть и не так, как крестьяне. Страх свободы заставляет их возводить защитные механизмы и строить рациональные рассуждения, которые скрывают основополагающее, подчеркивают случайное и отрицают конкретную реальность. При столкновении с проблемой, анализ которой может привести к некомфортному восприятию ограничивающей ситуации, они склонны оставаться на периферии дискуссии и отвергать любые попытки добраться до сути вопроса. Им даже неприятно, когда кто-то указывает на какое-либо фундаментальное положение, объясняющее случайные и вторичные вопросы, которым они до этого приписывали первоочередное значение.
(обратно)132
Кодирование экзистенциальной ситуации – это отображение этой ситуации, демонстрирующее некоторые из ее составляющих во взаимодействии. Декодирование – это критический анализ закодированной ситуации.
(обратно)133
По вопросу исследования и использования «генеративных слов» см. мою работу «Образование как практика освобождения» (порт. Educação como Prática da Liberdade).
(обратно)134
По словам бразильского социолога Марии Эди Феррейра (из неопубликованной работы), тематическое исследование оправдано лишь тогда, когда оно возвращает людям то, что по праву им принадлежит, лишь когда оно представляет собой не попытку получить информацию о людях, а попытку узнать вместе с ними реальность, которая создает им трудности.
(обратно)135
Бразильский романист Гимарайнс Роза великолепно продемонстрировал, как писатель может доподлинно изобразить не произношение или грамматические ошибки людей, а их синтаксис, саму структуру их мысли. В действительности (и это ничуть не умаляет его незаурядного писательского таланта), Гимарайнс Роза главным образом был исследователем «значимых тематик» жителей бразильской глубинки. В данный момент профессор Паулу де Тарсу работает над эссе, в котором анализируется этот малоизученный аспект работы автора «Тропы по большому сертану» (порт. Grande Sertāo – Veredas).
(обратно)136
Lucien Goldman. The Human Sciences and Philosophy. L., 1969. P. 118.
(обратно)137
См.: Andrê Nicolaï. Comportment Économique et Structures Sociales. Paris, 1960.
(обратно)138
Эти шифры также могут быть устными. В таком случае они состоят из нескольких слов, которыми выражена определенная экзистенциальная проблема, после чего следует дешифровка. Команда из Института сельскохозяйственного развития в Чили успешно использовала этот метод во время своих тематических исследований.
(обратно)139
Это рекомендация Хосе Луиса Фиори, высказанная в неопубликованной рукописи.
(обратно)140
До недавнего времени директором Института сельскохозяйственного развития был экономист и истинный гуманист Жак Чончоль.
(обратно)141
Эти шифры не были «всесторонними», по определению Фиори.
(обратно)142
Каждый «кружок исследования» должен включать не более двадцати человек. Следует организовать столько кружков, сколько необходимо, чтобы включить в качестве участников 10 % населения изучаемого региона или подрегиона.
(обратно)143
Эти последующие аналитические встречи должны включать в себя волонтеров из исследуемого региона, которые ассистировали в ходе исследования, и некоторых участников из кружков тематического исследования. Их вклад – это одновременно их неотъемлемое право и незаменимая помощь для проводящих анализ специалистов. Как соисследователи специалистов, они будут корректировать и/или подтверждать правильность интерпретации полученных результатов. С методологической точки зрения их участие дает исследованию (которое изначально основано на отношениях сочувствия) дополнительные гарантии: критическое присутствие представителей народа с начала и до последнего этапа – этапа тематического анализа, который продолжается во время систематизации содержания образовательной программы как освободительной культурной деятельности.
(обратно)144
К сожалению, это конкретное исследование так и не было завершено.
(обратно)145
Психиатр Патрисио Лопес, чей труд описан в моей книге «Образование как практика освобождения» (порт. Educação como Prática da Liberdade).
(обратно)146
Нибур Р. Нравственный человек и безнравственное общество.
(обратно)147
По вопросу важности антропологического анализа культуры см.: «Образование как практика освобождения».
(обратно)148
Обратите внимание, что вся программа целиком состоит из взаимосвязанных единиц, каждая из которых также является одним целым.
• Каждая тема сама по себе является единством, но также и одним из элементов, которые, взаимодействуя, составляют тематические единицы всей программы.
• Во время их изложения целостные темы расщепляются, чтобы можно было обнаружить основные ядра – их составляющие.
• Процесс кодификации направлен на то, чтобы восстановить целостность расчлененной темы, во время отображения экзистенциальных ситуаций.
• В ходе дешифровки индивиды «расщепляют» шифр, чтобы постичь подразумевающуюся в нем тему или темы. Диалектический процесс дешифровки на этом не заканчивается. Он завершается восстановлением целостности расчлененного единства, которое таким образом понимается более отчетливо (как и его взаимоотношения с другими зашифрованными ситуациями, каждая из которых отображает экзистенциальную ситуацию).
(обратно)149
КОДИФИКАЦИЯ
а) Простая: визуальные средства
иллюстрации
графические изображения
тактильные средства
аудиосредства
б) Сложная: разные средства одновременно.
(обратно)150
Цит. по: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Изд. 5. М.: Государственное издательство политической литературы, 1963. Т. 6. С. 24.
(обратно)151
Помимо всего прочего, эта опасность требует, чтобы революционные лидеры старались не имитировать процедуры угнетателей, которые «входят» в угнетенных и «живут» в них. Революционеры, в своем праксисе с угнетенными, не должны пытаться «квартировать» в последних. Напротив, когда они пытаются (вместе с угнетенными) «выбросить из себя угнетателей», они делают это, чтобы жить вместе с угнетенными, а не в них.
(обратно)152
Несмотря на то что угнетенные, которые всегда были жертвами режима, основанного на эксплуатации, могут по понятным причинам привнести в революционную борьбу долю реваншизма, революция не должна направлять на это все свои силы.
(обратно)153
«Хотя сомнения могут принести нам определенную пользу, – сказал Фидель Кастро в своем обращении к кубинскому народу, подтверждая кончину Че Гевары, – ложь, страх правды, потворство напрасным иллюзиям и терпение ко лжи никогда не входили в арсенал нашей революции» (Gramma. 1967. October 17. Курсив добавлен.)
(обратно)154
Позвольте мне еще раз повторить, что это диалогическое взаимодействие не может происходить между антагонистами.
(обратно)155
«Эпохи, когда господствующие классы стабильны, когда рабочее движение должно защищаться против мощного противника, который время от времени угрожает ему и, во всяком случае, крепко держа в руках власть, естественным образом порождает социалистическую литературу, подчеркивающую «материальную» составляющую реальности, препятствия, которые необходимо преодолеть, и скудную эффективность человеческой осознанности и деятельности» (Goldman. Op. cit. Р. 80, 81).
(обратно)156
Фернандо Гарсиа а Ондуран – во время проведения курса для латиноамериканцев (Сантьяго, 1967).
(обратно)157
Нибур Р. Нравственный человек и безнравственное общество.
(обратно)158
Иногда эти «словесные угрозы» никто даже не произносит. Наличия кого-то (не обязательно принадлежащего к некой революционной группе), кто может представлять угрозу для «угнетателя-квартиранта», достаточно, чтобы люди встали на позицию агрессии.
(обратно)159
Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что между диалогом и революционной деятельностью нет дихотомии. Нет одного отдельного этапа для ведения диалога и другого – для революции. Напротив, диалог – это суть революционной деятельности. В теории этой деятельности деятели, как взаимодействующие субъекты, направляют свои действия на некий объект (реальность, которая выступает посредником между ними), причем их цель заключается в гуманизации людей (которой следует достичь через трансформацию реальности).
В теории деятельности угнетателей, которая по своей природе антидиалогична, приведенная выше схема упрощается. В качестве объектов, на которых направлена активность деятелей, выступают одновременно и реальность и угнетенные, а сохранение угнетения (через сохранение реальности угнетения) – это их цель.
(обратно)160
См.: Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 4.
(обратно)161
Gajo Petrovic. Man and Freedom // Socialist Humanism / Ed. by Erich Fromm. N. Y., 1965. P. 274–276. Также у этого автора см.: «Марксизм в середине XX века» (Marx in the Mid-Twentieth Century. N. Y., 1967).
(обратно)162
Как только народная революция приходит к власти, тот факт, что этический долг обязывает новую власть подавлять любые попытки восстановить старый, основанный на угнетении порядок, никоим образом не означает, что революция противоречит своей диалогической природе. Диалог между бывшими угнетателями и угнетенными как антагонистически настроенными классами не был возможен до революции и продолжает оставаться невозможным после нее.
(обратно)163
«Более того, экономически развитые страны должны быть особенно осторожны и, оказывая помощь более бедным государствам, не пытаться повернуть существующую политическую ситуацию в свою пользу и установить свое господство.
Если вдруг такие попытки начали бы предприниматься, это, разумеется, стало бы очередной формой колониализма, который, хоть и замаскированный под другим именем, лишь отражает прежнее, ушедшее в прошлое господство, утерянное многими странами. Когда международные отношения натыкаются на подобные преграды, ставится под угрозу систематический прогресс всех народов на планете» (Pope John XXIII. Christianity and Social Progress // Encyclical Letter Mater et Magistra. Articles 171, 172).
(обратно)164
Мемми говорит следующее о представлении колонизатора о колонизируемых: «Своими обвинениями колонизатор утверждает, что колонизируемые ленивы. Он решает, что лень органически присутствует в самой сущности колонизируемых» (Memmi. Op. cit. P. 81).
(обратно)165
Я критикую не сами средства массовой информации, а то, как они используются.
(обратно)166
Разумеется, эта критика не относится к действиям, осуществляемым в рамках диалектического подхода, основанного на понимании местных сообществ и как целостных единств, и как частей более крупного единства. Она направлена на тех, кто не осознает, что развитие местного сообщества может осуществляться лишь в рамках общего контекста, частью которого оно является, и во взаимодействии с другими его частями. Это требование подразумевает осознание единства в разнообразии, организованности, которая направляет силы на рассредоточение, и четкое понимание необходимости трансформировать реальность. Именно это (по понятным причинам) и пугает угнетателей.
(обратно)167
Епископ Франик Сплит красноречиво говорит об этом: «Если работники не становятся в какой-то степени владельцами своего труда, любые структурные реформы будут неэффективны. [Это так], даже если работники получают высокую заработную плату в экономической системе, но не довольны прибавками. Они хотят быть владельцами, а не продавцами своего труда. <…> В настоящий момент работники все больше осознают, что труд представляет собой часть личности человека. Личность, однако, нельзя купить, так же, как и себя самого. Любая покупка или продажа труда – это разновидность рабства. Ясно, что эволюция человеческого общества в этом отношении прогрессирует внутри системы, которая считается менее восприимчивой, чем наша, к вопросу человеческого достоинства, а именно – марксизма» (15 Obispos hablan en prol del Tercer Mundo // CIDOC Informa. Mexico, 1967. Doc. 67/35. P. 1–11).
(обратно)168
По вопросу о социальных классах и борьбе между ними (в изобретении которой часто обвиняют Карла Маркса) см. письмо Маркса И. Вейдемейеру от 1 марта 1852 г.: «…мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства; 2) что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата; 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов…» (Цит по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 28. С. 424–427.)
(обратно)169
По этой причине угнетателям необходимо держать крестьян в изоляции от городских рабочих, а обе эти группы – от студентов. Проявление неповиновения последних (пусть они и не составляют класс с социологической точки зрения) превращает их в потенциальную угрозу, которая проявит себя, если они решат присоединиться к народу. Поэтому необходимо убедить низшие слои общества в том, что студенты безответственны и неорганизованны, что их заявления ложны, потому что студентам следует учиться, так же как заводским рабочим и крестьянам следует работать во благо «национального развития».
(обратно)170
Тирадентис был лидером подавленного восстания за независимость Бразилии от Португалии, организованного в 1789 г. в городе Ору-Прету в бразильском штате Минас-Жерайс. Это движение известно в истории как «Заговор инконфидентов» (порт. Inconfidência Mineira).
(обратно)171
Виконт де Барбасена, губернатор провинции. – Прим. перев. с португ.
(обратно)172
Пакты имеют смысл для масс, только если (и в этом случае они уже не являются пактами) цели осуществляемых или планируемых действий являются предметом обсуждения.
(обратно)173
В ходе «организации», которая осуществляется как результат актов манипулирования, людей – направляемые объекты – заставляют приспосабливаться к целям манипуляторов. При настоящей организации индивиды активно участвуют в этом процессе, а его цели им не навязываются. В первом случае организация – это средство «массификации», во втором – освобождения. (В бразильской политической терминологии «массификация» – это процесс превращения людей в скопление народа, который не мыслит и которым просто управлять. – Примеч. перев. с португ.).
(обратно)174
Francisco Weffert. Politica de massas // Político e Revolução social no Brasil. Rio de Janeiro, 1967. P. 187.
(обратно)175
Жетулиу Варгас руководил революцией, в ходе которой в 1930 г. был свергнут президент Бразилии Вашингтон Луис. Варгас оставался у власти в роли диктатора до 1945 г. В 1950-м он вернулся к власти в качестве избранного президента. В августе 1954 г., когда оппозиция угрожала вот-вот его свергнуть, Варгас покончил жизнь самоубийством. – Примеч. перев. с португ.
(обратно)176
Из речи, произнесенной на стадионе «Васко да Гама» 1 мая 1950 г. (O Governo Trabalhista no Brasil (Rio). P. 322–324).
(обратно)177
Там же. Курсив автора.
(обратно)178
С этой целью захватчики все больше пользуются знаниями социологии и технологическими достижениями, а также, в определенной степени, данными естественных наук, чтобы улучшить и отточить свои действия. Захватчикам крайне необходимо знать прошлое и настоящее тех, кого они оккупируют, чтобы распознать возможные варианты их будущего и тем самым попытаться направить развитие этого будущего в то русло, которое выгодно им самим.
(обратно)179
Все больше молодых людей воспринимают авторитаризм родителей и учителей как нечто, несопоставимое с их собственной свободой. Именно по этой причине они все больше противостоят действиям, которые минимизируют их возможности самовыражения и сковывают их стремление самоутвердиться. Этот крайне положительный феномен возник не случайно. На самом деле он представляет собой симптом, свойственный исторической обстановке, которой (как упоминается в главе 1) характеризуется наша эпоха, как эпоха антропологическая. Поэтому нельзя воспринимать недовольство молодежи лишь как пример традиционного конфликта поколений (если только вы лично в этом не заинтересованы). Здесь действуют более глубокие причины. Молодые люди своим неповиновением обличают и осуждают существующую модель несправедливого общества угнетения. Это неповиновение и его особый аспект, однако, появились довольно недавно. Общество продолжает оставаться авторитарным по своей сути.
(обратно)180
Возможно, этим также объясняется антидиалогическое поведение людей, которые, хоть и убеждены в своей приверженности революции, все же продолжают испытывать недоверие к народу и страх единения с ним. Такие люди, сами того не осознавая, сохраняют в себе угнетателя, и, поскольку в них «квартирует» хозяин, они боятся свободы.
(обратно)181
См. мою работу «Extensão ou Comunicação?» (Introduction a la Action Cultural, Santiago, 1969).
(обратно)182
О деятельности этой организации см.: Mary Cole. Summer in the City. N. Y., 1968).
(обратно)183
См. книгу: Louis Althusser. Pour Marx. Paris, 1967, в которой автор посвящает целую главу явлению под названием «диалектика сверхдетерминированности» (dialectique de la surdétermination).
(обратно)184
Этот процесс, однако, не происходит неожиданно, как наивно полагают люди, мыслящие механистически.
(обратно)185
Althusser. Op. cit.
(обратно)186
См. комментарий Альтюссера по этому вопросу: Althusser. Op. cit. P. 116.
(обратно)187
Мысли Че Гевары по этому вопросу цитируются в предыдущей главе. Герман Гусман говорит следующее о Камило Торресе: «…он отдал все. Он всегда сохранял позицию живой преданности народу – как священник, как христианин и как революционер» (German Guzman. Camilo – El Cura Guerrillero. Bogatá, 1967. P. 5).
(обратно)188
«Классовая необходимость» – это одно, «классовое сознание» – другое.
(обратно)189
Чилийский священник незаурядного интеллектуального и морального уровня, побывавший в Ресифи в 1966 г., сказал мне: «Когда мы с одним коллегой из штата Пернамбуку поехали проведать несколько семей, живших в хижинках (mocambos) в неописуемой нищете, я поспрашивал их, как они выносят такую жизнь, и от всех получил один и тот же ответ: «А что я могу сделать? На то воля Божья, и я должен ее принять».
(обратно)190
По этому вопросу см.: Erich Fromm. The Application of Humanist Psychoanalysis to Marxist Theory // Socialist Humanism. N. Y., 1966; Reuben Osborn. Marxism and Psychoanalysis. L., 1965.
(обратно)191
Che Guevara. The Secret Papers of a Revolutionary: The Diary of Che Guevara. The Ramparts Edition, 1968. P. 105, 106, 120. (Цит. по: Че Гевара Э. Боливийский дневник / Пер. с англ. Н. Красникова. М.: АСТ, 2010.)
(обратно)192
См.: Martin Buber. I and Thou. N. Y., 1958.
(обратно)193
Че Гевара говорит Эль Патохо, молодому гватемальцу, уезжающему с Кубы, чтобы заняться партизанской деятельностью в своей родной стране: «…с самого начала не верить даже своей собственной тени, не верить на слово друзьям – крестьянам, проводникам, разного рода информаторам, – одним словом, сомневаться во всем, пока не будет создан освобожденный район». (Цит. по: Че Гевара. Эпизоды революционной войны / Пер. с исп. О. Дарусенкова и др. М.: Воениздат, 1973.)
(обратно)194
Там же. Курсив добавлен.
(обратно)195
Чтобы узнать, как современные философы мыслят о попытках человека защититься от собственной смерти, которые следуют за «смертью Бога», см.: Mikel Dufrenne. Pour L’Homme. Paris, 1968.
(обратно)196
«Многие [крестьяне] продают себя или членов своих семей в рабство, чтобы не умереть с голоду. Сотрудники одной газеты в Белу-Оризонти нашли не менее 50 000 жертв (проданных за $1 500 000, а один репортер, чтобы доказать это, купил мужчину и его жену за $30. “Я не раз видел, как голодают хорошие люди, – сказал раб, – вот почему я был не против, чтобы меня купили”. Когда в Сан-Паулу в 1959 г. был арестован работорговец, он признал, что поддерживал контакты с местными ранчо, кофейными плантациями и строительными объектами, где он и сбывал свой товар – кроме девочек-подростков, которых продавали в бордели». John Gerassi. The Great Fear. N. Y., 1963.
(обратно)197
Бильгарциоз (шистосомоз, шистосоматоз) – тропическое паразитарное заболевание, вызываемое кровяными сосальщиками (трематодами) из рода Schistosoma. – Примеч. ред.
(обратно)198
M.-D. Chenu. Temoignage Chrétien. April 1964, as cited by Andreé Moine in: Christianos y Marxistas después del Concilio. Bueno Aires, 1965. P. 167.
(обратно)199
Для того чтобы человек достиг критического осознания собственного статуса угнетенного, требуется осознание его реальности как реальности угнетения. См. комментарий Лукача по этому вопросу: Georg Lukács. Histoire et Conscience de Classe. Paris, 1960. P. 93.
(обратно)200
Воспринимаемое как процесс подтверждение верности собственным убеждениям, которое не приносит мгновенных результатов, нельзя оценивать как абсолютный провал. Те люди, которые жестоко расправились с Тирадентисом, могли четвертовать его, но они не могли стереть из истории поступки, которыми он подтвердил свои убеждения.
(обратно)201
Орнальдо Агирре Ортис, декан медицинского факультета в одном из кубинских университетов, однажды сказал мне: «Революция включает в себя три «П»: palavra, povo, e pólvora [слово, народ и порох]. Взрывы пороха проясняют восприятие людьми конкретной ситуации, в которой они находятся, с целью через действие достичь их освобождения». Было интересно слышать, как этот революционно настроенный терапевт подчеркнуто произносит «слово», именно в том смысле, в котором этот термин использовался в данной работе – как обозначение действия и размышления, как синоним праксиса.
(обратно)202
Это взаимодействие будет конфликтным, если объективная ситуация характеризуется угнетением или вольностью.
(обратно)203
Структура становится социальной (и следовательно, историко-культурной) не за счет постоянства и не за счет изменения в его абсолютной степени, а за счет диалектических отношений между первым и вторым. В конечном счете, что всегда свойственно социальной структуре, так это не постоянство или изменение, а и то и другое в объединяющей их диалектике.
(обратно)204
Ленин сурово раскритиковал склонность Российской социал-демократической рабочей партии подчеркивать экономические требования пролетариата как средство революционной борьбы – практику, которую он назвал «стихийностью». (См.: Ленин В. И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Изд. 5. М.: Государственное издательство политической литературы, 1963. Т. 6. С. 192.)
(обратно)205
Программа по обмену образовательными курсами. – Примеч. перев.
(обратно)206
На английском языке район, где работал Питер Макларен, называется Jane-Finch Corridor (букв. «коридор Джейн Финч»). – Примеч. перев.
(обратно)207
В английском языке слово man (мн. ч. men) может означать «мужчина» или же «человек» в общем. В настоящее время многие авторы стараются избегать использования этого слова и вместо него употребляют более всеобъемлющие, нейтральные и антидискриминационные термины, например слово people – «люди». – Примеч. перев.
(обратно)



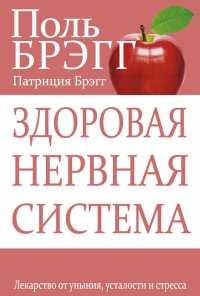
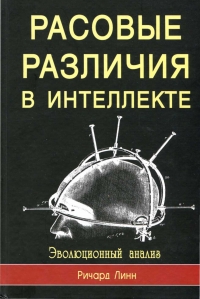
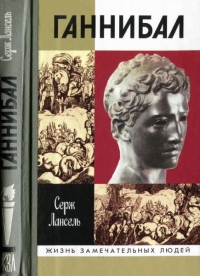




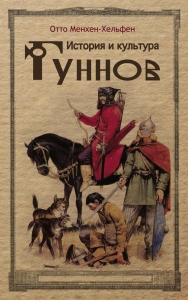


Комментарии к книге «Педагогика угнетенных», Паулу Фрейре
Всего 0 комментариев