Мишель Пастуро Зеленый. История цвета
© Éditions du Seuil, 2017. La première edition de cet ouvrage a paru en 2013 en version illustrée,
© Н. Кулиш, перевод с французского, 2018,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2018
* * *
И сказал Бог: да прорастит земля зелень, траву, сеющую семя, по роду и подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле: и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий.
Бытие, I, 11–13Введение
Любите ли вы зеленый цвет? В наши дни ответы на этот простой вопрос звучат по-разному. В Европе только один из шести опрошенных называет зеленый своим любимым цветом, а почти десять процентов не выносят этот цвет или считают, что он приносит несчастье. Зеленый представляется двойственным, или даже двусмысленным, цветом: с одной стороны, он символизирует жизнь, удачу, надежду, с другой – хаос, яд, дьявола и всех его тварей.
В нижеследующих главах я попытался проследить долгую социальную, культурную и символическую историю зеленого в обществах Западной Европы от Древней Греции до наших дней. В течение длительного времени зеленую краску было сложно производить и еще сложнее закреплять, поэтому зеленый цвет стал символом не только растительности, но также и судьбы. Химически непрочный, как в красках для живописи, так и в бытовых красителях, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами. Только в эпоху романтизма зеленый стал – и до сих пор остается – цветом природы и, соответственно, цветом свободы, а впоследствии – еще и цветом здоровья, гигиены, спорта и экологии. Его история в Западной Европе – отчасти история переоценки ценностей. Долгое время он был редким, нелюбимым или даже презираемым цветом, сегодня же ему поручена невыполнимая миссия – спасти планету.
Настоящая книга является третьей частью серии работ по истории цвета. Две предыдущие, «Синий. История цвета» (2000) и «Черный. История цвета» (2008), были также впервые опубликованы в издательстве Éditions du Seuil. Планируется выход еще двух томов, посвященных красному и желтому. Данная работа, как и предыдущие, построена по хронологическому принципу: это история зеленого, а не энциклопедия зеленого, и уж тем более не исследование о месте зеленого в современном обществе. Это книга по истории, которая изучает зеленый начиная с глубокой древности и во всех аспектах. Слишком часто работы по истории цвета – по правде говоря, их немного – посвящены только сравнительно недавним эпохам и только одной сфере жизни – искусству. Такое ограничение области исследования неправомерно. История цветов не дублирует историю живописи, это нечто иное, нечто гораздо более масштабное.
Как и обе предыдущие книги, эта работа обладает лишь внешними признаками монографии. Любой цвет не существует сам по себе, он обретает смысл, «функционирует» в полную силу во всех аспектах – социальном, художественном, символическом – лишь в ассоциации либо в противопоставлении с одним или несколькими другими цветами. По этой же причине его нельзя рассматривать обособленно. Говорить о зеленом значит – неизбежно – говорить о синем, желтом, красном и даже белом и черном.
Эти три книги – и те две, что последуют за ними, – должны стать кирпичиками в здании, строительством которого я занимаюсь уже более полувека: истории цвета в западноевропейских обществах от Античности до XIX века. Даже если, как мы увидим на последующих страницах, я по необходимости буду заглядывать в более далекие и более близкие к нам эпохи, мое исследование будет разворачиваться именно в этих (уже достаточно широких) хронологических рамках. Оно также будет ограничиваться обществами стран Западной Европы, поскольку, на мой взгляд, проблемы цвета – это прежде всего проблемы общества. А я, как историк, не обладаю достаточной эрудицией для того, чтобы рассуждать о всей планете, и не имею желания переписывать или пересказывать с чьих-то слов работы ученых, занимающихся неевропейскими культурами. Чтобы не городить чушь, чтобы не красть у коллег, я ограничиваюсь тем материалом, который мне знаком и который четверть века был темой моих семинарских курсов в Практической школе высших исследований и в Высшей школе социальных наук.
Попытаться создать историю цвета, даже в отдельно взятой Европе, – дело не из легких. А точнее, неимоверно сложная задача, за которую до недавнего времени не решались взяться ни историки, ни археологи, ни специалисты по истории искусства (в том числе и живописи!). Их можно понять: на этом пути их ждало – и все еще ждет – немало трудностей. Об этих трудностях стоит сказать в предисловии, поскольку они – важная часть сюжета нашей книги и помогут нам понять, почему мы еще столь многого не знаем. Тут, скорее, чем где-либо, стирается грань между историей и историографией.
Упомянутые трудности бывают трех типов. Во-первых, это проблемы идентификации. Мы видим объекты, изображения, произведения искусства и памятники прошлых веков не в их первоначальном цветовом решении, а такими, какими их сохранило для нас время. Иногда разница между их тогдашним и теперешним цветами бывает огромной. Как тут быть? Надо ли их реставрировать, любой ценой возвращать им первоначальный цвет? Или стоит признать, что воздействие времени само по себе является фактом Истории? Не забудем и о том, что сегодня мы видим цвета, пришедшие из прошлого, при свете, не имеющем ничего общего с условиями освещения, существовавшими в Античности, в Средневековье или в раннее Новое время. Свет от факела, масляной лампы, свечи или газового рожка несравним с электрическим. Факт, казалось бы, очевидный, но кто из нас вспоминает об этом при посещении музея или выставки? Какой историк учитывает это в своих работах? И еще о проблемах идентификации: за долгие десятилетия исследователи привыкли изучать объекты, произведения искусства и другие памятники прошлого по черно-белым изображениям – сначала гравюрам, потом фотографиям. И со временем это повлияло на их мышление и восприятие. Работая с документами, книгами и репродукциями, где изображения были преимущественно черно-белыми, они постепенно стали воспринимать прошлое как мир, в котором цвет полностью отсутствовал.
Следует упомянуть и о трудностях методологического порядка. Зачастую историк цвета оказывается в тупике, пытаясь понять роль и принцип действия цвета в том или ином изображении, объекте или произведении искусства. Перед ним встает множество разнообразных проблем – технических, химических, иконографических, идеологических, связанных со свойствами материалов и с символикой. Как нужно строить исследование? Какие вопросы задавать и в какой очередности? Ни один исследователь, ни один науч ный коллектив до сих пор не предложил приемлемую шкалу измерений, которой могло бы пользоваться все научное сообщество. А в отсутствие чет ких параметров исследования любой ученый – не исключая и меня самого – склонен выбирать из многообразия фактов только то, что необходимо для подтверждения выдвигаемой им теории, и игнорировать все то, что застав ляет в ней усомниться. Такой подход нельзя не назвать порочным.
Третий тип трудностей – гносеологического порядка. Мы не можем применять к изображениям, памятникам и предметам, созданным в прошедшие века, наши современные определения, концепции и классификации цвета. У обществ прошлого эти критерии были иными (а у будущих обществ появятся свои). Сказанное относится не только к категориям науки, но и к особенностям восприятия: например, глаз древнего или средневекового человека воспринимает цвета и цветовые контрасты иначе, нежели глаз человека XXI века. В любую эпоху зрительное восприятие – это феномен культуры. Вот почему при исследовании артефакта историк постоянно рискует допустить анахронизм, особенно если дело касается цветового спектра (который был открыт только в XVII веке), разделения цветов на основные и дополнительные, закона контрастов, будто бы существующих физиологических и психологических проявлений воздействия цвета. Наши сегодняшние знания, особенности восприятия, общеизвестные «истины» – не такие, какими были вчера и какими станут завтра.
Все эти идентификационные, методологические и гносеологические трудности показывают нам, что вопросы, связанные с цветом, нельзя изучать за рамками определенного культурного контекста. Для историка, так же как, впрочем, и для социолога и антрополога, цвет – прежде всего социальное явление, а не какое-то там особое вещество или частица света, и тем более не ощущение. Именно общество «производит» цвет, дает ему определение и наделяет смыслом, вырабатывает для него коды и ценности, регламентирует его применение и его задачи. Вот почему история цвета должна быть прежде всего историей общества. Если мы не признаем это, то можем легко скатиться к примитивному нейробиологизму или увязнуть в околонаучных рассуждениях.
Чтобы выполнить свою миссию, историк цвета должен проделать двойную работу. С одной стороны, ему нужно смоделировать то, что могло быть миром цвета для различных обществ, предшествовавших нашему, включив в свою модель все составляющие этого мира – лексику и подбор названий, химию красок и разнообразную технику окрашивания, регламентацию ношения одежды и коды, которые лежат в основе такой регламентации, место, отводимое цвету в повседневной жизни, декреты правителей, наставления духовных лиц, теории ученых, творения художников. Областей для сбора и анализа данных очень много, и всюду возникают самые разнообразные вопросы. С другой стороны, погрузившись в прошлое и замкнувшись в пределах одной-единственной культуры, историк должен выяснять причины изменений и исчезновений, исследовать инновации или взаимопроникновения, которые имели место во всех аспектах существования цвета, доступных исторической науке.
При таком двустороннем исследовании нельзя пренебрегать никакими фактами – ведь цвет по сути пронизывает собой весь комплекс жизненных явлений, все виды деятельности. Но есть сферы, где поиск оказывается особенно успешным. Например, лексика: история слов неизменно обогащает наши знания о прошлом обширной и полезной информацией; если речь идет о цвете, она наглядно показывает нам, что в любом обществе изначальная функция цвета – классифицировать, метить, оповещать, вызывать ассоциации с чем-либо или противопоставлять чему-либо. Другой источник сведений – история красильного дела, тканей и одежды. Ведь именно в этой области, даже более, чем в сфере художественного творчества, одна группа проблем – вопросы химии, технологии, свойства материалов – теснее всего связана с другой – с проблемами социальными, идеологическими, с вопросами символики.
Лексика, ткани, красильное дело – когда речь заходит о цвете, поэты и красильщики могут рассказать нам ничуть не меньше, чем живописцы, химики и физики. История зеленого цвета в западноевропейских обществах в этом смысле является показательной.
Глава 1 Загадочный цвет (от начала начал до XI века)
Задолго до того, как заняться живописью или красильным делом, человек стал наблюдать за красками природы. Сначала он просто любовался увиденным, затем научился различать цвета и, наконец, узнавать их. Позднее, когда он вел кочевую жизнь, но уже долгое время существовал внутри социума, он дал им названия, осмыслил и рассортировал их. Во многих местностях, где ему доводилось обитать, преобладающим цветом был цвет растительности – зеленый. Быть может, именно поэтому зеленого нет на палитре, которая когда-то использовалась для создания самых ранних произведений доисторической живописи? Быть может, древний человек, изготавливая для себя краски, просто не захотел воспроизводить цвет, который и так занимал в окружающем мире слишком много места? Или же отсутствие зеленого вызвано другими причинами – материального, технического или биологического свойства, а быть может, причинами, связанными с идеологией или символикой?
Ответить на эти вопросы затруднительно. Лишь одно можно утверждать с уверенностью: в живописи эпохи палеолита мы не находим ни одного оттенка, который бы вписывался в гамму зеленых тонов. На стенах пещер мы видим красные, черные, коричневые тона, различные оттенки охры, но ничего похожего на зеленый или синий и очень мало белого. Примерно так же дело обстояло и несколько тысячелетий спустя, в эпоху неолита, когда появились зачатки красильного дела: перейдя на оседлый образ жизни, человек стал пользоваться красной и желтой краской задолго до того, как начал окрашивать в зеленое или в синее. Зеленый, главный цвет растительного мира, человек стал пытаться воспроизводить очень поздно, а изготавливать и использовать зеленую краску научился с большим трудом.
Возможно, именно в этом следует искать объяснение того факта, что зеленый цвет в Западной Европе так долго оставался на втором плане, не играл практически никакой роли ни в общественной жизни, ни в религиозных ритуалах, ни в художественном творчестве. Не то что бы он полностью отсутствовал, как в эпоху палеолита, но встречался достаточно редко. Очевидно, по сравнению с красным, черным и белым – тремя основными цветами в боль – шинстве древних социумов Европы – символический потенциал зеленого был слишком ограничен, чтобы возбуждать эмоции, распространять идеи, выстраивать классификации и системы – а ведь классификационная функция – важнейшая социальная функция цвета, включающая в себя в том числе и установку связи с потусторонним миром.
Зная, что зеленый цвет редко использовался в повседневной жизни наших далеких предков, а во многих древних языках существовали проблемы с обозначением этого цвета, некоторые ученые конца XIX века предполагали, что люди Античности не различали зеленый или, во всяком случае, видели его не так, как люди более поздних эпох. Сегодня эти теории признаны устаревшими. Однако незначительная роль зеленого как в повседневной реальности, так и в идеологии большинства европейских социумов в течение долгих тысячелетий, от неолита до раннего Средневековья, остается неоспоримым историческим фактом, над которым нам следует задуматься.
Видели ли древние греки зеленый цвет?
Область, которую историк цвета должен изучить прежде всего, – это язык и, в частности, лексика. Нередко слова могут предоставить ему больше информации, чем краски живописцев или бытовые красители, или же как минимум слова могут обозначить отправную точку для исследований и подать несколько ценных идей, на которые ученый сможет опираться в дальнейшей работе. Очень показательный в этом смысле пример – Древняя Греция. Она предоставляет нам для размышлений увлекательнейшее историографическое досье: изучив его, мы сможем четче проследить связи между восприятием и именованием цвета.
Цветовая лексика древнегреческого относительно бедна и страдает неточностью. Только два слова в этом ряду кажутся устойчивыми и обозначают определенные цвета: leukos (белый) и melanos (черный). Третье слово, erythros, относится к целой гамме красных тонов – точнее его определить невозможно. У остальных слов, особенно в архаический период, значение неопределенное, изменчивое или полисемическое. Часто они обозначают скорее степень освещенности и фактуру, чем хроматическую идентичность цвета. Иногда они относятся даже не к цвету как таковому, а к ощущениям или настроению, которые он вызывает. Перевести эти слова на какой-либо из современных языков – задача непростая. Во многих случаях, вместо того чтобы дать точное хроматическое определение, они лишь создают «ощущение цвета»[1]. Эти трудности перевода – и даже трудности понимания – характерны не для одного только греческого, но и для большинства древних языков, начиная с языков Библии, а также (правда, не в такой степени) для латыни и некоторых германских языков. Слишком часто мы хотим прочитать сведения о цвете там, где сказано лишь «светлое» или «темное», «яркое» или «тусклое», «блестящее» или «матовое» либо даже «гладкое» или «шероховатое», «чистое» или «грязное», «затейливое» или «простое».
К этим трудностям следует добавить и нечеткие хроматические границы, присущие каждому определению цвета. Так, в греческом, помимо трех указанных выше названий, все остальные могут с одинаковой вероятностью относиться к разным цветам. Особенно велика возможность ошибиться, когда дело касается гаммы синих и зеленых тонов. Так, слово kyaneos, от которого произошло принятое в современной науке слово cyan, – почти всегда обозначает темный цвет, но это может быть и темно-синий, и фиолетовый, и черный, и коричневый. Слово glaukos, которое часто встречается у архаических поэтов, обозначает то зеленый, то серый, то синий, а порой даже желтый и коричневый. Оно передает скорее идею бледности или слабой насыщенности цвета, чем его хроматической идентичности, вот почему у Гомера этим словом обозначаются как цвет воды, так и цвет глаз, как цвет листвы, так и цвет меда. Что же касается chlorus, его значение постоянно варьируется от зеленого до желтого и, как и у glaukos, почти всегда указывает на тусклость, блеклость, малую насыщенность, которую в современном языке хорошо передает суффикс «-оват»: зеленоватый, желтоватый, сероватый.
Как мы видим, назвать зеленое зеленым на древнегреческом языке – задача не из легких. И не только потому, что размыты границы между зеленым и другими цветами (синим, серым, желтым, коричневым), но еще и потому, что сам он представляется недостаточно насыщенным, каким-то бледным, тусклым, почти бесцветным. Только в эпоху эллинизма зеленый обретет яркость, и слово prasinos, прежде встречавшееся крайне редко, начнет играть в лексике все более и более заметную роль и даже соперничать с glaukos и chlorus. Этимологически прилагательное prasinos означает «цвета порея», однако начиная с III–II веков до нашей эры prasinos сплошь и рядом употребляется для обозначения всех насыщенных зеленых и в особенности темнозеленых тонов[2]. Возможно, эти перемены происходят под влиянием латыни, которая, в отличие от греческого, не испытывает никаких трудностей, когда нужно подобрать название для зеленого. Так или иначе, они свидетельствуют о возросшем интересе греков к цветам вообще, и в частности к цветам природы, а возможно, и о том, что люди тогда стали с меньшими трудностями изготавливать уже известные краски и научились делать новые, как для искусства, так и для повседневной жизни. Действительно, при изучении более ранних периодов у историка складывается впечатление, что для греков цвета природы не являются цветами в полном смысле этого слова, а значит, не стоило и подбирать им названия. Отсюда и кажущаяся неточность у Гомера и у большинства поэтов, когда они описывают небо, море, воду, землю, растения и даже животных[3]. «Истинный» цвет – это краска, изготовленная человеком, а не тот цвет, который существует сам по себе в мире природы. Главные носители «истинного» цвета – ткань и одежда. А некоторые философы – например, Платон – даже идут дальше и говорят о цветах лишь в тех случаях, когда они увидены и восприняты человеком. Впрочем, даже рассуждая о радуге, они, кажется, затрудняются точно указать ее цвета[4].
На все эти проблемы, возникающие при именовании цветов, особенно синего и зеленого, в древнегреческом языке, обратили внимание некоторые ученые еще в XVIII веке. Гете упоминает их работы в своем знаменитом труде «К теории цвета», опубликованном в 1810 году. Затронув эту тему, он открывает дискуссию, которая затем перерастет в ожесточенную борьбу мнений, затянувшуюся на несколько десятилетий и ставшую важным этапом в научных исследованиях и в осмыслении связей между зрением и именованием.
Ссылаясь на пробелы и неточности в обозначении синих и зеленых тонов, отмеченные в древнегреческой лексике, многие историки, филологи, медики и офтальмологи второй половины XIX века задались вопросом: были ли греки способны воспринимать эти два цвета? И еще шире: не испытывали ли они трудностей с восприятием большинства цветов?[5] Начинает эту полемику Уильям Гладстон. В своем объемистом труде, опубликованном в 1858 году, он указывает на то, как редко у Гомера встречаются слова, обозначающие цвет: из шестидесяти прилагательных, которые используются для описания природных явлений и пейзажа в «Илиаде» и «Одиссее», лишь три являются собственно определениями цвета; а вот эпитетов, относящихся к свету, чрезвычайно много. При описании неба упоминаются самые разные цвета, но только не синий; то же можно сказать и о море – оно бывает «цвета бронзы», «цвета пурпура» либо «винного цвета», но никогда не бывает зеленым или серым. Изучив наследие греческих поэтов более позднего периода, Гладстон подчеркивает тот факт, что синий в этих текстах не упоминается вообще, а зеленый – крайне редко. И приходит к выводу: по всей вероятности, у древних греков были трудности с восприятием этих двух цветов.
Гладстон был выдающимся филологом, но когда королева Виктория назначила его премьер-министром, он вынужден был прервать свои исследования из-за нехватки времени. Однако тематику, затронутую в его работах, очень скоро подхватили другие ученые, в частности в Германии и в Австрии. Одни утверждали, что, поскольку Гомер был слепым, цвета для него просто не существовали. Другие предположили, что древние греки страдали какой-то формой дальтонизма либо аномалии в механизме цветоощущения, не позволявшей им воспринимать зеленые и синие тона. А некоторые эрудиты, зачарованные эволюционистскими теориями Дарвина и его эпигонов, заявляют, что греки, вплоть до эпохи эллинизма, «биологически еще пребывали в состоянии детства», поэтому восприятие цвета у них было не вполне развито[6]. Австрийский офтальмолог Гуго Магнус в двух своих эссе, опубликованных в 1871 и 1877 годах, идет еще дальше: он утверждает, что за минувшие века структура человеческого глаза претерпела существенные изменения; следовательно, зрительный аппарат древних греков был недостаточно совершенным, чтобы четко различать цвета[7]. Римляне достигли уже более высокой стадии развития, но и они испытывали трудности, когда из всего хроматического многообразия нужно было выделить один цвет, в особенности если этим цветом был синий. Это доказывает лексика латинского языка: назвать синий цвет по-латыни очень непросто, потому что все существующие слова либо неточны, либо отличаются полисемией, либо неправильно употребляются[8]. Взять хотя бы наиболее часто встречающееся caeruleus: если исходить из этимологии этого слова (cera – воск), изначально оно обозначало цвет воска (нечто среднее между белым, коричневым и желтым), затем его начинают применять к некоторым оттенкам зеленого или черного и только гораздо позднее – к синей цветовой гамме[9].
Работы Магнуса имели большой резонанс, они вызывали горячие спо ры вплоть до Первой мировой войны и даже в более позднее время. Некоторые подхватывали и развивали теории австрийского ученого, другие нещадно критиковали их[10]. Кто-то занял промежуточную позицию, отвергая эволюционистские теории, но соглашаясь с тем, что у древних греков могла быть некая аномалия восприятия зеленого и синего[11]. Филологи, со своей стороны, продолжили исследования Гладстона и вели нескончаемые споры о значении некоторых прилагательных у Гомера[12]. В дискуссию включились даже неврологи и философы, чьи голоса раздавались с обеих сторон. Так, в 1881 году Ницше в своей книге «Утренняя заря, или мысли о моральных предрассудках» писал:
Древние греки видели природу иначе, нежели ее видим мы. Их зрение, и этот факт нам необходимо признать, не воспринимало синий и зеленый цвета: вместо синего они видели темно-коричневый, а вместо зеленого – бледно-желтый. Кроме того, они обозначали одним и тем же словом цвет самых насыщенно-зеленых растений, цвет меда и цвет человеческого тела. Насколько же природа в их восприятии должна была отличаться от нашей! ‹…› Вероятно, именно по этой причине первые величайшие живописцы Древней Греции использовали в работе только черную, белую, красную и желтую краски[13].
И все же по мере приближения к Первой мировой войне голоса оппонентов Гладстона и Магнуса раздаются все чаще[14]. Многие филологи обращают внимание на тот факт, что наше знание древнегреческого языка опирается исключительно на письменные источники: мы не можем знать, насколько и в чем именно разговорный язык отличался от письменного. Другие подчеркивают, что Гладстон и его последователи изучали только поэтические тексты; если же мы обратимся к текстам технического и энциклопедического характера, то обнаружим, что в них цветовая лексика отличается большим разнообразием и большей точностью. Среди медиков и офтальмологов растет число тех, кто не согласен с тезисом о разнице между цветоощущением у древних греков и у древних римлян и даже между восприятием цвета у людей Античности и у людей Нового времени. А главное, некоторые ученые теперь утверждают, что восприятие цвета и его именование – две совершенно разные проблемы: если у цвета нет обозначения, это еще не значит, что его не видят. Специалист по французской лексике Жак Жофруа, например, констатирует, что современное французское слово bleu (синий) ни разу не встречается в трагедиях Корнеля и в баснях Лафонтена: означает ли это, что оба вышеназванных автора не видели синий? Разумеется, нет[15].
Начиная с 1920–1930-х годов накал дискуссий ослабевает. Но сторонники эволюционистских теорий все еще подают голос, в частности в нацистской Германии. Несколько специалистов по древнегерманским языкам отмечают, что эти языки не испытывают ни малейшей трудности при обозначении зеленого и синего. Из этого они делают вывод, что древние германцы стояли «на более высокой ступени развития», чем древние греки и римляне… Другие исследователи размышляют о зрительном аппарате у художников палеолита: если на их палитре нет зеленого и синего, не значит ли это, что они не видели данных цветов, а следовательно, их восприятие мира находилось еще «в состоянии детства»?
Как ни удивительно, эти более чем спорные гипотезы имеют сторонников и в наши дни. В одной книге, вызвавшей множество разноречивых откликов и вновь поставившей вопрос о цветоощущении и обозначении цвета, «Basic Color Terms», опубликованной в 1969 году, двое американских ученых, чьи научные интересы находятся на стыке лингвистики, социологии и антропологии, Брент Берлин и Пол Кей, выдвинули и попытались обосновать тезис, что чем более общество развито технологически, тем богаче и устойчивее его цветовая лексика[16]. Многие лингвисты и антропологи[17] незамедлительно опровергли – и даже высмеяли – этот тезис, но, к сожалению, у него до сих пор имеются сторонники. Я, со своей стороны, склонен думать, что, если в некоем социуме не встречается (либо крайне редко встречается) название определенного цвета, это объясняется тем, что данный цвет играет малозаметную роль в разных областях деятельности, в социальных связях, в религиозной жизни, в символике и в художественном творчестве. Проблемы цвета не сводятся к области биологии или нейробиологии, это в первую очередь проблемы социального и культурного свойства. Для историка цвет «создается» прежде всего обществом, а не природой или совместной работой зрительного аппарата и мозга[18]. Древние греки, конечно же, прекрасно различали зеленый, но поводы к тому, чтобы обозначать этот цвет в письме, очевидно, были нечастыми и не очень важными. Зеленый цвет упоминался в повседневной устной речи, но редко фигурировал в письменной. Зато он, как и синий, присутствовал в живописи: сохранившиеся произведения искусства свидетельствуют о том, что художники изображали зеленый цвет начиная с древнейших эпох, причем использовали для этого большой набор пигментов (малахит, зеленые земли и даже искусственные зеленые красители на медной основе).
В наши дни центр исследований по теме «Роль зеленого в жизни древних греков» переместился в другую область: теперь чаще всего изучают уже не лексику, а полихромию в архитектуре и в живописи. Именно этому пос вяще ны новейшие и наиболее актуальные работы, которые лишний раз подтверждают, что жители Древней Греции не только прекрасно различали цве та, но и отдавали явное предпочтение яркому и разнообразному колориту[19].
Зеленый цвет в Древнем Риме
В отличие от древнегреческого, латинский язык не испытывает ни малейших трудностей при обозначении зеленого. У него есть базовое понятие с обширной семантической и хроматической зоной действия: viridis. От этого слова произошли все названия зеленого в романских языках: французское vert, итальянское и испанское verde. Этимологически viridis относится к большому гнезду слов, которые связаны с представлением о силе, росте, жизни: virere (быть зеленым, быть сильным), vis (сила), vir (мужчина), ver (весна), virga (стебель, побег), а возможно, даже virtus (мужество, добродетель)[20]. В I веке до нашей эры энциклопедист Варрон, «ученейший из римлян», по словам его друга Цицерона, в своей истории латинского языка предлагает этимологию, которую подхватят ученые всех последующих эпох, не исключая и наши дни: «Viride est id quod habet vires» – «Зеленое есть то, что обладает мощью» (в буквальном переводе – «то, что имеет силы»).
Область применения viridis настолько обширна, что у него практически нет конкурентов, и когда возникает необходимость уточнить оттенок зеленого, к этому слову просто добавляют тот или иной префикс: ярко-зеленый или темно-зеленый – perviridis; бледно-зеленый, зеленоватый – subviridis. Прилагательное virens, причастие настоящего времени от глагола virere – всего лишь этимологический дублет viridis, который употребляется преимущественно в метафорическом смысле, когда надо дать представление о таких свойствах, как юность, пылкость, мужество. Есть и другие слова, относящиеся к зеленому цвету, но они употребляются гораздо реже: herbeus, травянистозеленый; vitreus, светло-зеленый, переливчато-зеленый; pras in us, зеленый, как порей, кричащий зеленый; glaucus, серо-зеленый, зеленоватый, синезеленый; galbinus, изжелта-зеленый. Средневековая латынь добавит к этому перечню только одно понятие: smaragdinus, изумрудно-зеленый. Но и здесь, как в классической латыни, почти всю семантическую и хроматическую зону действия занимает viridis.
Позволительно спросить себя: почему же римляне, в отличие от греков, без труда могли дать определение зеленому цвету? Потому ли, что они, как и германцы, были преимущественно сельскими жителями? Возможно, живя в сельской местности, ежедневно наблюдая за растениями, они рано или поздно начали все внимательнее вглядываться в зеленый и все чаще давать определение этому цвету? Или же, напротив, речь идет о чисто лексической проблеме? В самом деле, в латыни больше слов, обозначающих разные тона и оттенки, и они гораздо точнее, чем в древнегреческом (а иногда – и в некоторых местных наречиях нашего времени). Или, быть может, дело было не в словах, а в технических навыках – римляне лучше греков умели изготавливать пигменты для живописи и бытовые красители зеленого цвета. Ведь их связи с кельтскими и германскими племенами развивались год от года, а значит, к ним могли попасть природные пигменты или рецепты красок, которые были недоступны для греков. Впрочем, такая версия маловероятна, особенно если учесть, что в повседневной жизни римлян зеленый занимает достаточно скромное место, в отличие от белого, желтого, красного, а также всех оттенков коричневого, охры и терракоты.
Вплоть до эпохи Империи зеленый цвет, по всей видимости, не встречается в одежде римлян, кроме разве что беднейших классов. Одеваться в зеленое не только непочетно, но еще и сложно технически. Хотя красильное дело в Риме достигло бóльших успехов, чем в Греции, качественные результаты получаются только в гамме красных и желтых тонов. Окрашивать в зеленое – то есть придавать ткани устойчивый, насыщенный, яркий зеленый цвет – процесс очень трудоемкий, ведь в то время еще не умеют получать зеленый путем смешивания желтого и синего, а пигменты растительного происхождения (их много в гамме зеленых тонов) придают только серо-зеленую или мутно-зеленую окраску. Одежду такого цвета могут носить лишь бедные крестьяне. А в городе ею гнушаются даже рабы, они предпочитают носить коричневое или темно-синее.
Предметы повседневного обихода тоже редко бывают зелеными. А ведь римляне любят раскрашивать всё: дерево, кость, металл, даже изделия из кожи и слоновой кости, особенно в эпоху Империи. Но в этой богатой и разнообразной палитре практически отсутствует зеленый. Исключение составляют лишь покрытая глазурью керамика и в особенности стекло. При Республике изделия из стекла и глазурь уже радуют глаз великолепными зелеными и синими тонами. Век за веком краски становятся все более светлыми и прозрачными и, наконец, в галло-романскую эпоху достигают своего рода совершенства. Но это исключение лишь подтверждает правило: в повседневной жизни, в гражданских и религиозных ритуалах, в праздничных и торжественных случаях – всегда и везде зеленый остается на втором плане.
В этом отношении Рим резко отличается от варварских стран, где очень много зеленых тканей и одежды, и даже от Египта, где зеленый часто рассматривается как благодетельный и уже поэтому пользующийся большим спросом, более того – рекомендуемый цвет. Животные зеленого цвета, например крокодилы, считаются священными. А египетские красильщики умеют изготавливать искусственные зеленые пигменты на основе медных опилок, которые они смешивают с песком и поташом. Нагревая эту смесь до очень высоких температур, они получают великолепные сине-зеленые тона, которые сейчас можно увидеть на мелкой утвари из гробниц – статуэтках, миниатюрных фигурках, бусах. Все эти вещицы нередко покрывают прозрачной блестящей глазурью, отчего они выглядят предметами роскоши[21]. Для древних египтян, как и для других народов Ближнего и Среднего Востока, зеленый и синий – благодетельные цвета, отгоняющие силы зла. В контексте погребального ритуала их предполагаемая функция – оберегать умершего в загробном мире. Вообще зеленый – цвет Осириса, бога загробного мира, но также бога земли и растительности; его часто изображают с лицом зеленого цвета, который в данном случае символи зирует плодородие, рост и воскрешение. Что же касается иероглифа, обозначающего зеленый цвет, то он обычно имеет форму стебля папируса, символика которого всегда наделена положительным смыслом[22].
Ничего подобного не наблюдается в Риме, по крайней мере во времена Республики. Однако в эпоху Империи положение постепенно меняется. С I века нашей эры зеленый цвет, у «старых римлян» считавшийся эксцентричным или даже непристойным, все чаще присутствует в женской одежде. В течение жизни двух-трех поколений римские красильщики, которые раньше испытывали огромные трудности при окрашивании в зеленый цвет, достигают в этом деле значительных успехов – да и как иначе, ведь им необходимо удовлетворять постоянно растущий спрос. Что же произошло? Быть может, они открыли какой-то новый краситель? Или начали по-новому закреплять природный пигмент, которым пользовались с давних пор (папоротник, крушину, листья сливы, сок порея)? Или, возможно, впервые попробовали смешать синюю краску с желтой, как, предположительно, уже делали в их время кельты и германцы? Мы этого не знаем. И можем лишь констатировать, что начиная со времен правления Тиберия зеленый прочно обосновывается в гардеробе римлянок к негодованию и возмущению тех, кто отстаивает строгие стародавние обычаи.
Что неудивительно, ведь для римлян зеленый, а также, возможно, в еще большей степени, синий – это «варварские» цвета. Многочисленные примеры можно найти в древнеримском театре. Когда на сцене появляется германец, персонаж странный и более или менее комичный, он часто выглядит так: лицо жирное и дряблое, мертвенно-бледное или багровое, курчавые рыжие волосы, глаза голубые или зеленые, тело массивное, тучное, одежда в полоску или в клетку, в ее расцветке преобладает зеленое[23]. За долгие века и десятилетия этот нелепый персонаж, оскорблявший все принятые в Риме нормы приличия, стал оказывать влияние на моды, сначала женские, а затем и мужские. С начала I века нашей эры, а в особенности позже, в II и III веках, стола (женское одеяние, длинное просторное платье, собранное складками и стянутое в талии) и палла (широкая шаль прямоугольной формы, накидываемая поверх столы), которые раньше были белыми, красными либо желтыми (из-за дороговизны желтой краски этот цвет могли носить только представительницы высших классов), окрашиваются во все более разнообразные тона. Специалисты по истории костюма обычно объясняют эти перемены растущим влиянием Востока, которое в то время ощущается во всех областях римской жизни. И они правы, однако в том, что касается одежды (и только одежды), влияние германцев было не менее, а может быть, и более сильным. Так, желтые тона, прежде близкие к оранжевым (luteus, aureus), теперь становятся более терпкими, ближе к зеленым (galbinus) – на Востоке этот оттенок неизвестен. Что же до собственно зеленого, то постепенно он обретает статус модного цвета, правда, не столько для повседневной жизни, сколько для особых случаев, когда позволительна некоторая эксцентричность. Ясное дело, часто в такой одежде не походишь: зеленые ткани недолго остаются зелеными. Даже в первые века нашей эры римские красильщики все еще уступают в мастерстве германцам, когда работают с зелеными тонами: без эффективного закрепителя (протравы) краситель недостаточно глубоко впитывается в волокна ткани, и она быстро выцветает. Вероятно, именно поэтому мужчины не носят зеленое: одежду этого капризного цвета можно найти только в женском гардеробе, который и обширнее, и чаще обновляется. Красивая женщина должна часто менять одежды, выбирая их так, чтобы они шли к ее цвету лица, цвету волос (очень ухоженных и нередко крашеных), ее косметике и аксессуарам. Кроме того, ее туники и столы сделаны не только из шерсти и льна, но также из хлопка и шелка, двух материалов, на которых зеленая краска держится лучше, чем на остальных. У мужчин все по-другому. Зеленая тога появится в Риме только в III–IV веках, но даже и тогда будет большой редкостью.
Изумруд и порей
В императорском Риме зеленый цвет встречается чаще – и в одежде, и в художественном творчестве, и в быту, по крайней мере у наиболее состоятельных римлян. В данном случае это объясняется влиянием уже не столько варварской моды, сколько моды, пришедшей с Востока. Начиная с I века нашей эры зеленый широко используется в оформлении роскошных римских вилл – например, Золотого дома Нерона – и во многих домах Помпеи. В росписи стен, выполненной в технике тромплей, художники стараются как можно достовернее изобразить цветники и плодовые сады; на этих фресках растительность представлена в изобилии, а зеленые тона – в большом разнообразии. Художники пользуются большим набором пигментов, от светло- до темно-зеленых, от синеватых до желтоватых, чтобы передать всевозможные оттенки зелени, – оттенки, для которых латинский язык затруднился бы подобрать названия. Вдобавок живописцы, в отличие от красильщиков, могут смешивать краски и накладывать одну поверх другой, что позволяет им существенно расширить палитру. Та же тенденц ия проявляется и в напольной мозаике: здесь присутствует разнообразная гамма зеленых и синих тонов. Даже если художники добиваются скорее световых эффектов, чем реалистического колорита, частая необходимость изображать сцены рыбной ловли или охоты, в которых всегда присут ству ют вода, трава и деревья, заставляет их активно использовать зеленый цвет.
К зеленому цвету в оформлении интерьеров добавляется полихромная роспись в архитектуре и скульптуре. Нам стоит напрочь забыть неоклассический образ Древнего Рима, в котором храмы и общественные здания якобы сверкали нетронутой белизной. Этот образ не соответствует действительности. Всё, или почти всё, в том числе статуи и скульптурные композиции, было покрыто росписью. Точно так же обстояло дело и в Греции – и в архаическую, и в классическую, и в эллинистическую эпохи. Странно, что есть люди, которые до сих пор отказываются признать этот давно уже установленный факт – даже несмотря на многочисленные свидетельства историографических документов. В конце XVIII – начале XIX века, когда молодые археологи и архитекторы отправляются в свое первое путешествие на средиземноморский Восток, на Сицилию, в Грецию и еще дальше, они находят на стенах разрушенных храмов и на более или менее поврежденных статуях следы полихромной росписи. Они пишут об этом в отчетах, которые отсылают маститым ученым из академий Лондона, Парижа и Берлина. Но ученые, никогда не ступавшие на землю Греции и Рима, отказываются верить этим отчетам: они не в состоянии представить себе, что храмы и статуи древних были многоцветными. Позднее, в середине XIX века, под давлением многочисленных свидетельств, некоторые эрудиты в конце концов стали допускать существование некоей, как они выражались, «умеренной полихромии». Но сменится несколько поколений, будет проделано бесчисленное множество путешествий и собрано великое множество материалов, прежде чем академический мир признает очевидное: в Древней Греции и Древнем Риме людей повсюду окружало многообразие и буйство красок[24]. Сегодня уже ни один исследователь не станет оспаривать этот факт, а замечательные работы, опубликованные в последнее время, и организованные недавно выставки только лишний раз подтверждают его[25]. Но широкая публика тем не менее до сих пор представляет себе Афины и Рим в виде белоснежных, только что построенных городов, какими их изображают в фильмах и комиксах.
Вообще говоря, в эпоху Империи повседневная жизнь Рима стала более красочной, чем была во времена Республики. Среди цветов, недавно вошедших в обиход, – зеленый, а также фиолетовый, розовый, оранжевый и даже синий. Но такие новшества нравятся не всем. Некоторые моралисты и защитники традиций решительно осуждают новомодные colores fl oridi (яркие цвета) – легкомысленные, обманчивые, вульгарные, слишком резкие или слишком декоративные, которые редко появляются поодиночке, но, как правило, в неожиданных сочетаниях, чтобы создать убийственный контраст или крикливую палитру. Критики противопоставляют им colores austeri, сдержанные цвета, серьезные, степенные, неброские: некогда Рим достиг величия, потому что был верен этим цветам (белому, красному, желтому, черному). Одним из самых ревностных защитников традиций и старого цветового порядка становится Плиний Старший, причем его возмущение вызывают не столько одежда, сколько живопись и декоративно-прикладное искусство. В своей обширной «Естественной истории» он неоднократно обрушивается с критикой на новые пигменты, завезенные с Востока, на практику смешивания красок, которая извращает их природные свойства, и, если обобщить, на то, что мы сегодня назвали бы «современным искусством»[26]. Надо сказать, Плиний – не единственный противник новых веяний и тех цветов, которые вместе с ними входят в моду. До него в этом духе уже высказывались Катон и Цицерон, в его время – Сенека, Квинтиллиан и даже Витрувий. Так, Сенека высмеивает новое оформление терм и купален, где «мужчины обнажены, а стены разряжены, словно павлины»[27]. Позднее с подобными обличениями будут выступать Тацит, Ювенал, Тертуллиан и другие: любое новшество, касающееся красок, как в живописи, так и в одежде, для них неприемлемо и заслуживает осуждения. То какой-то оттенок цвета они находят слишком далеким от природы либо слишком резким; то какое-то сочетание контрастирующих цветов считают безвкусным либо непристойным. Больше всего их возмущает пестрота (varietas colorum), даже если речь идет всего лишь о полосатой ткани или о декоративном элементе наподобие шахматной доски: все это – недопустимое варварство[28].
Обрушиваясь с критикой на эти новые тенденции, осуждая одни цвета и превознося другие (белый, красный), римские писатели впервые затрагивают тему, впоследствии оказавшуюся исключительно богатой, – тему взаимосвязи цвета и морали. За долгие века у римлян появится множество эпигонов, которые в своих речах, проповедях, произведениях искусства или суждениях будут разделять цвета на «честные» и «бесчестные» – к примеру, святой Бернард Клервоский в XII веке; францисканцы, сторонники добровольной бедности, в XIII-м; законодатели позднего Средневековья, устанавливавшие бесчисленные законы против роскоши; вожди Реформации в XVI веке; буржуазные моралисты XIX века; а также пуритане всех мастей века XX-го. В этой классификации цветов по моральному признаку, которая существовала в Европе и на протяжении веков несколько раз менялась, зеленый всегда оказывался в числе аморальных – безвкусных, непостоянных, недостойных порядочного гражданина, или благочестивого христианина, или даже просто честного человека, как мы увидим далее.
А пока давайте вернемся в Древний Рим, где не все авторы разделяют мнение Плиния и Сенеки. Есть и такие, кто, напротив, приветствует новые моды, стараясь следовать пожеланиям своих меценатов и спонсоров, жаждущих перемен, стремящихся к оригинальности или даже эксцентричности. По-видимому, их было особенно много при Нероне (54–68 годы н. э.), начиная с самого императора, который любил искусство и сам считал себя артистом, занимался поэзией и музыкой, играл на сцене, а порой даже не гнушался выступлениями в цирке или на ипподроме.
Древние историки и историографы были безжалостны к Нерону, неуравновешенному человеку, страдавшему манией величия, бездарному и деспотичному императору, окружившему себя гистрионами и распутниками. Ему приписывали многочисленные злодеяния (в частности, называли виновником пожара в Риме в 64 году), казни всех его врагов и – о, ужас! – убийство родной матери, императрицы Агриппины. Современная историография отзывается о Нероне не так однозначно и высказывает мнение, что Светоний, ненавидевший императора, в своей «Жизни двенадцати цезарей» (написанной около 115–120 годов) намеренно изобразил его чудовищем. В действительности же первые годы правления Нерона были относительно спокойными, и он неоднократно проявлял себя как искусный политик. Драматические события пришлись главным образом на завершающий период его царствования. После самоубийства императора в июне 68 года началась борьба за трон между наследниками и гражданская смута, какой не видали со времен смерти Юлия Цезаря. Но сейчас речь не об этом. Нерон интересует нас только потому, что он, по всей видимости, был большим поклонником зеленого.
Мы ничего не знаем о том, какие цвета и какие фасоны одежды предпочитало большинство римских императоров, но о вкусах Нерона нам кое-что известно. Он любил яркие краски, костюмы «на греческий лад», восточную моду. А главное, во многих областях жизни выказывал неоспоримое пристрастие к зеленому цвету. Прежде всего в одежде, особенно когда он появлялся в театре или на ипподроме. Кроме того, в оформлении своих дворцов, где беспрецедентно важную роль играли драпировки из шелка. Но, главное – в составлении своей коллекции драгоценностей и редких камней, в которой главное место занимали изумруды. У Светония есть знаменитый эпизод: Нерон, находясь в цирке, наблюдает за схватками гладиаторов сквозь огромный изумруд, чтобы ему не мешали солнечные лучи[29]. Эту фразу часто неправильно переводили или неверно истолковывали. Конечно, Нерон любил смотреть гладиаторские бои, но он не мог наблюдать за ходом поединка сквозь изумруд, как и сквозь берилл, камень не такой яркой расцветки, но тонко ограненный: он просто ничего, или почти ничего, не увидел бы. Текст следует понимать иначе: Нерон очень любил гладиаторские бои, мог смотреть их часами и, чтобы дать отдых глазам, переводил взгляд на огромный изумруд, так как считалось, что этот камень, помимо других достоинств, обладает еще и способностью успокаивать утомленное зрение[30]. Позднее переписчики и миниатюристы Средневековья, которые проводили большую часть дня, склонившись над книгами и листами пергамента, также давали отдых усталым глазам, время от времени созерцая изумруд, как это делал Нерон[31].
Есть и еще одна, совсем иная и совершенно неожиданная область, демонстрирующая нам связь между императором и зеленым цветом: это кулинария. Нерон был большим любителем порея, он поедал этот овощ в большом количестве, что было абсолютно нехарактерно для человека его положения и его эпохи. Эта особенность императора поражала современников, возможно, даже больше, чем его развратное поведение или гнусность его преступлений. У порея, которым объедался Нерон, конечно, два цвета, белый и зеленый, однако в Античности он так часто ассоциировался именно с зеленым, что от его названия в греческом образовалось прилагательное (prasinos), а в латинском даже два прилагательных (prasinos и porracens), обозначавших этот цвет. Все три подразумевают яркий, кричащий оттенок зеленого; подобный цвет имеет свое определение и во французском языке – vert d’épinard (шпинатный)[32].
У некоторых авторов можно найти утверждение, что Нерон ел порей в неимоверных количествах для того, чтобы улучшить или сохранить голос, – он ведь воображал себя великим певцом. А многие современные исследователи полагают, что речь идет о предписании врача, поскольку порей, так же как лук и чеснок, благотворно влияет на работу сердца. Но знали ли об этом древнеримские врачи? Для тогдашней медицины порей, который у римлян пользовался большим спросом, – прежде всего мочегонное (сегодняшняя медицина того же мнения), афродизиак (один из многих) и будто бы эффективное противоядие от укусов змей (что отнюдь не бесспорно)[33]. Но для нас сейчас это не столь важно. Неопровержимый факт заключается в том, что Нерон любил зеленый цвет, изумруды, траву и листву, а также порей. Любил так сильно, что, собираясь на ипподром, даже надевал форменную тунику Зеленой конюшни, знаменитой factio prasina, над которой издевался Петроний в «Сатириконе»[34].
От ипподрома к политике: Зеленые против Синих
Арены спортивных состязаний – сфера наблюдения, в которой историк цвета может найти для себя очень много полезного. Идет ли речь об Олимпийских играх, древних либо современных, о турнирах и ристалищах Средневековья или о чемпионатах мира в наши дни, урожай часто бывает богатым. Дело не только в том, что арена и трибуны переливаются всеми возможными красками: цвета помогают быстро узнавать участников состязаний, различать команды и болельщиков, но главное – они подчиняются определенным кодам и системам, которые функционируют в полную силу, хотя ни участники, ни зрители по сути не сознают этого. На спортивных аренах цветá, что называется, у себя дома, они играют первостепенные роли.
И гонки колесниц в Древнем Риме – не исключение. Римляне заимствовали это развлечение у греков, которые еще в 620 году до нашей эры включили его в программу Олимпийских игр. Появившись во времена Республики, гонки быстро обретают популярность, но их наибольший расцвет приходится на эпоху Империи, когда они становятся прежде всего спортом, почти что в современном смысле этого слова. Гонки происходят на ипподроме, то есть в цирке. Крупнейший из римских цирков, Большой цирк (Circus Maximus), находится между Палатином и Авентином. Его много раз перестраивали; при Августе это сооружение имеет шестьсот метров в длину и сто восемьдесят в ширину; однако в III веке понадобится очередная реконструкция, после которой в цирке будет 350 тысяч мест, причем примерно две трети из них – сидячие. Мужчины и женщины, старики и молодежь, свободнорожденные и рабы сидят на трибунах бок о бок (что непривычно для Рима) и их голоса сливаются в единый оглушительный рев. Возбуждение зрителей так велико еще и потому, что многие из них сделали ставку на ту или иную колесницу, ту или иную команду. В цирке нередко случаются перебранки, потасовки, стихийные вспышки недовольства, а также давка.
Ипподром имеет форму овала; он разделен вдоль на две части барьером (spina) длиной более двухсот метров. Колесницы огибают края барьера на большой скорости, поэтому здесь часто происходят несчастные случаи, когда возничие хотят обогнать соперников на повороте. Столкновения, запрещенные приемы, плутовство, падения, выбитые колеса – обычное дело на гонках. На чуть более широкой оконечности ипподрома находятся стартовые ворота, числом двенадцать; закрывающая их дверца распахивается по сигналу устроителя гонок. Многочисленные цирки в провинциях построены по образцу римского Большого цирка; они меньше по размеру, но имеют точно такую же планировку.
В колесницы могут быть впряжены одна, две, три или четыре лошади. Самые зрелищные – гонки квадриг, колесниц, запряженных четверней. Рим – ляне любят их больше всего. Лошади должны пробежать семь кругов; последний круг – самый быстрый, самый напряженный и самый опасный. С течением времени состязания проводятся все чаще: при Цезаре – семьдесят шесть дней в году, а три столетия спустя – сто семьдесят пять дней в году, иногда по тридцать четыре заезда в день. Среди возничих есть настоящие «звезды», вроде знаменитых спортсменов нашего времени. Из надгробных надписей мы узнаём имена некоторых чемпионов, в частности Гая Аппулея Диокла, уроженца Лузитании; он был возничим двадцать четыре года, участвовал в 4237 гонках, одержал 1462 победы и заработал тридцать шесть миллионов сестерциев. По-видимому, это абсолютный рекорд[35].
Чаще всего возничие участвуют в гонках не поодиночке, а в составе команды, от которой в каждом заезде выступают по две, три или четыре колесницы. Они носят цвета своей команды (factio). Их одежда – одноцветная, короткая, плотно облегающая тело туника, по которой зрителям легко их опознать. При Августе в гонках участвовали четыре команды: Белые, Синие, Зеленые и Красные. Впоследствии появятся еще Желтые и Фиолетовые. Однако при поздней Империи останутся только две сильные команды: Синие и Зеленые. Располагающие многочисленным персоналом, прекрасно организованные, эти объединения представляют собой нечто большее, чем спортивные команды или клубы болельщиков. Они превращаются в настоящие политические партии, у которых есть свои сторонники, свои разветвленные сети поддержки, свои группы лоббистов, чье влияние простирается далеко за пределы ипподрома. Синие (venetiani), как правило, пользуются покровительством сената и патрициев; Зеленых (prasiniani) поддерживает народ. Многие императоры были сторонниками Синих, но со временем появились правители, которые, добиваясь популярности среди народа, переходили на сторону Зеленых. Первыми к этой хитрости прибегли Нерон, Домициан и Коммод[36].
Стоит уделить особое внимание этим двум цветам, которые мало-помалу вытеснили все остальные. Это необычные цвета, и не только потому, что синий и зеленый играют сравнительно небольшую роль в повседневной жизни римлян, но еще и потому, что тут каждый из них представлен в той степени интенсивности и в том оттенке, каких почти не увидишь за пределами ипподрома. Это цирковые цвета, яркие, кричащие, вульгарные. Зеленый цвет factio prasina, как мы уже говорили, сравним с цветом порея; он относительно темный, с более или менее выраженным синеватым отливом. А главное, этот цвет сразу бросается в глаза. Что же до синего цвета factio ve neta, то охарактеризовать его почти невозможно, поскольку прилагательное ve netus употребляется почти исключительно в связи с гонками колес ниц и цирковыми играми. Об этимологии этого слова нет единого мнения[37]. Есть ли тут связь с народом венетов? А если есть, то с которым из них? Название «венеты» носят три народа, живущие в разных концах империи: в Арморике, в Венетии и в Каппадокии. И о каком оттенке синего идет речь – о светло-синем, иссиня-белом, темно-синем? Мы не можем ответить на этот вопрос, поскольку у нас нет объектов для сравнения. Я, со своей стороны, склонен видеть в venetus очень яркий голубой цвет оттенка бирюзы, который легко противопоставить столь же яркому изумрудно-зеленому цвету команды противников.
Мы не располагаем статистическими данными о результатах гонок. И все же есть основания полагать, что команда Зеленых выигрывала чаще, чем команда Синих. Доказательством этого может служить сатира Ювенала, написанная в начале II века. В ней автор, по своему обыкновению, обличает дурные нравы современников, испорченность женщин, безумную роскошь и чревоугодие, всевластие денег и пороков, а также зрелища, показываемые в амфитеатрах и цирках. Описывая гонки, он сообщает, что победа осталась за командой Зеленых, и не без иронии дает нам понять, что такому результату следует радоваться: если бы победили Синие, для всего римского народа это стало бы тяжелым ударом:
Сегодня в цирке присутствует весь Рим. Вот раздается оглушительный рев, от которого у меня чуть не лопаются уши: из этого я заключаю, что победу одержали Зеленые. Случись иначе, город был бы охвачен скорбью и унынием даже большими, чем в тот день, когда Ганнибал наголову разбил консулов в битве при Каннах. Пусть молодежь ходит на эти игры, они как раз для нее. В этом возрасте подобает испускать пронзительные крики, делать головокружительные ставки и подыскивать на трибунах местечко рядом с юной красавицей[38].
Гонки колесниц не прекращаются и после падения Рима. В Западной империи христианство, враждебно настроенное к цирковым зрелищам, в конце концов запретило гонки: ипподром был слишком явным «прибежищем Сатаны» (Тертуллиан). Однако в Византии они просуществовали еще долго. Причем в Константинополе, даже в большей степени, чем в Риме, демы (команды) стали играть роль политических партий: они вмешивались в дела государства и бывали случаи, когда они устраивали крупные беспорядки. Так, в начале правления Юстиниана, в 532 году, победа Синих, которым покровительствовала императрица Феодора, вызвала целую серию народных бунтов, переросших в кровопролитные столкновения. Затем последовали разрушительный пожар, неумелые попытки подавить мятеж и новые вспышки насилия. За эти дни в Константинополе погибли в общей сложности более тридцати тысяч человек.
Таким образом, в Византии, как и в Риме, ради соблюдения общественного порядка лучше было рассчитывать на победу Зеленых[39].
Цвет, о котором молчат Библия и Отцы Церкви
Библия ставит перед историком цвета сложные, иногда неразрешимые задачи. Не только потому, что слова и выражения, относящиеся к цвету, встречаются там редко, но еще и потому, что даже этот скудный урожай состоит больше из сравнений или метафор, чем из прямых обозначений цвета. Вдобавок часто возникает путаница между названиями цветов и названиями материалов: относятся ли такие слова, как «пурпур», «золото», «серебро», «черное дерево», «слоновая кость», к веществу или к цвету или же к тому и другому одновременно? Контекст не всегда помогает в этом разобраться. К упомянутым трудностям следует добавить и еще один, весьма деликатный вопрос: вопрос перевода. Библия состоит из разнородных текстов, которые возникли в разные эпохи, в разных слоях общества, были много раз переписаны, искажены позднейшими вставками, неправомерно сокращены или переработаны; переводы этих текстов были выполнены в течение долгих веков, в совершенно различных социокультурных средах[40].
При этом лексика порой существенно изменялась, в частности лексика, относящаяся к цвету[41]. В древнееврейском тексте, а также в его переводах на арамейский и греческий эта лексика была скудной и неточной, но в самых ранних латинских переводах и в Вульгате она уже разнообразнее – и, главное, точнее, – а позднее, в переводах на современные европейские языки, становится еще богаче. Вот убедительный пример: в древнееврейском тексте Библии слово «цвет» не встречается вообще; в арамейском (tseva’) и греческом (khróma) – лишь по одному разу. Зато в «Вульгате» оно встречается около тридцати раз и чаще всего – в сопровождении прилагательного, которое уточняет оттенок или нюанс упоминаемого цвета. Таким образом, латинский текст Библии красочнее, чем древнееврейский или греческий. Там, где в древнееврейском тексте сказано «богатая ткань», в латинском тексте будет сказано «pannus purpureus», а в переводах на местные европейские языки – «великолепная пурпурная ткань» или же «алая ткань». Там, где греческий текст говорит: «колонна из темного мрамора», латинский скажет «columna nigra marmorea», привнося обозначение цвета (nigra), которое затем подхватят переводы на местные европейские языки – «колонна из черного мрамора». Вот почему, собираясь исследовать тему цвета в Библии, мы всегда должны учитывать, с каким вариантом текста имеем дело. На каком языке? Какой эпохи? В какой редакции? В каком переводе? Если мы возьмем за основу одну из современных Библий, переведенных на тот или иной западноевропейский язык, у нас ничего не выйдет, какие бы самоотверженные усилия мы ни прикладывали, стараясь верно придерживаться древних текстов. Перевод слов, обозначающих цвета, неизбежно оказывается неверным, даже в большей степени, чем перевод любых других лексических пластов.
Но при всем при том как в древнейших версиях, так и в современных переводах Библия не отличается многословием, когда речь заходит о цвете. Даже в такой книге, как Книга Есфирь, с ее повествовательным характером и обилием описаний – тут и пир, и драгоценные ткани, и великолепные одежды, – о цвете сказано очень мало[42]. Библейский текст больше внимания уделяет свету, веществу или качеству предмета, чем его окраске. Очень часто он говорит о блеске, сиянии, пышности (или бедности), но словно забывает о цветовой характеристике. Исследование на предмет частоты упоминаний показывает, что чаще всего в Библии говорится о белом и красном. Причем и у того и у другого символика двойственная: белый, с одной стороны, ассоциируется с чистотой и девственностью, а с другой – с увяданием, грязью или болезнью (проказой); что же до красного и множества его оттенков, то они могут олицетворять то любовь, красоту, богатство и могущество, то гнев, гордыню, жестокость и кровавые злодеяния. Далее по частоте упоминаний следуют черный и различные тона фиолетового (который в определенных случаях можно отнести к семейству красных), затем коричневый и рыжий (еще одна специфическая разновидность красного). Желтый и зеленый встречаются гораздо реже (причем иногда их путают друг с другом), а синий вообще отсутствует[43].
Однако этому подсчету верить нельзя. Он опирается на современные понятия и категории. Красный, синий, зеленый, желтый – в нашем сегодняшнем понимании и восприятии все эти цвета четко выражены и отграничены друг от друга, но в древних социумах дело обстояло иначе. То, что выше было сказано о греках, следует отнести и к народам Библии: границы между цветами у них размыты, а такие параметры, как освещенность предмета, материал, из которого он сделан и способ обработки этого материала, имеют гораздо более важное значение, чем его расцветка. Вот почему возникают трудности при переводе слов и выражений, обозначающих цвет, а также при попытках подсчитать, какие цвета упоминаются часто, а какие редко. Мы можем лишь выделить наиболее заметные тенденции: главенствующее положение белого и красного, в меньшей степени – черного; редкие появления желтого и зеленого; полное отсутствие синего.
По правде говоря, зеленый как цвет тоже отсутствует в тексте Библии. Когда он упоминается (yereq по-древнееврейски; viridis по-латыни), речь почти всегда идет либо о траве, либо о растительности, но никогда – о предмете, о ткани или об одеянии. Один лишь изумруд поддерживает здесь честь зеленого: он дважды упоминается в перечне двенадцати драгоценных камней – тех, что украшают наперсник первосвященника (Исход, XXVIII, 17–20), и тех, что украшают основания стены небесного Иерусалима (Откровение, XXI, 19–21). Но это два исключения. Зеленый цвет сводится к описаниям растительности, полей, лесов и пастбищ, мест покоя и отдохновения; когда же он превращается в «бледно-зеленый», то ассоциируется с трупами и смертью.
Редкое упоминание зеленого в Священном Писании, по-видимому, ввело в заблуждение Отцов Церкви, которые охотно и много говорят о цветах и символике цветов[44]. Но что можно сказать о цвете, о котором в Библии не говорится совсем либо говорится очень мало? Ничего, или почти ничего. Это наглядно доказывают подсчеты, сделанные Франсуа Жаксоном при исследовании сочинений Отцов Церкви, созданных до середины IX века. Отметив все слова, обозначающие цвет, встречающиеся в первых ста двадцати томах «Латинской патрологии» (собрание сочинений всех христианских авторов, написанных до XIII века; опубликовано в 1844–1855 годах аббатом Минем и его помощниками[45]), Жаксон пришел к интереснейшим выводам. Доля слов, обозначающих белый цвет, составляет 32 %, черный – 28 %, золотой (и желтый) – 14 %, фиолетовый – 10 %, зеленый – 6 %, синий – менее 1 %[46]. Разумеется, это особые тексты, которые принадлежат к области экзегетики, теологии, агиографии и морали. Но если бы мы взяли сочинения более технического либо энциклопедического характера, относящиеся к тому же времени, изменились бы результаты подсчетов? Я в этом не уверен.
Как бы то ни было, выявить символику зеленого в трудах Отцов Церкви – задача весьма нелегкая. Мы можем сказать только, что авторы не приписывают зеленому ни большинства достоинств, ни большинства изъянов, которые будут связывать с этим цветом впоследствии – юность, мощь, надежда, с одной стороны, хаос, скупость и безумие – с другой. Для них зеленый – прежде всего цвет растительности. Некоторые ассоциируют его с Животворящим Древом (Животворящим Крестом) и наделяют позитивной символикой, связанной с Воскресением. Но эта идея высказывается достаточно робко и обсуждается почти исключительно литургистами.
Действительно, до возникновения геральдики и грандиозных хроматических сдвигов в XII–XIII веках больше всего информации по цветовой символике историку могут дать трактаты по литургике: именно там цвета впервые рассматриваются как концепты, то есть абстрактные категории, а не как нечто неотъемлемо связанное с освещением, материалом или естественными красками природы.
Эту тему следует рассмотреть подробнее.
Промежуточный цвет
К сожалению, вопрос возникновения и распространения богослужебных цветов до сих пор не вызывал большого интереса у исследователей. Работ по истории литургии написано много, но в них редко идет речь о цветах. По многим моментам наши знания остаются недостаточными[47]. Попытаемся все же отобразить в общих чертах историю этого вопроса до XIII века[48].
В раннехристианскую эпоху еще не существовало особых одеяний для литургии: священник совершал богослужение в своей обычной одежде. Впоследствии появляются одежды для священнослужителей (омофор, стихарь, епитрахиль, фелонь, орарь), однако шьются они из некрашеных тканей, поскольку цвет воспринимается как нечто нечистое. Затем совершается постепенный переход от некрашеного к белому – на Пасху и в другие важнейшие праздники и к черному – в дни скорби и покаяния. Отцы Церкви в своих трудах единогласно провозглашают белый достойнейшим из цветов, а черный – цветом греха и смерти. Позднее, в эпоху Каролингов, когда Церковь ввела в свой обиход некое подобие роскоши, в тканях для церковного убранства и облачениях священников стали использовать золото и яркие цвета. Однако вопрос об их использовании в каждой епархии решался по-своему. С начала второго тысячелетия в выборе цвета богослужебных тканей и одежд устанавливается некоторое единообразие, по крайней мере по важнейшим праздникам: белый – на Рождество и на Пасху, черный в Страстную пятницу и в дни траура; красный – для Пятидесятницы и Воздвижения. Что касается остальных, в частности, праздников святых, а также будних дней, тут решения принимаются на месте, то есть всюду по-разному.
Но все меняется, когда на папский престол восходит Иннокентий III (1198–1216), величайший из понтификов Средневековья, которому удается постепенно убедить священнослужителей в том, что обычаи римской епархии должны стать обычаями всего христианского мира. Он сам описал эти обычаи в своем юношеском сочинении в 1195 году. В то время будущего понтифика звали Лотарио Конти, он пребывал в ранге кардинала и не имел отношения к делам папской курии. Его трактат о мессе назывался «De sacro sancti altari misterio»[49] и по тогдашнему обыкновению был насыщен компиляциями и цитатами. Однако для нас этот трактат ценен тем, что в нем уделяется больше места символике цветов, чем в более ранних текстах, а также описывается и поясняется богослужебная функция цвета в римской епархии в конце XII века.
О белом, красном и черном кардинал Лотарио не говорит практически ничего нового по сравнению со своими предшественниками-литургистами (Гонорием, Рупертом из Дойца, Иоанном Белетом), однако он значительно расширяет список праздников, во время которых следует придерживаться определенных норм в убранстве храма и облачении священников. Белый цвет, символ чистоты, радости и славы, подходит для всех праздников, посвященных Христу, ангелам, девственницам и исповедникам[50]. Красный, напоминающий одновременно о пламени Святого Духа и о крови, пролитой Христом и за Христа, пригоден для Пятидесятницы, для праздников апосто лов и мучеников, а также для Воздвижения. Черный цвет, связанный со скорбью и покаянием, следует использовать для Страстной пятницы, заупокойной мессы и во время Рождественского и Великого постов. Однако самое необычное суждение будущий понтифик высказывает о зеленом. Он рассматривает зеленый как цвет надежды, вечной жизни – а этого до него не делал никто – и произносит фразу, весьма важную для нашего исследования:
Зеленый надлежит использовать в те праздники и будние дни, для которых не подходят ни белый, ни красный, ни черный, ибо зеленый – промежуточный цвет, его место – между белым, красным и черным[51].
Зеленый – промежуточный цвет! Это утверждение только на первый взгляд кажется бессмысленным. Если вдуматься, зеленый не только представлен здесь как четвертый цвет христианской обрядовости – где, заметим, отсутствуют желтый и синий[52], – но еще и помещен в центр системы – (треугольника?) – тремя полюсами которой являются белый, красный и черный. С одной стороны, кардинал Лотарио, будущий папа Иннокентий III, выступает здесь как наследник древних традиций, бытовавших во многих социумах, включая мир народов Библии и греко-римский мир, и признававших эти три цвета основными. А с другой стороны, он уделяет зеленому, прежде такому редкому и малозаметному цвету, законное, четко обозначенное место в системе и наделяет его важной ролью для нормального функционирования целого. Говоря «промежуточный», автор не подразумевает «незначительный». Поскольку зеленый разрешено использовать и в праздники, и в будни, он по сути становится наиболее востребованным цветом литургического года. А это не пустяк, если учесть, что в XIII веке дело идет к унификации правил богослужения: большинство епархий, которые прежде придерживались местных традиций, одна за другой решают ввести у себя правила, принятые в Риме. Так в значительной части западно-христианского мира зеленый становится богослужебным цветом, и это сообщает ему определенный престиж[53]. Конечно, зеленый не придает происходящему такую торжественность, как белый, красный или черный, однако в теологической и символической иерархии он занимает более высокое положение, чем желтый, синий, фиолетовый и все прочие цвета.
Что стало причиной такого взлета? Пространные рассуждения ученых о значении цветов? На рубеже XII–XIII веков об этом писали многие, причем особое внимание уделялось радуге. Мало-помалу наука вновь открывает для себя Аристотеля, который, разумеется, никогда не писал отдельного сочинения, посвященного цветам, но в своих трудах по натурфилософии[54] несколько раз помещал зеленый в центр оси, представляющей собой совокупность цветов. Таким образом, для Аристотеля зеленый – действительно «промежуточный» цвет. Эту идею подхватит автор небольшого трактата под названием «De coloribus», который был написан позднее (во II или III веке до н. э.) и который ошибочно приписывали Аристотелю. В эпоху раннего Средневековья этот трактат часто изучают студенты, и в итоге наука принимает за основу содержащуюся в нем «аристотелевскую» шкалу цветов: белый, желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, черный. Эта шкала останется базовой вплоть до XVII века. Но была ли она известна в папской курии в конце XII столетия?
Ответить на этот вопрос затруднительно, однако, быть может, объяснение следует искать в другой области, например в материальной культуре. Как мы видели, зеленый цвет занимал весьма скромное место в повседневной жизни древних римлян. Даже «варварские» моды в эпоху поздней Империи не помогли ему обрести большее влияние. Только патрицианки, привередливые и непостоянные в своей страсти к нарядам и украшениям, в разные периоды обращаются к этому цвету. Но после массовых вторжений германцев в V веке все изменится. Германцы принесут с собой навыки красильного дела и традиционную одежду, совершенно непривычные для разноплеменного, но давно романизированного населения Империи. Появятся новые цвета: если раньше в римской палитре доминировали белый, красный и желтый, и расцветка была преимущественно однотонной, то теперь им бросают вызов синий, зеленый и желтый, а также контрастные, резкие сочетания ярких цветов. Даже желтые тона словно вступают в соперничество: традиционный римский оранжевато-желтый – против более или менее зеленоватого желтого у германцев. Появляется даже латинское слово для обозначения этого нового оттенка желтого, который режет глаз уроженцам Средиземноморья: galbinus[55].
Сколько времени должно было пройти, чтобы повседневные привычки римлян и обычаи германцев-варваров слились в единое целое? Источники не дают ответа на этот вопрос, а значит, найти его будет весьма затруднительно. Историки ничего не знают о том, как одевались люди в эпоху Меровингов, даже если речь идет о властителях и их приближенных. Вдобавок, в общепринятых представлениях об этой эпохе, более, чем о какой-либо другой, историческую реальность подменил набор клише, созданных художникамиромантиками: они нарядили королей и принцев VI–VII веков в костюмы, которые те, возможно, никогда не носили, – короткие туники и плащи, голени обнаженные или в обмотках, яркие краски, ткани в полоску или в клетку, меха и звериные шкуры в изобилии. В более позднее время появляется больше изобразительных документов, позволяющих представить себе, как тогда было принято одеваться – по крайней мере, в среде аристократии. Они показывают нам, по какому принципу произошло слияние галло-романской моды и моды варваров: силуэты остались римскими, а цвета стали германскими. Отчасти это можно объяснить тем, что техника красильного дела у германцев имела преимущества перед римской – например, при окрашивании в зеленые тона, а также (правда, в меньшей степени) в синие, хотя синий цвет тогда еще не успел приобрести широкую популярность – это случится только в начале II тысячелетия.
Итак, мы видим, что Карл Великий и его преемники носили зеленое чаще, чем императоры поздней Римской империи, но только не само по себе, а в сочетании с красным, цветом власти. Мы сейчас не можем заняться статистическими подсчетами, да и не стоит забывать, что средневековое изображение – отнюдь не «фотография» реальности, но факт очевиден: в IX–XII веках именно эти два цвета выбирают миниатюристы, чтобы одеть королей, принцев и сильных мира сего. Исключение составляют лишь иллюминованные манускрипты Южной Италии и Пиренейского полуострова[56].
К зеленому цвету питают слабость не только германцы, но и жители Скандинавии. Многие хронисты отмечали, что пираты-норманны, которые в течение почти трех столетий высаживались на морском побережье, поднимались по течению рек, грабили церкви и монастыри, часто были одеты в зеленые туники[57]. В Северной Европе окрашивать в зеленое – сравнительно нетрудное дело: крапива, папоротник, подорожник, листья ясеня, кора березы – все они дают большое разнообразие тонов. Но такие красители плохо впитываются в волокна ткани, поэтому зеленый цвет от большинства из них получается блеклый и непрочный. Однако этот цвет, о котором рассказывается во многих документах, по-видимому, считался талисманом у пиратов и моряков с Севера – тех, кого традиционно (но не совсем правильно) называют викингами. Когда незадолго до конца тысячелетия исландские переселенцы под началом Эрика Рыжего высаживаются в Гренландии, они признают местность пригодной для обитания, основывают там две колонии и дают этому краю название, сохранившееся до сих пор: «Зеленая земля». И не потому, что в те времена остров отличался обилием растительности[58], а потому, что для норманнов «зеленая» земля, то есть земля, покрытая зеленью, – знак надежды, счастья и процветания.
Зеленый цвет ислама
Тема нашей книги – социальная и культурная история зеленого цвета в одной лишь Западной Европе, а не в масштабах всего мира. Для историка проблемы цвета – это главным образом проблемы общества. Вот почему для решения своей задачи он должен ограничиться определенным культурным ареалом, а не стремиться к обобщениям (которые приводят к упрощенчеству) или, наоборот, углубляться в псевдонаучные спекуляции, сопровождая их невразумительными нейробиологическими выкладками. Человек не живет сам по себе, он живет в обществе.
А вот сравнительное исследование может оказаться плодотворным, особенно если речь идет об обществах, которые существуют в тесном соседстве и контактируют друг с другом. Так было с народами ислама и христианской Западной Европой в эпоху раннего Средневековья. До того как двинуться дальше, к истории зеленого цвета в Европе после 1000 года, бросим беглый взгляд на его историю в мусульманском мире. Этот мир занимает огромное пространство, от Марокко до Центральной Азии и Индии. Ограничимся его колыбелью – арабскими странами и периодом между VI и XII веками: «Исламом в его первозданном величии», как гласит название одной известной книги[59].
Коран, то есть собрание божественных откровений, полученных Мухаммедом через посредство ангела Джабраила, принимает законченную форму только через двадцать лет после смерти Пророка, когда по приказу халифа Усмана создается его «официальная» версия. В дальнейшем в текст будут вноситься лишь минимальные изменения. Священная книга состоит из ста четырнадцати сур (глав) неравной длины, общим объемом в шесть тысяч двести двадцать шесть стихов. Каждая сура представляет собой нечто самостоятельное, независимое от остальных. Одни соответствуют мекканскому периоду в жизни Пророка, другие – времени, когда он жил в Медине. Отсюда и фрагментарность сур, а также иногда встречающиеся в тексте повторы или противоречия.
В Коране мало говорится о цветах – как и в Библии, откуда он часто берет заимствования. В тексте всего тридцать три раза упоминаются шесть основных цветов: белый – одиннадцать раз, зеленый – восемь, черный – семь, желтый – пять, красный и синий – по одному разу[60]. Метафор и сравнений, содержащих название цвета, несколько больше, однако их все же меньше, чем в Библии. Зеленый, который интересует нас прежде всего, в Коране всегда имеет позитивное значение: он ассоциируется с растительностью, с весной, с небом и раем. В отличие от черного или желтого, зеленый никогда не воспринимается негативно. Было ли этого достаточно, чтобы превратить его в священный цвет? Быть может, и нет. Какая-то другая традиция должна была объединиться с кораническим текстом, чтобы дать зеленому главенство над всеми остальными цветами, а позднее сделать его религиозным цветом ислама.
Эта традиция основана на легенде, следы которой встречаются уже в VII веке и согласно которой Мухаммед в течение долгого периода своей жизни отдавал явное предпочтение зеленому цвету: он часто носил зеленый тюрбан и, хотя обычно одевался в белое, любил окружать себя зелеными тканями. В битвах его знамя бывало то зеленым, то черным. Конечно, полагаться на такие свидетельства рискованно, но пристрастие Пророка к зеленому цвету подтверждали многие его соратники, и постепенно оно превратилось в истину, которая больше уже не подвергалась сомнению.
После смерти Мухаммеда в 632 году зеленый, по-видимому, стал если и не цветом новой религии, то, во всяком случае, династическим цветом его семьи или, по крайней мере, тех, кто называл себя его прямым потомком. Таким образом, он приобретает политическое значение: вначале он выступает против белого цвета Омейядов – династии, основанной одним из соратников Мухаммеда и правившей в Дамаске с 650 до 750 года (а в Кордове – с 756 до 1031 года), а затем против черного цвета Аббасидов, правивших в Багдаде с 750 до 1258 года. Позднее, в X веке, Фатимиды, называвшие себя потомками Фатимы, дочери Пророка, разрывают отношения с Багдадом, освобождаются из-под власти Аббасидов, перебираются в Египет, основывают Каир и выбирают зеленый своим династическим цветом.
Как мы видим, до наступления 1000 года зеленый еще не был религиозным цветом ислама, а лишь цветом одной семьи. Но с XII века ситуация меняется. Зеленый приобретает религиозное измерение, а после падения Фатимидов он уже не столько политический цвет, принадлежащий определенной династии, сколько цвет религии, цвет ислама вообще. Черный цвет Аббасидов, белый Альморавидов, а позднее – и красный Альмохадов все еще соперничают, иногда ведут ожесточенную борьбу друг с другом, но зеленый становится цветом-объединителем: под ним соберутся все арабские народы ислама. Этому есть несколько причин, главная из которых, возможно, связана с Крестовыми походами. Поскольку у крестоносцев знамена и нашивки на одежде были бело-красные, нужно было противопоставить им какой-то другой, единый цвет, который имел бы силу и в Испании, и в Северной Африке, и на Ближнем Востоке: и таким цветом стал зеленый. Рискнем предположить, что определенную роль в его «продвижении» сыграла другая воюющая сторона – христиане. Существует гипотеза, что именно крестоносцы сделали полумесяц единственным символическим антагонистом креста, выбрав его из внушительного набора эмблем, которые использовали мусульмане; возможно, то же самое произошло с зеленым цветом – христиане превратили его в единственную цветовую эмблему мусульманского воинства. На всем протяжении мировой истории решающим фактором в войне эмблем и символов всегда становился взгляд противника.
Как бы то ни было, с XII века зеленый окончательно становится религиозным цветом ислама. В то время как в любом обществе каждый цвет обладает и позитивными, и негативными аспектами, в мусульманском мире зеленый всегда воспринимается позитивно. Это почти исключительный случай. Символика зеленого перекликается с символикой рая, счастья, богатства, воды, неба и надежды. Зеленый превратился в священный цвет. Вот почему со времен Средневековья появляется столько экземпляров Корана в зеленом переплете или зеленой обложке, которые сохраняются и по сей день. Кроме того, многие высокопоставленные духовные лица носят одежды этого цвета. В то же время зеленый все реже можно увидеть на коврах, и в конце концов он исчезает оттуда окончательно: нельзя же попирать ногами такой почитаемый цвет.
Вторжение, а затем и владычество турок ничего не изменили в этой цветовой гегемонии. Конечно, в Османской империи существуют свои политические и династические цвета (появляется даже синий – как цвет христианских меньшинств). Но зеленый по-прежнему остается религиозным цветом и цветом-объединителем. Этот цвет, как напоминание и символ, присутствует на флагах всех современных стран исламского мира. Флаг Саудовской Аравии, принятый в 1938 году, целиком зеленый, а единственные декоративные элементы на нем – первый стих Корана и сабля Пророка[61].
Глава 2 Куртуазный цвет (XI–XIV века)
Цвет, долгие тысячелетия остававшийся редким и загадочным и уже поэтому трудным для исторического исследования, после 1000 года становится заметнее и значительнее. Зеленый начинает играть в мире символов роль, какую не играл никогда прежде, и даже если он (как и остальные цвета) остается двойственным, а то и двусмысленным, теперь его скорее воспринимают позитивно, чем негативно. Он фигурирует в произведениях искусства и в поэзии, и при этом постоянно подчеркивается, как он любим государями и вельможами. С XII века зеленый цвет все больше привлекает витражных мастеров, эмальеров и миниатюристов, особенно в немецкоязычных странах, где недавно начавшаяся «экспансия» синего ощущается не так сильно, как в остальной Европе[62]. Спустя несколько десятилетий куртуазная литература сделает зеленый цветовой эмблемой не только растительного мира, но также юности и любви, а рыцарство отведет ему особое место в описании странствий и турниров. Одна лишь зарождающаяся геральдика пока не решается доверить ему важное место на своей скудной и ограниченной палитре: если в декоре гербов зеленого уже много, то на самих гербовых щитах – почти нет.
Если вдуматься, XII–XIII века, время наивысшего подъема средневековой цивилизации, были также и временем торжества зеленого. Конечно, по интенсивности и широте охвата это явление нельзя сравнивать с происходившей тогда же экспансией синего (недавно говорилось даже о «синей революции»), но все же речь идет об успехе как по количественным, так и по качественным показателям, который мы можем отследить и проанализировать, изучая многочисленные документальные источники. Зеленый цвет не только наращивает свое присутствие в повседневной жизни и материальной культуре, он приобретает в мире образов и символов такое значение, какого не имел никогда прежде.
Красота зеленого
Что считается красивым цветом в эпоху рыцарства и куртуазной культуры? Ответить на этот вопрос нелегко. И не только потому, что историк здесь рискует впасть в анахронизм, но еще и потому, что в ходе исследования он то и дело оказывается в плену у слов. О прекрасном, как и о безобразном, он узнает из текста. Но между реальным цветом живых существ и неодушевленных предметов, цветом, который человек воспринимает на самом деле, и цветом, который описывает тот или иной автор, может оказаться целая пропасть. К тому же при изучении этого периода историк, если можно так выразиться, лишен доступа к особенностям восприятия и вкусам отдельного человека. Он вынужден смотреть на все чужими глазами, и более того – через призму общества и его ценностей, аристократических и клерикальных. Вот почему суждения о красоте или безобразии прежде всего зависят от соображений морального, религиозного и социального свойства[63]. Прекрасное – это почти всегда достойное, правильное, умеренное, привычное. Разумеется, допускается и чисто эстетическое наслаждение от созерцания ярких красок, но это должны быть по преимуществу краски природы, ведь только они истинно прекрасны, чисты, дозволены и гармоничны, ибо созданы рукою Творца. Вдобавок, несмотря на свидетельства поэтов, историк не располагает возможностями для того, чтобы исследовать это чисто хроматическое удовольствие; и здесь он снова оказывается в плену обманчивой лексики и шаблонов.
Средневековые понятия наслаждения, гармонии и красоты далеки от понятий XXI века. Даже те или иные цветовые сочетания или контрасты тогда могли восприниматься не так, как воспринимаются сейчас. Например, сочетание желтого и зеленого для средневекового человека – самый резкий контраст, какой только можно себе представить. А в нашей классификации желтый и зеленый – соседи по цветовому спектру, и мы привыкли плавно переводить взгляд с одного на другой, не ощущая никакого диссонанса. И наоборот: такие сочетания, как красное с зеленым или красное с желтым, которые мы воспринимаем как контрастные, в XII–XIII веках отнюдь не считались таковыми, поскольку они располагались рядом на хроматической шкале, принятой у живописцев и ученых[64]. Так как же современным людям судить о красоте цветов, которые оставила нам эта фаза Средневековья? Во-первых, мы видим их не в первозданном состоянии, а такими, какими их сохранило для нас время, во-вторых, при освещении, которое не имеет ничего общего с источниками света той эпохи, и, наконец, наш глаз не приучен оценивать такую композицию, такие градации света и тени или такую гармонию красок. В XII–XIII веках умели отличать светлое от сияющего[65], тусклое от бледного, гладкое от ровного: как сделать это сегодня? Для нас эти понятия настолько схожи, что мы склонны их путать, а в те времена они даже не были близкими. Средневековые живописцы, геральдисты и энциклопедисты знали, что «пурпур» на гербовом щите – не то же самое, что пурпур императорской мантии, знали, какой цвет считается сухим, а какой влажным, какой холодным, а какой теплым: как нам усвоить эту разницу? Для современников Людовика Святого зеленый – цвет воды – был холодным, а синий – среди прочего и цвет воздуха – теплым[66].
Зеленый считается также и красивым цветом, а некоторые авторы даже называют его прекрасным. Не только потому, что он преобладает на лугах, в лесах и садах и тем самым радует глаз, но еще и потому, что это умиротворяющий цвет, который дает отдых зрению и душе. Такие идеи не новы, они уже встречаются у Вергилия, Плиния Старшего и многих авторов эпохи Империи: если смотришь на зеленое, усталым глазам становится легче. В Риме из толченого изумруда делают бальзам для глаз: зеленое успокаивает воспаленные глаза и укрепляет зрение[67]. Веру в целебную силу зеленого человечество пронесет через века, так что в итоге он станет цветом медицины и фармакологии.
Но в Средние века к этому аргументу добавится еще один: зеленый прекрасен, поскольку располагается в середине того, что мы сегодня назвали бы «цветовой гаммой». Как мы видели в предыдущей главе, такого мнения придерживался кардинал Лотарио (будущий папа Иннокен тий III) еще в 1190-х годах, когда писал о богослужебных цветах: «Место зеленого – на полпути между белым, черным и красным, а потому использовать его надлежит в те праздники, для которых не подходят ни белый, ни красный, ни черный». Зеленый – промежуточный цвет! Это отнюдь не недостаток, а, наоборот, достоинство, особенно в XIII веке, в эпоху, которая особенно ценит умеренность и «золотую середину». Зеленый – умеренный, уравновешенный, пристойный цвет. Этим он и прекрасен.
Так утверждает один из величайших богословов того времени, Гийом Овернский, епископ Парижа в 1228–1249 годах[68]. Можно было ожидать, что этот князь Церкви станет восславлять белый или красный, два главных цвета христологии. Но нет: он предпочитает зеленый, поскольку этот цвет располагается на середине цветовой шкалы, которую разработали ученики Аристотеля за два века до нашей эры и которую ни античные, ни средневековые ученые не пытались оспаривать по существу. Они лишь дополнили ее, чтобы получилась семерка цветов: белый, желтый, красный зеленый, синий, фиолетовый, черный. Заметим: этот цветовой порядок, который останется основополагающим в Европе вплоть до открытий Ньютона, не имеет ничего общего со спектром. В XIII веке, когда так много внимания уделяется изучению проблем света и зрения, взгляды Гийома Овернского разделяют многие ученые, причем все они – прелаты или богословы (например, Роберт Гроссетест, Джон Пэкхэм, Роджер Бэкон). Белый и черный, находящиеся на концах шкалы, – слишком переполнены смыслами, они слишком резкие, слишком удаленные и вследствие всего этого утомляют зрение: белый заставляет сетчатку чрезмерно растягиваться, а черный, напротив, сжиматься. Зато зеленый, находящийся на середине, не требует от глаза никакого напряжения. Зеленый – расслабляющий цвет. Вот почему в начале XI века, если верить поэту и прелату Бодри де Бургейю, люди предпочитают писать на табличках, покрытых не белым или черным, а зеленым воском. Вот почему переписчики и миниатюристы, садясь за работу, кладут рядом предметы зеленого цвета, или даже изумруды, чтобы время от времени давать отдых глазам[69].
Для многих авторов зеленый – еще и веселый, «смеющийся» цвет (color ridens, по выражению святого Бонавентуры[70]), то есть цвет, который оживляет и освещает покрытые им поверхности. Вот почему он так быстро получил распространение в тех видах средневекового искусства, где главное – свет: витраже, эмалях, миниатюре. Во всех этих случаях речь идет о ярком и относительно светлом оттенке зеленого. Конечно, в наши дни сохранилось не так много витражей, созданных до середины XII века, но в уцелевших окнах или фрагментах всегда присутствует зеленый цвет, а в немецкоязычных странах он встречается особенно часто. Убедительным доказательством этого может послужить большой витраж Аугсбургского собора, посвященный пророкам: он создан в 1110–1120-х годах, и зеленый в нем занимает значительное место[71]. То же можно сказать и об эмалях XII века, на которых зеленый часто появляется в сочетании с синим и с белым. В следующем столетии он будет встречаться реже, как на витражах, так и на эмалях, в частности во Франции, где ошеломляющий взлет синего во всех его оттенках и триумф пары синий/ красный в эпоху Людовика Святого отодвинут зеленый на второй план. В странах Священной Римской империи зеленый продержится дольше, однако до зарождения романтизма в конце XVIII века ему уже не суждено будет занять в искусстве такое важное место, какое он занимал в эпоху романского стиля.
Место зеленого: сад
Ассоциировать природу с зеленым цветом в наши дни стало обычным делом, чем-то само собой разумеющимся, почти что рефлекторным. Для нас природа и зелень – одно и то же. Но так было не всегда. Представление наших предков о природе было гораздо шире, чем наше, зачастую ограниченное растительным миром. В Средние века природа понимается как совокупность всего сотворенного, включая и всех живых существ. Некоторые богословы определяют природу как нечто присущее каждому человеку. Другие мыслят более конкретно или более «приближенно» к природе, представляя ее себе как некий «комплекс» живых существ и неодушевленных предметов, возникших в результате соединения четырех стихий: воздуха, земли, огня и воды. Поскольку у каждой из стихий есть свой цвет, природа выстроена вокруг четырех цветов: белого (воздух)[72], черного (земля), красного (огонь) и зеленого (вода). В самом деле, как мы увидим далее, в Средние века люди отождествляли с водой именно зеленый цвет, а не синий.
Итак, понятие природы в Средние века в большой степени полисемично и может поворачиваться то одной, то другой из своих многочисленных и сложных граней[73]. Так, во всяком случае, обстоят дела в мире науки, ибо в других областях, где люди не столь склонны к умозрительным построениям, например в иконографии и поэзии, в XII–XIII веках сложилась более ограниченная концепция природы. Здесь она прежде всего ассоциируется с растительным пейзажем, на фоне которого протекает жизнь аристократического общества: это может быть сад, лужайка, рощица или лес. Подобная концепция существовала уже в Древнем Риме, в частности у поэтов, воспевавших труды и радости деревенской жизни (вспомним Вергилия). Она была также известна писателям и художникам раннего Средневековья, но теперь, в эпоху расцвета феодализма, литература и куртуазные нравы выдвигают ее на первый план. Деревья, кустарники, травы и цветы вызывают интерес, какого не было раньше, и в результате начинает меняться отношение к зеленому цвету и к соответствующему кругу представлений. Много веков спустя романтики будут углубленно изучать эту связь между «природой» и «растительностью», и в умах большинства людей окончательно закрепится мнение, что зеленый – цвет природы.
В XII–XIII столетиях любовь к зелени и растительности находит для себя идеальное вместилище – сад. Это место отдохновения и наслаждения, покоя и гармонии, ожидания и размышлений. Само слово, обозначающее его, связано с зеленым цветом: старофранцузское vergier восходит к латинскому viridarium, которое, в свою очередь, происходит от прилагательного viridis, обозначающего зеленый цвет. Прежде чем стать садом для удовольствия, а затем пространством, засаженным плодовыми деревьями[74], viridarium, как в классической, так и в средневековой латыни, был царством зелени, местом, где в изобилии представлены разные оттенки зеленого, где собраны они все, и даже, скажем мы, рискуя впасть в анахронизм, своего рода «музеем» зеленого.
Куртуазная литература XII–XIII веков оставила нам множество литературных описаний сада[75]. Он, как правило, состоит из одних и тех же элементов. Прежде всего – ограда: подобно любому клочку земли, засаженному растениями, этот сад представляет собой замкнутое пространство, часто квадратной формы; доступ в него закрывают врата, которые играют очень важную символическую роль; чтобы преодолеть их, нужно пройти несколько ритуальных испытаний (победить дракона, сразиться с могучим рыцарем). Внутри ограды – один или несколько участков, засаженных множеством деревьев, иногда плодовых, иногда обычных; нередко там даже располагается виноградник. В центре сада находится prael (лужайка), она сплошь покрыта цветами и окружена увитыми зеленью скамьями, на которых можно сидеть и наслаждаться красотой и благоуханием цветов. В центре лужайки весело бьет фонтан, от которого растекаются ручейки, насыщающие влагой дальние уголки сада. В каждом средневековом саду обязательно должна журчать вода. Ко всему этому добавляются галереи и беседки, также увитые зеленью, аллеи и террасы, грядки с пряными и лекарственными растениями. Планировка сада строго регламентирована, все здесь размещено по определенному плану в соответствии с символикой четырех сторон света. А еще в этом саду много разных животных: прежде всего птиц – их пение, вместе с плеском фонтана, ласкает слух; на лужайках и в ветвях деревьев резвятся кролики и белки; иногда здесь встречаются олени и даже хищники – в некоторых садах есть зверинцы. Порой авторы миниатюр дают волю воображению: на картинках можно увидеть фантастических тварей – единорогов, грифонов, фениксов, – о которых в тексте нет ни слова.
Прообразом этих литературных садов стал Сад наслаждений, упоминаемый в начале Книги Бытия: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал[76]». В средневековых книгах есть много изображений этого сада. Чаще всего он огражден зубчатой стеной и окружен пламенем; из центра сада вытекают четыре райские реки. В саду множество растений и животных. Среди деревьев всевозможных видов растет древо познания Добра и Зла, плоды которого срывать запрещено. В древних средиземноморских традициях этим древом была смоковница или даже виноградная лоза; позже, в Испании, это будет апельсиновое или гранатовое дерево. В странах Западной Европы с умеренным климатом в этой роли чаще всего выступает яблоня, главным образом из-за латинского названия своего плода: malum (яблоко) – полный омоним слова, обозначающего Зло – Malum. Итак, запретный плод, который по наущению змея-искусителя сорвала Ева и который отведал Адам, – яблоко; с тех пор и до наших дней яблоко останется плодом наслаждения и непослушания, плодом Рая и Грехопадения.
Реальные средневековые сады несколько отличаются от литературных, но разница невелика. Они тоже были местом отдохновения и радости, до того как стать плодовыми садами, насаждаемыми ради пользы. Образцами для них стали древнеримские сады, знакомые Средневековью по сочинениям поэтов (Вергилий, Овидий) и агрономов (Варрон, Колумелла, Палладий), а также – и даже в еще большей степени – сады Востока, которые когда-то вызвали изумление и восхищение крестоносцев. Вода и растительность превращают их в зеленые оазисы, где большинство культивируемых растений предназначено для услаждения взора, а не для еды, производства красителей или лекарств. Начиная с XII века сады государей будут резко отличаться от монастырских садов, в которых значительную часть территории по-прежнему занимают огород и кладбище[77]. Они все больше напоминают сады, описанные в куртуазной литературе, в частности в «Романе о Розе» Гийома де Лорриса (1230–1235):
По всему саду росли высокие лавровые деревья и высокие сосны, оливы и кипарисы, развесистые вязы с могучими стволами, а также грабы и буки, прямые, как стрела, орешники, осины, ясени, клены, громадные ели и дубы. Но к чему продолжать: я утомился бы, если бы вздумал перечислить все деревья. ‹…›
В саду жили лани и косули, а по ветвям деревьев бегало множество белок. Из своих нор вылезали кролики и целый день ласкались на зеленой траве. Там и сям в тени деревьев были источники с чистой водой, а вокруг не было ни насекомых, ни лягушек. Из этих источников вода вытекала ручейками, издавая приятное журчание. По берегам ручьев росла густая молодая травка: на нее можно было бы уложить возлюбленную, как на постель, настолько земля там была нежной и мягкой. Благодаря обилию воды трава росла повсюду.
Но еще большую приятность этому место придавали цветы, коих там росло множество, – фиалки во всякое время года, как летом, так и зимой, свежие, только распустившиеся барвинки, разные цветы несравненной белизны, а еще желтые или багряные[78].
В саду присутствуют все цвета, но преобладает зеленый: это цвет деревьев и кустарников, цвет травы и воды, но также и цвет одежд, в которых приходят люди, предметов, которые они приносят с собой, тканей, из которых сделаны навесы и балдахины над беседками. Это возвеличивание зеленого, по-видимому, опирается на знаменитые строки из Библии, описывающие третий день Творения: «Да прорастит земля зелень, траву, сеющую семя, по роду и подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод»[79]. Так, с самого начала Бытия, зеленый представляется нам цветом живительным и благодатным, установленным самим Богом, а сад – сокровищницей многообразных символов. В другой книге, «Песни песней», мы вновь видим эту символику, когда Невеста (которую средневековое христианство отождествляет с Богоматерью) уподобляется «лилии долин», «запертому саду», «запечатанному источнику», «колодезю живых вод», «кедру ливанскому». Также и в Новом Завете тема Христа-садовника, популярная в позднем Средневековье, придает символический смысл всему, что находится или происходит в саду. Вскоре после Воскресения Мария Магдалина в Гефсиманском саду плачет у пустого гроба; увидев стоящего рядом с ней человека и не узнав его, она думает, что это садовник (на некоторых поздних изображениях этой сцены на голове у незнакомца соломенная шляпа, а в руках мотыга), и спрашивает, куда он унес тело Иисуса. Господь открывается ей и, когда она бросается к нему, говорит: «Не прикасайся ко мне» (Noli me tangere)[80].
Всякий сад выстроен как некое символическое пространство, и каждое растение в нем обладает своим особым значением. Значения того или иного цветка существенно различаются в зависимости от эпохи и региона и зависят от нескольких факторов: цвета, аромата, количества и формы лепестков, формы и размера листьев, времени цветения и т. д. Однако можно выделить несколько основных значений, которые в XII–XIII веках остаются постоянными: лилия – символ чистоты и целомудрия, роза – символ красоты и любви; ирис символизирует безопасность и процветание, фиалка – смирение и послушание, ландыш – свежесть и хрупкость, водосбор – мужество и «нежную меланхолию». У деревьев тоже есть свои значения. Дуб (который редко встречается в саду) – дерево власти и господства; вяз символизирует справедливость, олива – мир. Липа (по-видимому, любимое дерево у людей Средневековья, как прежде у римлян и германцев) – символ любви, здоровья и гармонии; сосна означает отвагу и прямоту; смоковница – плодородие и безопасность. Тис и кипарис ассоциируются с печалью и смертью; граб и орешник – с магией; рябина и шелковица – с осмотрительностью; ясень – с упорством. Большинство деревьев имеют благотворное воздействие; у некоторых оно двойственное (тополь, кипарис, орешник); и только три – тис, ольха и грецкий орех – однозначно вредоносны: тис – потому что он ядовитый и растет на кладбище, а значит, ассоциируется со смертью; ольха – потому что она растет на болоте, где не растут другие деревья, и потому что ее красноватая древесина словно сочится кровью; а грецкий орех – потому что его тень считается ядовитой, а корни отравляют скот, если оказываются слишком близко от хлева[81].
Время зеленого: весна
По представлениям людей Средневековья, у зеленого цвета есть не только свое излюбленное место – сад, но также и любимое время года – весна. Энциклопедисты, авторы сочинений о морали и трактатов о геральдике, которые имеют обыкновение находить для каждого цвета соответствия в природе, в календаре, в теологии и в медицине (среди металлов, планет, знаков зодиака, дней недели, смертных грехов и темпераментов человека), единодушны в том, что зеленому цвету соответствует самое прекрасное и желанное из времен года. В отношении других цветов они не столь категоричны. Лето часто ассоциируется с красным, но порой и с золотистым или оранжевым; осень – с желтым или черным (это цвет Сатурна и меланхолии), реже с коричневым; зима – с белым или черным[82]. Палитра этих времен года относительно изменчива. Только у весны всегда один и тот же цвет, живой и обольстительный – зеленый.
Такая ассоциация не должна удивлять. С пробуждением растительного мира природа одевается в зеленое, в новую зелень, свежую, нежную, веселую – все эти определения средневековый человек применяет по отношению не только к весне, но и ко всему, что с ней ассоциируется: молодости, радости, празднику, музыке, а главное, любви. Зеленый в Средние века – это цвет любви, или, во всяком случае, любви земной.
В старо- и среднефранцузском языках есть слово, тесно связанное с зеленым цветом, обозначающее и прекрасное время года, и пробуждение природы, и радость, которую ощущают от этого люди: la reverdiе. В своем первом значении это синоним таких слов, как зелень или листва. Но применительно к календарю оно означает начало весны, когда деревья, кусты и травы наливаются зеленью. А в более широком смысле оно подразумевает беспричинную радость, которую в такое время года испытывает каждый. Как удачно выразился Гийом де Лоррис, весна «наполняет сердце зеленеющим ликованием» (met el cuer grant reverdie)[83]. И наконец, в более узком смысле, reverdie – поэтический жанр, «песнь обновления»: в ней говорится о возвращении ясных дней, о возникающем при этом чувстве счастья и о зарождении любви.
Выдающиеся энциклопедисты XIII века (Тома де Кантенпре, Бартоло мей Английский, Винсент из Бове) и агрономы (Петрус Кресценций, Уолтер из Хенли) тоже постоянно подчеркивают связь между весной и зеленым цветом. Они вообще любят поговорить о временах года, а по поводу весны делятся наблюдениями, которые вполне могли бы выйти из-под пера какого-нибудь современного автора. Так, мы с удивлением узнаём, что весной солнце пригревает сильнее, реки набухают, снега тают, звери просыпаются от зимней спячки, а перелетные птицы возвращаются домой. Но главное, лопаются почки, листьев на деревьях становится все больше, и размер их увеличивается; всюду вырастает свежая, нежно-зеленая трава, которой, по утверждению Петруса Кресценция, «радуется скот, пресытившийся своей зимней пищей – сеном[84]». Все наши авторы, живущие в регионах с умеренным климатом, подчеркивают, что весна – время года, когда люди и животные выходят из зимнего затворничества на вольный воздух.
Есть и несколько другая версия – она представлена в произведениях искусства, посвященных двенадцати месяцам года. Такие фигуративные календари существовали еще в Древнем Риме, кое-где сохранялись в раннем Средневековье, но лишь в эпоху романского стиля стали появляться сплошь и рядом, особенно в храмах: скульптуры, настенные росписи, витражи и даже мозаичные панно (в Италии). Позднее они наводнят богослужебные книги: псалтири, часословы, бревиарии, молитвенники. Их визуальный ряд различается в зависимости от эпохи и особенностей климата в том регионе, где они созданы, однако у них есть общая черта: главное внимание уделено не столько природным циклам, сколько связанной с ними деятельности человека, в частности сельскохозяйственным работам. Каждому месяцу посвящена сцена, изображающая труд земледельца; для нас это важный источник знаний о приемах и орудиях обработки земли в ту эпоху. Январь и февраль – время отдыха: крестьянин обедает или греется у очага; март – обрезка виноградных лоз и первая пахота; уборка и сушка сена в июне; жатва и молотьба в июлеавгусте; сбор винограда и плодов в сентябре; производство вина в октябре; выгон свиней на плодокорм в ноябре; забой поросенка в декабре[85].
Таков, с небольшими вариациями, ритм сельской жизни и полевых работ. Но есть два особых месяца: апрель и май. Чтобы изобразить это время года – весну, календари забывают о жизни крестьян и обращаются к жизни знати. Мы видим элегантных молодых людей с зелеными ветвями или цветами в руках, прогулки на лесной опушке, соколиную охоту, танцы, скачущие кавалькады или шутливые беседы среди зелени. Это время празднеств и досуга, но также приятных разговоров и галантных ухаживаний. И на всех этих изображениях присутствует зеленый цвет, в частности на одежде, словно знатное общество стремится быть в согласии с природой: и та и другие одеваются в зелень, чтобы отпраздновать возвращение ясных дней.
В череде этих весенних дней, полных веселья и зелени, есть один особенный день, который важнее всех остальных, – 1 мая. В этот день надо отпраздновать приход прекраснейшего из месяцев года: надеть его символ, а также воздвигнуть майское дерево. Символ мая, который надевает на себя каждый, должен быть связан с растительностью – это может быть венок или гирлянда из цветов либо листьев, шляпа из зелени, листья папоротника или цветущая ветвь дерева, прикрепленные к одежде. Сама одежда должна быть либо полностью зеленой, либо с преобладанием этого цвета. Быть «пойманным без зелени», то есть появиться на людях без украшений из зелени или элементов одежды зеленого цвета, – значит подвергнуться насмешкам и издевательствам. От эпохи позднего Средневековья осталось много изображений, на которых запечатлены эти ритуалы. Самое знаменитое можно увидеть в «Великолепном часослове» герцога Беррийского, прославленного мецената и библиофила: этот манускрипт с роскошными миниатюрами был выполнен по его заказу в 1414–1416 годах. На миниатюре, посвященной маю, изображен государь, едущий со свитой вдоль опушки леса. Три молодые женщины одеты в наряды зеленого цвета, «веселого зеленого» (то есть светлого и яркого), о котором упоминается в описях гардеробов и в хрониках, а на шестнадцати персонажах заметны майские символы – гирлянды из зелени, венки, листья, ветви[86].
Но есть и еще один известный по многим источникам обычай, которому следует гораздо более значительная часть общества: посадка «майского дерева». Для этого надо отправиться в лес, выкопать молодое деревце и посадить его перед дверью или перед окном особы, которой хотят воздать почести. Чаще всего «майское дерево» сажают молодые люди перед домом девушек на выданье. Впрочем, «сажают» – это большое преувеличение: обычно речь идет не о целом дереве, выкопанном и посаженном по всем правилам, а всего лишь о ветке, срезанной в лесу и воткнутой в землю перед домом суженой. Дерево выбирают не просто так, а со смыслом: ветка липы означает признание в любви, ветка розового куста восхваляет красоту избранницы; ветвь боярышника прославляет ее чистоту; а ветвь бузины, напротив, указывает на ее непостоянство.
Многие поэты воспевали этот день, когда люди чтят любовь и растительное царство. Вот что пишет Карл Орлеанский в одной из своих знаменитейших баллад:
У бога любви есть обычай В этот день устраивать праздник, Чтобы почтить влюбленные сердца, Которые желают служить ему. Для этого он покрывает деревья Цветами, а поля – веселой зеленью, Чтобы сделать еще прекраснее прекраснейший праздник, Первый день мая. ‹…› Пойдем в лес за майским деревом, Чтобы соблюсти обычай[87].Но не одни лишь влюбленные идут в лес и приносят оттуда растения. Значительная часть сельского и городского населения делает то же самое. 1 мая принято украшать цветами дома, обвивать лентами деревья и даже приносить деревья в дом, вешать листья и ветви на окна и двери. Это старинные обряды, которые были отмечены еще на рубеже XII–XIII веков. Трувер Жан Ренар, предположительно уроженец Бовези, в своем романе «Гийом из Доля» оставил нам их подробное описание:
С наступлением темноты жители города отправились в лес. ‹…› Утром, когда уже совсем рассвело и все вокруг было украшено цветами, шпажником, зеленеющими ветвями и листьями, они при нес ли майские деревья, подняли их на верхние этажи, затем выставили в окнах, чтобы украсить балконы. Все улицы и полы в домах они усыпали травой и цветами, чтобы почтить этот торжественный и радостный день[88].
Все эти обряды в той или иной степени представляют собой пережитки язычества. Церковь боролась с ними много столетий, но не смогла победить. На 1 мая даже назначили праздник сразу двух апостолов, Филиппа и Иакова Младшего, однако этого оказалось недостаточно. Весна и свежая молодая зелень оказались сильнее Евангелий и житий святых. Ведь в Европе с незапамятных времен существовали свои обряды, которыми приветствовали приход весны. У древних германцев в период с конца апреля по начало мая проходили праздники огня; в христианскую эпоху эти обряды слились в один праздник, знаменитую Вальпургиеву ночь (с 30 апреля по 1 мая), когда, как считается, ведьмы правят свой шабаш. У кельтов день 1 мая был посвящен Белену, богу солнечного света. Его праздник (Белтейн) знаменовал переход от темного времени года к светлому, от домашнего затворничества к делам, которые вершатся под открытым небом, – полевым работам, выпасу скота, охоте, набегам, войне. У римлян в этот день чтили Флору, богиню цветов. Ей посвящали цветочные игры, Флоралии, длившиеся пять ночей, во время которых происходили состязания поэтов и певцов, но также и более или менее разнузданные пляски и представления[89]. А еще в начале мая воздавали почести богине Майе, одному из многочисленных божеств плодородия: именно она дала название любимому месяцу римлян[90].
Языческие празднества, прославлявшие пробуждение природы и возвращение тепла, проходили по всей Европе также и в день весеннего равноденствия, 21 марта. В этот день по обычаю люди переодевались, изображая растения: кто-то появлялся в виде «лиственного человека», кто-то – в виде «мохового человека», а кто-то – просто «зеленого человека» или дикаря, который совершал недозволенные поступки, производил шум и беспорядок, чтобы привычное течение жизни было нарушено и все поняли: зиме конец! Языческие празднества не прекратились и после христианизации Европы. Чтобы искоренить их, Церковь пошла на отчаянные меры: установила в дни равноденствия праздники очень почитаемых святых (19 марта – святого Иосифа, 21 марта – святого Бенедикта; 24 марта – архангела Гавриила) и, более того: назначила один из главнейших праздников литургического года – Благовещение – на 25 марта: ровно за девять месяцев до Рождества. Но все было бесполезно, обряды, связанные с зеленью и цветами, продолжались и в Новое время, пока в XVIII–XIX веках не получили статус «фольклорных праздников».
Когда идея замещения языческих праздников христианскими не оправдала себя, был разработан другой метод борьбы с ними, оказавшийся более эффективным: введение в христианскую обрядовость элементов культа растений. Например, в память о торжественном въезде Христа в Иерусалим, когда, согласно Евангелию, народ бросал на дорогу пальмовые ветви, в так называемое Вербное воскресенье (последнее воскресенье перед Пасхой) проводился обряд освящения свежесрезанных ветвей. Это было прямое продолжение языческих ритуалов, посвященных пробуждению природы. В Средние века во Франции и в Германии используют ветки букса или лавра, а в Испании и в Италии также ветки оливы и пальмы; в Англии их чаще всего заменяют ветки ивы, а в Скандинавии – ветки березы[91].
Юность, любовь, надежда
Весна – не только время пробуждения природы, это еще и время, когда в сердцах рождаются или возрождаются нежные чувства. Впрочем, эти два явления связаны между собой, хотя бы потому, что растения всегда играли важную роль в любовных ритуалах (у нас до сих пор принято дарить цветы, чтобы признаться в любви, не так ли?). В это время года, когда у растений начинается движение соков, в людях просыпается пыл юности. Вот почему зеленый не только цвет весны, но и цвет любви. Или, по крайней мере, цвет любви зарождающейся, юной, полной надежды, а значит, и нетерпения.
В Средние века любовь располагает обширной палитрой. Зеленому цвету юной страсти, бурной и переменчивой, противостоят синий цвет законной, верной любви, серый цвет любви несчастной, а также красный цвет христианской любви и милосердия. Сюда же можно было бы добавить желтый цвет ревности, черный цвет отчаяния от утраты любимого или любимой или даже фиолетовый – символ любви кровосмесительной или запретной[92]. Кстати, красный может иметь совершенно разные значения: с одной стороны, это цвет христологии – цвет крови, пролитой Христом и за Христа, с другой – цвет эротики, плотского греха, разврата и проституции. Таким образом, с точки зрения символики существуют два красных цвета. Как и с точки зрения искусства: художники никогда не станут использовать один и тот же пигмент для живописания божествен ной любви и для сюжета о любви плотской; во втором случае они непременно возьмут другую краску, даже если на доске или на холсте она будет выглядеть точно так же[93].
Зеленый как цвет любви ассоциируется с юностью, нетерпеливыми желаниями тела и метаниями души. Зачастую это цвет изменчивый, непостоянный и легкомысленный, как сама юность. Однако юность ассоциируется с зеленым не только когда речь заходит о любви. О многом здесь может рассказать одежда: знатные юноши, которые воспитываются при дворе властителя, часто одеваются в зеленое, а девицы на выданье носят зеленое платье или, что бывает чаще, какой-либо предмет одежды этого цвета (головной убор, бант, пояс или капюшон)[94]. А на таблице соответствий между цветами и возрастами человека (средневековые моралисты и специалисты по геральдике любили составлять такие таблицы) эмблемой детства и юности (в том смысле, в каком мы их понимаем сегодня)[95] выступает зеленый цвет, в то время как раннее детство символизировал белый, возраст расцвета сил – красный, зрелость – синий, старость – серый, а дряхлость – черный.
Отчасти эта устойчивая ассоциация между зеленым цветом и юностью обусловлена тем, что жизнь человека сравнивается с жизненным циклом растений. Юность нова и свежа, как едва распустившаяся зелень; она подобна плодам, которые бывают зелеными до того, как стать красными (вишня, земляника, малина) либо синими или черными (слива, ежевика, черника). Понятие свежести занимает очень важное место в мировоззрении средневекового человека, и определение «свежий» (а оно постоянно встречается в литературе XII–XIII веков) всегда имеет позитивное значение. Это говорит нам о том, что куртуазное общество – и даже все средневековое общество в целом – гораздо больше боится жары и засухи, чем холода и сырости. Вопреки распространенному заблуждению, в Средние века люди умеют справляться с холодом, а вот перед жарой они беззащитны. Вот почему понятие свежести, прохлады так важно для них. Слова «зеленый» и «свежий» порой становятся синонимами. А их противоположностью является определение «сухой», которое часто имеет негативный смысл и ассоциируется с желтым цветом.
Итак, зеленый цвет в Средние века – эмблема юности[96]. Юность носит зеленые одежды, знак свежести и силы, и у нее «за ушами зелено», как гласит немецкая поговорка, известная уже в Средние века и существующая до сих пор[97]. Весной юноши и девицы встречаются в саду, месте веселых и нежных бесед, изъявлений чувств и тайных свиданий. Здесь царит бог Амур, каким он изображается в «Романе о Розе», или богиня Минна[98], персонификация любви в немецкой лирической поэзии, которой она дала свое имя: Minnesang (буквально «любовная песнь»). «Госпожа Минна», как называют ее поэты, особа капризная и непредсказуемая: она ранит своими стрелами кого захочет и когда захочет. На изображениях она всегда вооружена луком и держит стрелы, собираясь вонзить их в сердца своих жертв. Госпожа Минна часто носит зеленый наряд, символ ее непостоянства и непрочности порождаемых ею привязанностей. Раненое сердце поэта кровоточит, и алый цвет его крови вместе с зеленым цветом платья богини образуют устойчивое сочетание цветов, которое, по-видимому, стало в немецкоязычных странах чем-то вроде знамени миннезанга, рыцарской любовной лирики.
Однако зеленое платье Госпожи Минны – не единственный атрибут этого цвета, который изображают художники, желая намекнуть на любовную связь между двумя персонажами картины. В той же роли могут выступать дерево и птица: липа и попугай. На картинах и миниатюрах всегда изображается попугай с чисто зеленым оперением, без вкраплений другого цвета; влюбленный дарит его возлюбленной, как дарил бы ветвь дерева с только что распустившимися листьями, и одного лишь цвета этой птицы достаточно, чтобы без слов сказать о своей любви. В данном случае иконография верно отражает жизнь: во второй половине XIII и первых десятилетиях XIV века попугаи у европейской знати в большой моде. Преподнести попугая в дар или держать его у себя дома считается хорошим тоном: ведь это редкая и баснословно дорогая птица, которую привозят из дальних стран (Индии или Марокко) и которая отличается удивительной особенностью: она умеет говорить. Попугай – птица, словно созданная для куртуазного общества, она символизирует красоту, дар слова и любовь. Позднее, на закате Средневековья и в раннее Новое время, европейские художники начнут изображать попугаев всевозможных цветов. Он станет разноцветной птицей, в этом будет заключаться его главная особенность. Наряду с цветами, бабочками и драгоценными камнями попугаи будут самым впечатляющим примером того, что способна создать природа в области полихромии. Но несколькими столетиями раньше, на миниатюрах XIII века, попугай был только одного цвета – зеленого; вероятно, других попугаев в Европе тогда просто не было. Во французском языке даже появилось выражение: «зеленый, как попугай», то есть очень яркого зеленого цвета (видимо, по аналогии с выражением «черный, как вороново крыло», которое возникло еще раньше).
Что же касается липы, то это самое любимое дерево мужчин и женщин Средневековья. Авторы усматривают в ней одни лишь достоинства и никогда не используют в негативном значении: случай, насколько мне известно, уникальный. Все восхищаются, в первую очередь, ее величественным видом, раскидистой кроной, долголетием, но еще больше – ее благоуханием, ее благозвучием (жужжанием пчел в ее ветвях в пору цветения) и разнообразной пользой, которую она приносит. Липа – одно из самых ценных лекарственных растений в средневековой фармакопее: от его названия (Linde) в немецком языке даже возник глагол lin dern, означающий «лечить», «успокаивать». Липа еще и музыкальное дерево (большинство музыкальных инструментов Средневековья изготовлено из его древесины), а также дерево любви[99]. Этим титулом липу наградили не столько даже за ее красоту, благоухание и музыкальность, сколько за форму листьев, напоминающую сердце. Под сенью липы встречаются влюбленные; ее листья (на изображениях они иногда неправдоподобно большого размера) трепещут, как их сердца. До наших дней дошло множество миниатюр XIII–XIV веков и шпалер XV века, на которых изображено свидание под липой[100].
Но вернемся к немецкой куртуазной лирике миннезингеров. Многое в ней заимствовано у поэзии трубадуров и труверов, которые, начиная с XII века, воспевают особую разновидность чувства: «куртуазную любовь». Определить, что это такое, весьма затруднительно, поскольку самого термина в Средние века не существовало, он был создан в конце XIX века выдающимся филологом-медиевистом Гастоном Парисом. У трубадуров было только провансальское выражение fi n’amor, которое не поддается точному переводу на современный французский язык. «Куртуазная любовь» – всего лишь общее определение средневековой любовной казуистики, недоступной нашему современному восприятию. Тем более что и самому понятию «куртуазность» еще только предстоит получить точную дефиницию. В первоначальном, буквальном смысле оно означает: то, что имеет отношение к придворной жизни; однако в литературных текстах оно подразумевает также (и даже в большей степени) всю совокупность добродетелей, необходимых для того, чтобы вести образцовую жизнь при дворе государя или феодала. Этих добродетелей много: прямота, честность, верность, учтивость, элегантность, щедрость, утонченность, храбрость. Чтобы стать куртуазным, надо быть знатного происхождения, получить хорошее воспитание, обладать изящными манерами и знанием светских обычаев, а также чувством чести, умением вести беседу и производить приятное впечатление. Противоположность куртуазности – «низость», присущая людям низкого рождения, дурно воспитанным, грубым, алчным, скупым, злоречивым, трусливым и неотесанным.
Чтобы выразить все достоинства куртуазного человека, мало одного только зеленого цвета: искренность и прямоту символизирует белый; честность и верность – синий; честь, храбрость и щедрость – красный. Зато зеленый – единственный цветовой символ элегантности, юности, поклонения Прекрасной Даме и чувства любви. В последнем случае, правда, он часто составляет дуэт с красным, который символизирует желание, то есть надежду на плотскую близость.
В концепции fin’amor важнейшее и почетнейшее место занимает женщина; поэт – одновременно ее вассал и ее поклонник. Он хочет не просто завоевать ее благосклонность, но еще и служить ей. А завоевать благосклонность дамы – дело долгое и трудное, тем более что она, как правило, занимает более высокое положение, чем он, часто бывает замужней, а порой отличается высокомерием или своенравием. Современные литературоведы часто спорят о том, действительно ли целью влюбленного поэта (или рыцаря) было обладание женским телом, то есть половой акт. Когда речь идет о трубадурах, поэтах из южных областей французского королевства, на этот вопрос, по-видимому, следует ответить утвердительно: в их лирике постоянно присутствует тема плоти, а значит, у нее есть эротическое измерение. А если так, значит, цветом fin’amor должен быть красный. У труверов, поэтов с севера Франции, и у немецких миннезингеров намерения поэта не так ясны, телесность дамы не так ощутима, от влюбленного поэта ее отделяет большее расстояние. Иногда у читателя создается впечатление, что поэт влюблен в свою влюбленность, что ему желанно только его желание: чтобы стать счастливым, ему достаточно надежды на возможное счастье. В этом случае цветовой эмблемой любви является уже не красный, а зеленый цвет.
Это и понятно: в Западной Европе с очень давнего времени зеленый считается цветом надежды. В поздней Римской империи новорожденного иногда обертывали зеленой пеленой, чтобы пожелать ему долгих лет жизни[101]. Однако в Средние века этот важный аспект символики зеленого (доживший до наших дней) обретает максимальную популярность. Как мы уже знаем, тогдашние девицы на выданье часто носят зеленое платье или какой-либо предмет одежды зеленого цвета. В ту далекую эпоху уходят и корни одной любопытной современной традиции. По давнему обычаю, особенно чтимому среди работниц крупных модных домов, день святой Екатерины, 25 ноября, считается праздником особ женского пола, которые до двадцатипятилетнего возраста не смогли выйти замуж. В этот день «катеринки», надеясь, что святая покровительница избавит их от одиночества, обязательно надевают зеленую шляпку… Но если надежда найти мужа наконец сбылась, зеленая одежда молодой женщины обретает иной смысл: ожидание счастливого события. В эпоху позднего Средневековья зеленый становится цветом беременных. Так, на миниатюрах и фресках, которые изображают святую Елизавету, беременную Иоанном Крестителем, мы иногда видим ее в зеленом платье. Но не одни лишь святые, ожидая прибавления в семействе, надевают зеленое: обычные женщины поступают так же. На картине Яна ван Эйка, традиционно называемой «Портрет четы Арнольфини» (ок. 1434–1435), одной из самых знаменитых картин в истории живописи, мы видим беременную молодую женщину в великолепном платье зеленого цвета, приличествующего ее состоянию.
Надо сказать, позднее Средневековье в этом смысле не придумало ничего нового. Двумя столетиями ранее зеленый уже был известен как цвет ожидаемого материнства: так, хронисты и биографы Людовика Святого рассказывают, что в 1238–1239 годах, в надежде зачать первенца, будущего наследника, этот государь несколько ночей подряд проводил со своей юной супругой, Маргаритой Прованской, в «зеленой комнате» королевского дворца на острове Сите. Мы не знаем в точности, что это была за «зеленая комната», но знаем, что находилась она недалеко от теперешней часовни Сент-Шапель (в то время еще не построенной), и можем предположить, что ее стены были расписаны деревьями с зеленой листвой, кустами и травами – распространенный в то время мотив для оформления интерьеров светского назначения[102].
Рыцарский цвет
С середины XII и по крайней мере до середины XIII века рыцарство и куртуазность тесно связаны друг с другом. Поэтому цветовая гамма, которую можно наблюдать на ристалищах, очень похожа на ту, что господствует в придворной жизни: яркие, свежие краски в контрастных сочетаниях, основные цвета – красный и зеленый; по крайней мере, так было до тех пор, пока в дело не вмешалась геральдика и не взяла под контроль это буйство красок. Хотя первые гербы появились в XII веке, должно было пройти еще сто лет, прежде чем выбор цветов, постоянно окружавших рыцарей и придворных, стала определять геральдика.
Как всякое «спортивное событие», средневековый рыцарский турнир – это одновременно состязание и зрелище, в котором цвета играют очень важную роль, дейктическую, эстетическую, эмблематическую и символическую одновременно. Зеленый цвет на турнире виден повсюду. И не только потому, что, в отличие от обычных рыцарских поединков, турнир проводится не в закрытом помещении, а на открытом пространстве, на лесной опушке, на равнине или на большом лугу, то есть в местах, где естественным фоном для происходящего является растительность, но еще и потому, что на трибунах – если на турнире есть трибуны – полно зеленых драпировок и одежд. Описывая турниры, поэты и авторы рыцарских романов уделяют этому антуражу большое внимание.
Рыцари, выступающие на турнире, охотно носят зеленый цвет, но чаще не на щите, а в виде флажка на древке копья, на чепраке лошади, на накидке, надеваемой поверх лат, на шлеме или на какой-либо из частей вооружения. Это может быть случайно выбранная вещь на один раз – рыцарь надевает съемный рукав или пояс зеленого платья дамы, которую любит, – или же продуманный элемент «имиджа»: есть рыцари, сражающиеся под зеленым цветом во все время своих выступлений на турнирах.
Со второй половины XII века в литературных текстах встречаются образы Зеленых рыцарей, а в следующем столетии их станет еще больше. Часто это совсем молодые рыцари, чьи пылкость и безрассудная отвага становятся причиной смуты. Так, в анонимном романе «Перлесваус» (предположительно сочиненном в первые годы XIII века) главного героя, Персеваля, сопровождает его младший брат Гладуэн Зеленый, который из-за своей вспыльчивости и бестолковости попадает в опасные ситуации. Так почти всегда бывает с Зелеными рыцарями в романах Артуровс кого цикла.
В этих текстах часто используется следующий сюжетный ход: плавный ритм повествования внезапно нарушается появлением незнакомца с одноцветными гербом и вооружением, который внезапно преграждает путь главному герою и вызывает его на бой[103]. Эта сцена – своего рода хроматическая подсказка: описывая цвет герба на щите таинственного рыцаря, автор дает нам возможность понять, с кем мы имеем дело, или даже угадать, что произойдет дальше. Алый рыцарь – это, как правило, чужак, который замышляет недоброе (или же выходец из Потустороннего мира)[104]. Черный рыцарь – порой один из главных персонажей (Ланселот, Тристан), по какойто причине скрывающий свое имя; он с одинаковой вероятностью может оказаться добрым или злым, поскольку в литературе этого типа черный цвет не всегда имеет негативное значение[105]. Белый рыцарь чаще бывает добрым; иногда это друг или покровитель героя, старший по возрасту. Наконец, Зеленый рыцарь – как правило, пылкий юноша, который своим дерзким или наглым поведением нарушает установленный порядок. В этом цветовом коде, характерном для Артуровских романов, отсутствуют синий и желтый: первый – потому что к тому времени его экспансия в символике еще не достигла максимума; а желтый – потому что из-за соперничества очень сходного с ним золотого его роль в литературе свелась к минимуму[106].
Зеленые рыцари не только действуют в романах, но и существуют в реальной жизни. Самый знаменитый из них жил в XIV веке: это Амадей VI, граф Савойский (1334–1383). Еще при жизни он получил прозвище «Зеленый граф», под которым вошел в историю. На поединках и на турнирах граф всегда появлялся в зеленой одежде. Как гласит легенда, впервые он сделал это на турнире в Шамбери, состоявшемся весной 1353 года, а прежде надевал на шлем съемный рукав от зеленого платья своей возлюбленной. Имя дамы осталось неизвестным (если она вообще существовала), но связь между зелеными рукавами и любовью просуществовала в умах людей еще очень долго. Есть одна знаменитая песня, которую многие меломаны считают прекраснейшей песней всех времен: она называется «Greensleeves» – «Зеленые рукава». Она известна с XVI века; мелодия заимствована у старинной ирландской баллады, а слова предположительно сочинил английский король Генрих VIII, жестокий любовник и большой ревнивец. В самом деле, автор песни сетует на непостоянство возлюбленной…
Но вернемся в эпоху рыцарства и куртуазности, когда изображения говорят то же, что и литературные тексты: зеленый, преобладающий цвет на турнирах, – также и цвет рыцарской любви, особенно в немецкоязычных странах. Убедительным доказательством этого служит «Манесский кодекс», великолепный иллюминованный манускрипт, созданный в Цюрихе в 1300–1310-х годах. В нем содержатся произведения ста сорока немецких куртуазных поэтов XII–XIII веков и сто тридцать семь миниатюр (каждая из которых занимает целую страницу), изображающих либо портрет автора, либо сцены из его стихотворения. Главная тема большинства миниатюр – любовь, а потому в них постоянно присутствует зеленый цвет. Порой это растительный пейзаж, на фоне которого происходит сцена и в котором важную роль играет липа с ее сердцеобразными листьями; а порой предметы, здания и даже живые существа зеленого цвета (попугаи). Но чаще всего это одежда – иногда платье дамы, иногда накидка поэта, а порой и то и другое. Этот зеленый, цвет любви, зарождающейся и полной надежд, нередко сочетается с красным, цветом любви-страсти: оба цвета постоянно встречаются на страницах сборника. Госпожа Минна, которая несколько раз появляется здесь собственной персоной и мечет стрелы в своих жертв, одета в зеленое платье и красную мантию.
Логично было бы предположить, что при такой популярности зеленого в придворной моде и в рыцарских ритуалах он займет видное положение в геральдике. Но, как ни странно, ничего подобного не происходит. Ни в XII–XIII веках, ни в позднем Средневековье ни в одной из европейских стран коэффициент частоты использования зеленого в гербах не дотягивает и до 5 %, в то время как у красного он часто превышает 50 %, у белого и желтого – 45 %, а у синего и черного, в зависимости от периода и региона исследования, он составляет 20–30 %[107]. Чем же объяснить такую скромную роль зеленого в геральдике, этой огромной, сложной системе цветов, придуманной феодальным обществом Европы и даже сегодня обладающей немалым влиянием на всех пяти континентах (флаги, логотипы, спортивные эмблемы, сигнальные полотнища)?
Гербы впервые появляются в середине XII века на полях сражения и на турнирах. Лица и фигуры рыцарей скрывались под шлемами и доспехами. Чтобы легче было в схватке опознать друг друга, они завели обычай наносить красками на щит одни и те же фигуры, а затем подчинили эти изображения определенным правилам композиции. Так появилась новая система идентификации личности: гербы, а затем и новый свод правил, которым они будут подчиняться, – геральдика. Через несколько десятилетий сфера использования гербов уже не будет ограничиваться полями сражений и ристалищами, а распространится на всю жизнь общества. В начале XIII века они появляются на самых разнообразных носителях: драпировках, одежде, печатях, монетах, зданиях, памятниках, произведениях искусства и предметах быта. Теперь они уже не только выполняют идентификационную функцию, а становятся еще и знаком собственника либо украшением. Даже церкви превращаются в настоящие «музеи» гербов: на стенах, полах, витражах, на богослужебной утвари, одеждах и книгах – повсюду гербы. А в конце столетия гербами обзаведется значительная часть западноевропейского общества; они появятся не только у дворян и рыцарей, но также и у женщин, у духовных лиц, у патрициата, у мещан и ремесленников и светских и религиозных сообществ, городов и ремесленных цехов[108].
В средневековом гербе используются только шесть цветов: белый, желтый, красный, синий, черный и зеленый. По законам геральдики цвета могут сочетаться и накладываться друг на друга только по определенным правилам. Эти правила повсеместно и неукоснительно соблюдались, но они не объясняют, почему зеленый цвет на гербах, вне зависимости от особенностей самих гербов и от параметров их владельцев, всегда используется намного реже, чем пять остальных. Не было таких периодов, когда он исчезал бы насовсем, но все же встречается он редко, чтобы не сказать: очень редко.
В чем тут причина? Специалисты по геральдике пока не нашли ответа на этот вопрос. Быть может, это связано с первоначальной функцией герба – служить опознавательным знаком? Ведь на полях сражений и ристалищах, окруженных зарослями деревьев и кустарника, зеленый на щите или на знамени, скорее всего, выделялся не так четко, как остальные цвета. Такую гипотезу выдвинули историки XVII века. Звучит она убедительно и подкрепляется еще и тем фактом, что позднее, когда турниры стали проводиться не на природе, а под стенами крепостей или даже на городских площадях, зеленый цвет щитов так же легко мог бы слиться уже с другой зеленью – женских платьев и всевозможных драпировок.
Или же, напротив, нелюбовь геральдики к зеленому цвету объяснялась чисто техническими проблемами? Производство и закрепление зеленой краски, как в быту, так и в живописи, в Средние века было далеко не простой задачей. Этот весомый аргумент выдвинули геральдисты XIX–XX веков. А что, если причину следует искать в совсем иной сфере – сфере символики? Зеленый, с IX–X веков религиозный цвет ислама, в Европе иногда считался цветом Дьявола: возможно, рыцари, которые во время Крестовых походов видели этот цвет на знаменах и эмблемах противника, просто не захотели носить его на своих щитах? Гипотеза кажется правдоподобной, однако все историки дружно заявляют, что Крестовые походы не играли никакой роли в формировании гербов.
Приходится признать: ни одна из версий не выдерживает критики. И отметить, что в вымышленных гербах, которыми наделены герои эпических поэм и рыцарских романов, – например, в гербах рыцарей Круглого стола – коэффициент частоты использования зеленого гораздо выше, чем в реальных. Но для создания литературных гербов не требуются бытовые или живописные краски – их достаточно описать на словах. Вот почему в литературных гербах наблюдается большее равноправие среди шести геральдических цветов; зеленый в них встречается не реже, чем остальные, а зачастую занимает на гербе даже более заметное место.
Герой в зеленом: Тристан
Среди литературных героев, которых средневековые авторы наделили гербом с преобладанием зеленого цвета, выделяется один, самый любимый: Тристан. Его несчастная любовь и трагическая судьба глубоко трогают как аристократию той эпохи, так и простонародье. Доказательством может служить то, что его именем стали называть при крещении детей из всех классов общества. Легенда о Тристане, первые записи которой появляются во второй половине XII века, уходит корнями в далекое прошлое; в ней переплелись различные шотландские, ирландские и корнуэльские предания. Долгое время она существовала только в устной традиции, ее передавали друг другу валлийские барды, пели труверы на Севере и Западе Франции. Позднее, уже в записях, она разошлась по Германии, Италии, Скандинавии и еще дальше. Тристан, племянник Марка, короля Корнуолла, – жертва злой судьбы: когда он возвращается из Ирландии, сопровождая дочь короля этой страны, невесту Марка, прекрасную Изольду, молодые люди по ошибке выпивают не предназначенный для них любовный напиток. С этого мгновения их соединит трагическая страсть, которая ввергнет их в бесчисленные злоключения, а затем приведет к смерти.
У Тристана с зеленым цветом особые отношения – по многим причинам. Прежде всего это связано с растительным миром, который в рассказе о его жизни упоминается неоднократно. В начале этой истории Тристан исцеляется от смертельной раны благодаря Изольде, сведущей в искусстве врачевания и располагающей большим набором лекарственных средств. Позднее, на корабле, везущем их в Корнуолл, они случайно выпивают «травяное вино», волшебное зелье, приготовленное матерью Изольды из растений. В романах XII–XIII веков не указан состав этого напитка, но его нетрудно восстановить по тогдашним сборникам рецептов. В Средние века для приготовления приворотного зелья требуются как минимум четыре растения: вербена, полынь, валериана и зверобой. К этому базовому рецепту могут быть добавлены другие ингредиенты растительного и животного происхождения, но присутствие вышеназванных четырех растений необходимо. Впоследствии, когда Изольда уже стала супругой короля Марка, встречи юных любовников происходят в саду, иногда под липой, а иногда под сосной. У них есть свой условный сигнал: если на воде ручья колышется лист липы, это означает, что свидание состоится, если нет – свидание откладывается.
Но наиболее значительной роль зеленого в этой истории становится на том этапе развития сюжета, когда Тристан и Изольда убегают и скрываются в лесу. Отныне деревья, кусты и травы становятся для них средой обитания, они ночуют под сенью листвы и делают себе из нее одежду. Тристан становится охотником и даже волшебником. Подобно чародею Мерлину, другому литературному герою, часть жизни проживающему среди лесов, он знает все свойства растений и умеет пользоваться ими, например чтобы изготовить чудесный лук, стрелы из которого всегда попадают в цель. В этой несчастной паре, вынужденной вести лесную жизнь, уже не одна только Изольда практикует магию; Тристан тоже прибегает к ней и в результате словно перерождается. Неудивительно: в куртуазных романах лес – место пугающее и таинственное, здесь происходят странные встречи и невероятные метаморфозы. Сюда приходят, желая удалиться от мира и от общества, на поиски Бога или Дьявола, чтобы восстановить силы, обновиться, установить связь с созданиями и силами природы[109]. Пребывание в лесу (silva) превращает человека в необычное существо, дикаря, sauvage (silvaticus). Тристан и Изольда не станут исключением из правила.
Позднее, вернувшись из лесного изгнания, Тристан добавляет к зеленой одежде охотника и зеленому одеянию волшебника еще один аспект символики зеленого. Так, чтобы вернуться ко двору короля Марка и увидеться с возлюбленной, он переодевается сначала в жонглера, потом в музыканта и наконец в шута. В текстах романов о Тристане не содержится уточняющих подробностей насчет костюмов, в которые облачался наш герой при всех этих обстоятельствах, но на изображениях, в частности на позднесредневековых миниатюрах, представители этих профессий часто одеты в зеленое. Можно не сомневаться, что в представлении слушателей и читателей Тристан, изображающий жонглера, музыканта, а затем придворного шута, одет либо в целиком зеленый костюм, либо в костюм с зеленой цветовой доминантой. Без этого цвета маскарад был бы неполным и никого бы не смог ввести в заблуждение.
И геральдика словно бы вдруг решила учесть все эти соображения. В 1230–1240-х годах огромный анонимный роман, известный под названием «Тристан в прозе», роман, в котором происходит окончательное слияние легенды о Тристане с легендой о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, впервые описывает щит Тристана с его гербом: желтый лев на зеленом поле, или, говоря языком геральдики, «зелень с золотым львом». И с тех пор именно такой герб будет у Тристана во всех источниках – в текстах и на миниатюрах – вплоть до заката Средневековья. Он будет встречаться даже в книгах середины XVII века. До нас дошло множество изображений и описаний этого герба: на миниатюрах, на настенных росписях, на шпалерах, в гербовниках, в описании поединков и турниров, празднеств и спектаклей, посвященных артуровской тематике. Так Тристан превратился в еще одного «Зеленого рыцаря», но особенного, непохожего ни на кого из них. Конечно, цвет его щита – цвет любви и юности (это обязательное значение), но также и цвет охоты и лесной чащи, цвет музыки и шутовства, бунта и преодоления запретов, а быть может, еще и цвет отчаяния и трагический судьбы.
В самом деле, из-за химической непрочности зеленой краски зеленый цвет на исходе Средневековья часто ассоциируется со всем, что непрочно, изменчиво и мимолетно в символическом смысле: не только с детством и юностью, любовью и красотой, но также с удачей, надеждой, фортуной, судьбой. И поэтому он начинает казаться двусмысленным, внушающим тревогу и даже опасным.
Глава 3 Опасный цвет (XIV–XVI века)
Как мы видели, в эпоху рыцарства и куртуазной культуры зеленый ценился весьма высоко. Однако на закате Средневековья отношение к нему меняется. Химически непрочный, как в пигментах для живописи, так и в бытовых красителях, этот цвет в символическом плане отныне ассоциируется со всем, что изменчиво и ненадежно: молодостью, любовью, удачей и судьбой. И, как следствие, суть его становится двойственной: с одной стороны, есть «хороший» зеленый, цвет веселья, красоты и надежды, он не исчез совсем, но встречается гораздо реже, чем раньше; с другой, есть «плохой» зеленый, цвет Дьявола и его свиты, цвет ведьм и яда – этот зеленый, напротив, встречается все чаще, он уже проник во многие области жизни и всюду грозит бедой. Противостояние цветов получает свое отражение и в лексике. В то время люди стали обращать больше внимания на различные цветовые нюансы: рождаются новые слова, возникают новые устойчивые сочетания, чтобы четче обозначить семантическое поле или символический потенциал каждого цвета. Так, в среднефранцузском языке «веселый зеленый» – светлый, яркий, притягательный, часто противопоставляется «унывному зеленому» – тусклому, печальному, тревожному.
В эту же эпоху набирает силу новая тенденция, возникшая некоторое время назад: устанавливать связь между цветом и моралью. Отныне, по мнению гражданских и церковных властей, одни цвета следует считать добропорядочными, а другие – подозрительными. Зеленый – возможно, из-за масштабной экспансии «высокоморального» синего – на свое несчастье, попадает во вторую категорию. Ему приходится сдавать позиции во многих сферах, его престиж падает как в художественном творчестве, так и в повседневной жизни. Лишь несколько поэтов все еще отводят ему почетное место в классификации цветов.
Зеленый бестиарий Сатаны
Дьявол – не изобретение христианства. Однако в древнееврейских традициях он почти не присутствует, а в Ветхом Завете не появляется вообще, во всяком случае в том обличье, каким наделила его христианская традиция. О его существовании мы узнаём из Евангелия, а Откровение отводит ему место на переднем плане: в этой книге предсказывается его кратковременное владычество, вслед за которым наступит конец времен. Позднее, в сочинениях Отцов Церкви, он предстает как демоническая сила, дерзко бросающая вызов самому Богу, и в то же время – как падшее творение, вождь мятежных ангелов. Образ Дьявола складывается медленно, с VI по XI век, и долго остается нестабильным и полиморфным. В начале второго тысячелетия этот образ становится устойчивым и обретает отталкивающие черты, которые роднят его с животным. Тело у Сатаны тщедушное, высохшее: это должно подчеркнуть, что перед нами – выходец из царства мертвых; он наг, весь покрыт шерстью либо чирьями, иногда пятнистый, но всегда омерзительный; за спиной у него хвост и крылья (все же это ангел, хоть и падший), раздвоенные копыта напоминают козлиные. Голова, в отличие от тела, огромная, темного цвета, на ней острые рога и стоящие дыбом волосы, похожие на языки пламени. На лице (часто вместо лица – свиное рыло либо звериная морда) застыла ужасная гримаса; рот громадный, до ушей; взгляд беспокойный и злобный.
Обличья Дьявола в романском искусстве, всегда проявляющем в изображении Зла больше фантазии, чем в изображении Добра, отличаются удивительным разнообразием и выразительностью. А вот цветовая гамма в этих изображениях, напротив, весьма ограниченна. Дьявол либо сплошь черный (так бывает чаще всего), либо черно-красный: черное тело и красная голова, красное тело и черная голова или же туловище двухцветное, а голова сплошь черная. Эти два цвета – порождение преисподней, адской тьмы и адского пламени. А то, что их видят на самом Дьяволе, делает их еще ужаснее. В дальнейшем дьявольская палитра будет меняться, и в середине XII века, сначала на витражах, затем в книжных миниатюрах на фресках и картинах появятся первые зеленые дьяволы. Быть может, причину их появления следует искать во все обостряющейся вражде между христианами и мусульманами? Поскольку в глазах первых зеленый стал религиозным цветом вторых, христианская иконография в эпоху крестовых походов охотно раскрашивает Дьявола и демонов в зеленое? Весьма правдоподобная гипотеза. Но прямых доказательств тут нет. Возможно, разгадка их появления кроется где-то еще. Трудно сказать, что было раньше, а что позже: породила ли зеленых дьяволов все возрастающая нелюбовь к зеленому, или же, наоборот, это по вине зеленых дьяволов, которых с течением времени появлялось все больше, зеленый стал нелюбимым цветом.
Дьявол не пребывает в одиночестве, и является он не один, а с целой свитой диких зверей и зловредных тварей. В позднем Средневековье многие из них находятся в особых, тесных отношениях с зеленым цветом, в частности демоны («имя им легион»), которые мучают людей, вселяются в них, склоняют их к порокам и насилию. И, что еще ужаснее, они неотступно следят за хилыми и хворыми, пытаясь завладеть грешной душой умирающего в момент, когда она готова покинуть тело. На изображениях нередко можно увидеть белоснежную душу усопшего в окружении черных или зеленых демонов, стремящихся ею завладеть. Среди зверей, которые составляют свиту Сатаны и в обличье которых он любит являться, есть черные или темные (медведь, волк, вепрь, козел, кот, сова, ворон), но есть также и зеленые (дракон, гадюка, крокодил, гидра, василиск, лягушка, сирена, саранча). Взглянем повнимательнее на обитателей этого жуткого зеленого бестиария глазами средневекового человека.
Большинство змей – зеленые, и уже одно это свидетельствует об их дурном нраве и зловредной сущности. Таковы аспиды, гадюки и драконы. Яд аспида не убивает, а скорее усыпляет, но усыпляет навсегда: мужчина или женщина, которых укусила эта тварь, впадают в глубокий сон и им уже не проснуться. Именно это произошло с царицей Клеопатрой, которая лишила себя жизни, положив на грудь аспида. Гадюка хитрее и злее аспида, она умеет прятаться, чтобы выбрать мгновение, когда можно будет напасть и ужалить. Особенно опасна самка. Совокупление смертельно для самца: чтобы оплодотворить свою подругу, он должен положить голову ей в пасть; но после того как он извергнет семя, она откусывает ему голову. Детеныши, родившиеся от этого страшного союза, не менее свирепы: выйдя из чрева матери, они тут же убивают ее.
Но есть и еще более ужасное создание – дракон. Для средневековой культуры это не фантастическая, а вполне реальная тварь, громадный змей с лапами, а иногда и с крыльями. Тело его, покрытое чешуей, вроде рыбьей, но гораздо тверже, заканчивается длинным заостренным хвостом; на спине – гребень, усаженный шипами. Лапы дракона похожи на львиные, а когти – как у орла; голова небольшая, узкая, уши острые, торчком, иногда бывает небольшая бородка. Глаза красные, взгляд пристальный, цепенящий. Пасть у дракона небольшая, но в ней прячутся очень острые зубы и язык в форме трезубца. Дракон терзает добычу, раздирает ее на части и заглатывает, рыгает, плюется, пускает слюни: это огромное, ненасытное чудовище. У некоторых драконов не одна голова, а две (вторая, как у змеи-амфисбены, о которой рассказывали древние, находится на хвосте) или даже три, как у «дракона из страны Амазонок»: одна большая в середине, две маленькие по бокам. А бывает и семиглавый дракон – ужасная гидра: она живет в воде и способна напасть на крокодила. И крокодил, и гидра, разумеется, – зеленого цвета.
Обычные драконы тоже зеленые. Некоторые авторы, впрочем, уточняют, что спина у дракона зеленая, а брюхо желтое. Другие добавляют, что дракон обладает удивительной способностью менять цвет, словно хамелеон. Кроме того, если снаружи дракон зелено-желтый, нутро у него красное, ибо оно наполнено кровью и пламенем. Из драконьей крови делают краску для живописцев и миниатюристов – сандрагон (сандарак). Как сказано в рецептурных книгах, эта краска применяется для того, чтобы изобразить лицо Дьявола, мучения грешников и адское пламя[110]. Странное дело: ни в одном бестиарии дракон не ассоциируется с черным, или хотя бы просто темным цветом: он всегда зеленый, покрытый слизью и чирьями, лоснящийся, извергающий пламя. Дракон – существо, связанное со всеми четырьмя стихиями (водой, землей, воздухом, огнем) и со всеми пятью чувствами: он страшен на вид (зрение), издает оглушительный рев (слух), он липкий (осязание), смердящий (обоняние) и прожорливый (вкус). Его дыхание тлетворно; пламя, выходящее из его пасти и ушей, опаляет и сжигает; жало, находящееся на кончике хвоста, как у скорпиона, источает смертельный яд. Однако его семя и слюна считаются плодоносными и живительными, а его засохшая кровь твердеет и превращается в панцирь, делающий неуязвимым того, кто искупается в ней. Так поступил Зигфрид, герой «Песни о Нибелунгах», но, к несчастью, лист липы, упавший ему на спину между лопаток, помешал ему стать полностью неуязвимым. В этой сцене зеленый цвет самого любимого из деревьев противостоит красному цвету самого страшного из зверей: два цвета в очередной раз составляют пару[111].
В воде живут и другие твари зеленого цвета, и все они воспринимаются столь же негативно. Яркий пример – лягушка: если для нас это забавное, симпатичное существо, то в средневековых бестиариях она описывается совсем по-другому. Это «гад, живущий в грязной воде, скользкий и ядовитый, с зеленой головой и спиной, с пятнистым брюхом, ужасный на вид, всеми ненавидимый; подобно своей сестре, гадюке, лягушка наполнена ядом[112]. К счастью, этот гад пуглив: при малейших признаках опасности лягушка прячется в воде или в тине; ее трусость вошла в поговорку. Есть множество рецептов колдовских зелий, в которых используются различные органы либо жидкости, извлеченные из тела лягушки: язык, слюна, яд, глаза, кожа, лапы. Зачастую эти зелья связаны с сексуальностью, поскольку лягушка – одна из привычных эмблем разврата. Многие авторы утверждают, что лягушки совокупляются по ночам и предаются оргиям вроде тех, что устраивают ведьмы во время шабаша[113]. Это демонические существа, о чем нас предупреждает цвет их кожи.
И еще одно из таких существ – сирена, полуженщина, полуживотное. Если в Античности сирену чаще всего представляли в виде птицы, то в Средние века это, как правило, рыба. Прекрасное женское тело ниже пояса переходит в мерзкий чешуйчатый хвост зеленого цвета. Сирены – лживые, жестокие существа, они завораживают моряков своей красотой и сладостным пением, завлекают их в открытое море и усыпляют. Затем поднимаются на борт корабля, совокупляются со спящими, а после выбрасывают их за борт; некоторые даже пожирают их трупы.
Но крокодил, чудовище, живущее в реках, отличается еще большей свирепостью. Хотя его название указывает скорее на желтый цвет (croceus по-латыни «желтый», отсюда «crocodilus»), на изображениях он всегда зеленый и похож на бескрылого дракона или на огромную ящерицу с четырьмя очень широкими лапами и короткими ногами. Тело у него покрыто очень крупной и твердой чешуей, острой, как лезвие. Голова крокодила ужасна на вид: она имеет продолговатую форму, и огромная пасть, открываясь, разрезает ее почти пополам. В этой пасти нет языка, зато в ней скрывается уйма острых зубов. Зубы крокодилу нужны не за тем, чтобы пережевывать пищу, а лишь для того, чтобы впиваться в жертву и убивать ее. Крокодил невероятно прожорлив, и, поскольку нижняя челюсть у него неподвижна, он скорее заглатывает добычу, чем жует ее. Кишечник у него очень длинный, поэтому процесс пищеварения происходит очень медленно, вынуждая его подолгу оставаться в неподвижности – ночью в воде, днем на берегу. Подобно лисице и другим хитрым зверям, крокодил может притвориться спящим, а потом вдруг проснуться, подскочить, опираясь на хвост, и поймать своей пастью всех животных, которые оказались рядом. Крокодил коварен, кровожаден, ненасытен. Но, как ни странно, ему, похоже, знакомы угрызения совести. Все бестиарии в один голос утверждают: увидев приближающегося человека, крокодил непременно схватит и сожрет его. Но затем он раскаивается в содеянном и долго плачет, проливая крокодиловы слезы, обильные, тяжелые, бледно-зеленые.
От зеленого к бледно-зеленому
Большинство животных, состоящих в бестиарии Дьявола, живут в воде или часто посещают водный мир. Возможно, зеленая окраска этих существ указывает не только на их зловредную сущность, но и на их связь с водным миром. Действительно, в Средние века воду чаще всего представляют себе и изображают зеленой. Как мы увидим в следующей главе, эта традиция сохранится и в раннее Новое время, в частности на географических картах: моря и океаны, реки, озера и пруды медленно, очень медленно будут менять цвет с зеленого на синий и на это им потребуется два столетия, с XV по XVII.
Водянисто-зеленый цвет дьявольского бестиария – еще и склизкий зеленый. Чтобы верно передать рельеф поверхности тела всех этих тварей, живописцы и миниатюристы Средневековья используют набор приемов: осклизлость передается волнистыми линиями поверх чешуи и с помощью различных оттенков зеленого, особенно бледно-зеленого. Изображая сирен, драконов или крокодилов, художники щедро разбавляют краску и используют различные связки, чтобы зеленые тела казались гладкими и липкими на ощупь.
Такой вот водянистый, склизкий, бледный зеленый цвет называется блекло-зеленым. В нем нет ни яркости, ни насыщенности, зато есть более или менее ощутимая примесь серого, он тусклый и беловатый. Как на изображениях, так и в реальности этот оттенок зеленого – который средневековая латынь обозначает словом subviridis – всегда воспринимается как зловещий или даже несущий смерть. Это цвет плесени, цвет болезни, цвет гниения, а главное – цвет разлагающейся плоти. Соответственно, это цвет трупов и, по характерной для средневекового мышления аналогии, – призраков, которые покидают страну мертвых, чтобы мучить живых и требовать для себя право на вечную жизнь[114]. Иногда они белые, как наши современные привидения, но чаще серо-белые и блекло-зеленые, как все фантомы, видения и большинство духов, вышедших из мира снов или из мира тьмы.
У призраков есть дальняя родня: сонм крохотных существ, которые обитают в природе, но иногда поселяются в конюшнях, а то и в домах; это духи, которые обитают в полях и в рощах, в листве деревьев и в живых изгородях, лесные эльфы и сильваны, нимфы ручьев, а также пещерные гоблины, горные тролли, германские кобольды, бретонские корриганы, домовые и гномы. В Средние века их развелось несметное количество, и многие еще продолжают существовать в современном фольклоре. Одни из них доброжелательны, другие приносят вред, третьи – своенравные и проказливые. Их названия и внешние приметы могут быть очень разными – в зависимости от эпохи или от региона, но все они принадлежат к одному миру, очень странному миру, занимающему промежуточное положение между естественным и сверхъестественным. Часто у этих созданий зеленое тело или одежда: зеленый цвет подчеркивает их связь с растительностью и с различными ритуалами плодородия, но в то же время он – главный признак этой их странности. Это дальние предки наших «марсиан», инопланетных гуманоидов, о которых впервые заговорили в конце XIX века и которые якобы живут на Марсе: воображение наших современников наделило их миниатюрным телом, огромной головой и полностью зеленой кожей. Марсианин, как и его средневековые предки, как большинство сверхъестественных существ – например, фей, о которых речь впереди[115], просто должен быть «маленьким зеленым человечком»[116], и не может быть никаким другим.
Зеленый цвет ведьм обладает схожей символикой, однако, в противоположность символике нимф, эльфов или корриганов, она однозначно негативная. Кроме того, она принадлежит скорее Новому времени, чем Средневековью. В самом деле, было бы ошибкой думать, что суды над колдунами и ведьмами – характерная особенность средневекового мира с его так называемым «обскурантизмом». Это не так: процессы над ведьмами зародились только в XV веке, а наибольшего размаха достигли в течение двух последующих столетий[117]. Реформация с ее пессимистической концепцией жизни Человека укрепит в народе веру в существование сверхъестественных сил и в возможность заключить с ними сделку ради того, чтобы сполна насладиться жизнью либо приобрести какой-то особый дар – ясновидение, дурной глаз, умение насылать порчу, готовить волшебные зелья и причинять вред своим врагам. Дело довершит печатная книга, которая, появившись в середине XVI века, начнет распространять в больших масштабах не только сборники рецептов, но и трактаты по демонологии. И те и другие становятся бестселлерами. Среди авторов таких сочинений попадаются и просвещенные умы. Например, Жан Боден (1529–1596), философ, юрисконсульт, автор опередивших свое время трудов по экономике, праву и политологии: в 1580 году выходит его книга под названием «О демономании колдунов», где он рассуждает о силах Зла, о сделках с демонами, подробнейшим образом описывает колдунов и ведьм и уверяет, что лучшие средства для искоренения этих злодеяний – пытка и костер[118]. Вслед за книгой Бодена, выдержавшей несколько изданий, в последние годы XVI и в начале XVII века появилось множество других, написанных его подражателями.
Из этой обширной и однообразной литературы мы можем почерпнуть различные сведения, имеющие отношение к зеленому цвету: у ведьм зеленые глаза и зеленые зубы; они часто носят зеленое платье; они готовят яды и колдовские зелья бледно-зеленого цвета. Кроме того, когда они прибывают на шабаш, который происходит ночью, в лесной чаще, их сопровождает двойной бестиарий: с одной стороны – черные звери и птицы (козлы, волки, вороны, коты, псы), а с другой – зеленые (василиски, змеи, драконы, саранча, лягушки и всевозможные чудища). Сами ведьмы тоже облечены в эти два цвета: их зеленое одеяние (знак их зловредной сущности) покрыто сажей, и не только потому, что им пришлось вылететь через трубу, чтобы попасть на шабаш: к участию в ритуалах – черной мессе, совокуплениях с Дьяволом, трапезе и жертвоприношениях – допускаются только одетые в черное[119].
Зеленые глаза приобрели дурную репутацию не в позднем Средневековье и не в Новое время. Они уже успели обзавестись ею в Древнем Риме (так, поэт Марциал считает, что зеленые глаза – признак извращенности и склонности к распутству[120]) и пронесут ее через весь средневековый период. Если трактаты по физиогномике с XIII века постепенно начинают пересматривать отношение к голубым глазам (которые у римлян считались недостатком), то к зеленым они безжалостны: это признак злого нрава, хитрого и лживого ума, праздной и развратной жизни. Такие глаза бывают у предателей, у вероломных рыцарей, у Иуды, у женщин, которые торгуют своим телом или наводят порчу (особенно если глаза маленькие, глубоко сидящие[121]). А еще такие глаза у василиска, страшного змееподобного чудища с петушьей головой: его тело наполнено ядом, а взгляд убивает. Самого Дьявола иногда изображают с зелеными глазами. И, если верить поговорке XVI века, мужчинам и женщинам, у которых такие глаза, суждено провалиться в его адское логово: «Сероглазых – в Рай, черноглазых – в Чистилище, зеленоглазых – в Ад[122]».
Как учат бестиарии, зеленые глаза – не только у василисков, но и вообще у всех змей и у некоторых драконов. У этих последних, впрочем, глаза часто бывают разного цвета: один зеленый, другой желтый. Разные глаза, если один из них зеленый, в средневековой системе ценностей воспринимаются как нечто сугубо негативное и опасное. Например, ни в коем случае нельзя садиться на коня с разными глазами: из чистого коварства он сбросит всадника в разгар турнира или битвы[123]. С другой стороны, «зеленый» (то есть серый в яблоках) конь отличается не только статями, но и покладистым нравом: такие кони очень высоко ценились у государей позднего Средневековья[124].
Глаза у колдунов и колдуний бледно-зеленые; тот же цвет у зелий и ядов, которые они изготавливают. В каком бы состоянии ни была отрава, хоть в жидком, хоть в твердом, цвет явно свидетельствует о ее губительной силе, сообразно ее ингредиентам: ядовитым растениям (тис, цикута, белладонна, наперстянка) и животным (жаба, лягушка, скорпион, гадюка). Жаба вообще занимает почетное место в бестиарии отравителей. Средневековая культура не благоволит к ней и называет ее «лягвой, обреченной Господом на жизнь под землей»[125]. Все бестиарии обращают особое внимание на ее безобразный вид, бородавчатую, покрытую слизью кожу и связь с магами и колдунами. Эта притворщица является на шабаш, нацепив зеленую шкуру, тогда как ее естественный цвет – серый, и предается там гнусным оргиям, как и ее дальняя родственница – лягушка, к которой жаба испытывает ненависть и зависть, потому что лягушка, в отличие от нее, живет не под землей, а в воде[126]. Слюна жабы, как и ее моча и другие выделяемые ею жидкости, а также ее яд, входит в состав многих зловредных, а то и смертоносных зелий. Однако если жабу высушить и истолочь в порошок, она может принести пользу, вбирая в себя силы зла и тем самым оберегая человека, который носит порошок на себе в полотняном или кожаном мешочке[127].
До позднего Средневековья яды сравнительно редко связывали с зеленым цветом. В эпоху расцвета феодализма отравленную еду или питье чаще представляли себе красными или черными. Так, отравленное яблоко, которое фигурирует во многих рыцарских романах (Гавейна, племянника и наследника короля Артура, дважды пытались отравить таким яблоком) и которое в Новое время часто встречается в сказках («Белоснежка и семь гномов» и др.), всегда одного цвета: красного. Если в рыцарские времена упоминается «зеленое яблоко», это не следует понимать так, что оно отравленное: оно просто кислое. Зато губительные зелья, состряпанные пособниками Сатаны, в позднем Средневековье все реже бывают темными или черными: теперь эти эликсиры и притирания становятся преимущественно бледно-зелеными. Здесь, как и в других областях жизни, проявилась характерная для эпохи тенденция: повышение значимости черного и обесценение зеленого[128].
Ужасный Зеленый рыцарь
По правде говоря, этот негативный аспект зеленого не был изобретением позднего Средневековья. Он существовал и гораздо раньше: как мы видели, у зеленых глаз давно сложилась отвратительная репутация; зеленый бестиарий Сатаны присутствует на изображениях уже в эпоху романского стиля; а колдуны и чернокнижники успели одеться в зеленое задолго до XIV века (вспомним чародея Мерлина, фигуру как минимум неоднозначную: он поддерживает тесные связи с зеленым цветом и растительностью[129]). Но дело в том, что на закате Средневековья негативный зеленый расширил зону своего влияния и затронул области, в которых раньше активности не проявлял. Это заметно по литературе Артуровского цикла. В романах XIII века Зеленый рыцарь (то есть рыцарь, у которого и щит, и куртка и чепрак лошади зеленые) – это, скорее всего, юноша, посеявший смуту своим дерзким поведением. Но тем не менее его нельзя считать отрицательным персонажем. Напротив: поскольку его лишь недавно посвятили в рыцари, он жаждет отличиться, чтобы заслужить почетную геральдическую фигуру на щите – по обычаю, в течение года после посвящения юному рыцарю положено носить одноцветный щит – а затем быть принятым в число рыцарей Круглого стола[130]. Однако в следующем столетии этот персонаж исчезает. Теперь зеленые рыцари встречаются либо очень редко, либо в совсем другом качестве: это странные, зловещие персонажи, несущие смерть.
Самый знаменитый пример можно найти в английском романе конца XIV века «Sir Gawain and the Green Knight» («Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь»). Текст, написанный аллитерационным стихом, дошел до нас в единственной рукописи, автор остался неизвестным. В его английском языке есть следы центрального диалекта. Действие романа начинается при дворе короля Артура, в замке Камелот, через неделю после Рождества. В зале, где находятся король с королевой и весь двор, внезапно появляется зеленый рыцарь огромного роста, вооруженный топором, и предлагает необычный поединок: пусть кто-нибудь из рыцарей возьмет его топор и нанесет ему один-единственный удар; взамен этот рыцарь должен поклясться, что через двенадцать месяцев и один день примет такой же удар от незнакомца. Гавейн принимает вызов и ударом топора отрубает голову Зеленому рыцарю. Но тот, как ни в чем не бывало, подбирает свою голову и удаляется, напомнив Гавейну о его клятве: встреча должна состояться ровно через двенадцать месяцев и один день, возле Зеленой часовни. Проходит год. Гавейн отправляется на поиски Зеленой часовни, и по дороге с ним случается множество приключений. В некоем таинственном замке, хозяин которого гостеприимно принял Гавейна, жена хозяина пытается его соблазнить. Гавейн противостоит искушению, согласившись лишь принять, как залог любви, три поцелуя и таинственный зеленый пояс дамы, обладающий волшебной силой: того, кто его носит, нельзя убить. Затем Гавейну указывают путь к Зеленой часовне. Добравшись туда, он видит Зеленого рыцаря, вооруженного косой. Трижды Зеленый рыцарь заносит над Гавейном это смертельное оружие, делая вид, будто собирается снести ему голову, но каждый раз вовремя отводит руку и в итоге оставляет лишь небольшую царапину на шее племянника Артура, потрясенного и испуганного. Затем Зеленый рыцарь открывает Гавейну, что на самом деле он – хозяин замка и супруг дамы-соблазнительницы, а всю эту жестокую игру придумала Фея Моргана, как испытание для лучшего из рыцарей Круглого стола. Если бы Гавейн остался безупречно честным и храбрым, он не принял бы от дамы зеленый пояс. Сбитый с толку и пристыженный, Гавейн возвращается в Камелот, рассказывает о своем приключении и признается, что мужество покинуло его, когда настало время принять смертельный удар. Рыцари прощают Гавейна и решают в память об этом приключении носить зеленые пояса.
Сбитым с толку чувствует себя не только Гавейн, но и читатель. В этой истории все странно и непохоже на традиционные рыцарские романы. В некоторых эпизодах чувствуются избыточная жестокость и даже пережитки язычества. Это позволяет нам догадаться, что автор собрал воедино более древние легенды и традиции и переработал их, превратив в роман Артуровского цикла. Но что означает такая вездесущность зеленого в этой истории? Можно еще понять выбор этого определения для часовни, одинокой и затерянной в лесной чаще, и для пояса, волшебного талисмана и залога любви. Но откуда взялся Зеленый рыцарь, мужчина в расцвете сил, женатый, обладающий сверхъестественными способностями и, по-видимому, ставший жертвой или подпавший под влияние Феи Морганы, ненавидящей короля Артура (своего единокровного брата) и рыцарей Круглого стола? Этот рыцарь грозен, но в то же время доброжелателен, неистов и дружелюбен, искуситель, но способен на милосердие. Однако самое удивительное в нем – его внешний облик: целиком зеленые у него не только герб, одежда и доспехи, но и кожа. Быть может, это воплощение самого Дьявола или одного из его приспешников? Но в таком случае следует признать, что это какой-то не полностью негативный образ Дьявола. Или же, наоборот, это инкарнация Христа – Христа с изображения страшного Суда, – а зеленый пояс символизирует терновый венец? Нет, такое толкование кажется слишком вольным. Тогда, возможно, это древнее божество кельтов, смутное воспоминание о котором сохранилось с дохристианской эпохи, – лесной дух, подвергающий смертных испытанию на честность и храбрость? Что символизирует в данном случае зеленый цвет? Природу? Растительность? Необычность? Магию? Безумие? Колдовство? Алхимию? Или все сразу? В спорах о роли цвета в этой истории было сломано немало копий, однако, несмотря на наличие обширной библиографии, цвет до сих пор не раскрыл свои тайны[131]. Так или иначе, но мы уже очень далеки от зеленого как символа юности, красоты и куртуазных добродетелей, о котором шла речь в предыдущей главе.
Что до меня, то я в этом странном и пугающем зеленом склонен видеть цвет богини Фортуны, которую в позднем Средневековье часто изображают в зеленом или полосатом платье. Принимая вызов Зеленого рыцаря, Гавейн ставит на карту не только честь, но и жизнь. Возможно, зеленый здесь – символ непредсказуемой и своенравной Судьбы, которая по своей прихоти может изменить участь любого смертного к лучшему или к худшему. В самом деле, это «экзистенциальное» измерение зеленого четко просматривается в документальных источниках XIV–XV веков, особенно в литературных произведениях и в иллюминованных манускриптах. Так, например, Кристина Пизанская в своей «Книге об изменчивости Фортуны», длинной аллегорической поэме, написанной восьмисложным стихом, одевает богиню в зелено-желтое платье (двухцветность уже сама по себе является признаком непостоянства), а ее братьев – в цвета, значение которых противоположно: Счастье – в зеленое, Несчастье – в серое[132].
Зеленый рыцарь из английской поэмы «Sir Gawain and the Green Knight» не единственный в своем роде. Персонаж того же цвета и притом столь же загадочный, действует и в других произведениях, созданных в Британии. Так, в английском романе XV века «Th e Greene Knight» («Зеленый рыцарь»), сочиненном на том же центральном диалекте, рассказывается история, очень похожая на историю из романа о Гавейне; можно вспомнить и балладу, которую сложно датировать и от которой сохранились лишь отдельные фрагменты, дошедшие до нас в единственной рукописи XVII века, «King Arthur and King Cornwall» – «Король Артур и король Корнуолл»; в обоих текстах рассказывается, как Зеленый рыцарь, соратник Артура, обладающий сверхъестественными способностями, тем не менее становится жертвой коварной женщины. Позднее, в объемистой компиляции Томаса Мэлори «Смерть Артура», принявшей окончательную форму в середине XV века и напечатанной в 1485 году, мы встречаем еще одного Зеленого рыцаря (Th e Grene Knyght), гораздо более опасного, чем его предшественники: это вероломный рыцарь, враг Гарета, юного брата Гавейна; у него есть родственник и соратник, таинственный Красный рыцарь (Th e Rede Knyght), столь же коварный и жестокий, как он сам.
Среди дальней родни всех этих зеленых рыцарей следует упомянуть странного и часто встречающегося «Зеленого охотника» (der grüne Jäger). Этот персонаж, порождение средневековой фантазии, ездит на зловещую ночную охоту, в которой наряду с живыми участвуют и мертвые, а наряду с людьми, повинными в тяжких грехах или продавшими душу Дьяволу, – демоны из преисподней. Предание об этой охоте, по-видимому, пришедшее из древнегерманской мифологии, известно почти во всей Европе с раннего Средневековья. У нее много названий: «Дикая охота», «Охота Артура», «Свита Эллекена», «Охота короля Эрла», «Воинство Вотана»[133]. Участники охоты, одетые в черное или в зеленое, сопровождаемые сворой воющих псов, всю ночь гонят по полям неведомую добычу, которой им не настичь никогда. Их вид вызывает ужас; издаваемый ими адский вой и рев невыносим для слуха; лучше не попадаться им на пути, иначе они увлекут вас за собой к неминуемой гибели.
Эти легенды о призрачной охоте, отголоски которых будут слышны в Европе еще и в Новое время – одним из последних станет знаменитая баллада Гете «Der Erlkönig» («Лесной царь»), написанная в 1782 году, – напоминают историку, что главная цель средневековой охоты не добывание пищи, а исполнение ритуала, одним из основных элементов которого был оглушительный шум. Это относится как к охотам, описанным в литературе, так и к охотам в реальной жизни. Охотник – как правило, местный сеньор, и его ранг предписывает ему поднимать шум в лесу, его собаки должны истошно лаять, его лошади – громко ржать, его псари – улюлюкать, а его ловчий – трубить в рог. Простолюдину ничего этого нельзя. Охотник также должен быть одет в зеленое, или в зеленое с красным: эти два цвета – как хроматический аккомпанемент охотничьих ритуалов. Многочисленные свидетельства этого мы находим на миниатюрах позднего Средневековья, например в великолепных манускриптах знаменитой «Книги об охоте» Гастона Феба, графа де Фуа, созданных в 1387–1388 годах. Зеленый цвет представлен здесь на каждой миниатюре, причем во всех оттенках: это листва в лесу, одежда охотников и их свиты, всевозможные силки и ловушки для зверей и птиц. Это цвет и манящий, и пугающий.
В мастерской красильщика
Установить причины девалоризации зеленого в позднем Средневековье – задача не из легких. Вероятно, речь должна идти о целом комплексе причин. Однако главная из них – чисто практическая: окрашивать в зеленое стало очень трудно. Очевидно, то, что было возможно в эпоху расцвета феодализма, на закате Средневековья сделалось невозможным. Ремесло красильщиков приобретает промышленный размах, теперь оно строго регулируется: производство некоторых красок и техника окрашивания подверглись определенным ограничениям. Раньше окрашивать в зеленое было очень просто: в деревне для этого употребляли красители растительного происхождения, они были дешевые, но давали блеклые и нестойкие тона; а в городе ткани погружали сначала в чан с синей краской, затем в чан с желтой. То есть прибегали к смешиванию красок, технике, которую не знали либо не признавали древние римляне и которой охотно пользовались германцы, а затем и вся Западная Европа вплоть до эпохи расцвета феодализма. Однако в позднем Средневековье оба эти способа стали практически неприменимы. И не только потому, что заказчикам теперь нужны прочные, яркие и насыщенные тона; в крупных текстильных городах цеховые статуты красильщиков отныне запрещают смешивать синее с желтым для получения зеленого.
Текстильная промышленность – по сути единственная промышленность в средневековой Европе – не может обойтись без красильщиков. Поэтому вся их профессиональная деятельность жестко регламентирована. До нас дошло много документов, в которых описываются организации красильщиков, указывается местонахождение их мастерских в городе, разъясняются их права и обязанности, приводится перечень дозволенных и запрещенных красителей. И мы понимаем, какой строгий надзор осуществлялся за этой влиятельной профессиональной структурой, которая отлично умела отстаивать свои интересы[134].
Так, у красильщиков часто возникают конфликты с другими ремесленными корпорациями, в частности с суконщиками, ткачами и кожевниками. Согласно цеховым статутам, предписывающим четкое разделение труда, красильщики имеют монополию на окрашивание тканей. Но бывает, что представители других профессий сами занимаются окрашиванием, хотя, за редкими исключениями, не имеют на это права. И начинаются конфликты, судебные разбирательства, и все это оставляет след в архивах, где историк цвета нередко может найти ценнейшие сведения.
В большинстве городов также действует четкое разделение красильщиков по типам окрашиваемых тканей (шерсть, лен, шелк) и по используемым красителям. Согласно установленным правилам, мастер не имеет права работать с тканями или с красками, на которые у него нет разрешения. Например, красильщик, имеющий разрешение окрашивать шерсть в красный цвет, не может окрашивать ее в синий, и наоборот. Правда, «синие» красильщики часто окрашивают еще и в зеленые тона, а также в серое и черное, а «красные» работают со всеми оттенками желтого и белого. Такая узкая специализация не слишком удивляет историка цвета. По-видимому, она связана с тем глубоким отвращением к смешиванию и смесям, которое пришло в Средние века из библейской культуры[135]. Это отвращение проявляется сплошь и рядом, как в идеологии и символике, так и в повседневной жизни, а также в материальной культуре Средних веков[136]. Смешивать, сливать, сплавлять или спаивать воедино – все эти манипуляции часто воспринимаются как дьявольское наущение, ибо они нарушают порядок и природу вещей, предустановленные Творцом. А на всех тех, кому по роду занятий приходится это делать (красильщиков, кузнецов, алхимиков, аптекарей), смотрят с опаской или с подозрением, ибо они, как принято думать, мошенничают с природными веществами. Поэтому в красильных мастерских крайне редко смешивают две краски, чтобы получить третью[137]. А о получении зеленой краски путем смешивания синей и желтой не может быть и речи. И виной тому не только запреты, о которых мы только что говорили, но еще и внутрицеховое разделение труда: по правилам цеха красильщиков чаны с синей краской и чаны с желтой не могли находиться в одном помещении. То же самое происходит с фиолетовыми тонами: их нельзя получать, смешивая синее с красным, так как с синей краской имеют право работать одни мастера, а с красной – другие. Поэтому фиолетовый в Средние века чаще всего получают, смешивая синее с черным. У этого цвета дурная репутация.
Несмотря на все эти трудности, идеологические, юридические, производственные и топографические, средневековые красильщики занимаются своим ремеслом вполне успешно, успешнее даже, чем древнеримские, которым долгое время удавалось качественно окрашивать только в красное и желтое. И хотя за минувшие столетия западноевропейское красильное дело утратило секрет изготовления настоящего пурпура, в целом оно значительно усовершенствовалось, особенно в гамме синих тонов, в оттенках серого и черного. Только белое и зеленое по-прежнему остаются большой проблемой. Выкрасить ткань в белоснежный цвет в Средние века чрезвычайно трудно. Это можно сделать только с льняной тканью, да и то в результате очень сложной технической обработки. Шерсть часто не красят, а «отбеливают» – расстилают на лугу, чтобы под воздействием солнечных лучей и утренней росы, насыщенной кислородом, ее натуральный цвет стал немного светлее. Но это длительная процедура, для которой требуется много места, и кроме того, ее нельзя осуществить зимой. Вдобавок, полученный таким способом белый цвет остается белым очень недолго: через какое-то время он превращается в желтоватый или сероватый[138].
Изготовить стойкую зеленую краску было еще труднее. На ткани и на одежде зеленые тона получались блеклыми, размытыми, они быстро выцветали на солнце и линяли в стирке. Многие поколения мастеров пытались создать краску, которая бы глубоко пропитывала волокна тканей и давала яркий, насыщенный, прочный зеленый цвет, но в Европе это оставалось почти невыполнимой задачей. Для обычного окрашивания применяют растительные красители: травы (папоротник, крапива или подорожник), цветы (наперстянка), молодые побеги кустарника (дрок), листья деревьев (ясень, береза), а также древесную кору (ольха). Но все эти пигменты плохо впитываются в волокна ткани, поэтому окраска получается блеклая и непрочная и через какое-то время может просто исчезнуть. Чтобы этого не случилось, приходится применять протраву, а она убивает цвет, и без того не слишком яркий. Вот почему из зеленой ткани шьют либо повседневную одежду, либо одежду для простого люда. Если же какая-нибудь важная персона захочет появиться в зеленом на празднике или на турнире, для одежды выбирают ткань, окрашенную минеральными пигментами на медной основе (уксуснокислая медь). Такие красители дают более яркие и стойкие тона, однако в бытовом окрашивании, как и в живописи, их использование ограничено: они подвержены коррозии, токсичны и держатся по сути не так уж долго. В результате этого процесса (к которому в западноевропейском театре будут прибегать вплоть до XVII века) ткань оказывается скорее покрашенной сверху, чем окрашенной.
Когда мы узнаем обо всех этих трудностях, становится понятно, почему на закате Средневековья государи и знать так редко одевались в зеленое. За немногими исключениями (например, «майской одежды», о которой мы уже говорили), зеленое носят слуги и крестьяне. В деревне, где практикуется кустарное окрашивание красителями на базе местных растений и с протравами невысокого качества (уксус, моча), зеленую одежду встретишь чаще, чем в замке или в городе. Деревенский зеленый может быть светлым или темным, но в любом случае он тусклый, размытый. Кроме того, при свете свечи или масляной лампы он иногда приобретает неприятный сероватый или черноватый оттенок.
К социальным различиям добавляются еще и особенности моды, которые в разных регионах Европы могут сильно различаться. Так, например, в Германии с конца XV века зеленое носят уже не одни только крестьяне. Теперь его охотно надевают зажиточные горожане и патрициат. Через несколько десятилетий, осенью 1566 года, вернувшись с Франкфуртской ярмарки, видный протестантский ученый Анри Этьенн с юмором замечает: «Если бы во Франции увидели человека знатного рода, одетого в зеленое, то подумали бы, что у него неладно с головой; однако во многих городах Германии такой наряд как будто никого не удивляет»[139].
Это наблюдение имеет не только социальное и культурное значение. В нем содержится также информация технического и профессионального характера: мы узнаём, что красильщики в Германии, раньше, чем их собратья по ремеслу во Франции, Италии и во всей остальной Европе, преступили цеховые запреты и применили технику окрашивания, которая была хорошо известна их предкам, древним германцам: погружать ткань сначала в чан с синей краской, затем в чан с желтой. Это еще не смешивание двух красок в одной емкости, но это окрашивание в два приема с использованием двух несовместимых красок, накладываемых одна поверх другой. То есть манипуляция, категорически запрещенная цеховым уставом и неосуществимая на практике из-за узкой специализации красильных мастерских: в помещении, где есть синяя краска, не может быть желтой, и наоборот. Однако немецкие красильщики ухитрялись применять этот способ, причем не только на рубеже XV–XVI веков (как доказывает анализ сохранившихся до наших дней текстильных волокон), а еще раньше, как показывают материалы любопытного судебного процесса, затеянного против одного из них в конце XIV века.
Этого мастера зовут Ханс Тельнер. Он трудится в Нюрнберге в качестве красильщика высшей категории (Schönfärber), и его специальность – окрашивание в синий и черный цвета. В январе 1386 года на него поступает донос – очевидно, от кого-то из собратьев, завидовавших его успеху, – и в его мастерской обнаруживаются чаны с желтой краской, на работу с которой он не имеет патента. Тельнера судят, защищается он очень неумело, отрицает очевидное, заявляет, что чаны с желтой краской ему не принадлежат, и он не понимает, как они могли попасть в его мастерскую. Его приговаривают к крупному штрафу, ссылают в Аугсбург и запрещают заниматься ремеслом красильщика, которым занимались его отец и дед[140].
Не надо быть знатоком красильного дела, чтобы догадаться: Ханс Тельнер, специалист по окрашиванию в синие тона (мода на них захватила Нюрнберг еще в конце XIII века), занимается также окрашиванием в зеленое. Причем не только по обычной процедуре с помощью традиционных пигментов и протрав, которые часто не дают желаемого результата, – он применяет и другую, гораздо более эффективную технологию: сначала несколько раз подряд погружает ткань в чан с вайдой, пока она не приобретет более или менее отчетливый синий цвет, а затем опускает ее в чан с цервой (красильной резедой), чтобы желтая краска, соединившись с синей, превратила ее в зеленую. В зависимости от того, какой оттенок зеленого нужно получить, светлый или темный, ткань выдерживают в чане с цервой больше или меньше времени, а затем соответственно обрабатывают протравой. Может возникнуть впечатление, что в конце XIV века эта процедура была еще совершенно новой (впервые она будет описана в венецианском руководстве для красильщиков, опубликованном в 1540 году[141]), однако на самом деле она существует с незапамятных времен. В 1386 году, когда состоялся суд, к ней прибегали не только с целью обойти или прямо нарушить цеховые запреты, как сделал Тельнер, но еще и для того, чтобы узнать, можно ли из смеси синего с желтым получить зеленый. На закате Средневековья это знание еще мало распространено за пределами профессиональной среды как живописцев, так и красильщиков[142].
«Веселый зеленый» и «унывный зеленый»
Технические эксперименты красильщиков в XV – начале XVI века не изменили общей ситуации. Большинство мастеров работают по старинке, и в результате ткани и одежда после окрашивания, как и прежде, приобретают тускло-зеленый или даже зеленовато-серый цвет. А у тех, кто решается применить новую технику, получаются очень красивые зеленые тона, яркие, насыщенные, нарядные – по сути, совсем другой цвет. В тогдашней французской лексике есть два образных выражения, которые призваны передать эту разницу: «веселый зеленый» обозначает оттенки, приятные для глаза, а «унывный зеленый» – неприятные. Оба эти определения очень часто встречаются в описании гардероба знатных особ, в счетных книгах и описях имущества, а также в хрониках и в поэтических текстах. Сегодня их зачастую понимают неправильно: «веселый зеленый» воспринимается как светлый, а «унывный зеленый» – как темный оттенок этого цвета. На самом же деле «веселый» следует понимать в буквальном смысле: радостный, живой, динамичный. «Унывный» же значит тусклый, поблекший, малонасыщенный, но вовсе не обязательно темный.
Нередко случается, что ткань, приобретшая после окрашивания «веселый зеленый» цвет, спустя несколько недель становится «унывно зеленой»: с течением времени краска блекнет или выцветает. Даже у тех красильщиков, которые получают зеленый цвет, погружая ткань сначала в синюю краску, а затем в желтую, проблема прочности окраски остается нерешенной. При любой технике окрашивания зеленый – неустойчивый цвет, и так будет вплоть до XVIII века. Отсюда и дурная репутация этого цвета, которой его наградили. Зеленый называют «неверным цветом», то есть ненадежным, переменчивым, обманчивым, одновременно соблазнительным и разочаровывающим. «К зеленому доверья нет», – предостерегает нас анонимный поэт конца XV века[143].
По причине своей химической нестабильности зеленый в символическом плане ассоциируется со всем, что изменчиво или мимолетно, – юностью, любовью, красотой и надеждой, о чем мы уже говорили, а также с обманом, коварством, лицемерием. На изображениях позднего Средневековья многие отрицательные персонажи представлены в зеленых одеждах. Все они связаны с непостоянством, двуличием, предательством.
Самая символически значимая фигура среди всех этих предателей – Иуда. На фресках и миниатюрах он изображается в желтой или зеленой одежде либо с каким-то элементом одежды желтого или зеленого цвета[144]. Порой эти же цвета носят и другие, столь же отталкивающие персонажи Священного Писания (Каин, Далила, Каиафа), а также вероломные рыцари из куртуазных романов (Агравейн и Мордред, предатели из Артуровского цикла). А еще желтый и зеленый можно увидеть на одежде людей, которые живут за рамками общества либо занимаются малопочтенным или зазорным ремеслом: палачей, проституток, осужденных преступников, слабоумных, шутов, жонглеров и музыкантов. Не то чтобы речь шла о системе, но, по крайней мере, во Фландрии и в немецкоязычных странах они часто носят эти цвета[145]. Что касается проституток, то традиция одевать их в зеленое продержится вплоть до XX века, когда у некоторых художников (Тулуз-Лотрек, Шиле, Матисс, Бекман) «зеленые чулки» станут атрибутом женщин свободного сексуального поведения и профессиональных жриц любви.
Двуличие и вероломство – не единственные пороки, которые в позднем Средневековье ассоциируются с зеленым цветом. Когда в тексте или на изображении появляются аллегории семи смертных грехов (а это бывает часто), Скупость всегда одета в зеленое, и так будет продолжаться еще очень долго. Закрепившись в середине XIV века, палитра смертных грехов останется почти без изменений и в Новое время; об этом свидетельствуют руководства по иконологии и многочисленные трактаты о цветах, изданные в Италии: Гордыня и Прелюбодеяние всегда красные; Гнев – черный; Леность – синяя или белая; Зависть и Ревность – желтые; Скупость – зеленая. Иногда Зависть и Ревность могут быть также и зелеными, но это идет скорее от лексики («позеленеть от зависти»), чем от символики цветов[146].
Столь прочная и длительная связь между зеленым цветом и скупостью возникла очень рано. Взявшись изучать ее, историк неизбежно придет к исследованию более обширной темы: связи между зеленым цветом и деньгами. Задолго до того, как в 1861 году появился пресловутый американский «грин», зеленая долларовая купюра, этот цвет стал ассоциироваться с деньгами и денежными делами. Так что доллар в этом смысле не открыл миру ничего нового, разве только сделал очень давнюю символику более актуальной. Доказательством этого может служить «зеленый колпак», который надевали на неисправных должников, а также купцов или банкиров, уличенных в злостном банкротстве. С XIV века во многих городах Северной Италии существовал обычай ставить мошенников к позорному столбу, надев на них двурогий зеленый колпак, cornuto verde[147]. Позднее эта традиция распространилась по другую сторону Альп (в частности, в Южной Германии), а потом постепенно сошла на нет, оставив после себя лишь устойчивые словосочетания, обозначавшие банкротство: «надеть зеленый колпак», «угодить под зеленый колпак», «все кончится зеленым колпаком». Забавный пример использования этого выражения мы находим в басне Лафонтена «Летучая мышь, Куст и Утка», опубликованной в его третьем, и последнем, сборнике басен в 1693–1694 годах. Эта странная троица решает объединить свои финансы, чтобы «проворачивать большие дела». К несчастью, вместо ожидаемой прибыли «дела» приносят одни убытки, и вскоре
Они оказались без кредита, без денег, без поддержки, Им грозил зеленый колпак. Никто не открыл им свой кошелек…[148]Но почему колпак именно зеленый, а не какого-либо другого цвета? Насчет этого было выдвинуто много версий. По одной из них, это дурацкий колпак, эмблема шутовства или безумия: в самом деле, чтобы решиться на рискованное предприятие, преступить закон, не платить долги, надо быть безумцем. Есть и другое мнение: зеленый выступает здесь как цвет надежды – после проступка и наказания банкрот освободится, начнет новую жизнь, как дерево, вновь зазеленевшее весной. Наконец, третья версия: зеленый – цвет восковой печати и шелковых лент на постановлении суда, по которому должника отправляют в тюрьму: этот зеленый символизирует судебную процедуру. Но ни одна из этих гипотез не выдерживает критики; и будет гораздо проще и логичнее увидеть здесь еще один символ непостоянной богини Фортуны (о которой было сказано выше): ее колесо вертится и вертится, увлекая за собой всех тех, кто на нее понадеялся. От зеленого как символа Фортуны до зеленого как символа денег оставался только шаг: этот шаг был сделан на закате Средневековья или в раннее Новое время, и зеленый постепенно стал цветом денег, цветом долгов, цветом азартных игр. С XVI века в Венеции и других городах игровые столы покрывают зеленым сукном. Этот цвет одновременно символизирует азарт, риск и деньги, которые игроку предстоит выиграть или проиграть. Век спустя во Франции у игроков сложится свой жаргон, грубоватый и образный; его будут называть «языком зеленого стола». Отныне зеленый будет связываться не только с растительным миром, но и с людьми, их поведением, зачастую бесцеремонным, развязным или даже непристойным. «Зелень» станет чем-то граничащим с пошлостью.
Зеленый цвет глазами геральдиста
Но вернемся в позднее Средневековье и раннее Новое время. Несмотря на тесные связи с большим количеством разных пороков и грехов, зеленый цвет не всегда воспринимается негативно. Поэты продолжают воспевать зелень в природе, это дивное создание Творца, и все оттенки «веселого зеленого», свежие, яркие, сияющие, восхитительные, дарующие радость и наслаждение. А иногда противопоставляют их тем оттенкам зеленого, которые неуклюже пытается создать человек – блеклым, тусклым, непрочным, одним словом, «унывным».
Такого мнения придерживается знаменитый геральдист своего времени Жан Куртуа, умерший в 1437 или 1438 году. Он был на службе у нескольких государей, а затем стал придворным геральдистом у арагонского короля Альфонсо V. В конце жизни Куртуа сочинил интереснейший трактат, который почти целиком посвящен цвету в геральдике: «Книга о гербах и цветах» (часто называемый «Сицилийский гербовник», так как Альфонсо Арагонский был еще и королем Сицилии). Для историка это очень ценный документ, как, впрочем, и большинство трудов по геральдике, созданных в XV веке. Вот что Куртуа пишет о зеленом цвете: «Последний цвет из употребляемых в гербе – зеленый, называемый зеленью. Поскольку этому цвету не нашлось места среди четырех основных, кое-кто из геральдистов считает его менее благородным, чем остальные цвета. ‹…› Однако если зеленый и прослыл менее благородным цветом, это справедливо лишь по отношению к тому зеленому, который существует в красильном деле и в живописи, а не к тому яркому, естественному зеленому, который мы видим на лугах, на деревьях и в горах. Нет ничего прекраснее, ничто так не радует глаз и не веселит сердце. ‹…› Нет ничего приятнее, чем свежая зелень цветущих лугов, густолиственных деревьев, берегов ручья, в котором купаются ласточки, чем камни зеленого цвета, такие как драгоценные изумруды. Что делает апрель и май лучшими месяцами в году? Зеленеющие поля, которые побуждают птичек петь и прославлять весну и ее дивное, веселое одеяние из зелени».
Трудно найти более выразительные слова, чтобы воспеть оттенки зеленого в природе. Для нашего геральдиста они – прямая противоположность зеленым тонам, которые производят красильщики или создают живописцы. Зелень полей, лугов и лесов приятна глазу и радует сердце. Конечно, эта тема отнюдь не нова: она уже присутствует у Вергилия и Горация, потом вновь появляется в куртуазной литературе XII–XIII веков и достигает наивысшего расцвета в поэзии романтиков. Автор также не открыл ничего нового, поместив зеленый на последнее место среди геральдических цветов. Все руководства и трактаты по геральдике представляют цвета в следующем иерархическом порядке: «золото» (желтый), «серебро» (белый), «червлень» (красный), «лазурь» (синий), «чернь» (черный) и «зелень». Этот последний не только «наименее благородный», как говорит наш геральдист, но также и наименее часто встречающийся: возможно, одно связано с другим. Коэффициент частоты зеленого в гербах колеблется в зависимости от региона и страны, но так или иначе он редко достигает 5 %, в то время как коэффициент частоты «золота» и «серебра» порой приближается к 50 %, а у «червлени» даже превышает эту цифру. Однако «зелень» не всегда оказывается на последнем месте: когда некоторые авторы увеличивают число геральдических цветов до семи, они добавляют «пурпур» и ставят его в самом конце списка, то есть после «зелени». Геральдический «пурпур», крайне редко встречающийся в подлинных гербах, не имеет ничего общего с античным пурпуром и не является престижным: это не великолепный, царственный оттенок красного, а какой-то невнятный цвет, напоминающий фиолетовый или грязновато-серый[149].
Любопытно, что для обозначения зелени в геральдике вначале использовалось просто название цвета – vert (зеленый). Однако с середины XIV века в документах (гербовниках, руководствах по геральдике, описаниях турниров) это обозначение постепенно вытесняется другим словом – sinople. Причины этого замещения, которое произошло в течение жизни двух поколений, остаются для нас загадкой. Возможно, тогдашние геральдисты, стремившиеся обогатить и усложнить перечень профессиональных терминов, решили дать зелени какое-нибудь необычное название, чтобы возвысить ее, поставить на один уровень с основными цветами. Или хотели избежать путаницы: прилагательное vert, зеленый, звучит в точности как другой термин геральдики – vair, «беличий мех». Однако остается непонятным, почему для замены они выбрали слово sinople, которое уже давно существовало во французском языке и обозначало цвет, но только не зеленый, а красный. Прилагательное sinople, вне всякого сомнения, происходит от латинских sinopis или sinopensis, образованных от названия города Синопа (современный Синоп) в Малой Азии, на берегу Черного моря. В древности возле Синопы находились глиняные карьеры, где добывали красную охру весьма высокого качества; из нее изготавливали пигменты для живописи, бытовые красители, косметические средства, бальзамы[150]. Из Синопы ценный продукт вывозили морем в другие города Римской империи, и все латинские слова, образованные от названия этого города, так или иначе связаны с красным цветом. А в современном французском языке еще существует слово sinopia – так художники называют карандаш из красной охры; рисунок, сделанный синопией, напоминает рисунок сангиной.
Так почему же слово, обозначающее красный цвет, в 1350–1380-х годах превратилось в геральдический термин, обозначающий зелень? Быть может, какой-то невежественный геральдист просто-напросто перепутал два цвета, а невнимательные коллеги, переписывая его труды, не заметили и тем самым закрепили эту ошибку? Или источник недоразумения следует искать за пределами геральдики? Увы, пока мы не в состоянии ответить на этот вопрос[151].
Геральдист Куртуа не знает прежней семантики слова sinople и употребляет его исключительно в значении «зеленый». Впрочем, это легко объяснить: он пишет свой знаменитый трактат в 1430–1435 годах, то есть почти через сто лет после этой метаморфозы. Зато он много и с удовольствием пишет о зеленом цвете и пытается представить его с наиболее выгодных сторон. В соответствии с обычаями своей эпохи он предлагает читателям выявить связи между семью геральдическими цветами и другими явлениями и понятиями, которые составляют семерку: металлами, планетами, драгоценными камнями, днями недели и добродетелями. Так, зеленый у него ассоциируется со свинцом, Венерой, изумрудом, четвергом и Силой. Последняя ассоциация несколько удивляет, если знаешь, как трудно произвести стойкую и прочную зеленую краску. Но, быть может, здесь имеется в виду сила растений? Надежда, с которой, казалось бы, надлежало ассоциировать зеленый, у Куртуа связана с белым цветом; Вера – с золотым; Милосердие – с красным; Справедливость – с синим; Осмотрительность – с черным; Умеренность – с фиолетовым. Эти аналогии еще можно понять. Но как объяснить ассоциацию зеленого цвета с четвергом? Почему на закате Средневековья четверг представляется зеленым? А понедельник – белым? Вторник – синим? Среда – красной? Трудно ответить на этот вопрос. Понедельник иногда ассоциируется с усопшими; вторник со всеми святыми; среда – с Духом Святым. С другой стороны, связь между пятницей и черным цветом вполне объяснима: это цвет Страстной пятницы, который в данном случае распространяется на все пятницы вообще[152].
Трактат Куртуа пользовался большим успехом на протяжении всего XV века. Настолько большим, что в 1480-х годах некий анонимный геральдист дописал к нему вторую часть, более подробную и развернутую, посвященную уже не цветам в геральдике и композиции гербов, а эмблематическим цветам и цветовой символике в одежде. Полное название трактата, отныне двухтомного, гласило: «Книга о гербах, цветах, эмблемах и девизах». В этом виде она также имела большой успех: впервые ее напечатали в Париже в 1495 году, а потом перепечатывали снова и снова вплоть до 1614 года. За это время ее успели перевести на несколько языков (сначала на итальянский, затем на немецкий, голландский, испанский). Ее влияние сказывалось во многих областях жизни, в частности в литературе и изобразительном искусстве. Некоторые писатели и художники в точности следовали указаниям автора и одевали своих персонажей в полном соответствии с цветовым кодом, предложенным в трактате. Другие, напротив, потешались над этой наивной, ни на чем не основанной символикой. Вот что говорит Рабле по поводу эмблематических цветов Гаргантюа: «Цвета Гаргантюа были белый и синий. Знаю: прочитав эти слова, вы скажете, что белый означает веру, а синий – твердость. ‹…› А с чего вы взяли, что белый означает веру, а синий – твердость? „Вычитали в одной залежалой книжонке, которая продается у книготорговцев под названием «Книга о гербах»“, – скажете вы. И кто же ее написал? Впрочем, кто бы это ни был, он проявил осмотрительность, не поставив на ней своего имени»[153].
В самом деле, анонимный создатель продолжения «Книги о гербах» предлагает символические цвета для каждой ситуации в жизни общества и в жизни отдельного человека; свой выбор он обосновывает «достоинствами, особенностями и значениями» этих цветов. Одни ассоциации он рекомендует, другие объявляет неприемлемыми. Зеленый цвет, который представляет собой «усладу для глаз» и «означает веселость и приятность», подобает носить людям молодым, «радостным и свободным», в память о рыцарях, некогда отправлявшихся на поиски приключений в одежде этого цвета», и юным девицам, «помолвленным, но еще не вступившим в брак». После свадьбы они будут носить зеленое только в виде «поясов, подвязок и прочих мелких вещиц». Людям пожилым не следует носить зеленое ни в каком виде, ибо это цвет молодости; их цвета – темно-красный, фиолетовый и черный. Если кто-то захочет сочетать зеленое с каким-нибудь другим цветом, пусть не берет красного и синего, ибо «синее с зеленым и зеленое с красным – сочетания весьма обыденные, и в них нет красоты». Зато «серое с зеленым – красивое сочетание цветов, а зеленое с розовым – еще красивее». В сочетании с фиолетовым зеленое означает любовную надежду, сменившуюся разочарованием; в сочетании с желтым – смятение и безумие; в сочетании с черным – мирские горести[154].
Вот лишь некоторые из значений, которыми наш автор наделяет сами по себе цвета и сочетания цветов. Его утверждения базируются не столько на житейских наблюдениях за тем, какие цвета используются в одежде и в эмблемах, сколько на умозаключениях геральдиста, ограничившего себя рамками эстетики и чистой символики. В этом смысле он ведет себя как сын своего времени.
Цвета в воображении поэта
На закате Средневековья и в ранее Новое время появляется огромное количество трудов, посвященных красоте, гармонии либо символике цветов. Многие из них так и остались в рукописях и все еще дремлют на полках книгохранилищ. Но те, что были напечатаны, в частности в Италии, стали бестселлерами. Например, любопытная книга «Del signifi cato dei colori» («О значении цветов») Фульвио Пеллегрино Морато, изданная в Венеции в 1535 году, а затем постоянно переиздававшаяся до самого конца столетия[155]; или самый известный из этих трудов – «Dialogo dei colori» («Диалог о цветах») плодовитого Людовико Дольче, друга Тициана, изданный там же в 1565 году и очень скоро переведенный на многие языки[156]. Эти две книги, как и другие, подобные им, были сочинены людьми, близкими к известным художникам, и вписываются в дискуссию, которая волновала тогда людей искусства: что важнее в живописи – рисунок или колорит? В Венеции и художники, и писатели всегда признавали главенство колорита. Морато, недавно обосновавшийся в этом городе, объясняет, что глаз важнее рассудка и что красота красок торжествует не только над совершенством линии, но даже над смыслом, который они оба призваны передать. Поэтому он рекомендует друзьям-художникам различные сочетания цветов, единственное назначение которых – доставить удовольствие глазу и чувствам. По его мнению, лучшие сочетания – черное с белым, синее с оранжевым, серое с рыжим, светло-зеленое с телесным и темно-зеленое с «сиенским коричневым».
Во Франции на рубеже XV–XVI веков спор о цветах пока ведется скорее в теоретической, чем в эстетической плоскости. Символика гербов и эмблем еще оказывает значительное влияние на изобразительное искусство и литературу. Цвета складываются скорее в своего рода язык, чем в некую гармонию. Они по-прежнему ассоциируются с пороками или добродетелями, с чувствами и душевными порывами, с возрастом человека, с классами общества, с моральными качествами или с законами жизни. Литература и живопись подчинены этим хроматическим кодам и регулируются ими[157].
Изящное стихотворение Жана Роберте (ок. 1435–1502), сочиненное в конце XV века и названное «Истолкование цветов», может служить для нас и ключом к этим кодам, и наглядной демонстрацией того, как они действуют. Автор – важный государственный чиновник; вначале он служит у герцогов Бурбонских, затем переходит на службу к королям Франции, Людовику XI, Карлу VIII, Людовику XII, и занимает различные дипломатические и административные должности. Но Жан Роберте – еще и выдающийся писатель, друг Карла Орлеанского, Жоржа Шатлена и Жана Молине, переводчик Петрарки и автор собственных поэтических произведений, принимающий участие во многих литературных событиях своего времени. Он считается одним из самых даровитых поэтов при французском дворе, которых впоследствии назовут «великими риториками»[158]. «Истолкование цветов» – не самое оригинальное из его сочинений, однако эта небольшая, искусно написанная поэма интересна для нас по многим причинам. Она состоит из десяти катренов и «посылки». В ней автор рассматривает девять цветов, формулирует их основные свойства, указывает на существующие между ними связи, напоминает о пороках и добродетелях, символами которых они являются, и в завершение описывает моральный или социальный тип, которому они соответствуют. Вот эти девять цветов в том порядке, в каком он их представляет: белый, синий, красный, серый, зеленый, желтый, фиолетовый, темно-красный и черный. Десятый, последний, катрен посвящен «пестрофиолету», который состоит из красных, черных и белых полос. Это цвет лицемеров.
Порядок, в котором представлены цвета, неслучаен: это отражение иерархии. Первый и главный из них – белый, символ смирения и скромности; за ним следует синий – цвет честности, поэтому его место рядом с белым. Красный, некогда первый среди цветов, «цвет как таковой», – в этом списке занимает всего лишь третье место: это символ победы, славы, но также и гордыни; в противоположность белому и синему, он не однозначно позитивный. Четвертое место серого может удивить того, кто не знает, что XV век – время экспансии этого цвета: зачастую он рассматривается как противоположность черному, цвету печали, и воспринимается всегда положительно, как цвет надежды[159]. Многие поэты позднего Средневековья воспели его в своих стихах, и первым из них был Карл Орлеанский, который в 1430 году, находясь в плену в Англии, написал трогательное стихотворение «Серый цвет надежды»[160].
Сразу за серым следует зеленый. Жан Роберте помещает его в центр своей палитры и воспринимает не как цвет надежды, а как цвет радости:
Зеленый: Я подобен драгоценному изумруду, Нахожу радость в моей безупречной зелени; Не следует сочетать меня с черным цветом, Я принадлежу лишь веселым людям.Уподобление зеленого цвета изумруду – конечно, верх банальности. Впервые эта ассоциация появилась в «Естественной истории» Плиния Старшего, в I веке нашей эры. Но в данном случае она более почетна, чем ассоциация с травой или листвой. Дело в том, что для людей позднего Средневековья драгоценные камни, особенно изумруд и алмаз, обладают особым обаянием. Замечание о том, что зеленый как эмблематический цвет подходит только человеку с веселым характером, тоже не содержит ничего нового: оно подразумевает, что зеленый – цвет молодой, живой, веселый, динамичный, а эти его качества всем давно известны. Но вот утверждение, что зеленое не следует сочетать с черным – это уже необычно. Впрочем, Роберте не единственный, кому это пришло в голову: его современник, анонимный автор продолжения «Книги о гербах», утверждает, что в сочетании зеленого с черным выражена вся скорбь мира. Однако ни он, ни Роберте не объясняют, в чем тут причина. Почему они считают неприемлемым сочетание зеленого и черного? Быть может, потому, что у Роберте зеленый находится в центре палитры, то есть слишком далеко от черного, чтобы эти два цвета могли расположиться рядом или дополнить друг друга? Или, напротив, с точки зрения геральдики и символики зеленый слишком близок к черному? Трудно сказать: символика цветов в раннее Новое время выстроена по принципам, которые не имеют ничего общего с логикой современного человека.
Четыре цвета, следующие за зеленым, имеют скорее негативную символику, нежели позитивную. Желтый, символ наслаждения и беззаботности, – двойственный, чтобы не сказать двусмысленный цвет. Фиолетовый, который носят изменники вроде Ганелона, предателя из «Песни о Роланде» («Его носил изменник Ганелон»), – презренный цвет. Жан Роберте, как большинство авторов его времени, считает каждый из этих цветов результатом смешения двух других: желтый – это смесь красного и белого; фиолетовый – смесь черного и синего. Нам это кажется странным, но не надо забывать, что на рубеже XV и XVI веков люди не знали о спектре (и не будут знать еще полтора столетия, до открытий Ньютона) и базовой классификацией цветов для них оставалась цветовая шкала Аристотеля: белый-желтый-красный-зеленый-синий-фиолетовый-черный. Зеленый, как и в стихотворении Роберте, находится в центре, а желтый – между белым и красным. Так что поэт здесь не придумал ничего нового.
За фиолетовым следует «дубленый», темно-красный или темно-рыжий цвет: анонимный автор второй части «Книги о гербах» считает его «самым уродливым из цветов». Роберте не заходит так далеко, но называет «дубленый» изменчивым и нестойким цветом, вызывающим чувство неуверенности и тревоги («В душе рождаю тайную тревогу»). Наконец, черный, занимающий предпоследнее место, перед диковинным «пестрофиолетом», воспринимается исключительно в негативном плане: он неприятный, печальный, мрачный, жестокий, он – знак траура, гнева или меланхолии (которая в те времена считалась болезнью), и его никто не любит. А ведь еще недавно черный считался величественным и роскошным, он был на пике моды при европейских дворах. Очевидно, отношение к нему успели пересмотреть.
Жан Роберте завершает свою маленькую поэму традиционной «посылкой»: он предлагает каждому феодальному правителю выбрать себе эмблематические цвета в соответствии с его рекомендациями и сообщает, что для себя выбрал белый и синий… как Рабле для Гаргантюа несколько десятилетий спустя[161].
Глава 4 Второстепенный цвет (XVI–XIX века)
Обесценение зеленого, уже наметившееся на исходе Средневековья, продолжается и в раннее Новое время. И прежде всего в моральном и религиозном плане: в предписаниях об одежде, исходящих от светских властей, и в морализаторских проповедях вождей Реформации говорится, что зеленый – цвет легкомысленный, аморальный, и каждый порядочный горожанин, каждый добрый христианин должен от него воздерживаться. Уважения достоин только зеленый цвет растительности, ибо он есть творение Господа; остальные проявления зеленого в большей или меньшей степени заслуживают осуждения. Эта же тенденция прослеживается и в изобразительном искусстве: многие художники либо вообще отказываются от зеленого, либо стараются воздерживаться от него, оставляя зеленые тона для пейзажей и для жанровых сцен; в картинах серьезного содержания, на религиозные или мифологические темы зеленого теперь немного, и он никогда не располагается в центре, а лишь по краям. И наконец, наука: на смену прежнему цветовому порядку, унаследованному от Античности, приходят новые классификации, в которых зеленый перестает быть одним из базовых цветов и становится второстепенным; более того, это даже не самостоятельный цвет, а смесь, получаемая в результате соединения синего и желтого. Этот новый взгляд ученых на хроматическую генеалогию зеленого – результат понижения его статуса в повседневной жизни, а также в мире искусства и символики.
К зеленому нескоро вернется былой почет: только в середине XVIII века зарождающийся романтизм усмотрит в нем некоторые достоинства. В это время вкусы у людей изменятся, их потянет на природу, им понравится гулять в полях и в рощах, в чаще леса, по тропинкам на склонах гор. Станет модным собирать гербарии и писать пейзажи, меланхолия из болезни превратится в добродетель, а мятущиеся души найдут в зеленом цвете и растительности целебный покой и новые чаяния.
Оттенки протестантской морали
Наследница законов против роскоши и религиозных морализаторских движений позднего Средневековья, Реформация очень рано объявляет войну цветам, которые она считает слишком резкими или слишком яркими, и во всех областях жизни отдает приоритет тройке цветов – черному, белому и серому; эти цвета достойней и выше, чем «папистская полихромия», и лучше сочетаются с новой цивилизацией печатной книги и гравюры, которая в этот момент как раз переживает расцвет[162].
В первое время протестантское цветоборчество затрагивает только храмы. По мнению вождей Реформации, цвет занимает в церкви непомерно много места: надо принять меры, чтобы его там стало меньше или не осталось вообще. В своих проповедях, вслед за библейским пророком Иеремией, который осыпал упреками царя Иоакима, они осуждают тех князей, кто строит храмы, похожие на дворцы, «и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красной краскою»[163]. Главной их мишенью становится именно красный цвет, в Библии выполняющий роль Цвета как такового, а в XVI веке ставший главной эмблемой роскоши папского двора. Однако есть и другие нелюбимые цвета – желтый и зеленый. Их необходимо изгнать из храма. И начинается преобразование церковных интерьеров, которое перерастает в вакханалию разрушения (в частности, уничтожаются витражи). Стены церквей должны стать монохромными: их освобождают от всего лишнего, оголяют камень или кирпич, росписи забеливают известью либо закрашивают однотонными красками, черной или серой. Цветоборчество здесь идет рука об руку с иконоборчеством[164].
Еще более жесткую позицию вожди Реформации занимают по отношению к богослужебным цветам. В ритуале католической мессы цвет играет первостепенную роль. Церковная утварь и облачения священников не только выполняют функцию, обусловленную их местом в системе богослужебных цветов, они гармонично сочетаются со светильниками, с архитектурным декором, с полихромной скульптурой, с миниатюрами в Библиях и часословах и со всеми драгоценными украшениями храма: в итоге получается настоящий спектакль, герой которого – цвет. Теперь все это должно исчезнуть: «храм – не театр» (Лютер), «служители Церкви – не фигляры» (Меланхтон), «богатство и красота обрядов препятствуют искреннему богопочитанию» (Цвингли), «лучшее украшение храма – это слово Божие» (Кальвин). Таким образом, система богослужебных цветов упраздняется. Даже зеленый, который выполнял роль будничного цвета, признан неуместным. Он должен уступить место черному, белому и серому.
В результате христианский храм внутри становится строгим и почти лишенным цвета, как синагога. Однако наиболее сильное и длительное влияние Реформация оказала даже не на убранство храмов, а на тенденции в одежде. В глазах ее вождей одежда – нечто постыдное и греховное. Ведь она связана с грехопадением: Адам и Ева были нагими, когда жили в раю, а затем, ослушавшись Бога, будучи изгнаны из рая, они сшили себе одежду, чтобы прикрыть наготу. Одежда – символ их проступка, и ее главнейшая функция – напоминать Человеку о его греховности. Вот почему одежда всегда должна быть строгой, простой, неприметной, соответствующей климату и приспособленной для работы. Все варианты протестантской морали выражают глубокое отвращение к роскоши в одежде, к изыскам и украшениям, к переодеваниям, к слишком часто меняющейся или эксцентричной моде. В итоге внешний вид протестантов приобрел необычайную строгость и суровость: их одежду отличали простота покроя, тусклые цвета, отказ от любых аксессуаров и любых ухищрений. Вожди Реформации сами подают пример аскетизма как в своей повседневной жизни, так и на своих живописных или гравированных портретах. Все они позируют художникам в темной, строгой, одноцветной одежде.
Из протестантского гардероба изгнаны все яркие цвета, признанные «непристойными»: прежде всего красный и желтый, но также и все оттенки розового и оранжевого, все оттенки зеленого и даже фиолетового. Зато в большом ходу темные цвета: все оттенки черного, серого и коричневого. Белый, цвет чистоты, рекомендуется носить детям, а иногда и женщинам. Синий цвет считается допустимым, но только тусклый, приглушенный. И напротив, пестрая или просто разноцветная одежда, которая, как выразился Меланхтон в своей знаменитой проповеди 1527 года, «превращает людей в павлинов»[165], – это объект ожесточенных нападок. Особую неприязнь, повидимому, вызывает зеленый: это цвет шутов и фигляров, а также попугаев, птиц болтливых и бесполезных.
Изобразительное искусство, в частности живопись, тоже начинает отказываться от ярких цветов. Вне всякого сомнения, палитра художников-протестантов существенно отличается от палитры католиков. Иначе и не могло быть: ведь в XVI–XVII веках ее формируют высказывания вождей Реформации об изобразительном искусстве и об эстетическом восприятии; а высказывались они на эту тему в разных ситуациях и в разные годы по-разному (например, Лютер). Возможно, наибольшее количество замечаний или указаний, касающихся изобразительного искусства и цвета, мы находим у Кальвина, который, по-видимому, относится к зеленому цвету скорее благожелательно.
Кальвин не против изобразительного искусства, но считает, что оно должно иметь исключительно светскую тематику. Задача искусства – наставлять людей либо восславлять Бога, изображая не самого Творца (что недопустимо и чудовищно), а Творение. Соответственно, художник должен избегать пустых и легковесных сюжетов, склоняющих к греху или разжигающих похоть. Искусство не обладает самостоятельной ценностью; оно дается нам Богом, дабы мы научились чтить Его. Поэтому живописец должен в своей работе соблюдать умеренность, стремиться к гармонии форм и тонов, вдохновляться окружающим миром и воспроизводить увиденное. Самые прекрасные цвета – это цвета природы; Кальвин отдает предпочтение синим и голубым тонам неба и воды, а также зеленым тонам растений, ибо они созданы самим Творцом: «от них исходит благодать»[166]. Итак, зеленый цвет, изгнанный из храма, недопустимый в одежде и в обстановке повседневной жизни, все же имеет право на существование: это подтверждает один из вождей Реформации. А живописцы-кальвинисты, которые вообще отличаются строгостью и сдержанностью в подборе красок, предпочитая темные тона, вибрации светотени и эффект гризайли, уделяют зеленому больше места, чем живописцы-католики. Я говорю не о великих мастерах, таких как Рембрандт или Франс Хальс, а о менее известных художниках Северной Европы, тех, кто стремится передать на полотне или на створке алтарной картины торжественную тишину природы и гармонию растительного мира.
Зеленый цвет живописцев
С какого момента художники Европы завели обычай смешивать синюю краску с желтой, чтобы получить зеленую? Вопрос, казалось бы, простой, однако ответить на него нелегко, тем более что специалисты по истории искусства, по-видимому, никогда им не задавались. Возможно, они решили, что этот способ получения зеленой краски, которому в наше время учат еще в детском саду, был известен с незапамятных времен. Но это не так. Ни один рецепт изготовления красок, ни один документ, ни одно изображение или произведение искусства Античности и раннего Средневековья не свидетельствует о том, что люди того времени смешивали синий и желтый для получения зеленого: в текстах об этом нет ни слова, а результаты анализов, проведенных в лабораториях, почти всегда дают отрицательный результат. Зато в XVIII веке об этом способе знали все: он упоминается в большинстве книг с рецептами по изготовлению красок и трактатов о живописи, а лабораторные анализы пигментов подтверждают, что многие художники действительно пользовались этими рецептами. Но создается впечатление, что пользоваться ими они начали сравнительно недавно: в 1740-е годы несколько французских художников (например, Удри) резко осуждали тех своих коллег по Королевской академии живописи, которые, вместо того чтобы работать с традиционными зелеными пигментами (зеленой глиной, малахитом, искусственными окисями меди), просто-напросто смешивают синюю краску с желтой. Они считали этот способ чересчур легким, противоестественным и недостойным истинного художника[167].
Однако Удри и его единомышленники не выражают общее мнение, их позицию разделяет только меньшинство. Без сомнения, уже в предыдущем столетии во Франции и в соседних странах большинство живописцев стали получать зеленые тона, смешивая синее с желтым[168]. Проблема в том, чтобы выяснить, когда этот способ, к которому художники пришли случайно, путем проб и ошибок, стал повсеместным и общепринятым. Придется ли ждать появления Исаака Ньютона, его опытов с призмой и открытия цветового спектра, чтобы такая практика была признана возможной также и с точки зрения теории?[169] Когда в 1665–1666 годах молодому английскому ученому удается разложить белый солнечный луч на несколько цветных лучей, он по сути предлагает ученому сообществу новый цветовой порядок, в котором зеленый наконец займет положенное ему место между синим и желтым: фиолетовый, индиго, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный[170]. Никогда раньше, ни в одной классификации цветов зеленый не располагался на полпути между синим и желтым. Конечно, к синему он был близко, но от желтого очень далек. Так было на цветовой шкале, которую чаще всего выбирали художники позднего Средневековья, чтобы выстроить цвета в определенном порядке: белый, желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, черный[171]. При таком размещении между зеленым и желтым вклинивается красный. Поэтому теоретически не кажется целесообразным смешивать синий и желтый, чтобы получить зеленый[172]. Пока не будет открыт спектр, пока он не получит широкую известность и признание, желтый будет находиться слишком далеко от синего, чтобы между ними могла образоваться пограничная территория, которую заполнил бы зеленый.
Но тем не менее открытие спектра не может мгновенно изменить правила работы с красками, давно сложившиеся в среде художников. К тому же Ньютон проводит опыты со светом, а не с веществом: новый цветовой порядок, который он предлагает миру науки, лежит в плоскости физики, а не химии. Однако пигменты больше зависят от химии красок, чем от своих физических свойств[173]. Конечно, трудно провести четкую грань между той и другой науками, но все же пигменты и краски – это в первую очередь вещество и только во вторую – свет. А потому рискнем предположить, что на работе большинства художников открытие Ньютона сказалось очень нескоро[174]. С другой стороны, к тому времени они уже на собственном опыте убедились, что из смеси синей краски с желтой можно получить зеленую.
Дело в том, что для художников провести и воспроизвести этот эксперимент было совсем несложно. Вероятно, они начали заниматься этим даже раньше, чем красильщики, и первые попытки были сделаны еще в XII–XIII веках[175]. Тем более что зеленые пигменты, изготавливаемые традиционным способом, какой был в ходу еще у древних римлян, часто не оправдывали себя: они стоили слишком дорого (малахит, который вдобавок еще и чернеет со временем) либо плохо ложились (зеленая глина, которая из-за этого используется в основном как нижний слой), были нестойкими (растительные красители: крушина, сок ириса, сок порея) либо едкими и разрушали краски вокруг них или грунтовку под ними (искусственные окиси меди). И возникало сильнейшее искушение поискать другие материалы для зеленых красок или другие технологии их производства[176].
Самым простым способом получения зеленой краски было смешивание синей и желтой. Однако великие итальянские художники XVI века (например, Леонардо, Рафаэль, Тициан) никогда не прибегали к этому способу: сегодня, после проведения многочисленных лабораторных анализов, мы можем сказать это с уверенностью. Исключение составляют только Джованни Беллини, Джорджоне (его зеленые тона – едва ли не лучшие во всей истории живописи) и еще несколько венецианских мастеров пониже рангом[177]. Великие живописцы XV столетия, как итальянские (Пизанелло, Мантенья, Боттичелли), так и фламандские (Ван Эйк, Ван дер Вейден, Мемлинг), тоже никогда не смешивали синее с желтым, чтобы получить зеленое[178]. А вот у художников-миниатюристов дело обстояло иначе. Согласно результатам недавно проведенных анализов, некоторые из них нередко смешивали краски. И не просто накладывали на пергамент слой желтой поверх слоя синей – так они делали уже давно, – но и растирали в одной ступке или смешивали в сосуде какое-то количество желтого пигмента и столько же синего. Конечно, в то время это не могло быть общепринятой практикой, но уже не было абсолютным исключением, как показывают лабораторные исследования. Чаще всего для смешивания использовались два минеральных красителя: медная лазурь и оловянная желть; лазурит и аурипигмент; но иногда это были два красителя растительного происхождения, например вайда и церва, или один растительный, один минеральный: индиго и аурипигмент[179].
В одной книге рецептов, предназначенной как для живописцев, так и для миниатюристов, мы находим подтверждение того, что смешивание этих двух красок практиковалось с начала XV века. Ее автор, Жан Лебег, чиновник королевской канцелярии, был близок к кругу парижских художников и гуманистов своего времени. Этот сборник, сохранившийся в виде единственной рукописи[180], датируется 1431 годом, но среди собранных в нем рецептов одни созданы гораздо раньше, несколько веков назад, другие – совсем недавно, в начале XV века. Однако в книге Лебега есть рецепт, которого не было в более ранних сборниках: смесь индиго (indicum) и аурипигмента (auripigmentum). Причем в тексте уточняется, что этот метод подходит для живописи не только на пергаменте или бумаге, но также и на холсте, на дереве и на коже[181].
Это очень ценное свидетельство, однако не стоит опираться на него, выстраивая обобщающие концепции, путать умозрительные наставления из книг рецептов с реальным применением красителей в мастерских живописцев. Следует также различать чьи-то персональные навыки или случайные находки и общую тенденцию. И наконец, следует признать, что руководства по изготовлению красок, кому бы они ни были предназначены – живописцам, миниатюристам, или красильщикам, – это документы, которые с трудом поддаются датировке и изучению. И не только потому, что каждая новая книга – видоизмененная копия предыдущей (каждый раз при переписывании в текст вносятся изменения, что-то добавляется, что-то удаляется, что-то иначе истолковывается, один и тот же продукт может называться по-разному, а под одним и тем же названием могут скрываться разные продукты[182]), но еще и потому, что практические советы здесь соседствуют с аллегориями и экскурсами в область символики. В одной фразе могут содержаться и длинные рассуждения о символике цветов, и практические указания о том, как наполнять ступку или как отмывать горшок из-под краски. Кроме того, количество или пропорциональное соотношение исходных материалов часто указывается неточно, а время кипячения, настаивания или вымачивания указывается очень редко, причем так, что порой вызывает недоумение. Так, в одном рецепте конца XII века сказано, что для получения «отменной зеленой краски» надо вымачивать медные опилки в уксусе либо три дня, либо девять месяцев![183] Это типично для Средневековья: ритуал важнее результата, а критерий качества выше, чем фактор количества. В средневековой культуре «три дня» и «девять месяцев» по сути выражают одну и ту же идею: ожидание какого-либо события или вынашивание ребенка.
И рукописные, и печатные книги рецептов, предназначенные для художников, ставят перед историком одни и те же вопросы: какую пользу могли приносить живописцам эти тексты, в которых зачастую больше абстрактных рассуждений, чем конкретных сведений, больше аллегорий, чем советов? Приходилось ли авторам самим изготавливать краски? А если нет, для кого предназначены эти рецепты? Некоторые из них длинные, другие очень короткие: можно ли из этого сделать вывод, что одни действительно использовались в мастерских художников, а другие жили самостоятельной жизнью? При сегодняшнем уровне наших знаний мы не в состоянии ответить на этот вопрос. Однако мы не можем не принимать во внимание тот факт, что до XVIII века между книгами, написанными художниками или для художников, и произведениями живописи было мало общего. Самый известный пример – Леонардо да Винчи, автор незаконченного трактата о живописи, состоящего из заимствований и теоретических рассуждений, а также картин, в которых никак не учитываются рекомендации этого трактата[184].
Так или иначе, получать зеленую краску путем смешивания синей и зеленой великие художники начали относительно поздно, позже, чем миниатюристы и живописцы рангом пониже. Так, в XVII веке два таких великих мастера, как Пуссен и Вермеер, еще не прибегают к этому методу и получают зеленые пигменты вполне традиционным способом. Они широко используют малахит – карбонат меди естественного происхождения, дальний родственник медной лазури, – и разные виды зеленых земель – глину с высоким содержанием гидроокиси железа, добываемую на Кипре или в окрестностях Вероны. Пуссен любит еще искусственную зеленую краску, получаемую путем вымачивания медных опилок в кислоте, растворе извести или уксусе: такой пигмент дает зеленые тона изумительной красоты, но он непрочный, едкий и очень токсичный. Вермеер им не пользуется; ярким, насыщенным зеленым тонам он предпочитает более мягкий, сдержанный, бархатистый, утонченный колорит[185].
Вообще в XVII веке, когда многие люди, в том числе и художники, так любят рассуждать о природе света и красок (взять хотя бы Рубенса, чья мастерская в Антверпене стала настоящей лабораторией), новых пигментов появляется мало. Открытие Америки, начало оживленной колониальной торговли, появление невиданных прежде продуктов, ввозимых различными торговыми компаниями из Вест-Индии, не привели к революции в гамме зеленых тонов.
Новые знания, новые классификации
Напротив, в научном аспекте XVII столетие стало для зеленого цвета – как, впрочем, и для других цветов – эпохой великих перемен. Людей обуревает жажда знаний, они увлеченно экспериментируют, рождаются новые теории, а также новые классификации.
Грандиозные события происходят в физике, особенно в оптике, где с XIII века не было серьезных сдвигов. Появляется много теоретических работ о свете, и, как следствие, о цветах, об их природе, вариантах их классификации, их восприятии человеком. Однако в это время ученые все еще придерживаются традиционной аристотелевской (или приписываемой Аристотелю) цветовой шкалы, о которой мы уже говорили: белый, желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, черный. Белый и черный обладают полноценным хроматическим статусом; зеленый не занимает места между желтым и синим, но и не является антагонистом красного; а фиолетовый чаще считается смешением синего и черного, чем красного и синего. До спектра еще далеко, хотя многие ученые ищут возможность отойти от устаревшей классификации. Некоторые предлагают заменить линейную цветовую шкалу кольцеобразной; другие – оригинальными, зачастую очень сложными древовидными схемами. Одним из самых смелых стал вариант, предложенный знаменитым ученым-иезуитом Атанасиусом Кирхером (1601–1680), специалистом по разным отраслям науки, интересовавшимся всем, в том числе и проблемами цвета. Его диаграмма была представлена в капитальном труде Кирхера, посвященном свету, – «Ars magna lucis et umbrae» (Рим, 1646). Диаграмма Кирхера представляет собой нечто вроде генеалогии цветов, имеющей вид семи полукружий разного размера, расположенных внахлест[186].
Некоторые исследователи подхватывают и теоретически развивают находки художников и ремесленников. Так, парижский врач Луи Саво беседует с живописцами, красильщиками, мастерами витражей, расспрашивает их, а затем строит на этом материале, полученном эмпирическим путем, свои научные гипотезы[187]. А фламандский натуралист Ансельм Де Боот, которого принимают при дворе императора Рудольфа II и который никогда не упускает случая осмотреть императорскую кунсткамеру, ставит в центр своих исследований серый цвет и доказывает, что для его получения достаточно смешать белое и черное (так уже много веков поступают художники)[188]. Но самые ясные и четко сформулированные теории, оказавшие наибольшее влияние на ученых последующих десятилетий, выдвинул в 1613 году Франсуа д’Агилон, друг Рубенса, иезуит и автор работ по разным вопросам науки. Д’Агилон делит цвета на «крайние» (белый и черный), «срединные» (красный, синий, желтый) и «смешанные» (зеленый, фиолетовый и оранжевый). На созданной им удивительно изящной диаграмме, напоминающей схемы гармонии в музыке, он показывает, как одни цвета, сливаясь вместе, порождают другие[189].
Художники, со своей стороны, без устали экспериментируют с красками. Путем проб и ошибок они пытаются найти способ получать множество разных тонов и нюансов из смеси нескольких основных красок: либо смешивают пигменты до того, как нанести на полотно, либо накладывают мазки разных цветов один поверх другого, либо помещают их рядом, либо используют подкрашенный растворитель. По сути во всем этом нет ничего нового, но в первой половине XVII века исследования, эксперименты, гипотезы и дискуссии достигают такой интенсивности, какой не знали никогда прежде. По всей Европе художники, врачи, аптекари, физики, химики и красильщики бьются над одними и теми же вопросами: сколько «базовых» цветов необходимо для того, чтобы создать все остальные? В каком порядке их выстроить, по каким принципам комбинировать, по каким правилам смешивать? И наконец, как их называть? В этом последнем случае все европейские языки предлагают множество вариантов: «первозданные», «исконные», «главные», «простые», «элементарные», «природные», «чистые», «основные». В текстах, написанных по-латыни, чаще всего встречаются термины colores simplices и colores principales. С французским языком дело обстоит сложнее, и в текстах часто возникает путаница. Например, термин «чистый цвет» может быть истолкован двояко: и как основной, и как естественный, то есть без осветляющей примеси белого или затемняющей примеси черного. В конце XVII века появится определение «основной», которое окончательно закрепится только через два столетия.
Следующий вопрос: сколько их, этих базовых цветов? Три? Четыре? Пять? Тут мнения исследователей существенно расходятся. Некоторые обращаются к далекому прошлому, к античной традиции, в частности к Плинию Старшему: в его «Естественной истории» указаны всего четыре основных цвета – белый, красный, черный и загадочный sil (silacens), идентифицируемый то как особый оттенок желтого, то как некий оттенок синего[190]. Установить значение этого термина, очень редкого в классической латыни, исключительно трудно, поскольку Плиний больше говорит о пигментах и красящих веществах, чем о собственно цветах. Вот почему другие авторы в своих исследованиях опираются не на «Естественную историю» и не на Античность вообще, а на опыт работы художников своего времени, утверждая, что существует пять «первозданных» цветов: белый, черный, красный, желтый и синий. Позднее, когда Ньютон предъявит научные доказательства того, что белый и черный не входят в число хроматических цветов, большинство ученых признают базовыми оставшиеся три: красный, синий и желтый. Это еще не теория основных и дополнительных цветов, но это уже современная триада красок для субтрактивного синтеза цвета в полиграфии, которая позволит Жакобу Кристофу Леблону в 1720–1740-х годах изобрести способ печатания полихромных гравюр[191], а другим изобретателям, спустя еще несколько десятилетий, – усовершенствовать процесс печати и воспроизведения цветных изображений.
Но вернемся в XVII век. Вне зависимости от того, сколько цветов считаются базовыми, три или пять, зеленый в их число не входит, и это уже нечто совершенно новое. Какие бы схемы или диаграммы ни предлагались прежде для систематизации цветов, зеленый всегда присутствовал в них на тех же правах, что и красный, желтый и синий. Такой порядок действовал во всех областях жизни, связанных с цветом. Теперь будет по-другому: зеленый, который большинство художников и красильщиков получают путем смешивания синего и желтого, превратился во «второстепенный» цвет (термин «дополнительный цвет» появится только в XIX веке). Эту новую точку зрения вскоре разделит большинство живописцев и ученых. Ирландский исследователь Роберт Бойль (1627–1691), химик с многосторонними интересами, в своем трактате о цветах «Experiments and Considerations Touching Colours» («Опыты и соображения касательно цветов»), вышедшем в 1664 году, за два года до открытия спектра Ньютоном, высказывает ее очень ясно и четко:
Существует очень небольшое число простых, или «первозданных», цветов, каковые в разнообразных сочетаниях некоторым образом производят все остальные. Ибо несмотря на то что живописцы могут воссоздавать оттенки – но не всегда красоту – бесчисленных цветов, которые встречаются в природе, я не думаю, что для выявления этого необычайного разнообразия им могут понадобиться иные цвета, кроме белого, черного, красного, синего и желтого. Этих пяти цветов, различным образом соединенных – а также, если можно так выразиться, разъединенных, – вполне достаточно, чтобы создать большое количество других, настолько большое, что люди, незнакомые с палитрами художников, даже не могут себе этого представить[192].
К 1660-м годам точка зрения Бойля завоевывает все больше сторонников. Есть только пять базовых цветов, и зеленый в их число не входит. В хроматической генеалогии он переместился на второй или даже третий план, и позволительно спросить себя, было ли обесценение зеленого в глазах художников и ученых причиной или же, наоборот, следствием его обесценения в повседневной жизни, в материальной культуре и в символике. В конце XVII столетия зеленый занимает все более и более скромное место буквально во всем: в одежде, в убранстве домов, в гербах и эмблемах, в поэзии и литературе. Он вступает в новую фазу своей истории, фазу отступления на всех фронтах, которая продлится очень долго и закончится лишь в XX веке. Отныне зеленый становится «второстепенным» цветом.
Банты на костюме Альцеста и зеленый цвет в театре
В XVII веке хроматические эксперименты художников и открытия ученых в этой области еще не оказывают сиюминутного воздействия на быт простых смертных. Для этого придется дожидаться начала следующего века, века Просвещения, когда научно-технический прогресс получит свое естественное продолжение в материальной культуре, будет непосредственно влиять на повседневную жизнь людей. А сейчас привычки и вкусы широкой публики меняются медленно. Это относится и к моде на цвета в одежде. При королевских и княжеских дворах мода на черное продержится до середины XVII столетия. По крайней мере, в парадном костюме: будничная одежда все же немного ярче. Цвета в женской одежде разнообразнее, чем в мужской, однако зачастую она выдержана в темных тонах. В частности, зеленый почти всегда бывает темным. Некоторые государи выказывают пристрастие к зеленому, но этого недостаточно, чтобы он вошел в моду. Например, Генрих IV, король Франции с 1589 по 1610 год, любит одеваться в зеленое, как, впрочем, и его предшественник на троне, Генрих III, а также его сын и преемник Людовик XIII. Однако на общеевропейской тенденции это никак не отразилось.
Добрый король Генрих IV во Франции получил прозвище «Vert Galant», буквально «Зеленый шалун». Но оно не связано с цветом одежды. Король получил его уже после смерти, когда оно успело изменить смысл и стало звучать почти как комплимент: «Сердцеед». А изначально, в среднефранцузском языке vert galant означало: разбойник, который прячется в лесу, грабит путников и нападает на женщин. Позднее смысл выражения смягчился, оно приобрело шутливый оттенок – «волокита», «юбочник», «дамский угодник». Определение «зеленый» (vert) здесь намекает на сексуальную силу и любовные безумства. В символике любви синий цвет часто означает целомудрие и верность, а зеленый – непостоянство и похоть. Возможно, здесь также прослеживается связь с маем, месяцем едва распустившейся листвы и зарождающегося чувства. Во многих регионах Европы был обычай: в первые дни мая влюбленный юноша сажает перед дверью или перед окном своей милой молодое деревце; когда он и она соединятся и пойдут по жизни вдвоем, деревце будет расти и крепнуть вместе с их любовью[193].
Людовик XIII, подобно своему отцу Генриху IV, любил зеленый цвет, а вот кардинал Ришелье этот цвет ненавидел. Всесильный министр был очень суеверным человеком; он утверждал, что зеленый приносит несчастье, и беспокоился, когда король надевал что-то зеленое[194]. Надо сказать, в его время так думал не он один. Так, Катрин де Вивон, маркиза де Рамбуйе, основательница кружка, в котором родилась прециозная литература, регулярно устраивает приемы в своей знаменитой голубой гостиной, однако не допускает туда посетителей, одетых в зеленое. На ее взгляд, зеленый – печальный и мрачный цвет. В особняке маркизы, где собравшиеся наслаждаются изысканной беседой, нередко заходит речь о цветах: синий они называют «неистово прелестным», красный – «устрашающе великолепным», розовый – «дерзостно пленительным», а зеленый – «ошеломительно противным»[195]. Таково мнение прециозников и прециозниц, которые обожают вычурные сравнения и гиперболы, а обычную манеру выражаться считают вульгарной.
У многих поэтов и романистов (Вуатюра, Скаррона, Фюретьера), а также остроумных людей того времени зеленый вызывает раздражение: это цвет разбогатевших мещан, которые жаждут попасть в высшее общество, но не умеют себя вести, или неотесанных, невежественных провинциалов, которые неуклюже пытаются подражать столичной моде. Если во Франции 1630–1680-х годов на сцене появляется герой в зеленом, часто это нелепый, бурлескный персонаж, вызывающий смех у публики.
Иногда автор пользуется этим нехитрым приемом, чтобы выразить очень важную и тонкую мысль. Замечательный пример – пьеса Мольера «Мизантроп», впервые представленная в театре Пале-Рояль в июне 1666 го да. Главный герой, Альцест, обрушивается с беспощадной критикой на великосветские нравы, лицемерную вежливость, сделки с совестью, злоязычие, непостоянство в чувствах и всеобщую посредственность. По правде говоря, создается впечатление, что он ненавидит все человечество. Тем не менее он посещает салон бездушной и черствой кокетки Селимены и пытается за ней ухаживать. Он трогателен и одновременно смешон, как его костюм, который в пьесе описывается несколько раз: серый с зелеными бантами.
Об этих бантах было сказано и написано очень много, а их цвет породил множество гипотез. Некоторые комментаторы усмотрели в этом аксессуаре не более чем комичную деталь, призванную убедить зрителя, что перед ним – карикатурный персонаж. Они указывали на то, что у большинства смешных героев Мольера в костюме есть какая-то деталь зеленого цвета. Это и господин Журден, разбогатевший мещанин, который изображает из себя дворянина; и господин де Пурсоньяк, крестьянин-выскочка, на свою беду приехавший в Париж; и Арган, мнимый больной, решивший выдать свою дочь за карикатурного лекаря Тома Диафуаруса; и Сганарель, лекарь поневоле, одураченный женой и избитый собственными лакеями. В одежде этого последнего, помимо зеленого цвета, присутствует еще и желтый; таким образом, он появляется перед зрителями в традиционном костюме шута. Но Альцест все же не шут: резкость его манер и бескомпромиссность взглядов вызывают скорее раздражение, чем смех, а зеленые банты лишь выдают в нем чудака.
Другие комментаторы полагают, что зеленый цвет в данном случае выбран за его старомодность. Альцест одет не по современной моде, а так, как одевались одно или два поколения назад. Не только его манеры и чувства, но и его внешний облик – из другой эпохи: его шансы увлечь Селимену равны нулю. Действительно, в 1666 году, когда был написан «Мизантроп», в зеленое не одевается уже никто – ни придворные, ни дворяне в провинции, ни даже мещане. По-видимому, его носили раньше (да и то не все и не всюду), в 1620–1630 годах[196], но сейчас эта мода прочно забыта. А следовательно, сейчас зеленый костюм может вызвать лишь улыбку. Дело не только в том, что зеленый устарел, утверждают комментаторы, но и в том, что его социальный статус резко понизился. «Мизантроп» – единственная пьеса Мольера, действие которой происходит в кругу аристократии. Салон Селимены посещают несколько маркизов, да и сам Альцест – дворянин. Однако он носит костюм с бантами плебейского зеленого цвета: это не просто смешно, это еще и неуместно. В XVII веке одного цветового вкрапления в одежде человека достаточно, чтобы окружающие поняли, к какому классу, какой касте, среде или религии он принадлежит. В соседних странах – Англии, Испании, Италии – это проявляется еще сильнее, чем во Франции: там зеленый стал уже даже не плебейским, а крестьянским цветом.
Роль цвета как маркера социальных различий четко прослеживается в литературных произведениях, и в итоге возникает своего рода код. Этим кодом, возможно, и пользовался Мольер, иногда намеками, иногда напрямую. Так, в «Дон Кихоте» Сервантеса главный герой, гораздо более безрассудный и экстравагантный, чем Альцест, носит старинные рыцарские доспехи, разные части которых соединены зелеными лентами; помимо того что эти ленты выглядят нелепо, их еще и невозможно развязать; и Рыцарю печального образа приходится ночевать в трактире в полном рыцарском вооружении.
Каждая из этих гипотез по-своему обоснована, они не исключают, а, наоборот, подкрепляют друг друга, превращая мизантропа с зелеными бантами в забавного и трогательного чудака. Но есть одна версия, которая мне кажется малоправдоподобной, хотя ее выдвигают достаточно часто: зеленый, говорят ее сторонники, был любимым цветом Мольера. Стены нескольких комнат его парижской квартиры будто бы были обтянуты зелеными обоями, а обе его спутницы жизни, Мадлен Бежар, затем Арманда Бежар, носили зеленые платья. Мольер, игравший Журдена, господина де Пурсоньяка, Сганареля и Аргана, будто бы сам выбрал для этих ролей зеленый костюм. И даже умер в таком костюме, когда 17 февраля 1673 года играл Аргана в «Мнимом больном». Пусть так. Но достаточно ли этого, чтобы объяснить зеленые банты Альцеста, быстро ставшие эмблематическими для конкретной роли, конкретной пьесы, конкретного цвета? Я так не думаю, но, разумеется, не могу считать мою точку зрения единственно верной, поскольку в данном случае все мы имеем дело не с фактами, а лишь с предположениями.
Сегодня нам трудно назвать причины, определявшие в прошлом выбор одежды того или иного цвета, и это относится не только к театру и литературе, но также к произведениям изобразительного искусства. И даже к общественной жизни, к одежде, которую носили реальные люди. Долгое время историки не проявляли должного внимания к костюму и связанным с ним обычаям и традициям. Они относили эту область к «истории быта», которой, по их мнению, могли заниматься лишь дилетанты, либо ограничивались археологическим изучением форм и фасонов, а цвета полностью игнорировали. К счастью, вот уже несколько десятилетий, как история костюма, под влиянием социологии и антропологии, превратилась в настоящую историческую дисциплину, определившую для себя новую проблематику, выработавшую новые методы и рассматривающую традиции и обычаи в одежде как немаловажный аспект истории общества. Это, безусловно, отрадный факт. Остается только пожелать, чтобы в будущем историки больше не оставляли проблемы цвета в стороне. При всем богатстве документального материала и важной роли цвета во всех социальных кодах количество работ на эту тему остается несоизмеримо малым. Это касается исследований, посвященных не только XVII веку, но и любой другой эпохе.
Суеверия и сказки
Давайте пока останемся в театре и поговорим о страхе, который вызывает у сегодняшних актеров зеленый цвет. Он здесь под запретом: служители Мельпомены не только отказываются надевать зеленые костюмы, но и требуют, чтобы на сцене не было ничего зеленого, ни драпировок, ни мебели, ни мелких предметов; если не изгнать зеленый, он принесет несчастье всему и всем – спектаклю, пьесе, актерам. Не забывайте, зеленый цвет когда-то сгубил самого Мольера!
Это суеверие уходит корнями в далекое прошлое. Оно было отмечено во Франции еще в эпоху романтизма: когда в 1847 году в Париже репетировали пьесу Альфреда де Мюссе «Каприз», одна знаменитая актриса привела автора в бешенство, наотрез отказавшись надеть зеленое платье, в котором он мечтал увидеть свою героиню Матильду. Он даже пригрозил, что заберет пьесу из Комеди-Франсез[197]. Как утверждают многие историки театра, причина такого предубеждения – в особенностях театрального света той эпохи. Лампы, которые использовались тогда для освещения сцены, оставляли в полутьме драпировки и костюмы этого цвета. Вот почему его не любили актеры, а тем более актрисы: в зеленом костюме нельзя было привлечь к себе внимание зрителей. Это, конечно, так, но, если вдуматься, неприязнь людей театра к зеленому цвету зародилась гораздо раньше. По-видимому, она существовала еще в шекспировской Англии: некоторые актеры не хотели носить на сцене костюм шута – зеленый или зеленый с желтым (например, если нужно было играть Основу в «Сне в летнюю ночь»[198]). Так что в 1600 году у актеров уже успело сформироваться твердое убеждение: зеленый на сцене приносит несчастье.
Возможно, однако, что нам придется заглянуть в еще более далекую от нас эпоху – в позднее Средневековье, когда перед зрителями разыгрывались мистерии. Согласно легенде, несколько актеров умерли один за другим после того, как исполнили роль Иуды, который на сцене традиционно был одет в зеленый, желтый либо желтый с зеленым костюм[199]. В те времена проблема была не в свете, а в красках. Как мы уже знаем, окрасить ткань в глубокий, насыщенный зеленый цвет долго оставалось очень трудной задачей. Но театральные костюмы должны быть яркими, бросающимися в глаза, чтобы публика легко узнавала персонажей. Возможно, из этих соображений обычные растительные пигменты, дававшие серовато-зеленые или блекло-зеленые тона, в какой-то момент решили заменить медянкой, или уксуснокислой медью, эффективным, но чрезвычайно ядовитым красителем. Драпировки и одежда, скорее покрашенные сверху, чем окрашенные, приобретают ослепительно яркий зеленый цвет, но медянка оставляет вредные испарения и твердые частицы, которые могут вызвать удушье и даже привести к смерти. Вероятно, произошло несколько трагических случаев, оставшихся без объяснения. Отсюда и устрашающая репутация, которую приобрел зеленый цвет среди актеров, и его последующее изгнание со сцены.
При всем при этом запрет на зеленое – лишь одно из многих табу, существующих в театре. Во Франции актерам не следует произносить некоторые слова: веревка, молоток, занавес, пятница. Пятница вдобавок еще и день, когда выходить на сцену очень опасно. В Англии «Макбет» давно уже считается проклятой пьесой. С ней связано множество запретов (в частности, нельзя произносить ее название, надо говорить «шотландская пьеса Уильяма Шекспира»). В Италии со сцены изгнан не зеленый, а фиолетовый цвет, поскольку он часто ассоциируется со смертью. В Испании тоже существует подобный запрет, но он касается желтого; вероятно, тут сказалось влияние тавромахии – матадор выступает в красной накидке с желтой подкладкой: если бык нанесет ему рану, желтая ткань станет его саваном.
Таким образом, нелюбовь к зеленому цвету у людей театра следует рассматривать не как единичный случай, а как часть целого комплекса суеверий и запретов, историю которого еще только предстоит написать. В частности, хотелось бы найти свидетельства с точной датировкой, чтобы выстроить факты в хронологическом порядке[200]. Тем более что театр – не единственное место, где живут суеверия, связанные с зеленым цветом. Так, зеленый долго оставался нежеланным на борту корабля, поскольку считалось, что он притягивает бурю и молнию[201]. Вероятно, именно поэтому зеленого нет в международном своде морских сигналов, который формировался с конца XVII по середину XIX века. По этой же причине в 1673 году появился странный эдикт Кольбера, предписывавший морским офицерам уничтожать любой корабль, если его корпус будет полностью или хотя бы частично зеленого цвета[202]. В эти же годы Мишель Летелье, государственный секретарь, а затем канцлер, возможно, самый могущественный человек во Франции после короля, испытывает такой страх перед зеленым, что изгоняет его из всех своих резиденций, меняет цвет фамильного герба (на котором прежде были изображены три ящерицы на зеленом поле) и запрещает ношение зеленой формы во всех войсках, сражающихся под знаменами Людовика XIV, в том числе и в иностранных полках[203]. Его сын, маркиз де Лувуа, военный министр, отменит этот запрет, а также восстановит изначальный зеленый цвет герба Летелье.
Но зеленый не всегда воспринимается как цвет, приносящий несчастье. Порой ему приписывают прямо противоположное свойство: способность отгонять силы зла. Так, в Германии и Австрии с незапамятных пор вошло в обычай красить двери хлева в зеленый цвет, чтобы защитить скот от молнии, ведьм и злых духов. Во многих регионах Западной Европы (Баварии, Португалии, Дании, Шотландии) было принято зажигать зеленые свечи, чтобы отгонять бурю и нечистую силу. А по мнению жителей других регионов, зеленый, наоборот, притягивает бурю. Таким образом, зеленый в народных верованиях имеет двоякое значение: он может быть и губительным, и спасительным[204]. Эта амбивалентная символика зеленого наблюдается и в современную эпоху. В наши дни в Скандинавии, Ирландии и на значительной части территории Германии найдется немало людей, твердо верящих в то, что зеленые плащи и зонты надежнее защищают от дождя, чем плащи и зонты другого цвета. А в деревнях на западе Франции до сих пор не принято приходить на свадьбу в зеленом: это наверняка повредит новобрачным или их потомству. Также не рекомендуется подавать на свадебный стол зеленые овощи – кроме артишока, который считается талисманом (и афродизиаком), – и даже упоминать в разговоре о чем-то зеленом[205].
Такое же двойственное значение зеленый цвет имеет и в волшебных сказках, литературном жанре, который в XVII веке был если и не изобретен, то, во всяком случае, существенно обновлен и к тому же пользовался огромной популярностью. Конечно, в сказках не так часто обозначаются цвета, зато эти обозначения всегда очень важны. Зеленый встречается реже, чем белый, красный и черный: это цвет сверхъестественных существ, в частности фей. Во многих регионах Европы еще и сейчас их называют «зелеными дамами» (Die grünen Damen, Th e green fairies). Этому может быть несколько причин: либо у них зеленая одежда или обувь, зеленые глаза или волосы (как у средневековых ведьм), либо они живут среди зелени, которая напоминает о том, что их происхождение тесно связано с жизненными циклами растительного мира, с древними культами источников, деревьев и лесов. Поскольку феи Северной Европы носят зеленый наряд, они сердятся, когда смертные надевают одежду того же цвета. Поэтому человек, желающий заручиться их благосклонностью, не должен присваивать цвет их одежды или использовать для своих нужд растения, из которых они черпают свою магическую силу, например боярышник, рябину, орешник. Зеленый – цвет фей. Кем бы ни была фея для смертного, крестной, возлюбленной, ангелом-хранителем или злым гением, она часто бывает капризной и, как ее цвет, может быстро сменить настроение, внешний вид или характер оказываемого воздействия – с вреда на пользу или наоборот. Фей следует опасаться и относиться к ним с почтением.
Западноевропейская культура – не единственная, где присутствуют зеленые феи и духи в блекло-зеленых одеяниях. Подобные сверхъестественные существа встречаются и в культурах Востока. Их внешний облик разнообразен. Так, в исламской культуре есть существо, самое имя которого указывает на зеленый цвет: Аль Хидр, что значит «зеленый человек». Кто он? На этот вопрос нет однозначного ответа. Некоторые считают его сыном Адама, другие – ангелом или святым, всевидящим пророком или наставником, посланным Судьбой. Но все видят в нем доброго, иногда озорного духа, который охраняет моряков и путешественников, усмиряет бури, тушит пожары, спасает тонущих, отгоняет демонов и ядовитых змей. В Коране он упоминается только один раз, но о его благих деяниях рассказывается во множестве легенд и сказок[206].
Но вернемся к европейским традициям и волшебным сказкам Нового времени. Как и рыцарские романы Средневековья, сказки охотно используют звучание или написание некоторых слов, чтобы создать атмосферу странного или чудесного. Из определений цвета во французском языке для такой игры лучше всего подходит обозначение зеленого: vert. У этого слова есть несколько омонимов, в частности, vair (беличий мех) и verre (стекло). Это сплошь и рядом приводит к семантической путанице и проблемам со смысловой идентификацией, а заодно обеспечивает работой многочисленных толкователей и комментаторов. Яркий пример – история Золушки в том виде, в каком ее представил Шарль Перро в конце XVII века. У этой очень давней истории есть множество версий. Но сюжетная канва всегда одна и та же: бедная девушка очаровывает принца, затем она исчезает; принцу удается найти девушку благодаря ее башмакам, потерянным (или украденным) во время бала. В версии Шарля Перро, опубликованной в 1697 году в его сборнике «Истории, или Сказки былых времен с поучениями»[207], речь идет не о башмаках, а о туфельках, то есть о бальной обуви[208]. Название сказки – «Стеклянная туфелька». Но разве туфелька может быть стеклянной? Возможно, Перро ошибся, перепутал два одинаково звучащих слова – verre и vair? В этом случае речь могла бы идти о туфельке, отороченной мехом, либо целиком сшитой из беличьего меха. Такую гипотезу в 1841 году выдвинул Бальзак в своих комментариях к этой сказке. Позднее ее подхватил Эмиль Литтре, знаменитый филолог и лексикограф, а также многочисленные специалисты по истории французского языка.
Однако Шарль Перро (1628–1703) – не первый встречный, а член Французской академии, редактор предисловия к первому изданию академического словаря французского языка (1694), глава движения Новых в Споре между Древними (которых возглавлял Буало) и Новыми, специалист по французскому языку и правописанию: неужели такой человек мог ошибиться? Раз он написал verre, а не vair, значит, у него были на то свои причины. Многие литературные критики отмечали, что в волшебных сказках стекло и хрусталь играют весьма важную роль. Другие говорили: в версии Перро тыква превращается в карету, крыса в кучера, а ящерицы в лакеев, так почему в этом странном мире туфельки не могут быть из стекла? Уже в наше время в эту дискуссию вмешался психоанализ и выдвинул собственную версию: стеклянная туфелька, хрупкая вещица, которую легко разбить, символизирует девственность юной особы, потерянную, как это часто бывает, на балу[209]. Споры о том, нарочно или случайно автор назвал туфельку стеклянной, не прекращаются уже три столетия. Между тем несколько критиков, не найдя убедительных доказательств в пользу «стеклянного» либо «мехового» варианта, пришли к неожиданному выводу: туфельки Золушки – не стеклянные и не меховые, а… зеленые! Вспомним: это подарок крестной, а ведь она фея! К тому же зеленый – цвет юности, любви и надежды: принц надеется найти прекрасную незнакомку, а читатель надеется, что у сказки будет счастливый конец[210].
Все эти эффектные, но малообоснованные аргументы лишний раз подчеркивают, настолько неоднозначным цветом является зеленый. Его семантическое богатство и суггестивный потенциал так велики, что не умещаются в рамках одного слова, а захватывают другие, похожие по звучанию, пробуждая в них разнообразные отклики. Никакой другой цвет не смог бы себе позволить такую символическую роскошь.
Зеленый цвет в век Просвещения
XVII столетие было темным, зачастую мрачным, а порой беспросветным; следующий век, напротив, был светлым и ярким, пестрым и оживленным. Просвещенность проявилась не только в духовной сфере, в повседневной жизни тоже прибавляется света: двери и окна становятся шире и выше, освещение домов – эффективнее и дешевле, масло и свечной воск расходуются не так быстро, как раньше. Теперь люди лучше различают цвета и уделяют им больше внимания: в моду входят альбомы с образцами красок, всех привлекает игра нюансов и оттенков. Бурное развитие химии красок создает условия для новых успехов в красильном деле и в производстве тканей. От этого выигрывает все общество в целом, включая и низшие классы. Рождаются новые тона, возникает множество полутонов, бежевых, коричневых, розовых, серых, одновременно обогащается цветовая лексика, которая, стремясь подобрать точные названия для новых оттенков, изобретает иногда весьма образные выражения (так, в середине века появятся «голубиное горлышко», «парижская грязь», «бедро испуганной нимфы», «дождь из роз», «кака дофина»).
Впервые в своей истории цвет становится управляемым: благодаря успехам физики он поддается измерению, техника научилась без проблем производить и воспроизводить его, а лексика находит определения для всех его нюансов. Но вследствие этого он утрачивает часть своей загадочности. Отношения, которые связывают его не только с учеными и художниками, но также с философами и богословами, и даже с простыми ремесленниками или обычными людьми, начинают понемногу меняться. Это происходит и в повседневной реальности, и в мире воображения. Некоторые вопросы, связанные с цветом и волновавшие умы в течение столетий, – моральные аспекты, цветовая символика, геральдика – в какой-то мере теряют свою актуальность. На передний план выходят новые проблемы, новые увлечения, в частности колориметрия, которая буквально врывается в живопись и в разные области знания, а также мода на «современные цвета», которая захватывает все более широкие слои общества[211]. Однако все эти достижения и связанные с ними перемены почти не отражаются на статусе зеленого цвета. Век Просвещения – это век экспансии синего. Именно в XVIII веке синий, отодвинув на задний план красный, становится любимым цветом европейцев (и остается им до сих пор, оставляя далеко позади остальные цвета) и окончательно утверждается в повседневной жизни: теперь его во множестве оттенков можно увидеть не только на тканях и одежде, но и на стенах и мелких предметах домашней обстановки[212]. Это происходит в силу ряда причин, главная из которых – широкое использование двух новых пигментов: берлинской лазури и американского индиго. В отличие от других поворотных моментов в истории синего (например, его бурной экспансии в XIII веке) в данном случае именно прогресс в химии и технике повлек за собой масштабные перемены в эстетике и символике, а не наоборот.
Берлинскую лазурь случайно изобрел в 1709 году берлинский аптекарь по имени Дисбах; затем ее усовершенствовал и начал продавать Иоганн Конрад Диппель, беспринципный человек, но ловкий делец. У нее очень высокая интенсивность окрашивания, и при смеси с другими пигментами она дает удивительно красивые, чистые тона. Вопреки распространенной легенде, возможно, возникшей из-за дурной репутации Диппеля, берлинская лазурь не ядовита и не превращается в синильную кислоту. Зато она блекнет на свету. С середины XVIII века ученые и красильщики упорно работали над берлинской лазурью, добиваясь, чтобы она отвечала техническим требованиям красильного дела. В частности, они стремились получить на основе нового пигмента более чистые, более яркие и менее дорогостоящие синие тона, чем те, которые можно было получить на основе индиго. Несколько научных обществ и академий объявили конкурс на создание таких красок, но результаты долгое время разочаровывали[213]. Второй пигмент, индиго, был известен в Европе еще в древности, однако в XVIII веке его начали импортировать не из Азии, как прежде, а из Нового Света, притом в больших количествах. Индиго с Антильских островов оказался более качественным красителем, чем азиатский, и, несмотря на транспортные расходы, более дешевым, чем европейская вайда, так как для его выращивания и переработки использовался рабский труд. Поэтому протекционистские меры, призванные защитить европейских производителей вайды, оказались бесполезными. Победа индиго привела к упадку и разорению нескольких больших городов (Амьен, Тулуза, Эрфурт, Гота), а с другой стороны, процветанию некоторых морских портов (Нант, Бордо).
В 1730–1780-х годах, благодаря берлинской лазури и индиго, синий цвет оказывается на пике моды. Появляется множество новых тонов и нюансов синего, больше, чем у любого другого цвета. Но положение зеленого от этого не меняется. Конечно, с распространением новых синих пигментов стало легче получать привлекательные зеленые, в особенности темно-зеленые тона, однако для появления (или возвращения) моды на зеленое этого недостаточно. Тем более, как мы знаем, еще остались художники, упорно не желающие смешивать синюю и желтую краски для получения зеленой, а у красильщиков этому препятствуют устаревшие корпоративные правила. Только в конце века зеленый начнет входить в моду, сначала в оформлении интерьера, а позднее и в одежде.
Но в данный момент, в середине века, зеленый остается старомодным, забытым, нелюбимым цветом. Ему повредил колоссальный успех синего, в частности, потому, что многие люди убеждены: синий с зеленым не сочетаются (это мнение распространено и в наши дни). В 1740-е годы в Англии появляется поговорка, которая станет очень популярной в следующем столетии: «Blue with green should never be seen» («Синему с зеленым не по пути»). Похожая поговорка несколько раньше родилась в Германии: «Blau oder Grün muss man wählen» («Либо синее, либо зеленое»). В середине XVIII века Европа единодушно из этих двух цветов выбирает синий. Дамы из высшего общества настроены к зеленому особенно враждебно: вечером, при свечах, зеленые тона теряют яркость и приобретают грязно-бурый оттенок. Поэтому в великосветских салонах, как на сцене, действует неписаный закон: хочешь произвести впечатление – не одевайся в зеленое. Вдобавок многие до сих пор верят, что этот цвет приносит несчастье. С одной стороны, у красильщиков и живописцев зеленая краска считается вредной; с другой стороны, зеленый, как стало известно еще в Средние века, тесно связан с ведьмами и колдунами.
Ближе к концу века, когда красильное дело достигнет значительного прогресса, особенно в получении темных, насыщенных тонов, зеленый приобретет некоторую популярность, но больше у мещан, чем у аристократов. Об этом напишет Гете в своем знаменитом труде «К теории цвета». Рассуждая о том, какие цвета больше подходят для тех или иных классов общества, он называет зеленый цветом зажиточных бюргеров и купцов; красный, по его мнению, подобает аристократии, черный – духовенству, а синий – ремесленникам и рабочим. Правда, это будет написано не в 1750-м году, а только в 1810-м. В том же трактате, который сразу после публикации оказал несомненное влияние на вкусы немцев в одежде и оформлении интерьера (а во второй половине XIX века был жестко раскритикован), Гете называет зеленый умиротворяющим цветом, наиболее подходящим для мест отдохновения и дружеского общения. Стены спальни в его доме в Веймаре обтянуты темно-зелеными обоями. В этой спальне в 1832 году он уйдет из жизни, и его последними словами будут: «Больше света!»
Зеленый – цвет романтизма?
Велико искушение назвать зеленый цветом романтизма: мода на него возникла и стала быстро распространяться в последние годы XVIII столетия, и есть мнение, что это было связано со вновь пробудившимся интересом к природе. В самом деле, художники и поэты принялись воспевать деревья и кустарники, изображать и описывать прогулки по лугам и лесам, прославлять природу как царство покоя, где можно отрешиться от мирской суеты и тревог общественной жизни. Однако, вглядевшись внимательнее, мы поймем, что зеленый не вправе называться эмблематическим цветом романтизма. На эту роль с бóльшим основанием могут претендовать другие цвета. Во-первых, в природе существует не только растительность: вода, море, небо, луна, ночь занимают в ней как минимум такое же важное место. Вовторых, природа – не единственная тема романтизма, есть и другие: любовь, смерть, мятеж, мечта, путешествие, бесконечность, ничто – и это только самые главные. Поэтому палитра романтической души не ограничивается одним лишь зеленым, и, если бы нужно было выделить на этой палитре два цвета, это были бы синий и черный.
Синий, цвет мечты и раздумий, неба и бесконечности, больше связан с ранним романтизмом. Это цвет знаменитого костюма Вертера (синий фрак с желтыми панталонами), который Гете описывает в своем романе в письмах «Страдания юного Вертера», опубликованном в 1774 году. Необычайный успех романа и начавшая затем «вертеромания» привели к тому, что мода на синий «вертеровский» фрак распространилась по всей Европе. Но есть еще и чудесный, недостижимый голубой цветок, который приснился поэту Новалису, цветок, который олицетворяет одновременно любимую женщину, чистую поэзию и жизненный идеал. Этот маленький голубой цветок быстро сделался символом немецкого романтизма, и в первые годы XIX века вызвал многочисленные отклики по всей Европе[214]. А поздний романтизм избирает своей эмблемой черный, цвет ночи и смерти. У этих романтиков любовь уступает место меланхолии, мечта – кошмару, экстаз – отчаянию. Отныне поэты будут видеть в снах не голубой цветок, а мрачные видения, злобных ведьм, болезненные, жуткие картины. Если бы имело смысл заняться статистикой и подсчитать, определения каких цветов чаще всего встречаются в сочинениях поэтов 1820–1850-х годов, то, несомненно, наиболее часто упоминаемым оказался бы черный: вспомним завораживающее «Черное солнце Меланхолии» Жерара де Нерваля.
Итак, любимые цвета романтиков – синий и черный, зеленый у них не в почете. Чего не скажешь об их предшественниках – предромантиках: в 1760-е годы поэты и художники уделяют большое внимание зеленому. Для них это цвет природы, и прежде всего растительного мира, который не устают созерцать чувствительные души и которому любят доверять свои огорчения одинокие сердца. Этот умиротворяющий, целебный зеленый цвет – уже сам по себе убежище, источник вдохновения, божественный цвет, который дает поэту уроки мудрости и бесконечности. Таким его изображает Жан-Жак Руссо в своем романе «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) и в «Прогулках одинокого мечтателя» (1775–1778); позднее подражатели и продолжатели Руссо подхватывают эту тему и разрабатывают ее вплоть до конца столетия. При жизни следующего поколения зеленый, как цвет природы, не исчезает из виду, но отходит на второй план, уступая место синему, а потом черному.
Зато вскоре появляется новый зеленый цвет, который будет играть важную роль в идейной борьбе на рубеже XVIII–XIX веков: цвет свободы. Этот зеленый по сути тоже романтический цвет, хотя его происхождение пока остается неясным. Конечно, стремление выйти за рамки дозволенного и некие анархические порывы не противоречат старой символике зеленого, цвета непрочного, мятежного, непокорного, но этого мало, чтобы зеленый в 1790–1800-х годах превратился в цвет новых идей и победного шествия революции. Впрочем, у многогранной символики зеленого есть и еще одно, средневековое значение: надежда как христианская добродетель. Пожалуй, это ближе. И все же мне кажется, что ответ следует искать в иной области – среди теорий и классификаций цвета. По мере того как живописцы, а затем и ученые, все более четко разграничивали цвета на «главные» и «второстепенные», зеленый понемногу стал превращаться в одного из антагонистов красного. А поскольку красный с давних пор воспринимался как символ запрета, его антагонист, зеленый, со временем стал символом дозволенности. Один из первых примеров использования такого принципа – двухцветная сигнализация в некоторых портах Северного и Балтийского морей, установленная в 1760–1780-х годах: зеленый бакен означал, что корабли могут заходить в порт, красный – что заход запрещен.
Этот международный свод сигналов, который в первой половине XIX века станет общепринятым не только в море, но и на суше, вскоре будет введен на железной дороге, а затем распространится и на все дороги вообще. Самый ранний двухцветный светофор будет установлен в 1868 году в Лондоне, на углу Палас-ярд и Бридж-стрит. Это вращающийся газовый фонарь с фильтрами двух цветов; при нем дежурит полицейский, который поворачивает его то одной, то другой стороной. Однако эта система небезопасна: в следующем году полицейский, зажигающий фонарь, будет смертельно ранен взрывом газа. Тем не менее Лондон в этой области ушел далеко вперед: в Париже первый светофор будет установлен только в 1923 году, а в Берлине – еще через год[215]. Тем временем красно-зеленые светофоры успели появиться в Соединенных Штатах Америки: в 1912 году – в Солт-Лейк-Сити, в 1914-м – в Кливленде, в 1918-м – в Нью-Йорке. Отныне, если вы хотите куда-то поехать, надо, чтобы вам «дали зеленый свет».
Каким бы ни было происхождение зеленого цвета свободы, в 1789 году он едва не стал цветом революции. 12 июля 1789 года в Париже, в саду Пале-Рояля молодой адвокат Камилл Демулен произносит пламенную речь, в которой призывает народ к восстанию. Он срывает лист с ближайшего дерева – это липа – и прикрепляет к шляпе, затем предлагает всем патриотам, разделяющим его убеждения, сделать то же самое. Так зеленый лист превращается в кокарду, первую кокарду революции[216]. Но на следующий день, к несчастью для зеленого цвета, восставшие, направляясь к казарме Инвалидов, чтобы захватить там ружья, узнают, что зеленый – цвет графа д’Артуа, младшего брата Людовика XVI (который в будущем станет королем Карлом X), и большинство его сторонников уже надели зеленую кокарду или шарф. Известно, что граф д’Артуа – наиболее яростный противник реформ и прогрессивных идей; не может быть и речи о том, чтобы носить его цвет, даже если это цвет свободы[217]. Таким образом, восставшие отказываются от зеленой кокарды еще до 14 июля, дня взятия Бастилии. А три дня спустя появляется трехцветная кокарда, которой суждено великое будущее. Она станет прообразом национального флага Франции. Позволим себе немного пофантазировать: если бы граф д’Артуа не выбрал зеленый своим цветом (согласно документам, он сделал это в 1784 году), возможно, французский флаг сегодня был бы одноцветным и зеленый, цвет свободы и надежды, стал бы официальным цветом республиканской Франции, его можно было бы видеть на исторических дворцах и памятниках, на церемониях, на военной и спортивной форме…
Хотя восставшие быстро расстались с зеленой кокардой Камилла Демулена, она успела прославиться, и в некоторых соседних странах появились такие же. Вот как это было во французской Швейцарии. В январе 1798 года кантон Во, который на протяжении веков находился под оккупацией – сначала Савойи, потом кантона Берн, провозгласил себя независимым государством под названием Леманская республика. Создатели новой республики, вдохновлявшиеся идеями Французской революции, выбрали цветом своего флага и своей кокарды зеленый, подчеркнув, что это цвет свободы. Леманская республика просуществовала всего три месяца, а затем была аннексирована Гельветической республикой, которая тоже продержалась не слишком долго – пять лет. Однако в 1803 году, когда была создана Швейцарская конфедерация, отныне объединявшая девятнадцать кантонов, кантон Во утвердил собственные флаг, герб и девиз, которыми пользуется до сих пор: двухцветный бело-зеленый флаг и серебряный с зеленью гербовый щит с девизом: СВОБОДА И РОДИНА. Зеленый цвет и свобода снова оказались в тесной взаимосвязи.
Сегодня в мире много флагов, на которых присутствует зеленый цвет. Если речь идет о мусульманских странах, это религиозный цвет ислама: о нем мы уже говорили в первой главе нашей книги. На флагах стран Западной Африки (Сенегала, Мали, Ганы, Камеруна) зеленый – один из трех панафриканских цветов (остальные – желтый и красный), принятых при провозглашении независимости. В других случаях значения зеленого цвета на флаге могут быть различными и не всегда поддающимися точному объяснению. Часто исторические данные о происхождении флага отсутствуют и приходится иметь дело скорее с произвольными толкованиями, чем с фактами. Установить, откуда на конкретном флаге взялись те или иные цвета, – задача не из легких. Как если бы флагу для эффективного выполнения своих «функций», то есть реализации своего символического потенциала, было необходимо облекать таинственностью свои корни. Многие страны связывают зеленый цвет на своих флагах с растительностью, которая покрывает значительную часть их территории (чаще всего это леса) и является их главным достоянием (Бразилия, Габон, Заир). Другие по давней традиции воспринимают его как цвет надежды (Ямайка, Того). А некоторые видят в нем символ свободы, завоеванной в борьбе с колонизаторами или с властью тиранов (Мексика, Боливия, Болгария, Португалия); в этом случае зеленый на флаге часто сочетается с красным, ибо независимость досталась ценой крови. На ирландском флаге у зеленого другой смысл: это эмблема католической общины, оранжевый – эмблема протестантской, а разделяющий их белый символизирует мир, который должен быть между ними.
Значение зелено-бело-красного итальянского флага объяснить труднее, несмотря на огромный объем литературы, посвященной этой теме. Вертикальное расположение полос, судя по всему, заимствовано у французского флага, тем более что трехцветный итальянский впервые появился в 1796–1797 годах, когда была провозглашена эфемерная Циспаданская республика. Согласно легенде, этот флаг придумал Бонапарт. Но пусть даже он всю свою жизнь выказывал определенное расположение к зеленому цвету, этого недостаточно, чтобы объяснить появление зеленого на циспаданском, а затем итальянском флаге. На наш взгляд, этот цвет скорее следует рассматривать как эмблему завоеванной свободы. Есть и более прозаический вариант: зеленый, белый и красный – просто-напросто цвета мундира миланской гражданской гвардии, которая сыграла важную роль в событиях 1796–1797 годов. С точки зрения символики такое объяснение разочаровывает, зато с исторической точки зрения выглядит вполне обоснованным. Позднее, после создания в 1861 году Итальянского королевства и окончательного принятия трехцветного флага, появятся еще два толкования: красный и белый – цвета Савойи («серебряный крест на червленом поле»), а зеленый – династический цвет; либо эти три цвета – символы трех основных добродетелей христианской теологии: веры (белый), надежды (зеленый), милосердия (красный). А еще позже некоторые толкователи с богатым воображением усмотрели в этой триаде цветá итальянского пейзажа или даже цветá трех самых популярных соусов к пасте[218]. Флаг всегда воскрешает воспоминания и навевает мечты. А также служит поводом для появления всевозможных интерпретаций, нелепостей и банальностей.
Глава 5 Умиротворяющий цвет (XIX–XXI века)
История зеленого цвета в современную эпоху – это история взлетов и падений. То он входил в моду, то уходил в тень; порой им восхищались, зачастую пренебрегали, и только сейчас он дождался подлинного признания. Ученые долго недооценивали зеленый, относя его к категории «дополняющих», то есть второстепенных цветов, художники старались пореже им пользоваться, ссылаясь на то, что пигменты, из которых его получают, нестойкие и некачественные, элегантные дамы не желали его носить, утверждая, что он не дает им показаться во всем блеске, а обычные люди боялись его, поскольку все еще верили, что он приносит несчастье. Синий, красный, черный и даже белый с желтым вытеснили зеленый со всех сколько-нибудь значимых позиций. В итоге ему досталось очень скромное место и в повседневной жизни, и в художественном творчестве.
Ситуация начинает понемногу меняться во второй половине XIX века. Жители больших городов тоскуют по вольным просторам, природе, зелени. Но в полной мере достоинства зеленого будут признаны только в следующем столетии. С течением времени люди открывают в нем массу положительных сторон, возобновляются его давние связи с медициной и гигиеной, к нему едут издалека, чтобы освежиться, отдохнуть, восстановить силы, в центре городов или на густонаселенных окраинах устраивают зеленые островки, чтобы хоть как-то разбавить гнетущее серо-коричнево-черное однообразие. Занятия спортом, отпуск и досуг на свежем воздухе довершают дело, понемногу превращая жизнь современных европейцев в отчаянную погоню за зеленым цветом и зеленью: зеленые уголки, зеленые классы в школах, «зеленые» каникулы, «зеленая» кухня, «зеленые» источники энергии, «зеленая революция». Теперь зеленый – не только цвет природы, надежды и свободы, но еще и здоровья, гигиены, приятного времяпрепровождения и даже социальной ответственности.
В последнее время культ зеленого достиг апогея: помимо прочих достоинств, в нем открыли еще и моральное измерение. Отныне все вокруг должно стать зеленым, приобрести цвет умиротворяющей, целебной зелени. Во многих странах прилагательное «зеленые» субстантивировалось и стало означать общественное движение или политическую партию, ставящие себе целью защиту окружающей среды. Сегодня связь между словом «зеленый» и политической экологией стала настолько тесной, что стоит кому-нибудь его произнести, как мы среди всех оттенков его смысла автоматически выбираем именно этот. Зеленый теперь не столько цвет, сколько идеология. Радоваться этому или ужасаться?
Модный цвет
Почти на всем протяжении XVIII века зеленый цвет пребывает в забвении, и только в 1780–1800-х годах, впервые за долгое время, становится одним из модных цветов, сначала в Германии, а затем и по всей Европе. Это происходит на фоне пробудившегося у европейцев стремления к гражданским свободам и интереса к новым идеям. Впрочем, как уточняет Гете в своем труде «К теории цвета», зеленый больше популярен у разбогатевших мещан и в деловых кругах, чем среди аристократии. Во Франции зеленый выходит на первый план при Директории (1795–1799), как в одежде, так и в обстановке и оформлении интерьера. Эта мода переживет Консульство и Империю и сойдет на нет уже после Реставрации. В Италии увлечение зеленым начнется примерно в это же время, но продержится дольше, почти до середины XIX века. В другие страны, в Испанию, в Скандинавию мода на зеленое придет из Парижа, но не получит такого быстрого и широкого распространения. Новое поветрие не захватывает одну только Англию, но порой модный цвет проникает и сюда: в 1806 году, когда будет полностью переделываться убранство британского парламента, для палаты лордов выберут красный, а для палаты общин – зеленый. Таким образом, даже в Соединенном Королевстве зеленый цвет ассоциируется с буржуазией и «прогрессивными» идеями[219].
Однако в европейской моде на зеленое 1790–1830-х годов с разными нюансами этого цвета дело обстоит по-разному. В начале периода преобладает темно-зеленый с более или менее выраженным синеватым оттенком: красильщики не жалеют берлинской лазури и ее производных. Впоследствии тон становится светлее и вместе с белым и розовым образует нежную, романтическую цветовую гамму, которая украсит дамские платья, обивку мебели и драпировки. Иногда, если надо оформить праздник или театральный спектакль, этот нежно-зеленый сочетают с более яркими цветами, например красным и желтым, чтобы создать атмосферу в духе экзотики или «в стиле трубадуров». Но это будет уже в 1820–1850 годах. А раньше, во Франции времен Империи, зеленые тона еще остаются сравнительно темными, их сочетают с «помпейским красным», с малиновым, а также с ярко-золотой отделкой. В военной форме зеленому отныне предоставлено столько места, сколько у него не было никогда прежде, и впервые в истории французская форма оказывает влияние на форму соседних или союзных государств. Легенда гласит, что «зеленый цвет Империи» ввел в моду Наполеон: зеленый был его любимым цветом. Но пусть бы даже император всю свою жизнь выказывал определенное расположение к зеленому, этого недостаточно, чтобы объяснить моду на зеленый, захватившую всю Европу на рубеже XVIII–XIX веков. Этот цвет вошел в моду до того, как Наполеон стал императором, и даже до того, как он ворвался на военную и политическую арену, – и не выйдет из моды еще очень долго, когда Наполеона уже не будет на троне.
В конечном счете этот цвет не принес удачи императору и, возможно, даже стал причиной его смерти на острове Святой Елены в 1821 году. Дело в том, что в Лонгвуде, в доме, где жил Наполеон, в нескольких комнатах находились предметы обстановки, окрашенные очень ядовитой зеленой краской, которую получали из медной стружки, растворенной в мышьяке. Эту краску изобрели в немецком городе Швейнфурте, а затем она быстро распространилась по всей Европе под названием «швейнфуртская зелень». Из нее вырабатывали пигменты для живописи, бытовые красители, использовали для окрашивания обоев. При высокой влажности воздуха мышьяк начинает испаряться и в больших дозах становится опасным для жизни. Повидимому, это и произошло на острове Святой Елены. Вот почему в волосах и под ногтями Наполеона был обнаружен мышьяк. Если он действительно был отравлен, к этому не причастны ни его охранники-англичане, ни кто-то из его врагов или близкого окружения: всему виной испарения мышьяка, выделявшиеся из ковров, драпировок, обивки мебели и картин. Его убийцы – швейнфуртская зелень и влажный климат Святой Елены.
Насколько токсична эта краска, выяснилось очень нескоро, только к середине XIX века. Очевидно, это стало одной из причин, по которым с 1860-х годов мода на зеленый цвет в оформлении интерьеров пошла на спад. Когда участились смертельные случаи (в частности, стали умирать дети), а химики и врачи-гигиенисты доказали, что испарения и производные мышьяка представляют большую опасность, люди стали отказываться от зеленых обоев и обивки мебели[220], хотя недобросовестные фабриканты еще долго уверяли, что их краска совершенно безвредна. Вот, например, что пишет в 1870 году директор мануфактуры «Цубер и компания» в Мюлузе в письме, адресованном профессору химии Базельского университета Фридриху Гоппельшредеру, который сообщил властям о вредном воздействии красок на основе мышьяка, используемых в оформлении интерьера:
Во Франции, как и в других странах, не существует закона, запрещающего использование швейнфуртской зелени. ‹…› Она дает исключительно яркий и красивый оттенок зеленого, который на данный момент невозможно получить с помощью какого-либо другого пигмента; поэтому ею продолжают пользоваться не только во Франции, но также и в Германии, где она под строгим запретом.
Итальянцы так полюбили этот чудесный зеленый цвет, что часто заказывают обои, полностью окрашенные швейнфуртской зеленью, хотя им известно, что она иногда может быть ядовитой. Но мы еще не слы шали о каких-либо несчастьях, случившихся в Италии из-за этой краски, потому что климат там сухой, а квартиры просторные и хорошо проветриваются. В странах центральной и северной Европы теперь используют обои, в которых швейнфуртская зелень содержится в ничтожном количестве, только для усиления яркости зеленого. И я утверждаю, что в подобных случаях она безвредна. ‹…› Запретить какое бы то ни было содержание мышьяка в обоях значило бы зайти слишком далеко и нанести неправомерный и неоправданный ущерб нашей коммерции. Мы ручаемся за все наши продукты[221].
Напрасный труд. Люди не верили этой казуистике, и вся Европа постепенно отказалась от зеленых драпировок и обоев. Тем более что смертельные случаи и шумиха в газетах, казалось, подтверждали многовековую зловещую репутацию зеленого – цвета, приносящего несчастье. У некоторых он стал вызывать непреодолимое отвращение. Так, у овдовевшей королевы Виктории на этой почве развилась настоящая фобия: она изгнала зеленый из всех своих резиденций, включая Букингемский дворец, куда, если верить светской хронике, он не вернулся до сих пор.
Но страх перед зеленым, который испытывала Виктория, все же несравним с паническим ужасом, который этот цвет вызывал у другого великого человека – композитора Шуберта. Об этом знали вся Австрия и вся Германия. По непонятным для нас причинам композитор утверждал, что «готов бежать на край света, лишь бы спастись от этого проклятого зеленого»[222]. Короткая жизнь Шуберта, умершего в 1828 году в возрасте тридцати двух лет, представляет собой такую череду горестей, неудач и страданий, что невольно задаешься вопросом: быть может, его страх перед зеленым цветом, от которого невозможно полностью отгородиться, был обоснованным?
Хотя во второй половине XIX века зеленый постепенно исчезает из домашней обстановки и повседневного окружения, он сохраняет свои позиции в том, что касается одежды. Некоторые элегантные дамы остаются ему верны и по-прежнему видят в нем умиротворяющий, романтический цвет. Например, императрица Евгения, одна из красивейших женщин своего времени, вызывавшая всеобщее восхищение, законодательница мод во всей великосветской Европе. В противоположность королеве Виктории, она любит зеленый цвет и надевает его по вечерам, на бал, в театр и в оперу. Заметим, впрочем, что к 1860-м годам производители красок сумели создать новые, качественные пигменты; искусственное освещение тоже изменилось: теперь это не масляные лампы или свечи, а газ, при котором ткани смотрятся совсем по-другому. Между тем лионские красильщики вместе с немецкими химиками создали новую зеленую краску, яркую и насыщенную – альдегидный зеленый; на шелке эта краска дает замечательные, переливчатые тона. Императрица Евгения первой наденет этот новый оттенок зеленого, играющий неожиданными переливами и бликами, которые производят еще больший эффект, когда она по обыкновению осыпает свою темно-каштановую шевелюру тончайшей золотой пылью. Зеленое с золотом: идеальное сочетание. Императрице тут же начинают подражать, как при дворе, так и в городе. В продаже появляются новые красители для блестящих тканей, такого же типа, как альдегидный зеленый – йодный зеленый, метиловый зеленый, миндальный зеленый. Все эти продукты стоят дешевле, чем пигмент, которым окрашены платья императрицы, зато они более или менее токсичны. Поэтому их распространение ограничено[223].
Возвращение на палитру художников
Не только производители бытовых красок в течение всего XIX века одерживали победу за победой; изготовители красок для живописи тоже добились успехов, правда, не таких впечатляющих. С помощью берлинской лазури, изобретенной в предыдущем столетии, появилась возможность расширить гамму темно-зеленых тонов. Художники применяют ее в большом количестве, потому что она дешевле натурального ультрамарина, который привозится издалека и считается чуть ли не драгоценным веществом[224]. В соединении с хромовой желтой берлинская лазурь дает привлекательные зеленые тона: яркие, прозрачные и в то же время безопасные для здоровья. В самом деле, этот пигмент не содержит ни мышьяка, ни окиси меди и, хоть и состоит из очень мелких частиц, обладает высокой красящей способностью. Но один недостаток у него все же есть: он летучий, и со временем выцветает. От этого пострадали многие художники – Констебль, Делакруа, Моне и большинство импрессионистов: Ван Гог, Гоген, а впоследствии даже Пикассо. Хромовая желтая краска, или крон, тоже непрочная, она теряет яркость и приобретает темно-желтый, а порой даже коричневый оттенок. Поэтому зеленый пигмент, полученный из смеси берлинской лазури и крона, выцветает на свету или блекнет с течением времени. Такие мастера живописи, как Сислей и Сёра, испытали это на себе: на полотнах первого из них все, что было зеленым, стало желтым, а на знаменитой картине второго «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» (1884–1886) некогда зеленая лужайка сейчас усеяна коричневыми пятнами от потемнения крона. И наоборот, на полотнах XIX века некоторые синие, желтые или белые (например, цинковые белила) пигменты с годами приобрели зеленоватый оттенок; а есть картины, в которых сейчас преобладают зеленые тона, хотя изначально у них был совсем другой колорит.
Долгие века европейской живописи не везло с зелеными пигментами: краски растительного происхождения не отличаются прочностью, зеленая глина плохо ложится; малахитовая краска слишком дорого стоит; краски на основе натурального ультрамарина еще дороже; краски на медной основе токсичны, к тому же со временем чернеют или темнеют; краски на основе берлинской лазури выцветают либо приобретают сероватый или желтоватый оттенок. С XVI по XIX век все великие мастера живописи были недовольны зелеными пигментами, имевшимися в их распоряжении, и, подобно Веронезе, мечтали «о зеленых красках такого же качества, как красные».
Наконец, в этом деле происходит решающий сдвиг: в 1825–1830 годах французские (Гиме) и немецкие (Гмелин, Кёниг) химики изобретают искусственный ультрамарин, синий и зеленый, на основе каолина, кремния, соды и серы. Но хотя новый пигмент прочнее, чем зелень на основе берлинской лазури, и гораздо дешевле натурального зеленого ультрамарина или зеленого кобальта (эта краска, изобретенная в конце XVIII века и называемая иногда «изумрудной зеленью», стоит целое состояние), художники не спешат им воспользоваться. Энгр и Тёрнер попробовали искусственный ультрамарин, но остались недовольны, как и начинающий живописец по имени Клод Моне. И только в 1880-х годах искусственный зеленый ультрамарин займет достойное место на палитрах выдающихся художников. Первыми в него поверят Ренуар и Сезанн, которые создадут с его помощью замечательную гамму нюансов[225].
Тем временем успела появиться еще одна новинка, которая многое изменит в работе художников, особенно пейзажистов. Это гибкий металлический тюбик для краски, с завинчивающейся герметичной крышкой. Его легко переносить с места на место, что позволяет работать под открытым небом. За это изобретение нам следует благодарить американского художника Джона Гоффа Рэнда. Окончательный вариант тюбика появился в 1841 году, после долгих экспериментов и доработок. В Европе он поступит в продажу только в 1859–1860 годах. С этого момента молодые художники смогут покидать мастерскую и выезжать на пленэр. Теперь у них есть новые возможности, чтобы воссоздавать на полотне красоты природы, разнообразие растительного мира, эффекты светотени, блики на воде, перемены погоды. Пейзажную живопись ждут коренные преобразования, а зеленый цвет начнет играть в изобразительном искусстве совсем другую роль.
Начиная с позднего Средневековья место зеленого в европейской живописи постоянно сокращалось. «Большая» живопись использовала его в очень скромных количествах. В самом деле, для картин на мифологические, исторические, аллегорические, библейские и религиозные сюжеты зеленая краска – не главное. Только пейзажная живопись уделяла зеленому должное место, поскольку ей приходилось изображать растительный мир, однако эта живопись считалась второстепенной. К тому же, как мы говорили, зеленые пигменты редко могли дать требуемый эффект. Сегодня, когда мы видим картины дореволюционных французских художников, на которых изображены поля, луга, рощи, пригорки, леса, создается впечатление, что все эти живописцы не любили весну с ее яркими красками и отдавали предпочтение осени и темным тонам. Однако дело в другом: просто зеленые тона на полотнах потемнели, а синие поблекли. И сейчас даже самые искусные реставраторы не в силах вернуть этим полотнам их истинный облик.
Но во второй половине XIX века все будет иначе – или почти все. И дело не только в том, что зеленые пигменты стали разнообразнее, синие доступнее по цене, а желтые прочнее. Художники нового поколения теперь работают на пленэре, освобождаются от пут академизма, и пейзаж выдвигается на передний план. Краски становятся более светлыми, тона более сочными, более чистыми, в том числе и гамма зеленых тонов, которая теперь будет очень популярной. Итальянские и английские пейзажисты первыми в Европе проявляют особый интерес к зеленому; во Франции первыми будут Камилл Коро, Эжен Буден и художники Барбизонской школы. Но решающий шаг сделают все же импрессионисты, хотя вначале им приходится очень трудно. Их критикуют, высмеивают, пародируют, но в итоге им удастся склонить на свою сторону часть публики, которая оценит их новаторство. В центре их творческих поисков – цвет. Они не ставят себе целью воспроизводить формы с абсолютной точностью, как в жизни, а лишь намекают на них цветом и светом. У них мелкие, раздельные, контрастные мазки, с помощью которых создается эффект вибрации света, какой можно увидеть, если сквозь ветки деревьев смотреть на солнце и набегающие облака или наблюдать за поверхностью воды. Для всего этого они подбирают совершенно новую палитру, и зеленый цвет впервые за очень долгое время займет на ней достойное место.
Свидетельством усиливающегося интереса к гамме зеленых тонов могут служить руководства и пособия для молодых художников: начиная с 1850-х годов в них появляется все больше рецептов изготовления зеленых красок, советы и пояснения становятся все более точными или конкретными; а еще раньше появляется новый раздел: «пейзажные зеленые краски». Из него мы узнаём, например, что для получения нежно-зеленой краски «цвета весенней листвы» достаточно смешать берлинскую лазурь и крон, добавить немного цинковых белил и чуть-чуть очень яркого «венецианского розового»[226]. Розовое в зеленом: вот это действительно новинка!
Шеврёль и ученые не любят зеленый…
Казалось бы, зеленый цвет дождался любви и почета. Но это ненадолго. Во второй половине XIX века научные теории оказывают значительное влияние на изобразительное искусство и это сказывается на иерархии цветов. Поскольку, по мнению ученых, зеленый не относится к числу «первичных», то есть основных цветов, он не может стать таковым для художников, даже для тех, кто занимается пейзажной живописью и работает на пленэре. Для многих зеленый – всего лишь «дополняющий», иначе говоря, второстепенный цвет, чья важнейшая функция – контрастировать с красным и усиливать его эффект. Вот, например, что пишет Ван Гог в сентябре 1888 года в письме брату Тео по поводу картины «Ночное кафе», которая сейчас находится в музее Йельского университета. На картине изображен большой зал кафе, посредине стоит величественный бильярдный стол, вдоль стен выстроились столы и стулья:
Я хотел выразить страшную силу страстей человеческих с помощью красного и зеленого цветов. Зал кафе – кроваво-красный с приглушенно-желтым, посредине стоит зеленый бильярдный стол, лампы лимонно-желтые, от них исходит оранжево-зеленое сияние. Во всем чувствуется борьба, противостояние самых разнообразных тонов красного и зеленого. ‹…› Например, кроваво-красный цвет стен и желтоватозеленый бильярдный стол контрастируют с нежно-зеленым, в стиле Людовика XV, цветом стойки и букетом роз, который на ней стоит[227].
Для художников, как и для ученых, зеленый превратился в противоположность красного, а это значит, что он опустился на ступеньку ниже в генеалогии цветов. В хроматической иерархии он находится теперь на одном уровне с оранжевым и фиолетовым, которые играют роль «дополняющих» по отношению к синему и желтому соответственно. В этом, разумеется, нет ничего нового, ведь еще в XVII веке художники отказали зеленому цвету в статусе «первичного», но в XIX веке этот статус станет приобретать все большую важность, что в итоге уменьшит значимость зеленого и снизит его престиж не только в мире искусства и науки, но также в материальной культуре и в повседневной жизни.
Но вернемся к художникам. Вопрос контрастов становится для них главным, и вся картина теперь строится вокруг игры различных контрастов: контрастов валёра, насыщенности, яркости, теплоты, густоты и, наконец, самых важных – контраста основных и дополнительных цветов. Каждый художник стремится достичь якобы существующей «гармонии дополняющих цветов». Эта цель кажется им тем более реальной, что за долгие годы исследований химия и физика возвели в ранг научной истины то разделение цветов на первичные и дополняющие, к которому живописцы когда-то пришли эмпирическим путем, разделяя краски на палитре на простые и смешанные. Теперь не только для искусства, но и для науки существуют «первичные» (синий, красный, желтый) и «дополняющие» (зеленый, фиолетовый, оранжевый). Отношения между первыми и вторыми определяются все более сложными научными законами, которые считают обязательными для себя многие художники, а за несколько десятилетий к ним еще присоединится немало других.
Среди научных трудов на эту тему наиболее важную роль сыграла книга Мишеля Эжена Шеврёля «О законе симультанного контраста цветов», опубликованная в 1839 году и сразу же переведенная на несколько языков. Шеврёль, директор гобеленовой мануфактуры в Париже, задается вопросом: почему некоторые краски не дают того хроматического эффекта, которого от них можно было бы ожидать. Он знает, что многие красители не являются химически стойкими – «это следовало бы знать каждому живописцу», – но понимает, что к проблемам химии в данном случае добавляются проблемы оптики, связанные с соседним расположением цветов. Он устанавливает, что восприятие цветов зависит от того, находятся ли они на расстоянии друг от друга или же рядом друг с другом, и, опираясь на этот факт, открывает несколько законов. Среди самых важных следует назвать закон об «оптическом смешении» (два цвета, будучи расположены рядом, оптически сливаются и воспринимаются зрением как один); затем закон о взаимодействии первичных и дополняющих цветов (первичный цвет и его дополняющий проясняют и усиливают друг друга, в то время как в паре первичный – не дополняющий цвета приглушают или искажают друг друга). В фундаментальном труде Шеврёля приводится еще много различных правил, законов и принципов. Несмотря на некоторую сложность для обычного читателя, эта книга вскоре стала очень популярной в кругу художников и оказала на них большое влияние. В наше время одна из актуальных задач искусствоведов – выяснить, кто из живописцев читал Шеврёля, а кто нет[228].
Для нас в данный момент важно, что наблюдения Шеврёля и предлагаемые им правила привели к очередному понижению статуса зеленого цвета. Оптика подтвердила то, что химия знала уже очень давно: зеленый не является первичным цветом; а главное, художники теперь могут обходиться без зеленых пигментов, им даже не обязательно смешивать синюю краску с желтой на палитре или на полотне: достаточно положить два мазка вплотную друг к другу – и произойдет их оптическое смешивание. Зеленый цвет – не свойство некоего вещества, не произведение художника и не технический трюк маляра: его создают наш глаз и наш мозг. Зеленый уже не существует как реальность, он превратился в оптическую иллюзию, слияние синего и желтого, которое происходит в нашем глазу.
Некоторые художники – импрессионисты, постимпрессионисты, пуантилисты – буквально следуют теориям Шеврёля и отказываются от зеленых пигментов: позднее на этом принципе будет основана техника фотомеханической четырехцветной репродукции (шелкография и трафаретная печать). Правда, большинство живописцев сохраняют верность этому цвету и используют его традиционным способом; однако им все же не дает покоя идея Шеврёля о первичных и дополняющих цветах, которую он назвал законом. Например, Писсарро с 1880-х годов использует в качестве обрамления или оправы для своих картин цвет, который является дополняющим для основного цвета картины: если на ней изображен закат, а значит, доминирующий цвет – красный, то обрамление выдержано в зеленых тонах; если это весенний пейзаж, в котором господствуют нежно-зеленые тона, то обрамление розоватокрасное[229]. Этот художник читал Шеврёля. Не все живописцы держали в руках фундаментальный труд директора гобеленовой мануфактуры, но многие знали его по краткому изложению, которое Шарль Блан (1813–1882), художественный критик и популяризатор искусства, опубликовал в нескольких своих книгах, в частности в «Грамматике графических искусств», впервые изданной в 1867 году и с тех пор неоднократно переиздававшейся. Книга Блана проще для чтения, чем труды Шеврёля, поэтому она оказывает еще большее влияние на художников. Вот, например, что пишет Блан о сочетании зеленого и красного:
Если смешать два первичных цвета, например синий и желтый, чтобы получился третий, то есть зеленый, то этот зеленый достигнет максимальной яркости, когда вы поставите его рядом с цветом, для которого он является дополняющим: красным. ‹…› И наоборот: красный станет ярче, если вы поставите его рядом с зеленым[230].
Итак, искусство признает авторитет науки и принимает разделение цветов на первичные и дополняющие. Его безоговорочно принимают даже те художники, которые утверждают, будто не придерживаются никакой теории и доверяют лишь своему глазу или творческому чутью. Это тем более странно, что разделение цветов, если вдуматься, – чистая условность, всего лишь очередной вариант классификации цветов; в течение долгих столетий живописцы даже не подозревали о его существовании, однако это не помешало им создавать шедевры. Кроме того, как в самой науке, так и в порождаемых ею технических процессах это разделение не может осуществляться по одной и той же схеме: в зависимости от того, о каком смешении цветов идет речь, аддитивном или субтрактивном, три первичных цвета и три дополняющих будут разными. Наконец, с точки зрения общества – а для историка это важнее всего – у этой идеи о неравенстве двух цветовых групп нет никакого разумного обоснования. То же самое можно сказать и об исключении черного и белого из иерархии цветов. В западноевропейском обществе, в его социальных кодах, обычаях и традициях, эмблемах и символах задействованы шесть базовых цветов: белый, красный, черный, зеленый, белый, синий, желтый; так было и в XII, и в XVII, и в XIX веке. За этими шестью с большим отрывом следуют шесть второстепенных цветов: серый, коричневый, розовый, фиолетовый и оранжевый. А дальше… дальше ничего нет. По крайней мере, никаких цветов, только оттенки и оттенки оттенков.
…Кандинский и Баухаус – тоже
Однако в конце XIX и начале XX века почти не осталось деятелей искусства, которые соглашались бы с этими простыми истинами. Иерархии цветов, предлагаемые физикой и химией, представляются более интересными, более современными, более перспективными, более «верными». В большинстве областей, связанных с цветом, сциентизм и позитивизм приносят огромный вред, и в этой ситуации зеленый цвет, возможно, главная жертва. Он лишен статуса первичного цвета, но и не относится к особому черно-белому миру; его принижают, им пренебрегают, о нем забывают. Характерный пример – иерархия цветов, которой придерживаются в школе искусств Баухаус: главные цвета – пресловутая триада, синий, желтый и красный, а также примкнувшие к ним черный и белый. Того же мнения придерживается и группа «Де Стейл», а Мондриан, перейдя к абстракционизму, полностью отказывается от зеленого. Для него, как и для многих других, «зеленый – бесполезный цвет»[231]. Если бы в этой области имело смысл заниматься статистикой (в чем я сомневаюсь) и можно было бы определить частоту встречаемости того или другого цвета, то стало бы очевидно, что в живописи XX века зеленого ничтожно мало. Даже абстрактная живопись (вспомним Дюбюффе), для которой цвета иногда превращаются в самостоятельную тематику, отвергает зеленый, быть может, даже категоричнее, чем она отвергла фигуративное искусство. Ведь это не первичный цвет! Только скромные художники-любители, которые еще пишут пейзажи, уделяют место зеленому на своих полотнах.
К неоправданному сциентизму, сопряженному иногда с неверным пониманием научных идей, к сенсационным новостям из мира физики (например, расщеплению атома, которое потрясло и сбило с толку кое-кого из художников) добавились еще и другие теории, пагубные для зеленого цвета. Некоторые из них опираются на психологию, физиологию и символику. Они получают широкое распространение в искусстве XX века. К несчастью, зачастую речь идет о псевдопсихологии, псевдофизиологии и псевдосимволике, которые предлагают некие универсальные схемы, в то время как в этих областях все тесно связано с культурным контекстом. Под влияние этих сомнительных теорий подпадают даже великие художники, например Василий Кандинский. Несмотря на восхищение, вызываемое его живописью, приходится признать, что идеи, высказанные им в его самой известной книге, «О духовном в искусстве» (1910), значительно устарели. Все, что касается эмоционального воздействия цветов, внутреннего отклика, который они будят в человеке, и космического значения, которое якобы им придается, – все это сугубо индивидуально. Все зависит от того, кто созерцает, от его окружения и его времени, от его эмоционального и культурного багажа. То, что говорит нам Кандинский об отношениях, связывающих цвета с душой человека, касается только самого Кандинского, и не может быть возведено в какой-то общемировой закон. А то, что он говорит о каждом цвете в отдельности, тесно связано с его эпохой и неприменимо к другим векам или другим социумам. Вот несколько «истин», которые он изрекает: белый – это глубокая, созидательная тишина; черный – безысходное ничто; серый – безнадежная неподвижность; красный – горячий, мятежный, могучий; фиолетовый – остывший красный; коричневый – воплощение твердости; оранжевый озаряет все вокруг; синий отступает, и любая поверхность, окрашенная синим, словно удаляется от нас. Подобные утверждения, быть может, отчасти допустимы в отношении европейца первой половины XX века, но их невозможно отнести к другой исторической эпохе или ко всей планете в целом.
Но самые странные и спорные суждения Кандинский высказывает о зеленом. Он не только считает его аморфным цветом, не имеющим своего лица или характера – притом что зеленый долгие века был в Западной Европе цветом перемен, волнений, смуты, юности, любви, свободы и дерзаний! – но еще и не стесняется заявить о своем глубоком презрении к этому цвету: «Абсолютный зеленый цвет является наиболее спокойным цветом из всех могущих вообще существовать; он никуда не движется и не имеет призвуков радости, печали или страсти; он ничего не требует, он никуда не зовет. Это постоянное отсутствие движения является свойством, особенно благотворно действующим на души усталых людей, но после некоторого периода отдыха, легко может стать скучным. ‹…› Пассивность есть наиболее характерное свойство абсолютного зеленого цвета, причем это свойство как бы нарушено, в некотором роде, ожирением и самодовольством. Поэтому в царстве красок абсолютно зеленый цвет играет роль, подобную роли буржуазии в человеческом мире – это неподвижный, самодовольный, ограниченный во всех направлениях элемент. Зеленый цвет похож на толстую, очень здоровую неподвижно лежащую корову, которая способна только жевать жвачку и смотреть на мир глупыми, тупыми глазами».
Сравнить зеленый цвет с толстой коровой – на это нужна смелость! Кандинскому ее хватило, и в этом удивительном тексте он показывает себя одним из злейших врагов, каких только встречал зеленый цвет за всю свою долгую историю.
В Баухаусе у Кандинского есть двое коллег, теоретиков цвета, которые, по-видимому, тоже невысоко ценят зеленый и отводят ему малозначительную роль в изобразительном искусстве. Это Йоганнес Иттен (1888–1967) и Йозеф Альберс (1888–1976). Иттен в созданной им знаменитой модели хроматического круга в очередной раз отдает приоритет трем первичным цветам: красному, желтому и синему, и в очередной раз повторяет: «Всякий творческий поиск, посвященный цветам, должен иметь в своей основе игру контрастов». Альберс принимает отдельные положения закона Шеврёля, но настаивает на релятивизме восприятия цветовых контрастов и отвергает любую преду становленную схему сочетания цветов. Работы, написанные каждым из них в конце жизни, – «Искусство цвета» Иттена (1961) и «Взаимодействие цветов» Альберса (1963) – оказали (и продолжают оказывать) большое влияние на систему преподавания теорий цвета в Европе и в Соединенных Штатах. Оба они, мягко говоря, не слишком благосклонны к зеленому: это второстепенный цвет, не заслуживающий внимания и бесполезный[232].
Наглядный пример такой позиции – дизайн, идейный наследник Баухауса и теорий Йоганнеса Иттена с его эпигонами. Много ли места в дизайне уделяется зеленому? Ничтожно мало или вообще нисколько. Сегодня, благодаря движению в защиту окружающей среды, зеленый все же проник в промышленный дизайн, но до этого дизайнеры и специалисты по рекламе долгие десятилетия почти не использовали в своей работе этот цвет. Почему? Потому что он не первичный? Кто и когда освободит науку, искусство и промышленность от этой порочной системы классификации цветов? Несколько тысячелетий ученые и художники Европы прожили, не зная о разделении цветов на первичные и дополняющие, и хуже им от этого не стало!
Если уж говорить о дизайне, следует признать, что он вообще не проявлял особой изобретательности во всем, что касалось цвета, подстраивался под любые научные теории и обходился достаточно примитивной символикой. Стараясь найти точные соответствия между цветом изделий и их функцией, дизайнеры уверовали в существование какой-то универсальной хроматической истины, словно на свете и правда есть чистые и смешанные, теплые и холодные, близкие и далекие, динамичные и статичные цвета. Забыв о том, что физиология и символика цвета тесно связаны с культурным контекстом, дизайн вознамерился создать некие «универсальные цветовые коды». Такие претензии сегодня могут лишь вызвать улыбку. К тому же товары, оформленные в соответствии с этими кодами, часто отпугивали покупателей, которые, по замыслу дизайнеров, должны были получить от покупки не только практическую пользу, но и эстетическое удовольствие.
В 1922 году Йоганнес Иттен сказал своим ученикам знаменитую фразу, которую дизайн на долгие десятилетия сделал своим лозунгом и которая для историка остается одним из самых спорных суждений, когда-либо высказанных о цвете: «Законы цвета вечны, абсолютны, не зависят от эпохи и сегодня действуют так же, как в незапамятные времена!»[233] Такое заявление разом упраздняет всякий культурный релятивизм, а заодно и всю совокупность гуманитарных наук.
Зеленый в повседневной жизни
Скромное место, которое занимает зеленый цвет в повседневной жизни конца XIX – начала XX века, отчасти обусловлено влиянием упрощенческих теорий в науке, промышленности и искусстве. А еще – давними предрассудками: зеленый не отличается прочностью, он блекнет на свету, улетучивается, темнеет, желтеет; зеленый – опасный, едкий, токсичный, вызывает болезни, в том числе смертельные; и в довершение всего, зеленый приносит несчастье, это цвет ведьм, цвет Дьявола и всех сил зла. В этих предрассудках, распространенных по всей Европе, реальные факты из практики художников и красильщиков перемешиваются с неискоренимыми суевериями, возникшими еще в незапамятной древности. Но есть и еще одна причина, не имеющая отношения ни к химии, ни к символике: она связана с этикой. Зеленый не является серьезным, солидным, высокоморальным цветом; зеленый – легкомысленный цвет, и от него лучше воздержаться. Такая точка зрения – наследие Реформации, некогда разделившей цвета на две группы: «пристойные» и «непристойные». Зеленый оказался среди последних.
Применение к цвету моральных критериев, которое было нормой в XVI столетии, имеет место и во второй половине XIX века, когда европейская и американская промышленность начинает в огромных масштабах производить предметы массового потребления. Большинство этих предметов вписывается в хроматическую гамму, из которой удалены яркие цвета: остались только белый, черный, серый и коричневый. Допускается также присутствие синего, цвета целомудренного или нейтрального. О красном, желтом и зеленом не может быть и речи. Это не случайность и не производственная необходимость, связанная с химическими особенностями красителей. Нет, это результат длительного воздействия протестантской этики; философ и социолог Макс Вебер (1864–1920) достаточно рано и очень убедительно доказал, что эта этика оказала решающее влияние на рождение капитализма и на экономическую деятельность в целом[234]. Во второй половине XIX века и далее, почти до середины XX-го, по обеим сторонам Атлантики крупный промышленный и финансовый капитал в основном находится в руках протестантских семей, которые навязывают всему миру свои ценности и свои принципы.
Много лет подряд стандартизованная продукция, предназначенная для повседневного потребления в Англии, Германии, Америке и других странах, производится с учетом требований морального и социального порядка, которые в большой степени подиктованы этой этикой. Например, именно этим объясняется скудная цветовая гамма первых предметов массового потребления: бытовые приборы, первые пишущие машинки и телефоны, первые фотоаппараты, первые пишущие ручки, первые автомобили (не говоря уже о тканях и об одежде), почти все вписываются в гамму тонов от черного до белого, включая различные оттенки серого и коричневого. Трудно отделаться от мысли, что яркая цветовая гамма, которую вполне могла создать тогдашняя химия красок, была отвергнута по соображениям морали[235]. Одной из жертв этой хромофобии стал зеленый цвет: его сочли нестойким и поверхностным, капризным и соблазнительным, слишком веселым, слишком живым, слишком бросающимся в глаза; если продукция предназначена для широких масс, зеленым надо пользоваться с осторожностью. Лучше заменить его синим, серым или черным[236].
В самом деле, вплоть до 1950-х годов в оформлении интерьеров и в быту зеленый встречается редко. Только в помещениях, предназначенных для отдыха, стены иногда бывают выкрашены зеленой краской или оклеены зелеными обоями, но, как правило, это не настоящий зеленый цвет: он бледно-зеленый, приглушенный или с сероватым оттенком; темные, насыщенные зеленые тона обоев и драпировок, характерные для буржуазных домов XIX века, теперь можно увидеть разве что у провинциальных чиновников. Они уже не так вредны для здоровья, как прежде, но начиная с 1920-х годов модернистский (или псевдомодернистский) интерьер редко обращается к зеленому. Даже в ванных комнатах и бассейнах этот цвет, который так долго считался в Европе цветом воды, уступает место белому и синему. Нельзя сказать, что зеленый полностью исчез из повседневной жизни, но он занимает в ней весьма скромное место.
Возможно, в период между двумя войнами лучшая роль, которая достается зеленому, – это его роль в мире игрушек, детских книг и комиксов. Здесь нет таких жестких условностей, здесь можно вести себя свободнее, а цвета ярче и веселее. Например, во Франции появился необычный литературный герой: Бабар, симпатичный слоник, которого придумал в 1931 году Жан де Брюнофф. Книжки про Бабара имели большой успех до и после Второй мировой войны. Бабар нисколько не напоминает персонажей из фильмов Уолта Диснея, суетливых, а порой и вульгарных. Он совсем другой – толстый, серый, добродушный, честный, малоразговорчивый, а главное, он совсем иначе одет: зеленый костюм, белая рубашка и красный галстук-бабочка. Он носит этот костюм всегда, за исключением официальных церемоний. Цвет костюма Бабара – не самый распространенный оттенок зеленого. Это нежный, и в то же время сдержанный цвет, который не отдает ни желтым, ни синим; когда-то такой оттенок назывался «весенним зеленым». Он выделяет Короля слонов из толпы прочих персонажей – «только Бабар одевается в зеленое» – и добавляет веселья его приключениям. Это цвет фантазии, который в Средние века назвали бы «веселым зеленым», а в современной Франции называют «цветом Бабара»[237].
На другом полюсе – недавно изобретенные тона, неприятные для глаза, а иногда просто отталкивающие: но они и задуманы такими. Эти оттенки зеленого не выцветают, не пачкаются, они сливаются с окружающим пейзажем и делают человека незаметным. Поэтому ткани таких оттенков идут на рабочую одежду для тех, кому постоянно приходится пачкаться, но главным образом на военную форму. Все они вписываются в определенную гамму зеленоватых тонов, таких как горчичный или «цвет гусиного помета». Самый распространенный – хаки, нечто среднее между коричневым, желтым, серым и зеленым. Слово «хаки» заимствовано из языка урду и означает «цвет земли» или «цвет пыли». Дело в том, что впервые форму такого цвета, трудноопределимого и в то же время не бросающегося в глаза, стали носить солдаты британской армии, служившие в Индии. Это означало разрыв с тысячелетней традицией, которая предписывала солдату носить яркие цвета (со времен Средневековья полагалось, чтобы солдат был виден издалека и гордился тем, что носит цвета своего государя или своего полка), а также переход к новым методам ведения войны. Примеру британцев вскоре последовали армии других стран Западной Европы. Одна за другой они надевали форму цвета хаки или близкого к нему цвета, который позволял солдату стать незаметным, раствориться среди пейзажа, где доминировали коричневые и зеленые тона. Позднее, сравнительно недавно, эту расцветку у военных позаимствовали гражданские, в частности молодые бунтари, собирающиеся изменить мир, а также, как ни странно, антимилитаристы. В 1970-е годы стилисты и кутюрье ввели в моду коричневато-зеленые тона, которые два или три поколения назад обычные люди надели бы только под угрозой расстрела. Впрочем, эта мода продержалась недолго и не стала важным этапом в долгой истории зеленого цвета.
Зеленовато-серый (feldgrün) цвет германской военной формы в Первой и Второй мировых войнах не имел такого успеха у модельеров. Вероятно, потому что он вызывал тяжелые воспоминания и вдобавок был очень похож на унылый и прозаический оттенок зеленого, который часто встречался в повседневной жизни: «административный зеленый». Этот цвет появился в 1900-е годы на стенах и в предметах интерьера государственных учреждений. Он получил большое распространение во Франции, Германии, Италии и других странах, где использовался, в частности, в министерствах, на вокзалах и на почте. Но его нередко можно увидеть и на частных предприятиях, повсюду, куда люди приходят на прием к служащим или к секретарям, где кругом папки с бумагами, пачки бланков и пресс-папье. Безликий, навевающий тоску, темный либо с серым оттенком, этот цвет считается нейтральным, «типовым», функциональным, как и атмосфера тех мест, где он применяется. Он будет моден до 1970-х годов, но в некоторых местах, куда современ – ные веяния проникают с большим опозданием, его можно увидеть и сейчас. Это эмблематический цвет бюрократии.
Природа в сердце городов
Вернемся на несколько десятилетий назад, в последние годы XIX – начало XX века, эпоху, когда зеленый цвет еще не совершил свою великую экологическую революцию и его место в повседневной жизни ограничено. Художники, писатели, ученые, промышленники, стилисты, модельеры, сильные мира сего не испытывают особого интереса к зеленому цвету, разве только в двух сферах жизни: это досуг и здоровье. Города Европы, в которых появляется все больше фабрик и заводов, и все сильнее загрязняется воздух, страдают от нехватки зелени. И вот с 1860-х годов власти начинают разрабатывать меры по сохранению уже существующих или созданию новых озелененных пространств в центре и на окраинах городов.
Пример подает викторианская Англия: здесь берут под защиту несколько сохранившихся парков и рощ, а также разбивают новые сады и скверы. Это нечто совершенно новое: долгие века парки и сады, как правило, были частью королевских владений или имений аристократии, и для обычных людей доступ в них был открыт только по определенным дням и при определенных условиях. Теперь же новыми озелененными пространствами в черте города управляют муниципалитеты или ассоциации граждан, и вход в них свободный. В то же время в небольших городах поощряется создание частных садов и занятия садоводством. Начинают выходить специализированные газеты и журналы; некоторые из них пользуются огромным успехом, например знаменитая Th e Gardener’s Chronicle, выходящая с 1841 года. Садоводство становится видом досуга, а для кого-то и страстью.
Вскоре примеру англичан последует вся Европа. Принимаются все но вые меры: охрана уже существующих зеленых насаждений; защита и реставрация исторических садов: устройство небольших, но многочисленных скверов; создание «зеленых поясов», отделяющих большие города от пригородов, и «зеленых мостов» между городом и загородной местностью; рождение «городов-садов», где зеленые пространства встроены в жилые районы, торговые и деловые кварталы; появление особых зон для детей, гуляющих и спортсменов. Строители, архитекторы, ландшафтные дизайнеры соперничают в изобретательности, стремясь создать новые озелененные пространства, придать им новаторскую структуру и оригинальный внешний вид, насадить там экзотические деревья, использовать при этом самые современные материалы, привлечь самых известных художников и придерживаться самых модных тенденций. Вплоть до 1930-х годов озелененные городские пространства – это места, где происходит напряженный творческий поиск.
Проектировщиков садов и скверов стимулирует еще и то, что врачи и гигиенисты постоянно твердят о пользе, которую приносят людям эти зеленые островки посреди городов. Мысль о том, что приобщение к природе целебно для человека, конечно, далеко не нова – она была известна еще в Древнем Риме, ею вдохновлялись Вергилий и Гораций, – но во второй половине XIX и в первые годы XX века, в эпоху второй промышленной революции, последствия которой – загрязнение окружающей среды и болезни – затрагивают все города Европы, мысль эта становится актуальной, как никогда. Позднее появляется все больше исследований и эссе, авторы которых настаивают на том, что сады и парки в сердце города жизненно необходимы. В наши дни эта погоня за зеленью приняла огромные масштабы и речь идет уже не только об оздоровительных мерах, но и об исполнении гражданского долга: каждый город считает себя обязанным увеличить площадь своих зеленых насаждений. Если верить врачам и психологам, человеку достаточно просто взглянуть на несколько деревьев и траву вокруг, чтобы успокоиться и снять стресс; это зрелище снижает артериальное давление, приятно расслабляет, вызывает положительные эмоции и повышает продолжительность жизни. Здесь зеленый выступает в своем давно известном аспекте: как цвет надежды.
В городском саду все зеленое: не только деревья, кусты, живые изгороди, лужайки и клумбы, но также столы и стулья, ограда и ворота, будки, киоски, стенды, склады инвентаря и даже униформа сторожей. Нежная или яркая зелень растений, все остальное темно- или серо-зеленое: в саду представлена очень богатая гамма тонов этого цвета. Святая святых – это «зеленый театр», площадка, где можно посидеть среди океана зелени всевозможных оттенков и послушать музыку или посмотреть спектакль. В какую сторону ни взглянешь, всюду зелено.
В XX веке этот оздоровительный цвет городских садов и парков постепенно смыкается с зеленым цветом медицины, который возник еще на закате Средневековья и просуществовал в течение всего Нового времени, пусть и не привлекая к себе особого внимания. Медицина и фармацевтика уже давно избрали зеленый своим эмблематическим цветом, вероятно, потому что долгие века большинство лекарств были растительного происхождения. Во многих университетах Европы на торжественных церемониях студентымедики и фармацевты надевали зеленые мантии, а военные врачи появлялись на полях сражений в зеленых пелеринах либо со знаками различия этого цвета. Впоследствии вывески аптек, на которых был изображен крест, также стали зелеными, и это, в свою очередь, укрепило репутацию зеленого как цвета здравоохранения.
В наши дни зеленый очень часто выступает в этом качестве, особенно в медицинских стационарах: в зеленое переодеваются хирурги и младший персонал в операционных блоках[238]: в зеленое красят стены в коридорах и палатах; упаковки с перевязочными материалами тоже зеленые. Во французском языке даже появилось словосочетание «больничный зеленый». Такой выбор продиктован не столько оптикой, как иногда приходится слышать (якобы зеленый, самый неагрессивный из цветов, не так утомляет зрение во время операции), сколько причинами исторического, эмблематического и символического характера: зеленый – цвет медицины и фармацевтики. Есть, конечно, исключения (в Италии, например, вывеска аптеки – красный крест), к тому же в последнее время руководство медицинских учреждений старается разнообразить цветовую гамму в их оформлении (там все чаще можно увидеть белый и синий), но на данный момент зеленый остается – и останется еще долго – медицинским, санитарным, успокаивающим цветом. Убедительным доказательством может служить аспирин, самый продаваемый лекарственный препарат в Европе. В большинстве европейских аптек он отпускается в упаковке полностью или частично зеленого цвета. Это традиционный успокоительный зеленый цвет фармакопеи.
Еще одно доказательство – места, где необходимо соблюдать повышенные требования гигиены и свежести воздуха (зубоврачебные кабинеты, физкультурные залы, продуктовые магазины, закрытые зоны и т. д.): в их оформлении доминирует зеленый. Современные правила городской жизни сделали его не только цветом здоровья, но также цветом чистоты и санитарии. Во многих городах и регионах зелеными стали даже помойные баки, а также урны, мешки для мусора, сливные трубы, в общем, все приспособления для очистки и санации. Сегодня зеленый очищает, освежает, дезинфицирует, подобно мяте и всем продуктам, содержащим ментол.
Есть в современном обществе сфера жизни, которая соединяет в себе требования гигиены, заботу о здоровье и досуг на свежем воздухе с присутствием растительного мира: это спорт. Здесь тоже ценят зеленый цвет и хотели бы постоянно видеть его вокруг. Начать хотя бы с целебных свойств зеленой лужайки, на которой происходят тренировки и проводятся соревнования. У нее двойное назначение, практическое и символическое: с одной стороны, смягчать удары при падении и минимизировать травмы; с другой – напоминать, что на любой поверхности, окрашенной в зеленое, решается исход партии. Здесь мы имеем дело с одной из самых древних символик зеленого – символикой судьбы. Будь то зеленые луга, на которых в Средние века происходили ордалии и рыцарские турниры, или зеленые игорные столы, появившиеся в XVI–XVII веках, или современные спортивные площадки, или, наконец, обитые зеленым сукном столы, за которыми заседают советы директоров предприятий, значение у них всегда будет одно и то же: на пространстве, окрашенном в зеленое, принимается судьбоносное решение, решается чья-то судьба, фортуна решает, чью сторону ей принять. Именно таково символическое значение зеленого цвета спортивных площадок: это не столько умиротворяющий цвет свежей травы, сколько цвет ристалища, где будет брошен жребий перед началом схватки. Возьмем, к примеру, настольный теннис: в него обычно играют в помещениях, где никто не рискует ушибиться или быть отправленным в нокаут; но тем не менее игра происходит на зеленой поверхности. Как и бильярд, в который играют на зеленом сукне. Как и многие соревнования, которые проводятся в залах на зеленом линолеуме или ковровом покрытии. Зеленый – цвет игры и азарта. Вот почему в мире спорта он вездесущ.
По крайней мере, как цвет игрового поля. Потому что до недавних пор для формы игроков он использовался достаточно редко. Когда во второй половине XIX века в Шотландии и в Англии зародился современный спорт, соревнующиеся носили либо белые, либо черные костюмы. Но очень скоро появились также красные и синие. Зеленые, желтые и фиолетовые появились позже, а розовые и оранжевые – совсем недавно. Во Франции, например, только в 1950–1960-х годах на поле впервые увидели игроков двух футбольных клубов первой лиги в зеленом («Сент-Этьен») и желтом («Нант»). Но, разумеется, есть исключения. Одно из них – национальный зеленый цвет Ирландии, в котором ее спортсмены выступают на всех состязаниях (особенно по регби) еще до того, как страна в 1920 году окончательно становится независимой. А еще – знаменитый зеленый пиджак, который с 1949 года вручается победителю «Турнира мастеров» (Th e Masters), одного из четырех турниров по гольфу серии «мейджор», и спустя год после победы должен быть возвращен в клуб. Зеленый цвет стал также цветом клуба-организатора турнира, Augusta National Golf Club в Огасте, штат Джорджия.
Другой любопытный пример из мира спорта – одно из пяти колец на олимпийском флаге, зеленое кольцо, которое является эмблемой Океании. В данном случае цвет был не выбран, а назначен. Эскиз олимпийского флага с пятью кольцами на белом фоне разработали и утвердили еще в 1912–1913 годах, но вскоре началась война, и в итоге флаг впервые был поднят только на Играх 1920 года в Антверпене. Каждое кольцо символизирует один из континентов: красное – Америку, желтое – Азию, черное – Африку, синее – Европу, зеленое – Океанию. Первые три цвета, очевидно, были выбраны по этническому принципу (или правильнее было бы назвать его расистским?). Красный – эмблема краснокожих, желтый – эмблема народов желтой расы, черный – эмблема чернокожих. Выбор остальных цветов объяснить труднее. Предположим, синий символизирует Европу в силу давней традиции: с XVIII века он считается любимым цветом ее жителей, и именно с ним в наши дни ассоциируют европейцев люди других культур. Но откуда взялся зеленый? Ни природные условия, ни культура Океании не могли обусловить такой выбор. На самом деле речь идет о выборе «по остаточному принципу». Пять из шести базовых цветов уже были задействованы – четыре для колец, пятый, белый, – для фона; следовательно, оставался только зеленый. Так Океания стала зеленой и, похоже, понемногу привыкла к этому цвету, выбранному для нее важными персонами из Европы, которые в жизни не бывали на земле Океании и, судя по всему, не имели не малейшего желания побывать там. Этот цвет, навязанный со стороны, пришелся по душе Океании и был ею признан; сегодня она гордо несет его на аренах всего мира.
Зеленый цвет сегодня
Все, что было сказано о зеленом цвете в связи с его местом в городе, о садах, о спорте, общественной гигиене, чистоте и здоровье, остается в силе и сегодня.
В некоторых областях эта тенденция окрепла настолько, что приняла почти навязчивые формы. Так с ней обстоит дело в общественной жизни и в политике. Долгое время различные политические партии и объединения оставались равнодушны к зеленому цвету, однако с 1970-х годов, как в Европе, так и на других континентах, его избрали своей эмблемой многие общественные движения, в основе программы которых – защита окружающей среды и пропаганда экологически ответственного поведения, ревизия ценностей общества потребления, отказ от невозобновляемых или загрязняющих окружающую среду энергоресурсов, охрана здоровья и благосостояния граждан, а заодно – мир во всем мире, демократия и социальная справедливость. Все эти движения, расходящиеся во мнениях по очень многим вопросам (социализм, регионализм, права национальных и религиозных меньшинств, борьба с бедностью в странах третьего мира, феминизм), сходятся в одном – приверженности зеленому цвету, по примеру неправительственной организации, само название которой звучит как программа: «Greenpeace». Эта и другие подобные организации во всем мире борются с угрозами окружающей среде и пропагандируют «зеленый образ мыслей», Green attitude.
Всего за несколько десятилетий зеленый снова вжился в роль, которую не играл со времен Древнего Рима и Византии: идеологического и политического цвета. Во многих странах возникли партии, выбравшие название этого цвета своим названием: «Les verts» во Франции, «Die Grünen» в Германии, «I Verdi» в Италии и т. п. В 2001 году в Канберре, Австралия, представители двадцати четырех «зеленых» партий подписали «Глобальную хартию зеленых». А в Европе начиная с 1990-х годов многие партии «зеленых» даже успели войти в правительственные коалиции. Другие остались в оппозиции, однако в 2004 году все они собрались вместе и учредили Европейскую федерацию зеленых партий, позже преобразованную в Европейскую партию зеленых, которая в настоящий момент объединяет тридцать две партии экологической направленности из разных стран.
В современной экологии есть область, самым тесным образом связанная с зеленым цветом, – это биологическое земледелие. Его задача – способствовать биоразнообразию, беречь растительно-животный мир и не нарушать природные циклы, убедить людей вернуться к натуральным продуктам, запретить химические удобрения и пестициды, а также генномодифицированные культуры. Продукты, которые в результате попадают в продажу и которые должны соответствовать самым строгим требованиям, маркируются зелеными ярлычками с надписью «био» или «органический». Зеленый – не только цвет политической экологии, но также и цвет биологического земледелия.
Дело дошло до того, что в сегодняшнем мире, наводненном всевозможными этикетками, марками и ярлычками, уже невозможно выпустить товар с зеленым лейблом, который не ассоциировался бы с экологией. Стоит тебе заикнуться, что твой любимый цвет – зеленый, как тебя сразу примут за защитника окружающей среды, борца за возобновляемые источники энергии, сторонника биологического земледелия, а то и за экологического фанатика. Целое направление общественной мысли объявило зеленый цвет и связанную с ним символику своей собственностью. Теперь это уже не столько цвет, сколько идеология. Несколькими десятилетиями раньше пленником чересчур выразительной политической символики стал другой цвет – красный. Если ты говорил, что любишь красный цвет, тебя тут же записывали в «коммунисты». А сегодня жертвой таких поспешных и упрощенческих аналогий стал зеленый.
И в этом повинны не одни только политические партии и движения. Есть и другие любители зеленого, активно использующие его символику к своей выгоде: советы органов местного самоуправления, различные организации, фирмы и предприятия. Они боятся отстать от времени, не хотят, чтобы их считали недостаточно граждански или этически корректными, а потому эксплуатируют модный цвет, где и как только можно. Яркий пример – современные геральдика и эмблематика. Притом что частота встречаемости зеленого («зелени») в европейских гербах всегда была очень невелика, сегодня нам известно множество городов и поселков, на гербе которых доминирующий цвет – зеленый. Некоторые даже отказываются от своих традиционных, иногда тысячелетних гербов и принимают новые, уделяя на них заметное место зеленому. Или добавляют на древний гербовый щит какую-нибудь геральдическую фигуру зеленого цвета (перевязь, крест, шеврон). А предприятия и торговые фирмы заказывают логотипы и товарные знаки полностью или частично зеленого цвета, чтобы быть в русле современной моды. Принято думать, что такие лейблы облагораживают моральный облик руководства фирмы, приманивают клиентов и затыкают рот недоброжелателям. Но иногда отказ от старого, привычного лейбла и замена его новым, полностью или частично зеленым, происходят так резко, что приводят к прямо противоположному эффекту. Так, одна знаменитая американская фирма, признанный лидер в области фастфуда, недавно сменила цвет фона, на котором вырисовывается ее эмблема – буква «М» желтого цвета. Раньше фон был красным, но теперь во многих странах он стал зеленым: очевидно, это должно убедить клиентов, что еда, продаваемая под этой маркой, соответствует категориям «био» и «экологически чистый продукт».
Но сегодняшнюю популярность зеленого нельзя объяснить только примитивными рекламными уловками и появлением новых идеологических стереотипов. Широкая публика явно почувствовала влечение к этому цвету, причем уже давно. Все исследования общественного мнения на тему «Ваш любимый цвет?», проводимые в Западной Европе, показывают, что зеленый уже сотню лет уверенно занимает второе место после синего[239]. Причем по всем странам, от Италии до Норвегии и от Финляндии до Португалии, результаты одни и те же. Пол и возраст опрашиваемых, их социальное положение и профессия почти не влияют на ответы: они всегда более или менее одинаковые[240]. И, что важнее всего для историка, они не меняются с тех пор, как существуют социологические опросы, то есть с конца XIX века. Несмотря на появление новых технологий, новых знаний, новых носителей цвета и на перемены в обществе и во взглядах на жизнь, к которым все это привело, от поколения к поколению результаты опросов не менялись. И в 1890-м, и в 1930-м, и в 1970-м, и в 2010 году 40–50 % респондентов самым любимым цветом называют синий; за ним следует зеленый (15–20 %); далее, с небольшим отставанием, красный (12–15 %); затем, с большим отрывом, белый, черный и желтый (3–6 %). Что касается «второстепенных» цветов (розовый, оранжевый, серый, фиолетовый и коричневый), им достаются лишь жалкие крохи[241].
Сегодня, как и вчера, в Европе один из каждых пяти или шести опрошенных называет зеленый своим любимым цветом. Это немного по сравнению с синим (почти что каждый второй), но ощутимо больше по сравнению со всеми остальными. Тем более что в ответ на вопрос о самом нелюбимом из цветов зеленый называют только 10 % респондентов, а на долю желтого, черного и даже красного приходится гораздо больше таких ответов[242]. Среди тех, кто не любит зеленый, большинство признаются, что он внушает им страх: это ядовитый, зловещий цвет, который приносит несчастье. Как мы видим, средневековые суеверия все еще сильны и не намерены сдаваться.
Не менее интересны результаты опросов, во время которых людей спрашивают, с какой идеей или представлением у них ассоциируется тот или иной цвет. На протяжении последних десятилетий в Европе и Соединенных Штатах такие исследования проводятся все чаще и чаще. И пусть к их результатам следует относиться с осторожностью, все же они в общем верно отражают современный характер символики цветов на Западе. Зеленый цвет вызывает сразу несколько ассоциаций, как положительных, так и отрицательных. Среди отрицательных – яд, колдовство, зависть, скупость, ревность[243]. Но положительных больше: покой, свежесть, юность, гармония, симпатия, естественность, дружба, доверие. В прошлом непостоянный, мятежный, нередко даже преступный, зеленый цвет, похоже, остепенился. Этому, очевидно, поспособствовала важная роль, которую он играет в сигнальных кодах (разрешение, санкция, пропуск) и в комплексе идей, связанных с возвращением к природе (зеленые островки, зашита окружающей среды, все формы природоохранной деятельности).
И все же среди многообразных понятий, ассоциируемых с зеленым цветом, четко выделяется триада, которая вместила в себя истинный символический потенциал зеленого в современных западных обществах: здоровье, свобода, надежда. Это явление нельзя назвать новым, но сегодня оно достигло беспрецедентных масштабов; его влияние испытывают на себе материальная культура, повседневная жизнь, художественное творчество и мир воображения. Зеленый цвет – здоровый, динамичный, мощный. Он свободный, естественный, он всегда готов бороться против хитрости и фальши, против всех форм запретов и любых диктатур. А главное, он несет в себе такое множество всевозможных надежд – и для отдельного человека, и для общества в целом. Некогда презираемый, отвергнутый, нелюбимый, зеленый превратился в мессианский цвет. Он спасет мир.
До того как принять форму книги, моя версия социальной и культурной истории зеленого цвета в Европе была темой семинарских занятий, которые я несколько лет вел в Практической школе высших исследований и в Высшей школе социальных наук. И мне хотелось бы поблагодарить всех моих учеников и слушателей за плодотворный обмен мнениями во время нашей совместной работы.
Выражаю также признательность моим родным, друзьям, коллегам – всем, кто помогал мне советами, замечаниями и предложениями, в частности Брижит Бютнер, Пьеру Бюро, Ивонне Казаль, Мари Клото, Клоду Купри, Жан-Пьеру Крики, Аделине Гран-Клеман, Франсуа Жаксону, Филиппу Жюно, Клер Лесаж, Кристиану де Мериндолю, Анне Пастуро, Лоре Пастуро, Анне Риц-Гильбер, Ольге Васильевой-Кодонье.
Большое спасибо издательству Éditions du Seuil и всей редакции книг по искусству, в особенности Натали Бо, Каролине Фюкс, Карине Бензакин, Мари-Анне Меэ, Бернару Пьеру, Рено Безомбу и Сильвену Шюпену. Все они очень старались, чтобы эта книга получилась такой, как была задумана.
И наконец, большое спасибо Клодии Рабель, которая и в этот раз помогала мне дельными критическими замечаниями и эффективной вычиткой текста.
Библиография
Работы общего характера
Berlin B., Kay P. Basic Color Terms. Their Universality and Evolution. Berkeley, 1969.
Birren F. Color. A Survey in Words and Pictures. New York, 1961.
Bomford D., Roy A. Colour. Londres, 2000.
Brusatin M. Storia dei colori. 2e éd. Turin, 1983 / trad, française. Histoire des couleurs. Paris, 1986.
Conklin H. Color Categorization // The American Anthropologist. 1973. Vol. LXXV/4. Pp. 931–942.
Eco R., dir. Colore: divietti, decreti, discute. Milan, 1985 (numéro spécial de la revue Rassegna, vol. 23, sept. 1985).
Gage J. Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. Londres, 1993.
Heller E. Wie Farben wirken. Farbpsychologie, Farbsymbolik, Kreative Farbgestaltung. Hambourg, 1989.
Indergand M., Fagot Ph. Bibliographie de la couleur. Paris, 1984–1988. 2 vol.
Meyerson I., dir. Problèmes de la couleur. Paris, 1957.
Pastoureau M. Couleurs, images, symboles. Etudes d’histoire et d’anthropologie. Paris, 1989.
Pastoureau M. Une histoire des couleurs est-elle possible? // Ethnologie française. 1990. Oct. – déc. Vol. 20/4. Pp. 368–377.
Pastoureau M. Bleu. Histoire d’une couleur. Paris, 2000.
Pastoureau M. Dictionnaire des couleurs de notre temps. Symbolique et société contemporaines. 4e éd. Paris, 2007.
Pastoureau M. Noir. Histoire d’une couleur. Paris, 2008.
Portmann A., Ritsema R., dir. The Realms of Colour. Die Welt der Farben. Leyde, 1974 (Eranos Yearbook, 1972).
Pouchelle M. – Ch., dir. Paradoxes de la couleur. Paris, 1990 (numéro spécial de la revue Ethnologie française. 1990. Oct. – déc. Vol. 20/4.
Rzepinska M. Historia coloru u dziejach malatstwa europejskiego. 3e éd. Varsovie, 1989.
Tornay S., dir. Voir et nommer les couleurs. Nanterre, 1978.
Valeur B. La Couleur dans tous ses états. Paris, 2011.
Vogt H. H. Farben und ihre Geschichte. Stuttgart, 1973.
Zahan D. L’homme et la couleur // Jean Poirier, dir. Histoire des mœurs. Tome I: Les Coordonnées de l’homme et la culture matérielle. Paris, 1990. Pp. 115–180.
Zollinger H. Color. A Multidisciplinary Approach. Zurich, 1999.
Zuppiroli L., dir. Traité des couleurs. Lausanne, 2001.
Античность и Средние века
Beta S., Sassi M. M., éds. I colori nel mondo antiquo. Esperienze linguistiche e quadri simbolici. Sienne, 2003.
Bradley M. Colour and Meaning in Ancient Rome. Cambridge, 2009.
Brinkmann V., Wünsche R., éds. Bunte Götter. Die Farbigkeit antiker Skulptur. Munich, 2003.
Brüggen E. Kleidung und Mode in der höfischen Epik. Heidelberg, 1989.
Carastro M., éd. L’Antiquité en couleurs. Catégories, pratiques, représentations. Grenoble, 2008. Pp. 187–205.
Cecchetti B. La vita dei Veneziani nel 1300. Le vesti. Venise, 1886.
Centre universitaire d’études et de recherches médiévales d’Aix-en-Provence. Les Couleurs au Moyen Age. Aix-en-Provence, 1988 (Senefiance, vol. 24).
Ceppari Ridolfi M. A., Turrini P. Il mulino delle vanita. Lusso e cerimonie nella Siena medievale. Sienne, 1996.
Descamps-Lequime S., éd. Couleur et peinture dans le monde grec antique. Paris, 2004.
Dumézil Georges. Albati, russati, virides // Rituels indo-européens à Rome. Paris, 1954. Pp. 45–61.
Frodl-Kraft E. Die Farbsprache der gotischen Malerei. Ein Entwurf // Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. 1977–1978. T. XXX–XXXI. Pp. 89–178.
Grand-Clément A. La Fabrique des couleurs. Histoire du paysage sensible des Grecs anciens. Paris, 2011.
Haupt G. Die Farbensymbolik in der sakralen Kunst des abendländischen Mittelalters. Leipzig; Dresde, 1941.
Istituto storico lucchese, Il colore nel Medioevo. Arte, simbolo, tecnica. Atti delle Giomate di studi. Lucques, 1996–1998. 2 vol.
Luzzatto L., Pompas R. II significato dei colori nelle civiltà antiche. Milan, 1988.
Pastoureau M. Figures et couleurs. Etudes sur la symbolique et la sensibilité médiévales. Paris, 1986.
Pastoureau M. L’Eglise et la couleur des origines à la Réforme // Bibliothèque de l’École des chartes. 1989. T. 147. Pp. 203–230.
Pastoureau M. Voir les couleurs au XIIIe siècle // Micrologus. Nature, Science and Médiéval Societies. Vol. VI (View and Vision in the Middle Ages). 1998. T. 2. Pp. 147–165.
Rouveret A. Histoire et imaginaire de la peinture ancienne. Paris; Rome, 1989.
Rouveret A., Dubel S., Naas V., éds. Couleurs et matières dans l’Antiquité. Textes, techniques et pratiques. Paris, 2006.
Sicile. Héraut d’armes du XVe siècle, Le Blason des couleurs en oignes, livrées et devises, éd. Hippolyte Cocheris. Paris, 1857.
Tiverios M., Tsiafakis D., éds. The Role of Color in Ancient Greek Art and Architecture (100–31 B.C.). Thessalonique, 2002.
Villard L., éd. Couleur et vision dans L’Antiquité classique. Rouen, 2002.
Новое время и современность
Batchelor D. La Peur de la couleur. Paris, 2001.
Birren F. Selling Color to People. New York, 1956.
Brino G., Rosso F. Colore e citta. II piano del colore di Torino, 1800–1850. Milan, 1980.
Läufer O. Farbensymbolik im deutschen Volsbrauch. Hambourg, 1948.
Lenclos J. – Ph., D. Les Couleurs de la France. Maisons et paysages. Paris, 1982.
Lenclos J. – Ph., D. Les Couleurs de l’Europe. Géographie de la couleur. Paris, 1995.
Noël B. L’Histoire du cinéma couleur. Croissy-sur-Seine, 1995.
Pastoureau M. La Réforme et la couleu // Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français. 1992. Juil. – sept. T. 138. Pp. 323–342.
Pastoureau M. La couleur en noir et blanc (XV–XVIII siècle) // Le Livre et l’historien. Etudes offertes en l’honneur du professeur Henri-Jean Martin. Genève, 1997. Pp. 197–213.
Pastoureau M. Les Couleurs de nos souvenirs. Paris, 2010.
Филологические и терминологические проблемы
André J. Etude sur les termes de couleurs dans la langue latine. Paris, 1949.
Brault G. J. Early Blazon. Heraldic Terminology in the XIIth and XIIIth Centuries, with Special Reference to Arthurian Literature. Oxford, 1972.
Crosland M. P. Historical Studies in the Language of Chemis-tery. Londres, 1962.
Giacolone Ramat A. Colori germanici nel mondo romanzo // Atti e memorie dell’Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria (Firenze). 1967. Vol. 32. Pp. 105–211.
Gloth W. Das Spiel von den sieben Farben. Königsberg, 1902.
Grossmann M. Colori e lessico: studi sulla struttura semantica degli aggetivi di colore in catalano, castigliano, italiano, romano, latino ed ungherese. Tübingen, 1988.
Irwin E. Colour Terms in Greek Poetry. Toronto, 1974.
Jacobson-Widding A. Red-White-Black, as a Mode of Thought. Stockholm, 1979.
Kristol A. M. Color: Les langues romanes devant le phénomène couleur. Berne, 1978.
Maxwell-Stuart P. G. Studiesin Greek Colour Terminology. Vol. 2: XAPOPOΣ. Leyde, 1998.
Meunier A. Quelques remarques sur les adjectifs de couleur // Annales de l’université de Toulouse. Vol. 11/5. 1975. Pp. 37–62.
Mollard-Desfour A. Dictionnaire des mots et expressions de la couleur. Paris, 2000–2012. 6 vol.
Ott A. Etudes sur les couleurs en vieux français. Paris, 1899.
Schäfer B. Die Semantik der Farbadjektive im Altfranzösischen. Tübingen, 1987.
Sève R., Indergand M., Lanthony Ph. Dictionnaire des termes de la couleur. Paris, 2007.
Wackernagel W. Die Farben- und Blumensprache des Mittelalters // Abhandlungen zur deutschen Altertumskunde und Kunstgeschichte. Leipzig, 1872. Pp. 143–240.
Wierzbicka A. The Meaning of Color Terms: Cromatology and Culture // Cognitive Linguistics. 1990. Vol. 1/1. Pp. 99–150.
История окрашивания и красильного дела
Brunello F. L’arte délia tintura nella storia dell’umanita. Vicence, 1968.
Brunello F. Arti e mestieri a Venezia nel medioevo e nel Rinascimento. Vicence, 1980.
Cardon D., Châtenet G. du. Guide des teintures naturelles. Neuchâtel; Paris, 1990.
Chevreul M. E. Leçons de chimie appliquées à la teinture. Paris, 1829.
Edelstein S. M., Borghetty H.C. The «Plictho» of Giovan Ventura Rosetti. Londres; Cambridge (Mass.), 1969.
Gerschel L. Couleurs et teintures chez divers peuples indo-européens //Annales E.S.C. 1966. Pp. 608–663.
Hellot J. L’Art de la teinture des laines et des étoffes de laine en grand et petit teint. Paris, 1750.
Jaoul M., dir. Des teintes et des couleurs, catalogue d’exposition. Paris, 1988.
Lauterbach F. Geschichte der in Deutschland bei der Färberei angewandten Farbstoffe, mit besonderer Berücksichtigung des mittelalterlichen Waidblaues. Leipzig, 1905.
Legget W. E. Ancient and Medieval Dyes. New York, 1944.
Lespinasse R. De. Histoire générale de Paris. Les métiers et corporations de la ville de Paris. T. III (Tissus, étoffes…). Paris, 1897.
Pastoureau M. Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’ Occident médiéval. Paris, 1998.
Ploss E. E. Ein Buch von alten Farben. Technologie der Textilfärben im Mittelalter. 6e éd. Munich, 1989.
Rebora G. Un manuale di tintoria del Quattrocento. Milan, 1970.
Varichon A. Couleurs: pigments et teintures dans les mains des peuples. 2e éd. Paris, 2005.
История пигментов
Bail Ph. Histoire vivante des couleurs. 5000 ans de peinture racontée par les pigments. Paris, 2005.
Bomford D. e alii. Art in the Making: Italian Painting before 1400. Londres, 1989.
Bomford D. et alii. Art in the Making: Impressionism. Londres, 1990.
Brunello F. De arte illuminandi // e altri trattati sulla tecnica della miniatura medievale. 2e éd. Vicence, 1992.
Feller R. L., Roy A. Artists’ Pigments. A Handbook of their History and Characteristics. Washington, 1985–1986. 2 vol.
Guineau B., dir. Pigments et colorants de l’Antiquité et du Moyen Âge. Paris, 1990.
Harley R. D. Artists’ Pigments (c. 1600–1835). 2e éd. Londres, 1982.
Hills P. Venetian Colour. New Haven, 1999.
Kittel H., dir. Pigmente. Stuttgart, 1960.
Laurie A. P. The Pigments and Mediums of Old Masters. Londres, 1914.
Loumyer G. Les Traditions techniques de la peinture médiévale. Bruxelles, 1920.
Merrifield M. P. Original Treatises dating from the XIIth to the XVIIIth Centuries on the Art of Painting. Londres, 1849. 2 vol.
Montagna G. I pigmenti. Prontuario per l’arte e il restauro. Florence, 1993.
Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken. I: Farbmittel, Buchmalerei, Tafel- und Leinwandmalerei. Stuttgart, 1988.
Roosen-Runge H. Farbgebung und Maltechnik frühmittelalterlicher Buchmalerei. Munich, 1967. 2 vol.
Smith C. S., Hawthorne J. G. Mappae clavicula. A Little Key to the World of Medieval Techniques. Philadelphie, 1974 (Transactions of the American Philosophical Society, n.s., vol. 64/TV).
Techné. La science au service de Part et des civilisations. 1996. Vol. 4 («La couleur et ses pigments»).
Thompson D. V. The Material of Medieval Painting. Londres, 1936.
История одежды
Baldwin F. E. Sumptuary Legislation and Personal Relation in England. Baltimore, 1926.
Baur V. Kleiderordnungen in Bayern von 14. bis 19. Jahrhundert. Munich, 1975.
Boehn M. von. Die Mode. Menschen und Modelt vom Untergang der alten Welt bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Munich, 1907–1925. 8 vol.
Boucher F. Histoire du costume en Occident de l’ Antiquité à nos jours. Paris, 1965.
Bridbury A. R. Medieval English Clotbnaking. An Economic Survey. Londres, 1982.
Eisenbart L. C. Kleiderordnungen der deutschen Städte zwischen 1350–1700. Göttingen, 1962.
Harte N. B., Ponting K.G., éd. Cloth and Clothing in Medieval Europe. Essays in Memory of E.M. Canis-Wilson. Londres, 1982.
Harvey J. Men in Black. Londres, 1995 (trad, française: Des hommes en noir: Du costume masculin à travers les âges, Abbeville, 1998).
Hunt A. Governance of the Consuming Passions. A History of Sumptuary Law. Londres; New York, 1996.
Lurie A. The Language of Clothes. Londres, 1982.
Madou M. Le Costume civil. Turnhout, 1986 (Typologie des sources du Moyen Age occidental, vol. 47).
Mayo J. A History of Ecclesiastical Dress. Londres, 1984.
Nixdorff H., Müller H., dir. Weisse Vesten, roten Roben. Von den Farbordnungen des Mittelalters zum individuellen Farbgeschmak, catalogue d’exposition. Berlin, 1983.
Page A. Vêtir le prince. Tissus et couleurs à la cour de Savoie (1427–1447). Lausanne, 1993.
Pellegrin N. Les Vêtements de la liberté. Abécédaires des pratiques vestimentaires françaises de 1780 à 1800. Paris, 1989.
Piponnier F. Costume et vie sociale. La cour d’Anjou, XIVe – XVe siècles. Paris; La Haye, 1970.
Piponnier F., Mane P. Se vêtir au Moyen Age. Paris, 1995.
Quicherat J. Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIII siècle. Paris, 1875.
Roche D. La Culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVII s. – XVIII s.). Paris, 1989.
Roche-Bernard G., Ferdière A. Costumes et textiles en Gaule romaine. Paris, 1993.
Vincent J. M. Costume and Conduct in the Laws of Basel, Bern and Zuerich. Baltimore, 1935.
Философия и история науки
Albert J. – P. et alii, éd. Coloris Corpus. Paris, 2008.
Blay M. La Conceptualisation newtonienne des phénomènes de la couleur. Paris, 1983.
Blay M. Les Figures de l’ arc-en-ciel. Paris, 1995.
Boyer C. B. The Rainbow from Myth to Mathematics. New York, 1959.
Goethe J. W. von. Zur Farbenlehre. Tübingen, 1810. 2 vol.
Goethe J. W. von. Materialen zur Geschichte der Farbenlehre, nouv. éd. Munich, 1971. 2 vol.
Halbertsma K. T. A. A History of the Theory of Colour. Amsterdam, 1949.
Hardin C. L. Color for Philosophers. Unweaving the Rainbow. Cambridge (États-Unis), 1988.
Lindberg D. C. Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler. Chicago, 1976.
Magnus H. Histoire de l’évolution du sens des couleurs. Paris, 1878.
Newton I. Opticks: or a Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light. Londres, 1704.
Pastore N. Selective History of Theories of Visual Perception, 1650–1950. Oxford, 1971.
Sepper D. L. Goethe contra Newton. Polemics and the Project of a New Science of Color. Cambridge, 1988.
Sherman P. D. Colour Vision in the Nineteenth Century: the Young-Helmholtz-Maxwell Theory. Cambridge, 1981.
Westphal J. Colour: a Philosophical Introduction. 2e éd. Londres, 1991.
Wittgenstein L. Bemerkungen über die Farben. Francfort-sur-le-Main, 1979.
История и теория искусства
Aumont J. Introduction à la couleur: des discours aux images. Paris, 1994.
Ballas G. La Couleur dans la peinture moderne. Théorie et pratique. Paris, 1997.
Barash M. Light and Color in the Italian Renaissance Theory of Art. New York, 1978.
Dittmann L. Farbgestaltung und Farbtheorie in der abendländischen Malerei. Stuttgart, 1987.
Gavel J. Colour. A Study of its Position in the Art Theory of the Quattro- and Cinquecento. Stockholm, 1979.
Hall M. B. Color and Meaning. Practice and Theory in Renaissance Painting. Cambridge (Mass.), 1992.
Imdahl M. Farbe. Kunsttheoretische Reflexionen in Frankreich. Munich, 1987.
Kandinsky V. Über das Geistige in der Kunst. Munich, 1912; Du Spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, trad, de Pierre Volbout. Paris, 1969.
Le Rider J. Les Couleurs et les mots. Paris, 1997.
Lichtenstein J. La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l’age classique. Paris, 1989.
Roque G. Art et science de la couleur. Chevreiil et les peintres de Delacroix à l’ abstraction. Nîmes, 1997.
Shapiro A. E. Artists’ Colors and Newton’s Colors // Isis. Vol. 85. 1994. Pp. 600–630.
Teyssèdre B. Roger de Piles et les débats sur le coloris au siècle de Louis XIV. Paris, 1957.
История зеленого цвета
Heinermann Th. Die grünen Augen // Romanische forschungen. 1949. T. 58–59. Pp. 18–40.
Kinney M. Vair and Related Words. A Study in Semantics // Romanic Review. 1919. T. 10. Pp. 322–363.
Laurian J. – M. Über die grüne Grenze ou la longue marche des lexies colorées // Contrastes. 1983. T. 7. Pp. 79–95.
Mollard-Desfour A. Le Vert. Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions d’aujourd’hui (XX–XXI siècles). Paris, 2012.
Pastoureau M. Formes et couleurs du désordre: le jaune avec le vert // Médiévales. 1983. Mai. T. IV. Pp. 62–73.
Pastoureau M. La couleur verte au XVIe siècle: traditions et mutations // Marie-Thérèse Jones-Davies, éd. Shakespeare. Le monde vert: rites et renouveau. Paris: Les Belles Lettres, 1995. Pp. 28–38.
Pastoureau M. Une couleur en mutation: le vert à la fin du Moyen Âge // Académie des inscriptions et belles-lettres, Comptes rendus des séances. 2007. Avril – juin. Pp. 705–731.
Trinquier J. Confusis oculis prosunt virentia (Sénèque, De ira, 3, 9, 2). Les vertus magiques et hygiéniques du vert dans l’Antiquité // Laurence Villard, éd. Couleurs et visions dans l’ Antiquité classique. Rouen, 2002. Pp. 97–128.
Vignes L. Histoire de vert // Les Enjeux sociaux du langage. Hommage a Bernard Gardin. Paris, 2006. Pp. 124–135 (Synergies France, No. 5).
Сноски
1
Я заимствовал это выражение из книги: Gemet L. Dénomination et perception des couleurs chez les Grecs // I. Meyerson, dir. Problèmes de la couleur. Paris, 1957. Pp. 313–326.
(обратно)2
Maxwell-Stuart P. G. Studies in Greek Color Terminology. Leyde, 1981. 2 vols.
(обратно)3
Среди обширной литературы на эту тему см.: Irwin E. Color Terms in Greek Poetry. Toronto, 1974; Grand-Clément A. La Fabrique des couleurs. Histoire du paysage sensible des Grecs anciens. Paris, 2011. Pp. 72–130.
(обратно)4
Ibid. Pp. 118–120, 415–418.
(обратно)5
Gladstone W. E. Studies on Homer and the Homeric Age. Oxford, 1858. T. III. Pp. 458–499; Magnus H. Histoire de l’évolution du sens des couleurs (trad. J. Soury). Paris, 1878. Pp. 47–48; Weise O. Die Farbenbezeichnungen bei den Griechen und Römern // Philologis. 1888. T. XLVI. Pp. 593–605. Но есть и другие мнения, см.: Goetz K. E. Waren die Römer blaublind // Archiv für lateinische Lexicographie und Grammatik. 1906. T. XIV. Pp. 75–88; 1908. T. XV. Pp. 527–547.
(обратно)6
См., например: Geiger L. Zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Stuttgart, 1871.
(обратно)7
См., в особенности: Die geschichtliche Entwicklung des Farbensinnes. Leipzig, 1877, работу, переведенную на многие языки.
(обратно)8
Вот эти слова: caeruleus, caesius, glaucus, cyaneus, lividus, venetus, aerius, ferreus. Теории Магнуса позднее подхватит К. Э. Гетц (см. прим. 5). О трудностях, которые испытывали древние греки при обозначении синего, см.: Пастуро М. Синий. История цвета. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
(обратно)9
Этимология, производящая caeruleus от caelum (небо), при фонетическом и филологическом анализе обнаруживает свою несостоятельность. См., впрочем, гипотезу А. Эрну и А. Мейе в «Этимологическом словаре латинского языка» (Париж, 1979) о существовании (нигде не засвидетельствованном) промежуточной формы caeluleus. А для средневековых авторов, у которых этимология строилась на иных принципах, чем у ученых ХХ века, связь между caeruleus и cereus была вполне очевидной.
(обратно)10
Среди работ, в которых решительно отвергаются гипотезы Магнуса и эволюционистские теории, см.: Marty F. Die Frage nach der geschichtlichen Entwicklung des Farbensinnes. Wien, 1879, а также: Allen G. The Colour Sense. Its Origin and Development. London, 1879.
(обратно)11
См., например: Schultz W. Das Farbenempfindlungssystem der Hellenen. Leipzig, 1904.
(обратно)12
См.: Keersmaecker A. de. Le Sens des couleurs chez Homère. Bruxelles, 1883.
(обратно)13
Nietzsche F. Morgenröthe. Berlin, 1881.
(обратно)14
См. обзор работ на эту тему в: Grand-Clément A. Couleur et esthétique classique au XIXe siècle. L’art grec antique pouvait-il être polychrome? Ithaca: Quaderns Catalans de cultura clàssica. Vol. 21. Pp. 139–160.
(обратно)15
Geoffroy J. La connaissance et la dénomination des couleurs // Bulletin de la Société d’anthropologie de Paris. 1879. 2. Pp. 322–330.
(обратно)16
Berlin B., Kay P. Basic Color Terms. Their Universality and Evolution. Berkeley, 1969.
(обратно)17
См. в особенности: Conklin H. C. Color Categorization // The American Anthropologist. Vol. XXV/4. 1973. Pp. 931–942. Еще одна весьма спорная, но уже глубоко укоренившаяся идея: многие социологи и психологи утверждают, будто женщины, «в силу специфики их занятий», умеют различать и определять цвета лучше, чем мужчины (рассуждения на эту тему часто можно найти в женских журналах, в популярных книгах по психологии, изданиях о моде, о кулинарии и т. д.).
(обратно)18
Многие современные исследования доказали, что у человека, незрячего от рождения, к взрослому периоду жизни складывается такая же хроматическая культура и такое же знание цветов, как у зрячих.
(обратно)19
Grand-Clément A. Les marbres antiques retrouvent des couleurs. Apport des recherches récentes et débats en cours // Anabases. Vol. 10. Pp. 243–250. См. также работу этого автора: La Fabrique des couleurs (см. прим. 3).
(обратно)20
Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. 4e éd. Paris, 1979. «Virere».
(обратно)21
Lavenex F. Vergès, Bleus égyptiens. De la pâte auto-émaillée au pigment bleu synthétique. Louvain, 1992.
(обратно)22
Baines J. Color Terminology and Color Classification in Ancient Egyptian Color Terminology and Polychromy // The American Anthropologist. 1985. T. LXXXVII. Pp. 282–297.
(обратно)23
Luzzatto L., Pompas R. Il significato dei colori nelle civiltà antiche. Milano, 1988. Pp. 130–151. André J. Étude sur les termes de couleur dans la langue latine. Paris, 1949. Pp. 179–180. Вот как во II веке до н. э. Теренций описывает германца, персонажа своей комедии «Свекровь»: «Magnus, rubicundus, crispus, crassus, caesius, cadaverosa facie» (III, 4, 44–441). Многочисленные доказательства того, что у римлян рыжие кудрявые волосы, бледное лицо и голубые или зеленые глаза считались недостатком, можно найти в трактатах по физиогномике времен поздней Империи.
(обратно)24
Grand-Clément A. Couleur et esthétique classique au XIXe siècle. L’art grec antique pouvait-il être polychrome? (см. прим. 14).
(обратно)25
Кроме диссертации А. Гран-Клемана (см. прим. 3), см. по этой теме каталоги двух недавних и очень интересных выставок: Die Farben der Götter. München (Glyptothek). Июнь – сентябрь 2008; Roma. La pittura di un impero. Roma (Quirinale). Сентябрь 2009 – январь 2010.
(обратно)26
Плиний. Естественная история. XXXV. 12 и далее; XXXVI. 45. См.: Gage J. Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. London: Thames and Hudson, 1993. Pp. 14–33.
(обратно)27
Сенека. Письма. LXXXVI, CXIV–CXV.
(обратно)28
Pastoureau M. l‘Étoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayés. Paris, 1991. Рp. 17–47.
(обратно)29
Плиний. Естественная история. XXXI. 62.
(обратно)30
См. интереснейшую работу: Trinquier J. Confusis oculis prosunt virentia (Sénèque. De ira. 3, 9, 2). Les vertus magiques et hygiéniques du vert dans l’Antiquité // L. Vîl-lard, éd. Couleurs et visions dans l’Antiquité classique. Rouen, 2002. Pp. 97–128.
(обратно)31
Иногда они используют как лупу крупный, прозрачный, тонко ограненный берилл (отсюда немецкое название очков: Brillen).
(обратно)32
André J. Etude sur les termes de couleur dans la langue latine. Оp. cit. (прим. 23). Рp. 181–182.
(обратно)33
André J. Alimentation et cuisine à Rome. 2e éd. Paris, 1981; id. Être médecin â Rome. Paris, 1984.
(обратно)34
Петроний. Сатирикон. Гл. 70. § 10.
(обратно)35
Landes C., éd. Le Cirque et les courses de chars, Rome-Byzance, cat. d’exposition (Lattes, Musée archéologique Henri Prades, 1990). Paris, 1990.
(обратно)36
Cameron A. Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium. Oxford, 1976.
(обратно)37
André J. Étude sur les termes de couleur dans la langue latine. Paris, 1949. Pp. 181–182.
(обратно)38
Ювенал. Сатиры. Книга XI. Ст. 183–208.
(обратно)39
Dagron G. L’Hippodrome de Constantinople. Jeux, peuple et politique. Paris, 2012.
(обратно)40
См.: Jacquesson F. Les mots de couleur dans les textes bibliques / P. Dollfus, F. Jacquesson, M. Pastoureau, éd. Histoire et géographie de la couleur. Paris, 2012. Pp. 69–132. А также: Brenner A. Colour Terms in Old Testament. Sheffield, 1982.
(обратно)41
То же самое следует сказать и о лексике, относящейся к животным и растениям: она меняется от версии к версии, от перевода к переводу, причем количество упоминаемых в тексте пород животных и видов растений с течением времени неуклонно возрастает.
(обратно)42
Jacquesson F. Указ. соч. (прим. 40).
(обратно)43
Тот факт, что синий цвет не упоминается в Библии, был отмечен уже давно; однако некоторые ученые оспаривают его: не имея аргументов, они просто относят к синему все, что было сказано о фиолетовом. Мне такое обобщение представляется неоправданным. См.: Пастуро М. Синий. История цвета. М., 2015; Jacquesson F. (см. прим. 40).
(обратно)44
Meier C., Suntrup R. Lexikon der Farbenbedeutungen hn Mittelalter. Köln; Wien, 2012. 2 vols. См. в особенности словарь цветовых обозначений с большим количеством цитат в т. II.
(обратно)45
«Patrologia latina», громадный издательский проект аббата Ж. – П. Миня, включает в себя 217 томов, опубликованных с 1844 по 1855 год (и еще четырехтомный указатель, 1863–1865). В этом сборнике представлены все христианские авторы, от Тертуллиана до папы Иннокентия III.
(обратно)46
Jacquesson F. La Chasse aux couleurs à travers la Patrologie latine. Paris, 2008 (доступно на сайте проекта LACITO-CNRS).
(обратно)47
См.: Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie. Т. III. Fasc. 2. Col. 2999–3002, книгу, в которой получили продолжение исследования немецких ученых: Bock F. Geschichte der liturgischen Gewünder im Mittelalter. Berlin, 1859–1869. 3 vols, и Braun J. Die liturgische Gewandung in Occident und Orient. Fribourg-en-Brisgau, 1907.
(обратно)48
Позволю себе сослаться на мою собственную работу: Pastoureau M. L’Eglise et la couleur des origines à la Réforme // Bibliothèque de l’École des chartes. Vol. 147. 1989. Pp. 203–230.
(обратно)49
Patrologia latina. T. 217. Col. 774–916 (о цветах – col. 799–802).
(обратно)50
Как ни странно, Лотарио ничего не говорит о праздниках, посвященных Богоматери. Между тем в его время они уже почти всюду ассоциировались с белым цветом.
(обратно)51
Quia viridis color médius est inter albedinem et nigritiam et ruborem (P. L. 217. Сol. 799).
(обратно)52
В конце главы, посвященной литургическим цветам, Лотарио указывает, что в отдельных случаях (кроме Страстной пятницы) черный можно заменить фиолетовым, а зеленый, в виде исключения, – желтым (поскольку окрасить ткань в яркий, насыщенный зеленый цвет тогда удавалось редко).
(обратно)53
Еще одно свидетельство тенденции к единообразию и важной роли, которую играл в литургии зеленый цвет, – знаменитая «Rationale divinorum officiorum», огромный энциклопедический трактат, в котором перечисляются все предметы, знаки, ритуалы и символы, относящиеся к отправлению культа. Он был создан в 1285–1286 годах Гийомом Дюраном, будущим епископом Менда. О цветах речь идет в главе 18 книги III. См. издание: Davril et Thibodeau. Paris, 1995 (livres I–IV) dans la collection Corpus Christianorum. Vol. CXL.
(обратно)54
Так же как и в «De anima» и «De sensu et sensato».
(обратно)55
Galbinus, несмотря на сомнения некоторых филологов, следует считать родственным современному немецкому gelb, означающему «желтый». В классической латыни это слово употребляется редко и только по отношению к тканям и одежде. Впервые, насколько нам известно, оно встречается у Марциала. Позднее, в варварской и средневековой латыни, его можно встретить чаще, и в итоге оно станет родоначальником большинства слов, обозначающих в романских языках желтый цвет. См.: André J. Etude… (см. прим. 23). Pp. 148–150; Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique… (см. прим. 9).
(обратно)56
См. об этом замечательную работу: Clauteaux M. Les Couleurs du corps… dans les manuscrits enluminés des X–XII s. (защита этой диссертации состоялась в Париже (EPHE) в декабре 2012 года.
(обратно)57
Приведем в качестве примера: Annales Xanthenes (Annales de Xanten et de Lorsch) / éd. G. Waitz. Leipzig, 1839. Pp. 56–57 et passim.
(обратно)58
Хотя в ту эпоху и наблюдалось потепление климата, все же представляется маловероятным, чтобы на западном побережье Гренландии растительность тогда была обильнее, чем в Исландии или Норвегии. Так что происхождение названия явно было связано с чем-то другим. Либо острову дали его в пропагандистских целях, чтобы привлечь колонистов (численность исландской колонии в Гренландии одно время доходила до 4000 человек, и она просуществовала до XV века); либо, как я думаю, такое название призвано было предохранить новооткрытую землю от несчастья.
(обратно)59
Lombard M. L’Islam dans sa première grandeur. Paris, 1970.
(обратно)60
Работы, посвященные роли цвета в Коране, немногочисленны. См., например: Koulouchi D. / les Cahiers du Léopard d’or, 13, 2013 (Histoire et géographie de la couleur).
(обратно)61
Зеленый отсутствует на флагах только тех мусульманских стран, где по конституции Церковь отделена от государства (Турция, Тунис). Устоит ли этот принцип под напором недавних исламских революций? Трудно сказать.
(обратно)62
Пастуро М. Синий. История цвета. М., 2015.
(обратно)63
Это убедительно показывают законы против роскоши и предписания об одежде, которые впервые появляются во второй половине XIII века, а в XIV-м становятся весьма многочисленными. Мы поговорим об этом в следующей главе.
(обратно)64
Pastoureau M. Voir les couleurs au XIIIe siècle / Micrologus. Nattera, scienze e società medievali. 1998. Vol. VI/2. Pp. 147–165.
(обратно)65
По поводу разницы между светлым и сияющим, как ее объясняет св. Бернард Клервоский, позвольте мне сослаться на мою статью: Pastoureau M. Les cisterciens et la couleur au XII siècle // L’Ordre cistercien et le Berry (colloque, Bourges, 1998). Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry. Vol. 136. 1998. Pp. 21–30.
(обратно)66
Синий станет считаться холодным цветом значительно позже, в XIV–XVII веках.
(обратно)67
Trinquier J. Confusis oculis prosunt virentia (Sénèque. De ira. 3, 9, 2). Les vertus magiques et hygiéniques du vert dans l’Antiquité / L. Vîllard, éd. Couleurs et visions dans l’Antiquité classique. Rouen, 2002. Pp. 97–128.
(обратно)68
См.: Gage J. Colour in History // Art History. 1978. I.
(обратно)69
Id. Couleur et culture. Paris, 2008. Р. 61.
(обратно)70
Bonaventura. Opera omnia. Roma, 1882–1889. II. Р. 321; IV. Р. 1025; V. Р. 27.
(обратно)71
Это самый ранний из дошедших до нас средневековых витражей. Вопрос лишь в том, сколько стекол в нем уцелело с XII века, а какой процент был заменен.
(обратно)72
С XIV века воздух уже начнет ассоциироваться не с белым, а с синим цветом.
(обратно)73
По этой теме существует обширная литература; см. в особенности: Gilson E. Le Moyen Age et la nature / L’Esprit de la philosophie médiévale. Paris, 1944. Pp. 345–364.
(обратно)74
В средневековой латыни плодовый сад все же чаще назывался pomarium.
(обратно)75
См. коллективную работу: Vergers et jardins dans l’univers médiéval / la collection Senefianee. Vol. 28. Aix-en-Provence, 1990. См. также: Harvey J. Medieval Gardens. London, 1981 / Jardins et vergers en Europe occidentale (VIII–XVIII). Auch, 1989 (Flaran. Vol. 9); Huchard V., Bourgain P. Le Jardin médiéval, un musée imaginaire. Paris, 2002.
(обратно)76
Бытие, II, 4–25.
(обратно)77
Образцом служил знаменитый сад в бенедиктинском монастыре Святого Галла, известный по детальному плану, созданному в IX веке.
(обратно)78
Guillaume de Lorris. Le Roman de la Rose. Стихи 1350–1403.
(обратно)79
Бытие, I, 9–13.
(обратно)80
Иоанн, 20, 14–17.
(обратно)81
Pastoureau M. Introduction à la symbolique médiévale du bois / Cahiers du Léopard d’or. 1993. Vol. 2. Pp. 25–40.
(обратно)82
Это абстрактные и теоретические ассоциации, в основе которых – «соответствия» между цветами и природными стихиями. Авторы позднего Средневековья любили рассуждать на подобные темы. Но на изображениях, особенно на миниатюрах, такие сюжеты встречаются редко.
(обратно)83
Roman de la Rose / éd. F. Lecoy. Стих 706.
(обратно)84
Mane P. Le Travail à la campagne au Moyen Âge. Étude iconographique. Paris, 2006. Pp. 305–319.
(обратно)85
Mane P. La Vie des campagnes au Moyen Âge à travers les calendriers. Paris, 2004.
(обратно)86
Шантийи. Библиотека музея Конде. Ms. 65. Folio 5.
(обратно)87
Карл Орлеанский. Баллада 68.
(обратно)88
Renart J. Guillaume de Dole / éd. J. Lecoy. Paris, 1962. Стих 1164 и последующие.
(обратно)89
Далекими наследницами древнеримских Флоралий могут считаться «Цветочные игры» в Тулузе, учрежденные в 1323 году. Вначале премией, которая вручалась победителю поэтического состязания, была фиалка. Позднее появились еще две премии: за лучший сонет (цветок боярышника) и за лучшую балладу (ноготки).
(обратно)90
Богиня Майя – одно из древнейших божеств Рима. Некоторые римские авторы считают ее супругой Вулкана. Другие – смертной, возлюбленной Юпитера и матерью Минервы.
(обратно)91
Процессия и молебен, которые проводятся в течение трех дней перед праздником Вознесения, также представляют собой христианизированную версию древних языческих обрядов, посвященных плодородию: когда процессия проходит по полям, священники благословляют весенние всходы, а паства молит Бога об урожае. В этот христианский праздник, учрежденный в эпоху Каролингов, как и в Вербное воскресенье, верующие восславляют молодую весеннюю зелень и все растущее.
(обратно)92
На исходе Средневековья фиолетовый приобретает негативное значение: иногда это цвет скорби, а порой – цвет измены.
(обратно)93
Pastoureau M. Ceci est mon sang. Le christianisme médiéval et la couleur rouge / D. Alexandre-Bidon, éd. Le Pressoir mystique. Actes du colloque de Recloses. Paris: Cerf, 1990. Pp. 43–56.
(обратно)94
Schultz A. Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger. 2e éd. Leipzig, 1889. Т. II; Bumke J. Höfische Kultur: Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. München, 1986. Т. 1.
(обратно)95
В Средние века юностью чаще называют не третий возраст жизни (от двенадцати до двадцати лет), а четвертый (от двадцати до тридцати).
(обратно)96
Pastoureau M. Gli emblemi della gioventù. La rappresentazione dei giovani nel Medioevo / G. Levi, J. – C. Schmitt, dir. Storia dei Giovani. Rome; Bari: Laterza, 1994.. Т. 1. Pp. 279–302.
(обратно)97
Heller E. Psychologie de la couleur. Effets et symbolique. Paris. Pp. 92–93.
(обратно)98
В средневерхненемецком языке Minne – синоним Liebe (любовь).
(обратно)99
По поводу средневековой символики, связанной с липой, позволю себе сослаться на мой собственный труд: Pastoureau M. La musique du tilleul. Des abeilles et des arbres / J. Coget, éd. L’Homme, le végétal et la musique. Parthenay, 1996. Pp. 98–103.
(обратно)100
Типичную сцену любовной беседы под липой см. в знаменитом Codex Manesse (Zurich. Стихи 1300–1310) le folio 308 v°.
(обратно)101
В книге: Trinquier J. (см. прим. 30).
(обратно)102
Выражаю признательность Кристиану де Мерендолю за эту важную информацию.
(обратно)103
Не только щит рыцаря, но и его накидка, надеваемая поверх лат, его знамя и чепрак его лошади были одноцветными, и их было видно издалека. Вот почему в книгах говорится об Алом рыцаре, Белом рыцаре, Черном рыцаре и т. п.
(обратно)104
Выбор слова, обозначающего оттенок красного, иногда привносит дополнительную черту в характеристику персонажа: так, если его называют не Красным, а Алым рыцарем, значит, он знатного происхождения (но от этого не становится менее опасным); Огненный рыцарь (affoué: это старое французское слово происходит от латинского affocatus, «пылающий») гневлив и вспыльчив; Багровый рыцарь свиреп и жесток, он сеет смерть; Рыжий рыцарь лукав и вероломен.
(обратно)105
В символике и в менталитете феодальной эпохи черный цвет имеет двоякое значение. Есть негативный черный, связанный с трауром, смертью, грехом и преисподней. Но есть и другой, положительный черный, знак смирения, внутреннего достоинства и воздержанности: это цвет монашества.
(обратно)106
См. полный список «одноцветных» рыцарей Артуровского цикла в книге: Brault G. J. Early Blazon. Heraldic Terminology in the XIIth and the XIIIth Centu-ries, with special Reference to Arthurian Literature. Oxford, 1972. Pp. 31–35. См. также примеры в: Combarieu M. de. Les couleurs dans le cycle du Lancelot-Graal // Senefiance. 1988. No. 24. Pp. 451–588.
(обратно)107
Pastoureau M. Traité d’héraldique. 2e éd. Paris, 1993. Pp. 116–121.
(обратно)108
Ibid. Pp. 51–52.
(обратно)109
Pastoureau M. La forêt médiévale: un univers symbolique / Le Château, la forêt, la chasse. Actes des IL Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire de Commarque (23–25 sept. 1988). Bordeaux, 1990. Pp. 83–98.
(обратно)110
В старом и среднефранцузском языке словом sandragon (то есть sang de dragon, кровь дракона), или сандарак, чаще всего обозначается красный пигмент, вырабатываемый из красноватой смолы туи или кипариса. Некоторые авторы иногда путают его с другим красным пигментом – реальгаром.
(обратно)111
О богатейшей символике липы (связанной с музыкой, медициной и любовью) см.: Leplongeon P. Le Tilleul. Histoire culturelle d’un arbre européen. Paris, 2013.
(обратно)112
Pastoureau M. Bestiaires du Moyen Âge. Paris, 2011. Pp. 191–192.
(обратно)113
Более снисходительный Томас де Кантимпре утверждает, что лягушки совокупляются по ночам… из стыдливости! См.: De natura rerum / éd. H. Böse. Paris, 1973. Pp. 307–308.
(обратно)114
Schmitt J. – C. Les Revenants, les vivants et les morts dans la société médiévale. Paris, 1994. Рassim.
(обратно)115
См. следующую главу.
(обратно)116
О марсианах существует обширная литература, которая, однако, часто разочаровывает: см., например: Robinson K. S. Les Martiens. 2e éd. Paris, 2007.
(обратно)117
По этой теме существует обширная литература; по раннему Новому времени особенно рекомендую: Russel J. B. The Devil in the Modern World. Cornell, 1986; Carmona M. Les Diables de Loudun. Paris, 1988; Levack B. P. La Chasse aux sorcières en Europe au début des temps modernes. Seyssel, 1991; Muchembled R. Magie et sorcellerie du Moyen Âge à nos jours. Paris, 1994; Stanford P. The Devil. A Biography. London, 1996.
(обратно)118
О демонологии Жана Бодена см.: Houdard S. Les Sciences du Diable. Quatre discours sur la sorcellerie (XVe – XVIIe siècle). Paris, 1992; Clark S. Thinking with Demons. The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe. Oxford, 1997.
(обратно)119
Описания шабаша см. в: Delcambre E. Le Concept de sorcellerie dans le duché de Lorraine au XVIe et au XVIIe siècle. Nancy, 1949–1952. 3 vols; Villette P. La Sorcellerie dans le nord de la France du XVe au XVIIe siècle. Lille, 1956; Caro Baroja L. Les Sorcières et leur monde. Paris, 1978; Ginzburg C. Le Sabbat des sorcières. Paris, 1992; Jacques-Chaquin N., Préaud M., éds. Le Sabbat des sorciers en Europe (XVe – XVIIIe s.). Grenoble, 1993.
(обратно)120
Blümmer M. Die Farbenbezeichnungen bei den römischen Dichtern. Berlin, 1892. S. 154–159.
(обратно)121
Ziegler J. Médecine et physiognomonie du XIVe au début du XVIe siècle // Médièvales. 2004. 46. Pp. 89–108.
(обратно)122
По-видимому, впервые эту знаменитую впоследствии поговорку сформулировал Анри Боге (1550–1619), известный в свое время демонолог и типограф. См.: Röhrich L. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Fribourg-en-Brisgau, 1994. 1. Pp. 112–117.
(обратно)123
Ott A. Etude sur les couleurs en vieux fiançais. Paris, 1899. Pp. 49–51.
(обратно)124
Mérindol C. de. Les Fêtes de chevalerie à la cour du roi René. Emblématique, art et histoire. Paris, 1993.
(обратно)125
О средневековых рецептах ядов см.: Collard F. Le Crime de poison au Moyen Âge. Paris, 2003. Pp. 59–72.
(обратно)126
Berlioz J. Le crapaud: un animal maudit au Moyen Âge? / J. Berlioz, M. – A. Polo de Beaulieu, dir. L’Animal exemplaire au Moyen Âge (Ve – XVe s.). Rennes, 1999. Pp. 267–288; Pastoureau M. Bestiaires du Moyen Âge. Оp. cit. (см. прим. 112). Рp. 191–192, 211–213.
(обратно)127
Collard F., dir. Le Poison et ses usages au Moyen Âge. Orléans, 2009 (C.R.M.H., 17).
(обратно)128
Пастуро М. Черный. История цвета. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
(обратно)129
Pastoureau M. Un enchanteur désenchanté: Merlin / M. Arent Safir, éd. Mélancolies du savoir. Essais sur l’œuvre de Michel Rio. Paris; Seuil, 1995. Pp. 95–105.
(обратно)130
Brault G. J. Early Blazon. Heraldic Teiminology in the XIth and XIIIth Centuries… Oxford, 1972. Pp. 29–35.
(обратно)131
См.: Brewer D., Gibson J. A Companion to the Gawain-Poet. Woodbridge, 1997. А также: Gilbert A. R. Medieval Sign Theory and Gawain and the Green Knight. Toronto, 1987.
(обратно)132
Christine de Pisan. Le Livre de la mutacion de Fortune / éd. S. Solente. Paris, 1959. Т. 1. Pp. 71 и последующие. Выражаю благодарность Ольге Васильевой-Кодонье, обратившей мое внимание на этот текст, весьма важный для изучения символики зеленого цвета в начале XV века.
(обратно)133
Hell B. Le Sang noir. Chasse et mythe du sauvage en Europe. Paris, 1994. Рassim.
(обратно)134
Позволю себе сослаться на мою собственную работу: Pastoureau M. Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’Occident médiéval. Paris, 1997. См. также: Brunello F. L’arte della tintura nella storia dell’umanita. Vicenza, 1968, работу, в которой больше внимания уделяется истории химии и техники красильного дела, чем социальной и культурной истории самих мастеров-красильщиков; id. Arti e mestieti a Venezia nel medievo e nel Rinascrmento. Vicence, 1980; Cardon D. Le Monde des teintures naturelles. Paris, 2003. И еще: Ploss E. E. Ein Buch von alten Farben. Technologie der Textilfarben im Mittelalter. 6e éd. München, 1989, где больше говорится о рецептах красок, чем о тех, кто ими пользовался.
(обратно)135
Левит, 19, 19, и Второзаконие 22, 11.
(обратно)136
Pastoureau M. l’Étoffe du Diable. Une Histoire des rayures et des tissus rayés. Paris, 1991. Pp. 9–15.
(обратно)137
На практике традиционные и цеховые запреты можно обойти: если нельзя смешивать две краски в одном чане или погружать ткань последовательно в чаны с двумя разными красками, чтобы получить третью, то один способ смешивания все же допускается: в случае если первое окрашивание сукна или шерсти не дало нужного результата (а это бывает часто), разрешается погрузить ткань в чан с более темной краской, обычно серой или черной (приготовленной на основе коры и корней ольхи или грецкого ореха), чтобы исправить брак.
(обратно)138
В Средние века очень редко можно было встретить человека в белой одежде, которая была бы действительно белой. Применение некоторых красителей (например, мыльнянки), стирка с использованием золы и минералов (магнезии, мела, свинцовых белил) придают белому сероватый, зеленоватый либо синеватый оттенок и делают его тусклым. Отбеливание хлором войдет в обиход только в XVIII веке, после того как в 1774 году будет открыт хлор. Есть отбеливатель на основе серы, но он слишком едкий и может испортить шерсть и шелк. При этой технике ткань целый день выдерживают в растворе серной кислоты: если раствор слишком слабый, он не подействует, если он окажется слишком концентрированным, пострадает ткань.
(обратно)139
Estienne H. Apologie pour Hérodote (Genève, 1566) / éd. P. Ristel-huber. Paris, 1879. 1. Р. 26. Возможно также, что для этого ученого-кальвиниста, как и для всех его единоверцев, зеленый – бесчестный цвет, которого не должно быть в гардеробе истинного христианина. Разумеется, красный и желтый – еще хуже; но зеленый все-таки желательно заменить черным, серым, синим или белым. За эту строгую, достойную цветовую гамму, которую уже рекомендовали своей пастве прелаты-моралисты позднего Средневековья, единогласно высказываются все вожди Реформации. Во многих областях жизни предметы, окрашенные в зеленый цвет не Богом, а человеком, становятся жертвами протестантского цветоборчества. Об этом цветоборчестве см.: Agnoletto A. La «cromoclastia» del reforme protestanti // Rassegna. 1985. Sept. Vol. 23/3. Pp. 21–31; Pastoureau M. La Réforme et la couleur // Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français. 1992. Juil. – sept. 1.138. Pp. 323–342.
(обратно)140
Nuremberg. Stadtbibliothek. Ms. Cent 89. Fol. 15–16 (копия начала XV века). Об этом процессе уже упоминали некоторые авторы, не понявшие его значения для истории, см.: Scholz R. Aus der Geschichte des Farbstoffhandels im Mittelalter. München, 1929. Рр. 2 et passim; Wielandt F. Das Konstanzer Leinengewerbe. Geschichte und Organisation. Konstanz, 1950. Pp. 122–129. Хочу выразить здесь благодарность моему незабвенному коллеге О. Нейбекеру, который в свое время помог мне, тогда еще молодому ученому, прочитать немецкие рукописи конца XIV века.
(обратно)141
Речь идет о знаменитом трактате Plictho Джованни Вентура Розетти, первое издание которого вышло в 1540 году. См.: Edelstein S. M., Borghetty H. C. The «Plictho» of Giovan Ventura Rosetti. Cambridge, Mass.; London, 1969. Об этом методе уже упоминается в одном венецианском сборнике рецептов, изданном в 1480–1500-х годах и хранящемся в муниципальной библиотеке города Комо (Rebora G. Un manuale di tintoria del Quattrocento. Milan, 1970), но сама техника окрашивания не описывается. Как правило, в первых печатных сборниках рецептов для красильщиков, изданных в XVI-м и даже в XVII веке, большая часть рецептов или глав посвящена окрашиванию в красное и синее; зеленый там занимает скромное место. О рецептах для красильщиков, опубликованных в Средние века и в XVI веке, см.: Ploss E. E. Ein Buch von alten Farben… et passim (см. прим. 134). Вот уже некоторое время прорабатывается вопрос о создании банка данных, который объединил бы все средневековые рецепты красок (бытовых и живописных): Tolaini F. Una banca dati per lo studio dei ricettari medievali di colori. Centro di Ricerche Informatiche per i Béni Culturale (Pisa). Bollettino d’informazioni. 1995. Fasc. 1. V. Pp. 7–25.
(обратно)142
Возможно, однажды будут обнаружены документы, доказывающие, что смешивание синей и желтой красок для получения зеленой возникло как теория и как практика гораздо раньше, чем мы думаем. Вопрос лишь в том, чтобы установить, была ли эта практика единичной или общераспространенной. На данный момент нам известно только, что в конце XIV века западноевропейские художники и красильщики уже знают, что зеленую краску можно получить путем смешивания синей и желтой. Конечно, они решаются на это нечасто, из-за корпоративных запретов или собственной косности, но иногда все же решаются.
(обратно)143
Еще в XIX веке во французском языке было немало пословиц, поговорок и речений, в которых зеленый цвет назывался лживым и вероломным.
(обратно)144
Pastoureau M. L’homme roux. Iconographie médiévale de Judas / Une histoire symbolique du Moyen Age occidental. Paris, 2004. Pp. 197–212.
(обратно)145
Mellinkoff R. Judas’s Red Hair and the Jews // Journal of Jewish Art. 1982. IX. Pp. 31–46; Pastoureau M. Formes et couleurs du désordre: le jaune avec le vert // Médiévales. 1983. 4. Pp. 62–73.
(обратно)146
Heller E. Wie die Farben wirken. 2e éd. Hambourg, 1999. Pp. 132–134.
(обратно)147
Ibid. Р. 133.
(обратно)148
Книга XII. Басня 7.
(обратно)149
Pastoureau M. Traité d’héraldique. 2e éd. Paris, 1993. Pp. 100–121; Boudreau C. L’Héritage symbolique des hérauts d’armes. Dictionnaire symbolique de renseignement du blason ancien (XIV–XVI s.). Paris, 2006. Т. 2. Pp. 1042–1046.
(обратно)150
Плиний в своей «Естественной истории» несколько раз упоминает о minium sinopium: пигментах, бытовых красках, косметике, средствах по уходу за кожей. См.: Естественная история. XXXV. 6 и 31.
(обратно)151
Позволю себе сослаться на мой собственный труд: Pastoureau M. Une couleur en mutation: le vert à la fin du Moyen Age // Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances. 2007. Avril – juin. Pp. 705–731.
(обратно)152
Sicile. Le Blason des couleurs… éd. H. Cocheris. Paris, 1860. Pp. 61–65.
(обратно)153
Rabelais F. Gargantua. Paris, 1535. Сhap. I.
(обратно)154
Sicile. Оp. cit. Pp. 77–126.
(обратно)155
Morato F. P. Del significato dei colori. Venezia, 1535.
(обратно)156
Dolce L. Dialogo nel quale si ragiona délia qualità, diversità e proprieta dei colori. Venezia, 1565.
(обратно)157
Gage J. Couleur et Culture. Paris, 2008. Pp. 119–120.
(обратно)158
О Жане Роберте и его творчестве см.: Champion P. Histoire poétique du XV siècle. Paris, 1923. Т. 2. Pp. 288–307; Zsuppan M., éd. Jean Robertet. Œuvres. Paris, 1970 (Textes littéraires français. 159).
(обратно)159
О сером цвете как символе надежды в позднем Средневековье см.: Planche A. Le gris de l’espoir // Romania. 1973. Т. 94. Pp. 289–302.
(обратно)160
Приводится в статье Алис Планш (см. выше).
(обратно)161
При анализе стихотворения Жана Роберте и сопровождающих его цитат я пользовался манускриптом начала XVI века, хранящимся в Париже: Bibliothèque de l’Arsenal: ms. 5066, folios 108–112. На миниатюрах в тексте изображены женские фигуры: каждая персонифицирует один из десяти представленных цветов и одета в платье соответствующего цвета. Я признателен моему другу Клер Лесаж, которая указала мне на этот манускрипт и облегчила мою работу в Библиотеке Арсенала.
(обратно)162
Цветоборчество в эпоху Реформации еще ждет своего историка. А вот по иконоборчеству недавно появилось несколько содержательных работ. См.: Philips J. The Reformation of Images. Destruction of Art in England (1553–1660). Berkeley, 1973; Warnke M. Bildersturm. Die Zerstörung des Kunstwerks. München, 1973; Stirm M. Die Bilderfrage in der Reformation. Gütersloh, 1977 (Forschungen zur Reformationsgeschichte. 45); Christensen C. Art and the Reformation in Germany. Athens (Etats-Unis), 1979; Deyon S., Lottin P. Les Casseurs de l’été 1566. L’iconoclasme dans le Nord. Paris, 1981; Scavizzi G. Arte e architettura sacra. Cronache e documenti sulla controversia tra riformati e cattolici (1500–1550). Roma, 1981; Altendorf H. D., Jezler P., éd. Bilderstreit. Kulturwandel in Zwinglis Reformation. Zurich, 1984; Freedberg D. Iconoclasts and their Motives. Maarsen (P. – B.), 1985; Eire C. M. War against the Idols. The Reformation of Workship from Erasmus to Calvin. Cambridge (Etats-Unis), 1986; Crouzet D. Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des guerres de Religion. Paris, 1990. 2 vols; Christin O. Une révolution symbolique. L’iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique. Paris, 1991. См. также обширный и интересный каталог выставки: Iconodasme. Berne; Strasbourg, 2001.
(обратно)163
Иеремия 22, 13–14. Иезекииля 8, 10.
(обратно)164
Wirth J. Le dogme en image: Luther et l’iconographie // Revue de l’art. 1981. Т. 52. Pp. 9–21.
(обратно)165
См. его пылкую проповедь «Oratio contra affectationem novitatis in vestitu» (1527), в которой он советует всякому честному христианину носить одежду строгих темных цветов, а не «distinctus a variis coloribus velut pavo» – «пеструю и разноцветную, как у павлина» (Corpus reformatorum. Vol. 11. Pp. 139–149; см. также: Vol. 2. Pp. 331–338).
(обратно)166
Institution de la religion chrétienne (texte de 1560). III, X. 2.
(обратно)167
См., например, упреки, которые Жан-Батист Удри адресует своим собратьям по Академии святого Луки в своих «Discours sur la pratique de la peinture», написанных в 1752 году и опубликованных Э. Пио в: Le Cabinet de l’amateur. Paris, 1861. Pp. 107–117.
(обратно)168
Bergson S., Martin E. La technique de la peinture française au XVII siècle // Techné. La science au service de l’art et des civilisations. 1994. 1. Pp. 65–78 (особенно 71–73).
(обратно)169
Pastoureau M. La couleur verte au XVI siècle: traditions et mutations / M. – T. Jones-Davies, éd. Shakespeare. Le monde vert: rites et renouveau. Paris, 1995. Pp. 28–38.
(обратно)170
Здесь не хватит места для подробного рассказа об открытиях Ньютона и влиянии этих открытий на научные и философские представления о цвете. Поэтому мы лишь укажем литературу, посвященную этой теме. Из французских авторов рекомендуем: Blay M. La Conceptualisation newtonienne des phénomènes de la couleur. Paris, 1983; id. Les Figures de l’arc-en-ciel. Paris, 1995. Pp. 36–77. Можно изучить труд Исаака Ньютона «Opticks», опубликованный в Лондоне в 1702 году; или, что проще, ознакомиться с ним в сокращенном и комментированном переводе Вольтера в книге: Éléments de la philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde. Paris, 1738.
(обратно)171
У Аристотеля нет специальной работы, посвященной цветам. Но он касается этой темы во многих своих сочинениях, в частности «О душе», «Метеорологике» (по поводу радуги), в трактатах о зоологии и особенно в «О чувственном восприятии». Пожалуй, именно в этой последней книге его идеи о природе и о восприятии цвета изложены наиболее ясно. В Средние века получил хождение трактат «О цветах», специально посвященный цветам; эту книгу приписывали Аристотелю, поэтому ее без конца цитировали, комментировали и переписывали на разный лад. Тем не менее он принадлежит не Аристотелю и не Теофрасту, а кому-то из поздних перипатетиков. «О цветах» оказал большое влияние на энциклопедистов XIII века, в частности на XIX книгу «De proprietatibus rerum» Бартоломея Английского, в которой почти половина посвящена цвету. Хорошее издание греческого текста «О цветах» можно найти в: Loeb Classical Library: Aristotle, Minor Work / ed. W. S. Hett. Cambridge, Mass., 1980. Т. XIV. Pp. 3–45. Латинский текст часто издавался вместе с трудами Аристотеля. О Бартоломее Английском и цветах см.: Salvat M. Le traité des couleurs de Barthélemy l’Anglais // Senefiance. 1988. Vol. 24 (Les Couleurs au Moyen Age). Pp. 359–385. О проблемах цвета у Аристотеля и латинских авторов XIII века, испытавших его влияние, см.: Kucharski R. Sur la théorie des couleurs et des saveurs dans le De sensu aristotélicien // Revue des études grecques. 1954. 67. Pp. 355–390; Eastwood B. S. Robert Grosseteste’s theory on the rainbow // Archives internationales d’histoire des sciences. 1966. 19. Pp. 313–332; Hudeczek M. De lumine et coloribus (selon Albert le Grand) // Angelicum. 1944. 21. Pp. 112–138.
(обратно)172
Равно как и смешивать красный и синий для получения фиолетового. Тем более что до XVI века фиолетовый мыслился как смешение черного и синего. Его латинское обозначение – subniger, получерный, а также его частое применение для скорбных обрядов в литургии и для траурной одежды в повседневной жизни убедительно показывают, что фиолетовый – своего рода получерный или недочерный цвет, не имеющий ничего общего с красным или пурпурным. Чтобы его стали сближать с ними, придется ждать открытий Ньютона.
(обратно)173
Shapiro A. E. Artists’ Colors and Newton’s Colors // Isis. 1994. 85. Pp. 600–630.
(обратно)174
Тем более что Ньютон более четверти века скрывал свое открытие от научного мира. О влиянии открытий Ньютона на мир живописи см.: Gage J. Color and Culture. London, 1986. Pp. 153–176, 227–236.
(обратно)175
Кажется странным, что витражные мастера, еще в начале XIV века освоившие технику изготовления «желтого серебра», вплоть до XVI века почти не пользовались этой краской для получения зеленого. При этом процессе, для которого используются краски на основе солей металлов, окрашивается лишь поверхность стекла; он производит революцию в области живописи на стекле, поскольку позволяет художнику просто расписывать поверхность стекла, не разрезая его и не вставляя в свинцовую раму. Если на стекло, окрашенное в массе в синий цвет, нанести «желтое серебро», получатся зеленые тона. Витражные мастера XIV–XV веков знали этот секрет, но почему-то не пользовались им.
(обратно)176
Возможно, изобретение в конце XIV – в XV веке новой связки, применявшейся для живописи по дереву, – льняного масла – позволило живописцам экспериментировать с пигментами и различными сочетаниями пигментов. Можно предположить, что идея смешивать синее и желтое для получения зеленого родилась во время этих экспериментов.
(обратно)177
См. каталог выставки: I Tempi di Giorgione. Firenze. 1978. Т. 3. Pp. 141–152. См. также: Rosand D. Peindre à Venise au XVI siècle. Paris, 1993; Hochmann M. Venise et Rome, 1500–1600. Deux écoles de peinture et leurs échanges. Genève, 2004.
(обратно)178
Patoul B. de. Schoute R. van. Les Primitifs flamands et leur temps. Tournai, 2000. Pp. 114–116, 630–631.
(обратно)179
Раньше таким исследованиям подвергали только картины, писанные на дереве, теперь их проводят и с миниатюрами. Это не столько химические, сколько физические анализы. Теперь не надо изымать микроскопическую частицу красочного слоя, чтобы узнать его состав. Достаточно, например, направить на этот красочный слой один или несколько особых световых лучей и посмотреть, как поведет себя свет при контакте с веществом. А еще можно исследовать молекулярную структуру красочного слоя с помощью микроспектрометра. Или прибегнуть к нейтронной активации и проанализировать различные составные части пигмента по отдельности. В общем, современные методы более тонкие и деликатные, они не нарушают красочный слой и позволяют сделать более точные выводы. Поэтому анализы теперь проводятся чаще и охватывают всю совокупность художественного творчества, связанную с цветом. См.: Christie R. M. Color Chemistry. Cambridge (G. – B.), 2001.
(обратно)180
Paris. BnF. ms. latin 6741. Об этом манускрипте см.: Giry A. Notice sur un traité du Moyen Âge intitulé De coloribus et artibus Romanorum // Mélanges publié par l’Ecole pratique des hautes études. 1878. 35. Pp. 207–227.
(обратно)181
Villela-Petit I la Peinture médiévale vers 1400. Autour d’un manuscrit de Jean Le Bègue. Диссертация Инес Виллела-Пети еще не опубликована. Ознакомиться с ней можно по автореферату, напечатанному в: École nationale des chartes. Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion. Paris, 1995. Pp. 211–219.
(обратно)182
Guineau B. Glossaire des matériaux de la couleur et des termes techniques employés dans les recettes anciennes. Turnhout, 2005. Рassim.
(обратно)183
Liber magistri Petri de Sancto Audemaro de coloribus faciendis / ed. M. P. Merrifield. Original Treatises dating from the XIIth to the XVIIIth on the Art of Painting… London, 1849. Р. 129.
(обратно)184
Трактат действительно не закончен и в основном состоит из заметок, которые Леонардо делал на полях книг, но, по-видимому, не успел систематизировать (хотя некоторые эрудиты и утверждают, что в них полностью нашли выражение его идеи). Об этом трактате, рукопись которого хранится в Ватиканской библиотеке, см.: Chastel A., Klein R. Léonard de Vinci. Traité de la peinture. Paris, 1960; 2e éd. 1987.
(обратно)185
О красках, которыми пользовался Вермеер, и об их стоимости см.: Montias J. M. Artists and Artisans in Delft. Princeton, 1982. Pp. 186–210.
(обратно)186
Подробное описание этой диаграммы см. в: Пастуро М. Черный. История цвета. М., 2016.
(обратно)187
Savot L. Nova seu verius nova-antiqua de causis colorum sententia. Paris, 1609.
(обратно)188
Boodt A. De. Gemmarum et lapidum historia. Hanau, 1609.
(обратно)189
d’Aguilon F. Opticorum libri sex. Anvers, 1613.
(обратно)190
Плиний. Естественная история. XXXIII. § 158 (LVI). См.: Gage J. Couleur et culture. Paris, 2008. Р. 35.
(обратно)191
Об изобретении Леблона см. замечательный каталог выставки: Anatomie de la couleur. Paris: BnF, 1995. Sous la direction de Florian Rodari et Maxime Préaud. Стóит также прочесть его трактат: Le Blon J. C. Colorito, or the Harmony of Colouring in Painting reduced to Mechanical Practice. London, 1725, в котором он признает, что многим обязан Ньютону, и говорит о господстве трех базовых цветов: красного, синего и желтого. Об истории цветной гравюры см.: Friedman J. M. Color Printing in England. 1486–1870. Yale, 1978.
(обратно)192
Boyle R. Experiments and Considerations Touching Colours. London, 1664. Pp. 219–220.
(обратно)193
См.: A Mollard-Desfour. Le Vert. Dictionnaire de la couleur. Paris, 2012. Pp. 153–154.
(обратно)194
Приводится без ссылки в: Amandeau J. Louis XIII et le cardinal de Richelieu. Paris, 1913. Р. 85.
(обратно)195
Somaize A. Grand Dictionnaire des précieuses. Paris, 1661. Рassim.
(обратно)196
См., например, «Le Satirique de la cour», анонимную пьесу, напечатанную в 1624 году.
(обратно)197
Благодарю моего друга Франка Лестрeнгана, видного специалиста по Альфреду де Мюссе, который рассказал мне эту историю.
(обратно)198
Kott J. The Bottom Translation. Marlowe and Shakespeare and the Carnival Tradition. Evanston (Etats-Unis), 1987.
(обратно)199
Pastoureau M. L’homme roux. Iconographie médiévale de Judas / Une histoire symbolique du Moyen Age occidental. Paris, 2004. Pp. 197–211.
(обратно)200
Люди театра боялись зеленого в эпоху романтизма, продолжают бояться и в наши дни: это широко известный факт. Корни этого суеверия следует искать в очень далеком прошлом.
(обратно)201
Еще и сегодня ни один моряк в Бретани не выкрасит корпус своего судна в зеленый цвет и не взойдет на борт корабля с зеленым корпусом. Такой обычай, насколько мне известно, не отмечен ни в каком другом регионе Франции или Европы. См.: Pastoureau M. Les Couleurs de nos souvenirs. Paris, 2010. Pp. 161–162.
(обратно)202
Lacour-Gayet G. Les Idées maritimes de Colbert. 2e éd. Paris, 1911. Р. 15.
(обратно)203
Pastoureau M. Les Couleurs de nos souvenirs. Оp. cit. Р. 157–158.
(обратно)204
О легендах и суевериях, связанных с зеленым цветом, см.: Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Ш. Berlin, 1931. Сol. 1180–1186.
(обратно)205
Pastoureau M. Les Couleurs de nos souvenirs. Оp. cit. Pp. 158–159.
(обратно)206
Сура 18. Ст. 65–82.
(обратно)207
С точки зрения психоанализа потерять на балу «стеклянную» туфельку, конечно же, значит потерять девственность. См. ниже ссылку на знаменитое исследование Бруно Беттельхейма.
(обратно)208
В версии братьев Гримм туфельки шелковые, шитые золотом и серебром.
(обратно)209
Bettelheim B. The Use of Enchantment. Chicago, 1976 / trad. française: La Psychanalyse des contes de fées. 2e éd. Paris, 1999.
(обратно)210
Некоторые критики замечают, что это стекло, по-видимому, было не слишком хрупким, если злые сестры Золушки поранили себе ноги до крови, пытаясь втиснуть их в туфельку.
(обратно)211
О символике зеленого см.: Pastoureau M. Une couleur en mutation: le vert à la fin du Moyen Âge // Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances. 2007. Aavril – juin. Pp. 705–731.
(обратно)212
См.: Gage J. Color and Culture. Оp. cit. Pp. 153–176, 227–236.
(обратно)213
Так случилось с «синим Макёра» и «зеленым Кёдерера», двумя пигментами, изобретенными в середине XVIII века: они были великолепны, но плохо закреплялись на ткани, выгорали на солнце и выцветали от стирки. См.: Pinaut M. Savants et teinturiers / Sublime indigo, catalogue d’exposition. Marseille; Fribourg, 1987. Pp. 135–141.
(обратно)214
Этот голубой цветок изображен в незаконченном романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген», опубликованном в 1802 году, уже после смерти автора, его ближайшим другом Людвигом Тиком. В романе рассказывается легенда о средневековом миннезингере, отправившемся на поиски маленького голубого цветка, который он однажды увидел во сне. Об этом романе и об откликах, которые он вызвал, см.: Schulz G., dir. Novalis Werke commentiert, 2E A. München, 1981. S. 210–225 et passim.
(обратно)215
Первый парижский светофор установили на углу Севастопольского бульвара и улицы Сен-Дени; у него был только один сигнал – красный; зеленый появился лишь в начале 1930-х годов.
(обратно)216
По другой версии, Демулен предложил толпе выбрать один из двух цветов, синий либо зеленый. Толпа выбрала зеленый. Демулен привязал к шляпе зеленую ленту. Окружившие его патриоты, за неимением ленты, сорвали листья с лип, которых много росло в саду Пале-Рояля, владении герцога Орлеанского, и прикрепили к своим шляпам.
(обратно)217
В 1792–1815 годах зеленый будет одним из цветов роялистских отрядов, которые сеяли смуту в различных регионах Франции. Они часто носят зеленый шарф или зеленые ленты, за что их иногда называют «зелеными».
(обратно)218
Об истории итальянского флага см.: Ghisi E. Il tricolore italiano. Milan, 1931; Mattern G. Die Flaggenwesen Italiens zur Zeit der französischen Revolution und der napoleonischen Aera. Freibourg, 1970.
(обратно)219
Heller E. Psychologie de la couleur. Effets et symbolique. Paris, 2009. Р. 98.
(обратно)220
Ball P. Histoire vivante des couleurs. 5000 ans de peinture racontée par les pigments. Paris, 2005. Pp. 227–229.
(обратно)221
Приводится в книге: Jacqué B. Les Couleurs du papier peint. Rixheim, 2006. Pp. 20–21.
(обратно)222
Pastoureau M. Les Couleurs de nos souvenirs. Paris, 2010. Р. 158.
(обратно)223
Heller E. Оp. Cit. Pp. 100–101.
(обратно)224
И дешевле синего кобальта, который открыли (или открыли заново) в 1802 году.
(обратно)225
Обо всем этом см. в: Bail P. Оp. cit. Pp. 350–358.
(обратно)226
Cavé M. E. La Couleur. Ouvrage approuvé par M. Eugène Delacroix pour apprendre la peinture à l’huile et l’aquarelle. 3e éd. Paris, 1863. Р. 114.
(обратно)227
Приводится в книге: Roque G. Art et science de la couleur. Chevreuil et les peintres, de Delacroix à l’abstraction, nouv. éd. Paris, 2009. Pp. 331–332.
(обратно)228
О влиянии Шеврёля на живопись XIX – начала XX века см. замечательную книгу Жоржа Рока, указ. в пред. прим.
(обратно)229
Ibid. Pp. 300–301.
(обратно)230
Blanc Ch. Grammaire des arts du dessin. 5 ed. Paris, 1880, Р. 362.
(обратно)231
Приводится в книге: Heller E. Оp. cit. Pp. 100–101.
(обратно)232
См.: Pastoureau M. Couleur, design et consommation de masse. Histoire d’une rencontre difficile (1880–1960) / Design, miroir du siècle, catalogue d’exposition. Paris: Grand Palais, 1993. 19 mai – 25 juil.
(обратно)233
Itten J. Werke und Schriften. Zurich, 1972. Р. 24.
(обратно)234
Weber M. Die protestantische Ethik und des Geist des Kapitalismus. 8e éd. Tübingen, 1986. Работа впервые была опубликована в виде двух статей, в 1905 и 1906 годах.
(обратно)235
Thorner I. Ascetic Protestantism and the Development of Science and Technology // The American Journal of Sociology. 1952–1953. Vol. 58. Pp. 25–38; Bodamer J. Der Weg zur Askese als Ueberwindung der technischen Welt. Hamburg, 1957.
(обратно)236
О цветоборчестве протестантов см.: Pastoureau M. La Réforme et la couleur // Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français. 1992. Juil. – sept. Т. 138. Pp. 323–342.
(обратно)237
В иллюстрированных книжках о приключениях Бабара цвет играет более важную роль, чем в другой литературе, предназначенной для детей. Все слоны серые, но у каждого костюм определенного цвета: у королевы Селесты красное платье; у старого генерала Корнелиуса – черный пиджак и красные брюки. У пылкого Артура – красно-белый костюм моряка. Совсем юные Пом, Флора и Александр ходят в нежно-голубом и розовом; и, наконец, сам Бабар – в зеленом костюме, белой рубашке и желтой короне. К слоновьей цветовой гамме следует добавить еще желтую рубашку обезьянки Зефир и черное платье Пожилой Дамы.
(обратно)238
Иногда можно слышать утверждение, что на зеленых туниках, которые носит медицинский персонал в процедурных кабинетах и операционных блоках, кровь выглядит не красной, а скорее бурой, то есть не такой пугающей.
(обратно)239
Социологические опросы впервые начали проводиться в Германии в 1880–1890-х годах, в Соединенных Штатах в 1900-х годах, а после Первой мировой войны эта практика распространилась по всему миру. И уже тогда опросы были тесно связаны с маркетингом и рекламой, пусть и находившимися в то время в зачаточном состоянии. Метод проведения опроса за сто лет не изменился: людей останавливают на улице и задают им простой вопрос: «Какой ваш любимый цвет?» Ответ должен быть быстрым и четким, иначе его не зачтут. Надо назвать только цвет, без прилагательных или нюансов. Респонденты не должны вникать в подробности, допытываться, о какой функции цвета их спрашивают – в одежде, в мебели, в живописи и т. п. Вопрос прямой и простой, и отвечать надо тоже просто и прямо. Речь идет не о материальном аспекте цвета, а о связанных с ним желаниях и мечтах.
(обратно)240
Впрочем, маленькие дети, помимо синего, почти так же часто называют своим любимым цветом красный или желтый.
(обратно)241
Heller E. Оp. cit. Pp. 4–9; Pastoureau M. Dictionnaire des couleurs de notre temps. Symbolique et société contemporaines. Paris, 2003. Pp. 16–174 et passim.
(обратно)242
Heller E. Оp. cit. Pp. 4, 89, et pl. 1.
(обратно)243
С тремя последними пороками желтый ассоциируется несколько чаще, чем зеленый. Ibid. Рl. 6.
(обратно)


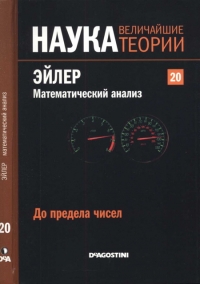

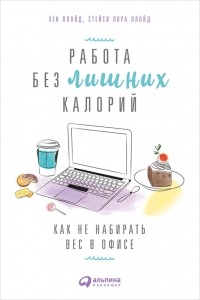
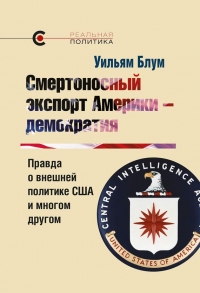







Комментарии к книге «Зеленый. История цвета», Мишель Пастуро
Всего 0 комментариев