Ларс Свендсен Философия свободы
© H. Aschehoug&Co, 2010
© Воробъева Е., перевод, 2015
© Издательство «Прогресс-Традиция», 2015
* * *
Та свобода, что в самом деле важна, связана с вниманием, сознательностью, тренировкой и умением действительно отдавать, проявлять заботу о других людях, жертвовать ради них – снова и снова, в самых мелких непривлекательных ситуациях, бесчисленное количество раз на дню.
Дэвид Фостер УоллесВам, вероятно, кажется, что свобода – это данность, ведь именно свобода отличает нас от животных и лежит в основе нашей человеческой сущности. В конце концов вы сами решаете, читать вам эту книгу или нет. Вы можете дочитать ее до конца, а можете прямо сейчас отложить ее в сторону и заняться чем-нибудь другим. Это свободный выбор. И в большинстве ситуаций, не считая каких-то особых обстоятельств, мы можем сами определять свое поведение. Впрочем, у свободы имеются и политические границы: к примеру, в некотором гипотетическом государстве власти могли бы запретить вам читать эту книгу, поскольку ее содержание представляет для этого государства угрозу, а меня как автора могли бы за инакомыслие посадить в тюрьму. И наконец, есть еще вопрос о том, зачем вам нужно читать эту книгу и как чтение такой книги может повлиять на то, как вы проживаете свою жизнь.
Эта книга написана в защиту свободы и в качестве контраргумента тем, кто считает, что понятие свободы несовместимо с научной картиной мира, с которой мы живем сегодня, а также тем, кто убежден, что по политическим соображениям свободой можно и нужно жертвовать ради высоких целей. Кроме того, настоящая книга пытается представить все эти вопросы как целостную картину. Феномен свободы многомерен и включает в себя онтологические, метафизические, политические и личностные аспекты. Одной из предпосылок к написанию этой книги стал тот факт, что многие из трудностей, с которыми мы сталкиваемся в попытках понять свободу, происходят оттого, что мы путаем разные ее аспекты, как, к примеру, когда мы используем определение политической свободы в разговоре о свободе личности и наоборот. Именно поэтому я счел важным написать такую книгу, в которой демонстрировались бы как различия, так и взаимосвязь между различными пониманиями свободы. Самобытность этой книги заключается не столько в содержании отдельных частей, сколько в том, какую целостную картину они образуют вместе, хотя я полагаю, что мне удалось также добавить новые нюансы и детали к толкованию некоторых философских теорий.
Я работал над книгой довольно долго, и она много раз менялась в процессе написания. В конце концов от того, что я изначально планировал опубликовать, осталась всего одна треть, поскольку я понял, что значительная часть материала никак не помогает мне приблизиться к цели. Наиболее серьезным сокращениям подверглась первая часть, из которой я вычеркнул почти все материалы естественнонаучной направленности. Несмотря на то, что многие из современных нейрофизиологических исследований релевантны для изучения и понимания феномена свободы, я решил включить в свою книгу лишь краткие ссылки на них, поскольку научный прогресс в этой области идет так быстро, что сведения устаревают скорее, чем я пишу. Кроме того, мои основные выводы не слишком тесно связаны с нейрофизиологией. Зато на первый план вышли политические аспекты свободы, поскольку именно в этой области мы сегодня сталкиваемся с наиболее острыми проблемами.
Разумеется, эта книга не является исчерпывающим исследованием феномена свободы. Говоря откровенно, каждый из разделов сам по себе мог бы послужить основой для написания отдельной книги. Объем философской литературы, посвященной свободе, так велик, что едва ли найдется человек, который смог бы прочесть и осмыслить все написанное. Вероятно, кто-то будет недоволен отсутствием обстоятельного изложения концепций свободы, созданных такими философами, как Фома Аквинский, Спиноза, Кант, Шеллинг и Сартр. Без сомнения, рассуждения этих философов о свободе очень интересны, но включать в книгу все без исключения, что показалось интересным, – не та роскошь, которую писатель может себе позволить, если он вообще хочет дописать свою работу. Так что мне пришлось ограничиться кратким изложением взглядов отдельных философов и использовать фрагменты их рассуждений для иллюстрации собственных выводов. Я не пытался написать исторический экскурс в философию или социологию свободы, как не пытался и дать целостное представление о современных философских концепциях свободы[1]. Подобная затея потребовала бы написания многотомной энциклопедии, которая на девяносто процентов состояла бы из рассуждений, которые, по моим наблюдениям, заводят в тупик. В предисловии к книге «Философия зла» я писал, что никогда прежде не сталкивался с таким объемом литературы по теме. Когда я приступил к работе над книгой о свободе, мне стало ясно, что в сравнении с литературой о свободе объем литературы о философии зла довольно скромен, поскольку на тему свободы написано, пожалуй, больше, чем на любую другую тему в этом мире. Библиографический список в конце этой книги насчитывает более трехсот пятидесяти наименований, и это лишь малая доля тех работ, что я просмотрел при работе над этой книгой, а я смог просмотреть далеко не все из написанного ранее. Не могу не согласиться с Дэниелом Деннетом в том, что огромное количество философских трактатов о свободе воли представляет, к сожалению, лишь эстетическую ценность – в силу своего технического совершенства, – однако не затрагивает ни одной из реальных проблем, возникающих в связи с данной темой[2]. С другой стороны, мы с Деннетом совершенно расходимся относительно того, какие именно проблемы следует отнести к реальным. Как мне кажется, Деннет страдает редукционизмом и отказывается видеть некоторые из проблем, говоря, что их попросту не существует, тогда как я, с его точки зрения, пытаюсь завести читателей в метафизические дебри, от которых он и пытается их спасти.
Я попытался в этой книге охватить ту литературу, которая наилучшим образом соответствует поставленным задачам, и использовал систему сносок для того, чтобы предоставить читателю ссылки на прочие работы. Вероятно, другой автор опирался бы на совсем иные тексты, к примеру, уделил бы больше внимания теории справедливости Джона Ролза, тогда как я считаю, что эта теория не приводит к интересным выводам и гораздо плодотворнее было бы проследить за рассуждениями Амартии Сена. Здесь стоит упомянуть, что, хоть «Теория справедливости» Ролза и является одной из самых авторитетных, обсуждаемых и критикуемых работ по политической философии после 1971 года, она едва ли получила какое-либо приложение к реальной политике, в отличие от работ Сена. К сожалению, в дальнейшем я не смогу столь же подробно обосновывать выбор тех или иных работ, которые я использую в своем исследовании. Эта книга могла бы стать в несколько раз толще, и существует огромное количество второстепенных вопросов, которые можно было бы – и, вероятно, стоило бы – подробно обсудить на ее страницах. Однако моей задачей было скорее написать как можно более связное изложение основных онтологических и антропологических вопросов, связанных с политической свободой и свободой личности.
Вероятно, эта книга получилась несколько менее доступной, чем мои предыдущие работы, и к тому же более широкой по охвату. Отдельные части ее написаны в более аналитической манере, нежели прежние книги, которым свойственен скорее континентальный стиль[3]. Это не означает, что мой подход к философии изменился. Я получал образование в обеих традициях и никогда не придавал большого значения кажущемуся противостоянию между ними, скорее я рассматриваю обе традиции как неотъемлемые части общего философского инструментария, из которого выбираю те инструменты, которые наилучшим образом подходят для решения текущих задач. В этой книге я рассматриваю несколько различных тем, и при рассмотрении одних я пользуюсь более «аналитическими» методами, а при рассмотрении других – более «континентальными», но чаще всего беру понемногу от обеих традиций. С моей точки зрения, основной водораздел в современной философии проходит не между «аналитической» и «континентальной» традициями, а между той философией, которая стремится принести пользу в жизни, и той, которая не преследует такой цели, однако здесь не время и не место для того, чтобы углубляться в этот вопрос.
Некоторые части этой книги выходили ранее в виде отдельных публикаций. Часть I, «Онтология свободы», увидела свет впервые, однако отдельные абзацы основаны на кратком изложении темы, которое я даю в учебнике «Истина, добро, красота – введение в философию» (Осло, 2004), написанном в соавторстве с Симо Сэтеле. Главы о патернализме и принуждении психиатрии в части II основаны на заметках, написанных мною для аналитического центра «Сивитаа». Главы о свободе слова и неприкосновенности частной жизни являются слегка отредактированными версиями статей «Свобода слова, критика и толерантность» (в Gauden-Kolbeinstveit, Lars (red.) Ytringsfrihet: 10 essays. Civita, Oslo, 2012) и «Зачем нам неприкосновенность частной жизни? О свободе и праве на личную жизнь» (в Clemet, Kristin, Egeland, John O. (red.) Til forsvar for personvernet. Universitetsforlaget, Oslo, 2010). Глава о либеральных правах является существенно дополненной и отредактированной версией статьи «Либеральные права» (в Stenstadvold, Halvor (red.). Georgs bok. Pax, Oslo, 2010. Стр. 79–91). Отдельные абзацы и разделы основаны также на моих предисловиях к главам о различных философах в книге «Liberalisme: Politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen» (Universitetsforlaget, Oslo, 2009).
За комментарии к тексту я благодарю Гуннара К. Оквога, Кристин Клемет, Мариуса Доксхейма, Пола Фосса, Кирстен Каллеберг, Мортена Кинандера, Атле Оттесена Сэвика и Эрика Торстенсена. Также я хотел бы поблагодарить Фонд специальной литературы и Либеральный научно-исследовательский институт за финансовую поддержку. Кроме того, я благодарен Факультету философии и общих наук Бергенского университета, а также информационному ресурсу Civita за то, что дали мне время написать эту книгу.
Введение
В романе «Уолден два» (1948) Б. Ф. Скиннер описывает примитивное общество, живущее плодами сельского хозяйства и воспитывающее детей всей общиной. Жизнь членов этого общества легка и приятна, они располагают свободным временем, которое могут уделять искусству, науке и различным ремеслам. Основатель этого сообщества, Фрейзер, выражающий в романе идеи самого автора, утверждает, что его сограждане живут столь гармоничной жизнью потому лишь, что они с детства приучены хотеть только того, что могут получить либо осуществить. Их эмоции, поведение и деятельность формируются посредством поведенческой терапии таким образом, что их мечты и желания ни в чем не должны расходиться с планом, предусмотренным Фрейзером для общины. Тем самым, утверждает Фрейзер, «Уолден два» является «самым свободным местом на земле», ведь никто в этом обществе не терпит принуждения[4]. Все делают только то, чего они сами хотят. В этом обществе нет тюрем, поскольку отсутствует необходимость прибегать к наказанию или принуждению для того, чтобы заставить граждан поступать согласно воле Фрейзера. В общину попадает философ по имени Кастл, который заявляет, что свобода жителей общины лишь видимость, так как хоть они и могут поступать согласно своим желаниям, сами желания они выбирать не могут. Их воля полностью определяется факторами, на которые они не имеют никакого влияния. Можно сказать, что все они подверглись промыванию мозгов. Фрейзер реагирует на это заявление совершенно невозмутимо. Он соглашается, что все жители общины строго детерминированы и что они не имеют «глубинной» свободы воли, о которой толкует философ. Однако заявляет, что подобный вид свободной воли, когда человек сам выбирает, чего ему хотеть, является лишь иллюзией. Таким образом, его сограждане приобрели счастье, ничего не теряя.
Если бы Фрейзер (а тем самым и Скиннер) оказался прав, это существенным образом изменило бы наш взгляд на человека. Была бы у нас в таком случае рациональная причина возлагать на граждан общины ответственность за их дурные поступки и превозносить за добрые? Предположим, неподалеку от «Уолден два» располагается еще одна община, пусть она называется «Уолден три». Ее основал брат Фрейзера, Нильс, социальный антрополог и психолог, очень проникшийся книгой Колина Тернбулла об африканском племени Ик, члены которого описываются как полностью лишенные доброты и человечности[5]. Нильс решил проверить, удастся ли ему воссоздать нечто подобное, и в этом преуспел. С точки зрения обыденной морали члены общины «Уолден три» не более чем зловредные твари. Как и их соседи, жители «Уолден три» делают лишь то, что хотят. Обе группы жестко детерминированы в своих желаниях, и действуют они в соответствии с этими желаниями. Вопрос в том, можем ли мы похвалить жителей «Уолден два» и вынести порицание жителям «Уолден три» за добрые и дурные поступки соответственно. Думается мне, не можем, по крайней мере, к тому есть не больше оснований, чем хвалить пса Фидо за его дружелюбный нрав и наказывать пса Рекса за то, что он рычит на людей. Я имею в виду, что было бы нерационально винить собаку в том, какова она есть и как она ведет себя, поскольку не собака за это в ответе. Точно так же обстоит дело и с жителями общин «Уолден два» и «Уолден три», которые стали тем, кто они есть, потому, что их сделали такими Фрейзер и Нильс. Они точно так же детерминированы и не способны нести моральную ответственность, как и вышеупомянутые собаки.
Тем самым мы только что лишили себя всякого морального стандарта, пригодного для оценки человеческого поведения, в том смысле, что мы можем лишь констатировать: люди ведут себя так, потому что они таковы. У нас не больше оснований предъявлять определенные моральные требования к человеку – ты должен вести себя так, а не иначе, – чем к собаке или кирпичу, который падает с крыши и обрушивается на голову прохожему. Но так ли это на самом деле? А может быть, прав идейный противник Фрейзера, Кастл, утверждающий, что существует иное, более глубокое понимание свободы воли, не учтенное Фрейзером? Или же существует еще одна альтернатива, при которой люди детерминированы, как и говорит Фрейзер, но при этом должны нести ответственность за свои поступки?
Давайте ненадолго представим себе, что Фрейзер прав в своих идеях и эти идеи верны также относительно него самого. Можем ли мы продолжать оценивать его моральную правоту или неправоту при создании общины? Может ли тотальный детерминизм подразумевать и тотальный нигилизм, или же в такой вселенной останется место для моральных ценностей? Во вселенной, где все предопределено, где Фрейзер может сделать только Х, но не Y, было бы странно порицать Фрейзера за то, что он совершил Х. Для этики не остается места. Как может существовать добро и зло там, где есть только один возможный сценарий? В полностью детерминированной вселенной нет разницы между убийцей-садистом и его жертвой. Оба живут согласно своей природе, и больше о них сказать нечего. Но мир, где нет разницы между добром и злом, вряд ли пригоден для жизни.
Возвращаясь к «Уолден два», мы можем добавить, что в этом обществе действуют строгие правила. Имеется некий набор ценностей, общих для всех его граждан. Вопрос в том, можем ли мы говорить о свободном обществе, если у людей в нем нет вариантов выбора. В последующих главах я постараюсь доказать, что существует тесная связь между автономией и плюрализмом, и в силу этого Фрейзер не имеет права называть «Уолден два» самым свободным местом на земле потому лишь, что там никого не принуждают поступать против своей воли. Фрейзер считает, что он создал оптимальный жизненный уклад. Но что если одному из его сограждан пришли бы в голову другие идеи? Фрейзер, наверное, возразил бы, что такого просто не может произойти, настолько глубоко внушена людям его идеология. Но представим себе, что Кастл, заезжий философ, привез с собой несколько книг и оставил их в публичной библиотеке «Уолден два», не сообщив об этом Фрейзеру. В этих книгах описаны другие жизненные уклады, и предположим, что некоторые члены общины прочли о них и захотели жить по-другому. Что сделает Фрейзер с этими людьми? Вряд ли ему и здесь удастся избежать принуждения и запугивания, а значит, «Уолден два» никоим образом не может быть «самым свободным местом на земле». Нельзя позволить диссидентам свободно разгуливать по общине и оказывать влияние на других граждан, а значит, придется отправить их в ссылку, посадить в тюрьму или просто уничтожить, а кроме того, Фрейзеру пришлось бы ввести цензуру, иначе говоря – удалить вредные книги из библиотеки. Идеологический плюрализм – величайшая угроза существованию «Уолден два». Таким образом, мы убедились, что свобода граждан «Уолден два» – лишь видимость, поскольку в основе ее лежит запрет на любые другие возможности кроме тех, что предусмотрены якобы добрым, а на самом деле тираническим Фрейзером. Скиннер описывал «Уолден два» как свою версию рая на земле, и позднее я покажу, как подобные идиллические проекты в реальной жизни приводят к политическим катастрофам.
Дискуссия между Фрейзером и Кастлом прекрасно иллюстрирует тот факт, что понятие свободы было и остается весьма противоречивым. Не в том смысле, что многие готовы назвать себя принципиальными противниками свободы, а в том смысле, что существует огромное количество противоречащих друг другу определений этого понятия. Можно, конечно, сказать, что у всех этих определений есть некое общее ядро, благодаря которому мы можем называть свободой такое множество различных вещей, однако как только мы попытаемся выделить и определить это ядро, разногласия вновь заявят о себе. Уолтер Брайс Гэлли называл свободу как «essentially contested concept» (пер. с англ. – «принципиально спорное понятие»), то есть такое понятие, использование которого неизбежно вызывает споры[6]. Гэлли показал, что между всеми подобными понятиями наблюдается определенное сходство. Во-первых, у всех у них имеется некое ядро, общее для многих определений и подходящее к большому количеству примеров. Во-вторых, подобные понятия часто используются для вынесения этических суждений. В-третьих, все они достаточно сложны, чтобы допускать значительные расхождения в определениях. И в-четвертых, составные части этих понятий настолько общи либо неясны, что их можно толковать несколькими способами. Понятие свободы отвечает этим критериям более, чем какое-либо другое. Поэтому было бы наивно полагать, что можно разрешить все противоречия относительно понятия свободы одной книжкой вроде этой. Самое большее, на что я могу рассчитывать, – это дать как можно более полное и связное изложение различных аспектов человеческой свободы и надеяться, что оно покажется читателю убедительным. В дискуссии о свободе и ее различных вариантах не существует неоспоримых доводов, способных развеять все сомнения. Есть лишь более или менее правдоподобные теории и наблюдения.
Монтескьё начинает свое рассуждение о свободе в книге «О духе законов» с заявления, что ни одному понятию в истории не приписывалось больше различных значений, чем слову «свобода»[7]. Авраам Линкольн в своей речи о свободе и рабстве 1864 года сформулировал это следующим образом:
$$$«Точного определения свободы никогда не существовало в мире, и сегодня оно как никогда необходимо американскому народу. Все мы ратуем за свободу, но подразумеваем разное. Для некоторых свобода означает, что каждый человек может делать что ему угодно с самим собой и плодами своего труда, для других – что можно делать что угодно с другими людьми и плодами их труда. Здесь говорится не просто о разных, но о совершенно несовместимых пониманиях одного и того же слова»[8].
Исайя Берлин в своем известном эссе «Две концепции свободы» отмечает, что зафиксировано более двухсот значений слова «свобода», и он берется описать лишь два из них[9]. Одной из особенностей понятия свободы является его многозначность – возможно, это самое многозначное понятие вообще. Вследствие этого может возникать множество разногласий, потому что два человека, обсуждающие «свободу», вовсе не обязательно говорят об одном и том же явлении. Едва ли существует надежное основание для того, чтобы решить, какое из многочисленных пониманий свободы является «истинным», и конечная формулировка определения зависит от того, какие ценности мы берем за основу[10]. В дальнейшем я буду уделять больше внимания политическим аспектам свободы, нежели ее метафизическим свойствам, просто потому, что последние не оказывают такого значительного влияния на нашу повседневную жизнь. Наше стремление к свободе основано на опыте, прямо противоположном свободе, а именно – на угнетении. Оно существует в множестве различных форм, начиная от отношений с близкими и заканчивая столкновениями с бюрократической машиной. Общим моментом всех этих форм является необходимость делать то, чего мы делать не хотим, или невозможность делать то, что хочется, по крайней мере, безнаказанно. Как замечает Джон Дьюи: «То, к чему люди стремились и за что боролись во имя свободы, не имеет единой формы и названия, но это уж точно не является метафизической свободой воли»[11]. Это не обязательно означает, что метафизические аспекты свободы неактуальны, поскольку, когда мы дойдем до разговора о политической свободе, мы увидим, что взгляды на нее во многом вытекают из метафизических рассуждений о том, какова природа человеческого существа. Верно и обратное: наши взгляды на политический аспект свободы могут повлиять на наши суждения в метафизических вопросах. К примеру, Исайя Берлин отрицает детерминизм, отчасти исходя из своих идей о политической свободе, решающим звеном которых является способность субъекта выбирать один из множества вариантов действия[12]. Мы можем также отметить, что наши взгляды на свободу воли оказывают определенное влияние на наше поведение. Психологические эксперименты показывают, что люди, чья вера в свободу воли ослаблена, более склонны к мошенничеству и нарушению закона, нежели те, кто твердо в нее верит[13]. Кроме того, метафизическая свобода воли, похоже, тесно связана с ощущением осмысленности бытия, которое возникает тогда, когда мы верим, что наше будущее и будущее окружающих зависит от наших действий, что мы можем что-то изменить в этом мире.
Многозначно не только собственно слово «свобода»[14], но также многие слова, служащие обозначением для определенных позиций в дискуссии о свободе, такие, как, например, «либертарианство», используемое как в онтологическом, так и в политическом дискурсе – причем в разных смыслах. Я имею в виду, что можно быть либертарианцем в политике, не будучи им в онтологии, и наоборот. Вероятно, в таком случае было бы уместно использовать разные слова для «политического» и «онтологического» либертарианства, однако я полагаю, что в настоящей книге в этом нет необходимости, поскольку всякий раз, начиная дискуссию, я буду обозначать, говорим мы об онтологии или политике, а кроме того, я вообще не планирую уделять серьезное внимание политическому либертарианству. Также хочу подчеркнуть, что объем понятия «политическое либертарианство» не вполне ясен. Понятие это употребляется главным образом в американской литературе в том же смысле, в котором европейская литература трактует «классический либерализм», однако вдобавок к этому включает в себя некоторые позиции, присущие анархизму[15]. В настоящей книге я трактую либерализм как идеологию сильного государства, чья власть, тем не менее, должна быть определенным образом ограничена. Следовательно, существуют такие варианты либертарианства, которые не являются ответвлениями либерализма и скорее склоняются к анархизму[16]. Могу привести и обратный пример. Такого философа, как Ролз, можно с уверенностью определить как либерального, но не либертарианского. В этой книге я буду пользоваться в основном словом «либерализм» в его европейском понимании, которое, впрочем, и само является достаточно многозначным и размытым, тогда как понятие политического либертарианства будет появляться на этих страницах лишь в исключительных случаях[17]. Понятие «либертарианство» я буду употреблять главным образом для обозначения онтологической позиции и изредка для обозначения политической позиции – в тех случаях, когда это ясно из контекста. Идеологии консерватизма и либерализма не имеют жесткого разграничения, ни для одной из них нельзя привести списка критериев, руководствуясь которыми можно однозначно назвать то или иное явление либерализмом или консерватизмом. Как следствие, мы всегда будем сталкиваться с разногласиями по поводу того, что можно считать «каноническим» примером той или иной идеологии. Тем не менее, в ядре каждой отдельно взятой идеологии будут присутствовать определенные идеи, выраженные сильнее других.
Я хочу также подчеркнуть, что выражение «свобода воли», которое будет весьма часто встречаться на этих страницах, не означает, что внутри нас имеется какая-то отдельная сущность, именуемая «волей» и обладающая свойством свободы. «Свобода воли» в этой книге трактуется как свобода действия, то есть как некое качество, присущее нашей деятельности. Иметь свободную волю значит обладать способностью принимать решения, предпринимать какие-либо действия исходя из своих практических суждений, ставить себе цели и уметь оценивать различные сценарии деятельности как более или менее подходящие для достижения этих целей. Если вам не нравится выражение «свобода воли», можете всякий раз мысленно заменять его на выражение «свобода действия»[18].
Настоящая книга делится на три части:
Онтология свободы. Здесь я рассматриваю важнейшие вопросы о сущности свободы, о том, может ли вообще свобода существовать в мире, подчиняющемся бесчисленным законам и правилам, а также о том, почему именно свобода делает нас людьми. В первой главе мы поговорим о свободе воли, отталкиваясь от философии Аристотеля, а затем перейдем к проблеме детерминизма. Первоначально я планировал очень обширный обзор дискуссии между ярыми детерминистами, либертарианцами и компатибилистами, однако впоследствии решил, напротив, сильно урезать эту часть. Причина в том, что эта дискуссия так и не привела ни к каким плодам, однако обросла значительным объемом философских рассуждений, сложность которых совершенно не оправдана. Участники этой дискуссии, как и подобает настоящим философам, очень долго обменивались одними и теми же аргументами и контраргументами без видимого результата. Сам я вряд ли могу добавить что-то принципиально новое к этой дискуссии, и подобные рассуждения увели бы нас далеко от целей настоящего исследования. Тем не менее во второй главе я даю краткое изложение упомянутой дискуссии, не делая, впрочем, никаких серьезных выводов, чтобы затем обозначить иной подход к проблеме. В общем и целом я склонен думать, что вопрос о том, насколько совместима свобода воли с детерминизмом – равно как и с индетерминизмом, следовало бы оставить за скобками и вместо того, чтобы предаваться метафизическим раздумьям, сосредоточиться в первую очередь на более прагматических вещах, например на том, как широко распространенные представления о свободе воли, здравом рассудке и ответственности выглядят в свете того, что мы сегодня знаем о человеке и мире. Тем не менее мне показалось необходимым озвучить наиболее острые пункты дискуссии хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, что феномен свободы можно и нужно обсуждать вне зависимости от того, найдены ли ответы на основополагающие метафизические вопросы. В третьей главе я излагаю теорию Питера Стросона об объективных и реактивных установках, а также развиваю свои идеи касательно свободы воли и ответственности. В главе четвертой, завершающей первую часть книги, мы поговорим об автономии.
Политика свободы. Эта часть подхватывает мысли, высказанные в предыдущей, и ставит вопрос о том, как организовать социум исходя из понимания человеческой природы, изложенного в главах с первой по четвертую. Вопрос об общественном устройстве и о рамках, призванных ограничить поведение индивидов, должен рассматриваться исходя из того, какова человеческая сущность. Глава пятая посвящена либеральной демократии как форме правления. В главе шестой обсуждается различие между позитивным и негативным толкованием свободы с точки зрения Исайи Берлина, а затем следует краткий обзор вопросов плюрализма ценностей и морального реализма. Седьмая глава посвящена обзору новореспубликанской критики негативной свободы. В восьмой главе я исследую соотношение понятий равенства и свободы, в частности вопрос о том, какого рода равенство оправдано в рамках того понимания свободы, что изложено в предыдущих главах, а также какого рода равенство могло бы послужить фундаментом для всеобъемлющей свободы. Далее я объясняю, каким образом и почему политические утопии являются на самом деле рецептами социальных катастроф. В девятой главе вы найдете экскурс в историю либеральных прав, а также список прав, которые должны быть положены в основу всякого свободного общества. В главах десять, одиннадцать и двенадцать я рассказываю о трех правах, подвергавшихся наибольшему давлению со стороны либеральных демократий в новейшей истории. Это право не быть объектом патерналистских посягательств, право на защиту личности и право на свободу слова. Попутно я пролью немного света на вопрос принуждения в психиатрии. Содержание глав с пятой по двенадцатую касается в основном формальных черт, необходимых обществу для поддержания и защиты свободы своих граждан; здесь мало внимания уделяется конкретным социальным условиям, которые, без сомнения, очень важны для реализации права граждан на свободную жизнь. Описание этих условий видится мне скорее социологической, нежели философской задачей[19].
Этика свободы. В этой части я продолжаю размышления, начатые в предыдущих, и пытаюсь ответить на вопрос о том, чему именно должна служить свобода после того, как мы разобрались в ее онтологических предпосылках и политических рамках. Тринадцатая глава посвящена тому, как проблема свободы влияет на наши моральные ценности и жизненную позицию.
При написании этой книги я старался показать нить своих рассуждений и логический переход от одной главы к другой, но сделать при этом так, чтобы каждую главу при желании можно было читать независимо от других. Читатели, которым покажется слишком сложной первая часть, или те, кто больше интересуется политическими аспектами свободы, нежели онтологическими, могут просто пропустить первые четыре главы и начинать сразу со второй части. Впрочем, как и любой писатель, я хотел бы, чтобы книга была прочитана от начала и до конца.
Онтология свободы
1 Свобода действия
Любой человек – по крайней мере, если он находится в здравом рассудке, – рассматривает в качестве объектов морального одобрения или осуждения лишь других людей. Реагировать подобным образом на какие-либо другие объекты или феномены было бы нерационально. Впрочем, нельзя сказать, чтобы мы никогда этого не делали. Когда извержение исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль 14 апреля 2010 года повлекло за собой задержку и отмену сотен авиарейсов, то тысячи людей, застрявшие в аэропортах, без сомнения проклинали этот вулкан, хотя с рациональной точки зрения они должны были просто признать, что такие вещи иногда случаются, и нельзя винить вулкан за то, что он извергается.
Бывает и такое, что мы относимся к животным так, как если бы у них была мораль, зная при этом, что такое отношение иррационально, ведь именно в наличии морального чувства заключается разница между людьми и другими животными. Впрочем, так считалось не всегда. В Средневековье был проведен целый ряд судебных процессов над животными[20]. Одним из наиболее известных примеров является случай во французском городе Савиньи, где в 1457 году свинья была осуждена за «преднамеренное и безжалостное» убийство пятилетнего мальчика[21]. Более того, на скамье обвиняемых оказалась не только сама свинья, но и шесть ее поросят. В соответствии с принятой практикой судопроизводства, свинье и поросятам был назначен адвокат, произносивший речь в их защиту. Спасти свинью ему не удалось, однако поросята были оправданы, несмотря на то, что их застали на месте преступления перемазанными в крови жертвы. Смягчающим обстоятельством послужил их юный возраст и тот факт, что они пошли на преступление под влиянием матери. Надо отметить, что на других подобных процессах обвиняемым часто выносился обвинительный приговор в числе прочего и потому, что они громко хрюкали и проявляли всяческое неуважение к суду. Количество подобных судебных процессов достигло кульминации в начале XVII века, однако они продолжали совершаться еще многие десятки и даже сотни лет: последние примеры относятся уже к XX веку.
Я надеюсь, что факты, изложенные в предыдущем абзаце, заставили моего читателя удивиться и задуматься. Что-то в этих судебных процессах кажется нам очень странным, не так ли? Дело в том, что в них совершенно не учитывается принципиальная разница между человеком и животным, а именно наличие у человека и отсутствие у животного чувства морали. Несмотря на то, что человек тоже является частью природы, он отличается от всех остальных живых существ совершенно радикальным образом. У нас есть социальные нормы и уклады, учреждения и правила, которых нет ни у одного другого животного, даже у высокоразвитых приматов. В этой связи можно упомянуть, что даже Дарвин, будучи автором теории о происхождении человека от животного, отмечал это принципиальное различие. Он пишет, что «из всех различий между человеком и животными нравственное чувство или совесть важнее всего»[22]. Далее он отмечает: «Нравственное же существо – это тот, кто способен производить сравнение между своими прошедшими и будущими поступками, одобряя их или не одобряя»[23], и далее: «У нас нет никакого основания предполагать, что какое-либо из низших животных обладает этой способностью». Под «низшими животными» подразумеваются при этом все остальные представители животного мира. Люди уникальны: мы единственные живые существа, обладающие моралью[24]. Обладать моралью означает быть в состоянии оценить различные варианты действий относительно той или иной системы норм и выбрать один из вариантов. Насколько нам известно, таким критериям отвечает только человек. Поскольку эти критерии определяют понятие морального существа, и никакие другие животные в мире им не соответствуют, получается, что только человек является моральным существом, и это выделяет его среди всех остальных животных. И поэтому только к человеку мы можем предъявлять какие-либо моральные требования.
В первой книге «Политики» Аристотель пишет:
$$$«Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойствен и остальным живым существам (поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения друг другу). Но речь способна выражать и то, что полезно и что вредно, равно как и то, что справедливо и что несправедливо. Это свойство людей отличает их от остальных живых существ: только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т. п. А совокупность всего этого и создает основу семьи и государства»[25].
По своему характеру человек – «политическое животное», то есть животное, живущее в обществе себе подобных, и для Аристотеля это неразрывно связано со способностью к речи. Речь делает возможным рациональный обмен мнениями между индивидами, и лишь благодаря этому мы можем отличать справедливость от несправедливости, добро от зла.
Вопрос о свободе человека был с самого начала связан с особенностями, присущими именно человеку. Существо, способное нести ответственность за свои поступки, должно прежде всего обладать пониманием таких базовых принципов морали, как справедливость, наказание и поощрение. Это понимание не обязательно должно быть глубоким, но совсем не обладая представлением об этих базовых принципах, человек не смог бы ориентироваться в системе норм и правил, а следовательно, не смог бы отвечать за свои действия. Далее, необходимо быть способным к определенному самоконтролю и к выбору той или иной стратегии поведения. Не считая пограничных и спорных случаев, мы, как правило, можем легко определить, кто может нести моральную и юридическую ответственность, а кто в эту категорию не попадает. Итак, одни люди могут отвечать перед моралью и законом за свои действия, а другие нет, и эта ответственность тесно связана со свободой. Другими словами, способность нести ответственность – это и есть свобода.
Аристотель, по всей видимости, первым выдвинул теорию о моральной ответственности. Вот что он пишет:
$$$«Принято считать, что поступки, совершаемые подневольно или по неведению, непроизвольны, причем подневольным является тот поступок, источник которого находится вовне, а таков поступок, в котором действующее или страдательное лицо не является пособником, скажем если человека куда-либо доставит морской ветер или люди, обладающие властью»[26].
Итак, Аристотель приводит два критерия добровольного поступка: (1) Знание: Действующее лицо должно осознавать, что именно оно делает. (2) Контроль: Действующее лицо должно контролировать свои действия, и они не должны быть вызваны естественными причинами или другими лицами. Далее Аристотель развивает мысль и приводит еще несколько критериев, в том числе для различения «подневольных» и «непроизвольных» поступков, что полезно для разбора некоторых пограничных случаев, однако углубляться в это мы не станем. Несложно понять, почему для определения свободной воли важны оба аристотелевых критерия. Поступки человека, который физически контролирует свои действия, однако не обладает пониманием ситуации и возможных последствий своих действий, не могут считаться полностью добровольными. К примеру, если кто-то подсыпал яд в мою чашку с кофе, а я из любезности отдал этот кофе другому человеку, нельзя будет сказать, что я добровольно отравил его. Точно так же нельзя считать мои действия добровольными, если я полностью понимаю ситуацию, но не могу контролировать свои поступки. К примеру, я знаю, что другой человек умрет, если я нажму на красную кнопку, и я всем сердцем хочу этого избежать, но я привязан к стулу, а к руке моей подвешен тяжелый груз. В конце концов силы у меня кончатся, моя рука опустится и нажмет на кнопку. Все вы согласитесь, что этот поступок не будет добровольным.
Критерий знания можно объяснить и следующим образом. Мы вправе приписывать человеку определенное действие только тогда, когда человек признает, что наше описание этого действия и его последствий соответствует намерениям, с которыми человек приступал к этому действию. Позвольте мне привести пример. Я стою босиком на мокром полу в ванной и собираюсь повесить новый светильник. Чтобы меня не ударило током, я отключил основной рубильник в доме. В это время в квартиру заходит жена, видит, что в доме темно, а главный рубильник отключен, и включает его, так что я получаю сильный удар током и умираю. И когда позже полицейские спросят у моей жены, что случилось, она вряд ли скажет, что планировала убить своего мужа, скорее она ответит, что просто хотела включить свет. Ее знания о ситуации на момент совершения действия делают убийство непреднамеренным. Наши знания всегда чем-то ограничены, и бо́льшая часть того, чего мы не знаем, нам и не нужна (к примеру, кто является производителем того светильника, который я хотел повесить в ванной). Среди той информации, которая нам все-таки нужна, следует различать ту, незнание которой может быть поставлено нам в вину, и ту, незнание которой не возбраняется. К примеру, если бы в нашей квартире часто сам собой отключался главный рубильник, и вдобавок я бы не сообщил жене о том, что собираюсь повесить новый светильник, ее совершенно не в чем было бы винить. Напротив, если бы я заранее предупредил ее о своих электромонтажных планах, и если бы отключенный рубильник не был обычным делом в нашем доме, можно было бы упрекнуть ее в том, что перед тем, как включать рубильник, она не проверила, не вешаю ли я светильник в ванной. И ее слова о том, что она просто забыла, вряд ли удовлетворили бы полицию. Потому что в подобной ситуации нужно было сделать все возможное, чтобы не забыть. Незнание не освобождает от ответственности в том случае, если знание является нашей обязанностью.
Тот, кем искусно манипулируют, не отвечает критерию знания. Мы должны оценивать действующее лицо исходя из его реальной возможности получить адекватное знание о контексте и последствиях его действий. Массовые и всеобъемлющие манипуляции часто называются «промывкой мозгов», однако то, что под этим названием фигурирует в популярной культуре, в частности в фильме «Маньчжурский кандидат», в действительности не существует[27]. Никто не может «запрограммировать» людей и превратить их в роботов, идущих наперекор своим желаниям и ценностям, заставить их вопреки своему желанию совершить покушение на жизнь политика или другого гражданина. Едва ли возможно настолько сильно промыть кому-то мозги. Однако это не означает, что посредством манипуляции нельзя оказать сильное влияние на взгляды и поведение людей. Насколько глобальной должна быть манипуляция для того, чтобы человек перестал отвечать критерию знания, зависит от степени его осознанности.
Контроль за своими действиями состоит в том, что человек совершает поступки по собственному выбору, а это подразумевает отсутствие принуждения. Мы должны различать виды принуждения, при которых действующее лицо физически не имеет возможности поступить иначе вплоть до невозможности произвольно управлять своими движениями, и те случаи, в которых способность человека к выбору поступков выведена из строя при помощи психологических или ментальных инструментов. Кроме того, имеются такие ситуации, в которых человек, находясь под давлением, все же сохраняет способность выбирать между различными вариантами действий. Существуют степени принуждения, и вряд ли можно выделить явный и универсальный критерий, позволяющий определить, в какой момент принуждение переходит ту границу, за которой мы уже не можем говорить о свободной воле. Мы можем попробовать провести грань между давлением, которое оказывает нежелательное влияние на выбор человека, и принуждением, которое вовсе отнимает у человека возможность выбора. Грабитель, направляющий на вас пистолет со словами «Кошелек или жизнь!», сводит вашу свободу к выбору из двух неприятных альтернатив, но вы хотя бы можете выбирать. Если же грабитель отравит вас парализующим ядом, чтобы затем беспрепятственно забрать ваши деньги, ваша свобода будет не просто ограничена, она будет отнята. Таким образом, первый грабитель может служить иллюстрацией давления, а второй – принуждения. Однако на деле граница между давлением и принуждением может быть довольно расплывчатой, так что скорее имеет смысл говорить о степени принуждения.
Исходя из этого, можно утверждать, что люди действуют более или менее добровольно, и от степени добровольности их поступков зависит также и степень их ответственности. Однако даже в случае, если человек действует под принуждением, например, разглашает секретные сведения под угрозой причинения вреда его близким, можно сказать, что действие его было добровольным, поскольку он самостоятельно выбрал одну из альтернатив. Будучи под принуждением, он выбрал тот вариант, который в большей степени согласуется с его ценностями и приоритетами. Выдавая секретные сведения, чтобы обеспечить безопасность своим близким, он делает это потому, что безопасность близких для него важнее, но в принципе могло бы быть и наоборот. Большинство, конечно, не назовет это свободным выбором, поскольку хотя человек и действует исходя из своих ценностей и приоритетов, в нормальных обстоятельствах он не стал бы разглашать секретную информацию. В данном случае вернее было бы сказать, что заинтересованные лица использовали его ценности и приоритеты для того, чтобы подорвать его способность к самоконтролю, и для большинства из нас это явилось бы хотя бы частичным оправданием его поступка. Однако никто из нас не стал бы оправдывать человека, который поступил бы подобным образом ради собственной выгоды, к примеру, позволив подкупить себя значительной денежной суммой. Но в чем принципиальная разница? Ведь и в этом случае у действующего лица есть выбор между двумя альтернативами, и он действует исходя из своих ценностей и приоритетов, в число которых входит стремление к собственному обогащению, и тем не менее мы склонны возлагать на него бóльшую ответственность за разглашение тайны. Может быть, ответ состоит в том, что в обоих случаях человек действует одинаково с точки зрения свободы воли и ответственности, однако первого можно оправдать с точки зрения морали, а второго нет, поскольку забота о безопасности своих близких является морально приемлемым мотивом, а забота о собственной выгоде таковым не является? Здесь необходимо добавить, что подобное действие под принуждением будет приемлемо с позиций морали лишь в том случае, если угроза благополучию и безопасности других людей серьезна и ущерб в случае ее исполнения будет значительнее, нежели ущерб от разглашения информации. Кроме того, нам легче понять человека, которого угроза причинения вреда его близким ввергла в состояние паники, лишившей его способности контролировать свои действия и предвидеть их последствия. Тем не менее данный пример демонстрирует, что вопрос о том, отвечают ли действия человека критериям знания и контроля, всегда требует тщательного рассмотрения.
Давайте теперь поразмышляем о том, насколько хорошо мы в действительности контролируем нашу повседневную жизнь. Ведь мы вряд ли будем утверждать, что все наши поступки в течение дня являются результатом осознанного выбора. Чаще всего мы действуем просто по привычке, не утруждая себя анализом контекста. Является ли это угрозой нашей свободе? Джон Стюарт Милль считает, что такого автоматизма следует остерегаться: «Способность человека понимать, судить, различать, что хорошо и что дурно, умственная деятельность и даже нравственная оценка предметов – все эти способности упражняются только тогда, когда человек делает выбор»[28]. И далее: «Деспотизм обычая повсюду составляет препятствие к человеческому развитию»[29]. Кант тоже утверждал, что очень важно противиться влиянию привычек, отнимающему у нас свободу и независимость[30]. Для него привычки – это своеобразная форма принуждения. Но хотя привычки и могут быть инструментом принуждения, они часто играют в нашей жизни положительную роль. Привычка – это особый способ взаимодействия с окружающим миром, указывающий на определенную степень понимания[31]. Без привычек мир казался бы бессмысленным, потому что именно привычки связывают мир в единое целое и создают тот фон, на котором отдельные вещи обретают смысл. Без привычек наш мир начал бы разваливаться на глазах. Гегель говорит, что привычка – это вторая натура[32]. Привычка – это нечто благоприобретенное, но при этом настолько хорошо усвоенное, что в своей непосредственности и устойчивости приближается к инстинкту. Однако привычки можно менять. Без привычек мы вряд ли могли бы выполнять хоть какие-то повседневные действия, помимо чисто инстинктивных. К примеру, на теннисном корте мы играем тем лучше, чем меньше думаем о своих действиях и пытаемся принимать осознанные решения. Означает ли это, что на теннисном корте мы не действуем добровольно? Вовсе нет, потому что мы знаем что делаем и имеем возможность контролировать свои действия. Мы даже, возможно, посвятили в юности немало часов тренировкам на корте, чтобы иметь возможность делать то, что делаем сейчас. Здесь я должен согласиться с Джонатаном Джейкобсом в том, что процесс образования привычек никоим образом не ограничивает нашу способность к осознанным действиям, а скорее играет решающую роль в развитии свободной воли[33]. Без сомнения, некоторые привычки препятствуют нашей свободе, но без обширного ассортимента привычек мы вообще не могли бы действовать свободно. Поэтому в действительности привычки являются не помехой свободе, но предпосылкой к ней, а поскольку привычки можно менять, ссылка на действие по привычке не освобождает от ответственности. Свобода действия неразрывно связана с ответственностью. Способность нести ответственность дает совершенно уникальный статус в нашем мире. И тот, кто отвечает за свои действия, отмечен особым образом. Вот что пишет об этом Достоевский:
$$$«Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить»[34].
Так что вопрос лишь в том, совместим ли такой взгляд на моральную ответственность, свойственную лишь человеческому виду, с тем, что мы, как нам кажется, знаем об окружающем мире. Если свобода как свойство вступает в противоречие с другими постулатами, которые мы признаем как неоспоримую истину, то нам придется отбросить и наши представления о моральной ответственности, как необходимой предпосылке к свободе.
До сих пор мы исходили из того, что человек действует свободно и добровольно, если он удовлетворяет двум аристотелевским критериям знания и контроля. Кроме того, мы обсудили, какие формы принуждения, давления и манипуляции следует принимать во внимание при оценке того, соответствует ли ситуация упомянутым критериям. Я также придерживался взгляда, что действующее лицо в принципе может контролировать свои действия, но в следующей главе мы попытаемся оспорить это утверждение.
2 Свобода и детерминизм
Все мы обладаем осознанием собственной свободы. Джон Локк писал, что для него нет ничего очевиднее того, что он свободен[35]. Сэмюэл Джонсон указывал на то, что мы уверены в собственной способности пошевелить пальцем или не делать этого по своей воле более, нежели мы уверены в том или ином логическом умозаключении[36]. Однако у нас нет никаких гарантий того, что это наше осознание каким-либо образом коррелирует с истинной природой этого мира. Исходя из наших знаний о мире, наша свобода может оказаться самой что ни на есть иллюзией. К примеру, биолог Эдвард Осборн Уилсон утверждал, что так называемая свобода воли не более чем иллюзия, являющаяся продуктом молекулярных процессов[37]. Эта идея имеет много теоретических обоснований. Сэмюэл Джонсон даже утверждал, что «вся теория свидетельствует против свободы воли, весь наш опыт говорит об обратном»[38]. Однако не все так просто. Есть также теории, свидетельствующие в пользу свободы воли, и практический опыт, свидетельствующий против нее. Что же касается утверждения Джонсона о том, что мы шевелим пальцем по собственной воле, то оно было оспорено нейрофизиологом по имени Бенджамин Либет, который провел серию весьма нашумевших опытов, которые, по мнению многих, говорят о том, что мы не шевелим пальцем по собственной воле, напротив, двигательный импульс посылается мозгом до того, как мы принимаем осознанное решение пошевелиться.
Таким образом, наше осознание собственной свободы вовсе не является гарантией того, что мы действительно свободны. Вот я сижу за столом и пишу эту книгу, и я совершенно уверен в том, что я самостоятельно решаю, хочу ли я написать еще одно предложение, или я лучше закончу работать и пойду поиграю со своей кошкой. А когда я принимаю решение написать еще одно предложение, я, конечно же, уверен, что его содержание целиком и полностью зависит от меня: к примеру, я могу, если захочу, написать какую-то мысль, которую считаю заведомо ложной. Мы все рассуждаем примерно так, но может статься, что все мы являемся жертвами самообмана, и наша свобода всего лишь фикция. Этот самообман заключается в том, что мы не осознаем истинных мотивов своих действий.
Шопенгауэр в своей речи «О свободе человеческой воли», за которую он получил приз Королевского научного общества Норвегии в 1839 году, указывает на тот факт, что осознание человеком собственной свободы не может служить доказательством того, что он действительно свободен. Он описывает рабочего, который в конце смены думает, что теперь-то он сам волен решать, чем ему заняться, и вот он хочет прогуляться, или пойти в клуб, или сходить в театр, или, раз уж на то пошло, бросить все и пуститься на поиски новой жизни, чтобы никогда не возвращаться назад. Однако в результате он решает, совершенно свободно, как ему кажется, пойти домой к жене, как он обычно и делает. Шопенгауэр сравнивает этого рабочего с водой в пруду:
$$$«Это все равно, как если бы вода сказала: “Я могу вздыматься высокими волнами (да! Как на море, в шторм), я могу бурно катиться вниз, увлекая за собой все, что попадается мне на пути (да! Как река катится по руслу), я могу низвергаться, бурля и пенясь (да! Как водопад), я могу взвиться в воздух, свободная, как стрела (да! Как в фонтане), я могу, в конце концов, выкипеть и испариться (да! При температуре не ниже 80 градусов); однако я не делаю всего этого и добровольно остаюсь мерцающей гладью пруда”. И подобно тому, как вода может все это лишь тогда, когда случатся условия, обеспечивающие то или иное ее состояние, так и тот человек может сделать все перечисленное лишь при определенных условиях: пока для этого не появится причина, это невозможно. Когда же причина появится, это с неизбежностью должно будет случиться, как с водой в соответствующих условиях»[39].
Вода может принимать все описанные формы, но не сама по себе. Смысл этого сравнения в том, что вода не осознает тех условий, которые необходимы для изменения ее состояния. Эти условия, между тем, являются определяющими для ее поведения. И тот факт, что вода не осознает этих условий, не делает их менее реальными. То же, утверждает Шопенгауэр, верно и для людей. Мое осознание себя свободным является на самом деле недостаточным осознанием тех причин, которые в действительности определяют мое поведение. Можно сформулировать это иначе: не осознавать причины, определяющие наше поведение – это не то же самое, что осознавать, что мы ни от чего не зависим.
Если вдуматься, такое вполне вероятно: мы ведь действительно можем не осознавать тех причин, которые полностью определяют наше поведение. И возможно, что те наши проявления, которые трактуются как признаки сильной воли, в действительности диктуются вовсе не нашей волей[40]. К примеру, эпифеноменалисты трактуют сознание как побочный продукт деятельности мозга. Конечно, среди философов осталось не так уж много эпифеноменалистов, но они есть. Эпифеноменализм утверждает, что хотя нам и кажется, будто наше сознание руководит нашими действиями, на самом деле оно не имеет никакого влияния. Можно сказать, что между мозгом и сознанием есть односторонняя причинно-следственная связь, то есть мозг вызывает определенные явления в сознании, тогда как сознание вообще не может влиять на мозг (или на что бы то ни было). Дэниел М. Вегнер пишет:
$$$«Ощущение того, что мы осознанно желаем совершить действие ‹…› служит своего рода компасом, указывающим сознанию на то действие, которое вскоре произойдет… Таким образом, переживание собственной воли является индикатором, одним из измерительных приборов, которыми мы пользуемся для управления. Подобно показаниям компаса, ощущение потребности в действии рассказывает нам о том, как функционирует судно. Как и показания компаса, эту информацию следует понимать как сознательное переживание, на которое так и хочется навесить ярлык “эпифеноменализм”. Подобно тому, как показания компаса сами по себе не управляют судном, так и сознательные переживания не управляют человеческими действиями»[41].
Нам кажется, что наши решения имеют последствия в окружающем нас физическом мире – даже эпифеноменалисты признают это. Мое ощущение того, что это я, а точнее моя воля, поднимает, к примеру, мою руку, вовсе не служит гарантией того, что все и в самом деле обстоит именно так. Вполне вероятно, что, как пишет Колин Блейкмор, «ощущение воли является лишь уловкой мозга»[42]. И все же правдоподобность этой гипотезы не означает, что она верна. Кроме того, можно возразить, что такие утверждения не научны, а создают лишь видимость науки, поскольку их невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть научными методами. Мы видим корреляцию между ментальными процессами и активностью мозга, но это не доказывает, что наш мозг может думать сам. В лучшем случае это лишь указывает на то, что, когда мы думаем, это сопровождается активностью определенных участков мозга.
Разумеется, мы имеем полное право искать объективные причинно-следственные связи, лежащие в основе того или иного действия, однако было бы неверно отбрасывать при этом всю персональную составляющую, например намерения, или рассматривать эту персональную составляющую исключительно как иллюзию. Объективная и субъективная концепция наших действий выделяют разные их качества, и здесь сложно удержаться от эпистемического дуализма[43]. Ни наши знания об окружающем мире, ни наше осознание себя как мыслящих и обладающих свободой выбора существ не способны дать нам единственно верного ответа на вопрос о том, возможна ли свобода воли. Так что давайте сперва подробнее изучим теоретическую базу детерминизма и индетерминизма, а затем вернемся к этой проблеме.
Детерминизм и индетерминизм
Метафизическая теория детерминизма предполагает, что вещи и события в мире связаны друг с другом посредством неизбывных причинно-следственных отношений. Согласно этой теории, состояние всех вещей во Вселенной в момент времени t является производной от состояния их в предшествующий момент и законов природы. Следовательно, состояние Вселенной в момент, следующий за моментом t, является следствием ее состояния в момент t. Предположив, что мы обладаем полным знанием о состоянии Вселенной в момент t, а также обо всех законах природы, мы в принципе можем предсказать любое событие в будущем, от поведения мельчайших элементарных частиц до движения крупнейших космических тел. Кроме того, мы можем предсказать любое действие любого человека. Это означает, что прошлое и будущее абсолютно симметричны, и будущее так же определенно, как и прошлое. И существует только один возможный вариант будущего. Уильям Джеймс сформулировал это следующим образом: «Возможности, которые не будут реализованы, являются чистыми иллюзиями с точки зрения детерминизма; таких возможностей никогда не существовало»[44].
Теория детерминизма служит выражению одного-единственного условного суждения: «Если… то…». Предполагается, что второй элемент суждения полностью предопределен первым, и связь между первой и второй частью является причинно-следственной связью[45]. С точки зрения модальной логики можно сказать, что в любом логически возможном мире детерминированное событие пройзойдет тогда, когда имели место детерминирующие обстоятельства (причины и законы природы). Согласно теории детерминизма, каждое событие имеет достаточные причины, которые полностью его объясняют. Если у события X имеются достаточные причины, значит, может произойти Х, и ничего кроме Х. Другими словами, детерминизм утверждает, что у каждого события имеются причины. Этот принцип применяется равно широко как в быту, так и в научных исследованиях. Зная причины, которые в достаточной мере служат для возникновения некого феномена, мы считаем, что тем самым объясняем этот феномен. Вопрос лишь в том, можем ли мы обосновать, что в мире действует закон, согласно которому некий набор причин с необходимостью приводит и служит достаточным условием для события Х.
Разумеется, ученые должны иметь возможность применять принцип детерминизма в научных исследованиях как методологический прием, то есть допускать, что у события X есть достаточные причины, поскольку только в этом случае можно дать событию X полноценное объяснение. Однако выводы из такого методологического допущения не следует экстраполировать на онтологию и считать, что мир действительно таков, как мы предположили. Если мы в научных целях пытаемся объяснить каждый феномен при помощи принципа детерминизма, это вовсе не означает, что каждый феномен возможно объяснить подобным образом. Существует огромное количество вещей, которые мы на данный момент объяснить не в состоянии, и мы даже не знаем, какие из этих бесчисленных вещей мы вообще сможем объяснить в будущем.
В «Лекциях о свободе воли» Людвиг Витгенштейн утверждает, что наше понятие о необходимости коренится в том, что мы считаем наблюдаемые нами явления физического мира природными законами, по которым, как по рельсам, движется все вокруг[46]. Необходимость законов следует, как нам кажется, из самого понятия «закон», поскольку систематические отклонения от какого-либо закона заставят нас пересмотреть его так, чтобы он объяснял и всевозможные отклонения. Мы считаем, что в пересмотренном виде закон является описанием некой необходимости, и даже если у нас нет закона, объясняющего некоторые феномены, мы предполагаем, что закон существует, просто он до сих пор не сформулирован, однако он способен объяснить эти феномены, потому что такой расклад, при котором никакого закона, объясняющего их, не существует, мы просто не готовы принять. Витгенштейн утверждает, что в нашем представлении о законах природы скрыт элемент фатализма, словно они записаны в некой книге каким-то божеством. Эта книга «содержит, по всей видимости, непогрешимое описание тех путей, которым должны следовать все события»[47]. Витгенштейн опровергает эту метафору божественных скрижалей и предполагает, что нет никаких эмпирических доказательств существования необходимости, но мы все равно исповедуем веру в нее. Разумеется, мы наблюдаем в мире определенные регулярные соответствия, но даже наблюдая очередное регулярное соответствие, мы можем сказать: «Мир свободен, однако в данный момент он демонстрирует некоторую регулярность»[48]. Детерминистический взгляд на мир обманывает нас, поскольку заставляет нас верить, что что-то произойдет именно так, а не иначе, тогда как Витгенштейн утверждает, что правильнее было бы утверждать: событие может произойти «так или иначе»[49]. Наблюдаемые нами регулярные соответствия не являются доказательством того, что возможен только один исход.
Необходимо отличать эпистемологию от онтологии: то, что мы можем знать о мире, от того, чем мир является. Если теория детерминизма верна, то мы можем предсказать любое будущее событие, однако на практике мы, конечно, не в состоянии делать подобные предсказания. Напротив, даже в контролируемом эксперименте редко удается повторить полученный результат, при том, что производятся те же самые действия тем же самым образом в тех же самых условиях. Даже в лабораторных условиях имеют место вариации. Как отмечает Нэнси Картрайт, законы Ньютона верны только при ceteris paribus – при допущении, что все прочие условия остаются идентичными, а – подобное едва ли возможно в нашем мире[50]. Это означает, что в действительности мы можем давать точные предсказания на основе Ньютоновых законов только при весьма определенных условиях, и нельзя не отметить, что они применимы только на макрофизическом уровне, и только на этом уровне мы можем давать более или менее точные предсказания. На уровне микромира точность наших предсказаний резко падает и становится сопоставимой с точностью наших предсказаний касательно психических и социальных феноменов.
Так что мы можем с уверенностью утверждать, что мы не в состоянии достаточно точно предсказать каждое будущее событие. В мире квантовой физики поведение объектов настолько непредсказуемо, что мы вообще можем говорить только о той или иной степени вероятности. В большинстве научных дисциплин нам удается предсказать события лишь с некоторой степенью вероятности, и разброс ее в разных науках достаточно велик. Даже в пределах физики существуют значительные различия между квантовыми частицами, которые, по всей видимости, не подчиняются принципу детерминизма, и видимыми и воспринимаемыми посредством других органов чувств физическими объектами, которые ведут себя более предсказуемо. Другими словами, в одних областях принцип детерминизма действует, а в других нет. Исходя из наших сегодняшних знаний, можно утверждать, что у теории всеобщего детерминизма нет достаточных научных оснований. Современная наука скорее поддерживает идею всеобщего индетерминизма, при котором отдельные системы проявляют достаточную регулярность, чтобы их можно было счесть детерминированными.
Вопросу о том, поддерживает ли физическая наука детерминизм, долгое время придавали слишком большое значение в том смысле, что многие полагали, будто этот вопрос можно решить при помощи одной лишь физики, не принимая во внимание более высоких онтологических уровней. Я хочу сказать, что высшие онтологические уровни никак нельзя полностью редуцировать до низших, потому что на высших уровнях возникают другие каузальные свойства, так что не только высшие уровни онтологии подвергаются каузальному влиянию со стороны низших, но и наоборот. И даже обладая всей релевантной информацией на низшем уровне, мы не можем объяснить все свойства высшего уровня. Существует много уровней анализа. На каждом из этих уровней имеются свои объекты, законы и понятия. Разные уровни не являются полностью самостоятельными, однако и полностью свести их друг к другу невозможно. Изучение объектов на низшем уровне бесусловно проливает свет на поведение объектов высшего уровня, но лишь в ограниченном объеме. На каждом новом уровне возникают новые каузальные свойства, и этот уровень невозможно объяснить, разложив его на составные части и описав свойства этих частей. Взаимодействие частей целого на высшем уровне как раз и образует основные свойства этого уровня. Когда Денис Нобл собирался вывести математическую модель сердечного ритма для кардиостимулятора, он выяснил, что невозможно решить эту задачу, наблюдая за поведением отдельных молекул – лишь наблюдение за системой в целом, определяющей ритм отдельных ее элементов, помогло ему добиться цели[51]. Свойства целого, разумеется, отчасти являются следствием свойств составных частей, однако и свойства целого в свою очередь устанавливают границы, которыми определяются свойства составляющих. События на низших уровнях приводят к изменениям на высших уровнях, но и события на высших уровнях влияют на то, что происходит на низших. Не только в действиях человека, но и в поведении ряда других животных применимо понятие каузальности, которая действует не только снизу вверх, но и сверху вниз. Это обстоятельство служит камнем преткновения для тех, кто пытается обосновать теорию детерминизма средствами одной лишь физики[52]. Существенная разница между человеком и другими животными состоит не только в том, что люди обладают казуальностью нисходящего типа, поскольку то же самое можно сказать и о некоторых других высших животных, но в том, что люди обладют некоторыми когнитивными способностями, а именно – понятием о нормативных требованиях, которые сообщают людям каузальные свойства, не присущие никаким другим животным.
Впрочем, это различие между людьми и другими животными часто не принимается во внимание, когда речь идет о генетическом детерминизме. Я не планирую подробно обсуждать генетический детерминизм на этих страницах, поскольку исчерпывающим образом написал об этом в другой работе[53]. Может показаться странным, что вопрос о генетическом детерминизме вызывал столько споров, ведь генетический детерминизм по сути не отличается от любого другого вида детерминизма. Если мы считаем, что элементарные частицы определяют наше поведение, то объяснение этого поведения следует искать именно в свойствах элементарных частиц, а намерения действующего лица при этом можно считать иррелевантными. Точно таким же образом генетик, придерживающийся теории детерминизма, будет считать причиной всего свойства генов, и интенции действующего лица в лучшем случае будут сочтены продуктом свойств тех же генов. Не существует никакой принципиальной разницы между различными формами детерминизма. Я считаю, что причина, по которой многих так тревожит генетический детерминизм, заключается в том, что другие формы детерминизма берут за точку отсчета нечто внешнее по отношению к нам самим, внешние причины, тогда как генетический детерминизм затрагивает само наше существо и лишает нас какой бы то ни было самостоятельности, так что для свободы воли просто не остается места.
Тот факт, что некоторые аспекты моей жизни запрограммированы генетически, неоспорим: я родился человеком, а не пандой, поскольку гены моих родителей располагали к рождению именно человеческого детеныша, а не маленькой панды. С другой стороны, уже на этом этапе мы можем заметить, что генетический материал был необходимым, но не достаточным условием для появления на свет такого человеческого детеныша. Соотношение между генами, целыми организмами и окружающей средой таково, что невозможно выделить один из этих факторов в качестве главного элемента. Участок ДНК является решающим элементом каузальной основы возникновения какого-либо свойства, однако он является именно элементом. Вместо модели, в которой каузальность показана в виде стрелочек, которые напрямую ведут от участков ДНК к частям и свойствам целых организмов, мы имеем модель, где каузальные связи идут во всех возможных направлениях. И теперь вы спросите меня, какое отношение все это имеет к свободе. Разумеется, система, в которой каузальность действует во всех направлениях, может быть столь же детерминированной, как и та, в которой действует только восходящая каузальность. И все же мы видим принципиальное различие, поскольку за точку отсчета мы принимаем организм как единое целое, а следовательно, отвергаем представление о том, что гены являются единственным фактором, определяющим поведение организма. По моему мнению, более или менее трезвый взгляд на современную биологию не вносит существенного вклада в решение метафизических вопросов, связанных с теорией детерминизма. И точно так же, как мы не можем предсказать поведение человека исходя из свойств составляющих его организм элементарных частиц, не можем мы и предсказать его поведение исходя из свойств его генетического материала.
Если бы мы действительно могли более или менее точно предсказывать события, это служило бы важным аргументом в пользу теории детерминизма. Однако поскольку предсказания такого рода нам недоступны, этот аргумент отпадает. Мы не можем категорически утверждать, что теория детерминизма ошибочна, поскольку вполне возможно, что однажды человечеству удастся выстроить теории, позволяющие с большей точностью предсказывать события, однако на сегодняшний день реальность такова, что у теории всеобщего детерминизма просто нет достаточных обоснований.
У вас может возникнуть искушение поддержать теорию индетерминизма, которая вкратце состоит в том, что ни одно событие не имеет достаточных причин. Индетерминизм вовсе не предполагает, что происходящее в определенных условиях совершенно произвольно – мы вполне можем говорить о том, что обычно происходит в таких условиях. С точки зрения эпистемологии мы оказываемся в ситуации, когда один и тот же набор исходных условий не обязан приводить к событию Х, а может с тем же успехом привести к Y или Z. Многие видят в этом возможность для человека быть свободным, и первым, кто встал на позицию индетерминизма с целью обосновать понятие свободы, был Лукреций. В поэме «О природе вещей», написанной около середины первого века до нашей эры, он утверждает, что атомы могут немного отклоняться от своих траекторий, и это определяет возможность существования свободы[54].
Никаких научных доказательств всеобщего индетерминизма не существует. Единственным надежным опровержением детерминизма послужил бы эксперимент, в котором действующее лицо сначала делает X, а затем Y при совершенно идентичных условиях, однако это, разумеется, невозможно. Кроме того, индетерминизм вовсе не служит аргументом в пользу свободы и ответственности. Защищая представление о свободе от угрозы, которую представляет собой теория детерминизма, мы пребываем в уверенности, что детерминизм лишает нас контроля над собственными действиями. Однако индетерминизм как таковой вовсе не утверждает, что мы контролируем свои действия, он лишь вносит в схему элемент случайности, а случайность служит свободе не больше, чем строгая причинно-следственная связь. Почему тот факт, что событие не определяется причинно-следственной связью, должен давать нам основания считать, что действующее лицо получает свободу и ответственность? Если бы нам пришлось жить во Вселенной, где внешние объекты и наше собственное тело не следуют законам физики, и любые происходящие события были совершенно случайны, мы были бы далеко не свободны. Мы оказались бы пленниками совершенно непонятной системы, где мы совершенно ничего не можем контролировать. Таким образом, отсутствие предопределенности означает лишь, что все управляется случайностью, а случайность совершенно не подразумевает ни свободы, ни ответственности. Тот, кто попытался бы использовать индетерминизм для защиты понятия свободы, столкнулся бы с необходимостью найти способ показать, как отстутствие предопределенности приводит к тому, что действующее лицо получает контроль, то есть способность произвольно становиться причиной определенных событий.
Многие – вероятно, почти все – современные физики отвергают детерминизм и поддерживают индетерминизм. То же касается и философов, особенно тех, кто занимается философией науки. Среди философов, не работающих с философией науки, особенно физической, многие как раз отдают предпочтение детерминизму. Впрочем, тот факт, что многие физики и/или философы занимают в этом противостоянии ту или иную позицию, имеет не очень большое значение. Вопросы науки и философии решаются не путем голосования.
Большинство философов согласится с тем, что верность или ошибочность теории детерминизма является сложным вопросом. Теория детерминизма не обязательно верна и не обязательно ошибочна. Этот вопрос невозможно решить при помощи только философских аргументов, для его решения требуется прибегнуть к эмпирическим наблюдениям и исследованиям. Однако ни одно эмпирическое исследование не в состоянии дать однозначный ответ. Дать научное обоснование той или иной позиции в принципе не представляется возможным. Это не означает, что научные теории и открытия не имеют никакого значения для проблемы детерминизма. Напротив, они могут дать нам много важной информации, способствующей лучшему пониманию того, как функционирует человек и почему мы поступаем так, как поступаем. И все же они не дадут нам ответа на вопрос. Как сформулировал Патрик Саппес, философ-детерминист может спокойно придерживаться своих взглядов и быть уверенным в том, что его позиция никогда не будет научно опровергнута, но то же самое будет верно и в отношении индетерминизма[55].
Эти краткие заметки о детерминизме и индетерминизме в целом не приблизили нас к пониманию свободы, так что нам необходимо двинуться дальше и посмотреть, как изменится картина от введения в нее действующих лиц. Однако прежде мы должны сделать небольшое отступление и посмотреть, что говорят о детерминизме современные исследования человеческого мозга.
Экскурс: мозги и свобода воли
Итак, до сих пор никому не удалось доказать, что теория детерминизма верна, а свободы воли не существует. Однако некоторые научные исследования принесли результаты, которые при желании можно истолковать в пользу детерминизма, и я хотел бы кратко остановиться на самых известных из них.
В 1980-х годах Бенджамин Либет провел целый ряд экспериментов[56], которые, по мнению многих людей, доказали, что свобода воли есть не что иное, как иллюзия[57]. Самое распространенное толкование его экспериментов говорит о том, что мозг принимает решение и приводит его в действие еще до того, как мы его осознаем. Другими словами, решение действовать принимается мозгом, а не сознанием. В ходе экспериментов испытуемых просили совершить простое движение, например согнуть руку или пошевелить пальцем, в любой удобный для них момент времени. Одновременно при помощи энцефалографа замерялась активность мозга, которая показывает, когда человек готов совершить движение. Этот так называемый «потенциал готовности» наблюдается в той части мозга, которую чаще всего связывают с произвольными движениями. Увеличение потенциала наблюдается, как правило, примерно за полсекунды до того, как можно наблюдать реальное движение. Эта часть эксперимента вполне соответствовала ожиданиям, поскольку передача импульса от мозга к мышцам занимает некоторое время. Однако Либет добавил в эксперимент еще один элемент, а именно попросил испытуемых смотреть на часы и отметить время, когда они приняли решение пошевелиться. И как раз эта часть эксперимента дала весьма необычные результаты, поскольку выяснилось, что потенциал готовности увеличивается за треть секунды до того, как испытуемые осознают свое решение пошевелиться. Либет пришел к выводу, что решение о совершении движения или, как минимум, о его начале принимает мозг еще до того, как субъект делает осознанный выбор. В двух словах: мозг запускает движение еще до того, как в игру вступает сознание.
Картина осложняется тем, что повышение потенциала готовности наблюдается и тогда, когда никакого действия не совершается, так что невозможно более или менее точно предсказать действия на основании замеров этого потенциала. Либет объясняет это тем, что у сознания имеется своего рода «право вето». Поскольку сознательная воля просыпается еще до начала сокращения мышц, но уже после повышения потенциала готовности, Либет формулирует гипотезу, согласно которое сознание может остановить действие, запущенное мозгом.
Довольно привлекательно выглядит мысль объяснить результаты экспериментов Либета ошибкой в измерениях или тем, что сама обстановка эксперимента оказала влияние на его результаты, или же тем, что испытуемые из-за сдвига восприятия времени неправильно определяли момент, когда они осознали свое решение, и так далее, и тому подобное. Однако данные Либета с успехом выдерживают значительную часть критики. Против него можно выдвинуть ряд методологических возражений, но я хотел бы сосредоточиться на тех философских выводах, которые можно сделать из его экспериментов, допустив, что его данные верны.
Уже после экспериментов Либета были проведены новые исследования, в которых использовался прибор ФМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии), и результаты были еще более впечатляющими[58]. Испытуемых просили расслабиться, демонстрируя им поток буквенных символов на экране. Затем их просили нажать на кнопку указательным пальцем правой или левой руки в тот момент, который они выберут сами, и запомнить, какая буква была показана на экране в этот самый момент. Соответствующие зоны мозга демонстрировали активность на целых пять или семь секунд раньше, чем испытуемые осознавали свое решение нажать на кнопку, а с учетом задержек измерительных приборов речь может идти даже о десяти секундах. Такой временной промежуток уже слишком велик, чтобы его можно было списать на неточность измерений или неточное восприятие времени испытуемыми, чем пытались опровергнуть данные Либета. Кроме того, исследователям удалось хотя и с невысокой точностью (около 60 %), но явно исключающей случайное попадание, предсказать действия испытуемых, а именно – пальцем левой или правой руки они нажмут на кнопку – почти за семь секунд до того, как сами испытуемые осознавали свой выбор.
Какие выводы мы можем из этого сделать? Во-первых, мы не можем сделать вывода, что свобода воли является иллюзией или что эти эксперименты поддерживают позицию детерминизма. Они могут лишь дать нам основания утверждать, что любые действия подготавливаются неосознаваемыми процессами в мозге, но они ничего не говорят о том, каким именно образом принимается решение действовать. Кроме того, довольно низкая предсказательная сила этих данных сводит на нет возможность истолковать их в пользу детерминизма, поскольку из тех же экспериментов следует, что сознание может «отменить» отданный мозгом приказ к действию. В лучшем случае можно сказать, что эксперименты Либета заявляют о потенциале готовности как о необходимом, но не достаточном условии совершения действия, поскольку повышение этого потенциала наблюдается и тогда, когда действие в итоге не совершается. Кроме того, необходимо упомянуть, что сам Либет считает недетерминистическую концепцию человеческой деятельности более привлекательной с научной точки зрения и не толкует результаты собственных экспериментов в пользу детерминизма[59]. Кроме того, он утверждает, что его данные скорее свидетельствуют о способности сознания контролировать определенные процессы в мозге, нежели наоборот[60]. Таким образом, Либет поддерживает идею разнонаправленной каузальности: как от мозга к сознанию, так и от сознания к мозгу, и отрицает идею о том, что лишь мозг определяет сознание.
Забавным подтверждением тому, что сознание влияет на мозг, является как раз то, что потенциал готовности зависит от взгляда человека на свободу воли: потенциал готовности слабее у тех испытуемых, которые не верят в свободу воли![61] Если предположить, что потенциал готовности является необходимым условием произвольного действия, получится, что те, кто не верит в свободу воли, обладают худшими нейрофизиологическими предпосылками для произвольных действий, нежели те, для кого свобода воли неоспорима. Другими словами, мы становимся свободнее оттого, что верим в свободу воли, и менее свободными оттого, что не верим в нее!
Кроме того, встает вопрос, насколько точно эти эксперименты отражают процесс принятия человеком решения в реальной обстановке. То, что изучает Либет, несколько отличается от ситуации, которую считают эталонной в дискуссии о свободе воли, а именно – когда человек принимает решение и действует на основании каких-то причин, чаще всего причин, которые он взвесил и счел достаточно важными. Испытуемые Либета действуют без всякой на то причины, помимо их договоренности с ученым согнуть руку или пошевелить пальцем. Можно утверждать, что испытуемые не могут выбирать, как именно они будут действовать, а могут выбирать только момент совершения действия, и поэтому неясно, как применять данные Либета к нормальной ситуации.
Когда начинается движение, наблюдаемое в эксперименте? Можно привести аргументы в пользу того, что оно начинается задолго до того, как увеличивается потенциал готовности, поскольку уже в самом начале эксперимента у испытуемого сформировано намерение в какой-то будущий момент времени согнуть руку или пошевелить пальцем. Таким образом, можно даже утверждать, что активность сознания предшествовала активности мозга. Можно и далее расширить контекст. Как отмечает Рэймонд Таллис, реальный контекст эксперимента Либета намного шире времени его непосредственного проведения, и решение о том, чтобы согнуть руку и пошевелить пальцем, принимается за несколько дней или даже недель до самого действия – в тот момент, когда испытуемый соглашается принять участие в эксперименте, едет в лабораторию, записывается в список участников и так далее, и лишь в конце этого длительного процесса осуществляет движение. Таким образом, речь идет о весьма сложном комплексе намерений и действий в течение долгого времени, и совершенно неясно, как короткий промежуток времени, в течение которого проводились замеры паузы между увеличением потенциала готовности и движением пальца, может сказать нам так много об условиях человеческой деятельности вообще[62].
Так что вовсе не обязательно толковать результаты экспериментов Либета в том духе, что сознание является всего лишь беспомощным придатком мозга. Наблюдая за практической мыслительной деятельностью, аргументированием и процессом принятия решений, происходящим в течение некоторого времени, мы без сомнений придем к выводу, что сознание участвует в деятельности на равных с мозгом, а не просто «плетется следом»[63].
Мы знаем, что изменения в мозге сопровождаются изменениями в сознании и наоборот. Похоже, что причинно-следственные связи действуют в обоих направлениях, однако, честно говоря, мы все еще знаем слишком мало о природе отношений между нейрофизиологическими состояниями и состояниями сознания. Впрочем, исходя из тех знаний, что у нас имеются сегодня, мы можем с уверенностью утверждать, что между мозгом и сознанием нельзя поставить знак равенства[64]. Нет никаких оснований предполагать, что сознание является всего лишь продуктом мозга. У мозга нет сознания, а у личности оно есть. Разумеется, мозг является решающей предпосылкой для того, чтобы у личности возникло сознание, но не более того. Сознание обеспечивает согласованность между мозгом, телом и окружающей средой.
Нейрофизиология далеко продвинулась за последнее время, однако мы склонны переоценивать значение полученных этой наукой данных. К примеру, многие считают, что если какому-либо качеству человеческого мышления или деятельности найдено соответствие в виде некоторых процессов в мозге, то тем самым мы можем их объяснить. Майкл Газзанига, основатель дисциплины когнитивной нейрофизиологии, подчеркивает, что ожидания относительно того, о чем может рассказать нам сканирование мозга, сильно завышены[65]. Он даже ссылается на исследования, показывающие, что люди с бóльшим доверием относятся к объяснению психологических феноменов, когда оно сопровождается сканограммой мозга, даже если содержание ее вообще никак не связано с описываемым феноменом. Даже недостаточно обоснованные научно объяснения, к которым приложена сканограмма, кажутся людям более правдоподобными, нежели объяснения с хорошей научной аргументацией, но без сканограммы.
Здесь мы сталкиваемся с «культом мозга» во всей красе. Однако если мы будем искать только в мозге, мы никогда не найдем свободу, потому что свобода просто не может локализоваться там. Фрэнсис Крик пишет: «Ты, твои радости и печали, твои воспоминания и амбиции, твое ощущение самосознания и свободной воли – в действительности есть не что иное, как деятельность большой группы нервных клеток и молекул, с которыми они связаны»[66]. Говоря так, Крик переходит от наблюдаемой корреляции между активностью нейронов и деятельностью сознания к предположению, что каузальность действует только в одном направлении, то есть активность нейронов определяет деятельность сознания, но не наоборот, и далее он предлагает приравнять сознание к мозгу, радикальным образом редуцировав его до одной лишь активности нейронов. Даже если не опускаться до признания подобных рассуждений всего лишь спекулятивной метафизикой в обличии науки, нельзя не заметить, что в данном случае редукционизм доведен до абсурда. Редукционизм вообще предполагает, что свойства любых объектов можно объяснить аддитивно, то есть свойства каждого объекта являются суммой свойств его составляющих. Однако, как правило, даже обладая исчерпывающей информацией о свойствах элементов низшего уровня, мы не можем адекватным образом описать свойства высшего уровня. На каждом уровне имеются свои артефакты, законы и понятия. Нельзя сказать, что высшие уровни системы независимы от низших, однако их нельзя просто редуцировать до низших. Кроме того, у нас есть все основания полагать, что каузальность действует не только восходящим, но и нисходящим путем[67]. Утверждения, подобные утверждению Крика о том, что нечто «в действительности» есть не что иное, как то-то или то-то, предположительно более фундаментальное, как правило, являются лишь отговорками, а не действительными объяснениями существующих феноменов. Для объяснения феномена требуется нечто большее[68]. Исследование свойств низших уровней, безусловно, может пролить свет на свойства высших уровней, но лишь в некоторой степени. На каждом новом уровне возникают новые свойства, которые нельзя объяснить, просто разложив уровень на составляющие и описав их свойства. Попытка применить редукционизм в поисках свободы приведет к полному провалу. Если вы не признаете ничего, кроме элементарных частиц, молекул и клеток, вы едва ли сумеете признать существование свободы воли. Физика элементарных частиц или нейрофизиология не дают оснований для проведения различия между действиями как чистыми рефлексами или же как результатом осознанных решений. На этом уровне анализа свободы не существует, не существует намерений и норм, и искать их там было бы ошибкой. Свобода воли обитает на совсем других онтологических уровнях.
Попытка отыскать свободу в человеческом мозге обречена на неудачу. На самом деле, даже искать человеческое «я» в мозге бесполезно. «Я» – это центр моего тела и моего мира. Мы не можем локализовать его, указать на него пальцем, но если нам все же потребуется обозначить его местонахождение, придется признать, что оно находится в нашем теле. Кант подчеркивает это в одной из своих ранних работ «Грезы духовидца», где пишет, что если бы нам пришлось сказать, где находится душа, мы бы сформулировали это так: «я есть там, где ощущаю. Я есмь так же непосредственно в кончике пальца, как и в голове… Нет такого опыта, который научил бы меня считать какие-то части моего ощущения отдаленными от меня, запереть мое неделимое Я в микроскопически маленьком уголке мозга»[69]. Осознавать – значит присутствовать в мире в качестве действующего лица, всем телом сразу. Для людей это имеет также и нормативное значение. Если наш друг нарушает обещание, можно в принципе рассматривать это как цепочку объективных причин и следствий, но при этом мы упустим все моральные аспекты этого события. Наша Вселенная имеет не только физические, но и этико-нормативные свойства. В этой Вселенной мы относимся друг к другу не только как к физическим объектам, но и как к этическим субъектам.
Инкомпатибилизм и компатибилизм
В отношении человеческой свободы возможно занять одну из следующих четырех позиций:
Человек детерминирован и не свободен.
Человек не детерминирован и свободен.
Человек детерминирован и свободен.
Человек ни детерминирован, ни свободен.
Позиции (1) и (2) являются теориями инкопатибилизма, который утверждает, что свобода и детерминизм несовместимы. Позиция (1) часто характеризуется как «жесткий детерминизм», а позиция (2) как «либертарианизм». Позиция (3) называется компатибилизмом и допускает, что свобода и детерминизм совместимы. Позиция (4), отрицающая и свободу, и детерминизм, не имеет устоявшегося названия, однако ее часто упоминают как «скептицизм». Можно попробовать представить все четыре позиции в виде следующей таблицы[70]:
Компатибилизм также часто называют «мягким детерминизмом». Обозначения «жесткий» и «мягкий» детерминизм могут, однако, быть обманчивыми, так как создается впечатление, что «мягкий» детерминизм менее обязателен, что в нем действуют менее строгие причинно-следственные связи и тому подобное. Однако обе позиции подразумевают одинаковую степень детерминированности, и с этой точки зрения ничем друг от друга не отличаются, а отличаются только в своей концепции свободы. Другими словами, разница заключается в том, что позиция жесткого детерминизма подразумевает, что детерминизм и свобода несовместимы, тогда как мягкий детерминизм утверждает, что они не противоречат друг другу[71].
Большинство современных философов занимают позицию компатибилизма, хотя существует и некоторое количество либертарианцев. Число тех, кто придерживается жесткого детерминизма, гораздо меньше, однако и эта позиция хорошо представлена[72]. Наименее распространенной позицией является скептицизма, хотя свои представители есть и у него[73]. Кроме того, некоторые теоретики занимают промежуточные позиции, например, пытаются в своих взглядах соединить жесткий детерминизм с компатибилизмом[74]. Большинство людей, принадлежащих к самым разным культурам, скорее придерживаются мнения, что Вселенная не детерминирована, и детерминизм несовместим с понятием моральной ответственности[75]. Другими словами, наша «естественная метафизика» ближе к либертарианству. Разумеется, сам по себе этот факт ничего не решает, поскольку история показала, что «большинство людей» частенько ошибается, однако благодаря этому тем, кто придерживается жесткого детерминизма или компатибилизма, приходится чаще искать аргументы в пользу своей позиции, чем либертарианцам.
Инкомпатибилизм
Инкомпатибилизм является наиболее «интуитивно понятной» точкой зрения на вопрос совместимости свободы и детерминизма. Большинство не-философов смотрит на эту проблему именно так. Некоторые философы тоже считают, что детерминизм подрывает саму возможность существования свободы и ответственности. Петер ван Инваген сформулировал так называемый «аргумент следствия», который гласит, что если теория детерминизма верна, то все наши действия являются следствиями законов природы и событий прошлого, но поскольку ни законы природы, ни события, произошедшие еще до нашего рождения, нам неподвластны, то и следствия их, то есть наши собственные действия в настоящем, не зависят от нас[76].
Проблема здесь не в том, что у свободных действий не может быть причин. Любой согласится, что у всех действий есть свои причины. Проблемы начинаются тогда, когда мы пытаемся утверждать, что у каждого действия имеются достаточные причины, так что при определенном наборе причин может произойти Х, и только Х. Если у каждого действия есть достаточные причины, значит, действующее лицо просто не может поступить иначе, а ведь действие может быть названо свободным только в том случае, если действующее лицо могло поступить так или иначе. Если существует свобода воли, объяснения причин не смогут рассказать нам всю правду о том, как мы действуем, и в то же время объяснения причин должны быть частью правды, если мы хотим вписаться в естественный порядок вещей.
Существует две версии инкомпатибилизма: жесткий детерминизм и либертарианизм. Давайте сначала кратко обсудим жесткий детерминизм, согласно которому мир детерминирован, а свободы не существует, поскольку свобода и детерминизм несовместимы. Жесткий детерминизм утверждает, что для того, чтобы свобода могла существовать, у действующего лица должно быть несколько вариантов действия, то есть в каждой ситуации у него должен быть выбор, поступить ему так или иначе. Иметь несколько вариантов – значит иметь выбор между Х и Y. И даже если я выбираю Х, я мог бы выбрать Y, если бы захотел. Детерминизм утверждает, что существуют причины, по которым я выбираю Х, а не Y. А если бы я выбрал Y, то этому должен был предшествовать иной набор условий, нежели тот, который приводит к выбору X. Этот набор условий, который всегда предшествует действию, может привести только к одному варианту действия. В соответствии с такой позицией детерминизма совершенно очевидно, что у действующего лица нет никакого выбора, а следовательно, свобода невозможна. Эта необходимость детерминизма кардинальным образом отличается от возможности выбора, даже совершаемого под давлением. К примеру, если кто-то угрожает причинить вред моей семье, если я не сделаю Х, очевидно, что это будет веской причиной в пользу Х, и тем не менее я все еще могу выбрать Y. Так что выбор под давлением отличается от абсолютной необходимости, которую подразумевает детерминизм. Если мы детерминированы, у нас не больше возможностей контролировать происходящее с нами, чем у шестеренки в часовом механизме, падающего камня или лосося, поднимающегося по реке на нерест. Однако это противоречит нашему представлению о нас самих и о нашей способности к действию. Все мы обладаем чувством свободы. Даже жесткий детерминизм признает это, однако утверждает, что это чувство свободы не свидетельствует об истинной свободе, а скорее является иллюзией.
Самая большая проблема жесткого детермизима состоит в том, что он так сильно противоречит нашим иллюзиям о морали. В мире жесткого детерминизма не существует ответственности и вины, а все действующие лица равны с точки зрения морали, поскольку они одинаково не отвечают за свои действия. Представим себе, что личность некого человека постепенно меняется, так что он становится все более агрессивным и склонным к насилию, хотя всю свою жизнь до этого был мирным и дружелюбным. В конце концов он убивает другого человека, придя в бешенство из-за какой-то мелочи. Оказывается, что в том отделе его мозга, который отвечает за агрессивность, образовалась большая опухоль, так что окружающие считают, что его агрессивность и даже убийство могут объясняться этим новообразованием. После того как опухоль удаляют хирургическим путем, он возвращается к своему нормальному миролюбивому поведению. Большинство людей сочтет, что он не несет моральной и юридической ответственности за убийство, поскольку причиной его было скорее патологическое состояние, нежели свободный выбор. Давайте теперь сравним эту ситуацию с другой. Некий человек вырос в хороших условиях, в мозгу у него нет никаких видимых образований, но он очень тщеславен и хочет всегда получать только самое лучшее. Для того чтобы получить дорогие часы, например «Патек Филип Наутилус» стоимостью почти 30 000 долларов, он убивает своего знакомого, только что купившего их, и забирает себе его часы. Большинство людей чисто интуитивно решит, что он в высшей степени виновен в своем поступке и должен быть наказан. Проблема жесткого детерминизма в том, что он совершенно не способен провести различие между этими двумя ситуациями и объяснить, почему один человек должен быть наказан, а второй нет. Оба человека детерминированы в своих действиях, и хотя причины их действий носят различный характер, для оценки их вины и ответственности с точки зрения жесткого детерминизма это не важно. Оба человека не свободны, а следовательно ни один из них не несет ответственности за свои действия. Подобные выводы, противоречащие нашей интуиции, объясняют, почему у жесткого детерминизма так мало приверженцев среди обывателей.
Давайте теперь рассмотрим либертарианизм, который утверждает, что человек не детерминирован и свободен. Разнообразие либертарианских позиций так велико, что у них едва ли найдется хоть один общий знаменатель помимо убеждения, что детерминизм несовместим со свободой, а поскольку человек свободен, детерминизма не существует. Едва ли я смогу остановиться подробно на каждой позиции в рамках либертарианизма, так что ограничусь лишь общим обзором основных пунктов и аргументов этого направления[77].
Либертарианец во многом согласен с компатибилистом: человек свободен, и свобода подразумевает отсутствие принуждения, однако либертарианцу требуется больше условий, чтобы считать человека свободным. Большинство либертарианцев признают, что у человеческих действий есть причины, но они утверждают, что люди лишь тогда могут действовать свободно, когда их действия не предопределены от начала и до конца предшествующими им условиями. Предположим, мое решение дать монетку нищему обусловлено моей убежденностью в том, что мы должны помогать нуждающимся, а также целым рядом других причин. Однако либертарианец будет утверждать, что в совершенно идентичной ситуации, обладая теми же самыми убеждениями и при наличии прочих идентичных условий, мог бы пройти мимо нищего и совсем ничего ему не дать. Другими словами, я мог бы поступить иначе, чем я поступил. Некоторые заметили бы, что для того чтобы я совершил иной выбор, у действия должна быть другая каузальная предыстория, но убедительно ли такое возражение? Должна ли выбору X вместо Y предшествовать другая комбинация условий? Когда я беру из коробки одну конфету, нет никаких оснований думать, что к выбору конфеты с марципаном ведет другая причинно-следственная цепь, нежели к выбору конфеты из горького шоколада. Или если я еду в отпуск в Барселону, а не в Рим. Мне легко представить, что в подобной ситуации человек может выбрать любой из вариантов при совершенно идентичных условиях. Детерминист считает, что у каждого действия имеются достаточные причины, и следовательно, выбору Х или Y должны предшествовать различные каузальные схемы. Однако это утверждение спорно и требует обоснования.
Многие возразят, что если нет никаких явных предпосылок к тому, чтобы выбрать Х или Y, выбор будет совершенно иррационален, однако и это возражение не кажется мне убедительным. Как Х, так и Y являются рациональным выбором, даже если для этого выбора нет никаких веских причин – а может, и никаких причин вообще. Бывают случаи, когда для выбора любой из альтернатив у нас имеется множество веских причин, и при этом нет никаких предпосылок для предпочтения одной из альтернатив всем остальным, и все же мы делаем какой-то выбор. В таких случаях до последнего момента неизвестно, что же мы выберем, то есть до самого конца наше решение остается неопределенным, а это то же самое, что либертарианская свобода выбора[78]. И все же позиция либертарианизма не была бы так сильна, если бы свободным мог считаться только такой специфический вид выбора, поскольку он встречается довольно редко. Либертарианцы последовательно доказывают, что во многих других ситуациях свободный выбор тоже возможен. Другими словами, либертарианизм утверждает, что проще всего увидеть либертарианскую свободу в ситуации выбора между равнозначными альтернативами, но она присутствует и там, где у действующего лица имеются рациональные причины для предпочтения одной из альтернатив.
Любая теория о свободе воли, имеющая право на существование, должна основываться на чем-то еще, помимо чистого индетерминизма. Для того чтобы развиваться, либертарианизм должен содержать в себе элемент, который ограничивает действие чистой случайности. Самое распространенное решение этой проблемы заключается в том, что у действующего лица должна оставаться та или иная форма рационального контроля над своими действиями. Ряд либертарианцев вводит понятие так называемой каузальности деятеля, которое подразумевает, что действующие лица сами могут быть причиной своих действий, так что их нельзя редуцировать до простого следствия суммы предшествующих причин и обстоятельств. Наиболее ранним представителем такой позиции можно считать Аристотеля. Он сформулировал, что если причина действия находится в действующем лице, то от него самого зависит, совершится действие или нет[79]. Когда действие зависит от нас, от нас же зависит и бездействие[80]. В «Физике» Аристотель описывает различие между людьми и прочими объектами, которое заключается в том, что люди обладают способностью перемещать объекты, и эта способность не зависит от каких-то внешних по отношению к людям объектов[81]. Другими словами, люди могут служить причиной событий иначе, чем другие объекты, а также они могут быть причиной того, что какое-то событие не происходит. Самым известным представителем подобной позиции в наши дни является Родерик М. Чисхолм, утверждающий, что решение проблемы происхождения либертарианских действий заключается в том, что они не являются ни полностью предопределенными в силу законов природы, ни случайными или беспричинными, а просто они предопределены самим деятелем[82]. Это решение полностью совместимо с тем взглядом, что действия частично предопределены законами природы и естественными причинами, с учетом того, что действующее лицо является частью природы, и при этом нам нет нужды прибегать к концепции двойственности материи и тому подобным. Кроме того, мы вполне можем рассматривать эту способность как продукт естественной и культурной эволюции.
Многие критики теории каузальности деятеля указывают на то, что эта теория ничего не объясняет, так как в ней не содержится описания эмпирических предпосылок подобной каузальности. К примеру, Гэри Уотсон утверждает, что «каузальность деятеля» является лишь ярлыком, который нужен либертарианизму, но который сам по себе не решает никаких проблем и ничего не объясняет[83]. Какое же объяснение нам требуется? Вместо Х, который служит причиной Y, мы вводим в качестве причины Y деятеля A. Многие, конечно же, согласятся с подобной схемой, но либертарианская теория каузальности деятеля утверждает, что само по себе то, как А служит причиной Y, не может быть полностью объяснено предшествующими причинами. А совершает действия на неких основаниях, которые невозможно редуцировать до простой причинно-следственной связи.
Давайте представим, что деятель А планирует совершить действие Х в момент времени t, но незадолго до наступления момента t некий деятель В дает А дополнительные основания, которые убеждают А не совершать действие Х, поскольку оно аморально или бессмысленно. В результате вместо действия Х деятель А совершает действие Y. Теперь нам необходимо понять, можем ли мы дать адекватное объяснение тому, что деятель А совершил действие Y вместо действия X, просто заявив, что обстоятельства, предшествующие моменту времени t, в этих двух случаях различаются. Мы можем также вообразить, что деятель А совершает действие Y вместо действия Х, потому что ему на голову упала сосулька. Разве между этой сосулькой и убедительными аргументами деятеля В нет принципиальной разницы? Можем ли мы рассматривать их как равнозначное изменение условий, предшествующих моменту времени t? Мы можем сказать, что в первом случае у А есть рациональное основание выбрать Y вместо Х, тогда как во втором случае имеет место событийная причина. Тем самым мы только что обозначили различие между рациональным основанием и причиной.
Свобода, которая наделяет нас ответственностью за наши действия, является свободой действовать исходя из рациональных оснований. Мы должны принимать во внимание те основания, которые действующее лицо приводит в качестве объяснения своих действий. Именно рациональные основания определяют характер действия и почему оно произошло. Принципиальная разница между человеком и другими животными состоит в том, что человек обладает способностью действовать исходя из рациональных оснований, тогда как животные обладают лишь поведением, у которого есть причины. Основания имеют смысл только для рационального деятеля, для личности. Далее, сама природа оснований предполагает, что они нормативны, чего нельзя сказать о причинах, а кроме того, они оставляют человеку возможность действовать иначе. Все мы согласимся, что Раскольников мог передумать. И даже если причины и условия, предшествовавшие убийству процентщицы, оставались бы теми же, мы верим, что Раскольников мог бы не убивать ее, потому что имелись веские основания не делать этого, и он мог бы исходить из них. Поступок Раскольникова остается неопределенным вплоть до момента убийства, он совершенно не уверен в своих намерениях. Замысел возник за месяц до убийства, и он столько раз проходил дорогу до ее дома, что даже запомнил количество шагов, но до самого последнего момента он сомневается в своем решении. Убийству предшествуют обстоятельные размышления и взвешивание различных альтернатив.
Наша свобода возможна не потому, что у наших действий нет причин, но потому, что мы обладаем способностью, отсутствующей у других животных, представить себе различные варианты. Мы действуем, исходя из наших желаний и предпочтений, как и другие животные, но мы можем выбирать, каким образом нам реализовать эти желания и предпочтения. Свобода не требует от нас способности изменять причины и предпосылки к действию, не требует она и идти против законов природы, от нас требуется лишь способность представить себе и обдумать возможные альтернативы и выбрать среди них ту, которую мы воплотим в жизнь.
Мои решения претворяются в действия: будучи ментальными явлениями, они руководят телом. Свобода – это способность решать, как именно я хочу действовать, выбрать ли мне в определенной ситуации действие Х или Y, быть причиной собственных действий. Вероятно, слово «причина» здесь не вполне уместно и может привести к недопониманию, потому что сам деятель в качестве причины отличается от внешних причин. Бильярдный шар, служащий причиной движения другого бильярдного шара, не может решать, покатится тот направо или налево, тогда как я могу использовать бильярдный кий, чтобы определить, куда покатится шар. Многие утверждают, что рациональные основания следует считать причинами, что объяснения, построенные на рациональных основаниях, в действительности тоже описывают причинно-следственную связь. Другие скажут, что отношения между основанием и действием являются понятийными, а не каузальными. Я склонен присоединиться ко второму лагерю, поскольку основания обладают нормативностью, которой в мире причин и следствий просто не существует. Таким образом, можно утверждать, что теория «каузальности деятеля» является ошибочной попыткой приспособить объяснение рациональных действий к теории каузальности вообще.
Что есть объяснение действия? Если кто-то спросит: «Что заставило Пера поднять руку?», мы всегда можем ответить, что электрические импульсы прошли по нейронным связям от мозга к мускулам плеча и руки, вызвав сокращение мышц. Однако мало кто согласится, что тем самым мы дали исчерпывающее объяснение того, зачем Пер поднял руку: отчасти потому, что подобное объяснение лишено контекста, а отчасти потому, что оно ничего не говорит о намерениях Пера. Объяснение действия Пера, которое даст нам понимание его поступка как действия, а не поведения, должно содержать описание его намерений, а эти намерения должны быть понятны исходя из контекста. Более удовлетворительным объяснением было бы, к примеру, такое: «Он поднял руку, чтобы остановить такси, а такси нужно было ему потому, что он опаздывал забрать дочь из детского сада до 16.00». Подобное объяснение уже больше говорит нам о той цели, которую преследовало действие Пера, а когда речь идет о таких ментальных феноменах, как намерение, желание и решение, указание цели необходимо, чтобы объяснить, каковы намерения, желания и решения действующего лица. Объяснение исключительно причин какого-либо поведения рисует нам мир, в котором для целей просто не остается места. Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы описывать причины данного поведения, но важно при этом понимать, что подобные объяснения всегда будут неполноценными в качестве объяснений действия, так как они по определению опускают именно тот элемент, который отличает поведение от действия.
Мы можем представить себе, что Пер рассуждает следующим образом:
«Я хочу забрать дочь до того, как детский сад закроется. Я могу успеть забрать ее, если я возьму такси. Я могу остановить такси, если я подниму руку и тем самым подам водителю сигнал остановиться. Я поднимаю руку».
Подобный ход рассуждений представляет решение действовать не как логическую или каузальную необходимость. Такое объяснение называется телеологическим, поскольку оно включает в себя цель, которая и является рациональным основанием для действия. Можно сформулировать иначе: действие объясняется не ментальными состояниями, которые являются следствиями других событий, но скорее содержанием этих ментальных состояний, которое мы и называем основаниями.
Разумеется, подобное объяснение не является каузальным, и тот, кто верит, что единственным адекватным объяснением событий является описание приведших к ним причинно-следственных связей, сочтет такое объяснение бессодержательным. А. Д. Айер утверждал, что если у моих решений нет каузального объяснения, то они являются совершенно случайными, а следовательно, я не несу за них никакой ответственности[84]. Такая точка зрения предполагает, что единственным способом объяснить событие является каузальный способ, а это весьма спорное предположение. Для того, кто анализирует наши действия лишь с точки зрения их причин, все наши размышления и решения, приводящие к действиям, являются лишь чем-то, что с нами происходит, тогда как мы сами рассматриваем их как нечто, что мы делаем и за что несем ответственность. Мы действуем, исходя из наших представлений о мире, а за эти представления мы, как правило, если только мы не подвергались грубой манипуляции, несем полную ответственность[85]. Объяснение, которое мы дали действию Пера чуть выше, является телеологическим объяснением, и я склонен утверждать, что его достаточно для понимания действия. Бывает и так, что у нас не получается полностью объяснить действие таким способом, поскольку мы не можем увидеть в этом действии продукт рационального рассуждения с достаточными предпосылками и соответствующим им заключением, и тогда, по всей видимости, нам понадобится каузальное объяснение.
В детерминированной Вселенной все с необходимостью является объектом причинно-следственных связей со всем остальным. Недетерминированная Вселенная выглядит совершенно иначе: одно решение будет принято с большей вероятностью, чем другое, но возможность для второго все равно остается, и потому мы, очевидно, не можем дать объяснение, в котором действию будут предшествовать достаточные условия. Это не означает, что мы вовсе не можем дать никакого объяснения, и даже не говорит о том, что индетерминированная Вселенная совершенно хаотична. Нет никаких препятствий к тому, чтобы она была относительно стабильна, и мы часто можем предсказывать действия людей с довольно высокой точностью, исходя из наших знаний об их предпочтениях и целях, при этом нам не потребуется прибегать к физическим законам и каузальным комбинациям. Как отмечает Джон Дюпре, люди не являются хаотичным включением в упорядоченную действительность, скорее они представляют собой достаточно организованные и предсказуемые единицы в мире, который зачастую кажется весьма хаотичным[86]. Если вы договариваетесь с коллегой встретиться в кафе в 13 часов в среду на следующей неделе, вы, как правило, можете быть более или менее уверены в том, что он или она придет туда в условленное время, однако вы не можете сделать столь же точного предсказания о том, где будет находиться через неделю листок, который пронесло мимо вас ветром в тот самый момент, когда вы договаривались с коллегой. У людей есть каузальные свойства, которых нет больше ни у кого и ни у чего, в том числе и свойство строить и претворять в жизнь планы на долгое время вперед.
Многим может показаться, что именно эта предсказуемость человека, регулярность его привычек подтверждают теорию детерминизма. Вся наука основана на наблюдении регулярных соответствий, но между наблюдением подобных регулярных соответствий и утверждением, что эти соответствия являются необходимостью, лежит пропасть. И все же мы склонны впадать в такое заблуждение не только в том, что касается неодушевленных объектов, но даже и в том, что касается человеческих действий. Утверждение, что действия человека вытекают из законов природы, основано на наблюдении регулярных соответствий в природе, и мы ожидаем увидеть те же регулярные соответствия в человеческом поведении, с тем чтобы далее приравнять эту регулярность к необходимости. В «Лекциях о свободе воли» Витгенштейн приводит контраргумент, что мы вовсе не наблюдаем подобной регулярности в человеческом поведении, по крайней мере, не в том объеме, что и в природе, но даже если бы наблюдали, из этого не следовало бы, что мы детерминированы. «Сама по себе регулярность не делает кого-либо свободным или несвободным»[87]. Витгенштейн сравнивает падающий камень с вором, крадущим банан, точнее, он ставит вопрос: уместно ли такое сравнение? Утверждается, что кража вором банана так же неизбежна, как падение камня. Что подразумевается под неизбежностью? Неизбежность должна основываться на наблюдаемом регулярном соответствии, однако в случае с вором никакого регулярного соответствия не существует, точнее, та регулярность, которую мы теоретически могли бы наблюдать в поведении вора (к примеру, еще в детском саду он был склонен к воровству, и эта склонность проявлялась неоднократно уже во взрослой жизни), совершенно непохожа на ту регулярность, которая свойственна падающему камню. У человека есть одна важная характеристика – дискретность, то есть отсутствие непрерывности. Многие утверждают, что рано или поздно будет найдено то регулярное соответствие, которое поставит знак равенства между вором и падающим камнем, но есть ли у нас в действительности основания для подобного предположения, или мы выдвигаем его лишь для того, чтобы сохранить стройность теории детерминизма? Ни первый, ни второй вариант ответа не подкреплены никакими логическими доказательствами. Вполне возможно, что такое регулярное соответствие существует, но вовсе не обязательно. И даже если оно существует, оно вовсе не означает, что человек детерминирован и несвободен. Вор, крадущий банан, обладает совершенно иными свойствами, нежели падающий камень, и нам необходимо понять эти свойства, если мы хотим понять поведение вора.
Либертарианизм утверждает: если у всего нашего поведения есть необходимые условия, которые являются достаточной причиной для его реализации, то не будет существовать никакой свободы, а следовательно, и моральной ответственности. Никому никогда не удавалось – и едва ли когда-нибудь удастся – доказать, что вся моя личность, которая полностью определяет мои действия, в свою очередь полностью определяется какими-то причинами, совершенно мне неподвластными. Либертарианизм признает, что такие причины существуют, и их влияние в той или иной степени существенно, однако это все еще оставляет достаточно пространства для существования свободы. В этом случае может зайти разговор о степенях свободы, зависящих от степени воздействия причин и обстоятельств на личность деятеля, однако неполная свобода тем не менее остается свободой.
Возможности человека ограничены в силу его природы. То, куда мы можем попасть, а куда не можем, зависит не только от принятого нами решения, но и от наших физических возможностей. Как бы я ни хотел, я никогда не смогу подпрыгнуть на высоту десяти метров, потому что мое тело для этого не приспособлено. Здесь нужно отметить, что физические возможности не заданы раз и навсегда для всех представителей вида, но имеют некоторые вариации. Они даже частично зависят от принимаемых нами решений: к примеру, мы можем специально тренировать определенные качества. Однако наша воля не обладает непосредственным влиянием на окружающий мир, она заключена в тело, которое всегда будет иметь свои ограничения.
Разумеется, наши действия ограничены также и законами природы, впрочем, мы можем использовать законы природы для достижения своих целей[88]. К примеру, мы не можем просто отменить силу тяготения, чтобы взлететь, но мы можем использовать законы аэродинамики в строительстве летательных аппаратов. Будучи действующими лицами, мы можем использовать законы в своих интересах.
Насколько устойчивы к критике аргументы в пользу либертарианизма? Мы можем, как минимум, утверждать, что индетерминизм не менее вероятен, чем детерминизм, что логическая возможность для свободы существует. Однако нам недостаточно признания того, что теория индетерминизма может быть верной – нам необходимо обосновать, что человек способен контролировать свои действия в недетерминированном мире. Такого обоснования либертарианизм на данный момент не имеет, с учетом того, что обоснование должно быть каузальным. Однако либертарианизм утверждает, что требование каузального обоснования в данном случае неправомерно, поскольку действия человека объясняются рациональными основаниями, а не причинами, и свести эти рациональные основания к причинам невозможно. Впрочем, либертарианизм не может похвастаться и доказательством неверности теории детерминизма, так что я предлагаю обратиться к компатибилизму, в рамках которого свобода совместима с детерминизмом, так что обе точки зрения могут оказаться истинными.
Компатибилизм
Название этой позиции означает, что в ее основе лежит идея о совместимости детерминизма и свободы. Здесь необходимо заметить, что не все компатибилисты непременно признают верность теории детерминизма. Они и не стремятся доказать верность этой теории, а просто принимают ее как предпосылку, утверждая, что даже если мир детерминирован, свобода воли тем не менее возможна.
Аристотель пишет, что свобода, помимо всего прочего, предполагает, что причиной действий является действующее лицо. Однако это утверждение можно понимать по-разному. Если я свободен в либертарианском понимании и решаю предпринять какое-либо действие независимо от внешних обстоятельств, совершенно очевидно, что я сам являюсь причиной этого действия. Но если принять во внимание, к примеру, мою любовь к танцам, то можно предположить, что я всегда начинаю пританцовывать, услышав определенного рода музыку. Далее, можно сказать, что существует некая комбинация причин, достаточная для того, чтобы объяснить мою любовь к музыке, так что, выходит, мое пританцовывание детерминировано. И тем не менее я продолжаю оставаться причиной своего танца, посколько любовь к танцам является частью моей личности. А поскольку я являюсь его причиной, этот танец будет служить подтверждением и выражением моей свободы, и вместе с тем он будет оставаться детерминированным. Тем самым я и свободен, и детерминирован в одно и то же время. Фактически, компатибилизм утверждает, что именно благодаря детерминизму у нас появляется возможность делать то, что мы хотим делать.
Ответ компатибилизма на вопрос о свободе действий строится на проведении различия между поведением, которое определяется внешними факторами, и поведением, которое определяется собственными решениями и желаниями. Действие считается свободным постольку, поскольку ничто не мешает индивиду действовать согласно своим желаниям и не принуждает его действовать вопреки своим желаниям. Действие полностью определяется тем состоянием, в котором находится действующее лицо, а это состояние полностью определяется предшествующей комбинацией причин и условий, и тем не менее действие определяется исключительно состоянием действующего лица. Действие не было бы свободным, если бы кто-либо принуждал индивида к его совершению.
Компатибилист утверждает, что распространенное мнение, согласно которому свобода подразумевает отсутствие каузальной необходимости, является заблуждением. Свобода подразумевает лишь отсутствие принуждения, а под принуждением следует понимать действие, идущее вразрез с желаниями и предпочтениями действующего лица. Действие под принуждением – это действие, выполненное вопреки собственному желанию из-за угроз, лишения физической свободы и тому подобного. Свобода состоит в отсутствии физического или психологического принуждения. Наша личность может быть полностью детерминирована событиями, не поддающимися нашему контролю (воспитанием, генетической предрасположенностью и так далее), которые тем самым определяют наши действия, и тем не менее в мягком варианте детерминизма наши действия будут считаться свободными. Свобода есть в действительности не что иное, как возможность выбирать, как именно мы будем действовать, исходя из того, какими мы являемся. Все, что мы делаем, может быть предопределено с момента нашего рождения, и все же мы свободны, если наши действия совпадают с нашими желаниями. Таким образом, мы нашли ту точку, в которой свобода и детерминизм не противоречат друг другу. Единственное, что может помешать свободе – это принуждение.
Случается, что человек пытается снять с себя ответственность за какой-то поступок или просто образ жизни, говоря: «Я такой, и с этим ничего не поделаешь». Смысл этого утверждения состоит в том, что если действие или образ жизни являются непосредственным продуктом нашей личности, следовательно, они не являются результатом сознательного выбора, и мы не несем за них ответственности. Однако, как указывал Бернард Уильямс: «Если мы признаем ответственность вообще, то мы должны признавать и ответственность за решения и действия, которые являются следствием нашего характера, ведь основной признак, по которому мы понимаем, что действие является нашим – это то, как оно выражает наш характер»[89]. Та же самая точка зрения ясно сформулирована у Юма:
$$$«Поступки по самой природе своей временны и преходящи, и если они не проистекают из какой-нибудь причины, коренящейся в характере и темпераменте совершившего их лица, то они не накладывают на него какого-либо отпечатка и не способствуют ни его славе, если они хороши, ни его позору, если они дурны. Сам поступок может быть достойным порицания, он может противоречить всем правилам морали и религии, но лицо за него не ответственно; а так как поступок этот не проистекает из чего-либо прочного или постоянного в данном лице и не оставляет после себя таких же последствий, то и лицо не может стать вследствие этого поступка объектом наказания или мщения. Таким образом, согласно гипотезе свободы, человек, совершив самые ужасные преступления, остается столь же чистым и незапятнанным, как в момент своего рождения, и характер человека совершенно не имеет отношения к его поступкам, поскольку последние не проистекают из него и подлость одних нельзя считать доказательством извращенности другого. Поступки какого-либо лица могут быть поставлены ему в заслугу или вменены в вину только при условии принципа необходимости, хотя бы общее мнение и склонялось к противоположному взгляду»[90].
Юм считает, что свободные действия – это такие действия, которые вызваны волевым актом и желанием действующего лица. Юм рассматривает человеческую волю как источник действий. В этом его мнение совпадает с мнением многих теоретиков либертарианизма. И все же он резко расходится с ними в том, что рассматривает человеческую волю исключительно как продукт воздействия внешних причин. Для него воля является всего лишь одним из многих элементов, приводящих к действию. Он отвергает идею о существовании случайности. Вера в случайности – не что иное, как недостаток знаний о действительных причинах. В определенных рамках предсказать человеческие действия вполне возможно. Подобные предсказания, разумеется, должны основываться на мотивах действующего лица, поскольку мотивы являются определяющим фактором выбора совершаемого действия. Мы не всегда можем предсказать действия человека, но лишь потому, что нам недостает знаний обо всей сложной комбинации причин и условий. Таким образом, Юм отрицает индетерминизм, а если для свободы необходимо отсутствие предопределенности, то и свободы не существует. Юм утверждает, что свобода существует в том понимании, что у нас есть возможность действовать или воздерживаться от действия согласно собственной воле. Такое понимание свободы предполагает, что свобода заключается в отсутствии принуждения, которое состоит в противоречии желаниям действующего лица. Юм также подчеркивает, что именно факт зависимости действий от действующего лица посредством причинно-следственной связи делает индивида морально ответственным за свои действия.
С точки зрения компатибилизма только свободный и несущий ответственность индивид может быть подвергнут санкциям, наказаниям и штрафам. Собака, действующая исходя из определенного набора предпочтений, полностью детерминированных генами и дрессировкой, вполне удовлетворяет критериям компатибилизма, определяющим свободного деятеля. И все же мы не считаем, что животные несут моральную ответственность за свои действия, подобно людям. Нам требуется как-то обозначить, в чем заключается разница. Нам нужно показать, что влияние на интенции действующего лица может быть «правильным», то есть происходящим из рациональных оснований[91]. Если причиной действия служат желания и предпочтения действующего лица, которые в свою очередь сформированы поощрениями и наказаниями (и при этом у действующего лица есть рациональные основания), то это лицо считается свободным и несущим ответственность.
Описывая позицию либертарианизма, я прибег к примеру с нищим: мое решение дать ему монетку недетерминировано, однако отчасти обусловлено моим убеждением, что мы должны помогать нуждающимся, а также целым рядом других причин. Либертарианец возразил бы на это, что я, находясь в той же самой ситуации, обладая теми же самыми убеждениями, и при соблюдении прочих условий, мог бы пройти мимо нищего и ничего ему не дать. Другими словами, я мог бы поступить иначе, чем я поступил. Компатибилист в такой ситуации скажет, что это невозможно, и если я решил поступить иначе, значит, существовала какая-то разница, которая и определила мое решение – или в моих предпочтениях, или в прочих обстоятельствах. Компатибилист считает, что я мог бы поступить по-другому только при условии, что обстоятельства, в которых принимается решение, были бы иными.
Проблема кондиционального анализа ситуации, в которой я «мог бы поступить иначе» заключается в том, что в конце концов мы приходим к рассмотрению действий, которые большинство интуитивно сочтет скорее несвободными, чем свободными. Давайте представим, что я страдаю тяжелой формой клаустрофобии, но вы об этом не знаете. Мы собираемся подняться на шестой этаж какого-то здания, и вы спрашиваете меня, поехать ли нам на лифте или подняться пешком. Разумеется, моя клаустрофобия заставляет меня выбрать лестницу. Мог бы я действовать иначе и выбрать лифт? Из-за моей фобии этот вариант для меня невозможен, и все же адепт кондиционального анализа сказал бы, что я в принципе мог выбрать лифт вместо лестницы, а следовательно, выбор лестницы является свободным поступком. Однако для этого требовался бы иной набор обстоятельств, например тот, в котором я не страдаю клаустрофобией. В результате мы приходим к абсурдному выводу, что я мог бы поступить по-другому, несмотря на очевидность того, что поступить по-другому я не мог. Мы можем рассмотреть и другой пример, в котором человек, страдающий психическим расстройством и не обладающий здравым рассудком, удовлетворяет условиям кондиционального анализа (поскольку если бы он не страдал психическим расстройством и захотел поступить иначе, он вполне мог бы это сделать) и тем самым считается свободным. Именно поэтому кондициональный анализ, основывающийся на предпосылке, что каждый мог бы поступить по-другому, не получил широкого распространения.
Еще один вариант интерпретации компатибилизма состоит в отрицании идеи, что свобода и ответственность предполагают возможность поступить иначе. Гарри Франкфурт в свое время привел несколько достаточно известных примеров, демонстрирующих, что эта интерпретация не выдерживает никакой критики[92]. Он просит нас представить себе двух персонажей по имени Джонс и Блэк, при этом Блэк хочет, чтобы Джонс действовал определенным образом Х. Далее мы предполагаем, что Блэк имеет возможность манипулировать Джонсом, к примеру, посредством пульта дистанционного управления мозгом Джонса, а еще он способен предсказывать, какой выбор совершит Джонс – X или Y, непосредственно перед принятием решения. При этом Блэк хочет играть пассивную роль. То есть он наблюдает, как развивается ситуация, вплоть до того момента, когда Джонс принимает решение, и если он видит, что Джонс собирается выбрать Х, он ничего не предпринимает. Если же Джонс собирается выбрать Y, Блэк воспользуется своими возможностями, чтобы заставить его все-таки выбрать Х. Таким образом, единственным возможным исходом ситуации является действие Х – по собственному выбору Джонса или же в результате манипуляции. Другими словами, Джонс находится в ситуации, когда он не мог бы поступить по-другому. Теперь предположим, что Джонс выбрал Х по собственной воле. Является ли он ответственным за свое действие, несмотря на то, что поступить иначе он не мог? И другой вопрос: убедителен ли пример Франкфурта? Лично мне кажется, что философские примеры такого рода, основанные на предположении, что мы видим только логические, а не реальные возможности, не особенно правдоподобны. Но даже если оставить в стороне мое предубеждение, данный пример все равно не очень убедителен. Либертарианец заметил бы, что этот пример строится на предположении, что мир детерминирован, потому что только в этом случае Блэк может обладать способностью предвидеть действия Джонса, а либертарианец несогласен с такой предпосылкой. Можно было бы допустить, что Блэк может управлять Джонсом при помощи пульта дистанционного управления, но если он неспособен предвидеть действия Джонса, ему придется применить этот пульт в любом случае, а следовательно, действие Джонса будет несвободным, либо же Блэк решит не вмешиваться, а следовательно, у Джонса будет возможность действовать по-другому. В любом случае выходит, что человек не может одновременно нести ответственность за свои действия и не иметь возможности поступить по-другому, что и пытался продемонстрировать Франкфурт. Еще один уязвимый момент в аргументах Франкфурта заключается в следующем. Даже если мы ради эксперимента предположим, что Блэк может предсказывать действия Джонса, между двумя вариантами действия Х (в зависимости от того, принято решение Джонсом самостоятельно или в результате манипуляции Блэка) будет разница. Когда Джонс выбирает Х по собственной воле, он, несомненно, несет за него ответственность, поскольку сам является причиной Х. Но будучи причиной своих действий, он мог бы выбрать и Y, и тогда Блэк вынужден был бы вмешаться, но тогда причиной Х был бы не Джонс, а Блэк, и следовательно, Блэк был бы ответственным за действие Х. Таким образом, я утверждаю, что сущность действия неотделима от его причины, поскольку если мы хотим понять действие, нам необходимо знать, из чего оно вытекает, и поскольку в двух разных случаях источник действия разный, мы не имеем права утверждать, что Хд (если источником действия является Джонс) и Хб (если источником действия является Блэк) равнозначны. Хд и Хб совершенно не равнозначны, несмотря на то, что в обоих случаях Джонс действует одинаково, а раз они не равнозначны, то и аргументы Франкфурта недействительны, поскольку Джонс вовсе не находился в ситуации, когда он не мог поступить по-другому, ведь он мог сделать Хд или Хб (или, раз уж на то пошло, Y, если бы Блэк случайно уснул в решающий момент). Другими словами, Франкфурт не дает нам убедительного примера ситуации, в которой человек не имел возможности поступить по-другому и все же является ответственным за свое действие. Против подобного опровержения Франкфурта найдутся свои контраргументы, но я не хотел бы останавливаться на этом подробно[93].
Мой вывод таков, что компатибилизм пока не предоставил убедительного ответа на вопрос о том, как детерминизм совместим с возможностью действовать по-другому. Кондиционального анализа недостаточно, а примеры Франкфурта легко опровергнуть.
Кроме того, компатибилизм не может объяснить некоторых действий, которые мы привыкли считать свободными. Предположим, я люблю быструю езду, однако стараюсь соблюдать ограничения, поскольку опасаюсь штрафов за превышение разрешенной скорости. То есть существует причина, которая заставляет меня поступать вразрез с моими предпочтениями, а именно – нежелание попасться на превышении, и с этой точки зрения я несвободен в своем решении соблюдать скоростные ограничения[94]. Чем это решение отличается от решения отдать – из страха быть зарезанным – свой бумажник вору, который угрожает мне ножом? Являются ли оба этих решения несвободными, поскольку присутствует элемент принуждения или давления? В равной ли степени они несвободны? Все наши действия являются результатом сложного взаимодействия обстоятельств и предпочтений, и мы зачастую отказываемся от удовлетворения наших желаний в полном объеме, поскольку в этом случае нам придется столкнуться с того или иного рода санкциями. Позиция мягкого детерминизма заключается в том, что мы чаще всего поступаем несвободно, несмотря на то, что мы одновременно и свободны, и детерминированы.
Самые щекотливые проблемы компатибилизма связаны не с тем, совместима ли свобода в компатибилистском понимании с детерминизмом, потому что здесь ответ очевиден. Проблемы связаны в первую очередь с тем, верно ли само компатибилистское понимание свободы и дает ли компатибилизм правильную интерпретацию понятия свободы воли. В компатибилизме требуется только один вид добровольного поведения, а именно – поступки деятеля должны соответствовать его предпочтениям и совершаться без внешнего принуждения, противоречащего этим предпочтениям. Как мы уже говорили, инкомпатибилизм требует большего: помимо отсутствия принуждения требуется еще и недетерминированность деятеля и хотя бы частичная самостоятельность его по отношению к набору условий и обстоятельств, предшествующих действию. Далее, мне не показалось, что компатибилизм дает внятное обоснование того, что свобода и ответственность не обязательно требуют возможности действовать иначе, или того, что детерминизм и возможность действовать иначе не противоречат друг другу. По этой причине я не нахожу для себя возможным присоединиться к лагерю компатибилистов.
Каковы выводы?
Я полагаю, что вопрос о том, какая позиция – детерминизм или индетерминизм – представляет собой более верную картину мира, все еще открыт. Насколько нам известно, некоторые онтологические уровни скорее детерминированы, а некоторые скорее недетерминированы. Мы не имеем ответа на самый важный вопрос: детерминирован или нет человек. Вследствие этого мы не можем отдать предпочтение одной из описанных концепций свободы. Ознакомившись с большим объемом современной философской литературы, посвященной компатибилизму и инкомпатибилизму, я не смог прийти к каким-либо конкретным выводам, помимо того, что для окончательных выводов недостаточно оснований. Не существует достаточно убедительных аргументов ни за, ни против детерминизма или либертарианизма[95]. Сам я интуитивно склоняюсь скорее к одному из вариантов либертарианизма, но мои собственные аргументы ничем не отличаются от тех, что я уже привел. Поэтому я считаю, что этот вопрос стоит оставить открытым. Значительная часть моих дальнейших рассуждений никак не зависит от решения этого вопроса, хотя некоторые идеи касательно автономии несовместимы с позицией компатибилизма. В главе об автономии я привожу некоторые соображения, которых определенные вариации компатибилизма не признают, а именно – уже озвученное определение свободы как возможности поступить иначе. Если бы я признал верность позиции компатибилизма, то мне пришлось бы признать и то, что компатибилизм дает удовлетворительное обоснование тому, что человек способен поступать так или иначе, а такого обоснования в литературе по компатибилизму я не нашел.
Практически все, что пишу в этой книге, также несовместимо с позицией жесткого детерминизма. Вероятно, мне следовало бы попытаться опровергнуть эту позицию прежде, чем я перейду к следующим темам. Однако все дело в том, что жесткий детерминизм просто невозможно опровергнуть, и это единственное, что объединяет его с компатибилизмом и либертарианизмом. В споре между этими позициями нет решающих аргументов, и едва ли они когда-нибудь появятся. Именно поэтому я попробую зайти с другого бока и объяснить, сколь важным является понятие моральной ответственности, свойственное лишь человеку, для всего нашего мировоззрения[96]. Мы хвалим, обвиняем, награждаем и наказываем других людей за их поступки, и подобная социальная практика предполагает, что человек отвечает за свои действия. А эта ответственность совершенно не укладывается в рамки жесткого детерминизма, о чем говорится во всех посвященных ему работах. Мир, в котором люди не отвечают за свои действия, показался бы нам совершенно незнакомым. Вопрос только в том, готовы ли мы признать аргументы жесткого детерминизма настолько убедительными, что мы готовы отказаться от самой основы нашего мировоззрения. Лично я без колебаний отвечаю на этот вопрос отрицательно, но готов признать, что последователи жесткого детерминизма ответят иначе. Тот факт, что мы практикуем упомянутые общественные ритуалы, сам по себе не является доказательством ошибочности теории детерминизма, однако требует от детерминизма весьма убедительных доказательств в защиту своей теории. Позиция компатибилизма тоже должна предоставить веские аргументы в пользу того, что детерминизм не противоречит подобным социальным практикам.
Мою позицию в вопросе конфронтации между детерминизмом и индетерминизмом, компатибилизмом и инкопатибилизмом можно описать как агностическую. Другими словами, я не вижу достаточно веских причин предпочесть одну из этих позиций всем остальным[97]. Однако моя интуиция, как и у абсолютного большинства людей, скорее склоняет меня к позиции либертарианизма, хотя я и признаю, что у этой позиции имеются слабые места. И все же я считаю, что детерминизм и компатибилизм находятся в более сложной ситуации, поскольку противоречат нашему интуитивному восприятию, бытовой психоологии, нашему отношению к себе и другим, социальным институтам и даже законодательству, а следовательно, от них требуется больше аргументов, нежели от либертарианизма. И детерминизму, и компатибилизму приходится убедительно демонстрировать (не доказывать, поскольку неопровержимые доказательства едва ли могут существовать), что детерминизм способен правильно описать предпосылки и причины человеческих действий. Далее, жесткий детерминизм должен показать, что предопределенность несовместима с понятием свободы, а компатибилизм дожен убедить нас, что они как раз совместимы. Разумеется, и либертарианская позиция должна представлять убедительные аргументы и релевантное объяснение тому, каким образом свобода, в либертарианском понимании, является возможной, однако у либертарианцев имеется определенная фора, поскольку им требуется защищать только одно утверждение, а не два, как его противникам.
Подводя итог, скажу, что эта глава совсем не приблизила нас к ответу на вопрос о возможности свободы воли. В следующей главе мы попробуем рассмотреть этот вопрос с более практической позиции современной психологии.
3 Реактивные и объективные установки
Нам будет проще оценить концепцию свободы воли, если мы изучим, каким образом люди относятся друг к другу в качестве действующих лиц. Основным материалом для этого послужит статья Питера Ф. Стросона «Свобода и негодование»[98]. В нормальной ситуации, если один человек наносит другому травму, пострадавший обвинит обидчика. Чувство обиды Стросон называет реактивной установкой. Подобные установки и составляют в основном наше отношение друг к другу. Представьте себе мир, в котором люди не обладают способностью к такой моральной и эмоциональной реакции, где не существует этических оснований для похвалы или порицания. Этот мир показался бы нам совершенно чужим, что говорит о том, насколько фундаментальны для нас эти реакции. Они настолько свойственны нам, что едва ли мы смогли бы от них освободиться. Реактивные установки являются правилом, но случается, что мы делаем исключение из правил, к примеру, если действие было совершено под принуждением, если человек не понимает, к чему привело его действие и так далее. Если кто-то случайно наступил на мою руку, пытаясь мне помочь, боль будет столь же сильной, как если бы на мою руку наступили с умыслом, однако моя реакция в этих двух случаях будет различной: во втором случае я буду считать человека морально ответственным за причиненную мне боль[99]. Таким образом, при определенных обстоятельствах мы способны сдерживать наши реактивные установки и оценивать поступок другого человека иначе, чем мы оценили бы его в обычной ситуации. Мы считаем действующее лицо невиновным.
Стросон различает два типа невиновности[100]. В первом случае действующее лицо не имеет злого умысла и поступает плохо в результате неудачного стечения обстоятельств. В нормальной ситуации на него можно было бы возложить моральную ответственность за произошедшее, однако в данном конкретном случае мы считаем, что во всем виноваты обстоятельства, поэтому реагируем на действие спокойно. Во втором случае обидчик в принципе не способен нести моральную ответственность за что бы то ни было. Если у него отсутствует свойство автономии, он не может быть и объектом реактивных установок, а только объективных[101]. В этом случае действующее лицо рассматривается как человек, которому требуется лечение или контроль других людей, а не как самостоятельный индивид, несущий моральную или юридическую ответственность. Причем не только в виде порицания, но и в виде похвалы. В сериале «Доктор Хаус» встречается один персонаж, поражающий окружающих необыкновенным альтруизмом, который в конце концов оказывается лишь следствием нарушения обмена веществ. Когда мы видим, что поведение человека является не продуктом его рациональных решений, но лишь следствием дисфункции, у нас пропадает основание для моральной оценки. Еще один пример: в нормальной ситуации я стану осуждать человека, говорящего мне непристойности у всех на виду. Однако если я узнаю, что обидчик страдает синдромом Туретта, симптомом которого является подобное поведение, моя реакция изменится. Конечно, мне по-прежнему будет неприятно, но я не буду винить в этом больного. Другими словами, я сменю реактивную установку на объективную.
Это различие между реактивными и объективными установками есть не что иное, как пример бытовой метафизики, которая свойственна всем нам. Как отмечает Руссо: «Во всем, что ранит нас, мы ищем скорее смысл, нежели причину. Кусок черепицы, падающий с крыши, может сильнее навредить нам физически, но причинить меньше огорчения, чем камень, брошенный человеком с умыслом. Камень может промахнуться, но намерение всегда попадает в цель»[102]. Скорее всего, мы примем реактивную установку в отношении того, кто бросил в нас камень, но при наличии оснований мы можем сменить реактивную установку на объективную. Принимая объективную установку в отношении бросившего камень, мы тем самым мысленно приравниваем его к куску черепицы, падающему с крыши, у которого нет цели попасть кому-нибудь на голову, а есть только цепочка причин и следствий. В повседневной жизни мы часто встречаемся с такой сменой перспективы, когда сначала обижаемся на кого-либо, но потом узнаем об обстоятельствах, из которых следует, что обижаться не следует. Предположим, Эспен и Пер мирно беседуют, и Пер при этом ест хот-дог с кетчупом, а затем внезапно бросает его на белую рубашку Эспена. Естественной для Эспена будет реактивная установка и обида на Пера. Однако все изменится, если Пер воскликнет, что сделал это не намеренно, а потому, что его толкнул Пол. И тогда Эспен, если он сам адекватен и если он верит Перу, сменит свою установку на объективную, потому что поймет, что Пер был всего лишь элементом в причинно-следственной цепочке, и действие произошло не по его воле. Если к тому же Эспен увидит, что за спиной у Пера стоит Пол и злорадно ухмыляется, и к тому же за ним уже бывало замечено такое зловредное поведение, он примет реактивную установку в отношении Пола и обвинит теперь уже его в том, что его прекрасная белая рубашка приняла столь плачевный вид.
Существует литературный пример, противоречающий нашей интуиции и тем самым подтверждающий, что гипотеза об установках совпадает с нашим интуитивным пониманием действительности. Речь идет о романе Сэмюэла Батлера «Едгин», написанном в 1872 году. Заголовок романа совпадает с названием страны, в которую попадает рассказчик и которое является анаграммой слова «нигде». В этой стране принята очень суровая система наказаний. Больные или потерявшие трудоспособность люди предстают перед судом и получают жестокий приговор, тогда как преступники, грабители, поджигатели и тому подобные рассматриваются как люди, которым прежде всего требуется помощь и забота.
«Вот что я выяснил. Если кто-либо в этой стране заболел, стал инвалидом или просто ослаб до достижения семидесятилетнего возраста, он предстает перед судом присяжных, состоящим из его соотечественников, и если его осудят, он получит наказание в соответствии с тяжестью своего состояния. Существуют степени тяжести подобных “преступлений”, подобно тому, как у нас есть степени тяжести нарушения закона. Очень суровое наказание ждет человека, страдающего от серьезной болезни, тогда как ослабленное зрение или слух у шестидесятипятилетнего, всегда отличавшегося хорошим здоровьем, карается всего лишь штрафом или же заключением, если у него нет денег заплатить штраф. Если же кто-либо подделывает облигацию, или поджигает собственный дом, или же наносит увечья другому человеку, или же совершает иной поступок, считающийся противозаконным в нашей стране, то его либо кладут в больницу, либо берут под общественную опеку, или же, если его проступок нетяжелый, он просто сообщает всем своим знакомым, что страдает от серьезного нарушения морали, подобно тому как мы поступаем в случае болезни, и они навещают его, проявляя заботу, и с искренним интересом расспрашивают о том, как это могло произойти, с каких симптомов все начиналось, и он открыто отвечает на все эти вопросы. Дурное поведение, хотя оно и не считается чем-то желательным, как и любая болезнь в нашей стране, всегда и без сомнений воспринимается как серьезное расстройство личности, произошедшее в результате какого-то сбоя до или же после рождения. Страннее всего то, что хоть они и считают преступления результатом сбоя в характере или обстоятельствах, они и слышать не хотят об этом в тех случаях, когда у нас в Англии к человеку отнеслись бы с сочувствием и пониманием. Невезение любого рода, а даже плохое обращение со стороны других людей, считается оскорбительным в обществе, посколькую людям неприятно слышать об этом. Потеря всего своего состояния или близкого друга, к которому вы испытывали большую привязанность, подлежит не менее суровому наказанию, нежели провинности, связанные со слабым здоровьем»[103].
Роман «Едгин» интересен тем, что в нем показана своего рода инверсия понятия об ответственности: люди в этой стране несут ответственность за то, за что мы не склонны считать их ответственными, и в то же время не отвечают за моральные проступки, за которые мы считаем их ответственными. Впрочем, есть мнение, что наше общество чем дальше, тем больше напоминает Едгин тем, что на граждан часто возлагают ответственность за состояние их здоровья, а также тем, что моральные отклонения в большей степени, нежели раньше, объясняются воздействием обстоятельств. Без сомнений, со временем наши склонности принимать реактивные или объективные установки в ответ на те или иные действия могут измениться, однако едва ли они когда-нибудь станут столь абсурдными, как описано в романе Батлера.
Правилом является реактивная установка, а объективная – исключение из правила. Наше отношение друг к другу, наши этические стандарты и правовая культура предполагают, что обычно мы рассматриваем друг друга как существ, способных к принятию решений и осознающих свои действия, действующих на каких-то разумных основаниях и способных нести ответственность за свои поступки. Если бы все было иначе, если бы объективные установки были правилом, а реактивные лишь редким исключением, то, вероятнее всего, мы считали бы друг друга не личностями, а лишь объектами, оказавшимися в плену причинно-следственных связей, неподвластных нам. Когда мы принимаем объективную установку, мы не считаем действие намеренным поступком, за который индивид должен нести ответственность. В этом случае мы рассматриваем действующее лицо лишь как элемент причинно-следственной цепочки.
Вопреки тому, что, по всей видимости, думает Стросон, объективная установка вовсе не предполагает детерминистской позиции. К примеру, либертарианец может считать поступок индивида продуктом нейрофизиологического отклонения в системе, которую он считает недетерминированной. Самое важное в принятии объективной установки заключается в том, что субъект не играет в событии решающей роли. И здесь кроется основная проблема теории Стросона. Можно подумать, что реактивные установки подвержены влиянию наших философских убеждений. И хотя Питер Ф. Стросон считает, что детерминистская позиция никак не влияет на реактивные установки, его сын, Гален Стросон, указывает, что реактивные установки не так просто отделить от интуитивных инкомпатибилистских убеждений, как считал его отец[104]. Если интуитивное либертарианство большинства людей пошатнется, будет справедливо предположить, что их реактивные установки тоже ослабнут и уступят место объективным установкам, а следовательно, они станут менее склонными считать себя и других ответственными за свои поступки. Так что вместо того, чтобы поддерживать позицию компатибилизма, теория Питера Стросона, вопреки его собственным намерениям, может скорее дать нам основания для принятия более либертарианской точки зрения[105]. И хотя в самом начале этой главы я говорил о теории установок как о более практической и психологической теории, нежели предыдущие метафизические позиции, мы видим, что от сложных метафизических проблем нам никуда не деться.
Одно из возражений, которое можно выдвинуть против теории реактивных и объективных установок, заключается в невозможности логически перейти от того факта, что мы считаем друг друга ответственными за свои действия, к тому факту, что у нас нет никаких реальных причин наделять друг друга такой ответственностью. На самом деле то, что мы возлагаем друг на друга ответственность, вполне совместимо с тем, что у нас нет для этого никаких рациональных оснований, например в силу того, что ответственность является довольно иллюзорной величиной. Почему бы и нет? Однако тот, кому придет в голову выступить с подобным утверждением, вынужден будет представить веские доказательства, поскольку оно противоречит всем нашим социальным практикам и институтам. Кроме того, Стросон отмечает, что эти установки так глубоко укоренены в нас, что мы никогда не сможем от них избавиться – как бы сильны ни были выдвинутые против них аргументы. Реализованная объективная установка по каждому поводу – это нечто недосягаемое для нас[106].
Еще одно, более слабое возражение заключается в том, что реактивные установки сами по себе не являются нелегитимными, однако мы совершаем ошибку при выборе легитимного объекта для этих установок. Это возражение более правдоподобно, поскольку мы видели, как меняются реактивные установки в историческом и географическом контексте. Примеры с судебными процессами против животных показывают, что в прежние времена для реактивных установок были приняты гораздо более широкие рамки. Менее экзотическим примером являются различия в возрасте наступления уголовной ответственности, который в скандинавских странах составляет 15 лет, в Великобритании 10 лет, а в Индии всего 7 лет. Общая черта социального развития состоит в постоянном уменьшении класса людей, которые могут рассматриваться как объекты реактивных установок. Насколько нам известно, значительная часть людей, которые сегодня несут ответственность за свои поступки, на самом деле не должны этого делать. А может, и наоборот: вероятно, многие люди, которые на сегодняшний день не считаются ответственными за собственные поступки, должны за них отвечать. Нет никакого способа решить этот вопрос, кроме попытки выработать критерии, позволяющие определить, когда индивид может и должен с рациональной точки зрения отвечать за свои поступки, а затем использовать эти критерии для корректировки реактивных установок. К примеру, они могут стать одним из основных пунктов в теории об автономии.
В конкретных случаях, например в судебных делах, будет возникать значительная неопределенность в подобных оценках: к примеру, если человек, совершивший насильственные действия, имеет повреждения в определенных структурах мозга. Мы знаем, что люди с повреждениями в лобных долях мозга могут страдать отклонениями от нормального поведения и становиться более агрессивными. Так что если человек с такими повреждениями совершает насильственное действие, мы будем склонны думать, что его поступок обусловлен именно этими повреждениями, а следовательно, критерии добровольности его действия – и вместе с тем моральной и юридической ответственности за них – не выполнены. Однако подобные выводы слишком скоропалительны. Статистика говорит, что среди людей с травмой левой лобной доли уровень насильственных преступлений составляет 11–13 %, тогда как среди общей массы населения он составляет 3 %[107]. Это означает, что 87–89 % людей, имеющих повреждения, не склонны к насилию, а следовательно, эти повреждения нельзя принимать в качестве достаточного условия для насильственного поведения. Степень моральной и юридической ответственности за свои поступки человека, имеющего такие повреждения, должна определяться в каждом случае индивидуально. Эти факты дают нам основания подробнее исследовать вопрос о том, является ли объективная установка более предпочтительной, чем реактивная, поскольку в данном случае есть сомнения в том, что поступки действующего лица добровольны, тогда как в нормальном случае мы принимаем это как данность. Повреждения лобных долей ни в коем случае не являются достаточным условием для снятия ответственности с деятеля за его поступки. Граница между добровольными действиями и неподконтрольным нам поведением весьма размыта, и едва ли мы можем быть уверены, что более широкое использование сканирования мозга поможет нам определить ее более точно. В принципе, это утверждение можно экстраполировать на все виды действий. Мы никогда не можем с полной уверенностью сказать, действовал человек добровольно и осознанно или же нет. Всегда останется место для доли сомнения в том, было ли действие полностью добровольным, независимо от того, имеет ли деятель повреждения в мозгу или является совершенно здоровым человеком, так что у нас нет другого выхода, кроме как полагаться на более или менее надежные свидетельства в каждом конкретном случае[108].
Решающим моментом в определении того, какой вид установки предпочтителен, является вопрос о том, мог ли индивид поступить иначе. Если свобода существует, то действующему лицу должны быть доступны различные варианты выбора, то есть в каждой конкретной ситуации у него должна быть возможность поступить иначе. Формулировка «возможность поступить иначе» предполагает отсутствие жесткой необходимости. Мы говорим не просто о сильном желании сделать что-либо, как в знаменитой фразе Лютера «На том стою, и не могу иначе». Если у действующего лица не было возможности поступить иначе, мы сдерживаем реактивную установку и не возлагаем на него ответственность за его действия.
Лишь в том случае, если индивид очевидно мог контролировать свои действия, его можно считать подходящим объектом для реализации объективной установки. Эта проблема ясно сформулирована Галеном Стросоном, который пишет, что лишь в том случае, если мы отвечаем за то, какие мы – хотя бы в некоторых решающих моментах нашей ментальности, – мы можем нести моральную ответственность и за свои поступки[109]. Далее он убеждает нас, что мы не можем отвечать за то, какими мы являемся, а следовательно, наша моральная ответственность за свои поступки иллюзорна. Этот аргумент может показаться убедительным, однако в действительности он довольно спорен. Стросон строит свои рассуждения на примерах, которые скорее относятся к исключениям из правил: он говорит о маленьких детях и душевнобольных, которые не отвечают за свои действия, поскольку не могут их контролировать. Далее он утверждает, что эти исключения на самом деле вовсе не являются исключениями: в действительности именно отсутствие контроля, а следовательно и моральной ответственности, свойственно всем людям в целом. При этом подразумевается, что контроль равняется способности определять, какими мы являемся, а из этого в свою очередь вытекают все наши поступки. Контроль понимается в чисто каузальном смысле. Здесь будет уместно возразить, что мы обычно проводим различие между нормальными индивидами и исключениями, и для проведения этого различия мы пользуемся далеко не каузальными принципами. Когда мы проводим различие между маленькими детьми и взрослыми с точки зрения ответственности, мы делаем это вовсе не потому, что причинно-следственные связи, лежащие в основе личности ребенка, отличаются от причинно-следственных связей, лежащих в основе личности взрослого. Принципиальное различие между ребенком и взрослым состоит скорее в способности сформировать более или менее адекватные представления о мире, самом себе, причинно-следственных связях и нормативных требованиях. Ребенок свободен от моральной ответственности за свои действия не в силу каузальной предыстории своих представлений о мире, но скорее в силу того, что эти представления неадекватны. То же касается и душевнобольных людей.
Каузальная история сама по себе не может освободить действующее лицо от ответственности за свои поступки. Однако когда мы узнаем, что человек вырос в очень плохих условиях, мы обычно предполагаем, что эти условия могли разрушить его способность нести ответственность за свои действия или хотя бы серьезно подорвать ее. Другими словами, мы часто считаем подобные условия формирования личности смягчающим обстоятельством. И тем не менее я продолжаю утверждать, что здесь важна не каузальная предыстория, но способности индивида в настоящий момент, а также тот факт, что действия совершаются в тех условиях, которые никак не препятствуют индивиду реализовать свои способности к их адекватной оценке, к примеру, в отстутствии принуждения.
Давайте представим себе двух действующих лиц, А и Б, которые выросли в совершенно различных условиях: к примеру, А постоянно подвергался насилию и просто плохому обращению, а Б развивался в благополучной среде. Их каузальные предыстории непохожи. Далее предположим, что А и Б оба совершили преступление Х. Мы скорее всего будем более снисходительны к А, чем к Б. Однако вполне возможно, что такой взгляд ошибочен, и у нас нет никаких причин относиться к А мягче, чем к Б, поскольку оба они были сформированы биологической наследственностью и социальным окружением, то есть оба они являются всего лишь продуктами причинно-следственных связей. Почему одни причинно-следственные связи должны считаться смягчающим обстоятельством, а другие нет? Моя идея в том, что решающую роль играет не причинно-следственная связь как таковая, а способности действующего лица. Если А, несмотря на ужасные условия своего развития, обладает адекватным пониманием нормативных требований, а кроме того, не страдает от эмоциональных или когнитивных расстройств, которые подрывают его здравый рассудок, то нет никаких причин считать его каузальную предысторию смягчающим обстоятельством. А если Б, несмотря на благополучную среду, в которой он сформировался, демонстрирует недостаточное понимание элементарных нормативных требований, а кроме того, страдает соответствующими когнитивными или эмоциональными расстройствами, то нет никаких причин считать его каузальную предысторию отягчающим обстоятельством. Это не означает, что каузальная предыстория совершенно нерелевантна при оценке действующего лица, поскольку она может дать нам основания предполагать наличие у него некоторых отклонений, наблюдавшихся ранее у других индивидов в тех же обстоятельствах, но сама по себе каузальная предыстория не освобождает человека от ответственности за свои действия и не смягчает ее. В первую очередь нужно принимать во внимание способности деятеля к адекватной оценке действительности.
Я сделаю лишь одно исключение из вышеизложенного правила для случаев, когда действующее лицо намеренно привело себя в состояние, при котором эти способности сильно ослабляются или полностью подавляются. Типичным примером является нанесение физических увечий другому человеку индивидом, находящимся в состоянии опьянения. С моей точки зрения, то же касается и лиц, страдающих психическими заболеваниями, которые в «нормальной» фазе отказываются от приема назначенных медикаментов, поскольку им кажется, что те имеют неприятные побочные эффекты, и вследствие отказа от медикаментов у них развивается психоз, в состоянии которого они убивают другого человека. Поскольку наше действующее лицо знает, что в случае отказа от лекарств у него может развиться психоз, и намеренно отказывается от них, оно несет ответственность и за последствия этого отказа. То же касается и человека, который в течение долгого времени сознательно развивает в себе качества, которые отключают нормальные моральные реакции. Аристотель пишет, что если бы человек должен был нести ответственность за дурные действия, проистекающие из его характера, то он должен был бы нести ответственность и за формирование этого самого дурного характера[110]. Эта формулировка оставляет открытым вопрос, способны ли мы вообще нести такую ответственность: либо мы можем отвечать со свой собственный характер, а следовательно, и за действия, проистекающие из него, либо не можем отвечать ни за то, ни за другое. Аристотель выбирает для себя первый вариант: мы отвечаем за то, какими мы являемся, какими мы себя сделали. С этой точки зрения индивид может и должен нести ответственность за поступки, являющиеся следствием его характера, который в свою очередь весьма сужает круг возможных альтернатив этим поступкам[111].
Подобная позиция, однако, сталкивается с одной проблемой, назовем ее проблемой регресса. Если мы должны нести ответственность за формирование собственного характера, которым обусловлены наши поступки, то мы должны отвечать и за характер, который формирует этот характер, а также за характер, сформировавший характер, который формирует характер. Для того чтобы подобная позиция была обоснованной, мы должны быть в состоянии остановить этот регресс в какой-то точке. Для этого нам придется предположить, что существует какой-то изначальный характер, который ничем не сформирован. Деятель должен обладать способностью определять, какой именно характер ему необходимо сформировать, и предпринять то, что Чарльз Тейлор называет «сильной оценкой», то есть оценкой, у которой нет достаточных предпосылок. Мы вернемся к вопросу «сильных оценок» в главе 13, а сейчас не будем углубляться в их обсуждение. Деятелю не приходится формировать свой характер с чистого листа, подобное вообще сложно себе представить, поскольку любое формирование происходит на основе уже существующего характера, и вместе с тем этот существующий характер не должен ограничивать возможности формирования будущего характера до одной-единственной альтернативы. Согласно теории сильной оценки, существует скорее основание, нежели естественная каузальность, которое и определяет, станет ли наша будущая личность Х или Y. Это основание служит причиной, которая не может быть выведена из какой-то предшествующей причины. Наши действия происходят из решений, которые мы принимаем, а решения происходят из нашего характера. Вместе с тем мы обладаем способностью к рефлексии относительно своих поступков и к изменению себя. Мы автономны. Именно в силу автономии мы несем ответственность. Мы отвечаем за то, кем мы являемся, за свой характер. Это наш характер. Именно поэтому мы можем быть легитимными объектами для реализации реактивных установок.
В этой главе, посвященной обсуждению объективных и реактивных установок, мы снова встретились со сложными метафизическими проблемами из главы 2, поскольку возможность применения реактивных установок напрямую зависит от способности индивида поступить иначе, чем он поступил. Мы также увидели, что каузальная предыстория действующего лица в сущности нерелевантна для оценки его способности нести ответственность, поскольку последняя зависит в первую очередь от качеств самого действующего лица на данный момент. Именно эти качества я планирую разобрать подробнее в следующей главе, посвященной понятию автономии.
4 Автономия
Свобода подразумевает личную ответственность, она наделяет нас ответственностью, которую мы можем нести только при условии, что мы свободны[112]. Что же на самом деле означают слова «личная ответственность»? Как минимум это подразумевает, что и субъектом, и объектом ответственности является один и тот же человек. Я отвечаю за самого себя, за свои решения и поступки, свои убеждения и за то, в каком направлении я развиваю свою личность. Ответственность за себя должна распространяться и на испытываемые чувства. Мы возлагаем друг на друга ответственность не только за поступки, но в определенной степени и за чувства, и за убеждения, исходя из мысли, что эти чувства и убеждения могут быть адекватны или неадекватны по отношению к их объектам, а кроме того, их субъект обладает способностью контролировать их. В соответствии с этой бытовой метафизикой чувства и представления воспринимаются не как данность, но как предмет самостоятельной работы каждого индивида.
Автономия противоречит не только жизни под принуждением, но и жизни, в которой человек лишен способности выбирать, где им управляют лишь слепые обстоятельства. Автономная жизнь – это жизнь, ядром которой является способность к выбору[113]. Другие люди могут помогать нам, но они не могут сделать нас автономными. В лучшем случае они могут способствовать созданию обстоятельств, при которых мы получаем возможность развить и реализовать собственную автономию. Условия для автономии могут иметь как внутренний, так и внешний характер, начиная с развития определенных когнитивных качеств и заканчивая реальными условиями, в которых возникает возможность для нескольких вариантов действия. В этой главе я хочу в первую очередь сосредоточиться на внутренних условиях автономии, тогда как внешние условия будут более подробно обсуждаться позднее, особенно в главе 8, в которой я рассматриваю «подход на основе потенциала», разработанный Амартией Сеном и Мартой Нуссбаум.
Греческое слово «автономия» состоит из корней «авто» и «номос», означающих соответственно «сам» и «закон». Быть автономным значит самому устанавливать собственные законы или, другими словами, быть самоуправляемым. Это выражение сначала использовалось только в политической философии, касающейся греческих городов-государств, каждый из которых обладал автономией в том смысле, что его граждане сами устанавливали свои законы и не подчинялись никаким внешним правителям[114]. Со временем понятие было расширено и стало употребляться в отношении индивидов.
Как и понятие «свобода», понятие «автономия» включает в себя множество различных значений, от значения политической свободы в негативном и/или позитивном смысле до идеи о том, что деятель является самостоятельным в компатибилистском или либертарианском понимании. Часто автономия связывается с такими понятиями, как «достоинство», «независимость», «аутентичность». Далее, часто считается, что автономия придает действующему лицу совершенно особый статус. Понятием автономии пользуются, таким образом, для обозначения и способности, и статуса, который подразумевает определенные права. Оба значения тесно связаны: человек наделяется статусом на основании обладания способностью. Это также означает, что лишившись способности, человек может лишиться и статуса. Все это на самом деле далеко не так просто и примитивно, поскольку автономия как способность является градуированной величиной, а статус, равно как и подразумеваемые им права, является величиной абсолютной. Способность к автономии всегда реализуется как некоторая степень автономии на шкале от минимальной до полной. Полной автономией не обладает никто, но у некоторых людей эта способность настолько мала, что оказывается ниже минимальной границы. Это касается маленьких детей, у которых еще не развились соответствующие способности, особенно когнитивные, которые необходимы для обладания автономией. По понятным причинам способностью к автономии не обладают люди, впавшие в кому. Кроме того, существует множество сложных случаев, к примеру, если человек страдает определенными психическими заболеваниями, которые время от времени лишают его способности к автономии в зависимости от текущего состояния. Однако большинство людей, достигших определенного возраста, по умолчанию обладают способностью к автономии, из которой вытекают определенные права. Проблему прав мы подробно рассмотрим в главе 9, а оставшуюся часть этой главы посвятим рассмотрению автономии как способности или качества.
Иметь статус автономии – значит обладать полномочиями принимать решения в сфере собственной жизни, вмешиваться в которую другим не дозволено без разрешения субъекта автономии. Этот статус присваивается индивиду, обладающему способностью выполнять и контролировать действия исходя из рациональных оснований. Быть автономным – значит осуществлять самоуправление. Мы автономны, поскольку это качество присуще нам в силу нашего человеческого рождения, и оно отличает нас от других животных. Быть автономным значит нести ответственность за собственную жизнь: как за успехи, так и за неудачи. Можно сказать также, что быть автономным значит составлять единое целое с самим собой в том смысле, что быть автономным значит действовать исходя из оснований, которые решающим – но трудно объяснимым – образом являются нашими собственными. Быть автономным субъектом значит относиться к себе определенным образом, подразумевающим, что мы принимаем на себя ответственность за свои действия и суждения, так что мы можем назвать их своими собственными. Автономия требует от действующего лица не просто беспрепятственного следования любому своему капризу. Иначе любое существо, обладающее способностью к движению, можно было бы считать автономным. Индивид должен быть самоуправляемым в более узком понимании.
Часто проводят различие между моральной автономией, которая заключается в способности устанавливать собственные моральные принципы, и личной автономией, которая нейтральна в отношении морали и распространяется на все аспекты жизни действующего лица, а не только на моральные вопросы. Однако это различие может ввести нас в заблуждение, поскольку создается впечатление, что индивид может обладать только одним видом автономии – либо моральной, либо личной, тогда как на самом деле он должен быть автономным в обоих смыслах. Автономный индивид должен не только обладать способностью устанавливать собственные моральные принципы, но и самостоятельно производить действия, не связанные с моральными аспектами[115].
Грубо говоря, существует три типа теорий автономии как способности: (1) иерархические, (2) основанные на аутентичности и (3) кантианские. Иерархические модели в общих чертах состоят в том, что действующее лицо имеет позитивную идентификацию высшего порядка со своими предпочтениями низшего порядка, то есть способность второго порядка к критической рефлексии касательно предпочтений первого порядка, а также способность создавать или менять эти предпочтения[116]. Теории, связанные с аутентичностью, утверждают, что индивид автономен, если его представления и предпочтения были сформированы определенным образом, то есть в основе их лежит рациональная рефлексия и, кроме того, они не являются продуктом принуждения, обмана, манипуляции и т. д. Быть автономным значит действовать исходя из оснований, оценок, качеств и т. п., которые не навязаны извне, но которые мы можем назвать частью своей самобытной личности[117]. Третья, кантианская позиция является более радикальной версией предыдущей и предполагает, что лишь действие, мотивированное строгим моральным законом, который сформулирован самим действующим лицом, является полностью автономным[118]. Я не буду подробно останавливаться сейчас на кантианской теории, но мы вернемся к ней в главе 13. Сейчас я хочу сосредоточиться на иерархических теориях, а также рассмотреть некоторые положения теорий аутентичности. Необходимо добавить, что различие между теориями аутентичности и иерархическими теориями не всегда очевидно, поскольку требование аутентичности также подразумевает способность к рефлексии и к идентификации себя со своими ценностями и желаниями.
Гарри Франкфурт понимает автономию как присущую действующему лицу позитивную идентификацию высшего порядка с предпочтениями низшего порядка. К примеру, у меня может быть предпочтение низшего порядка, заключающееся в любви к вину, и если я сознательно выбираю следовать этому предпочтению и идентифицирую себя с ним, то я действую автономно, когда я пью вино. Однако если я хотел бы избавиться от этого пристрастия, и тем не менее оно постоянно провоцирует меня пить вино, то действие это уже не будет автономным. То же будет касаться любых других предпочтений. Франкфурт утверждает, что всегда будут находиться достаточные причины для того, какими мы являемся и что мы делаем, а следовательно, мы не могли бы быть другими и поступать иначе, при сохранении тех же условий. Такими образом, свобода, по Франкфурту, заключается в том, чтобы быть цельным, то есть выполнять действие в соответствии со своими желаниями, которые в свою очередь мы желаем иметь. Будучи цельными, мы обладаем неделимой волей, мы целиком и полностью посвящаем себя чему-то и, как следствие, обладаем совершенно особой формой свободы[119]. Иной свободы человеку не дано, утверждает Франкфурт[120].
Вопрос в том, достаточно ли этих условий, чтобы говорить об автономии. Франкфурт утверждает, что свобода действия означает гармонию между желаниями и действиями человека[121]. Проблема этого утверждения состоит в том, что оно вполне допускает ситуацию, при которой раб в оковах понимает, что не в силах изменить свою жизнь, однако обладает возможностью изменить свои предпочтения так, чтобы желать оставаться в оковах и, приведя таким образом свои желания в соответствие с действительностью, формально может считаться свободным. Мы можем представить себе, что раб всем сердцем принимает свое существование в оковах, к примеру, помещает его в религиозный контекст, который придает его страданиям великий духовный смысл. И тем не менее утверждение, что такой раб является парадигматическим примером свободного человека, остро противоречит нашей интуиции. Скорее, он является полной противоположностью свободному человеку.
Мы можем также задаться вопросом, является ли подобная цельность необходимым условием для автономии. Франкфурт утверждает, что индивид свободен настолько, насколько он хочет желать того, чего он желает, то есть в той степени, в которой его желания соответствуют его воле[122]. Другими словами, должна существовать корреляция между предпочтениями первого и второго порядка. В качестве иллюстрации Франкфурт приводит в пример добровольных наркоманов и наркоманов поневоле, которые утверждают, что желание употреблять наркотики противоречит его воле[123]. С другой стороны, добровольный наркоман свободен, поскольку его желания и действия полностью согласуются с его волей. С точки зрения Франкфурта, идентификации второго порядка с желаниями первого порядка достаточно для того, чтобы наделить индивида моральной ответственностью[124]. И тем не менее мы возлагаем на людей ответственность в том числе и за те их действия, с которыми они себя не идентифицируют и которых не желают всем своим существом. К примеру, педофил, который не хотел бы, чтобы его сексуальные потребности были направлены на детей, но тем не менее действует согласно этим потребностям, точно так же должен нести ответственность за свои действия, как если бы он полностью идентифицировал себя с этими потребностями. Если бы мы придерживались модели Франкфурта, нам пришлось бы признать, что этот человек действует не свободно, поскольку не обладает позитивной идентификацией второго порядка со своими желаниями первого порядка. А если он действует не свободно, значит, он не подлежит ответственности. И все же едва ли мы готовы оправдать подобные поступки и воздержаться от осуждения. Другими словами, модель Франкфурта имплицирует суждения, которые сильно противоречат нашим глубинным моральным установкам. Теория Франкфурта также не способна объяснить необходимые и достаточные условия для автономии.
Франкфурт утверждает, что быть ответственным за свой характер, равно как и за проистекающие из него действия, не значит самому формировать его, но всего лишь «принять на себя ответственность за него»[125]. Как мы увидели, Франкфурт определяет свободу как соответствие между предпочтениями первого и второго порядка. Такое соответствие может возникать в силу того, что наши предпочтения первого порядка просто-напросто приводятся в соответствие с предпочтениями второго порядка, либо наоборот. Франкфурт придерживается второго варианта, при котором предпочтения второго порядка приводятся в соответствие с предпочтениями первого порядка, поскольку считает, что предпочтения первого порядка мы менять практически не в состоянии. Он придает большое значение «непреодолимым желаниям», предполагая, что мы просто не можем не хотеть некоторых вещей, а следовательно, существуют поступки, отказаться от которых мы не в состоянии[126]. К этой теме я еще вернусь в главе 13.
Проблема заключается в том, что автономия вроде бы требует от нас рефлексии и способности менять себя, изменять свои предпочтения первого порядка в результате размышлений и выводов о них. Быть автономным значит нести особую ответственность за самого себя: не только за свои поступки, но и за свои личностные характеристики. Можно возразить, что бóльшую часть наших личностных характеристик мы не выбирали, так что неясно, имеет ли смысл говорить о том, что мы несем ответственность за то, кем являемся. Джон Стюарт Милль рассуждает об этом и критикует позицию «фатализма», выступая в этом в поддержку детерминизма:
«Нецесситарианец, убежденный в том, что наши действия обусловлены нашим характером, а характер – нашей организацией, воспитанием и окружающими нас условиями, бывает склонен к более или менее сознательному фатализму по отношению к своим собственным действиям; он начинает думать, что его природа такова (или что воспитание и окружающие обязательства выработали в нем такой характер!), что теперь уже ничто не может помешать ему чувствовать и действовать тем или другим определенным образом, или, по крайней мере, что все его усилия в этом отношении останутся тщетными. Выражаясь словами приверженцев этого учения, которое в наше время с наибольшим упорством прививало и наиболее извращенно понимало это великое учение, характер человека образуется для него, а не им, так что его желание иметь другой характер совершенно бесплодно: у него нет силы изменить свой характер… Однако в этом рассуждении заключается большая ошибка. Человек до известной степени может изменить свой характер. Что – в конечном анализе – характер этот образуется для него, это вполне совместимо с тем, что отчасти он образуется им самим, как одним из промежуточных деятелей. Характер человека складывается под влиянием обстоятельств (включая сюда и особенности его организма); но собственное желание человека придать известный склад своему характеру есть также одно из этих обстоятельств, и притом обстоятельств отнюдь не из числа наименее важных. Действительно, мы не можем прямо хотеть быть иными, чем каковы мы на самом деле; но ведь и те, которые, как предполагается, образовали наш характер, не направляли свою волю непосредственно на то, чтобы мы были тем, кто мы есть. Воля их непосредственно влияла только на их собственные действия. Они сделали нас тем, кто мы действительно есть, направляя свою волю не на конечную цель, а на нужные для ее достижения средства; точно таким же образом и мы (если наши привычки не слишком в нас укоренились) можем изменять себя при помощи нужных для этого средств. Если другие люди могли поставить нас под влияние известных обстоятельств, то и мы, со своей стороны, можем поставить себя под влияние других обстоятельств. Мы совершенно в такой же степени способны делать наш собственный характер, если мы хотим этого, как другие способны делать его для нас»[127].
Милль, будучи убежденным детерминистом, отрицает при этом позицию, фигурирующую у него под названием фатализма, с точки зрения которой деятель является беспомощной игрушкой обстоятельств. Милль понимает свободу воли не как отсутствие причинно-следственных отношений, но как отсутствие принуждения. Другими словами, он занимает стандартную компатибилистскую позицию, описанную в главе 2. У наших действий всегда будут какие-то причины. Наши качества и наши мотивы формируются под влиянием причинно-следственных отношений, однако они не являются однородной массой. Среди тех качеств и мотивов, которые может получить на руки индивид, есть и мотив менять себя и становиться лучше. С точки зрения Милля, мы не можем противостоять некоторым мотивам, и за вытекающие из этого действия мы не несем ответственности. По этому пункту Милль предвосхищает теорию Франкфурта о «непреодолимых желаниях». Существуют и мотивы, которым мы можем противостоять, а следовательно, мы несем ответственность за их действие, поскольку обладаем властью их изменить. Позиция Милля во многом сходна с позицией Аристотеля, который утверждает, что всякий человек действует в соответствии с собственным характером, однако его действия в некотором смысле являются добровольными, поскольку его характер частично определяется им самим, то есть мы сами отчасти создаем и формируем себя[128].
Согласно Миллю, каждый индивид свободен, если он имел возможность поступить иначе, чем поступил, учитывая, что у него имелись веские основания поступить иначе[129]. Милль открыто отвергает возможность поступить вопреки желанию или нежеланию, наиболее сильному в человеке в момент поступка, а также то, что подобная способность когда-либо могла быть человеком осознана[130]. Далее он утверждает, что разница между хорошим и плохим человеком заключается не в том, что хороший человек якобы способен противостоять сильным желаниям, но скорее в том, что у хорошего человека желание поступать хорошо оказывается сильнее желания поступать плохо. Именно в этом состоит цель этического воспитания: способствовать развитию хороших желаний и ослаблению плохих, а также формировать отчетливые умозрительные образы хорошего и плохого.
Вопрос в том, совместима ли предлагаемая Миллем версия детерминизма с главной концепцией его политической философии – перфекционистским индивидуализмом, который наделяет индивида ответственностью за формирование самого себя. В общих чертах позицию Милля можно описать как форму компатибилизма, которая весьма напоминает идеи Юма в своей презумпции, что в основе человеческих действий лежат причинно-следственные отношения, и тем не менее люди обладают способностью к самоопределению. Однако такая позиция имеет свои слабые места, так как Миллю не удается показать, каким образом наша рефлексия и знания о себе могут служить основанием для истинного самоопределения, при котором мы оказываемся способны менять себя в соответствии с нашими знаниями и представлениями о том, какими нам следует быть. Если теория детерминизма, на которой основываются взгляды Милля, верна, то из нее должно следовать, что желания деятеля о формировании собственного характера скорее в одном направлении, нежели в другом, не должны зависеть от него самого. Другими словами, Милль только отодвигает проблему на один шаг дальше – от предпочтений первого уровня до предпочтений второго уровня, не давая нам никаких убедительных аргументов в пользу того, что наши предпочтения второго порядка более свободны, чем предпочтения первого порядка. Конечно, можно ввести в уравнение предпочтения третьего порядка, которые влияют на выбор предпочтений второго порядка, но это всего лишь отодвинет проблему еще на шаг дальше. Чтобы остановить этот бесконечный регресс, нам придется предположить, что у человека есть способность формировать предпочтения высшего порядка, которые не сводятся безостаточно к внешним причинам и при помощи которых можно менять предпочтения низшего порядка.
Логичный вопрос, который возникает в ответ на иерархические теории автономии: часто ли мы, будучи действующими лицами, спрашиваем себя, какими желаниями и предпочтениями мы хотим руководствоваться в своих действиях?[131] Мы также нечасто спрашиваем себя о том, какие цели нам стоило бы преследовать и какими средствами можно достичь этих целей. И все же я утверждаю, что это возражение не очень существенно. Хотя подобные вопросы не могут не возникать, это не означает, что иерархическая модель совершенно нерелевантна для понимания наших поступков, ведь человек является существом с развитой способностью к рефлексии. Кроме того, выясняется, что в своих действиях мы часто руководствуемся самыми разнородными мотивами, часто конфликтующими друг с другом и заставляющими нас рефлексировать по этому поводу. Мы узнаем, что не хотели бы руководствоваться некоторыми из этих мотивов, а другие мотивы должны были быть более важны для нас. И разумеется, мы часто размышляем о том, какими ценностями и целями нам следовало бы жить, а также о том, какую работу над собой нам следует провести, чтобы скорее воплотить эти ценности и цели в нашей жизни. А это и есть оценка наших предпочтений первого порядка с точки зрения предпочтений второго порядка. Приведу пример из собственной жизни: до 15–16 лет у меня был очень бурный темперамент. Можно сказать, что я руководствовался предпочтением первого порядка взрываться по всякому поводу. Однако со временем я понял, что подобная реакция нецелесообразна. Я больше не хотел руководствоваться гневом в своих действиях, по крайней мере до такой степени. Мои предпочтения второго порядка не соответствовали моим предпочтениям первого порядка, так что я начал работать над собой, чтобы измениться.
В принципе, я не обязан производить намеренные изменения в своих предпочтениях первого порядка, чтобы быть автономным, но важно иметь такую возможность. Представим себе ребенка, рожденного в семье директора цирка и ведущего себя так же, как вели себя его предки. Когда его отец умирает, он сам становится директором цирка и ведет себя соответственно. Все его воспитание вело именно к этому, и ничего другого – например, продать цирк и сменить род деятельности, – ему и не хочется. Однако пока он понимает, что волен был выбрать любое другое занятие, и тем не менее предпочитает следовать образу жизни своих предков, он может считаться автономным.
Как замечает Джеральд Дворкин, существуют другие, более серьезные препятствия для понимания автономии исключительно как идентификации второго порядка с предпочтениями первого порядка[132]. Во-первых, будет справедливым утверждение, что автономия должна затрагивать более обширные области жизни человека, тогда как подобная идентификация может меняться едва ли не ежедневно. Если вчера я идентифицировал себя с якобы непреодолимым стремлением к выпивке, а сегодня я этого не делаю и даже, напротив, хочу избавиться от этой зависимости, несмотря на то, что меня все еще мучает тяга к алкоголю, означает ли это, что я утратил ту автономию, которой я обладал вчера? Звучит неубедительно. Во-вторых, мне не кажется, что отсутствие такой идентификации является главной проблемой в случаях, когда человек лишен автономии. Если действующее лицо А кладет снотворное в напиток индивида В, а затем насилует его, то совершенно очевидно, что А посягнул на автономию В, но вовсе не потому, что снотворное помешало В провести идентификацию второго порядка со своими предпочтениями первого порядка. Скорее это произошло в силу того, что способность В к рефлексии в целом – и к оказанию сопротивления в частности – была выведена из строя. В-третьих, мне кажется, что одной лишь способности менять предпочтения второго порядка недостаточно для того, чтобы быть автономным. Автономия, судя по всему, требует гораздо большего, а именно, не только способности рефлексировать по поводу и идентифицировать себя с предпочтениями первого порядка, но также и способности модифицировать эти предпочтения, а также воплощать их в своих поступках. Заметим, что жители «Уолден два», равно как и «Уолден три», о которых я говорил в начале книги, вполне удовлетворяют требованиям иерархической модели к автономии, что вовсе не говорит в пользу этой теории.
Джон Кристман утверждает, что решающим фактором для автономии является не способность индивида идентифицировать себя со своими желаниями и предпочтениями, но скорее принятие процесса, в ходе которого они были сформированы[133]. Для того чтобы деятель А был автономным относительно предпочтения Х, А должен быть не против процесса, который привел к появлению Х. Далее, при этом А должен удовлетворять требованиям к рациональности, способности к рефлексии, не быть склонным к самообману и т. д. По моему мнению, теория Кристмана не выдерживает никакой критики. Тот факт, что она не способна объяснить необходимые условия для возникновения автономии, легко продемонстрировать на следующем примере. Будучи ребенком, Пол не хотел учиться читать. При этом у него имелись соответствующие способности, но по той или иной причине он сильно сопротивлялся попыткам научить его чтению. Отец Пола отчаялся и неоднократно бил его, чтобы принудить к чтению. Отец руководствовался самыми лучшими намерениями, считая, что умение читать не только пригодится Полу в школе и профессиональной жизни, но также и принесет ему большую радость приобщения к классике мировой литературы. Чтобы избежать побоев, Пол сдался и обучился чтению. Очевидно, что несмотря на благородные цели, которые преследовал отец Пола, его методы были неприемлемы. Повзрослев, Пол понял, что его отец был прав и что чтение художественной литературы стало одним из величайших удовольствий в его жизни, однако процесс, который привел к этому, а именно побои отца, он принять не в состоянии. При условии, что Пол удовлетворяет всем остальным требованиям для возникновения автономии, было бы нелепо утверждать, что в настоящий момент он не обладает автономией в отношении чтения лишь потому, что отвергает процесс, благодаря которому он научился читать. Для автономии Пола в определенный момент решающими являются только те его качества, которыми он обладает в данный момент, а не предшествующие события. У Пола есть причины продолжать читать, и он всегда может отказаться от книг, если его отношение к жизни поменяется.
Как уже было сказано, для того чтобы быть автономным, индивид должен действовать, исходя из рациональных оснований. Тем самым мы приближаемся к тому, чтобы приравнять автономные действия к рациональным действиям, и наоборот: менее рациональные действия являются менее автономными. Вместе с тем автономный деятель должен обладать способностью отказаться от рациональности как основы своих действий, не теряя из-за этого своей автономии. К примеру, мы можем представить себе человека, который принимает решение в большинстве случаев действовать импульсивно, не задумываясь о принятии решений. В качестве еще одного примера можно привести персонаж романа Люка Рейнхарда «Дайсмен», который бросает кости, чтобы определить, как ему поступить[134]. Становится очевиден парадокс, связанный с возможностью принимать автономные решения в отношении нерациональных поступков. Однако этот парадокс разрешается, когда мы понимаем, что рациональность задействована и в тех случаях, когда деятель осознанно принимает решение поступить не самым рациональным образом, но в соответствии со своими импульсами или даже результатом бросания костей. Это происходит потому, что действующее лицо, несмотря ни на что, принимает решение на основе своей рациональности. Здесь уместно будет упомянуть одну из идей Канта, которую Генри Эллисон назвал «инкорпорирующим тезисом»[135]. Импульс или желание может определять поступки деятеля только в том случае, если деятель сознательно включил их в свою максиму действия[136]. Таким образом, индивид должен совершить свободный выбор следовать определенным преференциям и вытекающим из них действиям. Деятель сам принимает решение следовать своим импульсам или результату броска костей, и это решение является автономным. Так, мы не считаем, что человек освобождается от ответственности за свои действия только потому, что он доверил выбор одного из нескольких возможных поступков игральным костям. Было бы справедливо утверждать, что действующее лицо утрачивает часть своей автономии, перекладывая решение на игральные кости, однако, с другой стороны, его решение поступить так было автономным.
Быть автономным – значит действовать, исходя из рациональных оснований, рассуждений, качеств и т. д., которые не просто навязаны нам извне, но являются неотъемлемой частью того, что мы называем своей самобытной личностью. Требование самобытности, или аутентичности, предполагает способность к рефлексии о своих желаниях и ценностях, изменению их и идентификации себя с ними. Абсолютной автономией может обладать только человек, совершенно самобытный и свободный от всякого внешнего влияния, способного изменить его личность. Разумеется, в мире не существует людей, полностью удовлетворяющих этим критериям, так что предлагаю обратить внимание на другой конец шкалы. Любое убедительное описание минимальной степени автономии должно допускать, что каждый взрослый человек автономен, если только он не имеет очевидной патологии, лишающей его этого свойства. Это необходимо, поскольку таков общепринятый этический и политический статус всех взрослых людей. Понимаемая таким образом автономия ставит определенные границы проявлениям патернализма, о чем я расскажу подробнее в главе 10.
Очень важно сформулировать понятие автономии не слишком амбициозно, поскольку эта формулировка будет иметь множество последствий для статуса и прав каждого индивида. Говоря о способности действовать исходя из собственных оснований, мы предполагаем, что человек обладает способностью к рациональному мышлению, а также не страдает от эмоциональных расстройств, которые могут подорвать его рациональность, и, кроме того, имеет более или менее адекватное представление о собственных способностях. Для того чтобы отказать человеку в способности к автономии полностью или частично, недостаточно указания на то, что он принял одно или даже несколько неверных решений. В этом случае мы все подверглись бы опасности лишиться этого статуса, поскольку, честно говоря, рациональные решения не являются нашей сильной стороной[137]. Даже если человек сам не знает, что для него лучше, это не является достаточным основанием для лишения его автономного статуса, так как в действительности мало кто из нас знает, что для нас лучше. Когда люди принимают решения, которые кажутся нам неверными, мы, конечно, имеем право попытаться убедить их в этом, однако если нам это не удается, они имеют полное право и дальше придерживаться своих неверных представлений и ошибочных мнений. Мы можем считать человека автономным только в том случае, если он обладает способностью к критическим суждениям о своих собственных представлениях, убеждаться в них или отказываться от них, но мы не имеем права требовать, чтобы человек придерживался каких-то определенных представлений или предпочтений. Так, мы можем считать, что некоторые представления человека о мире ошибочны, или же какие-то его предпочтения кажутся нам – пусть даже большинству из нас – весьма странными, но этого мало для того, чтобы лишить человека автономного статуса. Граница должна проходить там, где представления о мире становятся явно ошибочными, но едва ли здесь можно сформулировать какие-то критерии. И хотя мы не имеем права считать человека неавтономным на том основании, что мы не согласны с некоторыми его мнениями, существует некая плавающая, однако ощутимая граница, за которой человек перестает быть адекватным и тем самым оказывается ниже минимальной планки автономии.
И наоборот: более адекватные представления о действительности будут увеличивать автономию индивида. Стюарт Хэмпшир формулирует это следующим образом: «Человек становится все более и более свободным и получает все больше и больше ответственности за свои действия по мере того, как он все лучше понимает, что он делает, во всех смыслах, и его действия все больше соответствуют определенному и четко сформулированному намерению»[138]. В этой формулировке заключается не просто заимствованная у стоиков идея о том, что по-настоящему свободен тот, кто мудр, а у свободы нет степеней[139]. Мысль стоиков заключалась в том, что все наши желания и взгляды составляют систему, в которой все тесно взаимосвязано, так что подрыв любого элемента ведет к разрушению всей системы и потере свободы. Я же, напротив, хочу подчеркнуть, что свобода является градуированным феноменом, и наша работа над собой ведет к постепенному увеличению нашей свободы, так что со временем мы можем достичь довольно высокой степени свободы и самоопределения, понимая при этом, что асболютной свободы нам не достичь никогда.
Автономная жизнь требует соблюдения индивидом не только внутренних, но также внешних критериев институционального и материального свойства, которые мы рассмотрим в следующей части книги.
Политика свободы
5 Либеральная демократия
Настало время перейти от фундаментальных вопросов об онтологических предпосылках наших поступков к более практическим вопросам о том, в каком обществе нам следует жить, учитывая описанные онтологические характеристики. Для того чтобы жить автономной жизнью, мы должны иметь возможность выбирать между различными вариантами поступков и образов жизни, а такому плюрализму среди всех политических систем более всего соответствует либеральная демократия.
Либеральной демократии совершенно несвойственно впадать в иллюзию, что рай на земле возможен, ведь в любом обществе всегда будут жить индивиды и группы, обладающие противоречащими друг другу ценностями и интересами, которые они стремятся соблюсти и внушить всем окружающим, чтобы все общество в результате жило в соответствии с этими ценностями и интересами. Таким образом, задачей либеральной демократии является создание такого свода правил, который позволит разрешить противоречия мирным образом. Кроме того, либеральная демократия должна обеспечить условия для реализации личной свободы всех членов общества. Разумеется, существуют и другие формы правления и идеологии, со своими концепциями свободы, однако по сравнению с либеральной демократией все они кажутся малоубедительными и неактуальными. Меня можно заподозрить в том, что я симпатизирую идеям, изложенным в эссе Фрэнсиса Фукуямы о конце истории[140]. Однако я, подобно многим другим, считаю, что изложенная Фукуямой концепция истории после крушения коммунизма слишком оптимистична. Можно добавить также, что основная его мысль очень точно схвачена и исчерпывающим образом сформулирована в песне «West End Girls» (1984) группы «Pet Shop Boys», где поется:
Не существует ни исторического прошлого, ни исторического будущего, поскольку история подошла к концу. Она достигла своего финального состояния, в котором нам и предстоит жить, и это касается всего мира – от Женевского озера, являющегося центром европейского капитализма, до Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, куда Ленин прибыл из Швейцарии 3 апреля 1917 года. Впрочем, потом оказалось, что история возобновила свой ход.
Философские основания для своей концепции истории Фукуяма почерпнул в толковании идей Гегеля Александром Кожевом, согласно которому история достигла своего финала в воплощении «Феноменологии духа» Гегеля в 1807 году[141]. В тот момент история дошла до того пика, когда человечество осознало, что идеальным государством является либеральная республика, все граждане которой считаются и признают друг друга равными. Гегель, разумеется, понимал, что едва ли на земле существует государство, в котором все обстоит в точности так. Однако для Гегеля это было всего лишь незначительным эмпирическим фактом, поскольку сама идея о либеральном государстве уже укоренилась в мире и неизбежно должна была распространиться. Фукуяма подхватил эту идею после того, как два соперника либерального государства – коммунизм и фашизм – потерпели поражение, и заявил, что отныне либеральная демократия начнет свое победное шествие по всему миру.
Последняя книга Фукуямы, «Происхождение политического порядка», начинается с признания того, что в начале двухтысячных мы скорее наблюдали откат в развитии либеральной демократии и укрепление авторитарных режимов в странах бывшего СССР, Иране, Венесуэле и Китае[142]. Несмотря на то, что треть всего населения Земли живет в условиях диктатуры и тоталитарных режимов, Фукуяма продолжает утверждать, что его предположения верны, поскольку признанных философских альтернатив либеральной демократии не существует.
Впрочем, в этой работе Фукуяма прибегает к новым аргументам. Как в своем эссе, так и в новой книге он рассматривает либеральную демократию как лучшую форму правления, основанную на трех столпах: сильном государстве, правовой системе и ответственности власти перед народом. Однако если ранее он считал распространение либеральной демократии исторической необходимостью, теперь он видит в вопросе о том, насколько либеральная демократия распространена на Земле, совершенно иное содержание. По всей видимости, он заменяет гегельянскую метафизическую концепцию истории дарвинистской, а дарвинистская вселенная является продуктом цепи случайностей, в ней отсутствует телос – конечная цель[143]. Однако тогда возникает вопрос, удастся ли Фукуяме сохранить свое нормативное представление о превосходстве либеральной демократии в рамках новой дарвинистской концепции. Подробное рассмотрение этого вопроса не входит в наши задачи.
В своей последней статье по данному вопросу, носящей название «Будущее истории», Фукуяма пишет, что либеральная демократия является стандартной идеологией в большинстве стран отчасти потому, что она является решением проблем определенных социоэкономических структур и способствует их укреплению[144]. Существуют исключения, такие как Иран и Саудовская Аравия, избравшие своей формой правления теократию, однако «арабская весна» явно указывает на то, что и в этих странах началось движение по направлению к либеральной демократии, пишет Фукуяма. Единственным реальным соперником либеральной демократии является Китай, в котором авторитарная форма правления сочетается с рыночной экономикой, так что государство принимает в экономике гораздо больше участия, чем в других странах. По разным причинам Фукуяма не считает китайскую модель реальной альтернативой либеральной демократии где-либо за пределами Восточной Азии, а кроме того, он высказывает предположение, что растущая прослойка среднего класса приведет к изменениям в китайской модели, поскольку политические предпочтения среднего класса в Китае не отличаются от политических предпочтений среднего класса в других странах. Согласно Фукуяме, самой серьезной угрозой либеральной демократии является то, что экономическое развитие, основанное на передовых технологиях, приведет к увеличению социального неравенства и исчезновению среднего класса. Это важно, поскольку политической базой либеральной демократии является именно средний класс. Описанная тенденция может привести к разочарованию широких масс в либеральной демократии и созданию новой идеологии, «идеологии будущего», которая, однако, пока еще не сформулирована. Нынешняя позиция Фукуямы сильно отличается от позиции, которую он занимал в «Конце истории», поскольку теперь он признает, что историческое развитие продолжается, а либеральная демократия больше не рассматривается как высшая и конечная точка истории.
Однако в чем-то Фукуяма прав: либеральная демократия распространилась с поразительной быстротой. В 1892 году в мире не было не одной настоящей либеральной демократии, и лишь годом позднее Новая Зеландия стала первой в мире страной, предоставившей женщинам право голоса. В 1950 году, согласно справочнику «Freedom in the World», издаваемому организацией «Freedom House», в мире насчитывалось 22 либеральных демократии, а в 2012, даже несмотря на некоторый откат начиная с 2005 года, насчитывалось уже 87 либеральных демократий, охватывающих 45 % населения земного шара[145]. Несмотря на столь быстрое развитие, либеральная демократия далека от политической гегемонии, хотя многие признают за ней философскую гегемонию. В области философии никаких альтернатив либеральной демократии на сегодняшний день не существует.
Так что же такое либеральная демократия? Если разложить выражение на составляющие, то мы увидим следующее. Слово «либеральная» означает, что власть государства над гражданами должна быть ограничена, а слово «демократия» означает, что народ должен иметь власть над государством[146]. Однако подобное краткое описание не передает всей полноты смысла. Либеральное государство не обязательно должно быть демократическим, а демократическое государство не всегда бывает либеральным. Государство, в котором демократическое большинство притесняет меньшинство и лишает его права на свободу слова и вероисповедания, а также конфискует его имущество, в принципе может считаться демократией, однако оно по определению не будет либеральным. Мы также можем представить себе режим, в котором соблюдается большинство либеральных прав, а государство практически не вмешивается в жизнь своих граждан, так что такое общество может считаться либеральным, однако при этом граждане не обладают правом голоса, а следовательно, государство по определению не является демократическим. И все же следует признать, что между этими двумя понятиями существует глубокая связь: демократия без либеральных прав, таких как свобода слова и свобода печати, не будет истинной демократией, а либеральное государство, в котором граждане не имеют возможности влиять на государство посредством участия в выборах, не будет по-настоящему либеральным.
Либерализм очерчивает принципиальные границы легитимной власти, и его основной принцип можно сформулировать как ограничение власти государства в тех пределах, которые оставляют его гражданам место для автономии и равенства. Для обеспечения такого ограничения власти государства были развиты определенные механизмы, в частности принцип разделения власти. Вильгельм Репке формулирует это следующим образом: «Либерал с подозрением относится к любой централизации власти, поскольку любая власть, которая не сдерживается альтернативной властью, рано или поздно прибегнет к злоупотреблению. Единственным верным средством обеспечения свободы граждан является распределение власти и создание системы противовесов»[147]. Далее он советует не путать власть народа и свободу народа, поскольку предоставление народу максимальной власти вовсе не ведет к обеспечению максимальной свободы. Власть народа тоже должна быть ограничена с тем, чтобы защитить свободу каждого индивида от воздействия большинства.
С точки зрения истории либеральное государство стало результатом длительного развития, в ходе которого абсолютная власть правителя постепенно ограничивалась, частично путем мелких реформ, частично посредством революций. Взамен мысли о неограниченном суверенитете главы государства пришла идея о том, что легитимность политической власти требует согласия тех, кто этой власти подчиняется. Этот принцип был особенно четко сформулирован Джоном Локком в его работе «Второй трактат о правлении», однако он встречается также и у Томаса Гоббса, и у других философов[148]. Вместе с тем имеются также и такие права, которые глава государства всеми силами обязан защищать с согласия народа. Разумеется, у главы государства, при условии согласия граждан, может быть целый ряд других задач, но его центральным приоритетом являются именно эти права. В демократическом государстве верховная власть принадлежит народу.
В предыдущих главах мы увидели, что в объяснении феномена свободы на фундаментальном уровне неизбежно участвует и коллектив, поскольку в отношениях между индивидами всегда задействованы такие социальные феномены, как реактивные установки. Однако в сфере политики такие понятия, как «коллектив» и «свобода», потенциально конфликтны. Отношения между свободой и коллективом неоднозначны, поскольку свобода может быть реализована только в коллективе, однако вместе с тем коллектив может представлять угрозу свободе. Центральным понятием либеральной философской традиции, созданным для нейтрализации этой угрозы, является понятие прав. Права являются неким абсолютом, неприкосновенным для коллективов любого рода, даже для демократического большинства. В конце концов, большинство является лишь одной из возможных концепций добра, а поскольку в либерализме добро вторично по отношению к правам, следовательно, воля большинства не является легитимной альтернативой индивидуальным правам. Защита индивидуальных прав от посягательств со стороны других индивидов, коллективов и самого государства и является главной экзистенциальной задачей государства с точки зрения либерализма.
Некоторые либеральные философы, например Вильгельм фон Гумбольдт, утверждали, что эта задача является единственной легитимной задачей государства: «Государство должно воздерживаться от проявления любого рода заботы о благосостоянии граждан, и оно не должно совершать никаких действий сверх тех, что необходимы для защиты граждан от внутренних и внешних противников. Государство не должно ограничивать свободу граждан ни для каких иных целей»[149]. Большинство либеральных мыслителей согласны с тем, что это является основополагающей задачей, однако многие все же наделяют государство более широкими полномочиями и возлагают на него другие задачи, в отличие от Гумбольдта. К примеру, многие считают, что государство также обязано обеспечить гражданам равный доступ к образованию и определенным материальным благам. Если мы совершим быстрый экскурс в историю либерализма, то увидим, что Джон Локк помимо утверждения о том, что каждый индивид имеет право собственности на свою жизнь, а следовательно, и право распоряжаться ею по своему усмотрению, а также пользоваться плодами своего труда, а важнейшей задачей государства является обеспечение и защита этих прав, заявляет также, что существует всеобщий долг помогать человечеству, в частности оказывать помощь тем, кто не способен обеспечить себя самостоятельно. Так что право накапливать ресурсы ограничено необходимостью оставить достаточно ресурсов остальным[150]. Кроме того, Локк открыто заявляет, что никто не имеет права позволить своим ближним голодать[151]. Монтескьё утверждал, что государство обязано заботиться о благосостоянии граждан, то есть обеспечить каждому гражданину минимальное количество еды, одежды и медицинской помощи[152]. Взгляды Адама Смита и Томаса Пейна на обязанности государства мы рассмотрим в главе 8. Здесь же можно упомянуть, что Кант считал государство обязанным заботиться о самых слабых членах общества. Ричард Кобден, предводитель так называемого «манчестерского либерализма», являющегося, вероятно, самой дистиллированной формой экономического либерализма вообще, считал необходимым всеобщее и обязательное школьное образование, которое государство должно было оплачивать за малообеспеченных граждан[153]. Можно продолжить приводить примеры вплоть до современных либеральных мыслителей. Идея о том, что государство обязано поддерживать благосостояние граждан, являлась важным элементом либеральной философии от истоков до наших дней.
Либеральная философия не враждебна по отношению к государству. К примеру, одна из важнейших глав «Исследования о природе и причинах богатства народов» Адама Смита посвящена тому, как развитие индивидуальной свободы неразрывно связано с развитием государства и укреплением его важнейших институтов[154]. Смит открыто заявляет, что свобода может существовать лишь там, где имеются институты, обеспечивающие соблюдение законов. В системе либерализма политическая свобода основана на соблюдении индивидуальных прав, а права существуют лишь в том случае, если они надежно защищены. Из этого следует, что власть государства должна быть ограничена таким образом, чтобы оно само не превратилось в угрозу тем правам, которые оно призвано защищать. Озабоченность либеральных философов нарушениями индивидуальных прав со стороны государства вызвана не тем, что эти права могут быть нарушены исключительно государством, но прежде всего тем, что государство могущественнее индивидов и коллективов, а следовательно, представляет собой бо́льшую потенциальную угрозу. Вместе с тем либералы утверждают, что в некоторых странах государство не представляет никакой угрозы для индивидуальных прав в силу своей беспомощности. Подобное «безвластье» вовсе не является благом, поскольку в таких странах индивиды, как правило, подвергаются произволу со стороны политических и криминальных группировок, и их свободу совершенно некому защитить. Таким образом, сильное государство является необходимой предпосылкой для существования политической свободы.
Многие факты говорят о том, что бóльшая степень политической свободы соответствует бо́льшему материальному благосостоянию. Однако далеко не это является главным аргументом в пользу политической свободы. Вот что пишет Токвиль:
$$$«Я не думаю также, что это истинная любовь к свободе могла когда-либо быть порождена одним только видом представляемых ею материальных благ – созерцание этих благ чаще всего только заменяет свободу. Несомненно, с течением времени свобода всегда приносит умеющим ее сохранять и довольство, и благосостояние, а подчас и богатство. Но бывают периоды, когда она отстраняет людей от пользования благами, а в иное время один лишь деспот способен что-то дать людям. Но те люди, что ценят в свободе только приносимые ею выгоды, никогда не могли сохранить ее надолго»[155].
Свобода имеет не только инструментальную ценность. Я не буду утверждать, что свобода является наивысшей из всех ценностей, и уж точно она не является единственной, но я убежден, что она имеет статус блага более высокого порядка, нежели многие другие блага. Это отражено в том принципе, что любое ограничение свободы граждан требует веских причин. Основная предпосылка либерализма состоит в том, что каждый индивид имеет право поступать в соответствии со своими желаниями, если только не существует веских причин, по которым он не должен так поступать. По умолчанию никто не должен объяснять и аргументировать свои поступки – вполне достаточно простого желания поступить именно так. Тот, кто хочет помешать человеку действовать в соответствии со своими желаниями, к примеру наложить запрет, обязан представить в свою пользу веские доказательства, а если ему это не удается, то у него нет легитимных оснований препятствовать другому человеку в его действиях. Эти веские доказательства должны быть представлены в форме, понятной рядовому гражданину, чтобы он мог принять или отвергнуть их. Основная идея либерализма заключается в том, что индивиды и группы в общем должны жить в соответствии со своими представлениями, которые придают ценность и смысл их жизни. Джон Стюарт Милль описывает это как «круг, описанный вокруг каждого человеческого индивида», и границы этого круга никто не может нарушать без дозволения самого индивида[156]. Из этого следует, что внешнее вмешательство в жизнь индивидов должно быть сведено к минимуму.
Либерализм – это теория не о том, что хорошо, но о том, что правильно[157]. Либеральная философия не дает рецептов хорошей жизни, она довольствуется лишь констатацией факта, что существует множество вариаций хорошей жизни, а также дает индивиду предпосылки для реализации этих возможностей. Либеральная философия ставит себе задачу дать индивиду пространство для того, чтобы жить той жизнью, которую он считает хорошей, полностью осознавая тот факт, что это может привести к неприятным последствиям как для самого индивида, так и для окружающих. Гоббс сформулировал принцип «умолчания закона», согласно которому все, что явно не запрещено, разрешено[158]. Какой бы антилиберальной ни казалась нам сегодня теория Гоббса, в которой каждый член общества отдает свое право на самоопределение другому лицу, суверену, обладающему практически неограниченной властью, эта теория стала предпосылкой для дальнейшего развития идеи об универсальных правах и представления о либеральном субъекте и правовом государстве[159]. Ограничения свободы являются скорее исключением, которое должно быть обосновано именно потому, что оно означает угнетение ценности высшего порядка. Вместе с тем это показывает, что свобода не является абсолютной ценностью, так как в принципе могут существовать причины для ее ограничения в пользу других ценностей в определенных ситуациях. И все же в нашем мире действует презумпция свободы. Как пишет Эдмунд Берк, «свобода является благом, которое следует увеличивать, а не злом, которое следует уменьшать»[160].
Либеральная теория посвящена не всем разнообразным сторонам свободы, а только ее политическим аспектам. Либеральное понятие свободы задает политические и правовые, но не этические границы. Вместе с тем либерализм настаивает на необходимости различать эти границы. Правовые границы должны быть шире этических. Из этого следует, что у нас есть законное право совершать целый ряд аморальных поступков, которые тем не менее остаются аморальными. Таким образом, мы можем с полным правом осуждать некоторые поступки с точки зрения морали, что, однако, не означает, что подобные поступки должны быть запрещены. Из этого в свою очередь следует, что политический анализ понятия свободы должен быть дополнен этическим. Здесь самое время упомянуть о кантианской позиции, согласно которой не следует писать законов на основе морали, ведь связывая эти два понятия в одно целое, государство отнимает у людей возможность поступать этично по собственной воле!
Также мне кажется вполне уместным сделать несколько коротких замечаний об экономическом либерализме. Бытует мнение, что следует провести четкую границу между политическим и экономическим либерализмом. Однако если разграничить эти понятия еще представляется возможным, если выделить экономическую свободу в качестве отдельного критерия, то на практике сложно представить себе государство, которое блюдет политическую свободу своих граждан, не предоставляя им при этом экономической свободы. Именно поэтому в философской традиции либерализма, начиная от Локка и Монтескьё, экономическая свобода всегда рассматривалась как необходимый элемент свободы политической. Либералы обычно заявляют, что экономическая свобода способствует увеличению политической свободы, но никакой строгой закономерности не существует. К примеру, в современном Китае происходит увеличение экономической свободы граждан, которое не сопровождается соответствующим увеличением политической свободы[161]. Однако если рассматривать мировую историю в целом, то можно проследить тенденцию, согласно которой при режимах, где граждане не обладают экономической свободой, они лишены и политической свободы, и наоборот: если режим предоставляет людям экономическую свободу, то и с политической свободой нет никаких проблем. Мы можем сослаться на исследования Индры де Сойса и Ханне Фьельде, где говорится, что формы правления «с меньшей степенью экономической свободы индивидов демонстрируют бóльшую степень политического угнетения»[162]. Напрашивается вывод, что экономическая свобода является необходимым, но не достаточным условием политической свободы. Такого мнения придерживался, в частности, Милтон Фридман, который утверждал, что капитализм не является достаточным условием для политической свободы, однако без него она недостижима[163]. Он делал такое заявление уже в 1962 году, задолго до того, как Китай превратился в его наглядную иллюстрацию. Аналогичные взгляды высказываются во многих работах Амартии Сена.
И тем не менее многие эмпирические факты говорят о тесной связи между политическим и экономическим либерализмом. Если нам понадобится разграничить эти понятия, будет недостаточно просто отбросить экономические аспекты классического либерализма и заявить, что оставшееся и есть политический либерализм, не имеющий никакой привязки к экономике. Необходимо как минимум схематично представить модель общества, на примере которой будет показано, каким образом государство может оберегать неэкономические ценности при полном отсутствии у граждан экономической свободы. Эта задача окажется, мягко говоря, непростой. Либеральное общество предполагает экономическую демократию. В этом я полностью согласен с Стейном Ринге, который пишет: «Экономическая демократия состоит не в том, чтобы коллективизировать экономическую власть, но в том, чтобы децентрализовать ее. В основе демократии лежит философия индивидуализма. Демократия – это власть людей»[164].
Если мы сравним разные рейтинги[165], показывающие, в каких странах люди обладают большей экономической свободой, и индекс человеческого развития ООН[166], мы увидим между ними множество совпадений. Жители стран, в которых наиболее развита экономическая свобода, имеют более высокий уровень жизни, лучшее образование и меньше проблем со здоровьем. Более неожиданным окажется соответствие между уровнем экономической свободы и коэффициентом Джини[167]. Страны, в которых люди пользуются большей экономической свободой, являются также странами с наименьшим экономическим расслоением. И наоборот: в странах с низкой степенью экономической свободы расслоение оказывается больше. Необходимо заметить, что из этого общего правила есть целый ряд важных исключений. К примеру, в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии, где степень экономической свободы весьма высока, наблюдается также и значительное расслоение. И тем не менее у нас есть все основания говорить об общей тенденции к обратному. Я воздержусь от дальнейшего изложения аргументов в защиту и против экономического либерализма.
Фундаментальным свойством либеральной демократии является признание за каждым гражданином нерушимого права на личную свободу. Различным аспектам этого права и будут посвящены следующие несколько глав.
6 Позитивная и негативная свобода
Разграничение между позитивной и негативной свободой чаще всего связывают с именем Исайи Берлина. Сам Берлин ссылается на Бенжамена Констана, который и ввел впервые это различие, однако стоит отметить, что похожее разграничение встречается и в кантианской философии. Стоит упомянуть, что сам Берлин далеко не считал различие между позитивной и негативной свободой исчерпывающим. В одном из своих ранних эссе, посвященных этому вопросу, он упоминает, что задокументировано около двухсот различных значений слова «свобода», и он планирует исследовать лишь два из них, хотя и весьма важных[168]. Берлин подчеркивал, что при рассмотрении позитивной и негативной свободы мы встречаемся с совершенно различными вопросами, на которые приходят совершенно различные и часто противоречащие друг другу ответы.
Автором понятия негативной свободы считается Томас Гоббс. Заметим, что его трактовка негативной свободы сильно отличается от трактовки позднейших либеральных философов. Гоббс пишет: «Под свободой, согласно точному значению слова, подразумевается отсутствие внешних препятствий»[169]. Гоббс понимает свободу в чисто физическом и негативном смысле. Он пишет, к примеру, что если вас не пускают на теннисную площадку, то это не является ограничением вашей свободы, если только у вас не возникнет желание войти на площадку и сыграть в теннис[170]. Единственным релевантным вопросом для определения свободы является вопрос, открыта ли человеку возможность поступить так, как он хочет. Сам Гоббс сформулировал это так: «Свободный человек – тот, кому ничто не препятствует делать желаемое, поскольку он по своим физическим и умственным способностям в состоянии это сделать»[171]. Итак, быть свободным – это значит не иметь препятствий к тем физическим действиям, которые мы имеем желание совершить[172]. Мотивы, которые побуждают человека к таким поступкам, не играют никакой роли. Если человек, к примеру, действует из страха, его поступок будет столь же свободным, как если бы он действовал исходя из позитивного желания. Быть свободным значит поступать согласно своим желаниям, в соответствии со своими предпочтениями, а также не поступать определенным образом потому, что человек испытывает страх, который тоже является следствием личных предпочтений, а следовательно, не препятствует свободе. Как уже упоминалось, Гоббс придерживается принципа «умолчания закона», согласно которому все, что не запрещено, разрешено[173]. Когда закон не молчит, он звучит громоподобно. Закон должен внушать страх, и Гоббс подчеркивает, что ни одно другое чувство не способно так же эффективно помешать людям нарушать закон[174]. Государство угрожает наказанием, которое перевешивает все сомнительные преимущества нарушения прав других людей, и страх наказания обеспечивает возможность мирного сосуществования. Согласно Гоббсу, этот страх не противоречит свободе и даже лежит в ее основе[175].
Необходимо добавить, Гоббс не призывает к увеличению свободы в таком негативном понимании. Антипатернализм, столь свойственный либеральной философской традиции, совершенно чужд ему. Напротив, он пишет:
$$$«Задача законов, которые являются лишь установленными верховной властью правилами, состоит не в том, чтобы удержать людей от всяких произвольных действий, а в том, чтобы дать такое направление их движению, при котором они не повредили бы самим себе своими собственными необузданными желаниями, опрометчивостью и неосторожностью, подобно тому как изгороди поставлены не для того, чтобы остановить путешественников, а для того, чтобы не дать им сбиться с дороги»[176].
Определение свободы, данное Гоббсом, следует понимать буквально: свобода для него не что иное, как отсутствие препятствий для физических действий[177]. Из этого следует, по его собственным словам, что узник в большой камере более свободен, чем узник в маленькой камере. А кроме того, если узнику удастся убедить себя, что он желает оставаться запертым в маленькой камере, он может считаться столь же свободным, как и человек, который может передвигаться беспрепятственно. И поскольку свобода определяется как отсутствие препятствий к передвижениям в соответствии со своими желаниями, запертый узник, убедивший себя в том, что ему не хочется выйти, полностью соответствует критериям свободы по Гоббсу. Сказать, что это противоречит нашей интуиции, значит ничего не сказать, и именно поэтому гоббсова теория негативной свободы привлекла совсем немного последователей.
Однако вернемся к Исайе Берлину. Обычно считается, что негативная свобода – это свобода от чего-либо, то есть отсутствие подчинения и принуждения. Несвобода понимается как нечто, что так или иначе составляет реальное или мнимое препятствие естественному течению нашей жизни, а свобода понимается как отсутствие таких препятствий. Позитивную свободу часто описывают как свободу для совершения каких-либо действий. Я планирую продемонстрировать, что такое распространенное понимание не вполне соответствует концепции позитивной и негативной свободы Исайи Берлина. Негативная свобода связана с тем, какие возможности открыты для индивида, а позитивная свобода касается вопроса, кто или что руководит нами.
Первое описание негативной свободы у Берлина дается так:
$$$«Обычно можно сказать, что я свободен в той степени, в какой ни один человек или никакие люди не вмешиваются в то, что я делаю. В этом смысле политическая свобода – это всего лишь пространство, в котором я могу без помех предаваться своим занятиям. Если другие не дают мне сделать то, что без них я сделал бы, я несвободен; а если пространство сужают до минимума, можно сказать, что я подвергся принуждению или даже порабощению»[178].
Другими словами, негативная свобода характеризуется отсутствием внешних препятствий, и далее он рассуждает о препятствиях как продуктах «изменчивых человеческих практик»[179]. Последнее уточнение особенно важно в свете того, что избавляет нас от необходимости считать законы природы, такие как сила тяжести (которая мешает нам левитировать, если вдруг у нас возникает такое желание), препятствиями к свободе.
Различие между препятствиями человеческого и природного происхождения имеет большую практическую ценность. Предположим, я очень люблю лежать на газоне городского парка и загорать. Возможность пойти и лечь на газон в ближайшем парке является элементом моей личной свободы. Если городские власти запретят гражданам лежать на газонах, а за нарушение этого запрета назначат большой штраф, я лишусь своей свободы в том, чтобы лежать на траве. Представим теперь, что никто ничего не запрещал, но вся трава сгорела в результате пожара, что в итоге дает тот же результат: я не могу лечь на траву и позагорать. В третьем случае никто ничего не запрещал, пожара не случилось, однако у меня развилась сильная аллергия на траву, так что я воздерживаюсь от лежания на газоне, несмотря на отсутствие юридических и физических препятствий, поскольку мне хочется избежать насморка, чихания, зуда и прочих признаков аллергии. Все три случая приводят к одному результату: я больше не делаю того, что мне нравится делать, а именно, лежать на траве в парке, однако существует принципиальная разница между причинами, которые привели к этому результату. Лишь первый из трех примеров можно рассматривать как ограничение моей свободы в политическом смысле, поскольку только в этом случае моя свобода была ограничена действиями другого человека. Он мог руководствоваться совершенно легитимными основаниями, издавая запрет лежать на траве в данном конкретном парке, и тем не менее, поскольку я больше не могу этого делать, моя свобода ограничена.
Однако четкой границы между человеческими и природными препятствиями для свободы не существует. К примеру, существуют препятствия, вызванные экономическими или структурными причинами, не имеющими личного характера, то есть несводимыми к действиям какого-либо конкретного человека. Они отличаются от природных препятствий, которые мы не можем рассматривать как ограничение личной свободы индивида, но они отличаются также и от препятствий, возникающих вследствие действий какого-либо человека или учреждения. Является ли массовая безработица в странах Южной Европы ограничением негативной свободы безработных? Если рассматривать безработицу как следствие ошибочной экономической политики, которого можно было избежать, то является. Более наглядным примером будет всеобщий голод, унесший жизни около сорока пяти миллионов человек во время «Большого скачка» в Китае, ставшего одной из крупнейших политических катастроф XX века[180]. Эта катастрофа легко вписывается в теорию Берлина как ограничение негативной свободы, тогда как голод, вызванный исключительно естественными причинами, таким ограничением считаться не может. Амартия Сен показал, что в некоторых случаях всеобщий голод не влечет за собой ограничения чьей-либо негативной свободы[181]. Вместе с тем будет справедливо утверждение, что голодная смерть является серьезным ограничением личной свободы в силу того, что она лишает человека возможности жить так, а не иначе.
Обратимся теперь к бедности. Исайя Берлин испытывает затруднения в вопросе о том, является ли бедность ограничением негативной свободы индивида. С одной стороны, он признает убедительным утверждение о том, что бедность есть негативная несвобода, особенно если она является результатом намеренных человеческих действий[182]. С другой стороны, из его общей концепции негативной свободы следует, что между бедностью и несвободой нельзя поставить знак равенства, поскольку это приведет к наполнению понятия негативной свободы новыми позитивными смыслами и в конце концов к его размытию. Кроме того, не всякая бедность является результатом намеренных человеческих действий. Скорее, бедность является предпосылкой для возникновения всех человеческих обществ, которые с разной степенью успеха борются с этим явлением. Разумеется, существует бедность, вызванная человеческими действиями, но это скорее исключение, чем правило. В общем и целом бедность не следует рассматривать как негативную несвободу с точки зрения философии Исайи Берлина. Это, однако, не означает, что Исайя Берлин считает проблему бедности не связанной с темой личной свободы. Он утверждает, что борьба с бедностью является столь важной задачей, что даже оправдывает некоторые ограничения свободы, но вместе с тем пишет, что даже если материальные ресурсы не равняются свободе, они являются важнейшим условием для ее реализации[183]. В любом случае приходится признать, что эта тема недостаточно освещена в философии Берлина. Если мы не рассматриваем бедность как ограничение негативной свободы индивида, из этого следует, что негативная свобода в действительности не является исчерпывающим определением свободы вообще, поскольку очевидно, что бедность препятствует свободе.
Тот факт, что существуют некоторые неясности и ограничения свободы, которые вместе с тем не являются ограничениями негативной свободы, не означает, что концепция негативной свободы Исайи Берлина ничем не лучше соответствующей концепции Гоббса. Следует заметить, что Берлин существенно расширил понятие препятствий по сравнению с Гоббсом и включил в их число угрозы, обман и манипуляции, которые мешают принятию свободных решений. Кроме того, Берлин не советовал толковать негативную свободу как способность поступать согласно своим желаниям, поскольку в таком случае ему достаточно просто перестать желать свободы. «Если я знаю, что желания мои неосуществимы, я просто должен от них освободиться»[184]. Подобная трактовка негативной свободы полностью вмещает в себя ситуацию, при которой индивид, прикованный к скамье без малейшей возможности пошевелиться, но при этом убедивший себя, что шевелиться ему совершенно не хочется, может считаться свободным, несмотря на то, что это противоречит здравому смыслу. Негативная свобода определяется количеством открытых нам дверей, а не тем, чтобы была открыта именно та дверь, которую мы хотим открыть. Грубо говоря, быть свободным значит иметь несколько доступных вариантов действия. Другими словами, я обладаю свободой выбора, если в моей власти совершить поступок Х или не-Х. Если мне разрешен только не-Х, а Х запрещен, я не имею свободы выбора, поскольку из этого следует, что мне не просто разрешено выбрать не-Х, но этот выбор мне навязан. Таким образом, критерием свободы является возможность выбрать как Х, так и не-Х, независимо от того, что в итоге я выберу только один из вариантов. В этом пункте Берлин сильно расходится с Гоббсом, который считал, что принципиальна доступность только той альтернативы, которую я выбираю. Берлин утверждает, что свобода предполагает наличие и других альтернатив, помимо выбранной.
В либеральной философской традиции часто попадается мнение, что бóльшая свобода, понимаемая как свобода выбора, предпочтительнее меньшей. Будучи типичным представителем этой традиции, Джон Ролз рассматривает свободу как первичное благо, которого всем хочется иметь как можно больше. Он пишет, что людей «не заставляют принимать больше свободы, чем они того желают, но от бо́льшей свободы еще никто не пострадал»[185]. Другими словами, он считает, что при идентичных обстоятельствах нам больше хотелось бы иметь n+1 вариантов действия, чем n, поскольку это дает больше свободы[186]. Всякий человек хочет, чтобы у него было больше, а не меньше альтернативных вариантов действия[187]. Негативная свобода в понимании Берлина – это свобода, которая увеличивает количество вариантов действия. Такое понимание свободы не противоречит тому факту, что в определенной ситуации индивиды предпочитают закрыть глаза на многие из альтернатив, потому что в данных обстоятельствах им хочется выбирать из меньшего количества вариантов. Однако это желание не означает, что у других индивидов тоже должно быть меньше вариантов выбора.
Предположим, я ношу исключительно белые футболки определенной фирмы, определенного размера и фасона. Заходя в магазин одежды, я рассматриваю все остальные фирмы, цвета, размеры и фасоны как «мусор», который только мешает мне найти нужную футболку. Однако это не означает, что я имею право ограничить выбор футболок для других людей, чтобы магазин лучше соответствовал моим потребностям. Можно добавить также, что другие люди не просто имеют право на другие представления о том, какие футболки им следует носить. Многим из них нравится сам процесс выбора футболки среди множества вариантов. Вместо футболок в этот пример можно подставить поставщиков коммунальных услуг или операторов сотовой связи, или что угодно еще. Идея в том, что мои личные предпочтения никак не должны влиять на количество доступных альтернатив. Могут быть веские причины для закрытия некоторых альтернатив, к примеру, если они так или иначе нарушают чьи-то права, но каждое подобное исключение из правила о свободном доступе должно быть убедительно обосновано. Негативная свобода неизбирательна, и ее основной смысл в обеспечении как можно большего количества альтернатив.
Почему так важно, чтобы было доступно как можно большее количество вариантов выбора? Здесь полезно будет обратиться к мысли Амартии Сена о том, что при изучении свободы важно учитывать как аспект возможности, так и аспект процесса[188]. Аспект возможности состоит в том, что чем больше у нас свободы, тем больше мы имеем возможностей достигать своих целей в жизни, а аспект процесса заключается в идее, что важна и сама возможность выбирать. К примеру, одним субботним утром я решаю, что мне хочется еще немного поспать вместо того, чтобы вставать и идти на субботник, проходящий в моем районе. В первом случае я просто следую своему желанию, и никто мне не мешает. Во втором случае жители района оказываются так раздражены тем, что я постоянно пропускаю субботники, что являются ко мне домой и ведут меня на субботник силой. В третьем случае жители района так рассержены на меня за мое отвратительное поведение на прошлом субботнике, что угрожают линчевать меня, если мне вдруг придет в голову прийти на субботник еще раз, так что я остаюсь дома из соображений собственной безопасности. Очевидно, что во втором случае имеет место ущемление моей свободы, поскольку я вынужден действовать вопреки своему желанию. В первом и третьем случае я поступаю так, как мне хочется, поскольку ничто не мешает мне лениться и валяться в кровати еще несколько часов, но статус моей свободы в этих двух случаях весьма различен, поскольку в первом случае я свободно выбираю из двух альтернатив, а в третьем случае я вынужден сделать такой выбор под угрозой насилия. Другими словами, аспект процесса в этих случаях реализуется различным образом, и фактически принуждение меня к той альтернативе, которую я выбрал бы в любом случае, является ущемлением моей свободы. Довольно часто аспект возможности и аспект процесса совпадают друг с другом, но бывает и так, что они находятся в противоречии. Если индивид получает больше вариантов выбора, аспект процесса максимизируется, однако при этом выбор может так усложниться, что результат окажется хуже, чем если бы вариантов выбора было меньше, и таким образом аспект возможности пострадает. И наоборот: индивид может просто доверить процесс выбора другому лицу, например, профессиональному консультанту, чтобы достичь лучшего результата, так что аспект возможности максимизируется, но пострадает аспект процесса. Разные люди придают этим аспектам различное значение и удельный вес: для кого-то важнее полученный результат, а для кого-то возможность принимать самостоятельные решения. По мнению Сена, очень важно обеспечить людям доступ и к аспекту процесса, а не только к аспекту возможности, поскольку сама возможность выбирать является важным элементом нашего благополучия[189].
Берлин полностью осознает, что человеку требуется не только негативная свобода, о чем высказывается следующим образом: «Ведь свобода – не просто отсутствие каких бы то ни было помех: это перегрузило бы само понятие, оно стало бы значить слишком много или не значить ничего»[190]. Понятие негативной свободы в философии Исайи Берлина является по большому счету чисто дескриптивным, оно описывает лишь открытые индивидам возможности и ничего не говорит об их знаниях и отношении к этим возможностям[191], тогда как позитивное толкование свободы с необходимостью будет нормативным. Позитивная свобода состоит в том, что индивид проживает свою жизнь в соответствии с собственными ценностями. Позитивная свобода состоит не в отсутствии посторонних вмешательств, но в контроле над собственной жизнью. Берлин связывает позитивную свободу с вопросом о том, кто нами руководит. Это риторический вопрос, поскольку очевидно, что каждый индивид хочет руководить собой сам. Вот что пишет Берлин:
«Позитивный смысл слова “свобода” проистекает из желания быть хозяином самому себе. Я хочу, чтобы моя жизнь и мои решения зависели от меня, а не от каких бы то ни было внешних сил. Я хочу быть орудием действия, а не подчиняться чужой воле. Я хочу быть субъектом, а не объектом; следовать собственным соображениям и сознательным целям, а не делать что-то под воздействием внешних причин. Я хочу быть кем-то, принимать самостоятельные решения, выбирать направления действия, а не подчиняться силам природы или другим людям, как будто я вещь, животное или раб, неспособный жить по-человечески, то есть определять и осуществлять собственные задачи, собственную стратегию. Это, по крайней мере, часть того, что я подразумеваю, когда говорю, что я разумен и что разум отличает меня, человека, от остального мира. Превыше всего считать себя мыслящим, наделенным волей, активным существом, несущим ответственность за свой выбор и способным его обосновать, ссылаясь на свои идеи и цели. В той степени, в какой мне представляется, что это так и есть, я чувствую себя свободным – и наоборот»[192].
Другими словами, я хочу быть истинным субъектом, а не объектом. Субъекты желают автономии. Для того чтобы индивид был автономен, требуется не просто отсутствие принуждения или внешнего вмешательства, а значит, автономия не сводится к негативной свободе.
Берлин считает такое желание автономии полностью легитимным и открыто заявляет, что позитивная свобода является «законной, универсальной целью»[193]. Однако он считает, что это стремление к автономии может превратиться в угрозу свободе в том случае, если мы начинаем проводить различие между аутентичной и неаутентичной, или истинной и ложной самореализацией, проводимое внешней по отношению к деятелю инстанцией, которая в свою очередь может принудить его реализовать себя способом, определенным этой инстанцией как самостоятельный или истинный.
Критика Берлина направлена не против позитивной свободы вообще, но против извращенного толкования, в котором она превращается в свою противоположность. Представителем такого извращенного толкования является, в частности, Руссо, когда пишет: «Чтобы общественное соглашение не стало пустою формальностью, оно молчаливо включает в себя такое обязательство, которое одно только может дать силу другим обязательствам: если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что его силою принудят быть свободным»[194].
Когда решение о том, каким именно образом человек должен реализовать свою свободу, а также право принуждать его к этому силой, предоставляется обществу, подлинная автономия становится невозможна. В работах Руссо нет места и плюрализму. Как он сам пишет, если после подсчета голосов оказывается, что я проголосовал иначе, чем большинство, значит, я просто ошибся[195]. Чего я «на самом деле» хочу, определяется всеобщей волей, а быть свободным по определению значит быть в согласии со всеобщей волей. Соответственно, действовать в соответствии со своей индивидуальной волей значит быть несвободным, утверждает он[196]. Это есть не что иное, как описание тоталитарного общества, общества тирании большинства. Как отмечает Берлин:
«Манипулируя людьми, толкая их к целям, которые видны нам, социальным реформаторам, а им не видны, мы обращаемся с ними как с безвольными объектами, а значит – их разлагаем. Обманывая людей, используя их для наших, а не ими самими поставленных целей, даже ради их блага, мы, в сущности, поступаем с ними как с недочеловеками, словно их цели менее окончательны и святы, чем наши. Во имя чего я заставляю других делать то, чего они делать не хотели и на что не согласились? Только во имя какой-то ценности, более высокой, чем они сами»[197].
Позитивная свобода может легко внушить мысль, что это и есть истинная свобода, и если кто-то придерживается иного мнения, то он просто ошибается, и ему нужно навязать истинную свободу, как ее понимаю я[198].
Концепции позитивной свободы проникнуты морализаторством: они как минимум нормативны, поскольку все они содержат указания на то, как деятелю следует поступить. Противники понятия позитивной свободы часто представляют позитивную свободу так, словно она предполагает существование одного – и только одного – идеала, который должен быть навязан всем без исключения гражданам, хотя на самом деле нет никаких препятствий к тому, чтобы и позитивная свобода оставляла возможность плюрализма. По-настоящему плюралистическое толкование позитивной свободы вполне возможно, если верить Исайе Берлину. Плюралистическая концепция позитивной свободы практически не противоречит понятию негативной свободы, что подрывает авторитет Берлина, заявлявшего, что понятия позитивной и негативной свободы несовместимы. Впрочем, едва ли это наносит серьезный ущерб его теории в целом.
В одной весьма известной статье Джеральд Маккаллум опровергает проведенное Берлином различие между позитивной и негативной свободой[199]. Он утверждает, что свободу всегда следует понимать как свободу деятеля от чего-то для того, чтобы делать или не делать чего-либо. Впрочем, это возражение построено на неправильном понимании позиции Берлина, им же самим и спровоцированное, поскольку в одном месте он пишет, что свобода в негативном смысле «означает свободу от, отсутствие вмешательства в пределах по-разному определяемых, но всегда различимых границ», и далее он пишет о понятии позитивной свободы: «позитивное понимание свободы не как “свободы от”, а как “свободы для” – для того чтобы вести определенный, предписанный образ жизни»[200]. Такое понимание различия между негативной и позитивной свободой как свободой от и свободой для может быть эффективным с педагогической точки зрения, но если рассматривать его как исчерпывающее определение этих понятий, мы можем прийти к ошибочным выводам. Сам Берлин прекрасно осознает, что как негативная, так и позитивная свобода могут одновременно быть и свободой от, и свободой для. И все же он подчеркивает, что борющийся за свободу раб едва ли нуждается в более детальном представлении об этом понятии, чем простое желание перестать быть рабом[201]. Различие, которое он пытается провести, можно сформулировать точнее, пояснив, что негативная свобода открыта, а позитивная свобода закрыта, или что негативная свобода является общей, а позитивная более конкретной[202]. Можно даже сказать, что негативная свобода – это чистая возможность: она касается скорее возможных, нежели фактических действий[203]. Именно поэтому так поразительно, когда Берлин описывает эту свободу как «отсутствие всяких препятствий возможным решениям и действиям – отсутствие препятствий на всех путях, которыми может пойти человек. Такая свобода в конечном счете зависит не от того, как далеко и в каком направлении я хочу идти, но от того, сколько дверей мне открыто, насколько они открыты и какую роль каждая из них играет в моей жизни»[204]. Куда ведут эти пути и двери, неизвестно: это может быть свобода учить философию или смотреть сериал по телевизору, нюхать кокаин или быть принципиальным трезвенником, помогать старушкам перейти дорогу или издеваться над ними. Понятие негативной свободы в принципе не налагает никаких ограничений на то, какие именно возможности будут реализованы. Разумеется, у нас могут быть основания считать одни варианты более достойными и предпочтительными, а другие аморальными или банальными, однако подобные оценки не входят в понятие негативной свободы и никак из него не следуют. Понятие негативной свободы не отдает предпочтения никакому из способов самореализации, а лишь определяет внешние границы, в рамках которых эта самореализация будет происходить. Далее необходимо установить границы самой негативной свободы, прежде всего потому, что некоторые варианты действий будут нарушать неприкосновенность прав других людей. Эта мысль была очень четко сформулирована Кантом:
$$$«Свобода [члена общества] как человека, принцип которой в отношении устройства общества я выражаю в следующей формуле: ни один не может принудить меня быть счастливым так, как он хочет (так, как он представляет себе благополучие других людей); каждый вправе искать своего счастья на том пути, который ему самому представляется хорошим, если только он этим не наносит ущерба свободе других стремиться к подобной цели – свободе, совместимой по некоторому возможному общему закону со свободой всех (т. е. с их правом искать счастья)»[205].
Мы можем сформулировать иначе: поскольку счастье неопределенно, негативная свобода тоже должна быть открытой и неопределенной.
Свобода должна пониматься как возможность контролировать собственную жизнь, придавать ей желаемую форму. Тогда свободой индивида будет охвачен не только вопрос о существующих негативных ограничениях свободы, но и вопрос о доступных позитивных альтернативах – как потенциальных, так и реальных. В принципе, можно обладать негативной свободой, не обладая при этом позитивной, то есть быть свободным от постороннего вмешательства, но не быть при этом автономным, к примеру из-за психического заболевания, которое подрывает автономию; но нельзя обладать позитивной свободой, не обладая негативной, поскольку автономия подразумевает наличие альтернатив, свободу выбора, не ограниченную другими деятелями. Таким образом, любое полноценное описание феномена свободы должно включать в себя оба эти понятия.
Чарльз Тейлор обвиняет либеральную философскую традицию в одностороннем подходе, утверждая, что она основывается лишь на понятии негативной свободы, которая состоит в отсутствии внешних препятствий. У чисто негативного понятия свободы есть совершенно нелепые импликации, а кроме того, оно не дает объяснения многим важнейшим аспектам либерального общества, считает Тейлор. Во-первых, негативное понятие свободы не может объяснить различие между более важными и менее важными свободами человека[206]. Тейлор утверждает, что свободу следует понимать как отсутствие препятствий, мешающих нам делать то, что важно для нас. Согласно Тейлору, наше обыденное понимание свободы включает в себя понятие о важном и неважном, так что мы не воспринимаем потерю нерелевантных или не имеющих для нас ценности возможностей как ограничение нашей свободы. На это можно возразить, что потеря даже малозначительных возможностей тем не менее остается ограничением свободы, а также что в понятие негативной свободы не входит такой критерий, как важность утраченной альтернативы. Приверженец понятия негативной свободы без труда признает, что некоторые возможности важнее других, а следовательно, потеря некоторых возможностей ограничивает свободу сильнее, чем потеря других. Здесь важно то, что оценка важности или неважности возможности не входит в понятие негативной свободы, но является скорее вопросом оценки, которую предпринимает сам субъект. К этому можно добавить, что достоинство понятия негативной свободы как раз и заключается в том, что оно не проводит различия между важными и неважными возможностями, оставляя этот вопрос открытым.
Ядром свободы является способность делать выбор, а остальные стороны свободы являются либо предпосылками, либо следствиями этой фундаментальной способности. Из этого следует, в частности, что свобода увеличивается, когда увеличивается количество вариантов выбора. Такой чисто количественный подход не учитывает качественные различия между вариантами, что, однако, не означает, что качественные различия не имеют значения. Некоторые решения важнее других. Возможность выбрать критическое отношение к правительству страны важнее возможности выбора между соленым и несоленым арахисом. Однако далеко не факт, что любой другой человек расставит приоритеты так же, как и я, поскольку для кого-то свободный доступ к арахису может оказаться важнее свободы слова. И у каждого индивида должна быть возможность свободно совершать такой выбор, и не существует никакой объективной матрицы, в которой можно было бы разместить все возможные варианты выбора в соответствии с их значимостью. И все же существуют некие правовые понятия, которые позволяют грубо дифференцировать варианты: существует универсальное право на свободу слова, но нет никаких универсальных законов, регулирующих доступ к соленому арахису. Приверженец понятия негативной свободы сказал бы, что всякий индивид при любых обстоятельствах должен иметь возможность свободно выражать свое мнение, а кроме того, всякий человек имеет право есть соленый арахис, если ему так хочется, однако никто не обязан обеспечивать его этим соленым арахисом. Таким образом, возражения Тейлора не подрывают теорию негативной свободы.
Далее Тейлор подчеркивает, что не только внешние, но и внутренние препятствия свободе имеют значение. Чтобы быть по-настоящему автономным, индивид должен не только быть в состоянии действовать в соответствии со своими предпочтениями, но и сами эти предпочтения должны быть аутентичными. Они не будут аутентичными в том случае, если основаны на ошибочных представлениях, иррациональном страхе и тому подобном. Тейлор пишет: «Ты не свободен, если ты движим мотивацией – страхом, навязанными стандартами или ложным сознанием, – которая противоречит твоей самореализации»[207]. Далее Тейлор подчеркивает, что «сам субъект не может быть высшей инстанцией в вопросе о том, насколько он свободен, поскольку субъект не может авторитетно судить, насколько аутентичны его желания, а также насколько эти желания способствуют или препятствуют достижению его цели»[208]. Лишая индивида власти оценивать аутентичность своих собственных предпочтений, поскольку эти предпочтения могут быть основаны на неадекватном представлении индивида о самом себе и окружающем мире, Тейлор, судя по всему, склоняется к патернализму и именно к тому пониманию свободы, от которого нас предостерегает Исайя Берлин. И все же это не совсем верно, поскольку Тейлор не считает, что существуют какие-либо другие высшие авторитеты, будь то политические власти или системы экспертной оценки. Кроме того, Тейлор соглашается с мнением, что существует слишком мало концепций аутентичности и хорошей жизни, чтобы одна из них могла служить универсальным определением хорошей жизни и настоящей аутентичности. Из этого следует, что понятие позитивной свободы у Тейлора тоже будет плюралистическим, а это, как мы уже упоминали, вполне вписывается в теорию Берлина.
Берлин вовсе не является таким непримиримым борцом за чисто негативное понимание свободы, каким его зачастую считают. Сам он открыто заявляет, что не пытался обосновать понятие негативной свободы как единственно верное, так же как не отрицал понятия позитивной свободы, поскольку такая позиция была бы примером монизма и нетолерантности, против которых направлена вся его философия[209]. Кроме того, Берлин не считает негативную свободу единственной или высшей из всех ценностей, которую непременно следует максимизировать. К примеру, Берлин пишет следующее: «Аргумент в пользу интервенций со стороны государства или других действующих лиц с целью обеспечить индивидам условия для реализации как позитивной, так и минимального объема негативной свободы, сложно опровергнуть»[210]. Он решительно отвергает политику laissez-faire, полного невмешательства[211]. Он формулирует весьма важную мысль: «Пределы свободы человека или народа выбирать жизнь в соответствии со своими устремлениями нужно соизмерять со многими другими ценностями, среди которых, возможно, самыми очевидными будут равенство, справедливость, счастье, безопасность, общественный порядок. По этим соображениям, свобода не может быть безграничной»[212]. Он выражает эту мысль так ясно, что сложно понять, почему столь многие считали его фанатичным сторонником исключительно негативной свободы. Он подчеркивает, что его философия не разделяет мир на «негативную свободу и другие, незначительные ценности», что в действительности все намного сложнее[213].
Берлин показал, что две упомянутые концепции свободы могут содержать совершенно несовместимые трактовки одного и того же идеала, а именно политической свободы. К примеру, понятие позитивной свободы может подразумевать государственное вмешательство в таком объеме, какой является совершенно неприемлемым с точки зрения негативной свободы. Из этого следует, что невозможно максимизировать негативную и позитивную свободу одновременно. Таким образом, политическая свобода включает в себя некоторый объем как позитивной, так и негативной свободы, а соотношение этих объемов зависит от каждого конкретного общества и исторического контекста. Берлин даже не возражает против некоторого ограничения негативной свободы, но настаивает на том, что подобное ограничение всегда должно считаться ущемлением индивидуальной свободы, независимо от того, насколько благие цели оно преследует[214]. Каждое подобное ограничение должно быть убедительно обосновано существованием другой ценности, которая в данном конкретном случае имеет больший вес. Поскольку не существует универсального правила, устанавливающего соотношение между позитивной и негативной свободой[215], должны существовать определенные нормы минимального объема негативной свободы, которые обязано соблюдать любое общество. Кроме того, Берлин настаивает, что чем сильнее ограничение негативной свободы, тем более убедительным должно быть обоснование.
Я в целом согласен с концепцией негативной и позитивной свободы, предложенной Берлином, и надеюсь, что в этой главе мне удалось развеять некоторые недоразумения, связанные с его теорией. Тем не менее остаются еще проблемы, связанные с отношениями между его плюрализмом и его либеральной теорией: насколько одно следует из другого и насколько они вообще совместимы друг с другом. Далее, понятие негативной свободы подверглось суровой критике со стороны современных республиканских теоретиков. Кроме того, идеи Берлина о позитивных предпосылках для свободы малоубедительны. Все эти вопросы мы обсудим в экскурсе, посвященном плюрализму ценностей, а также в следующих главах.
Экскурс: плюрализм ценностей и моральный реализм
Как сопоставить негативную и позитивную свободу? Существует ли объективная норма, определяющая, где должна проходить граница, и является ли эта норма универсальной повсеместно и во все времена? Берлин ответил бы на этот вопрос отрицательно, поскольку он придерживается идеи о плюрализме ценностей.
$$$«Плюрализм, с вытекающей из него долей “негативной” свободы, представляется мне более верным и более гуманным идеалом, чем цели тех, кто ищет в авторитарных структурах идеал “позитивного” самоопределения классов, народов и всего человечества. Он более верен, поскольку, по крайней мере, признает множественность человеческих целей, несоизмеримость многих из них и вечное соперничество друг с другом. Исходное положение, согласно которому можно сопоставить их на одной шкале так, чтобы определить наивысшую, по-моему, искажает наши знания о том, что люди – свободные деятели, представляя моральное решение как операцию, которую в принципе можно проделать с помощью логарифмической линейки. Говоря, что в каком-то окончательном, всепримиряющем и в то же время осуществимом синтезе долг – это и есть интерес, а индивидуальная свобода и есть чистая демократия или авторитарное государство, мы набрасываем метафизическое покрывало либо на самообман, либо на заведомое лицемерие. Плюрализм человечнее, потому что во имя отдаленного и непоследовательного идеала не лишает людей многого из того, что сами они считают в своей жизни незаменимым. В конце концов, люди делают выбор из конечных ценностей; а делают они его потому, что мысли их определяются фундаментальными нравственными категориями и представлениями, которые, во всяком случае, на протяжении больших отрезков времени и пространства, остаются частью их бытия, их мышления, их чувства собственной идентичности – словом, частью того, что делает их людьми»[216].
Подобный плюрализм ценностей как феномен действует не только в отношениях между отдельными людьми и группами, но также в человеческой душе. Очевидно, что конфликты ценностей могут иметь место не только между членами одной религиозной или светской группы, но и внутри отдельного индивида, сложная социальная идентификация которого построена на ценностях, влекущих его в противоположных направлениях. Даже если я просто опишу себя как «либерального демократа», внутри этой идентификации могут случиться серьезные конфликты ценностей. Я буду считать, что свобода, равенство и благосостояние являются центральными ценностями, однако не очевидно, каков удельный вес каждой из этих ценностей в отдельности.
При этом плюрализм ценностей ни в коем случае не следует воспринимать как негативное явление. Он может также обогащать нашу жизнь, открывая нам новые способы бытия. Он может вызывать проблемы постольку, поскольку различные ценности и образы жизни противоречат друг другу, и в этом случае большинство не должно решать проблему путем простого подавления меньшинства и навязывания своих ценностей и образа жизни. Как подчеркивает Джон Грей, нам не обязательно иметь общие ценности для того, чтобы жить вместе, но нам нужны учреждения, которые обеспечат мирное существование различных жизненных укладов[217]. Подобное сосуществование подразумевает, очевидно, и негативную свободу. Однако возникает следующая проблема: если существует множество различных ценностей, которые невозможно ранжировать в соответствии с некой объективной шкалой, то и негативную свободу можно рассматривать как лишь одну из таких ценностей. Берлин в нескольких местах говорит именно об этом[218]. С другой стороны, во многих текстах, посвященных двум понятиям свободы, упоминается, что плюрализм требует определенной степени негативной свободы. Эти утверждения явно противоречат друг другу, поскольку если определенный объем негативной свободы с необходимостью следует из плюрализма ценностей, значит, негативная свобода является не «всего лишь» одной из многих ценностей, но скорее необходимым элементом каждого общества, в котором уважают плюрализм.
Плюрализм ценностей является краеугольным камнем философии Берлина. Люди имеют право стремиться к целям, которые не просто непохожи, но противоречат друг другу. По моему мнению, плюрализм ценностей для Берлина даже важнее, чем либерализм, что означает, что он обосновывает либерализм при помощи плюрализма ценностей, а не наоборот[219]. В одной из своих работ Берлин пишет, что либерализм и плюрализм являются логически независимыми понятиями[220], а кроме того, он утверждает, что может представить себе такую форму догматического и деспотического либерализма, в котором плюрализм не поддерживается[221]. С этой точки зрения между понятиями нет никакой устойчивой корреляции, однако Берлин также утверждает, что либерализм следует из плюрализма[222]. Факт плюрализма ценностей, с точки зрения Берлина, является сильным аргументом против навязывания гражданам определенного и единого образа жизни. Все дело в том, что принцип плюрализма ценностей в каждом отдельно взятом нормальном обществе требует предоставления гражданам определенного объема негативной свободы. Впрочем, этот пункт философии Берлина, согласно которому плюрализм ценностей поддерживает либерализм, является довольно спорным. Одним из самых непримиримых критиков этой мысли является Джон Грей, утверждавший, что все обстоит с точностью до наоборот, и плюрализм ценностей на самом деле подрывает либерализм[223]. Чтобы решить, кто из них прав, нам нужно получше разобраться в том, как именно Берлин трактует плюрализм ценностей.
Необходимо подчеркнуть, что Исайя Берлин не придерживается релятивистских взглядов ни на эмпирические, ни на нормативные величины. Любые дескриптивные или нормативные представления непременно продемонстрируют свою ценность в столкновении с действительностью, в ходе которого одни представления окажутся более адекватными, чем другие. Широко распространенное среди философов беспокойство по поводу того, что плюрализм ценностей делает невозможными рациональные суждения, не оправдано практикой. Люди постоянно выносят такие суждения, и либо все эти суждения иррациональны, либо философская идея о единой нейтральной шкале ошибочна[224]. Когда философия настолько сильно расходится с тем, что мы наблюдаем в действительности, то, как правило, проблема заключается не в действительности. Мы не можем делать заявления о чем угодно, не корректируя наши высказывания с учетом действительности. И тем не менее, существует множество зачастую несовместимых представлений, которые выдерживают такую проверку реальностью. Во всех этих идеях Берлин показывает себя явным плюралистом. И тем не менее он считает, что существуют значительные пересечения между различными представлениями, и именно на них основывается наша способность рационально обосновывать наши взгляды:
$$$«Под рациональностью я подразумеваю, что мои решения не случайны, не лишены рационального объяснения, но могут быть обоснованы при помощи моей шкалы ценностей, моей жизненной стратегии и образа жизни, цельного мировоззрения, которое не может не быть в значительной степени связанным с другими людьми, которые составляют общество, нацию, партию, религию, класс и вид, к которым я принадлежу… Люди, в силу того, что они являются людьми, имеют достаточно общего в биологическом, психологическом и социальном смысле, чтобы жить в социуме и сформировать общественную мораль»[225].
Он идет и дальше, утверждая: «Существуют универсальные ценности. Это эмпирический факт из жизни человечества… Существуют ценности, которые являются общими для большого количества людей в разных концах мира, в разные времена и в самых различных ситуациях, что выражается осознанно и явно или же становится ясным по их поведению, жестам и действиям»[226]. Далее он описывает «объективные, часто несовместимые человеческие ценности, среди которых мы должны совершать зачастую болезненный, но необходимый выбор»[227]. Это говорит о том, что Берлину присущ моральный реализм.
Моральный реализм утверждает, что моральные ценности объективны, то есть они существуют в действительности и не зависят от наблюдателя, и Берлин совершенно открыто заявляет, что «существует мир объективных ценностей»[228]. Большинству людей это кажется весьма правдоподобным[229]. Когда мы обсуждаем вопросы морали, то обычно думаем, что мы говорим о чем-то сущностном, что в этой дискуссии могут быть верные и неверные ответы, и пытаемся найти верные. Мы не считаем, что речь идет лишь о субъективных представлениях, но уверены, что существует нечто, по отношению к чему эти представления могут быть адекватны или неадекватны. Моральный реализм кажется нам весьма убедительным, поскольку он соответствует нашим ощущениям, руководствуясь которыми мы выносим этические суждения. Этические суждения кажутся нам теми же когнитивными суждениями, то есть суждениями, которые могут быть верны или ошибочны в данных обстоятельствах. Если кто-то говорит: «Мы должны помогать беднякам» или «Геноцид евреев был ужасным злом», то он считает эти высказывания не просто фактом своей эмоциональной жизни. Фразы «Геноцид это зло» и «Мне неприятно думать о геноциде» не равнозначны. Кстати, это одна из причин этических разногласий. Если я, к примеру, считаю, что помогать бедным не следует, я рассматриваю утверждение о том, что им следует помогать, как суждение, могущее быть истинным или ложным – и я считаю его ложным. Тем самым мы предполагаем, что наши этические суждения имеют такую характеристику, как истинность или ложность. Если мы считаем моральные суждения всего лишь выплесками эмоций, не имеющими никаких объективных предпосылок, то никаких этических разногласий в принципе существовать не может, могут быть только эмоциональные разногласия. Моральный реалист всегда является когнитивистом, и это означает лишь то, что моральные ценности являются когнитивными явлениями и что этические суждения выражают наши представления об этических фактах, которые мы можем узнать посредством моральной рефлексии и тому подобного.
Далее, моральный реалист скорее всего является универсалистом, то есть считает, что мораль является универсальным явлением. Эта мораль является обязательной независимо от того, признается ли она людьми, случайно родившимися в определенном месте в определенное время. Она не является дескриптивным утверждением о том, чего желают и чего не желают, во что верят и во что не верят люди. Она сама устанавливает требования касательно того, во что мы должны верить, чего должны желать и какими ценностями должны руководствоваться, будучи этическими существами. Такая мораль может существовать, даже если никто не смог полностью познать ее. Другими словами, мораль есть нечто, относительно чего мы все в принципе можем ошибаться. Именно поэтому этические разногласия не являются серьезным аргументом против универсальной морали. Значительные разногласия по моральным вопросам логически полностью совместимы с теорией универсального морального реализма, поскольку с точки зрения этой теории кто угодно может иметь неправильные представления об истинной морали. Впрочем, это не означает, что любые контраргументы здесь совершенно бессильны. Если мы сравним этику и науку, то увидим, что в обеих областях возникало – и возникает по сей день – множество разногласий. Разница заключается в том, что в науке со временем, как правило, удается разрешить разногласия и найти верный ответ, даже если старые ответы постепенно замещаются новыми. Научный реалист сказал бы, что ученым удается прийти к согласию потому, что им удается установить, какой «на самом деле» является действительность. В области морали подобное согласие едва ли возможно. Необходимо уточнить, что моральный реалист не обязан думать, что мы всегда сможем найти рациональное решение этических конфликтов – для этого этические понятия слишком расплывчаты и неопределенны. Но моральный реалист всегда будет утверждать, что, как правило, мы можем подвергнуть этические нормы рациональной оценке.
Берлин, как уже говорилось, является моральным реалистом, однако между этим реализмом и его плюрализмом существует некоторый конфликт, равно как и между его плюрализмом и универсализмом. Он открыто заявляет, что существуют некоторые универсальные и признанные всеми культурами человеческие права, которые могут считаться эмпирическими предпосылками к жизненному благополучию[230]. В этом он согласен со Стюартом Хэмпширом, который пишет:
«Существуют границы, установленные общечеловеческими потребностями в обеспечении условий, при которых человек и человеческое общество могут процветать. История знает примеры многих укладов, при которых эти границы нарушались»[231].
Тот, кто разделяет с Берлином его идеал плюрализма ценностей, едва ли смог бы поддержать платоновскую концепцию идеального государства или нечто подобное: ему достаточно знать, что есть некие минимальные условия, которые должны быть соблюдены в любом нормальном обществе, и что на этом фундаменте может быть построено бесчисленное количество непохожих, одинаково легитимных и, возможно, несовместимых моделей государства[232]. Берлина следует понимать так, что плюрализм является свойством действительности, а не только наших представлений о ней, и что существуют некоторые фундаментальные права, которые стоят выше этого плюрализма и должны действовать повсеместно. Поскольку он строит свою философию на таком универсалистском основании, ему проще защищать идею негативной свободы, чем если бы он был релятивистом, поскольку универсализм дает ему возможность утверждать, что негативная свобода является не просто одной ценностью среди многих, но содержит в себе необходимые предпосылки для благосостояния в любом возможном обществе.
Несмотря на то, что универсального правила для определения соотношения между негативной и позитивной свободой не существует[233], должен существовать минимальный необходимый объем негативной свободы, который определяется некоторыми фундаментальными правами и не может быть уменьшен ни ради позитивной свободы, ни ради любых других благ. Это будет вызывать конфликты ценностей, которые невозможно разрешить при помощи некоего нейтрального принципа. И все же когда подрывается одно из фундаментальных прав, оно немедленно становится приоритетом. Здесь возникает вопрос, какие же именно права имеют такой фундаментальный статус. Берлин не дает ответа на этот вопрос, но я постараюсь сделать это в девятой главе.
7 Республиканское понятие свободы
В последние годы понятия позитивной и негативной свободы часто подвергались нападкам со стороны республиканских теоретиков. «Республиканизм» в данном случае служит обозначением традиции в политической философии, которая берет начало в работах Макиавелли и продолжается в трудах Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона, не минуя таких мыслителей, как Мильтон и Монтескьё. Многие прослеживают ее истоки уже в античном Риме и у Цицерона. В современной политической философии республиканизм является направлением, которое считает себя продолжением и развитием классического республиканизма, и представители этого направления весьма критически относятся к либерализму и связанной с ним концепции негативной свободы[234]. Не вполне ясно, каким образом республиканизм и либерализм соотносятся друг с другом. Ряд мыслителей, таких как Монтескье и Томас Джефферсон, считаются важнейшими представителями в обеих традициях. Либеральные философы сегодня часто считают республиканизм не чем иным, как раздутым элементом либерализма, не представляющим реальной альтернативы самому либерализму[235]. Республиканцы, как правило, признают родство обеих систем, однако рассматривают республиканизм как серьезную альтернативу либерализму. Маурицио Вироли, напротив, утверждает, что они не являются альтернативой друг другу и что либерализм есть не что иное, как куцый и непоследовательный вариант республиканизма[236]. Диалог между двумя традициями осложняется также превратными представлениями, к примеру, представлением республиканцев о том, что либерализм основан исключительно на понятии негативной свободы, причем в трактовке Гоббса, тогда как в действительности либеральная концепция свободы гораздо сложнее. Я решил включить в книгу краткое изложение республиканской концепции свободы не с целью разрешить противоречия двух этих идеологий, но лишь для того, чтобы указать на некоторые сильные и слабые стороны этой концепции.
Два наиболее авторитетных теоретика современного республиканизма – это Филип Петтит и Квентин Скиннер[237]. Позиции и точки зрения Петтита и Скиннера различаются: в частности, Петтит более систематичен, а Скиннер более историчен, однако в их взглядах достаточно сходства, чтобы считать их представителями одного философского течения в этой связи[238].
Один возможный угол зрения на соотношение между республиканизмом и либерализмом связан с именем Бенжамена Констана, который считал эти идеологии «свободой древних» и «свободой новых» соответственно[239]. Первая форма – это свобода, подразумевающая участие граждан, которые имеют право непосредственно влиять на политику посредством дебатов и голосований в общественных учреждениях; такая форма свободы наиболее уместна в относительно небольших и однородных обществах. Вторая, современная форма свободы основана на правовом государстве, гражданских правах и воздержании государства от серьезных вмешательств в частную жизнь. В таком государстве влияние граждан на политическое управление будет более опосредованным – просто в силу размеров государства – и реализовываться через выбранных представителей. Констан утверждает, что свобода древних уже невозможна в современном мире, но это не означает, что он полностью отрицает ее. Напротив, он настаивает на том, чтобы свести эти две формы в одну, поскольку несмотря на то, что свобода древних устарела с исторической точки зрения, она содержит в себе элементы, необходимые свободе новых для того, чтобы избежать дегенерации: «Опасность для современной свободы заключается в том, что мы легко отказываемся от нашей доли в политической власти, поскольку мы слишком заняты нашей личной независимостью и преследованием собственных интересов»[240]. Другими словами, Констан считает, что современная форма свободы слишком легко лишается своего политического содержания, поскольку людей уже не волнует, каким образом управляется государство, если никто не вмешивается в их личную жизнь. Мы не будем следовать далее за нитью рассуждений Констана, но ограничимся возможностью принять на вооружение проведенное им различие между двумя точками зрения на свободу, одна из которых придает большое значение участию граждан в политике, а другая – их правам.
Обратимся теперь к республиканской критике либеральной концепции свободы. Стандартным аргументом республиканских теоретиков является то, что чисто негативное понятие свободы никуда не годится, поскольку допускает парадокс «свободного раба». Если хозяин предоставляет рабам относительное самоуправление и дает им возможность поступать в быту согласно их желаниям, тем самым не препятствуя жить, как им хочется, и не принуждая их к тому, чего они не желают, то с точки зрения негативной свободы такие рабы могут считаться свободными. Такая ситуация противоречит нашей интуиции, согласно которой человек, являющийся собственностью другого человека, не может быть свободен, а следовательно, у концепции свободы, допускающей такие импликации, имеются серьезные недостатки.
Петтит и Скиннер предлагают другую концепцию, в которой свободен тот человек или группа людей, которые не подчинены «произвольной власти» других людей. С этой точки зрения раб не является свободным, поскольку он подчиняется «произвольной власти» рабовладельца независимо от того, использует ли рабовладелец эту власть для того, чтобы заставить раба действовать определенным образом, или нет. Скиннер пишет: «Рабы не бывают свободными, поскольку они всегда находятся под властью своего господина; их действия неизбежно подчиняются чужой воле. Следовательно, действия раба всегда будут отражением того, что позволяет ему его господин. Из этого в свою очередь следует, что раб не влияет на свои решения даже в тех случаях, когда непосредственное вмешательство отсутствует»[241]. Возникает вполне справедливое возражение, что подобное обобщение слишком грубо и не учитывает важных деталей. Одно дело утверждать, что ни один раб не свободен – что является безусловной правдой, – и совсем другое заявлять, что все рабы несвободны в равной степени. Если мы сравним раба Х, который ходит без оков и может в принципе делать все, что ему захочется, с рабом Y, который закован в цепи и никогда не может поступать согласно своим желаниям, едва ли будет уместно считать их одинаково несвободными. Разумеется, в общем и целом они оба несвободны, и все же кажется очевидным, что Y значительно более несвободен, нежели Х, по крайней мере, с точки зрения негативной свободы. В таком случае существует некий важный аспект понятия свободы, не учтенный республиканской трактовкой, но присутствующий в концепции негативной свободы.
Далее следует отметить, что республиканское понятие свободы негативно, поскольку свобода понимается как отсутствие чего-то. Петтит в своих формулировках довольно близок к тому, что пишет Берлин:
«То, что свобода в идеальном случае означает для республиканцев, подразумевает не только что все двери должны быть открыты, но и то, что нет никакого стража, который может их закрыть, запереть или скрыть от нас без особых усилий; не существует стража, от чьей доброй воли зависит, какие двери открыты для нас»[242]. По мнению Берлина, равенство проявляется в том, что свобода зависит от наличия разных альтернатив действия, и существует другой деятель, который может закрывать эти альтернативы. Республиканское понятие свободы отличается от понятия свободы в философии Берлина тем, отсутствие чего именно требуется для возникновения свободы: не внешнего вмешательства вообще, но совершенно конкретного типа власти. Приверженец понятия негативной свободы сочтет, что республиканская трактовка не добавляет к пониманию негативной свободы как отсутствию внешнего вмешательства ничего нового и подробно рассматривает лишь один аспект этого понятия. На это республиканец может возразить, что его понятие свободы можно сформулировать более позитивно, например, следующим образом: быть свободным значит быть гражданином государства, в котором все равны и никто никому не господин, и таким образом республиканское понятие свободы обладает более обширным содержанием, нежели традиционное понятие негативной свободы.
Тогда возникает следующий вопрос: является ли республиканское понятие свободы более адекватным, чем негативная свобода? Как мы уже видели, оно более убедительно решает проблему «свободного раба», хотя тут же возникает новая проблема, поскольку получается, что все рабы в равной степени несвободны. Множество проблем связано и с другими примерами. Давайте представим себе государство, в котором все равны и никто не является ничьим господином – то есть государство, в котором ни один гражданин не подчиняется «произвольной власти» других. В республиканском понимании этого достаточно, чтобы быть свободным. Однако в таком государстве вполне могут сформироваться условия, при которых граждане не смогут реализовать свою свободу. В описываемом республиканском обществе действует всеобщее право голоса. Кроме того, все правила и законы обнародуются, и они не являются произвольными, поскольку каждый гражданин принял участие в их формировании путем голосования, либо прямого, либо при помощи механизма репрезентативной демократии. Тем самым все критерии республиканской свободы выполнены. И тем не менее мы имеем полное право развить идею и представить себе, что в этом обществе все вопросы решаются волей большинства вплоть до мельчайших деталей. К примеру, все обязаны носить одинаковую одежду, а именно длинные коричневые балахоны из конопли. Вся еда, кроме выращенных экологически чистым способом овощей, находится под запретом, а кроме того, запрещено обсуждать религиозные вопросы на публике, поскольку это может привести к социальным беспорядкам. Все граждане обязаны своевременно узнавать о новых законах и правилах, которые передаются по радио ежедневно в 21:00, так что все граждане должны непременно слушать эти передачи. Подобные детали можно придумывать до бесконечности. Такое общество, в котором пространство для свободного индивидуального выбора постепенно сводится к минимуму, вполне совместимо с республиканским пониманием свободы, при том что едва ли мы согласимся считать граждан такого общества действительно свободными. Поэтому республиканское понятие свободы тоже оказывается неполным.
Республиканец может попробовать решить эту проблему путем введения дополнительного определения «произвольной власти», которое исключит возможность возникновения подобных абсурдных деталей. Проблема в том, что республиканское понятие «произвольной» власти довольно непросто объяснить. Власть строится на целой сети окружающих нас отношений, и во многих из них мы принимаем самое непосредственное участие. Республиканизму придется ответить на вопрос, какие именно качества этих отношений делают власть «произвольной», а следовательно, нелегитимной в соответствии с республиканским пониманием свободы. Филип Петтит пытался внести ясность в этот вопрос посредством утверждения, что власть произвольна, если она не находится в согласии с благополучием и мировоззрением тех, кто ей подчиняется[243]. К сожалению, не вполне ясно, что под этим подразумевается и что из этого следует. Когда речь идет о благополучии индивидов, можно понять это так, что речь идет об их просвещенных личных интересах, то есть тех интересах, которые индивид должен преследовать, если он может считаться рациональным. Однако это не обязательно будет согласовываться с мировоззрением индивида. Вполне вероятно, что описанный выше уклад жизни, при котором люди едят только выращенные экологическим способом овощи и т. д., будет способствовать соблюдению просвещенных интересов индивида, поскольку овощи полезны для здоровья, но что если индивид ненавидит овощи и считает, что экологическое производство – это полная чепуха? Тогда возникнет конфликт между просвещенными – или объективными – интересами индивида и его фактическими субъективными предпочтениями. Конфликт может быть решен, если предпочтение будет отдано объективным интересам. Однако тогда мы оказываемся в ситуации, в которой все фактические предпочтения индивида могут быть отметены заботливым патерналистским государством, а это, по правде говоря, совсем не похоже на свободу. Сложно представить, каким образом Петтит на основе своей теории мог бы сформулировать принципиальные ограничения для патерналистских вмешательств государства в жизнь граждан. В принципе можно запретить всю вредную еду и потенциально вредные телепрограммы, не вступая при этом в противоречие с его концепцией свободы. Альтернативным решением конфликта было бы последовать за личными предпочтениями индивида и сказать, что власть не произвольна, поскольку граждане могут поступать в соответствии со своими фактическими субъективными предпочтениями. Проблема такого решения заключается в том, что едва ли мы можем представить себе государство, в котором все граждане всегда могут поступать в соответствии со своими личными предпочтениями, а следовательно, всякая власть во всяком обществе произвольна, что придает республиканской теории утопический характер. Более умеренное толкование состоит в том, что интересы и предпочтения отдельных граждан должны учитываться при принятии всех политических решений, к примеру, посредством голосования. Проблема такого толкования в том, что мы возвращаемся к сценарию, при котором голос меньшинства будет услышан при голосовании, однако подавлен большинством, так что большинство получит возможность регулировать жизнь всего общества до мельчайших деталей. Очевидно, что «произвольная власть» может быть реализована в том числе и демократическим большинством. Это следует, в частности, из следующего пассажа у Петтита: «Общество доминирует над индивидом в том смысле, что даже если оно не вмешивается в частную жизнь этого индивида, оно имеет произвольную власть для такого вмешательства: существует не очень много таких ограничений или последствий, которые могут этому помешать. И если индивид не сталкивается с плохим обращением, то лишь потому, что власть имущие проявляют милость или же это соответствует их интересам»[244]. Здесь следует отметить, что Кондорсе еще в 1785 году предостерегал против «максимы, распространенной среди как старых, так и новых республиканцев, согласно которой меньшинством можно законно пожертвовать в пользу большинства»[245]. Кроме того, совершенно очевидно, что все мы обладаем «произвольной властью» вмешиваться в жизнь других людей. Лишить нас этой произвольной власти значит предпринять столь масштабное вмешательство в нашу жизнь, что не снилось и самым тоталитарным обществам в истории. Другими словами, республиканизм должен в своем определении произвольной власти ограничиться лишь некоторыми ее типами.
Петтит формулирует более точный критерий, когда пишет, что государство не реализует произвольную власть, если оно служит интересам, которые могут разделить все его граждане[246]. Далее он добавляет, что это правило действительно даже в том случае, когда отдельные граждане хотят чего-то другого, если только при этом не нарушаются их интересы. Если совместимыми с понятием свободы, а следовательно, легитимными могут быть только те законы, которые поддерживаются абсолютно всеми гражданами, то практически каждый реальный закон можно назвать нелегитимным, так как на каждый закон найдется хоть один несогласный. Подобная позиция настолько эксцентрична, что едва ли уместна в политической философии, которая стремится сохранить хоть какой-то контакт с реальной политикой. Петтит упоминает об этом и потому добавляет, что легитимность закона не ставится под вопрос в том случае, если несколько человек по этому поводу несогласны с мнением абсолютного большинства. Проблема в том, что это снова приводит нас к отсутствию принципиальных границ для того, чтó может решить большинство в ущерб меньшинству. Петтит пытается ответить на это возражение и говорит, что возможность такой ситуации, при которой большинство может просто отмести возражения меньшинства, «свидетельствует о возможном, а не реальном доминировании»[247]. Этот аргумент не выдерживает никакой критики по той простой причине, что история подсказывает нам бесчисленные примеры совершенно реального доминирования такого рода.
Скиннер пишет, что «мы остаемся рабами, если наша личная свобода достается нам в знак милости от того, кто обладает произвольной властью; и, напротив, мы остаемся свободными, если наша свобода может быть ограничена лишь с нашего собственного согласия»[248]. К сожалению, и эта формулировка не решает проблемы. Скиннер подчеркивает, что, исходя из такого определения, индивид может сохранить статус в общем свободного человека, даже если его посадят в тюрьму за преступления, при условии, что он голосовал за закон, в соответствии с которым его осудили. Петтит тоже оказывается в подобной неоднозначной ситуации, отрицая, что государство отнимает у гражданина свободу, сажая его в тюрьму в соответствии с действующими законами[249]. Такой гражданин не потеряет свою республиканскую свободу, ведь тюрьма не представляет собой произвольную власть, но очевидно, что тюрьма является ограничением фактической свободы, а следовательно, некоторые фундаментальные аспекты понятия свободы не учитываются в республиканской трактовке.
Как уже было сказано, Скиннер пытается решить эту проблему, утверждая, что заключение не является ограничением свободы, если заключенный сам одобрил закон, в соответствии с которым его судят. Однако тогда возникает следующий вопрос: А что если он не одобрял этого закона? Теряет ли человек свою республиканскую свободу, если его посадили в тюрьму согласно закону, противником которого он является? Предположим, я настолько глуп, что считаю возможным водить машину с содержанием алкоголя в крови в 2 промилле, и когда меня останавливает полиция, содержание алкоголя в моей крови оказывается 1.75 промилле. В Норвегии вождение в таком состоянии наказывается штрафом и безусловным тюремным заключением. Однако из формулировки Скиннера вроде бы следует, что тем самым меня лишают республиканской свободы, поскольку я не согласен с законом, по которому меня судят. При этом если бы я был согласен с принятыми нормами содержания алкоголя в крови, моя республиканская свобода осталась бы неприкосновенна. Разумеется, Скиннер не призывает к подобным заключениям, поскольку это привело бы к совершенной путанице в отношениях между свободой и законодательством. Вместо этого напрашивается очевидный вывод, что каждый гражданин фактически признает все законы, признавая демократический процесс, в соответствии с которым эти законы принимаются. Тем самым для решения вопроса о свободе совершенно неважно, согласен ли индивид с данным конкретным законом, и он сохраняет свою республиканскую свободу в силу того факта, что он принимает участие в демократическом процессе. К сожалению, это тоже не решает всех проблем, поскольку возвращает нас к теме диктатуры большинства.
Маурицио Вироли предлагал другое решение этой проблемы, утверждая, что я как индивид должен быть связан лишь теми законами, которые я сам признаю, и я имею право наложить вето на любой закон, который мне не нравится[250]. Такая точка зрения приводит к размытию республиканской философии до такой степени, что она практически сливается с анархизмом.
Судя по всему, у республиканского понятия свободы независимо от трактовки имеются серьезные проблемы, которые невозможно решить, не прибегая к другим теориям и толкованиям свободы. Такой вывод подкрепляется и примером со «свободным рабом». Как уже говорилось, республиканизм утверждает, что даже если господин совершенно не вмешивается в жизнь раба, осознание того, что такие вмешательства в принципе возможны, обусловливает несвободу этого раба. В этом примере мы можем заменить слово «господин» на любое другое понятие, обозначающее абсолютную власть, в том числе и такую, которой обладает демократическое большинство в абсолютной демократии. В последнем случае меньшинство живет в совершенно тех же условиях, что и раб с точки зрения Скиннера, а именно: «Мы становимся склонны принимать определенные решения и избегать других, а следовательно, возникают явные ограничения нашей свободы действия, несмотря на то, что господин никогда не вмешивается в нашу деятельность и не выказывает ни малейших признаков такого желания»[251]. Осознание абсолютной власти большинства приведет к тому, что меньшинство станет сдерживать себя, даже если большинство не вмешивается в его жизнь. Республиканский аргумент о том, что раб несвободен, поскольку не уверен в своей свободе, фактически является аргументом в пользу негативной свободы именно потому, что она очерчивает сферу, в которой индивид совершенно самостоятелен в своих решениях, а следовательно, уверен в своей свободе. Республиканское понимание свободы никому не гарантирует такой сферы, свободной от любых вмешательств, а гарантирует лишь сферу, защищенную от «произвольной» власти. Фактически необходимость прибегать к негативному понятию свободы следует из общего определения свободы, данного Петтитом: «Свобода – это уверенность в отсутствии вмешательств, а мерой свободы является качество защиты от таких вмешательств»[252]. Здесь невозможно избежать обращения к правам, которые входят в понятие негативной свободы, поскольку только они могут обеспечить достаточно качественную защиту. Разумеется, республиканизм может попытаться включить эти права в определение «произвольной власти», но в таком случае он едва ли будет сильно отличаться от либерализма. В любом случае получается, что либеральная традиция доказала необходимость понятия негативной свободы, поскольку оно лучше противостоит контраргументам.
Подводя итог, мы можем вернуться к вопросу о том, чтó именно добавляет республиканизм к стандартной либеральной позиции начиная с Локка и далее, поскольку совершенно не очевидно, что нового появилось в республиканской традиции после Локка, который на заре политического либерализма весьма ясно сформулировал следующую позицию:
«Естественная свобода человека заключается в том, что он свободен от какой бы то ни было стоящей выше его власти на земле и не подчиняется воле или законодательной власти другого человека, но руководствуется только законом природы. Свобода человека в обществе заключается в том, что он не подчиняется никакой другой законодательной власти, кроме той, которая установлена по согласию в государстве, и не находится в подчинении чьей-либо воли и не ограничен каким-либо законом, за исключением тех, которые будут установлены этим законодательным органом в соответствии с оказанным ему доверием. Свобода, следовательно, – это не то, о чем говорит нам сэр Роберт Филмер: “Свобода для каждого – делать то, что он пожелает, жить, как ему угодно, и не быть связанным никаким законом”. Свобода людей в условиях существования системы правления заключается в том, чтобы жить в соответствии с постоянным законом, общим для каждого в этом обществе и установленным законодательной властью, созданной в нем; это – свобода следовать моему собственному желанию во всех случаях, когда этого не запрещает закон, и не быть зависимым от непостоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого человека, в то время как естественная свобода заключается в том, чтобы не быть ничем связанным, кроме закона природы»[253].
У Локка мы видим красивую комбинацию негативного и республиканского понимания свободы. Подобное толкование встречается не только в самых ранних работах о либерализме. Если мы посмотрим, как трактует свободу философ Фридрих Хайек в своей работе «Конституция свободы», то встретимся с тем же критерием подчинения чужой произвольной власти:
$$$«Свобода свободного человека может принимать различные формы, но речь всегда идет о степени независимости, которой раб не имеет вовсе. Свобода всегда предполагала возможность для человека действовать согласно собственным решениям и планам в противоположность тому, кто неизбежно подчиняется воле другого, который в соответствии со своим решением может принудить его действовать определенным образом или же оставить в покое. Таким образом, общепринятому понятию свободы точнее всего соответствует выражение “независимость от произвольной власти другого человека”»[254].
Таким образом, феномен произвольной власти не является белым пятном в либеральной философской традиции, просто эта традиция придерживается мнения, что свободу проще определить посредством фундаментальных прав, которые не может отменить никакое демократическое большинство. Главное преимущество либерализма перед республиканизмом заключается в том, что либеральная теория устойчива к диктатуре демократического большинства, которая возможна в республиканском мире.
Фактически очень небольшое количество философов оперирует в своих рассуждениях исключительно понятием негативной свободы, как это представлено в республиканской критике. Пожалуй, Гоббс, а за компанию и Бентам, полностью укладываются в рамки этого понятия, однако все остальные мыслители, которые считаются важнейшими представителями либеральной философии, выходят за его пределы. Мы уже увидели, что Локк и Хайек понимают свободу гораздо шире. То же справедливо и в отношении Берлина. Также и для Канта одной из важнейших составляющих свободы является независимость от чужой воли. В заметках на полях одной из своих ранних работ, посвященной чувству прекрасного и возвышенного, он пишет:
$$$«Человек зависит от многих внешних вещей, в каком бы состоянии он ни находился. В своих насущных потребностях он всегда зависит от одних, а в своей жадности – от других вещей, и, будучи управителем природы, а не ее господином, он должен сообразовываться с ее принуждением, ибо для него ясно, что не всегда можно сообразовать вещи со своими желаниями. Но гораздо более жестоким и неестественным, чем это бремя необходимости, является подчинение одного человека воле другого. Для того, кто привык к свободе, нет большего несчастья, чем быть отданным во власть такого же существа, как он, которое может принудить его отказаться от своей воли и делать то, что он хочет»[255].
Как известно, этика Канта построена вокруг его понятия автономии, которое служит также исходной предпосылкой его политической и правовой философии.
Если мы обратимся к Джону Стюарту Миллю, то увидим, что и его толкование свободы не является чисто негативным в гоббсианском смысле, скорее оно склоняется к концепции автономии и позитивной свободы.
Все эти философы отдают должное негативной свободе, хотя и понимают ее несколько по-разному, но никто из них не считает, что свобода вообще может быть редуцирована до негативной свободы, и уж точно не в гоббсианской трактовке. Поэтому возникает большое искушение признать всю республиканскую критику либеральной теории совершенно несостоятельной. Однако это было бы слишком поспешным выводом, поскольку хотя критика либерализма и не достигает своей цели, республиканским философам удается пролить свет на такие аспекты свободы, которые стоят того, чтобы принять их во внимание.
В начале этой главы я упомянул о терминах «свобода древних» и «свобода новых», введенных Бенжаменом Констаном, и подчеркнул, что первый вид свободы содержит некоторые элементы, которые свобода новых обязательно должна перенять. Свобода подразумевает существование определенных учреждений и социальных практик. Свободу необходимо оберегать и регулировать, и она требует от граждан определенной активности. Констан утверждает, что свободе новых, которая совпадает с либеральной трактовкой свободы, угрожает опасность лишиться политического содержания, если граждан не волнует управление государством до тех пор, пока оно не вмешивается в их личную жизнь. Отказываясь участвовать в политической жизни, голосовать и делиться своим мнением, человек отказывается и от значительной части своей свободы, и именно на этот аспект «свободы древних» указывают республиканцы. С другой стороны, республиканизм упускает из виду важнейшие элементы «свободы новых», такие как гражданские права и свобода от излишнего вмешательства государства в жизнь граждан. Для того чтобы защитить их от такого вмешательства, и нужны либеральные права, которые я подробно рассматриваю в главе 9. В следующей главе я изложу сущность дискуссии о соотношении свободы и равенства, а также более подробно остановлюсь на важных аспектах свободы, не включенных в понятие негативной свободы.
8 Свобода и равенство
Автономия есть нечто большее, чем только негативная свобода, поскольку для нее требуется не просто отсутствие препятствий. Мир, в котором всем людям в равной степени гарантировано пространство, в которое никто не имеет права вторгаться, может оказаться миром, в котором возможности реализации такой свободы распределены неравным образом. Каково же соотношение между свободой и равенством? Свобода не является равенством, а равенство не является свободой, однако свобода должна регулироваться с учетом равенства, а равенство может быть достигнуто при помощи свободы. Как подчеркивает Норберто Боббио, когда либерализм и эгалитаризм доводятся до абсолюта, они вступают в противоречие. Совершенно либеральное общество не может быть совершенно эгалитарным, а совершенно эгалитарное общество не может быть полностью либеральным[256]. Теоретик эгалитаризма может оставить в своей теории место для свободы, однако она всегда будет второстепенной ценностью по отношению к равенству, и наоборот: либеральный философ может стремиться к уменьшению неравенства и увеличению равенства в обществе, однако меры, которые можно предпринять для достижения этой цели, всегда будут ограничены правами, оберегающими неприкосновенность свободы.
Философский дискурс о понятии равенства так обширен, что едва ли его можно изложить в одной небольшой главе, так что я ограничусь обзором лишь некоторых аспектов, которые считаю наиболее релевантными для избранной нами темы[257]. Я не буду заходить так далеко, как Уилл Кимлика, заявивший, что любая убедительная политическая теория в наши дни обязана считать равенство своей высшей целью[258], но я, как минимум, соглашусь, что равенство должно быть одной из важнейших ценностей.
Понятие равенства является довольно сложным и не имеет однозначного определения. Как и понятие свободы, равенство является совершенно однозначным благом, противоречия возникают лишь в том случае, если мы пытаемся определить, о какой именно свободе идет речь. Равенство отличается от свободы тем, что, увеличивая свободу, мы не можем одновременно увеличивать несвободу, однако в случае с равенством нельзя наверняка сказать, можем ли мы увеличивать равенство в одном отношении, не увеличивая неравенство в других отношениях. Как замечает Маркс в «Критике Готской программы», едва ли возможно создать «полное равенство», поскольку введение равенства в одном аспекте будет неизбежно порождать неравенство в других[259]. Если мы назначим двум разным людям одинаковую зарплату за одинаковое количество рабочих часов, мы будем способствовать неравенству, если один из них будет работать больше часов и получать больше денег, а если назначить всем работникам одинаковую плату за рабочий день, то неравенство будет в том, что бездетные работники будут иметь больше денег в остатке, чем те, у кого много детей. Основную мысль Маркса можно сформулировать так, что, будучи совершенно абстрактными понятиями, «равенство» и «неравенство» не подразумевают возможности абстрактного увеличения равенства вообще. Кроме того, Маркс приходит к выводу, что корректный принцип распределения формулируется как «от каждого по способностям, каждому по потребностям», однако мы не будем подробно обсуждать его здесь, хотя заметим, что этот принцип распределения не соответствует идеалу равенства[260].
Еще один пример неравенства заключается в том, что если нищему ростом 150 сантиметров дать столько же еды, сколько нищему ростом 190 сантиметров, в соответствии со справедливым принципом распределения, то их потребность в пище будет удовлетворена в неравной степени. Если в странах с высоким или средним достатком (статистика по странам с низким достатком не очень хорошо изучена) женщинам и мужчинам предоставляется одинаковый объем и качество медицинских услуг, женщины в среднем живут на много лет дольше, чем мужчины. То есть равное предложение в сфере здравоохранения приводит к неравной продолжительности жизни. Чтобы уравнять продолжительность жизни, придется создать неравенство в распределении медицинских услуг, то есть женщинам будет предоставлено меньше медицинских услуг, чем мужчинам.
В общем и целом этот принцип прослеживается и в тенденции, согласно которой невозможно создать одновременно равенство возможностей и равенство результатов[261]. Равенство возможностей с неизбежностью приведет к неравенству результатов, а если мы хотим достичь равенства результатов, придется предоставлять людям неравные возможности. Равенство и неравенство необходимо обсуждать в каждом конкретном случае, чтобы понять, каким образом достичь максимального равенства в аспекте Х, учитывая при этом, что это может привести к возникновению неравенства в аспекте Y. Иногда увеличение равенства в аспекте Х и уменьшение его в аспекте Y как раз весьма желательно, однако в каждом случае это зависит от конкретного содержания Х и Y. В любом случае говорить об «увеличении равенства», не уточняя при этом, о какой именно области идет речь, совершенно бессмысленно. Требование «абсолютного равенства» абсурдно. Кроме того, необходимо отметить, что «равенство» и «неравенство» являются чисто формальными определениями, которые сами по себе не говорят ничего о том, насколько желательно или нежелательно достижение равенства или неравенства в той или иной области. К примеру, едва ли мы можем считать желательным, чтобы все люди на земле были несчастны в той же степени, что и самый несчастный человек. Однако большинство людей согласится, что все должны быть равны перед законом.
Как замечает Амартия Сен, каждая нормативная социальная теория, у которой имеется достаточное количество последователей, требует равенства в том или ином аспекте, наиболее важном для данной конкретной теории[262]. Речь идет не только о теориях, которые относят себя к направлению эгалитаризма, но также и о теориях, которые явно отвергают принцип равного распределения материальных благ. К примеру, либертарианская теория Роберта Нозика о государственочном стороже предполагает, что все должны обладать равными правами. Даже теория утилитаризма эгалитарна в том смысле, что все люди должны приносить одинаковую пользу. Поэтому не имеет никакого смысла утверждать, что необходимо стремиться к равенству вообще, поскольку любое равенство касается лишь одного аспекта. Так что важно понимать, о равенстве в каком именно отношении идет речь. И лишь тогда, когда мы указываем на тот аспект, в отношении которого мы требуем равенства, мы говорим что-то содержательное и достойное обсуждения.
Мир, в котором не существует неравенства, едва ли возможен. Если мы чисто гипотетически представим себе мир, в котором достигнуто полное материальное равенство, и все люди обладают одинаковыми материальными ресурсами, то источником неравенства будут нематериальные ресурсы. Мы постоянно составляем различные списки победителей и проигравших. Позвольте мне в качестве иллюстрации привести цитату из романа Мишеля Уэльбека «Элементарные частицы», в которой один из двух главных героев оказывается в общине хиппи, где материальные блага не играют существенной роли: «Округлости молодых женщин были так близки, доступны, подчас его отделяло от них расстояние меньше метра, однако Брюно как нельзя лучше понимал, что путь к ним ему заказан… Брюно осознал, что хиппи никогда не примут его; он не был и не имел надежды стать привлекательным самцом»[263]. Дифференциация в зависимости от человеческих достоинств всегда будет иметь место даже в том контексте, где экономические различия нерелевантны. Я веду к тому, что нам вовсе не обязательно пытаться уменьшить последствия экономического неравенства или других видов материального неравенства, мы просто должны осознать, что уменьшение или даже полное устранение такого неравенства не решит наших проблем. Равенство в одном аспекте лишь усиливает неравенство в других.
Если занять более радикальную позицию и попытаться устранить любые виды неравенства, а не только экономическое, то мы придем к необходимости сдерживать одних людей, чтобы они случайно в том или ином отношении не оказались лучше других. Подобное общество изображено в сатирическом романе Курта Воннегута «Гаррисон Бержерон», в котором есть персонаж под названием Главный Уравнитель, который должен следить за тем, чтобы ни один индивид не оказался более привилегированным, чем другой в каком-либо аспекте[264]. Люди, чьи интеллектуальные способности выше среднего, должны носить в ухе специальный радиопередатчик, который каждые двадцать секунд издает резкий звук, мешающий им сосредоточиться, так чтобы они не могли извлечь выгоду из своей одаренности. Люди, обладающие физической силой, должны носить грузы, чтобы не воспользоваться своим несправедливым преимуществом перед другими людьми. Красивые люди должны носить уродливые маски, чтобы не иметь несправедливого преимущества в силу своей красоты. Разумеется, никто и никогда не призывал к введению подобного равенства в реальном обществе, на то и нужна сатира, но попытка ввести равенство результатов во всех областях жизни неизбежно закончилась бы именно таким неравным обращением со всеми людьми: их потенциал был бы искусственно ограничен, и никто не обладал бы настоящей свободой.
Справедливое распределение
Многие согласятся, что распределение благ в обществе должно быть справедливым, однако некоторые мыслители, к примеру Фридрих Хайек и Роберт Нозик, отвергают саму идею справедливого распределения. Согласно Хайеку, справедливость есть свойство индивидуальных действий, степень их соответствия или несоответствия общепринятым правилам[265]. К примеру, воровство несправедливо, поскольку оно нарушает общий закон о праве собственности. Пока индивид не нарушает общепринятых правил, понятия справедливости или несправедливости не актуальны. Немного упрощая идею Хайека, можно сказать, что вопрос о справедливости или несправедливости вообще не возникает на уровне общества, а возникает лишь на уровне отдельного индивида. На это можно возразить, что существуют такие общественные схемы распределения, которые невозможно редуцировать до уровня отдельного индивида: к примеру, система налогообложения или расходы на здравоохранение и образование. Они имеют непосредственное отношение к распределению, и решения касательно этих систем принимаются на уровне государства. Будет уместно предположить, что вопрос справедливости этого распределения более чем актуален. Хайек вполне готов к такому возражению, поскольку он в своих рассуждениях рисует государство, которое обеспечивает гражданам определенный уровень благосостояния и собирает налоги. Кажется, будто он противоречит сам себе, допуская возможность государственных вмешательств, подпадающих под его собственное определение принуждения, таких как обязательная уплата налогов. Однако он утверждает, что подобные исключения легитимны, если в их основе лежит правило, перед которым все граждане равны.
Роберт Нозик выбирает другую точку зрения. Нозик утверждает, что каждый человек имеет право владения собой. Подобная мысль знакома нам по философии Локка. Это право распространяется на его тело, способности и работы, а также любые их производные. Владеть чем-то значит иметь на это право, пользоваться этим по своему усмотрению. Эти права устанавливают этические границы действиям окружающих. К примеру, они не могут убить нас или нанести нам травму, поскольку такие действия нарушают наше право владения собой. Они не могут заставить нас работать против нашей воли, какую бы выгоду это ни сулило им или даже нам самим, поскольку правом распоряжаться своим трудом обладаем только мы. На основании этих предпосылок Нозик делает довольно спорные выводы, самым знаменитым из которых является вывод о том, что налогообложение является формой рабства[266]. Он обосновывает это тем, что государство, вынуждая нас платить налог со своих доходов, в действительности вынуждает нас к недобровольному труду на благо государства в то время, которое затрачивается на производство ценностей, отдаваемых государству в форме налогов. Этот же аргумент он приводит против перераспределения, которое имеет место во всех государствах благосостояния. Признавая за частью граждан право на определенные субсидии, например, социальное пособие, государство тем самым дает им право пожинать плоды труда других людей, что позволяет нам в определенном смысле назвать последних рабами первых. А это в свою очередь противоречит утверждению, что каждый человек имеет право распоряжаться собственным трудом. Поэтому государство благосостояния, по мысли Нозика, является глубоко аморальной инстанцией, ущемляющей самые фундаментальные права граждан.
Хайек и Нозик, впрочем, являются скорее исключениями из общего дискурса о справедливом распределении, поскольку они отрицают возможность существования оного. Большинство теоретиков признают идею справедливого распределения, но расходятся в вопросе о том, на каком основании и в каком объеме оно должно происходить. Чаще всего в этом дискурсе применяется понятие равенства, то есть решение вопроса о справедливом распределении во многом основывается на том, как понимается равенство.
Самая радикальная форма справедливого распределения требует абсолютной справедливости, то есть равенства результатов. При таком порядке все индивиды, независимо от своих потребностей и своего вклада, получают совершенно одинаковое количество благ. Такая концепция справедливого распределения практически не имеет последователей, если не считать философа по имени Франуса-Ноэль Бабеф[267]. Причина такой непопулярности заключается в том, что выводы из этой концепции противоречат нашей интуиции, к примеру вывод о том, что общество, в котором все имеют очень мало, но в равном количестве, предпочтительнее общества, в котором все имеют намного больше благ, но некоторые имеют чуть больше, чем другие. Из идеала равенства результатов следует, что общество, в котором минимальный порог благосостояния ниже, чем в других обществах, предпочтительно потому, что все обладают равным, пусть и равно малым, количеством благ. Гарри Франкфурт в статье «Равенство как этический идеал» формулирует убедительные аргументы против идеи равенства результатов с экономической точки зрения, показывая, что такое равенство неизбежно приводит к поражению фундаментальных ценностей[268]. Он заключает, что с точки зрения морали важно не чтобы все обладали равным количеством благ, но чтобы все обладали достаточным их количеством. В одной из следующих статей он уточняет, что «достаточное количество» означает не просто удовлетворение минимальных потребностей, но «достаточное для благополучной жизни»[269]. Впрочем, тогда возникает вопрос, что понимать под «достаточным количеством».
Одной из альтернатив равенству результатов является равенство ресурсов, при котором всем полагается одинаковое количество основных ресурсов, а результат, которого они способны достичь при помощи этих ресурсов, зависит уже от них самих. Напрашивается возражение, что равенство ресурсов приведет в итоге к значительному неравенству в результатах. Если Перу и Полу предоставить совершенно одинаковые ресурсы, но при этом Пер по состоянию здоровья вынужден будет бо́льшую часть этих ресурсов потратить на лекарства и медицинский уход, разница в результатах будет значительной, поскольку Пер потратит очень много ресурсов на достижение того состояния, которое является исходным для Пола. Подобное возражение отчасти снимается, если рассматривать нездоровье Пера и здоровье Пола как часть их собственных ресурсов[270]. Однако тогда останется проблема, связанная с тем, что любое человеческое качество – например талант или трудолюбие – в принципе может восприниматься как ресурс, за отсутствие которого другие могут получить компенсацию, и тогда равенство ресурсов фактически будет сведено к равенству результатов. Необходимо сформулировать принцип или теорию о равенстве ресурсов, не содержащую подобных импликаций и дающую рекомендации относительно того, кому и сколько ресурсов следует выделить, при этом не снимая с людей ответственности за их собственную жизнь.
Я уже писал, что личная ответственность – это ответственность, которую я несу за себя, то есть субъектом и объектом ответственности является один и тот же человек. Эта ответственность является главной причиной того, что принцип равенства результатов кажется нам несправедливым, поскольку такой принцип несовместим с наделением людей ответственностью за более или менее предсказуемые результаты их собственных решений. Интуиция подсказывает нам скорее принцип равенства возможностей, при котором всем должен быть гарантирован определенный объем ресурсов, а ответственность за дальнейшее их использование предоставить им самим. Если мы отрицаем личную свободу и ответственность и считаем, что мы сами управляем своей жизнью не больше, чем лосось, который всегда возвращается в русло одной определенной реки, чтобы метать икру, мы скорее всего поддержим принцип равенства результатов. Но можем ли мы жить с таким представлением о себе и окружающих? Как пишет Рональд Дворкин, мы не можем планировать или оценивать наши жизни, «не проводя различия между тем, за что мы должны нести ответственность, поскольку мы сами это выбрали, и тем, за что мы не можем отвечать, поскольку оно не подлежит нашему контролю»[271]. Подобная ответственность скорее соответствует идеалу равенства возможностей, поскольку подразумевает относительно равные исходные условия, и каждый человек сам отвечает за то, чтобы как можно лучше распорядиться этими условиями. Одной из важных причин, заставляющих Дворкина утверждать, что люди сами должны нести ответственность за последствия собственных решений, заключается в том, что такой подход подталкивает людей к правильным решениям и благоприятному развитию.
Широко распространено мнение, что люди должны нести ответственность – и получать вознаграждение – в соответствии с приложенными усилиями. Джон Ролз возражает на это, что желание приложить усилия не является личной заслугой индивида[272]. Он считает, что энтузиазм индивида сам по себе является продуктом наследственности и окружающей среды, а следовательно, не может считаться заслугой самого индивида. Другими словами, если человек лентяй, то это всего лишь результат влияния его врожденных качеств и социального окружения, а значит, это не должно влиять на его экономическое положение. Представим себе двух официантов: один из них трудолюбив и хорошо обслуживает гостей, имеет обширные знания о винах и блюдах, а также делает все, что в его силах, чтобы гостям понравилось в его ресторане. Второй официант ленив, невнимателен, плохо знает меню и винную карту, так что гости в общем и целом предоставлены сами себе. В конце рабочего дня оказывается, что первый официант заработал 1200 крон чаевых, а второй получил всего 300 крон. С позиции Ролза, они должны поделить деньги и получить по 750 крон каждый, поскольку трудолюбие первого не является его заслугой, а лень второго не является его виной. Большинству из нас, однако, это покажется несправедливым. Ролз не экстраполирует свой аргумент на другие области, помимо экономической, но если его точка зрения верна, то я не вижу причин не распространить ее на все аспекты жизни, к примеру не заявить, что все студенты должны получить одни и те же оценки, поскольку ум и трудолюбие одних студентов и лень и глупость других не являются результатами их личных усилий. Нарушение корреляции между тем, что индивид делает, и тем, что он получает за эти действия, так сильно противоречит распространенным этическим представлениям, что для этого требуются аргументы посильнее того, что предлагает Ролз[273].
В действительности все релевантные мнения о справедливом распределении сводятся к равенству возможностей, а не равенству результатов. Равенство возможностей не означает, что все обладают равными возможностями победить в соревновании, но что они обладают равными возможностями принять участие. Большинство людей согласны с тем, что в современном обществе всем должны быть предоставлены равные возможности. Однако на самом деле мы имеем лишь видимость согласия, поскольку это понятие подразумевает множество различных концепций. Можно выделить по крайней мере три концепции равенства возможностей: минимальную, умеренную и радикальную. Минимальная концепция состоит в том, что этническая принадлежность, вероисповедание и пол не должны влиять на возможность получения образования, работы и так далее. Единственным релевантным критерием должна быть квалификация индивида.
С этим утверждением согласны почти все, но многие сочтут, что этого недостаточно, и у каждого должна быть возможность получить необходимую квалификацию. То есть каждый индивид, независимо от его социального происхождения и прочих факторов, должен иметь доступ к определенному образованию или работе в силу его врожденных талантов. Одаренный ребенок из бедной, необразованной семьи должен иметь те же реальные возможности получить докторскую степень или стать директором концерна, как и ребенок из благополучной семьи. Равенство возможностей в этом смысле не достигнуто ни в одном из существующих обществ. Мы можем судить об этом по социальной динамике, согласно которой уровень образования и выбор профессии, как правило, передаются из поколения в поколение. Равенство возможностей в этом понимании может быть весьма привлекательным, однако оно потребует самых радикальных мер. К примеру, семья играет в этом такую большую роль, что пришлось бы упразднить институт семьи как таковой и передать заботу о воспитании детей государству. Существует еще более радикальная форма равенства возможностей, при которой обеспечиваются не просто равные возможности для людей с равной степенью одаренности, но государство обязано компенсировать разницу в одаренности, то есть сделать так, чтобы каждый индивид, независимо от социального происхождения и врожденных талантов, имел возможность достичь определенного положения, должности и т. д. Столь радикальная концепция равенства возможностей предполагает очень глубокое вмешательство в жизнь индивидов, превосходящее даже тоталитарный режим. Мы также можем заметить, что такая форма равенства возможностей приближается к концепции равенства результатов.
Минимальный стандарт
Модель равенства, принятая в либеральной демократии, сочетает в себе черты минимальной и умеренной концепций равенства возможностей, соотношение которых определяется ступенью развития, на которой находится каждое конкретное общество. Самым распространенным является вариант, предусматривающий некую минимальную планку, или стандарт, гарантированный всем гражданам в таких важных аспектах жизни, как здравоохранение, образование, материальное благосостояние и т. д., тогда как в остальном ресурсы могут быть распределены достаточно неравным образом. Повсеместно принято представление о том, что все граждане имеют право на определенные материальные блага, медицинские услуги, образование и т. д., и равный доступ к ним для всех граждан является вопросом справедливого распределения. Эта мысль достаточно нова в исторической перспективе, она впервые прозвучала лишь в XVIII веке. До этого тоже существовали представления о справедливом распределении, но в философии Аристотеля, к примеру, это означало, что каждый должен получать в соответствии со своими заслугами. Идея о том, что каждый гражданин имеет право на определенные материальные блага просто потому, что он гражданин, Аристотелю была бы совершенно чужда[274]. Такой взгляд на справедливое распределение доминировал до самого конца XVIII века, и важно понимать, что современные представления о справедливом распределении не имеют с ним ничего общего, поскольку подобное смешение понятий лишь приведет к недоразумениям и путанице[275].
Справедливое распределение в современном понимании подразумевает, что государство должно обеспечить распределение материальных благ и т. д. среди граждан таким образом, чтобы гарантировать каждому определенный уровень благосостояния. Дискуссии о справедливом распределении касаются в основном вопроса о том, какой именно объем благ должен распределяться, каковы принципы распределения и насколько серьезные вмешательства государства в жизнь граждан приемлемы с учетом этой цели.
Важнейшим переходным этапом от старого представления о справедливом распределении к новому является философия Адама Смита. Смит следует традиционному разделению на полноценные и неполноценные права, которое предполагает, что граждане имеют право требовать соблюдения полноценных прав, то есть могут при помощи закона вынудить других людей уважать эти права. Неполноценные права не могут быть предметом такого требования[276]. Таким образом, неполноценные права являются в некотором смысле факультативными. Поскольку Смит помещает справедливое распределение скорее в разряд неполноценных прав, из этого следует, что Смит считает помощь другим гражданам в достижении минимального благосостояния личным делом каждого индивида. Смит предостерегает против принудительного соблюдения неполноценных прав, потому что это создает угрозу для свободы, безопасности и справедливости[277]. До сих пор мы не заметили у Смита расхождения с его историческими предшественниками. Однако он пишет также, что определенные благотворительные обязательства имеют такой характер, который приближает их к «полноценным и явным обязанностям», а такие могут с полным правом насаждаться силой в гражданском государстве[278]. Мысль о том, что государство имеет право возлагать на граждан определенные благотворительные обязанности по отношению к другим гражданам, является большим шагом вперед в развитии идеи справедливого распределения и подводит нас ближе к современному толкованию этой идеи.
Что же конкретно предлагал Смит? Одним из известных положений его теории является обеспечение равного доступа к образованию, что предполагает некоторое перераспределение этого доступа в пользу бедных[279]. Далее, роскошные экипажи должны облагаться более высоким налогом, чем грузовые повозки, поскольку «леность и тщеславие богатых должны участвовать в оплате расходов для облегчения бедных»[280]. Он предлагает и другие специальные виды налогов, утверждая, что вполне справедливо, чтобы богатые выделяли на общественные расходы бóльшую долю своих доходов, чем бедные[281]. Все должны платить налоги, как богатые, так и бедные, однако собранные налоги должны быть потрачены так, чтобы принести больше пользы бедным, чем богатым. Такие идеи говорят о значительной перемене во взглядах на бедность. Предшественники Смита рассматривали «проблему бедности» скорее с точки зрения того, как быть с низкой моралью и высокой преступностью в беднейших слоях населения, а не того, как помочь беднякам выбраться из нищеты. Далее, помощь бедным, если она вообще рассматривалась, считалась делом благотворительным, а не вопросом обеспечения беднякам определенного уровня благосостояния, на который имеют право все граждане. Идея благотворительности уходит корнями в христианскую этику, но следует отметить, что это не привело ни к каким мерам по обеспечению благосостояния на государственном уровне: вместо этого улучшение жизни бедняков зависело от эпизодических благотворительных актов отдельных богачей. Было широко распространено мнение, что благосостояние является отражением моральных качеств, то есть бедняки считались бедными потому, что обладают невысокой моралью, а следовательно, им необходимо и дальше оставаться бедными, чтобы получить возможность исправиться, поскольку лишь необходимость может вынудить их к каким-то действиям. Представителем такой точки зрения был Артур Юнг, писавший: «Любой человек, если только он не дурак, знает, что низшие классы должны жить в бедности, иначе они вообще не будут работать»[282]. Смит не согласился бы с Юнгом: он писал, что в случае необходимости бедные работают даже слишком усердно[283]. Смит утверждал, что зарплаты должны быть достаточно высокими для того, чтобы обеспечивать семье достойную жизнь[284]. Экономическая теория Смита была построена на идее заботы о бедных, а его этическое оправдание капитализма состояло в том, что именно эта экономическая система в долгосрочной перспективе может более всего способствовать улучшению жизни низших слоев населения. И все же необходимо добавить, что рекомендации Смита далеки от того, что мы называем государством всеобщего благосостояния в наши дни.
Следующий шаг в направлении такого государства предпринял Томас Пейн в своих работах «Права человека, часть 2» (1792) и «Аграрная справедливость» (1797). В «Правах человека» он предлагает заменить традиционную благотворительность в пользу бедных государственной системой пособий, финансируемой за счет налогов. В «Аграрной справедливости» он еще более приближается к глобальному перераспределению и ставит вопрос о правах. Обязанность государства заботиться о неимущих не является «вопросом милости и благотворительности, но следует из их прав»[285].
Пейн доказывает, что государство, которое действительно стремится к благим целям, будет снижать или вовсе отменит налоги, собираемые с бедняков, а вместо этого будет предоставлять им различные услуги, призванные облегчить их жизненную ситуацию. Согласно Пейну, существует две группы, которые особенно нуждаются в помощи: старики и многодетные семьи. В первые 14 лет жизни ребенка семье должна ежегодно выплачиваться государством сумма в 4 фунта, чтобы родители могли позволить себе отправить ребенка в школу и т. п. Пейн пишет: «Применяя такой метод, мы уменьшим не только бедность родителей, но и невежество будущего поколения, так что бедняков станет меньше, поскольку их способности в результате получения образования увеличатся»[286]. Еще одной группой, особенно подверженной бедности, он считал молодоженов, так что каждая пара должна была получать от государства 20 шиллингов, плюс дополнительно 20 шиллингов за каждого рожденного ребенка. Далее Пейн предлагал основать большие фабрики занятости, где каждый желающий может работать за кров и еду. Они должны были не предоставлять постоянную работу, но служить временной мерой помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также он предлагал учредить различные пенсионные выплаты пожилым, при этом необходимо учитывать, что средняя продолжительность жизни во времена Пейна была гораздо меньше, чем теперь. Те, кто все еще продолжал работать в возрасте 50 лет, должны были получать от государства ежегодную прибавку к зарплате в 6 фунтов, а после достижения 60 лет все должны были получать пенсию в размере 10 фунтов ежегодно[287]. Совершенно очевидно, что все эти предлагаемые меры были предвестниками современного государства благосостояния, которое должно было постепенно развиться.
Финансирование подобных выплат должно было обеспечиваться возросшими налогами. Однако Пейн призывал не столько к повышению налогов, сколько к реформированию всей налоговой системы. Он предпочитал упразднить налоги, сильно обременявшие бедняков, такие как налог на предметы первой необходимости, а также другие продукты, потребляемые бедняками, например пиво[288]. Вместо этого предпочтительно повысить налоги на предметы роскоши. Кроме того, необходимо было ввести большой налог на наследование значительных состояний. Вместе с тем Пейн считал нужным сохранять права собственности и категорически отрицал все идеи, касавшиеся насильственного перераспределения и отнятия имущества у богатых в пользу бедных.
Пейн развивает эти идеи в работе «Аграрная справедливость», где напоминает, что пишет не о благотворительности, но о праве на благосостояние[289]. Он утверждает, что все граждане, будь то мужчины или женщины, должны получать пособие в размере 15 фунтов по достижении 21 года, а когда им исполняется 50 лет, им должна выплачиваться пенсия в размере 10 фунтов ежегодно. Эти пособия должны были финансироваться за счет увеличенного налога на наследование больших поместий и состояний. Пейн рассматривает это не как путь к созданию максимального равенства, но как формирование системы социального страхования, определяющий уровень, ниже которого никто не может опуститься. Его не беспокоит, что некоторые люди при этом будут иметь больше, чем другие, его волнует только положение беднейших слоев: «Мне все равно, насколько богат тот или другой человек, лишь бы вследствие этого никто не становился несчастным»[290].
Разумеется, содержание понятия «нищета» варьируется в зависимости от исторического и социального контекста. Общее определение такой нищеты или бедности таково: «Бедным человеком может считаться тот, чьи потребности не удовлетворены». Вероятно, такое определение не очень проясняет ситуацию, поскольку человеческие потребности – величина переменная. Смит пояснял: «Под предметами необходимости я понимаю не только предметы, которые безусловно необходимы для поддержания жизни, но и такие, обходиться без которых в силу обычаев страны считается неприличным для почтенных людей даже низшего класса»[291]. Потребности человека не могут быть определены раз и навсегда исходя из, к примеру, биологических предпосылок. Человеку для жизни всегда требовалось нечто большее, чем простое удовлетворение чисто физических потребностей, поскольку человек является и социальным существом, а следовательно, его потребности включают в себя и социальные стандарты, которые выходят за пределы физических нужд. Различие между «естественными» и «искусственными» потребностями провести совсем не просто. Скорее можно говорить о том, что деление потребностей на постоянные и «естественные», которые меняются в ходе исторического развития, является совершенно абстрактным, и едва ли его можно конкретизировать. Теодор Адорно писал: «Что требуется человеку для жизни и что ему не требуется, никак не зависит от природы, но связано с “культурным экзистенциальным минимумом”. Каждая попытка выделить чистые естественные потребности заходит в тупик»[292]. Поэтому, когда мы утверждаем, что у индвида имеется или, напротив, отсутствует то, что ему «необходимо», давайте при этом держать в уме, что потребности всегда зависят от социального контекста.
Подход на основе потенциала (англ. CAPABILITY APPROACH)
Важнейший вклад в дискуссию о том, как следует понимать концепцию равенства возможностей, внесли Амартия Сен и Марта Нуссбаум. Вместе они развили теорию, которая получила название «подход на основе потенциала» (англ. capability approach) и в рамках которой определенные потенциалы рассматриваются как фундаментальные факторы, определяющие развитие человека, а бедность является следствием неудачи в реализации этих потенциалов[293]. Основной вопрос в рамках этого подхода звучит так: «Что в действительности может сделать человек и кем он может стать? Какие реальные возможности ему доступны?»[294]. Потенциалы задают минимальный стандарт, который должен быть достигнут, и ничего не говорят о перераспределении ресурсов сверх минимального стандарта[295]. Это, конечно, не означает, что нельзя привести аргументы в пользу более масштабного перераспределения, но они не будут прямым следствием подхода на основе потенциала. По мере развития стало ясно, что подходы Сена и Нуссбаум несколько отличаются, и Нуссбаум упрекала Сена в туманности и недостатке конкретики. В отличие от Сена, Нуссбаум весьма конкретна в своем подходе и предлагает список из десяти потенциалов, которые мы вскоре рассмотрим. Но сначала мы займемся Сеном.
Сен различает два подхода к справедливости. Первый подход, строящийся на определении социальных институтов и правил, он называет «трансцендентальным институционализмом»[296]. Теория совершенной справедливости никому не нужна[297], поскольку мы можем построить лучший и более справедливый мир, не принимая совершенство за точку отсчета, а кроме того, существование такой теории даже нежелательно, поскольку она окажется столь далека от реальной политики, что не будет иметь никакого политического значения[298]. Трансцендентальный перфекционизм ущербен, поскольку само стремление к совершенству может помешать нам решить конкретные проблемы в реальном мире, к примеру, в странах третьего мира обеспечить женщинам доступ к образованию. Еще одна проблема заключается в том, что индивиды в реальном обществе никогда не смогут принять один идеал, и Сен утверждает, что единый идеал нам и не требуется, поскольку нам проще согласиться друг с другом в том, что А предпочтительнее, чем В, нежели в том, что Х является высшим из возможных идеалов. Я могу добавить также, что политическое совершенство уже не раз пытались воплотить в жизнь, и последствия всегда были весьма плачевными, к чему я еще вернусь в конце этой главы.
Это приводит нас ко второму подходу, сравнительному, который пытается исследовать, какую жизнь действительно можно реализовать. Сен отдает предпочтение именно этому подходу. Философским кумиром Сена является Адам Смит, чьи идеи он во многих своих работах яростно защищает как от его оппонентов, так и сторонников. В книге «Идея справедливости» используется, в частности, идея Смита о «беспристрастном наблюдателе». Наблюдатель занимает позицию не всезнающего, но сравнивающего лица. Мы можем достигнуть рационального соглашения о том, с какими формами несправедливости следует бороться, даже если не обладаем четким представлением об идеале справедливости. С позиции плюрализма Сен добавляет также, что может существовать более одного набора принципов реализации справедливости в обществе[299]. Нам не нужно знать, каков идеал, чтобы понять, что А лучше В, как нам не обязательно знать точную высоту Эвереста, чтобы определить, какой из двух ближайших к нам холмов выше[300]. Представление об идеале не требуется и для того, чтобы проводить сравнения. Предположим, музыкальный альбом «Trans Europa Express» группы «Kraftwerk» является идеалом. Как это знание поможет нам оценить, который из альбомов берлинской трилогии Дэвида Боуи – «Low», «Heroes» или «Lodger» – лучше остальных двух?
Сен утверждает, что представление о справедливости требует скорее сравнения реальных условий, в которых живут люди, нежели поиска идеальных общественных институтов, которые должны блюсти справедливость. Это более релевантно с точки зрения политики. Теория справедливости должна говорить нам что-то о реальных решениях, которые нам приходится принимать, а не только о предположительно совершенном мироустройстве[301].
Подход на основе потенциала является именно такой теорией, а кроме того, он является теорией о свободе. Потенциал – это своего рода свобода, пишет Сен, поскольку он делает доступными для нас различные образы жизни[302]. Он приравнивает потенциал к свободе жить определенным образом. Далее он определяет развитие как устранение любых форм несвободы. Обладание потенциалом не предполагает необходимости его реализации: у индивида всегда есть выбор. «Взрослые индивиды сами отвечают за свое благосостояние, и они сами решают, каким образом они будут использовать свои потенциалы, однако фактические возможности индивида (в отличие от тех, которыми он располагает в теории) зависят от социальных условий, которые могут играть решающую роль в реализации свободы индивида»[303]. В качестве примера Сен приводит ситуацию, при которой постящийся богач потребляет то же количество калорий, что и голодающий бедняк, но их потенциалы неравны, поскольку богач в любой момент может прервать пост, тогда как бедняк такой возможностью не обладает. Причины, по которым индивид отказывается от реализации потенциала, могут быть различны, к примеру, люди могут отказываться есть, чтобы выразить протест против несправедливости посредством голодовки. Принудить кого-либо к реализации потенциала значит отнять у него власть не только над собственным телом, но и над собственными решениями, которые могут влиять на окружающих[304]. Очевидно, что реализация потенциалов должна быть делом добровольным.
Стоит отметить, что точкой отсчета в описываемом подходе является индивид, а не семья или иная группа, и причиной тому отчасти служит тот факт, что неравное распределение внутри семьи или группы нередко служит причиной ущемления возможностей индивида. Приведем в качестве примера неравенство полов: в семье, состоящей из двух взрослых и двух детей, мальчика и девочки, при условии, что семья располагает достаточным доходом, может регулярно возникать неравное распределение в пользу мальчика. Такое часто встречается, в частности, в африканских и азиатских странах. К примеру, мальчик может ходить в школу, а девочка нет. Это означает, что возможности девочки искусственно ограничены, то есть она оказывается беднее мальчика, хотя доход семьи в целом вполне удовлетворителен[305].
Свобода требует наличия определенных ресурсов, позволяющих реализовать ту жизнь, которую индивид желает для себя, или хотя бы приблизиться к такой реализации. Очевидный пример – инвалиды, чьи возможности настолько ограничены, что им требуются дополнительные ресурсы, компенсирующие их физическую неполноценность[306]. Человек, парализованный ниже пояса, сталкивается с серьезными препятствиями, когда пытается реализовать определенный образ жизни, если только у него нет инвалидного кресла, и его жилище не оборудовано специальными пандусами, поручнями и т. д. Точно так же человек, не умеющий читать и писать, не обладает ресурсом, совершенно необходимым в обществе, где способность к чтению является жизненно важным навыком. Если свобода состоит в возможности вести определенный образ жизни, то эти примеры являются иллюстрацией недостаточности невмешательства, поскольку у свободы в такой трактовке имеются важные материальные и социальные предпосылки.
С другой стороны, общество невозможно организовать таким образом, чтобы каждый гражданин имел досуп к ресурсам, необходимым для реализации желательного именно для него образа жизни.
Приведем пример: если индивид хочет быть кинорежиссером и желает создать фильм, съемки которого обойдутся в миллиард крон, совершенно очевидно, что он не имеет права требовать выделения ему таких ресурсов. Скорее должен быть определен некий минимум, и выделить людям ресурсы, которые составляют некий фундамент жизни; это вовсе не то же самое, что снять с них ответственность за их собственную жизнь, напротив: это как раз и дает им возможность взять на себя ответственность, утверждает Сен:
$$$«Аргумент в пользу социальной поддержки, расширяющей свободу человека, может таким образом считаться также аргументом в поддержку личной ответственности. Связь между свободой и ответственностью двунаправленна. Если мы лишены элементарной свободы и возможности производить определенные действия, то мы не можем нести за эти действия ответственности, если же нам дана возможность выполнять эти действия, то мы обязаны оценить необходимость их выполнения, и эта обязанность наделяет нас ответственностью. В этом смысле свобода является и необходимым, и достаточным условием ответственности»[307].
Сен понимает свободу позитивно, но вместе с тем его понимание свободы плюралистично, поскольку допускает множество вариантов актуализации. Такое понятие позитивной свободы неуязвимо для критики Берлина. Под позитивной свободой – или «вещественной свободой», как он сам это называет, – Сен понимает способность к самореализации, принятию решений о том, какой жизнью мы хотим жить, и взаимодействию с внешним миром[308]. Такая свобода всегда будет некоторой степенью свободы, ею невозможно безраздельно владеть или не владеть совсем. Сен не считает при этом, что негативная свобода не важна. Напротив, он придает ей большое значение, утверждая, что она является предпосылкой к позитивной свободе[309]. Однако он подчеркивает, что чисто негативного понимания свободы недостаточно. Человек, чья негативная свобода не ограничена никакими препятствиями, но лишенный каких бы то ни было ресурсов (собственности, медицинских услуг, образования и т. д.) будет жить незавидной жизнью и иметь весьма ограниченную свободу выбора.
Классический либерализм ставит во главу угла формальные условия свободы, тогда как подход на основе потенциала придает большее значение материальным условиям. Эти материальные условия определяются как минимальный стандарт. Такая концепция может предполагать глобальное перераспределение материальных ресурсов, не утверждая при этом, что неравенство несправедливо. Достаточно того, чтобы каждому был обеспечен минимальный уровень благосостояния. В этом смысле подход на основе потенциала отчасти совпадает с традиционной либеральной идеей о равенстве возможностей, в отличие от социализма, который стремится к равенству результатов.
Сен спрашивает, следует ли нам стремиться к равенству потенциалов, и его собственный ответ однозначно отрицателен[310]. Он дает следующее обоснование. Даже если мы признаем, что равенство потенциалов имеет большую ценность, оно не может безоговорочно затмевать другие важные цели, такие как равенство в остальных аспектах. Далее Сен утверждает, что подход на основе потенциала рассматривает лишь один из аспектов свободы, не затрагивая другие, в частности, аспект процесса и аспект возможности.
Сен считает подход на основе потенциала лишь инструментом оценки качества жизни, тогда как Нуссбаум использует его для определения набора прав, которые должны быть признаны и соблюдаться во всех странах[311]. Кроме того, Нуссбаум придает большее значение вопросу равенства полов. Она обратила внимание, что свобода женщин в целом более ограничена и они обладают меньшими возможностями, нежели мужчины. Разумеется, права важны, однако чисто правовой перспективы недостаточно, поскольку социальная справедливость является также проблемой экономических ресурсов и социальных условий. «Если мы хотим, чтобы граждане обладали определенным потенциалом, мало создать сферу, защищенную от внешнего вмешательства; необходимо создать также материальную и институциональную среду, которая будет оказывать достаточную позитивную поддержку всех релевантных потенциалов»[312]. Для того чтобы реальная свобода стала возможной, обеспечения негативной свободы недостаточно.
В отличие от Сена, Нуссбаум составила список потенциалов, которые, по ее мнению, являются необходимыми условиями свободной и достойной жизни. Ниже следует предложенный ею список фундаментальных человеческих потенциалов.
1. ЖИЗНЬ. Способность прожить достаточно продолжительную и полноценную жизнь, не умереть раньше срока, не оказаться в таком положении, когда жизнь перестает казаться желательной.
2. ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. Способность обладать хорошим здоровьем, в том числе способность иметь детей; хорошее питание; нормальное жилище.
3. ФИЗИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ. Способность свободно передвигаться с места на место; защита от насилия, в том числе сексуальных домогательств и домашнего насилия; возможность получать сексуальное удовлетворение и свобода выбора в вопросе обзаведения детьми.
4. ОРГАНЫ ЧУВСТВ, ВООБРАЖЕНИЕ, МЫШЛЕНИЕ. Способность пользоваться органами чувств, воображать, рассуждать, а также способность проделывать все это «по-человечески», возникающая в результате получения адекватного образования, в том числе (но не только) благодаря навыкам чтения и письма, а также базовым знаниям в области математики и естественных наук. Способность использовать воображение и мышление в соответствии со своим опытом и впечатлениями, а также способность беспрепятственно создавать религиозные, литературные, музыкальные произведения. Способность мыслить самостоятельно, в рамках свободы политического и художественного самовыражения, а также свободы вероисповедания. Способность получать приятные впечатления и избегать боли, не обусловленной личной необходимостью.
5. ЭМОЦИИ. Способность привязываться к другим людям и внешним объектам, любить тех, кто любит нас и заботится о нас, скучать по ним; в общем любить, заботиться, тосковать, испытывать благодарность и справедливый гнев. Избегать подавления своих чувств в результате страха или тревоги. (Поддержка этого потенциала подразумевает поддержку человеческих объединений, которые являются решающими для эмоционального развития.)
6. ЗДРАВЫЙ РАССУДОК. Способность формировать представления о том, что хорошо, и критически подходить к планированию собственной жизни. (Это подразумевает защиту свободы вероисповедания и убеждений.)
7. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ. а) Способность жить вместе с другими и быть ориентированным на других, выражать свои чувства и проявлять заботу, принимать участие в различных формах социального взаимодействия; способность поставить себя на место другого человека. (Защита этого потенциала означает создание учреждений, которые оберегают и поддерживают такие формы принадлежности, обеспечение политической свободы слова и свободы собраний.) б) Иметь достаточно социальных предпосылок для самоуважения, иметь защиту от унижений; требовать достойного обращения; ощущать равенство с окружающими. Это потребует мер против дискриминации на основе национальной или половой принадлежности, сексуальной ориентации, класса, вероисповедания, цвета кожи.
8. ДРУГИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ. Способность испытывать привязанность и проявлять заботу о животных, растениях и природе в целом.
9. ИГРА. Способность смеяться, играть, проводить досуг.
10. КОНТРОЛЬ НАД СОБСТВЕННЫМ ОКРУЖЕНИЕМ. а) Политический контроль. Способность принимать деятельное участие в принятии политических решений, влияющих на собственную жизнь; иметь право на участие в политической жизни; пользоваться свободой слова и свободой вступать в организации. б) Материальный контроль. Способность владеть чем-либо (недвижимостью и другими видами собственности) и иметь право собственности наравне с другими людьми; право на труд наравне с другими людьми; неприкосновенность от необоснованных обысков и задержания. Способность трудиться в рамках трудового законодательства, пользоваться здравым рассудком и вступать в осмысленное и взаимовыгодное сотрудничество с коллегами[313].
Как указывает сама Нуссбаум, этот список в значительной степени совпадает с правами, упомянутыми в различных декларациях прав человека[314]. Все десять пунктов этого списка считаются равнозначными, из чего следует, что гражданам должны быть обеспечены все десять потенциалов, и перевыполнение одного из пунктов не компенсирует невыполнение другого. Минимальная справедливость на земле будет достигнута лишь тогда, когда абсолютно всем людям будут обеспечены эти десять потенциалов[315]. И хотя в последние десятилетия мы продвинулись в этом направлении значительно дальше, чем когда бы то ни было в истории, до достижения цели еще очень далеко. Нуссбаум не считает этот список окончательным и признает, что он может быть подвергнут редакции[316]. С этим списком связано довольно много нерешенных проблем, поскольку неясно, как именно его воплощать и каковы конкретные критерии, по которым можно судить о выполнении некоторых пунктов. Нуссбаум не дает никаких дополнительных уточнений, помимо того, что список не должен задавать столь высокую планку, чтобы ни одно государство не могло ее достичь, но и не должен опускать планку ниже того, чего требует человеческое достоинство[317]. С этим совсем не трудно согласиться, однако подобные утверждения кажутся слишком общими и малоинформативными. Кроме того, пункты списка достаточно сильно различаются между собой, так что некоторые, к примеру, «физическая интеграция», гораздо проще закрепить на законодательном уровне, нежели другие, к примеру, «право заботиться о животных». Кроме того, возникает вопрос, действительно ли все пункты списка одинаково важны, и в этом Нуссбаум не соглашается с Сеном, который считает, что мы обязаны ранжировать права относительно друг друга[318]. Идея Нуссбаум о том, что все потенциалы должны быть законодательно закреплены, весьма привлекательна, но трудно понять, каким конкретно образом можно закрепить в законах именно этот список. Кроме того, возникают сомнения, действительно ли все пункты этого списка требуют законодательного оформления, поскольку часть этих пунктов не входит в списки фундаментальных прав, которые я привожу в главе 9.
В любом случае очевидно, что подход на основе потенциала разделяет либеральное толкование свободы, которое содержит в себе важные материальные и институциональные предпосылки к ее достижению.
Экскурс: утопии
Каждый по-настоящему утопический проект предполагает, что новый мир может быть построен лишь на руинах старого. Чтобы утопия была совершенной, старый мир должен быть полностью уничтожен, ведь любые рудименты старого мира, оказавшиеся в мире новом, будут подобны гнилому яблоку, с которого гниль переходит на все остальные яблоки в корзине. Утопия претендует на монополию в вопросах истины, морали и спасения.
Читая об истории утопических учений, нельзя не поразиться одной общей особенности, а именно: описываемые в них люди совсем не похожи на нас. Они не болеют, среди них давно искоренена преступность, они даже никого и никогда не обманывают. Каждый человек является прямо-таки образцом совершенства. Это означает, что для людей, которые не являются образцом совершенства, в утопическом обществе нет места. От них необходимо избавиться, если уж не получается их перевоспитать. Другими словами, в утопических обществах нет места для нас, а значит, нам нужно противостоять этому соблазну.
Говоря о политических утопиях, начинать нужно с Платона, который создал архетипическую утопию, по образцу которой строились все последующие утопические теории. Платон считает, что идеальное государство не должно содержать никаких элементов прежних общественных укладов, обычаев: его необходимо строить с нуля. Лидеры «взяв, словно доску, государство и нравы людей, они сперва бы очистили их»[319]. Они имеют право вмешиваться во все аспекты жизни граждан, сфера действия политики не имеет границ. Платон утверждает, что идеальное государство должно быть построено на идее справедливости. Государство состоит из индивидов, и оно является условием реализации благополучной и достойной жизни. Принципы управления будут одинаковыми для государства и индивида. Государство призвано удовлетворять потребности граждан, а граждане не являются изолированными одиночками, они зависят друг от друга. Поэтому они должны быть собраны в одном месте и сообща нести груз ответственности. Поскольку все мы обладаем разными талантами, наши способности служить обществу различны, поэтому необходимо организовать эффективное разделение труда. Насколько мне известно, Платон стал первым философом, предложившим разделение труда. Всех граждан государства необходимо разбить на группы, имеющие различные задачи. Платон говорит, что все люди имеют разные природные склонности, а следовательно должны выполнять разную работу[320]. Платон исходит из того, что у каждого человека есть определенная сущность, лучше всего пригодная для определенной работы, и он считает, что каждый гражданин обязан выполнять для государства ту работу, к которой он предрасположен: «каждого из остальных граждан надо ставить на то одно дело, к которому у него есть способности»[321].
Далее, всех граждан воспитывают таким образом, чтобы приспособить их играть определенную роль в государстве. За воспитание детей должно отвечать государство. Подобная идея весьма распространена и в позднейших утопических теориях. Причина очень проста: наше семейное окружение оказывает на нас решающее влияние, а следовательно, воспитание детей в семьях угрожает единству государства. Кроме того, воспитание в семье сопровождается возникновением семейных уз, которые зачастую оказываются сильнее, чем лояльность по отношению к государству. Платон пишет, что дети не должны знать своих биологических родителей, а родители не должны знать своих детей. Далее, необходимо избавляться от слабых и неполноценных детей, чтобы обеспечить наилучшую возможную наследственность. В идеальном государстве не существует болезней и преступности, иначе оно по определению не будет идеальным. Каждый человек в утопическом государстве является эталонным примером здорового духа в здоровом теле. Первым делом людей необходимо обучать умеренности. Если человек не в состоянии контролировать свои желания и потребности, едва ли его удастся обучить чему-то еще. Большинство людей в своем образовании не заходит дальше контроля над своими желаниями, а те, кому удается задержаться на этой ступени, становятся дельцами. Те, кто пошел дальше, должны развить в себе мужество, и если им это удалось, они становятся стражами. Оставшиеся – это сливки общества, философы, которые должны развить в себе лучшее начало и стать правителями. К тому времени, когда человек достигает этой ступени в своем развитии, ему исполняется 40–50 лет: образование занимает много времени.
Платон осознавал, что он описывает идеальное государство, которое невозможно реализовать в чистом виде. Поэтому в конце жизни он написал трактат под названием «Законы», самый большой из всех своих трудов, в котором он описывает почти идеальное государство[322]. В этом государстве люди практически не пользуются личной свободой, и еще менее свободой вероисповедания, так как вероотступникам грозит смертная казнь. Государство и религия составляют единое целое. Правители должны править в соответствии с буквой закона, а всякий, кто преступил закон, должен умереть.
Совершенство, поисками которого занимается Платон в своей политической философии, может быть реализовано только при условии всеобщего угнетения. Это является условием реализации большинства последующих утопических теорий, какую бы степень свободы они не декларировали. Единственным элементом, который отсутствует у Платона, но присутствует в большинстве позднейших утопий – прогрессивная концепция истории. Она появилась лишь после зарождения христианства, и сейчас мы рассмотрим ее подробнее.
Джон Грей утверждает, что «современная политика – это лишь глава в истории религий»[323]. В этом он прав, по крайней мере, отчасти. Политические утопии современности в значительной степени являются светскими вариантами христианского представления о рае. Это касается и тех идеологий, которые категорически настаивали на том, что в их основе лежит наука, таких как марксизм и нацизм. В своем утверждении Грей основывается на работах Нормана Кона, прежде всего на книге «В поисках тысячелетнего царства»[324]. Кон демонстрирует, что коммунистическая и нацистская идеологии подчинялись той же логике, которой следовали милленаристские секты Средневековья. Ядром этих систем являлось представление о конце времени, о скором переходе в состояние, в котором больше не будет голода, болезней и страданий, что скоро силы зла будут повержены в решающей битве. Современные утопические движения придерживаются похожего сценария, предусматривающего глобальную трансформацию, в ходе которой все несовершенства мира будут устранены. Однако для этого требуются радикальные меры. Старый мир должен быть разрушен для того, чтобы на его месте могло возникнуть новое, совершенное общество.
Апокалиптические движения Средневековья ожидали второго пришествия Христа, который будет править новым царством. Когда мы сегодня слышим слово «апокалипсис», оно ассоциируется у нас с катастрофой, но на самом деле это греческое слово обозначало отдернутую вуаль, откровение, как в Откровении Иоанна, постигшего тайны небесные. То есть апокалипсис – это спасение, а не катастрофа. Это спасение и является целью истории: когда цель будет достигнута, история закончится. Точно так же Маркс и Энгельс пишут в «Манифесте коммунистической партии», что коммунизм является ответом на загадку истории.
Кон выделяет пять черт веры в спасение в таких средневековых сектах:
1. Спасение коллективно и касается всего общества.
2. Спасение имеет земной характер, оно будет достигнуто в земном мире, а не на небесах.
3. Спасение уже близко.
4. Спасение тотально, то есть речь идет не просто об улучшении, но о полной трансформации и достижении совершенства.
5. Спасение чудесно, то есть зависит об божественного вмешательства.
Современные революционные и утопические движения разделяют все эти представения, с той лишь разницей, что на место Бога помещается человек. А элементы чуда встречаются у того же Маркса. К примеру, совершенно неясно, каким именно образом осуществится скачок от переходной фазы, которая, по признанию самого Маркса, не является раем, к тому, что Маркс называет «высшей фазой» коммунизма, то есть реализованной коммунистической утопией.
Ортодоксальное христианство утверждало, что Царство Божие сначала будет достигнуто на небесах, и что перед этим Христос вернется и победит силы тьмы. Отдельные секты перевернули эту идею с ног на голову и заявили, во-первых, что Царство Божие будет достигнуто на земле, а во-вторых, что достижение этого состояния является необходимым условием второго пришествия Христа. Из этого следует, что люди прежде всего должны были очиститься, чтобы сделать возможным Царство Божие на земле. Одной из самых известных попыток реализации этой идеи стала мюнстерская коммуна 1534–1535 гг.[325]
В 1534 году анабаптисты захватили власть в Мюнстере и образовали теократическое государство, которое поразительным образом предвосхитило современные коммунистические государства и отчасти послужило им образцом. Анабаптисты назвали свое государство «Новый Иерусалим». Нидерландский священник Ян Маттис был лидером этого движения и считал, что он избран не более и не менее чем для достижения мирового господства, и что он призван очистить мир от всякого зла, чтобы подготовить почву для второго пришествия Христа и начала новой эпохи. Маттис утверждал, что остальной мир вскоре погибнет, и лишь Мюнстер будет спасен. Ему поверило огромное количество людей, и целые толпы начали стекаться в город. Маттис довольно быстро погиб самым абсурдным и самоубийственным образом, и власть в городе перешла к Иоанну Лейденскому, который развил идеи Маттиса в радикальном направлении. Первым пунктом его программы было очищение города от всякой грязи. Изначально анабаптисты планировали казнить всех лютеран и католиков, однако в итоге они ограничились изгнанием, собрав их всех и выставив за городские ворота в разгар снежной бури. Та же участь постигла стариков и инвалидов. Изгнанники должны были оставить в городе все свое имущество. Затем было запрещено иметь в личном распоряжении деньги, так что власти могли единолично решать, кто и сколько денег должен получить. Затем из домов забрали всю еду, а также было упразднено право собственности на жилища. После этого был введен принудительный труд. Были сожжены все книги, за исключением Библии. Несогласные были посажены в тюрьму или казнены как безбожники. Постепенно смертная казнь становилась все более распространенным наказанием не только за убийства и кражи, но также за обман и за любые формы непослушания. Правители все богатели и жили в роскоши, народ становился все беднее. В 1535 году город был взят, анабаптистские лидеры были подвергнуты пыткам и смертной казни, а город вернулся в лоно католической церкви. Этот эпизод из истории Мюнстера был бы отнесен скорее к историческим курьезам, если бы не был столь очевидным историческим прообразом тоталитарных режимов наших дней.
Сегодня происходит секуляризация христианского представления о прогрессе, наиболее наглядно продемонстрированная Гегелем, который в свою очередь был основным источником вдохновения для Маркса. Гегель подводит все жестокие меры под историческую перспективу, в которой каждый индивид должен рассматриваться как средство, и «хитрость разума» должна обеспечить непременный прогресс. Гегель описывает историю как жертвенный алтарь[326]. Все жертвы на этом алтаре рассматриваются как чисто случайные в сравнении с разумной и благой тотальностью. «Сила мирового духа» перевешивает все остальное, и всемирная история существует в более высокой плоскости, нежели мораль.
Гегелевская теоретическая концепция истории в марксизме превратилась в весьма практическую и конкретную цель. Подобно тому, как Гегель оправдывал совершенное ранее зло отсылкой к истории в целом, так и марксисты считали возможным оправдание нынешнего и будущего зла. Это четко сформулировал Дьердь Лукач:
$$$«Высшим долгом человека в коммунистической этике является признание необходимости аморальных действий. Это самая большая из жертв, которых потребует от нас революция. Истинный коммунист убежден, что зло трансформируется в добро посредством диалектики исторического развития»[327].
Политическая идея должна объяснять и оправдывать исторический процесс и жертвы, которых он потребует. Каждое действие должно быть оправдано этой идеей, которая – в силу того, что она является законом самой истории или природы – ставится выше каждого человека в отдельности. Эта марксистская версия теологического подхода к этике, допускающего, что моралью можно пожертвовать ради высшей цели, привела к гибели более ста миллионов человек. Причиной катастрофы стало именно то, что служение великому историческому прогрессу затмило в сознании людей все этические нормы.
Маркс был не первым коммунистом в истории, ему предшествовали как минимум анабаптисты в Мюнстере. Как и Иоанн Лейденский, Маркс был представителем апокалиптического коммунизма. Маркс был категорически несогласен с теми, кто призывал к постепенному воплощению коммунистического идеала: например путем улучшения условий труда рабочих на заводах и т. п. Вместо этого он предлагал позволить капитализму зайти в своем развитии в тупик, так что не останется никакого выхода, кроме радикального переворота. Его идея была в том, что улучшать старое бесполезно, необходимо строить новое.
Марксизм имеет множество черт, роднящих его с религиозной идеологией. Это утверждение кажется слишком смелым, учитывая, что едва ли когда-либо существовала политическая идеология, столь категорически отрицавшая всякую религию. Все дело в том, что марксизм воспроизводит христианскую логику апокалипсиса, с той лишь разницей, что место Бога занимают люди и история. Как второе пришествие Христа означает конец истории, так и коммунистическое общество является финальной, «высшей» фазой исторического развития.
Маркс мало писал о том, как конкретно должна быть реализована его утопия. И это было достаточно мудро с его стороны, поскольку ему удалось сохранить атмосферу тайны. Однако кое-что все-таки можно выяснить, к примеру то, что в этом обществе каждый отдает по способностям и получает по потребностям. Далее, в этом обществе люди должны иметь возможность развиваться так, как они сами того желают, не будучи связанными лишь одним видом деятельности. В одном из известных пассажей Маркс критикует капиталистический принцип разделения труда:
$$$«Дело в том, что как только появляется разделение труда, каждый приобретает свой определенный, исключительный круг деятельности, который ему навязывается и из которого он не может выйти: он – охотник, рыбак или пастух, или же критический критик и должен оставаться таковым, если не хочет лишиться средств к жизни, – тогда как в коммунистическом обществе, где никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра – другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, – как моей душе угодно, – не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком»[328].
Многие идеалы могут казаться очень привлекательными в теории, но как только мы пытаемся представить себе, каким образом их можно реализовать на практике, все оказывается гораздо сложнее. Ярким примером является известная формулировка Маркса «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Проблема заключается в том, что для реализации этой идеи понадобится очень строгий контроль над всеми без исключения гражданами, другими словами: тоталитарное государство. Кроме того, сложно представить, каким образом такому обществу удастся достичь нормальных объемов производства. Отметим, что ни одна из идей Маркса о труде так и не была реализована ни на одном конкретном предприятии. Общество, в котором производство организовано в соответствии с изложенными Марксом принципами труда, будет крайне неэффективным и окажется отброшено на много веков назад в том, что касается материального благосостояния, а это в свою очередь приведет к сокращению продолжительности жизни, росту детской смертности, голоду и т. д.
Маркс описывал переходную фазу от капитализма к коммунистическому раю как «диктатуру пролетариата», которая могла приводить к «некоторым неудобствам», по его собственным словам. Пока высшая фаза коммунизма не будет достигнута, необходим строгий контроль. В само́м утопическом государстве, после достижения высшей фазы, наступит полная свобода, и даже государство прекратит существование, однако путь к этому обществу требует угнетения индивидуальной свободы. А поскольку реализовать утопию невозможно, несвобода будет перманентной. По крайней мере, в попытке реализовать коммунизм эта «переходная фаза» оказалась бесконечной.
В работе «Государство и революция» Ленин утверждал, что при диктатуре пролетариата нет необходимости прибегать к тотальному принуждению, необходимо преследовать лишь врагов государства и революции, ведь режим должен служить народу[329]. Проблема, однако, заключалась в том, что народ не соответствовал представлениям Ленина, а позднее и Сталина, о том, каким он должен быть, а следовательно, повышался уровень насилия и принуждения по отношению к тем рабочим и крестьянам, которым этот режим должен был служить.
Можно было бы предположить, что насилие и принуждение в данном конкретном случае были скорее пережитками царского режима, нежели свойствами самого коммунизма. Но дело совсем не в этом. Разумеется, людей казнили и в царские времена, однако число казненных за последние 50 лет царского режима составляло приблизительно 14 000 человек, тогда как за первые шесть лет после революции по приказам ЧК было убито 200 000 человек[330]. Таким образом, число казненных выросло с 280 до 33000 человек за год, то есть в 120 раз. В тайной полиции царской России было около 15 000 служащих, тогда как в ЧК в 1921 году насчитывалось 250 000 работников. При царе существовал принудительный труд, но далеко не в тех объемах, что при большевиках. Я привожу все эти факты не для того, чтобы приукрасить монархию – у меня нет для этого никаких причин, – но чтобы показать, насколько жестокими переменами сопровождалась большевистская революция. Угнетение народа не было пережитком царского времени, оно было продуктом утопической идеологии.
Ленин открыто заявлял, что люди, которые будут жить при высшей фазе коммунизма, совсем не похожи на тех обычных людей, которых он видел в реальном обществе вокруг себя. Коммунистический рай не смог бы существовать с обычными людьми. С этой точки зрения целью коммунистической революции было не столько освобождение существующих людей, сколько устранение их или по крайней мере их радикальная трансформация. Необходимо было создать новый тип людей. В отличие от нацизма, большевизм не был расистской идеологией, хотя некоторые аспекты расизма в нем все же содержались: в частности антисемитизм Маркса, принявший довольно радикальную форму при Сталине. Как и нацисты, большевики считали, что новый человек будет создан при помощи науки, хотя в обоих случаях речь идет скорее о подогнанных под идеологию псевдонаучных представлениях.
Сразу после революции начал складываться класс людей, терявших свои права, включая право на получение пищи[331]. Уже в 1918 году эта категория деклассированных насчитывала пять миллионов человек. Это, мягко говоря, необычно, учитывая, что революция была основана на идеологии эгалитаризма. Начиная с 1932 года все советские граждане были обязаны постоянно носить при себе паспорт, и в этих паспортах люди были категоризированы не только по возрасту и полу, но также по социальному классу и национальности. Была заявлена цель очистить большие города от нежелательных элементов, что привело к массовым депортациям, жертвы которых были обречены на нищету и весьма вероятную смерть[332]. Чистки при Сталине носили гораздо более расистский характер, чем принято считать. Они были направлены главным образом против выходцев с Кавказа и из Крыма, но также и против азиатов, евреев и т. д. Впрочем, этническая принадлежность была лишь одним из критериев. Разряд нежелательных постоянно пополнялся все новыми группами населения. Истинной причиной чисток была постоянная паранойя большевиков, которым якобы угрожали подрывные силы. Массовые аресты в Советском Союзе приобрели огромный размах в 1937 году, когда многие начали жаловаться, что общество, в котором они живут, не соответствует их ожиданиям. Все было совсем не так, как обещала утопия. Это привело не к решению проблем идеологии, а к поиску все новых козлов отпущения. Виновниками неудачи были объявлены регрессивные элементы, подрывавшие развитие утопии. Идеологическая доктрина была, разумеется, важным элементом перевоспитания людей, но злейшие враги революции должны были быть сурово наказаны принудительным трудом, а если они были совершенно безнадежны и не подлежали исправлению, их необходимо было устранить. Человека должен был облагородить тяжелый труд. Лагеря ГУЛАГ представляли собой концентрационные лагеря, куда помещались отдельные лица и целые группы, угрожавшие чистоте общества, а следовательно, и утопии в целом.
Слово «троцкист» использовалось для обозначения особо опасных врагов партии, государства и революции, и его значение постоянно менялось в зависимости от смены политических обстоятельств и заключения новых альянсов, так что со временем достаточно было совсем немногих оснований, чтобы назвать человека «троцкистом». Членов Центрального Комитета партии не останавливало то, что врага невозможно было описать достаточно точно. Вместо этого они выводили все менее точные критерии выбора «врагов», так что в эту категорию попадало все больше кандидатов, включая не только самого «врага», но также его семью и друзей. Поразительнее всего то, что подавляющее большинство узников советских лагерей происходили из низших классов. В 1934 году 93,7 % всех заключенных имели лишь начальное образование или вовсе никакого, против 88,3 % в 1940 году. Судя по всему, пролетарской диктатуре не нужны были настоящие пролетарии. И в этом заключается самая суть проблемы: реальные люди на самом деле совсем не такие, как описано в утопиях, и предпочтение отдается не им.
Любая политика является формой социальной инженерии. Карл Поппер различает утопическую и поэтапную социальную инженерию как модели развития общества[333]. Утопическая социальная инженерия предполагает трансформацию общества в один прием. Состояние существующего общества признается настолько неприемлемым, что спасти его путем постепенных изменений невозможно. Все старое необходимо уничтожить, чтобы расчистить место новому. Одна из величайших трудностей социальной инженерии состоит в том, что она предлагает готовое решение, и любые возможные проблемы могут быть объяснены только некомпетентностью или саботажем, ведь идеал должен оставаться безупречным.
Реализованная утопия или рай – это место для ангелов и героев, а не для реальных людей. Человек не безупречен, ему свойственно ошибаться. Таким несовершенным существам нет места в утопии. В ней нет места нам с вами. Помимо склонности к ошибкам, человеку свойственен плюрализм ценностей, люди могут стремиться к целям, которые не просто различаются, но иногда противоречат друг другу. Мы исходим из того, что существует множество истинных ценностей – к примеру, свобода и равенство, – которые часто вступают в конфликт друг с другом. Эти конфликты являются неотъемлемым элементом жизни, с которым мы просто должны смириться. Важно понимать, что подобные конфликты могут возникать не только между различными группами людей, но даже внутри отдельного индивида. Во многих случаях правильного ответа просто не существует, а точнее, существует несколько правильных ответов, в зависимости от того, какие ценности мы ставим во главу угла. В силу того, что люди руководствуются различными ценностями и идеалами, все это будет иметь место в каждом обществе. С учетом этого любая утопия может быть реализована лишь при условии тотального подавления, поскольку утопии предполагают разрешение всех конфликтов и организацию всего общества на основе единого представления о благополучной жизни, которое должны разделять все его граждане.
Утопии несовместимы ни с плюрализмом, ни с вероятностью ошибок. Вместо того чтобы стремиться к реализации утопий, нам следовало бы пытаться достичь мирного сосуществования групп и индивидов, обладающих различными и зачастую несовместимыми представлениями о благополучной жизни, так чтобы это сосуществование удовлетворяло минимальному этическому порогу. Поппер совершенно прав в своем утверждении: «Нужно работать для устранения конкретного зла, а не для воплощения абстрактного добра. Не надо стремиться к установлению счастья политическими средствами. Лучше стремиться к устранению конкретных видов нищеты»[334]. Важно сфокусироваться на происходящем здесь и сейчас вместо того, чтобы жертвовать настоящим ради прекрасного будущего. Даже тот, кто выступает против утопической социальной инженерии и поддерживает поэтапное изменение, может иметь идеалы, возможно, даже представления о совершенном мире, носящие почти утопический характер, однако он всегда будет готов пересмотреть свои идеалы и найти компромисс, столкнувшись с тем, что реализация этих идеалов здесь и сейчас обходится слишком дорого. Идеалы допускают возможность постепенной реализации исходя из различных типов общества, тогда как утопия является проектом «под ключ», который требует немедленного и полного воплощения. В утопической социальной инженерии нет места компромиссам. Цель утопии – общество, при котором человек будет процветать как никогда ранее – столь привлекательна, что никакая цена не кажется слишком высокой. Как пишет Поппер: тот, кто стремится к реализации царствия небесного на земле, может преуспеть лишь в превращении нашего мира в ад.
В пьесе «Веер леди Уиндермир» Оскар Уайльд пишет: «В нашей жизни возможны только две трагедии. Одна – это когда не получаешь того, что хочешь, другая – когда получаешь. Вторая хуже, это поистине трагедия!»[335]. Весь наш опыт свидетельствует о том, что если мы слышим фразу «ты наконец получил, что хотел», что-то обязательно пойдет не так. И ни одна область жизни не иллюстрирует эту мысль столь же наглядно, как политические утопии.
9 Либеральные права
Либерализм – теория политической свободы, и эта теория существовала еще до того, как возникло само понятие. Когда Джон Локк писал свой «Второй трактат о правлении», он не планировал дать начало новой идеологии под названием «либерализм», поскольку в то время такого слова еще не было. И хотя следует соблюдать определенную осторожность, основываясь в своих суждениях о каком-либо понятии на основании его этимологии, я скажу, что слова «либерал» и «либерализм» связаны прежде всего именно с понятием свободы[336]. Во времена Локка в политике еще не существовало либералов; по крайней мере, не было политической группы, обозначавшей себя при помощи этого слова. Слово «либерализм» происходит от слова «либерал», которое в XIV веке использовалось для обозначения людей, которые фактически обладали свободой, в отличие от тех, кто ею не обладал. В XV веке понятие было расширено и стало включать в себя несколько значений, включая свободу воли, но все еще использовалось главным образом для обозначения определенных возможностей и привилегий. Лишь в XVIII–XIX вв. это слово начали использовать для обозначения общей политической позиции, не связанной с классовым положением. Кроме того, лишь в XIX веке впервые возникло понятие «либерализм» – долгое время спустя после написания текстов, которые считаются каноническими в либеральной философской традиции. Именно в это время у слова «либерал» появилось специфическое политическое значение, а слово «либерализм» стали использовать для обозначения политической идеологии[337]. Таким образом, мы используем понятие «либерализм» ретроспективно, когда говорим о либеральных правах и либерализме в связи с философскими работами, написанными до XIX века. Мы видим, что понятие либерализма связано главным образом с определенными возможностями, которые позднее трансформировались в известные нам либеральные права и свободы. Эти права представляют собой своего рода нормативный абсолют, устанавливающий неприкосновенные границы, которые не имеют права нарушать ни государственная власть, ни группы людей, ни отдельные индивиды. Эти права определяют пространство свободы, которое Милль описывает как «круг, описанный вокруг каждого человеческого индивида», и в который никто не может вступить без дозволения самого индивида[338].
Идея о том, что все люди исключительно в силу того, что они являются людьми, имеют право на такое неприкосновенное пространство, является скорее исключением, нежели правилом в ходе исторического развития. Это очевидно из того, как широко было распространено рабство. Принято считать, что четыре из пяти развитых сельскохозяйственных культур основывались на рабском труде в той или иной форме. Значительная часть населения Африки – как минимум одна треть – находилась в рабстве еще до того, как развилась обширная сеть работорговли в Европе и Америке. Экономика античной Греции и Рима была основана на рабстве. Если взглянуть на исторические предпосылки философских дискуссий о свободе, мы увидим, что все они связаны с феноменом рабства[339]. Среди философов античной Греции рабство не вызывало особых разногласий[340]. Одним из немногих исключений был софист Алкидам Элейский, писавший: «Бог создал всех людей свободными. Природа никого не сотворила рабом»[341]. Многие считают, что время рабства осталось далеко в прошлом. Это весьма далеко от истины, поскольку никогда еще в мире не было так много рабов, как в наши дни. Конечно, в относительных цифрах раньше рабов было больше, но в абсолютных величинах все обстоит именно так. Если под словом «раб» мы подразумеваем человека, который вынужден работать бесплатно под угрозой насилия, не имея возможности отказаться или уехать, то в наши дни в мире насчитывается приблизительно 27 миллионов рабов[342]. Значительная их часть приходится на Индию и Африку, однако случаи торговли людьми встречаются и в развитых странах. Рыночная стоимость раба в наши дни варьируется в зависимости от географического положения, однако в среднем эта стоимость не превышает 100 американских долларов. То есть за вполне умеренную сумму можно купить человека и использовать его точно так же, как мы пользуемся любым другим инструментом, по своему собственному усмотрению. Рабство представляет собой полную противоположность тому, чего мы хотим от жизни, и просто поразительно, как мало внимания уделяют этому вопросу политики. Раб является парадигматическим примером несвободы, поскольку он лишен всяких прав и полностью подчинен чужой воле.
Права являются необходимой предпосылкой свободной жизни. Можно сказать, что эти права навязываются гражданам, поскольку отказаться от них нельзя, даже если очень захочется. Мы не можем согласиться или отказаться от обладания этими правами. Разумеется, мы можем не пользоваться своей свободой слова, но принять необратимое решение и навсегда отказаться от нее у нас не получится. Самым наглядным примером отказа от своих либеральных прав было бы решение добровольно продать себя в качестве раба. Некоторые теоретики утверждали, что каждый человек в действительности имеет право полностью и навсегда отказаться от своего права на свободу и продать себя в рабство[343], однако в этом вопросе я скорее согласен с Джоном Стюартом Миллем, который пишет:
«Так, например, у нас и в большей части других цивилизованных государств признается недействительным обязательство, по которому человек продает себя в рабство или соглашается на подобную продажу; силу такого рода обязательств равно отрицают и закон, и общее мнение. ‹…› Действия индивидуума, касающиеся только его самого, признаются не подлежащими ничьему вмешательству единственно из уважения к его индивидуальной свободе; свободный выбор индивидуума принимается за очевидное свидетельство, что избранное им для него желательно или по крайней мере сносно, и его личное благо признается наилучше для него достижимым при том условии, если ему предоставлена будет свобода стремиться к этому благу теми путями, какие он признает за лучшие. Но продажа себя в рабство есть отречение от своей свободы; это – такой акт свободной воли индивидуума, которым он навсегда отрекается от пользования своей свободой, и, следовательно, совершая этот акт, он сам уничтожает то основание, которым устанавливается признание за ним права устраивать свою жизнь по своему усмотрению. С минуты совершения этого акта он перестает быть свободным и ставит себя в такое положение, которое не допускает даже возможности предположить, чтобы он мог оставаться в нем по своей воле. Принцип свободы нисколько не предполагает признания за индивидуумом свободы быть несвободным. Признать за индивидуумом право отречься от своей свободы не значит признавать его свободным»[344].
Вопрос о том, когда именно возникла мысль о правах человека, является достаточно спорным. В самом широком понимании достаточно трудно представить себе, что когда-либо существовало общество, лишенное определенных правил, позволяющих индивидам и группам действовать определенным образом и запрещающим им совершать определенные действия по отношению друг к другу. Без таких правил, представленных хотя бы в зачаточном состоянии, общество просто не смогло бы существовать. Однако настолько широкое понятие о правах совершенно не информативно. Если мы посмотрим, когда люди начали говорить о «правах» как неких объективных условиях, то найдем примеры подобного уже в греческой и римской античности, где общества имели «правовую организацию», и каждый индивид обладал своими «правами». Однако это понятие объективных прав весьма отличается от того, что мы считаем своими правами сегодня. К примеру, это понятие подразумевает, что человек получил наказание «по праву», будучи казненным за преступление. Право человека, понимаемое как нечто, принадлежащее ему как субъекту и подразумевающее признание за ним определенной неприкосновенной области, в которой он имеет возможность полного самоопределения, является относительно новым явлением.
Раньше было принято начинать рассказ о либеральных правах с философии Локка конца XVII века, однако теперь большинство исследователей согласны с тем, что в этот рассказ следует включать и философию Гоббса и Гроция, живших на целый век раньше. Кое-кто даже склонен начинать этот разговор с Оккама, жившего в XIV веке, хотя это уже достаточно спорно. Разумеется, создание Великой хартии вольностей в 1215 году тоже было важным шагом на пути развития представления о либеральных правах. И все же возникновение идеи о том, что люди обладают некими врожденными правами, можно с уверенностью констатировать лишь начиная с позднего Средневековья[345].
С точки зрения Локка, все люди рождены свободными и равными, и они имеют определенные права, действующие независимо от законов, принятых в различных обществах. Каждый индивид имеет право собственности на свою жизнь, а следовательно, и право распоряжаться ею по своему усмотрению, и важнейшей задачей государства является защита этих прав. Это обеспечивается посредством законов, которым люди должны подчиняться, и эти законы не ограничивают, но увеличивают свободу человека. Целью установления законов, которые санкционируются государственной властью, является, в формулировке Локка, защита «естественного Закона», согласно которому все люди рождаются равными и свободными, и, следовательно, никто не имеет права вредить чужой жизни, здоровью, свободе или собственности. Здесь, у самых истоков либеральной традиции, уже ясно, что идея о правах человека играет важнейшую роль. Развитие либерализма неразрывно связано с развитием идеи о правах человека. Свобода, к обеспечению которой стремится либерализм, закреплена в ряде конкретных прав.
Необходимо подчеркнуть, что все права, о которых пойдет речь, должны быть обеспечены каждому человеку, независимо от его этнической принадлежности, пола, религии и т. д. Исходя из этого, мы могли бы пользоваться выражением «права человека»[346]. Эти права должны быть врожденными, одинаковыми для всех людей и во всех странах. Я пользуюсь выражением «либеральные права» вместо более конкретного «права человека», потому, что последнее выражение ассоциируется в первую очередь с определенным набором прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека (1948), Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950), Конвенции ООН о гражданских и политических правах (1966), а также Конвенции ООН об экономических, социальных и культурных правах (1966). Либеральные права частично совпадают с правами человека, однако расходятся с ними в нескольких важных аспектах. Во-первых, либеральные права имеют более ограниченный объем: чаще всего речь идет о нескольких фундаментальных правах. Далее, права человека в том виде, в котором они закреплены в вышеупомянутых конвенциях, в первую очередь обязательны для соблюдения государствами, а не индивидами. Права в классическом либеральном понимании могут быть нарушены не только государством, но и отдельными индивидами либо группами людей, поэтому защита прав индивида от посягательств других людей является смыслом существования любого государства.
У философов раннего либерализма упоминается не так уж много основных прав. Проследив историческое развитие, мы, к нашему удивлению, обнаруживаем, что существует четкая корреляция между количеством прав и распространением либерализма: чем больше объем либеральных прав, тем шире распространяется идеология либерализма. Эта тенденция набрала большую силу особенно в последние годы, и, к сожалению, она может привести к размыванию статуса либеральных прав как абсолютного стандарта.
Объем либеральных прав
Понятие либеральных прав завоевало широкое признание несмотря на то, что в политической практике это далеко не всегда выражается на словах. И тем не менее существует немало критиков идеи либеральных прав, особенно среди марксистов. Сам Маркс отвергал представление об абсолютных правах человека – на свободу, безопасность, собственность, свободу вероисповедания – поскольку это представление было основано на неправильной концепции человека и не решало реальных социальных проблем. Он считал, что ориентация на права человека способствует лишь усилению человеческого эгоизма и что в действительности это приведет лишь к уменьшению человеческой свободы[347]. Настоящая свобода предполагает, что право собственности и свобода вероисповедания будут искоренены силой. Можно подумать, что с точки зрения Маркса человек имел не право на свободу, но обязанность быть свободным, причем свобода понималась нормативно исходя из заданного идеала. Именно этот вариант позитивной свободы был предметом нашей критики в главе 6. И все же марксистский взгляд на права человека является скорее исключением из всеобщего признания того факта, что эти права фундаментальны. В целом же идея о правах была столь привлекательной для представителей большинства политических движений, что скорее можно говорить о тенденции к избыточным попыткам определить и закрепить все больше и больше различных прав. С позиции классического либерализма такая тенденция является скорее нежелательной.
Можно утверждать, что идеология либерализма всегда находилась в движении, и формирование все более обширного списка прав является формой развития только социальных аспектов либерализма, в результате чего либерализм охватывает больше различных интересов. Как правило, при этом недооценивается степень ущерба, наносимого увеличением количества прав ядру либеральной идеологии. Смысл в том, что чем больше прав оказывается внесено в главный список, тем меньше остается в либерализме от теории о том, что правильно, и тем более он превращается в теорию о том, что хорошо. Многие, включая и меня самого, считают, однако, что одной из самых привлекательных черт либерализма как теории о политической свободе является его способность – в отличие от многих других идеологий – провести и сохранить различие между тем, что правильно, и тем, что хорошо. Именно поэтому увеличение числа прав является проблемой.
Вопрос о том, сколько пунктов необходимо включать в список фундаментальных прав, не имеет простого и однозначного ответа, в частности потому, что это зависит от ответа на вопрос о том, какой статус должны иметь эти права. Исходно права обладают большой нормирующей силой. Обладать неким правом означает, по выражению Рональда Дворкина, иметь на руках козырь[348], то есть тот факт, что кто-то может получить некоторое благо, действуя определенным образом, может быть побит тем фактом, что кто-то обладает правом, запрещающим нам действовать именно так. Однако если статус права приписывается слишком большому количеству вещей, нормирующая сила прав снижается. Для того чтобы права можно было рассматривать как абсолют, как козырь, основной список должен состоять из относительно небольшого числа пунктов. Когда мы существенно расширяем количество пунктов в этом списке, статус каждого из них неизбежно снижается. К примеру, право на труд зафиксировано во Всеобщей декларации прав человека. Статья 23 гласит: «Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы». Очевидно, что описываемое здесь право слабее, например, права на жизнь. Можно долго обсуждать, насколько вообще имеет смысл говорить о «праве на труд», однако это уведет нас далеко от темы[349]. В последние годы тенденция вписывать в список «прав человека» все больше различных пунктов набрала слишком большие обороты[350].
Сами по себе понятия либеральных прав и либерализма не содержат никаких рекомендаций по ограничению количества прав. Анализ этих понятий не даст нам указаний относительно того, какие именно права следует считать фундаментальными, а какие не следует включать в список прав. Далее, кажется очевидным, что объем прав будет варьироваться в зависимости от исторического контекста: к примеру, развитие современных технологий поднимает новые вопросы о сфере приватности. По этой причине список либеральных прав всегда остается до определенной степени открытым. И тем не менее с точки зрения либеральной философии чрезмерное расширение этого списка может считаться нежелательным в том числе потому, что в этот расширенный список включаются права другого типа, составляющие угрозу исходным либеральным правам.
Классические либеральные права индивидуальны, тогда как многие из прав, появившихся в последнее время, защищают интересы определенных групп, то есть не являются ни индивидуальными, ни универсальными. Далее, классические либеральные права носят скорее негативный, нежели позитивный характер, хотя их и нельзя однозначно отнести к области негативной свободы. К примеру, право на образование является позитивным правом. Некоторые права можно сформулировать как позитивно, так и негативно (к примеру, «право на питание» или «право на свободу от голода»). Не считая этого, классические либеральные права в основном сформулированы негативно, то есть в них закреплена свобода индивидов от различных вмешательств в их жизнь, тогда как новые права, такие как право на труд, отдых и различные материальные блага, главным образом позитивны.
Разберем сначала групповые права. Обоснованность их включения в список прав человека – вопрос довольно спорный. В этом отношении можно выделить три основные позиции:
1. Существуют групповые права, которые нельзя свести к индивидуальным правам.
2. Существуют групповые права, однако они лишь производны от индивидуальных прав.
3. Не существует групповых прав, все права индивидуальны. Приципиальная граница пролегает между позицией (1) и двумя остальными, поскольку лишь первая позиция предполагает существование групповых прав, а (2) и (3) признают лишь индивидуальные права, различаясь лишь в том, что позиция (2) допускает, что иногда может быть целесообразно говорить о правах на уровне группы, при условии, что эти права могут быть редуцированы до индивидуальных. В качестве примера позиции (2) можно привести граждан государства, которые рассматриваются как группа, которая, согласно Локку, имеет право сместить одно правительство и назначить другое. Классический либеральный взгляд на права совмещает в себе черты позиций (2) и (3), не допуская правоты позиции (1). Групповые права не могут существовать в рамках либерализма в том числе и потому, что они могут представлять собой угрозу индивидуальным правам независимо от того, находятся ли индивиды внутри группы или вне ее. К примеру, за группой может быть закреплено право, которое она может использовать против индивидов внутри группы для регулирования их жизни. Это особенно опасно в тех случаях, когда принадлежность к группе не является результатом свободного выбора, а следует из этнической принадлежности или подобных факторов. Были предприняты попытки решить эту проблему путем утверждения, что групповые права могут реализовываться только вовне, то есть по отношению к индивидам и другим группам, не входящим в данную группу[351]. Однако сложно представить себе, каким образом можно воплотить в жизнь подобное ограничение. Далее, существует опасность возникновения конфликтов между групповыми и индивидуальными правами и в том случае, когда индивид не является членом группы. Основной целью прав является защита индивидов от произвола, в том числе и со стороны различных групп. Если же мы оперируем понятием групповых прав, мы можем тем самым ослабить защиту отдельных индивидов в тех случаях, когда групповые права оказываются сильнее индивидуальных.
Можно попробовать решить эту проблему, признав определенные групповые права с тем условием, что индивидуальные права всегда имеют приоритет в случае возникновения конфликта. Либерализм защищает легитимное разнообразие. Это означает, что последователь либеральной философии должен признавать за другими людьми право жить иначе, чем живет он сам, даже если они предпочитают образ жизни, ставящий традиции и коллектив выше индивида и его автономии. И тем не менее либерализм настаивает на том, что индивид имеет приоритет перед группой в том смысле, что индивидуальные права неприкосновенны и очерчивают границы пространства, в котором индивид сам выбирает свой образ жизни, даже если этот образ жизни подразумевает коллективизм и традиционализм.
Говоря о позитивных правах с позиции классического либерализма, мы должны будем признать, что расширение списка прав является по большому счету следствием смешивания прав и интересов. Общество никогда не достигнет гомеостаза, поскольку в нем присутствуют индивиды и группы, чьи интересы противоречат друг другу, и все они стремятся организовать общество и контролировать жизнь окружающих в соответствии со своими интересами. Политика является по большому счету попыткой установить диалог между различными интересами. Между тем права не являются предметом диалога таким же образом, как интересы, поскольку права по умолчанию абсолютны и универсальны. Когда все возможные интересы будут наделены статусом прав, понятие прав окажется сильно размыто, а свобода действий в политике значительно уменьшится. Ситуация особенно осложнится тогда, когда права различных групп и индивидов придут к столкновению. В рамках либеральной концепции политической деятельности очень важно сохранить некую свободу действий, установив при этом определенные границы для того, что вообще подлежит обсуждению.
Существует довольно много благ, которые следует понимать скорее как политические задачи, нежели как права человека. В этом случае функция прав будет заключаться в очерчивании границ тех политических действий, которые являются приемлемыми для решения этих задач. Если включить в список прав абсолютно все, то права уже не смогут играть роль ограничителей политической власти. Вместо этого мы получим бесчисленные права, которые постоянно вступают в конфликт друг с другом, так что мы все время будем заняты поиском решений для этих конфликтов. В этом случае проще будет вообще отказаться от понятия прав и ввести вместо этого понятие интересов, которые нужно будет постоянно сравнивать с целью установить, который из них важнее. А это равнозначно полному отказу от абсолютных принципов.
Идеализм, подразумевающий бесконечное расширение списка прав, и прагматизм, не признающий абсолютных принципов, схожи в том, что на практике они ведут к одному и тому же: упразднению уникального статуса либеральных прав. Расширение списка прав мешает нам осознать принципиальное различие между интересами, которые могут быть более или менее легитимными, и абсолютными правами, которые должны соблюдаться в любом обществе, претендующем на то, что его граждане обладают политической свободой.
Список либеральных прав
Я полностью согласен со следующей формулировкой Уильяма Тэлботта:
$$$«Основная идея, на которой основаны права, состоит в том, что всем взрослым людям, обладающим нормальными когнитивными, эмоциональными и поведенческими способностями, должно быть обеспечено все необходимое для того, чтобы они могли принимать решения о том, что хорошо для них, реализовать эти решения, а также вносить свой вклад в определение тех правовых рамок, в которых проходит их жизнь»[352].
Другими словами, либеральные права должны гарантировать определенные условия, в которых возможна человеческая автономия. Либеральные права – это те права, которые обусловливают возможность индивидуальной свободы и обеспечивают ее защиту. Именно поэтому в следующем списке не упомянуто общего «права на свободу», ведь все остальные права в том или ином смысле являются правами на свободу.
Можно попытаться дать логическое обоснование таких прав, показав, что они ведут к увеличению благосостояния, и многие факты говорят о том, что общество, в котором эти права соблюдаются, предоставляет гражданам не только бóльшую политическую свободу, но и большее материальное благосостояние. Однако это обоснование опровергается существованием таких стран, как современный Китай, в котором увеличение материального благосостояния никак не связано с соблюдением либеральных прав. Тем самым консеквенциальные аргументы лишаются своей силы. Более распространенной является другая стратегия обоснования, согласно которой существа, обладающие способностью к автономии, должны иметь возможность реализовать эту автономию, а это возможно лишь тогда, когда им гарантированы соответствующие права. Я склонен с этим согласиться.
Права, входящие в предлагаемый список, должны быть обеспечены всем взрослым самостоятельным индивидам. Это не означает, что не взрослые и не автономные индивиды не должны иметь прав, но их права будут несколько отличаться. К примеру, маленькие дети по определению не имеют права на свободу от патерналистских вмешательств, и едва ли они имеют право голосовать, но вместе с тем они обладают бóльшими правами на благосостояние, нежели взрослые[353]. Некоторые права будут общими для обеих групп: к примеру, право на физическую безопасность. Впрочем, детальное обсуждение прав детей не входит в наши задачи. Не будем мы обсуждать и права животных, которые до определенной степени совпадают с либеральными правами и правами человека[354].
1. Право на безопасность. Это подразумевает прежде всего право не становиться объектом насилия со стороны других людей, в том числе право не подвергаться убийству, плохому обращению, пыткам и сексуальному насилию. Кроме того, это право включает в себя право не быть ограниченным в своих передвижениях (за исключением случаев, когда это санкционировано законом), а также право не делать что-либо против своей воли в результате психического или физического принуждения. Кроме того, это право включает в себя защиту от угроз быть подвергнутым всему вышеперечисленному.
2. Право считаться субъектом права, равенство всех перед законом и юридическая защита, а также свобода от незаконного задержания, ареста или депортации.
3. Право на неприкосновенность частной жизни и право на личную тайну.
4. Свобода слова, в том числе свобода средств массовой информации.
5. Свобода мысли и вероисповедания.
6. Право на частную собственность, а также защита от несанкционированного изъятия или порчи имущества.
7. Право на участие в демократическом процессе, а также право участвовать в управлении страной непосредственно либо через законно избранных представителей.
8. Свобода собраний и участия в организациях.
9. Право на получение образования и развитие своих когнитивных и эмоциональных способностей. Это право должно определять минимальный стандарт и отсутствие «потолка», то есть не ограничивать объем образования и уровень развития, который индивид сочтет для себя желательным.
10. Право на адекватное питание, жилье и здравоохранение. Очевидно, что это право также должно определять минимальный стандарт, учитывая подход на основе потенциала, а также отсутствие «потолка» в количестве перечисленных благ. Право на адекватное питание не может быть правом на фуа-гра и шампанское, а право на жилье не может быть правом жить во дворце. Право на здоровье не может быть приравнено к праву соответствовать понятию здоровья, сформулированному Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье есть состояние полного физического, ментального и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или недуга»[355]. Эти критерии просто не могут быть полностью удовлетворены, поэтому речь должна идти о достаточной степени соответствия. Из этого права следуют также некоторые обязательства по отношению к окружающей среде, поскольку чрезмерное ее загрязнение составляет угрозу здоровью.
11. Право самостоятельно определять те вещи, которые придают жизни смысл и ценность, а также реализовать эти представления на практике, не подвергаясь патерналистским вмешательствам.
Все эти права сугубо индивидуальны, и целью их является обеспечение автономии. Они не могут быть отнесены однозначно к позитивной и негативной свободе в трактовке Исайи Берлина. За исключением пункта 11, практически идентичный или очень похожий вариант всех этих прав можно найти во Всеобщей декларации прав человека (1948), которая, однако, содержит целый ряд прав, отсутствующих в моем списке, поскольку я считаю, что они либо непосредственно следуют из перечисленных прав (как, например, свобода от рабства следует из пункта 1), либо являются кандидатами в дополнительный список, который будет варьироваться в разных государствах (как, например, право на труд, оплачиваемый отпуск или право приобщаться к искусству). Пункт 11 является довольно необычным дополнением[356]. Однако он весьма важен, поскольку автономная жизнь не может быть реализована, если индивидам не гарантировано такое право.
Данный список не является исчерпывающим списком прав, которые должны быть признаны и соблюдаться в каждом обществе, и его следует дополнить целым рядом прав, формулировка которых будет зависеть от конкретного государства, его традиций и уровня развития. Приведенные 11 пунктов универсальны, тогда как дополнительные пункты будут варьироваться. Таким образом, этот список представляет собой абсолютный минимум, который должен быть обспечен гражданам любого общества. Список устанавливает принципиальные границы того, какие права могут быть признаны, но будут вынуждены уступить в случае возникновения конфликта с основными либеральными правами. Вероятными кандидатами в расширенный список являются, к примеру, свобода от дискриминации по признаку пола, этнической принадлежности, вероисповедания, сексуальной ориентации, а также право на безопасные условия труда.
В следующих главах я не буду подробно рассматривать все основные либеральные права, а ограничусь лишь разбором тех прав, которые в наибольшей степени подвергались ущемлению в современных либеральных демократиях: право на личную тайну, свобода слова, а также свобода от патерналистских вмешательств. Кроме того, мы поговорим о принудительном психиатрическом лечении, в рамках которого встречаются наиболее вопиющие нарушения прав человека в наше время.
10 Патернализм
Патернализмом называются вмешательства в жизнь людей с целью организовать их поведение в соответствии с тем, что другие считают способствующим их же собственным интересам. Существуют различные варианты патернализма. Общей чертой всех этих вариантов является лишение индивидов права на самоопределение в убеждении, что индивиды не в состоянии обеспечить свои интересы самостоятельно. Основная проблема патернализма заключается в том, что он отказывает человеку в самом человеческом его качестве, а именно в способности контролировать и организовывать собственную жизнь – как удачным, так и неудачным образом. С позиции патернализма, людей следует оберегать от необходимость прибегать к самоконтролю и пользоваться способностью к суждениям. Более того, лишь при помощи таких ограничений можно создать основу для истинной, позитивной свободы, поскольку именно она дает людям те возможности, которые необходимы им с рациональной точки зрения. После вводной части, посвященной традиционным формам патернализма, я направлю свое внимание на так называемый «либертарианский патернализм», который получил широкое распространение в политических кругах в последние годы.
В исторической перспективе либеральные философы были в основном антипатерналистами. Такая позиция, к примеру, четко сформулирована у Канта:
$$$«Правление (Regierung), основанное на принципе благоволения народу как благоволения отца своим детям, иначе говоря, правление отеческое (imperium paternale), при котором подданные, как несовершеннолетние, не в состоянии различить, что для них действительно полезно или вредно, и вынуждены вести себя только пассивно, дабы решения вопроса о том, как они должны быть счастливы, ожидать от одного лишь суждения главы государства, а дабы он и пожелал этого – ожидать от одной лишь его доброты, – такое правление есть величайший деспотизм, какой только можно себе представить (такое устройство, при котором уничтожается всякая свобода подданных, не имеющих в таком случае никаких прав)»[357].
Исайя Берлин пишет, что «патернализм обращается с человеком так, словно последний не свободен, но представляет собой некий материал, которому я, человеческий скульптор, могу придавать любую форму в соответствии со свободно избранной мною (а не другими людьми) целью», и патернализм деспотичен, «потому что он нарушает мое осознание себя как человека, стремящегося организовывать собственную жизнь в соответствии с собственными (не обязательно рациональными и человеколюбивыми) целями, и прежде всего имеющего право быть принятым таким, каким я являюсь»[358].
Джон Стюарт Милль пишет: «Только такая свобода и заслуживает названия свободы, когда мы можем совершенно свободно стремиться к достижению того, что считаем для себя благом, и стремиться теми путями, какие признаем за лучшие, – с тем только ограничением, чтобы наши действия не лишали других людей их блага, или не препятствовали бы другим людям в их стремлениях к его достижению. Каждый индивидуум есть лучший сам для себя охранитель своего здоровья, как физического, так и умственного и духовного»[359].
Милль формулирует следующие аргументы против патернализма:
1. Каждый индивид лучше всего приспособлен для того, чтобы понимать свое благо, и общая мера счастья в обществе увеличится, если индивиды будут вправе действовать в соответствии с его предпочтениями – это аргумент утилитаризма.
2. Всякое принуждение есть унижение человеческого достоинства – этот аргумент основывается на идее прав.
3. Возможность принимать собственные решение, как правильные, так и неправильные, является предпосылкой к развитию человеческой личности – это аргумент с позиции этики, с некоторыми чертами философии индивидуализма.
Как мы увидим в дальнейшем, исследования по экономическому поведению дают нам повод усомниться в аргументе (1), тогда как аргументы (2) и (3) по-прежнему кажутся весьма убедительными.
Формы патернализма
Можно выделить множество различных форм патернализма, многие из которых являются парными противоположностями[360]. Давайте вкратце рассмотрим важнейшие из них.
Жесткий и мягкий патернализм. Мягкий патернализм чаще всего понимается как форма патернализма, при которой человеку могут помешать совершить недобровольное действие, потенциально опасное для него самого, либо временно приостановить его деятельность, чтобы понять, являются ли его действия добровольными[361]. Для определения добровольности используются два аристотелевых критерия: индивид должен иметь возможность контролировать свои действия, и он должен обладать достаточными знаниями о том, что именно он делает. С позиции мягкого патернализма человек должен иметь возможность совершить потенциально опасное действие, если он удовлетворяет критериям контроля и осведомленности. Известный пример такой формы патернализма описан у Джона Стюарта Милля: Если человек пытается пройти по мосту, который считается недостаточно надежным, но идущего об этом не предупредили, то мы имеем право остановить его, руководствуясь предположением, что он не хотел бы подвергать себя опасности[362]. Если же после того, как его уведомили об опасности, человек все еще хочет пройти по этому мосту, ему следует позволить сделать это. Жесткий патернализм не учитывает такого параметра, как добровольность действия, но рассматривает лишь вопрос о том, способствует ли вмешательство благополучию, счастью, интересам и ценностям индивида. Если индивид выбирает не оптимальный вариант действий, с точки зрения жесткого патернализма допустимо осуществить вмещательство, чтобы обеспечить индивиду наилучший из возможных результатов.
Слабый и сильный патернализм. Слабый патернализм предполагает, что допустимо вмешательство с целью дать индивиду возможность выбрать средства, подходящие для достижения его цели. Если в системе ценностей человека безопасность стоит выше свободы, будет правильно вмешаться в его действия, когда он, к примеру, забывает надеть велосипедный шлем. Если же свобода для индивида важнее безопасности, нужно позволить ему кататься без шлема. Таким образом, слабый патернализм касается исключительно средств, которые индивид использует для достижения своих целей, а сами цели он может определять совершенно самостоятельно. Сильный патернализм, напротив, предполагает, что индивиды могут иметь неправильные цели, или же неправильно расставлять приоритеты среди различных целей, поэтому допустимо вмешательство, препятствующее индивиду в достижении неправильных целей. К примеру, с точки зрения сильного патернализма и личная безопасность, и свобода могут быть важными целями, но безопасность имеет приоритет, а потому следует заставить человека надеть велосипедный шлем. Слабый патернализм может влиять лишь на средства достижения целей, установленных самим индивидом, тогда как сильный патернализм может касаться как средств, так и целей. Слабый патернализм нейтрален в отношении человеческих предпочтений, сильный патернализм допускает вмешательство в эту область.
Широкий и узкий патернализм. Широкий патернализм рассматривает все возможные источники патерналистских вмешательств, будь то государственная власть, религиозные общины, другие индивиды или кто-то еще. Узкий патернализм считает допустимым вмешательство лишь со стороны государственной власти.
Социальный патернализм. Это достаточно редко используемое выражение, одним из смыслов которого является противопоставление «социальных» вмешательств «государственным», то есть этот тип патернализма исходит из социального окружения индивида – к примеру, членов его семьи или религиозной общины, а не от государственной власти. Таким образом, под социальным патернализмом понимаются негосударственные аспекты широкого патернализма. Кроме того, отдельные теоретики используют понятие социального патернализма в значении, которое подразумевает в интересах других людей нарушение права человека на самоопределение[363]. По моему мнению, это использование ошибочно, поскольку патернализм по определению является вмешательством в жизнь индивида в его же интересах. Если вмешательство происходит в интересах других людей, то речь идет не о патернализме, а о самом обыкновенном принуждении. (Разумеется, вмешательства в жизнь индивида могут быть мотивированы одновременно и его интересами, и интересами других людей, но именно присутствие интересов самого индивида среди мотивов дает нам право говорить о патернализме.)
Либертарианский патернализм
Теория Ричарда Талера и Касса Санстейна о либертарианском патернализме вызвала множество дискуссий в последние годы. Впервые теория была сформулирована в статьях «Либертарианский патернализм» (2003) и «Либертарианский патернализм – не оксюморон» (2003), а затем получила широкую известность после выхода книги «Nudge»
(пер. с англ.: «Подталкивание») (2008)[364]. Либертарианский патернализм предполагает мягко подталкивать людей в направлении, которое будет способствовать улучшению их благосостояния, не лишая их возможности выбрать альтернативы[365]. Подобная система, с точки зрения авторов, удовлетворяет как принципу централизованного управления в социальной демократии, так и либеральному принципу сохранения свободы выбора. На следующих страницах я попытаюсь показать, что в действительности теория либертарианского патернализма малопривлекательна, и мои аргументы против этой теории будут справедливы и в отношении более сильных вариантов патернализма.
Учитывая традиционное неприятие патернализма в либеральной философии, выражение «либертарианский патернализм» кажется оксюмороном, то есть сочетанием слов с противоположным значением. Как гласит название одной из статей Талера и Санстейна, они настаивают на том, что это не оксюморон. Другими словами, они считают, что их версия патернализма приемлема для либералов и либертарианцев[366]. Сами они пишут следующее: «Мы предлагаем либертарианскую по духу форму патернализма, которая может оказаться приемлемой для самый ярых сторонников свободы выбора на основе как автономии, так и благосостояния»[367]. Я хотел бы подробно рассмотреть скорее теоретические предпосылки их позиции, нежели конкретные меры, которые они предлагают. Прежде всего я вкратце обрисую некоторые аксиомы экономического поведения, лежащие в основе либертарианского патернализма.
Основы современных исследований экономического поведения были заложены психологами Дэниелом Канеманом и Амосом Тверски. Изначально их исследования проводились без отсылки к экономике, однако довольно быстро стало ясно, что выводы из их экспериментов имеют самое непосредстенное влияние на экономику. Я не буду вдаваться в детали их исследования, которое в общем и целом показывает, что наши решения далеко не всегда так рациональны, как мы привыкли думать[368]. Классическая экономика предполагает, что индивиды действуют рационально, исходя из личных предпочтений, а также той релевантной информации о ситуации, которой они располагают. Едва ли кто-то предполагал, что все люди действительно поступают именно так, но по методологическим причинам приходится допустить такую упрощенную схему, подобно тому, как в физике шар катится по абсолютно ровной плоскости, лишенной трения, или в ваккуме, хотя едва ли такие условия могут существовать в реальном мире. Однако поведенческая экономика показала не просто некоторые отклонения от идеальной модели, какие мы обнаружили бы и в реальном физическом эксперименте с реальным шаром на реальной плоскости: выяснилось, что люди думают и действуют совершенно не так, как предполагалось в классической экономике. Со временем появилось множество работ, доказывающих это[369]. Исследования по поведенческой экономике показали, в частности, что мелкие и совершенно нерелевантные факторы зачастую заставляют индивидов принимать те или иные решения. К примеру, необходимость потратить две минуты на заполнение анкеты может быть достаточной причиной для отказа от участия в проекте, который может принести большую выгоду в долгосрочной перспективе. В этой связи Талер и Санстейн утверждают, что путем установления правильных стандартов можно нейтрализовать подобные негативные факторы и способствовать принятию правильных решений. Они указывают также на тот факт, что людям часто не хочется утруждать себя изучением сложных вопросов, предполагающих множество различных альтернатив, поэтому «тщательно выбранный стандарт, подталкивающий их в благоприятном направлении», был бы для них настоящим спасением[370].
Санстейн и Талер пишут: «Предположение, что необходимо уважать индивидуальные решения, обычно основывается на утверждении, что люди способны принимать оптимальные решения или как минимум делают это лучше, чем кто-либо может сделать за них»[371]. Здесь мы видим самое уязвимое место их теории: она основывается на допущении, что противники патернализма в целом противятся ему из-за уверенности в том, что человек представляет собой homo oeconomicus. Ту же ошибку допускает Дэниел Канеман в своей последней книге «Думай медленно, решай быстро», в которой он поддерживает теорию либертарианского патернализма Талера и Санстейна[372]. Канеман критикует якобы либертарианское представление о том, что люди рациональны в своих действиях (в узком смысле, как homo oeconomicus), и что им не требуется защита от последствий собственных решений именно в силу их предположительной рациональности. Все это лишено конкретики. Разумеется, некоторые либералы верят в концепцию homo oeconomicus и считают, что люди всегда лучше знают, что для них хорошо, однако многие уважаемые мыслители либерального толка ясно и открыто отрицают такое представление о человеке. Обратившись к работам самых авторитетных теоретиков либерализма, мы увидим, что большинство из них не поддерживают концепцию homo oeconomicus. К таким мыслителям можно отнести Канта, Гумбольдта и Милля. А те, кто считает, что сам Адам Смит идентифицирует человека с homo oeconomicus, скорее всего, просто не читали его работ.
Фридрих Хайек так и пишет в своем классическом эссе «Индивидуализм истинный и ложный», где он подчеркивает, что человек «достаточно иррациональное и подверженное заблуждениям существо» и что «индивидуальные ошибки корректируются только в ходе общественного процесса»[373]. Далее он заявляет, что приписывать Смиту антропологию, основанную на homo oeconomicus, было бы совершенно неверно:
«Вероятно, лучшим примером неверных представлений об индивидуализме Адама Смита и его единомышленников служит ходячая вера в то, что они выдумали пугало “экономического человека” и что их выводы подрываются их же предположением о строго рациональном поведении и вообще ложной рационалистической психологией. Конечно же, они были крайне далеки от предположений подобного рода. Будет куда правильнее сказать, что с их точки зрения человек по природе ленив и склонен к праздности, недальновиден и расточителен и что только силой обстоятельств его можно заставить вести себя экономно и осмотрительно, дабы приспособить его средства к его же целям»[374].
В определенном смысле можно утверждать, что поведенческая экономика не представляет собой нового синтеза, а всего лишь развивает идеи классической экономики, которая не проводила жесткого различия между экономикой и психологией. Теорию Адама Смита вполне можно описать как теорию экономического поведения, поскольку все его экономические идеи выдвигались с оглядкой на психологию человека, как это становится ясным из его работ «Исследование о природе и причинах богатства народов» и «Теория нравственных чувств», если их воспринимать как взаимосвязанные. Смит во многом предвосхитил более поздние исследования по поведенческой экономике[375].
Отрицание идеи homo oeconomicus свойственно не только ранним, но и значительной части поздних либеральных философов. Одним из ярких примеров такого отрицания является Хайек:
$$$«Еще одна вводящая в заблуждение фраза, используемая для того, чтобы подчеркнуть действительно важный момент, – это знаменитое предположение, что всякий человек лучше кого бы то ни было знает свои интересы. В подобной форме оно звучит неправдоподобно и не является необходимым для выводов индивидуалиста. Действительная их основа заключается в том, что никто не в состоянии знать, кто же знает это лучше всех, и единственный способ, каким можно это выяснить, – через социальный процесс, где каждому предоставлена возможность попытаться и удостовериться, на что он годен»[376].
Либеральная традиция всегда была антипатерналистской, несмотря на принятие и осознание того факта, что люди не всегда знают, чтó для них лучше: от человека вовсе не ожидалось, что он будет полностью рационален в своих действиях. Как отмечает Хайек в «Конституции свободы», все политические теории фактически исходят их предположения, что люди достаточно невежественны, однако он добавляет, что те, кто призывает к реальной свободе, «отличаются от остальных тем, что относят к невежественным людям и себя, и всех мудрецов»[377]. Таким образом, исходная предпосылка заключается вовсе не в том, что каждый лучше знает свои интересы, но в том, что никто не знает их достаточно хорошо.
Еще одно слабое место в теории либертарианского патернализма Талера и Санстейна заключается в практически полном отсутствии в их работах ссылок на известных теоретиков либерализма. Исключением является лишь небольшая сноска в статье «Либертарианский патернализм – не оксюморон», которую стоит процитировать:
«Многие стандартные аргументы против патернализма основываются не на консеквенционализме, а на идее автономии – на представлении о том, что люди имеют право принимать самостоятельные решения, даже если эти решения ошибочны. Идеи Джона Стюарта Милля в книге “О свободе” являются смесью аргументов от консеквенционализма и от автономии. Нашей главной целью является благосостояние и консеквенции, хотя свобода выбора в некоторых случаях является элементом благосостояния. Мы согласны с тем, что требование автономии может диктовать определенные условия, но утверждаем, что в контексте нашей дискуссии было бы фанатизмом придавать автономии как свободе выбора первостепенное значение, всегда имеющее приоритет перед консеквенциальными задачами»[378].
Аргумент Талера и Санстейна против антипатернализма выходит не очень убедительным, поскольку он направлен главным образом против идеи, которая вовсе не лежит в основе антипатернализма: его фундаментом является скорее понятие автономии, нежели концепция homo oeconomicus. Отдавая приоритет благосостоянию и оставляя за автономией в лучшем случае второстепенную роль, Талер и Санстейн идут вразрез с либеральной традицией, а также с либертарианизмом. Кроме того, они не приводят никаких обоснований в пользу того, что последствия важнее автономии, помимо утверждения, что обратная точка зрения является «фанатизмом».
Талер и Сантсейн предлагают заданный «архитектором выбора» стандарт, которому должны подчиняться все люди, считающие себя рациональными. Разумеется, они оставляют людям возможность действовать «иррационально», если им того хочется, однако стандарт устанавливается экспертами для всех. Идеи Талера и Санстейна весьма напоминают идеологию Фрейзера, основателя общества «Уолден два» в одноименном романе Б. Ф. Скиннера. Фрейзер исходит из того, что если существует развитая наука о человеческом поведении, а также известен путь достижения благосостояния, было бы глупо не воспользоваться этими знаниями для того, чтобы обеспечить благосостояние для всех. Фрейзер считает, что знает, в чем заключается благосостояние всех его сограждан, а следовательно, считает себя вправе использовать техники управления поведением для того, чтобы заставить людей реализовать его идеи. То же можно сказать и об авторах теории либертарианского патернализма. Они считают, что им удалось вывести формулу благополучной жизни, и они хотят использовать свои знания о законах человеческого поведения для того, чтобы привести реальную жизнь в соответствие с этой формулой. Разумеется, они призывают к гораздо менее радикальным вмешательствам, чем Фрейзер, однако они сами подчеркивают, насколько мощны инструменты «архитектуры выбора». Если кто-либо сочтет выведенную Талером и Санстейном формулу некорректной и захочет строить свою жизнь иначе, Талер и Санстейн просто заявят, что несогласные ошибаются. Они никого не хотят «заставить» жить в соответствии со своей формулой, они хотят только «подтолкнуть» их.
Вероятно, в этом состоит самый курьезный момент всей теории либертарианского патернализма, если учитывать те принципы поведенческой экономики, на которых он основывается. Талер и Санстейн даже не рассматривают возможность использовать концепцию homo oeconomicus в качестве позитивной нормы для всех индивидов. Они пишут, что индивиды принимают неправильные решения, которые они, без сомнения, изменили бы, «если бы обладали полной информацией, неограниченными когнитивными способностями и достаточной силой воли»[379]. В книге «Nudge» особенно видна настойчивость, с которой Талер и Санстейн описывают иррациональность человеческих решений и отличия их от тех решений, которые бы принял по-настоящему рациональный индивид, а затем показывают, как при помощи относительно простых мер можно было бы подтолкнуть индивидов принять то решение, которое приведет к наиболее рациональному результату. Под «рациональным результатом» подразумевается результат, который максимизирует собственное благосостояние индивида. Другими словами, цель либертарианского патернализма заключается в том, чтобы заставить людей поступать так, как поступил бы homo oeconomicus. Талер и Санстейн следуют за поведенческой экономикой в отрицании концепции homo oeconomicus как правдоподобной модели реального человека, однако их теория либертарианского патернализма принимает концепцию homo oeconomicus как рациональную норму.
Личное благосостояние индивида как главный приоритет является достаточно случайным выбором. Учитывая стандарт рациональности, принятый Санстейном и Талером, было бы, к примеру, нерационально действовать определенным образом исходя из этических причин, если такое поведение не способствует увеличению благосостояния. Как отметил Амартия Сен, такой взгляд на рациональность не выдерживает критики[380]. Люди постоянно делают выбор в пользу альтернативы, которая не служит их собственной выгоде, поскольку с их точки зрения такие действия будут более этичны в данной ситуации. К примеру, мы часто соблюдаем свои обязательства перед семьей, друзьями, организациями и т. д. даже в тех случаях, когда это наносит ущерб нашему благосостоянию, в отличии от нарушения этих обязательств. Человека, который никогда не поступает подобным образом, мы сочли бы психопатом.
Люди руководствуются ценностями, которые далеко не всегда можно редуцировать до заботы о собственном благосостоянии. Предположим, Пер страдает серьезным заболеванием, которое приведет к мучительной смерти, если немедленно не принять меры по его излечению. Врач Пера рассказывает ему, что есть две возможных схемы лечения его болезни, X и Y, причем Х поможет ему с вероятностью 90 %, а Y – только 50 %. С этой точки зрения X будет гораздо более рациональной альтернативой, чем Y. Однако могут быть причины, не связанные с личным благосостоянием Пера, которые могут заставить его выбрать Y. Эти причины могут быть чисто экономическими: к примеру, вариант X слишком дорогой, так что, выбрав его, Пер поставит под угрозу финансовое благополучие всей своей семьи, тогда как вариант Y дешевле, и Пер выберет его, так как более высокий риск для здоровья с его точки зрения оправдывает уменьшение экономического риска для его семьи. Эти причины могут также носить этический характер: к примеру, если Пер всю свою жизнь был ярым борцом за права животных, и теперь не может выбрать вариант X, поскольку производство этого лекарства связано с причинением животным огромных страданий, в отличие от варианта Y. Если Пер выбирает более высокий риск для здоровья, поскольку так он избежит конфликта с собственными моральными принципами, это вполне рациональное решение, и у него должна быть возможность сделать именно такой выбор.
Абсолютный приоритет личного благостостояния как нормативного идеала есть не что иное, как экономический предрассудок, который Талер и Санстейн принимают на веру. В этом заключается основная проблема теории либертарианского патернализма, делающая его не более приемлемым с либеральной точки зрения, чем любая другая форма патернализма.
Либертарианский патернализм – тем не менее патернализм
Либертарианский патернализм является широким, поскольку допускает любые источники вмешательства: как государственные, так и негосударственные, но в работах Санстейна и Талера основное внимание уделяется преимуществам, которые можно получить благодаря государственному регулированию. Исходно либертарианский патернализм склоняется скорее к мягкой и слабой, чем к жесткой и сильной формам патернализма. Талер и Санстейн пишут: «Либертарианский аспект наших стратегий заключается в прямом и однозначном постулате, что люди должны быть свободны поступать согласно своим желаниям и отказываться от тех возможностей, которые для них нежелательны. ‹…› Мы стремимся сформировать политику, которая поддерживает и даже увеличивает свободу выбора. Используя слово “либертарианский” в сочетании со словом “патернализм”, мы имеем в виду, что такой патернализм сохраняет людям свободу»[381]. Добровольность является необходимым условием, и выбор человека необходимо уважать даже в том случае, если с точки зрения патернализма он не служит его собственным интересам наилучшим образом. Отказаться от стандартного варианта, предлагаемого патерналистским государством, должно быть легко, и в идеале люди должны иметь возможность сделать это «в один клик»[382].
Талер и Санстейн утверждают, что в реальной жизни не существует убедительных и приемлемых альтернатив патернализму, а следовательно, мы должны просто выбрать предпочтительную форму патернализма, не тратя время на выяснение философского вопроса, является патернализм добром или злом. Общий антипатернализм они считают совершенно бессмысленным. В каждой ситуации выбора людям будет предложено то или иное стандартное решение, которое подталкивает их в желательном направлении, а следовательно, патернализм неизбежен, заявляют Талер и Санстейн. Нежелание вторгаться в область самостоятельных решений равнозначно согласию примириться с теми несовершенствами и заблуждениями, к которым склонен человек, а следовательно, такое невмешательство является столь же патерналистским, как и вмешательство в область принятия решений, утверждают они[383]. Столь расплывчатое определение патернализма охватывает любые человеческие решения, которые влияют на решения других людей, вне зависимости от того, намерен ли индивид повлиять на других людей позитивным или негативным для них образом, а также вообще любые решения, которые затрагивают других людей, вне всякой связи с их благосостоянием. Такая трактовка патернализма является, мягко говоря, нетрадиционной, поскольку обычно патернализм понимается как действия, противоречащие собственным решениям индивида, если эти решения не служат его собственным интересам наилучшим образом. Исходя из общепринятого определения патернализма, он вовсе не неизбежен, а неизбежность патернализма в трактовке Талера и Санстейна возникает из-за того, что их собственное определение слишком широко и не совпадает с общепринятым.
Кроме того, они пользуются понятием «патернализм» в более узком смысле, подразумевающем, что некто намеренно воздействует на решения индивида позитивным образом, по признанию самого индивида[384]. Такая трактовка патернализма тоже довольно необычна, поскольку под нее подпадает самая обыкновенная помощь. Она противоречит общепринятому определению в том, что обычно под патернализмом понимаются вмешательства в поведение человека, поскольку вмешиваясь, некто считает, что человек действует вопреки собственным интересам. Адепт либертарианского патернализма описывается как «архитектор выбора», имеющий мандат на повышение личного благосостояния граждан. «Архитектура выбора» определяется столь расплывчато, что в нее входят любые поступки, так или иначе меняющие окружающую среду индивидов с целью повлиять на их выбор. Владелец кафе, который выкладывает на витрине фрукты перед пирожными, чтобы люди покупали больше фруктов, является «архитектором выбора». Талер и Санстейн описывают дизайнеров телефонов и плееров «Эппл» как виртуозных архитекторов выбора[385]. И, раз уж на то пошло, если я покрасил свой забор и поместил на него предупреждение «Осторожно, окрашено!», я тоже являюсь архитектором выбора, а заодно и патерналистом, поскольку тем самым я пытаюсь подтолкнуть людей не запачкаться свежей краской. В обычной жизни мы называем такое поведение не патерналистским, а скорее заботливым и внимательным. Если посмотреть на другую сторону шкалы возможных вмешательств, которые допустимы с точки зрения либертарианского патернализма, мы можем представить себе, что в список стандартных решений входит имплантация всем гражданам небольшого радиопередатчика, который позволяет в любой момент определить их местонахождение – под предлогом того, что так их будет легче найти, если они заблудятся или будут похищены. При этом каждый гражданин имеет право отказаться от установки такого имплантанта или извлечь его по собственному желанию. Подобная ситуация вполне вписывается в рамки понятия патернализма с точки зрения Талера и Санстейна, а также удовлетворяет их критериям либертарианского патернализма, поскольку каждый гражданин имеет возможность отказаться от стандартного решения. И тем не менее подобное совершенно немыслимо в нормальном либеральном обществе. Талер и Санстейн основывают свою теорию на столь широком понимании патернализма, что оно охватывает все – от таблички «Осторожно, окрашено!» до имплантации передатчика, и в результате это понятие вносит больше неясностей, чем устраняет.
Нейтральность относительно предпочтений
Талер и Санстейн пишут:
$$$«Либертарианский патернализм является относительно слабой и мягкой формой патернализма, подразумевающей минимальное вмешательство, поскольку он не лишает людей свободы выбора и не затрудняет принятие решений. Если люди хотят курить сигареты, есть сладости в больших количествах, выбирать плохую медицинскую страховку или отказываться от накопительной пенсионной схемы, либертарианский патернализм не будет заставлять их поступать против своей воли или усложнять им жизнь. И все же это патерналистский подход, посколькую частные и государственные архитекторы выбора не просто пытаются предугадать и воплотить в жизнь ожидаемые предпочтения людей. Скорее они стремятся организовать управляемое движение людей в том направлении, которое сделает жизнь лучше. Они подталкивают»[386].
Что бы ни писали сами Талер и Санстейн, либертарианский патернализм не всегда можно назвать мягким. Действительно мягкий патернализм заботится лишь о том, чтобы действие было добровольным, и пока оно добровольно, индивид может делать что угодно: предположительно иррациональное решение будет принято с тем же уважением, что и рациональное. Либертарианский патернализм Талера и Санстейна заходит гораздо дальше и пытается подтолкнуть людей к рациональным решениям и помешать им принять нерациональные. Предполагается, что люди постоянно делают не то, чего они хотят или чего им следовало бы хотеть. К примеру, большинство людей хотели бы иметь обеспеченную старость, но для этого они слишком мало откладывают в период трудовой активности, или же они хотят быть стройными, но поглощают одну калорийную бомбу за другой. Всегда есть повод для дискуссии о том, соответствуют ли поступки людей тому, чего они «действительно» хотят. К примеру, недостаток силы воли неоднократно становился предметом философских дискуссий с античных времен и до наших дней, и с моей точки зрения сегодня мы ни на шаг не приблизились к решению этой проблемы по сравнению с Аристотелем. Довольно часто очень трудно определить, чего «действительно» хочет индивид. К примеру, если человек делает совсем не то, что он хотел бы сделать по его собственным словам, это далеко не всегда говорит о том, что его действия расходятся с его истинными желаниями. И когда человек, страдающий избыточным весом, говорит, что он хотел бы похудеть, он не всегда действует вопреки своим предпочтениям, покупая картошку фри или фуа-гра, поскольку в данном случае дело скорее всего в том, что его желание есть картошку фри и фуа-гра имеет приоритет перед его желанием похудеть. Проблема определения «действительных» предпочтений индивида будет возникать при любом типе патернализма, стремящегося к максимизации этих предпочтений. И тем не менее Талер и Санстейн считают, что вмешательства необходимы для того, чтобы убедиться, что индивид действует в соответствии со своими «действительными» предпочтениями, и, как мы увидим в дальнейшем, это роднит их версию патернализма с жестким патернализмом. Основная разница заключается в том, что Талер и Санстейн настаивают на том, что вмешательство в жизнь граждан никогда не должно носить принудительный характер, если только самую малость: у граждан всегда должна быть возможность выбрать альтернативу, не оптимальную с точки зрения автора вмешательства.
Слово «действительные» в контексте «действительных предпочтений» индивида носит несколько двусмысленный характер, потому что его можно понимать, с одной стороны, как «фактические предпочтения индивида», а с другой стороны, как «предпочтения, которыми следовало бы руководствоваться для увеличения своего благосостояния». Эта неоднозначность постоянно ощущается в работах Талера и Санстейна. Разделять эти два значения очень важно, поскольку именно они определяют границу между сильным и слабым патернализмом. Слабый патернализм нейтрален в отношении предпочтений индивидов, а сильный затрагивает эти предпочтения. Последователь слабого патернализма не учитывает в процессе вмешательства свои собственные предпочтения или предпочтения третьих лиц, интересуясь лишь соблюдением фактических предпочтений индивида. Последователь жесткого патернализма занимается соблюдением тех предпочтений, которые индивиду следовало бы иметь, в зависимости, к примеру, от того, что считают оптимальным эксперты системы здравоохранения, и вне зависимости от того, поддерживает ли сам индивид эти предпочтения. Слабый патернализм, нейтральный в отношении предпочтений, дает индивидам свободу следовать тем целям, которые они устанавливают себе сами, тогда как жесткий патернализм сам задает эти цели исходя из принятого им стандарта.
Приведем пример, наглядно демонстрирующий различие между этими двумя типами патернализма. Последователь слабого патернализма может считать, что государственная власть обязана адекватно и как можно более объективно информировать граждан о реальных опасностях, связанных с курением, исходя из предположения, что все хотят обладать такой информацией, чтобы понять, готовы ли они подвергать себя такому риску для здоровья. Если же государство создает собственную табачную монополию с целью снизить доступность, а следовательно, и потребление табачной продукции, аргументируя это тем, что так будет лучше для здоровья курильщиков, то такая стратегия будет примером жесткого патернализма. Другим примером жесткого патернализма будет использование властями стратегии преувеличения опасности, посколькую подобная манипуляция подрывает способность индивидов принимать свободные решения на основе достоверной информации. То же касается и стратегии повышения налогов и сборов на табачную продукцию с целью снизить потребление, что благоприятно скажется на здоровье граждан. С другой стороны, вполне допустимо повышать налоги и сборы, чтобы покрыть возросшие расходы на решение проблем со здровьем вследствие курения, но тут мы начинаем удаляться от проблематики патернализма. Джон Стюарт Милль пишет:
$$$«Налог на крепкие напитки с целью затруднить их приобретение есть такая мера, которая отличается от совершенного запрещения употребления крепких напитков только степенью, а не принципом, если мы оправдаем совершенное запрещение. Всякое повышение цены на какой-либо предмет торговли есть запрещение употреблять этот предмет тем, которые не имеют средств платить за него увеличенную цену, а для тех, которые имеют средства заплатить, оно есть кара за удовлетворение потребности употреблять этот предмет; следовательно, подобная мера совершенно противоречит тому принципу, что избирать для себя тот или другой род удовольствия, расходовать свои денежные средства тем или другим способом, исполнив все свои легальные и нравственные обязанности к государству и к другим индивидуумам, что все это составляет сферу индивидуальной свободы и должно быть предоставлено личному усмотрению каждого индивидуума»[387].
Милль не утверждает, что нельзя облагать налогом стимулирующие вещества; напротив, он предлагает облагать их более высоким налогом, чем товары первой необходимости, поскольку это принесет государству прибыль. При этом он считает незаконным использование налогообложения для воздействия на поведение людей, даже в целях улучшения их жизни, то есть он не оправдывает патерналистские вмешательства. Талер и Санстейн придерживаются другого мнения по этому вопросу. Так, они пишут, что курильщикам пойдут на пользу высокие налоги на табачную продукцию, поскольку они будут подталкивать к отказу от курения[388].
Талер и Санстейн, к сожалению, не проводят четкого различия между слабым и сильным патернализмом, склоняясь то к одному, то к другому. Между тем это весьма важное различие, поскольку слабый патернализм, не касающийся предпочтений индивида, вполне совместим с основными либеральными идеями[389]. Что же заставляет меня утверждать, что форма патернализма, предложенная Талером и Санстейном, не является нейтральной в отношении предпочтений? Они пишут, что их целью является воздействие на выбор индивидов таким образом, чтобы обеспечить наилучший результат, доступный для объективной оценки, что в результате должно привести к увеличению благосостояния, даже если это не соответствует фактическим предпочтениям индивида[390]. Они утверждают, что либертарианский патернализм не пытается выяснить ожидаемые предпочтения индивидов, но «будет подталкивать людей в направлении, способствующем увеличению их благосостояния»[391]. В их работах временами встречаются оговорки, что архитектура выбора приводит к наилучшему соблюдению фактических предпочтений индивида, например, в том случае, когда они пишут, что архитекторы выбора должны влиять на выбор индивида таким образом, который сам индивид считает приводящим к наилучшему результату[392]. Они пишут также, что архитекторы выбора должны «пытаться влиять на поведение людей таким образом, чтобы они проживали более продолжительную, здоровую и счастливую жизь»[393]. В более точной формулировке архитектор выбора является консеквенциалистом, который увеличивает благосостояние. Здесь становится очевидным недопонимание отношения между объективностью знаний и нейтральностью в отношении предпочтений. Архитектор выбора должен строить свою деятельность на консультациях экспертов, обладающих предположительно объективными научными знаниями. Таким образом, деятельность, которая фактически стремится формировать предпочтения – поскольку предпочтения здесь оказываются внешними по одношению к индивиду, – заявлена как нейтральная в отношении предпочтений. Именно в силу того, что Талер и Санстейн пытаются отталкиваться от объективной шкалы, их вариант патернализма не нейтрален относительно предпочтений, ведь по-настоящему нейтральный патернализм строится исключительно на субъективных предпочтениях индивида. Проблема в том, что отдельно взятый человек далеко не всегда считает, что увеличение его благосостояния важнее всего остального. Человек всегда может оказаться ярым сторонником концепции равенства результатов, так что для него будет важнее, чтобы все достигли одинакового уровня благосостояния, а не чтобы его собственное благосостояние было максимальным. Другой человек может считать, что самой важной целью является максимальная личная свобода. Третий может думать, что важнее всего соблюдение определенных этических норм. Смысл в том, что предположение о необходимости любой ценой увеличивать личное благосостояние индивида является довольно спорным[394]. Санстейн и Талер демонстрируют свою зависимость от концепции homo oeconomicus, вследствие чего они безоговорочно принимают аксиому, согласно которой все люди стремятся прежде всего к собственной выгоде. Однако в действительности человеческая мотивация является гораздо более сложным феноменом.
Проблема «стандартных решений» Талера и Санстейна заключается в том, что они предполагают существование единой нормы благосостояния, а все люди разные. При этом они совершенно не приводят конкретного описания этой нормы благосостояния. Понятие «благосостояние» вообще является довольно сложным, и разные люди могут вкладывать в него различное содержание. Здесь возникает искушение обратиться к исследованиям различных представлений о счастье. Вероятно, счастье, или, конкретнее, личное благополучие и является тем стандартом, на который стоит ориентироваться. Можно даже привести отдельные выводы из многочисленных исследований о счастье. Один из стандартных выводов гласит, что больше денег, как правило, означает больше счастья, но в обеспеченных странах, таких, как Норвегия, эта тенденция ослабляется[395]. Не следует слишком стремиться к материальным благам, поскольку это снижает уровень счастья. Нужно общаться с друзьями, быть женатым или иметь сожителя, а вот дети не способствуют увеличению счастья. Многие люди испытывают больше счастья на работе, нежели в любом другом аспекте своей жизни, и люди, которые работают больше, как правило, оказываются более счастливыми, чем люди, работающие мало. Женщины счастливее мужчин. Возраст тоже имеет значение: обычно самое счастливое время жизни приходится на возраст около 27 лет, а затем уровень счастья плавно опускается вплоть до минимума, наступающего в 69 лет, после чего наблюдается небольшое повышение. Жить лучше в стране, предоставляющей гражданам значительную индивидуальную свободу. Люди, интересующиеся состоянием дел в мире и уделяющие внимание тому, чтобы сделать мир лучше, ничуть не счастливее тех, кому нет дела до таких вопросов. Образование и чтение книг, как правило, не влияют на уровень счастья. Если использовать субъективное ощущение благополучия как общий стандарт, это даст нам некоторые подсказки по поводу того, куда именно следует подталкивать людей. На пол и возраст мы вряд ли можем повлиять, зато можно подталкивать людей к тому, чтобы они больше работали и вступали в брак. Должно быть, многие поддержали бы такое подталкивание. Но как быть с подталкиванием людей к тому, чтобы они не заводили детей? Или к тому, чтобы они не читали книг и не получали образования, поскольку это никак не влияет на уровень счастья, так что лучше было бы потратить это время на что-то другое, что способствует увеличению счастья? Подобное подталкивание едва ли встретило бы большую поддержку, хотя оно вроде бы тоже следует идее максимизации личного благополучия. Различные параметры, которые статистически повышают уровень субъективного благополучия, не всегда совпадают с тем, что все – или как минимум большинство – считают оптимальной жизнью. Мы могли бы вообразить себе жизнь, максимально соответствующую всем возможным критериям увеличения счастья, но эта жизнь может показаться нам не такой уж привлекательной. Кроме того, исследования показывают, чтó необходимо для счастья усредненному гражданину, однако такой усредненный гражданин не существует в реальности. Усредненный гражданин получит больше удовлетворения от совместной жизни, чем от большого количества денег, однако многие конкретные граждане предпочли бы деньги. Каждый человек сам должен определить, к какой категории он относится, исследователи не могут решить это за него. Таким образом, мы вынуждены отказаться от использования научного представления о счастье в качестве той нормы благосостояния, которую Талер и Санстейн неоднократно упоминают, но никак не конкретизируют в своих работах.
Может быть, нам помогут более объективные показатели, чем личное счастье – к примеру, здоровье, продолжительность жизни, экономическая стабильность и т. д.? Проблема в том, что разные люди по-разному расставляют приоритеты среди этих показателей благосостояния. Для одного важнее всего здоровье, другой предпочитает удовольствия, которые в долгосрочной перспективе приносят здоровью вред. Некоторые родители хотят, чтобы их дети ели как можно более здоровую пищу, другие считают, что детям полезнее всего есть то, что хочется. Даже утверждение, что яблоки полезнее пирожных не является нейтральным относительно предпочтений. Здесь авторам теории либертарианского патернализма полезно было бы вспомнить следующее высказывание Джона Стюарта Милля:
$$$«Каждому человеку присуще желание, чтобы другие люди поступали таким же образом, как он сам поступает, и все сочувственные ему люди имеют в этом отношении одинаковое с ним желание, – вот что в действительности руководит мнением людей касательно правил поведения. Конечно, люди не сознают, что их мнения о правилах поведения обусловливаются их личным вкусом; но, тем не менее, мы не можем не признать делом личного вкуса такие мнения, которые в подтверждение своей истинности не приводят никаких доводов, или же, вместо всяких доводов, ссылаются на то, что так думают и другие люди, тогда как это обстоятельство, что известное мнение разделяется многими людьми, нисколько не доказывает истинности мнения, а свидетельствует только, что известный вкус принадлежит не одному, а многим индивидуумам»[396].
Современный либерализм по большей части признает плюрализм ценностей, поскольку люди преследуют не просто различные, но зачастую противоречащие друг другу цели. Это справедливо не только для взаимоотношений между отдельными людьми и группами; такие конфликты зачастую происходят во внутреннем мире индивида, который не может отдать предпочтение одной из нескольких целей – например таких, как благосостояние, свобода и равенство, – одновременное достижение которых не всегда возможно, и которые не получается ранжировать относительно нейтральной шкалы. Талер и Санстейн в своих работах ни разу не ссылаются на обширную литературу, посвященную вопросу плюрализма ценностей, и придерживаются в этом вопросе строгого монизма, ставя во главу угла благосостояние индивида. Между тем плюрализм ценностей совместим только со слабой формой патернализма, не вмешивающейся в сферу человеческих предпочтений.
Талер и Санстейн подчеркивают, что люди часто не имеют четких предпочтений, и в этом они, безусловно, правы, однако совершенно непонятно, почему это является аргументом в пользу жесткого патернализма.
Практические проблемы
На все вышесказанное можно возразить, что разница между мягким и жестким вариантом патернализма не так уж важна, когда речь идет о либертарианском патернализме, который в любом случае предоставляет индивидам возможность выбрать не ту альтернативу, которая оптимальна с точки зрения патерналиста. Однако загвоздка заключается в том, что, согласно Талеру и Санстейну, архитекторы выбора могут прибегать к достаточно сильным мерам вмешательства, чтобы подтолкнуть индивидов к выбору стандартных решений, то есть к действиям в соответствии с предпочтениям архитекторов[397]. Они подчеркивают, что архитекторы выбора могут влиять на предпочтения людей, которые не осознают этого и не замечают никакого принуждения. Разве это не называется манипуляцией? Талер и Санстейн отрицают это, ссылаясь на принцип публичности Джона Ролза[398], согласно которому власти не должны вести политику, которую они не хотят или не могут обосновать перед лицом народа[399]. Такой принцип, по всей видимости, не допускает явного обмана, однако он не ограничивает применения манипуляции в политических кампаниях, к примеру, против наркотиков[400]. А следовательно, ничто не мешает властям проводить аналогичные манипулятивные кампании и против курения, и против нездоровой еды. Теория Талера и Санстейна оставляет довольно широкую лазейку для манипулятивных методов, если власти готовы публично обосновать их, говоря, к примеру, что опасности курения несколько преувеличены, однако оно влечет за собой столько проблем со здоровьем, что борьба с ним требует принятия особых мер. В таком случае не соблюдается право граждан на достоверную информацию, которая поможет им принять автономное решение, поскольку стремление либертарианского патернализма к увеличению благосостояния оказывается важнее прав граждан.
Для того чтобы либертарианский патернализм достигал своих целей, архитекторы выбора должны либо сами являться экспертами, либо консультироваться с экспертами, не подверженными влиянию различных иррациональных факторов, выявленных исследованиями по поведенческой экономике. А это довольно проблематично, что наглядно демонстрируют примеры, приведенные самими Талером и Санстейном: если вам расскажут, что 90 % операций определенного вида прошли успешно, вы с гораздо большей вероятностью выберете эту операцию, чем если вам расскажут, что 10 % таких операций закончились смертью пациента. Проблема в том, что именно эта тенденция наблюдается в том числе и у врачей, то есть тех самых экспертов, которые предположительно должны разбираться в вопросе лучше, чем обычные люди[401].
Архитекторы выбора скорее всего будут подвержены тем же когнитивным дефектам, что и «обычные» люди. Именно поэтому из исследований по поведенческой экономике можно сделать вывод, прямо противоположный тому, что сделали Талер и Санстейн, а именно: понимание человеческой «иррациональности» делает патерналистские вмешательства еще менее привлекательными. Принимая во внимание иррациональность как «обычных» людей, так и авторов патерналистских вмешательств, можно утверждать, что обычный человек будет иметь более сильную мотивацию исправить ошибки, которые мешают ему достичь полного удовлетворения своих предпочтений, нежели посторонний патерналист, а следовательно, обычному человеку лучше удастся блюсти свои интересы[402].
Талер и Санстейн подчеркивают, что выбор стандартного решения будет иметь большое влияние на поведение людей. Они даже признают, что существует проблема «публичного выбора»[403]. Архитекторы выбора, которые все же остаются людьми, могут сформировать стандартные решения, которые скорее будут удовлетворять их собственные предпочтения, а не предпочтения граждан в целом, чьи интересы являются целью патерналистских вмешательств.
Заключительные положения
Когда Санстейн и Талер утверждают, что созданная ими модель либертарианского патернализма приемлема буквально для всех, независимо от идеологической позиции, они успускают из виду, что это их убеждение основано на полном игнорировании вопросов политической идеологии в их работах. Если изучить их теорию более внимательно, то сразу же бросятся в глаза нерешенные идеологические противоречия.
Проблема выражения «либертарианский патернализм» заключается в том, что слово «патернализм» используется в очень размытом и неточном смысле, так что под это понятие подпадает очень много различных явлений. То же касается и использования слова «либертарианский», хотя и в меньшей степени. Многие из тех вмешательств, которые названы «патерналистскими», скорее следовало бы описывать как тривиальную помощь. Столь нечеткое понимание слова «патернализм» приводит к скрадыванию различий между безобидной помощью и жесткой манипуляцией.
Несмотря на очевидность такого рода проблем в связи с теорией либертарианского патернализма, Талер и Санстейн считают подобные возражения малозначительными, поскольку в любом случае будет существовать некое стандартное решение, оказывающие влияние на поведение людей, сформированное намеренно или же возникшее совершенно случайно. А раз стандартные решения неизбежны, то решения, предложенные в соответствии с теорией либертарианского патернализма, гораздо предпочтительнее любых других, поскольку они оставляют индивидам свободу выбора и служат максимизации их благосостояния.
Талер и Санстейн, безусловно, правы в том, что нам следует использовать результаты исследований человеческого поведения для формирования стандартных решений, служащих интересам граждан. Однако от признания этого факта очень далеко до прямой манипуляции, которая заставляет людей выбирать наилучшую с точки зрения патернализма жизнь, а не ту, которую они хотели бы для себя сами. Разумеется, либертарианский патернализм предпочтительнее многих других форм патернализма, при условии, что мы подходим к вопросу с либеральной точки зрения, но еще предпочтительнее было бы полное отсутствие патерналистских вмешательств, или, в крайнем случае, слабая форма патернализма, нейтральная в отношений человеческих предпочтений.
Учитывая, что Талер и Санстейн в своей теории принимают за точку отсчета абсолютно рационального индивида, homo oeconomicus, обладающего «полной информацией, неограниченными когнитивными способностями и совершенной силой воли»[404], реальные люди оказываются в заведомом проигрыше. Тем самым действующие из лучших побуждений политики, чиновники и прочие архитекторы выбора получают практически неограниченную свободу для патерналистских вмешательств во все аспекты нашей жизни. Либертарианский патернализм является идеологией заботы, которая подразумевает тотальный контроль над населением при помощи развитой системы экспертных оценок, определяющих наилучшие из возможных способов, какими нам следует жить.
И хотя выражение «либертарианский патернализм» еще не существовало во времена Алексиса де Токвиля, он предостерегал именно от такого типа политического устройства:
«Над всеми этими толпами возвышается гигантская охранительная власть, обеспечивающая всех удовольствиями и следящая за судьбой каждого в толпе. Власть эта абсолютна, дотошна, справедлива, предусмотрительна и ласкова. Ее можно было бы сравнить с родительским влиянием, если бы ее задачей, подобно родительской, была подготовка человека к взрослой жизни. Между тем власть эта, напротив, стремится к тому, чтобы сохранить людей в их младенческом состоянии; она желала бы, чтобы граждане получали удовольствия и не думали ни о чем другом. Она охотно работает для общего блага, но при этом желает быть единственным уполномоченным и арбитром; она заботится о безопасности граждан, предусматривает и обеспечивает их потребности, облегчает им получение удовольствий, берет на себя руководство их основными делами, управляет их промышленностью, регулирует права наследования и занимается дележом их наследства. Отчего бы ей совсем не лишить их беспокойной необходимости мыслить и жить на этом свете?
Именно таким образом эта власть делает все менее полезным и редким обращение к свободе выбора, она постоянно сужает сферу действия человеческой воли, постепенно лишая каждого отдельного гражданина возможности пользоваться всеми своими способностями. Равенство полностью подготовило людей к подобному положению вещей: оно научило мириться с ним, а иногда даже воспринимать его как некое благо.
После того как все граждане поочередно пройдут через крепкие объятия правителя и он вылепит из них то, что ему необходимо, он простирает свои могучие длани на общество в целом. Он покрывает его сетью мелких, витиеватых, единообразных законов, которые мешают наиболее оригинальным умам и крепким душам вознестись над толпой. Он не сокрушает волю людей, но размягчает ее, сгибает и направляет; он редко побуждает к действию, но постоянно сопротивляется тому, чтобы кто-то действовал по своей инициативе; он ничего не разрушает, но препятствует рождению нового; он не тиранит, но мешает, подавляет, нервирует, гасит, оглупляет и превращает в конце концов весь народ в стадо пугливых и трудолюбивых животных, пастырем которых выступает правительство»[405].
Экскурс: принуждение в психиатрии
Одной из предпосылок к рассуждениям о правах и патернализме в предыдущих главах является предположение, что индивиды обладают способностью к автономии. Однако в этом отношении индивиды, страдающие серьезными психическими заболеваниями, могут быть выделены в иную категорию, нежели все остальные, в том случае, если заболевание серьезно подрывает способность к автономии, так что индивид перестает удовлетворять минимальным необходимым критериям. Это имеет самое непосредственное влияние на статус человека и его права.
Использование принуждения в психиатрическом контексте чаще всего является формой патернализма, не считая тех относительно немногих случаев, когда принуждение используется для того, чтобы защитить от предположительно опасного пациента окружающих людей. Принуждение оправдывается чаще всего критерием необходимости лечения, которое должно принести пользу самому пациенту, даже если пациент не представляет опасности для самого себя, а также критерием опасности в тех случаях, когда пациент опасен для себя или окружающих[406]. Наиболее часто встречается первый критерий, а в тех случаях, когда использование принуждения оправдывается критерием опасности, речь чаще всего идет о том, что пациент представляет опасность для самого себя, хотя точную статистику мне найти не удалось.
Для начала необходимо вновь ввести различие между жестким и мягким патернализмом, о котором я уже упоминал в главе 10. Мягкий патернализм подразумевает, что индивиду временно препятствуют в выполнении действия, которое предположительно может ему навредить, но лишь до того момента, когда станет ясно, что индивид осознает потенциальную опасность и действует добровольно. Жесткий патернализм не интересуется тем, добровольно ли выполняется действие, а оценивает лишь потенциальную пользу для самого индивида от вмешательства в его жизнь. Если индивид выбирает неоптимальный вариант действий, с точки зрения жесткого патернализма будет допустимо вмешательство, нацеленное на достижение наилучшего для самого индивида результата. С моей точки зрения, принцип автономии совместим только с мягкой формой патернализма.
Право на свободу мысли, закрепленное, в частности, в статье 9 Европейской конвенции о правах человека, подразумевает довольно широкие рамки для того, что индивид может считать истинным или ложным, в том числе и в области самосознания, состояния здоровья и того, что можно считать адекватным лечением. Для оправдания вмешательства не должно быть достаточно того факта, что пациент принимает неудачные решения или плохо приспособлен к окружающей среде. Необходимо диагностировать дисфункцию, которая подрывает способность пациента к автономии. Даже в тех случаях, когда крайне неудачные решения пациента, страдающего соматическим заболеванием, приводят к весьма плачевным для него последствиям, мы не можем отказывать ему в праве на самоопределение. Если пациент, страдающий смертельным заболеванием, отказывается от лечения, несмотря на то, что существует эффективный метод лечения его заболевания с высокими шансами успеха и незначительными побочными эффектами, мы, как правило, признаем за ним такое право. Право пациента на самоопределение гораздо важнее нашего мнения о том, что будет лучше для пациента.
Ситуация усложняется, если пациент страдает психическим заболеванием, поскольку в этом случае он может быть не в состоянии принимать решения, касающиеся его собственного лечения. Как определить, способен ли пациент принимать такие решения? Разумеется, это зависит от конкретных обстоятельств, но в любом случае у нас недостаточно оснований утверждать, что пациенты с психическими заболеваниями в целом менее компетентны для принятия таких решений, нежели пациенты, не страдающие психическими заболеваниями. В одном крупном исследовании, направленном на оценку способности пациентов принимать решения относительно собственного лечения, было проведено сравнение психиатрических пациентов с кардиологическими пациентами, а также со здоровыми людьми. Результаты исследования оказались неожиданными, поскольку между этими тремя группами не было выявлено никаких различий[407].
Объем и обоснование принуждения
В широком смысле принуждение определяется как применение силы или авторитета для подавления собственной воли другого человека. Принуждение может носить очевидный и физический характер, например связывание пациента ремнями, а может быть более мягким и скрытым, например подмешивание медикаментов в еду и питье пациента без его ведома. Принуждение в более широком понимании включает также угрозы, направленные на пациента, и манипуляции, к примеру, в форме сокрытия информации или дезинформирования пациента, поскольку все это подрывает способность пациента принимать свободное решение на основе достоверной информации.
Моя позиция такова, что применять принуждение к индивидам незаконно и неэтично. Право человека на самоопределение заслуживает уважения. Из этого правила можно делать исключения, но каждое такое исключение должно быть обосновано отдельно. Совершенно очевидно, что чем более сильному принуждению подвергается индивид, тем более убедительно это должно быть обосновано. Учитывая характер и объем принуждения, применяемого в психиатрии, обоснований для него явно недостаточно.
Наиболее достоверная статистика по этой теме содержится в отчете SINTEF (Фонда научных и промышленных исследований) о принудительном психиатрическом лечении[408]. Проведенное фондом исследование показало, что доля пациентов, принудительно помещенных в психиатрическую лечебницу, сокращается и составляла в 2006 году 25 %, тогда как фактическое количество их увеличивается и выросло на 50 % с 2001 по 2006 год. Примерно 25 % всех направлений на принудительное лечение затем заменяются на добровольные, и это число постоянно растет. Можно сделать вывод, что существующая планка, определяющая необходимость принудительного вмешательства, расположена слишком низко, но возможно и другое объяснение, в соответствии с которым состояние здоровья пациентов кардинально улучшается в течение суток после поступления. Еще один любопытный вывод из этого исследования состоит в значительном росте числа случаев применения критерия опасности. В 2003 году всего лишь 3 % всех пациентов, принудительно помещенных в психиатрическую лечебницу, были обозначены как представляющие опасность для себя или окружающих, 82 % обосновывались необходимостью лечения, а остальные 15 % обоими критериями сразу. В 2006 году количество пациентов, принудительно помещенных в психиатрические лечебницы исключительно по критерию опасности, составляло 6 %, по критерию необходимости лечения 71 % и по обоим критериям 23 %. Такое увеличение частоты использования критерия опасности едва ли можно объяснить тем, что всего за три года пациенты стали намного более опасны для себя и окружающих, однако поиск истинных причин не входит в мои задачи. И хотя использование критерия необходимости лечения снизилось с 82 до 71 %, он по-прежнему является причиной для более чем 2/3 направлений на принудительное лечение, поэтому особенно важно разобраться, насколько он обоснован.
Выяснить реальное количество психиатрических пациентов в Норвегии, помещенных на лечение принудительно, – довольно сложная задача, в том числе и потому, что некоторая часть официально добровольных пациентов дает согласие на лечение потому, что они понимают: их будут лечить независимо от их согласия. Какую долю они составляют в общем числе добровольных пациентов, сказать сложно. Цифры соответствующих исследований, проведенных в других странах, составляют от 5 до 50 %, причем большинство исследований говорят о довольно высоком проценте[409].
Здесь полезно было бы задержаться на одном принципиальном моменте. Как отмечают Аслак Сюсе и Туре Нильстун, понятие «согласие» должно пониматься строго симметрично, то есть каждый, кто имеет полномочия дать свое согласие, должен быть также наделен полномочиями отказа от лечения[410]. И наоборот: если пациент считается недостаточно адекватным, чтобы отказаться от лечения, он должен считаться недостаточно адекватным и для того, чтобы дать на него согласие. Именно поэтому распространенная практика, при которой человека сначала спрашивают, согласен ли он на лечение, а потом направляют на лечение принудительно, если он отказывается, в корне неверна. Спрашивать согласия пациента и не принимать отказ – значит полностью лишить его положенного ему уважения. Человек имеет право знать, будет ли его решение принято. Дополнительное преимущество строго симметричного понимания согласия заключается в том, что так мы получим более достоверную статистику по принуждению в психиатрических лечебницах.
Как сами пациенты впоследствии оценивают принудительное помещение в психиатрическую лечебницу и последующее лечение? В крупнейшем метаисследовании, которое мне удалось найти, цифры очень противоречивы[411]. От 33 до 81 % после улучшения рассматривали принудительное помещение в психиатрическую лечебницу как оправданное и признавали пользу от лечения. Если говорить только о первой части – помещении в психиатрическую лечебницу, – то эта цифра составит от 33 до 68 %, при этом от 24 до 48 % заявляют, что они не нуждались в этом заведении. На основании этого материала можно сделать два общих вывода. Бо́льшая часть пациентов признают, что помещение их в психиатрическую лечебницу было необходимо и помогло им, однако значительная часть пациентов – согласно некоторым исследованиям, до половины от общего числа, – утверждает обратное. Это совсем не хорошо. Тот факт, что большинство считает лечение полезным, не перевешивает того факта, что меньшинство придерживается противоположного мнения.
Лишение человека свободы должно быть подкреплено серьезными основаниями. Фундаментальный критерий, который должен быть соблюден в психиатрическом контексте: наличие у пациента серьезного психиатрического заболевания. Однако даже этого недостаточно для обоснования направления на принудительное лечение. Вдобавок требуется, чтобы пациент удовлетворял критерию необходимости лечения или критерию опасности.
Критерий опасности
Человек, представляющий опасность для других, безусловно, может быть подвергнут принуждению независимо от того, страдает ли он психическим заболеванием. Это общепризнанный этический и юридический принцип, касающийся всех без исключения. С такой точки зрения в нем нет никаких сложностей и этических противоречий. Однако само понятие опасности является довольно многозначным, и дать ему определение не так просто. В целом люди, страдающие психическими заболеваниями, не опаснее психически здоровых[412], однако внутри этой категории имеется значительный разброс. Способны ли психиатры предсказать случаи насильственного поведения своих пациентов? Статистика показывает, что они могут предсказывать агрессию психиатрических пациентов с той же степенью вероятности, что и обычные люди[413]. И эта степень вероятности достаточно низка, что связано с распространенной как среди психиатров, так и среди обычных людей тенденцией переоценивать вероятность насильственных действий.
Теперь обратимся к людям, которые представляют опасность для самих себя. В принципе любой человек, чьи поступки подвергают опасности лишь его самого, должен иметь возможность поступать согласно своим желаниям, если таков его автономный выбор. В этом отношении люди, страдающие серьезными психическими заболеваниями, могут отличаться от всех остальных, если их заболевание существенным образом подрывает их способность к автономии. В теории это означает, что мы имеем право помешать человеку, страдающему психическим заболеванием, выполнить действие, представляющее опасность только для него самого, тогда как психически здоровому человеку мы бы предоставили возможность действовать на свое усмотрение. Мне не удалось найти ясной статистики относительно того, какая часть пациентов, принудительно помещенных в психиатрическое заведение в соответствии с критерием опасности, представляет опасность только для самих себя, а какая – для окружающих.
Психиатрам чаще всего удается выявить острые суицидальные кризисы, однако предсказать возникновение суицидальных склонностей в долгосрочной перспективе они практически не в состоянии[414]. Целый ряд исследований показывает, что пациентам с острым суицидальным кризисом идет на пользу краткосрочное пребывание в психиатрическом заведении, однако оно практически не помогает пациентам, имеющим более глубокую и продолжительную предрасположенность к суициду[415]. Нет никаких данных, свидетельствующих о том, что принудительное лечение помогает предотвратить самоубийство[416]. При отсутствии таких данных мы не можем безоговорочно принять заботу о жизни пациента как обоснование принуждения в психиатрии. Насколько нам известно, травмы, нанесенные пациенту принудительными вмешательствами, сами могут послужить причиной самоубийства.
Насколько велика должна быть опасность, чтобы оправдать принудительное вмешательство? Отдельные теоретики утверждают, что критерии должны быть такими же, как в уголовном праве, то есть необходимы достаточные доказательства для обоснованного сомнения. Однозначного и общепринятого ответа на вопрос не существует, но речь должна идти о значительном риске, а не просто небольшой вероятности.
Многие согласятся с тем, что принудительное помещение пациента в психиатрическую лечебницу по критерию опасности будет легитимно, по крайней мере, в тех случаях, когда пациент представляет опасность для окружающих. Однако очевидно, что уровень принуждения должен быть пропорционален степени опасности. При этом следует по возможности минимизировать количество принуждения в разумных рамках. Экстремальные же случаи могут потребовать экстремальных мер.
Что касается случаев, когда пациент представляет опасность лишь для самого себя, должна быть предусмотрена возможность принудительного помещения пациента в психиатрическую больницу для оценки его способности принимать автономные решения, если есть основания думать, что такая способность у него отсутствует. Это будет соответствовать описанной ранее мягкой форме патернализма. Если выяснится, что пациент имеет когнитивные и/или эмоциональные нарушения, которые опускают уровень его автономии ниже минимального порога, это может послужить основанием для принудительного вмешательства. Если же пациент удовлетворяет минимальным критериям автономии, использование принуждения будет неоправданно с точки зрения этики, даже если будет установлен значительный риск суицида.
Критерий необходимости лечения
Для того чтобы принудительно поместить пациента в психиатрическую больницу по критерию необходимости лечения, недостаточно утверждения, что пациенту будет лучше получить лечение, чем не получить его. Лечение должно либо существенно увеличивать шансы на полное выздоровление, либо предотвращать необратимые последствия для здоровья.
Критерий необходимости лечения относится скорее к области консеквенциальной этики, нежели к области этики долга. Консеквенциальная этика объясняет этот критерий тем, что последствия принудительного помещения в психиатрическое учреждения будут лучше для самого пациента, чем последствия невмешательства. В это уравнение необходимо также включить негативные последствия принудительного помещения в психиатрическую больницу, поскольку такой опыт может оказаться весьма травмирующим для пациента. Сюда же добавим возможный вред от неправильной постановки диагноза, неправильного подбора лекарства, а также потенциальный ущерб, нанесенный психике больного другими пациентами. И даже если мы обоснованно утверждаем, что отсутствие лечения приведет к необратимым последствиям для здоровья, самого по себе этого недостаточно, чтобы оправдать принуждение, поскольку сначала необходимо сопоставить отрицательные последствия от принудительного вмешательства с отрицательными последствиями отсутствия лечения и определить, что навредит пациенту сильнее. Есть мнение, что использование принуждения, а точнее, даже сама возможность использования принуждения наносит огромный ущерб отношениям между пациентом и медицинским персоналом, что в свою очередь влияет на вероятность успеха лечения. Если мы изучим литературу по этой теме, то увидим, что нет никаких данных о влиянии фактора принуждения на успех лечения. Далее, очевидно, что бремя доказывания должно быть возложено на сторону, утверждающую, что последствия принудительного помещения в психиатрическое заведения будут для пациента благоприятнее последствий невмешательства, поскольку в каждом случае будет действовать презумпция свободы и защиты от принуждения. Свобода является правилом, а принуждение – исключением, и для каждого исключения необходимы веские причины.
Основным критерием использования принудительного лечения должна быть его эффективность, то есть лечение с использованием принуждения должно быть эффективнее других форм лечения либо отсутствия такового. Бремя доказательства в данном случае возлагается на сторонников принудительного лечения. Если у нас нет оснований утверждать, что принудительное лечение принесет пациенту больше пользы, чем лечение без принуждения, то мы не можем использовать критерий необходимости лечения. Принуждение не может стать приемлемым лишь по той причине, что основанное на нем лечение работает. Фактор эффективности лечения является аргументом с точки зрения конвенциализма, но необходимо принимать во внимание соображения, диктуемые этикой долга, например наличие у пациентов прав, которые нельзя нарушать, как бы хороши ни были последствия.
С моей точки зрения, критерий необходимости лечения вызывает слишком много вопросов и проблем. Применение его кажется мне недостаточно обоснованным с позиций как консеквенциальной этики, так и этики долга. Другими словами, необходимо соблюдать предельную осторожность, применяя принуждение к пациентам на основании критерия необходимости лечения.
Презумпция автономии
Мы обязаны соблюдать презумпцию автономии. Из этого следует не только то, что применение принуждения должно быть обоснованным в каждом конкретном случае, но и то, что даже при наличии обоснований степень принуждения должна быть минимально возможной. Основной целью лечения должно быть восстановление автономии пациента. Как уже упоминалось, автономия подразумевает ответственность за себя и свои поступки. Если степень принуждения оказывается выше минимально необходимой, мы лишаем пациента ответственности за самого себя, а это противоречит цели лечения.
Необходимо допускать некоторую вероятность риска. В частности, необходимо настаивать на том, что бремя ответственности всегда несет тот, кто пытается лишить человека права на самоопределение. Это не всегда легко, особенно когда средства массовой информации распространяют панику по поводу «тикающих бомб», но мы обязаны противостоять искушению, пользуясь в том числе существующей статистикой, согласно которой психиатрические пациенты чаще всего совершенно безвредны для окружающих.
По умолчанию каждый человек обладает правом на самоопределение, согласно которому он может распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению, однако могут найтись причины изменить этому принципу. В тех случаях, когда можно доказать, что человек представляет существенную опасность для окружающих, применение принуждения не вызывает этических разногласий. Ситуация оказывается несколько сложнее, если человек представляет опасность лишь для самого себя, и в таких случаях может быть оправдано применение принуждения с целью выяснить, удовлетворяет ли пациент критериям автономии. Если пациент не удовлетворяет этим критериям, продолжение принудительного лечения этически допустимо. Если же выясняется, что пациент удовлетворяет критериям автономии, необходимо немедленно прекратить использование принуждения, даже если существует опасность суицида.
Критерий необходимости лечения вызывает больше сложностей. С консеквенциальной точки зрения на авторе принудительного вмешательства лежит значительное бремя доказательства. Необходимо доказать, что отсутствие лечения либо существенно снизит шансы пациента на выздоровление, либо вызовет необратимые последствия для здоровья. Затем, принимая во внимание права человека, необходимо продемонстрировать, что пациент не удовлетворяет критериям автономии, то есть не может принимать автономные решения. Если доказательства не представлены во всей полноте, то применение принуждения этически неприемлемо.
Принципы, изложенные мной выше, ясно демонстрируют необходимость жесткого регламента и гораздо более корректной практики, нежели та, что мы имеем сейчас. Думаю, все понимают, что существуют определенные границы того, насколько дотошный этический анализ медицинский персонал может провести в экстренной ситуации. Я вкратце обрисовал возможные варианты использования принуждения, а также описал различные состояния, в которых может находиться пациент. В настоящее время около 25 % пациентов, помещенных в психиатрические лечебницы принудительно, становятся добровольными в течение суток после поступления, и есть основания полагать, что если бы основные изложенные мной принципы соблюдались, это число было бы существенно выше. Кроме того, очевидно, что применение этического регламента в соответствии с описанными принципами способствовало бы заметному развитию ранней профилактики в психиатрии.
11 Неприкосновенность частной жизни
Одним из самых распространенных аргументов в защиту частной жизни является вероятность злоупотребления информацией. Это, безусловно, справедливое опасение, однако существует другое обоснование неприкосновенности частной жизни, гораздо глубже связанное с экзистенциальными условиями нашего существования. Даже если мы теоретически предположим, что злоупотребления информацией не произойдет, должны быть установлены четкие границы для того, какого рода информацию можно собирать и как именно ее можно использовать, учитывая влияние этого на наше отношение к окружающим и к самим себе[417]. Следовательно, аргумент от злоупотребления необходимо дополнить другими аргументами, в основе которых лежит значение приватности для развития отношения с другими людьми, а также для становления личности.
Любая декларация прав человека была бы неполной без статьи, защищающей право человека на частную жизнь, по той простой причине, что защита частной жизни является важной предпосылкой для свободной и счастливой жизни. Иметь свою собственную сферу неприкосновенности – это не роскошь, а необходимость. Как пришет Фридрих Хайек: «Свобода предполагает обеспечение индивиду сферы приватности, состоящей из таких вопросов, в которые другие люди не имеют права вмешиваться»[418]. Сфера приватности, защищенная от посторонних вмешательств, является предпосылкой для негативной свободы и развития автономии[419]. Для того чтобы индивид мог стать автономным, он должен иметь определенную степень контроля над своим окружением. Этот контроль отчасти обеспечивается законами, гарантирующими личности свободу действия. С точки зрения этих законов, за индивидом признается право единолично принимать решения, касающиеся самого себя. Однако для свободы требуется не просто отсутствие вмешательств в эту сферу и возможность для индивида действовать согласно своим желаниям. Свобода требует также наличия пространства, в котором может происходить становление «я» человека, свободного от наблюдения и даже «мягкого» воздействия.
Для обозначения этого права в Норвегии используется особое понятие «personvern», которое дословно переводится как «защита личности» и по своему значению несколько отличается от понятий, используемых для обозначения соответствующего права в других европейских языках. В международном дискурсе чаще всего используются формулировки, так или иначе содержащие выражение «частная жизнь», и в философской традиции значительно больше работ посвящено понятию «частной жизни», нежели понятию «защита личности». Аргументы, приводимые в защиту первого и второго понятия, в значительной степени совпадают.
Общепринятой трактовки соотношения между понятиями «частная жизнь» и «защита личности» не существует. Комиссия по свободе слова пыталась провести между ними различие, утверждая, что защита личности состоит «прежде всего в защите личности как публичного лица (общественное мнение), а не как частного лица»[420]. По моему мнению, подобное толкование понятия защиты личности, в котором сфера приватности признается в лучшем случае вторичной, совершенно неверно. Очевидно, что упомянутые понятия имеют значительную область пересечения. Защита личности часто упоминается в англоязычных работах как «informational privacy», «приватность персональных данных», то есть как одна из областей частной жизни вообще. В значительном числе случаев нарушение права на частную жизнь будет нарушать и право на защиту личности, и наоборот. Понятия частной жизни и защиты личности не очень четко разграничены. В поисках определения, дающего необходимые и достаточные критерии различения этих понятий, мы скорее всего останемся с пустыми руками или же найдем определение, которое либо включает в себя слишком много аспектов, либо упускает слишком многие из них[421]. Вероятно, более целесообразно было бы исходить из некоторых парадигматических примеров, а каждый новый случай оценивать исходя из имеющегося сходства с этими примерами[422].
Защита личности связана главным образом с желанием человека контролировать затрагивающую его информацию, тогда как право на частную жизнь включает целый ряд других аспектов, помимо информационного. Некоторые виды информации, которые мало кто считает конфиденциальными, тем не менее подпадают под право защиты личности. Это связано, в частности, с развитием современных информационных технологий, благодаря которому становится возможным сопоставить огромные объемы данных, в которых каждая единица информации сама по себе может быть совершенно безвредной, но в сочетании с другими такими же единицами она рассказывает о человеке слишком много, подобно тому, как одна точка на листе бумаге ни о чем нам не говорит, а множество точек на том же листе могут складываться в весьма достоверный портрет. Информация, которая не вызывает трудностей в одном контексте, может создавать проблемы в другом, поскольку изменение контекста может придавать этой информации совершенно иной смысл. Едва ли существуют какие-то ограничения на количество информации об одном и том же человеке, которую можно собрать, как долго ее можно хранить и насколько пристально анализировать.
Обсуждая границы частной жизни и защиты личности, мы сталкиваемся с тем отягчающим обстоятельством, что эти границы неоднократно менялись в ходе истории. Точно так же, как подвержены изменениям привычки, традиции, социальные структуры, технологии и многие другие ресурсы, меняются и наши взгляды на частную жизнь. Содержание понятия «приватности» варьируется в зависимости от места и времени[423]. Тем не менее похоже, что во всех культурах в том или ином значении присутствует понятие о частной жизни[424]. Дискуссия о соотношении приватного и публичного развивалась в философии с античных времен, однако подробное изучение всех точек зрения увело бы нас слишком далеко от темы.
Важнейшие изменения, произошедшие в этой области в последнее время, связаны с развитием технологий. Такая тенденция была замечена еще в 1890 году Уорреном и Брандейсом, авторами классической статьи, в которой обсуждалось развитие фотографии и средств массовой информации, вторгавшихся в частную жизнь и представлявших собой наравне с другими технологическими новинками угрозу распространения информации, которой человек готов был делиться только с узким кругом близких[425]. Поводом для написания этой статьи послужил реальный прецедент, когда один из папарацци нарушил право на частную жизнь дочери Уоррена в день ее свадьбы. Со времен Уоррена и Брандейса развитие технологий зашло очень далеко. Однако не стоит торопиться и винить развитие технологий как таковое в ослаблении защиты личности, поскольку мы сами должны устанавливать границы применения этих технологий. Технологии можно использовать по-разному и в различных целях, а можно и отказаться от их использования.
Социальные нормы постоянно претерпевают изменения. Границы между частной и публичной сферой тоже все время смещаются, так что многое из того, что раньше считалось строго приватным, теперь выносится на публику. Можно даже сказать, что сегодня многим кажется более пугающей перспективой отсутствие наблюдения, нежели его постоянное и повсеместное наличие. Границы определяются помимо всего прочего нашими ожиданиями относительно того, какие области должны быть избавлены от наблюдения. Эти ожидания формируются с учетом фактического объема наблюдения: если определенные области нашей жизни фактически являются объектом наблюдения, мы автоматически ожидаем, что они будут оставаться таковым и в дальнейшем, и тем самым сужаются границы того, что мы считаем неприкосновенной областью частной жизни. Другими словами, если границы определяются лишь тем, что́ мы фактически готовы признать, то в принципе становится возможным общество тотального наблюдения. Однако тот факт, что определенный объем наблюдения одобряется большинством граждан в отдельно взятом государстве, еще не является достаточным основанием для признания этого объема наблюдения легитимным. В этом состоит принципиальная разница между абсолютной демократией и либеральной демократией, которая устанавливает границы действия решений демократического большинства.
Основная причина, по которой необходимо ограничить право государства собирать и сопоставлять информацию, заключается в том, что существует опасность злоупотребления этой информацией, подрывающая принципы демократии. Конечно, можно возразить, что в современной Норвегии демократия вовсе не кажется подорванной, и что ни одно норвежское правительство не стало бы злоупотреблять личной информацией для того, чтобы нейтрализовать критиков и диссидентов. И хотя в нынешней ситуации все обстоит именно так, необходимо сформулировать правила, устанавливающие границы на случай наступления менее благоприятных времен. Традиционно государство рассматривалось как основная угроза защите личности, поскольку именно государственные учреждения имели достаточные ресурсы для тотального наблюдения за гражданами. Несомненно, эта угроза по-прежнему актуальна, однако развитие технологий привело к тому, что собирать и сопоставлять информацию может практически кто угодно. Поэтому должны быть установлены границы, регулирующие возможность сбора информации и злоупотребления ею для негосударственных учреждений, а также для частных лиц. Такое обоснование носит инструментальный характер, поскольку оно требует ограничения доступа к информации на том основании, что злоупотребление ею может нанести значительный ущерб. Вопрос в том, достаточно ли глубоко такое обоснование. Может быть, нарушение права на частную жизнь и защиту личности само по себе является злом, независимо от того, случится ли злоупотребление информацией?
Вопрос о том, является ли право на частную жизнь фундаментальным или лишь производным от других прав, широко обсуждался в философском дискурсе, как и вопрос о том, идет ли речь об одном праве или о целом комплексе прав. Джудит Джарвис Томсон в своей очень авторитетной статье обосновывает, что право на частную жизнь не является фундаментальным правом, а скорее является совокупностью прав, связанных с правом принимать решения, касающиеся своей личности и имущества[426]. По мнению Томсон, мы обладаем правом на то, чтобы никто не смотрел на наше имущество, к примеру, на фотографии в альбоме, если только мы сами не предоставили его для всеобщего обозрения. Далее, у нас есть право не становиться объектом наблюдения или прослушивания, если только мы сами не способствуем этому, например, стоя и разговаривая у открытого окна. Томсон утверждает, что так называемое право на частную жизнь есть не что иное, как право собственности, включающее и собственную личность. Следовательно, она считает, что право на частную жизнь в действительности избыточно, поскольку оно ничего не добавляет к праву собственности.
Чтобы опровергнуть Томсон, достаточно найти пример, в котором нарушается право на частную жизнь, и при этом не нарушается право на собственность. Представим себе, что у Пера есть mp3-плеер, на котором содержатся незаконно скачанные из Интернета материалы, а кроме того, Пер украл этот плеер, так что он не обладает правом собственности ни на сам плеер, ни на его содержание. И все же многие сочтут право Пера на частную жизнь нарушенным, если Пол без разрешения Пера возьмет этот плеер, чтобы посмотреть, что Пер на него записал. Можно предположить, что Томсон заявила бы об отсутствии нарушения права на частную жизнь по определению, поскольку нарушения права на частную собственность в данном случае не происходит. Дальнейшее развитие этой дискуссии едва ли возможно.
Соотношение между правом собственности и правом на частную жизнь играло важную роль в некоторых судебных процессах. Поскольку частные лица не обладают правом собственности на общественное пространство, юридическая защита права на частную жизнь на основании права на собственность сводилась бы к утверждению, что право на частную жизнь не может быть нарушено в общественном пространстве. В известном процессе «Кац против Соединенных Штатов» (1967), где речь шла о том, может ли телефонная будка прослушиваться без судебного ордера, судья Верховного суда Поттер Стюарт заключил, что Четвертая поправка к Конституции «защищает человека, а не место», и то, что человек «пытается сохранить в тайне, находится под защитой конституции даже в месте, открытом для публики»[427]. Судья Верховного суда Джон Харлан согласился и добавил лишь, что должны быть выполнены два условия: «во-первых, человек должен продемонстрировать реальное (субъективное) желание оградить свою частную жизнь, а во-вторых, это желание должно иметь характер, который общество готово признать обоснованным». Тем самым право на частную жизнь отделено от права на собственность, однако этот прецедент не отвечает на вопрос о том, почему право на частную жизнь так важно для нас.
Джеймс Рейчелс утверждает, что в основе всех интересов, связанных с понятием частной жизни, лежит единая ценность[428]. Согласно Рейчелсу, эта ценность заключается в связи между способностью контролировать, кто имеет доступ к информации о нас, и способностью вступать в различные социальные отношения с другими людьми. Частная жизнь предполагает, что между нами и этими людьми сохраняется некая дистанция, которая позволяет нам строить более прочные связи. Мы формируем отношения, добровольно раскрывая другим людям различную информацию о себе, а также предоставляя другим людям доступ к себе на различных уровнях. Если бы вся информация о нас была в любой момент доступна каждому, не было бы никакой разницы между нашим возлюбленным, другом и любым незнакомым человеком. Все мы по-разному ведем себя в семье, с друзьями, коллегами, чиновниками и т. д. Есть вещи, которыми мы ни с кем не делимся. Какой-то информацией мы делимся с семьей и друзьями, которые вместе образуют среду, в которой мы можем практически отбросить всякое притворство. Есть вещи, которыми мы готовы поделиться с широкой общественностью. Границы между приватным и общественным у разных людей различны, и каждый человек до определенной степени должен сам решать, чем и с кем он готов делиться. В обществе тотального наблюдения мы теряем возможность регулировать это лично.
Можно сказать, что и анализ Рейчелса недостаточно глубок, поскольку самая важная связь – это наше отношение к самим себе. Право на частную жизнь опирается на представление, что все мы обладаем совершенно индивидуальной личностью. Частная жизнь является пространством, в котором индивид может размышлять, выражать свои мысли и отдыхать, что способствует развитию его личности. Частная жизнь – это сфера, в которой мы можем поступать в полном соответствии со своими желаниями, не опасаясь реакции других людей, за исключением тех, кому мы сами предоставили доступ к этой сфере. Далее, речь идет не только о сфере, где мы свободны от потенциального осуждения окружающих, но и о сфере, где мы свободны от любого наблюдения, а следовательно, можем ослабить контроль над собой, который мы практикуем, если знаем, что на нас смотрят. Определенные аспекты нашей жизни могут существовать лишь при условии, что мы полностью предоставлены самим себе. Дело не в том, что нам есть что скрывать, но в том, что у нас должно быть такое пространство, где мы вообще можем не думать о том, есть ли нам что скрывать.
Эрвинг Гоффман рассматривает наше «я» как набор ролей, которые мы играем в различных ситуациях для публики, состоящей из таких же людей, как мы[429]. Наше «я» складывается из ролей, которые мы выбираем, заучиваем, а затем играем для других. «Я» не является чем-то врожденным, но рождается в социальном взаимодействии со зрителями. Все презентации нашего «я» происходят в рамках социальных договоренностей, которые индивид – в основном – пытается соблюдать. Поэтому наше «я» непрерывно наблюдает само себя, чтобы убедиться, что роль разыгрывается правильно, и это самонаблюдение распространяется на все вплоть до мельчайших физических нюансов. Логичная критика концепции Гоффмана заключается в том, что он представляет «я» как непрерывную цепь социальных взаимодействий. «Я» у Гофмана представлено как пустая скорлупа, не имеющая содержания, полностью поглощенная разыгрыванием ролей, которые стратегически наиболее оправданы в различных ситуациях, а такой взгляд на человека представляет его слишком примитивным. Я склонен согласиться с такой критикой, но считаю, что он выдвинул несколько важных идей. Будучи социальными существами, мы играем друг перед другом роли и одновременно наблюдаем за собой, чтобы убедиться, что мы играем их правильно, с соблюдением социальных норм. Именно это описывает Т. С. Эллиот в «Любовной песне Дж. Альфреда Пруфрока» (1915) следующими словами: «prepare a face to meet the faces that you meet», «для встречи новых лиц создать себе лицо»[430].
Прежде чем выйти из дома и позволить другим людям увидеть нас, мы приводим себя в порядок, переодеваемся и т. д. Мы надеваем маску, которую сможем снять, когда вернемся домой. Это не означает, что мы фальшивы, это значит лишь, что мы показываем разные стороны себя разным людям, а это подразумевает постоянную саморефлексию. Однако нам требуется пространство, в котором нам не нужно играть ролей, не нужно постоянно наблюдать за собой, потому что в этом пространстве за нами не наблюдают другие.
Наблюдение является неотъемлемой частью современной жизни. Что характерно, в фильме Чаплина «Новые времена» камеры расположены по всему заводу, даже в туалетах, так что директор в любое время может наблюдать за рабочими. Смысл не в том, что он действительно наблюдает за ними все время, но в том, что все рабочие понимают, что за ними в любой момент могут наблюдать, и ведут себя соответственно. В этом фильме Чарлин развивает одну из идей Иеремии Бентама, который описывал проект идеальной тюрьмы – паноптикума, в котором охранник теоретически может наблюдать за всеми заключенными одновременно, но они не знают, наблюдает ли он за ними в данный момент, поэтому в каждый момент ведут себя так, словно за ними наблюдают. Бентам описывал паноптикум как новую форму власти над умами, позволяющую осуществлять контроль над людьми в масштабе, недостижимом ранее[431]. Он был совершенно прав. Когда мы знаем, что на нас смотрят другие – или даже знаем о том, что наблюдение возможно, – наше отношение к самим себе меняется. Мы начинаем сами наблюдать за собой и своим поведением.
Заключенные Бентама и рабочие Чаплина едва ли хотели, чтобы за ними наблюдали, тогда как современные люди на удивление охотно соглашаются быть объектом постоянного наблюдения. Оно рассматривается как вариант добровольного рабства. И оно действительно является добровольным рабством, поскольку оно отнимает у нас существенную часть нашей свободы. Одной из основных черт свободной жизни является некоторая спонтанность, отсутствие необходимости быть осторожным и производить расчеты, своего рода самостоятельность. Тот, кто непрерывно должен обдумывать свои действия, даже самые что ни на есть бытовые, в действительности ограничен в своих действиях. Когда мы наблюдаем за собой потому, что за нами могут наблюдать другие, мы теряем эту спонтанность – нашу обычную непринужденность. Именно поэтому защита личности является решающим фактором в сохранении личной свободы.
Все мы хоть раз внезапно замечали, что на нас смотрят в тот момент, когда мы думали, что находимся наедине с собой. И даже если мы в тот момент не делали ничего плохого, мы были неприятно поражены, поскольку нам немедленно приходилось переключаться на другую модель поведения, предусматривающую, что за нами наблюдают. Если мы становимся объектом наблюдения, мы должны наблюдать за собой, чтобы быть уверенными, что мы выглядим именно так, как хотим выглядеть. Мы принимаем внешнюю точку зрения на самих себя. Моя мысль проста: если все наши действия могут стать объектом наблюдения и регистрации, мы становимся осторожными в своих поступках. Не имея сферы, свободной от чужих взглядов и вмешательств, мы не сможем реализовать и поддерживать свою свободу. Человек, постоянно являющийся объектом публичного внимания, о котором он осведомлен, потеряет значительную часть своей индивидуальности и станет гораздо более социально обусловленным существом. Разумеется, нельзя отрицать, что у такой социальной дисциплины есть свои плюсы, поскольку иначе мы просто не смогли бы жить в обществе, однако порой она может становиться слишком навязчивой. Люди являются социальными существами, и человеческая личность развивается посредством контактов с другими людьми. Говорить о частной жизни можно только с учетом этого. Сфера приватности – это место, которое мы можем покидать с тем, чтобы снова туда вернуться. Это феномен, который может существовать только в социальном контексте.
Основная идея, распространенная в либеральной традиции, заключается в том, что свобода должна подразумевать возможность реализовать хорошую жизнь своим собственным способом. А это в свою очередь подразумевает защиту частной жизни, поскольку именно в частной, приватной жизни можно создать что-то собственное. Кстати, это подтверждается этимологией слова «приватный», происходящего от латинского privus, которое изначально означало нечто единственное, но позднее получило значение чего-то собственного, принадлежащего индивиду. Уоррен и Брандейс говорили о том же, когда утверждали, что право на приватность есть «право на свою личность».
Турбьерн Тэннше в книге «Частная жизнь» отрицает представление о том, что граждане в социуме имеют право на частную жизнь, и доказывает, что закон должен ограничивать возможность законного наблюдения за их жизнью[432]. Он утверждает, что общая польза от прозрачности жизни граждан столь велика, что это этически оправдано. Он убеждает нас, что вся информация о гражданах, такая как истории болезни и банковская информация, должна находиться в свободном доступе в Интернете. Далее, необходимо регистрировать генетические коды граждан. Идеалом Тэннше является общество тотального наблюдения, и он считает, что мы уже практически достигли этого утопического состояния, поскольку современные граждане подвергаются наблюдению постоянно и повсеместно. И все же он утверждает, что прозрачность жизни граждан должна сопровождаться соответствующей прозрачностью властей. К примеру, армия, полиция и судебные органы не должны иметь права засекречивать информацию более чем на пять лет. Он не дает убедительного объяснения, почему прозрачность должна быть симметричной. Можно быть ярым сторонником максимальной прозрачности системы государственного управления для граждан, но при этом не считать, что жизнь граждан должна быть абсолютно прозрачна для властей. Тот факт, что граждане в наши дни постоянно являются объектами наблюдения, не является аргументом в пользу дальнейшего увеличения объемов этого наблюдения. Тэннше говорит об «открытом обществе», которое в действительности является полной противоположностью тому, что имел в виду Карл Поппер, вводя в обиход это выражение. Поппер понимал, что личная свобода предполагает определенную степень контроля над своей окружающей средой, в том числе контроля над информацией о себе. Рассуждения Тэннше по поводу открытого общества не представляются убедительными ни с философской, ни с политической точки зрения.
Обычным аргументом сторонников тотального наблюдения и соответствующего ослабления защиты личности является следующий: «Если вам нечего скрывать, то и бояться вам нечего». Этот аргумент основан на том, что если вы скрываете что-то, то это либо что-то аморальное, либо что-то незаконное. В этом заключается слабость аргумента, поскольку совершенно очевидно, что право на частную жизнь и защиту личности основывается вовсе не на желании скрыть нечто дурное[433]. Этот аргумент основан на ложной дихотомии: либо вы сделали что-то плохое, и вас необходимо разоблачить, либо вы не делали ничего дурного, поэтому разоблачение не нанесет вам никакого вреда. Как и в случае других ложных дихотомий, здесь упущена как минимум одна важная альтернатива. В данном случае эта альтернатива заключается в том, что разоблачение может навредить вам, даже если вы не делали ничего дурного. Нам всем есть что скрывать. И это не обязательно что-то незаконное и аморальное: как правило, это нечто, что мы по той или иной причине воспринимаем как что-то очень личное, чем мы не хотим делиться с другими. Это может быть что-то болезненное, хотя и не дурное. К примеру, одно исследование, проведенное в Германии в 2008 году, показало, что более половины опрошенных не хотели бы пользоваться телефоном, чтобы связаться с психологом, семейным терапевтом или наркологом из-за выхода директивы о хранении данных[434].
Вы можете испытывать страх, даже если вы не сделали ничего плохого. Ослабление личной защиты приведет к ослаблению личной свободы, причем поначалу это может происходить совершенно незаметно. Не возникнет никаких физических ограничений вашей свободы действий, и с виду вы так же, как и раньше, будете вольны поступать согласно своим желаниям. Но это лишь видимость, поскольку вы сами начнете регулировать свои слова и поступки.
В тоталитарном государстве граждане живут в постоянном страхе перед властью, тогда как в социальной демократии государство выступает гарантом безопасности. Чтобы государство могло защищать граждан наиболее эффективно, граждане готовы дать ему доступ к значительным областям, входящим в сферу приватности, которая в либеральной традиции считается закрытой от государственного вмешательства. Современное государство благосостояния не может существовать без сбора огромного объема информации о своих гражданах, и идея в том, что оно сможет выполнять свои задачи еще эффективнее, если получит еще больше данных о гражданах. В самой сути государства заложено стремление к максимальной экспансии – как из благих, так и из не очень благих побуждений.
Мы ожидаем, что государство будет предоставлять все больше услуг все более эффективным образом. Требование о неприкосновенности частной жизни и защите личности вступает в конфликт с требованием эффективности и безопасности. Обладая бóльшим количеством информации, полиция скорее всего сможет лучше ловить подозреваемых, налоговая служба сможет быстрее найти уклоняющихся от уплаты налогов, система здравоохранения сможет сделать лечение более эффективным и т. д. В мире, где полиция в любой момент может определить местонахождение каждого гражданина, убийцам, насильникам и грабителям просто негде будет укрыться. Впрочем, польза тотального наблюдения для той же борьбы с преступностью сильно преувеличена. Лондон является одним из мировых рекордсменов по количеству камер наблюдения, может быть, даже абсолютным чемпионом, однако, по оценкам, эти камеры помогают раскрыть лишь три процента от всех грабежей на улицах Лондона[435]. И даже если бы раскрываемость повысилась на 30 или 50 процентов, то причиной тому, вероятно, служило бы не тотальное наблюдение. Представители лондонской полиции предлагали оборудовать камеры микрофонами, чтобы можно было не только видеть, но и слышать людей[436]. Между прочим, подобные камеры с возможностью записи звука уже используются в Нидерландах. Если их внедрят и в Великобритании, на их использование скорее всего придется наложить те же ограничения, что и в Нидерландах, а именно: запрет на использование их для прослушки частных разговоров на улицах, и разрешение их использования только для предотвращения преступлений и поимки преступников. С другой стороны, для того чтобы определить, носит ли разговор частный характер, необходимо его прослушать…
Требование свободы – а именно, неприкосновенности частной жизни и защиты личности – всегда сталкивается с контраргументами, в которых говорится о безопасности и пользе. Современный идеологический климат таков, что принципиальные аргументы в пользу либеральных прав и свобод зачастую уступают прагматическим мерам, направленным на решение предположительно острых проблем, так что у нас не остается времени, чтобы оценить, к каким переменам приведут эти меры общество, в котором мы живем. Одним из самых наглядных примеров такого беспринципного прагматизма является часто цитируемое высказывание Тони Блэра о том, что глобальный терроризм превращает традционные либеральные аргументы в пользу свободы не то чтобы в ошибочные, но просто-напросто в устаревшие утверждения[437]. Вероятно, этим своим высказыванием Блэр раскрыл суть проблемы гораздо глубже, чем он сам осознавал. Действительно ли мы живем в эпоху, когда либеральные права уже не могут претендовать на неукоснительное соблюдение? Мне так не кажется, и я не думаю, что какие-либо из проблем нашего времени могут иметь такие импликации. Напротив, совершенно очевидно, что если мы откажемся от этих прав, нам придется жить в мире, который разительно отличается от нынешнего, и не в лучшую сторону. Как уже говорилось ранее, представления о сфере приватности претерпевали изменения в зависимости от места и исторической эпохи. Сейчас на кону стоит либеральное представление о частной жизни, которое в течение нескольких веков лежало в основе нашего общества, даже если порой в критические моменты оно могло пошатнуться. Отказаться от этого представления о неприкосновенности частной жизни и соответствующей защите личности значит очутиться в совершенно другом мире. Как пишет Исайя Берлин:
$$$«Желание жить самому по себе – признак высокой цивилизованности и человека, и сообщества. Само чувство приватности, области личных отношений как чего-то священного проистекает из такого понимания свободы, которое, несмотря на свои религиозные корни, в развитой форме едва ли старше Ренессанса и Реформации. Однако угасание этого чувства означало бы смерть цивилизации, всех ее моральных основ»[438].
12 Свобода слова
Либеральная демократия основана на критике, на том, что все граждане имеют право выражать свое мнение о курсе социального развития, а также о том, что является неприемлемым. Либеральная демократия никогда не достигнет совершенного равновесия, поскольку в ней живут индивиды и группы с разнонаправленными интересами, в соответствии с которыми они хотят организовать все общество. Должны существовать социальные площадки, где эти разногласия могут быть вынесены на обсуждение и разрешаться ненасильственным способом, а это может быть возможно лишь при условии свободы слова. Подобная культура, основанная на критике, предполагает толерантность. Однако понятие толерантности в последнее время сильно изменило свое значение, так что теперь оно способно скорее подорвать свободу слова, нежели поддержать ее.
Сутью свободы слова является право человека на публичные высказывания. Любой авторитетный дискурс о свободе слова подразумевает, что у нее должны быть определенные границы. В мире никогда не существовало – и едва ли когда-нибудь будет существовать – общество, в котором свобода слова абсолютна. Кроме того, в любом авторитетном труде о свободе слова в наше время будет сказано, что свобода слова необходима, поскольку она является одним из столпов либеральной демократии. Всякий, кто высказывается против свободы слова, отрицает тем самым и либеральную демократию, а подобная позиция столь маргинальна, что мы даже не будет уделять ей внимания. Дальнейшие рассуждения будут касаться лишь того, в каких границах должна реализоваться свобода слова.
В дискуссиях о свободе слова больше всего внимания, как правило, уделяется той роли, которую могут и должны играть государственные санкции. Существуют и другие угрозы свободе слова. К примеру, Джон Стюарт Милль придавал большое значение социальным санкциям, когда люди оставляют свое мнение при себе из страха перед реакцией социального окружения. Когда значительная часть общества пришла к согласию по поводу какого-либо вопроса, последствия высказывания альтернативного мнения могут быть плачевны для отдельного человека. Еще одной угрозой свободе слова является давление со стороны негосударственных организаций, которые, к примеру, могут лишить экономической поддержки человека, высказавшего мнение, отличное от позиции этой организации. Однако в данной главе я постараюсь ограничиться рассмотрением государственных санкций, закрепленных в законодательстве, и я буду оценивать эти санкции в соответствии с «принципом причинения вреда», сформулированным Миллем.
Обоснование свободы слова
Историю свободы слова можно начать с речи Сократа в свою защиту в 399 году до нашей эры, или же с Великой хартии вольностей 1215 года. Или же мы можем обратиться к мусульманской культуре VIII–IX веков, в которой процветали плюрализм и толерантность. Однако попытка толкования древних культур с точки зрения наших нынешних представлений о правах человека едва ли стала бы успешной. Принцип свободы слова более уместен в современном историческом контексте, после церковной Реформации и сопровождавших ее религиозных и политических споров. Первым по-настоящему авторитетным трудом о свободе слова стала «Ареопагитика» Джона Мильтона, написанная в 1644 году. «Ареопагитика» была создана как ответ на попытки британского парламента запретить публикации, по разным причинам считавшиеся нежелательными. Мильтон приводит целый ряд аргументов в поддержку свободы слова. В частности, он пишет, что мы можем узнать истину, лишь сопоставив все существующие точки зрения, и в мире нет индивида, достаточно мудрого для того, чтобы единолично определять истину для всех остальных. Разнообразие мнений является решающим фактором развития разума соответственно его основной цели – поиску истины. Поэтому Мильтон пишет, что «тот же, кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум»[439]. Этот аргумент придает свободе слова инструментальную ценность в нашем постоянном поиске истины.
В общих чертах можно разделить все аргументы за свободу слова на консеквенциальные и деонтологические. Консеквенциализм исходит из того, что действие само по себе не может быть хорошим или плохим, этичным или неэтичным. Поступок может быть назван хорошим только в силу соответствующих последствий. Точно так же поступок сам по себе не может быть назван плохим, и каждый поступок может оказаться хорошим, если его последствия более благоприятны, чем последствия любых других поступков. В столь общей формулировке не вполне ясно, что подразумевается под «благоприятными последствиями», но скорее всего имеется в виду счастье, благосостояние и тому подобное. С такой точки зрения последствия сохранения свободы слова должны быть более благоприятными, чем последствия отказа от нее. Консеквенциальные аргументы за свободу слова приписывают этой свободе чисто инструментальную ценность в достижении определенных целей. С точки зрения консеквенциализма, свобода слова является необходимым условием нормального функционирования демократии. Граждане должны иметь возможность выражать свое мнение, читать и слушать чужие мнения, поддерживать или оспаривать различные предложения, включая и те, которые они считают неприемлемыми. Без свободы слова мы не можем создать по-настоящему репрезентативную демократию и вынуждены будем довольствоваться псевдодемократией, в которой граждане могут голосовать, но если они не имеют возможности свободно сформировать собственное мнение, это не будет реальной демократией, поскольку в ней будет отсутствовать собственно демократический процесс. Недостаток консеквенциальных аргументов заключается в том, что неприкосновенность свободы слова будет нарушена, если удастся доказать, что в отдельных случаях или в целом отказ от свободы слова приведет к лучшим последствиям.
Деонтологический аргумент обычно состоит в том, что люди имеют право на свободу слова, и мы обязаны уважать это право независимо от последствий. Подобные аргументы часто строятся на необходимости сохранения автономии граждан. Права человека являются важной нормативной величиной. Права, как уже говорилось ранее, – это козырь[440], а это значит, что они побивают любые возможные блага, которые могут быть получены с нарушением этих прав. Слабость деонтологических аргументов заключается в полном игнорировании возможных последствий свободы слова, поскольку это интуитивно кажется нам правильным.
Существует и промежуточная позиция, которую можно обозначить как слабый консеквенциализм. Она заключается в том, что в нормальной ситуации права должны быть абсолютны и неприкосновенны, но признает, что в некоторых случаях необходимо учитывать возможные последствия. Основная идея либеральной демократии состоит в том, что все граждане обладают равным достоинством, и все имеют право выражать свое мнение о том, каким следует быть обществу, и это право касается в том числе противников либеральной демократии. Бывают ситуации, допускающие отклонение от этого принципа, к примеру, если выражение какого-либо мнения представляет непосредственную угрозу для дальнейшего существования либеральной демократии[441]. Последователь слабого консеквенциализма считает свободу слова неприкосновенной в политическом контексте, однако допускает возможность, что учет последствий может привести к ограничению свободы слова, если на то есть очень веские причины. Такая позиция не подразумевает раз и навсегда определенных критериев того, насколько серьезными должны быть последствия, чтобы это оказалось важнее свободы слова. По моему мнению, речь должна идти о весьма конкретной и непосредственной угрозе безопасности государства или отдельных индивидов. Похожая мысль была высказана во время известного судебного процесса «Бранденбург против штата Огайо» (1969), в приговоре по которому говорится, что свобода слова неприкосновенна, за исключением случаев, когда высказывание имеет цель «послужить непосредственной причиной к незаконному действию, и скорее всего такое действие немедленно произойдет именно в результате высказывания»[442].
Из этого принципа следует, что государство не может быть чрезмерно бдительным и подвергать цензуре высказывания, которые могут принести вред в долгосрочной перспективе – должно быть очевидно, что высказывание является прямой причиной незаконных действий, и речь должна идти о непосредственной, немедленной угрозе. Впрочем, скорее всего, последователь слабого консеквенциализма сочтет, что высказывания, которые в перспективе могут представлять угрозу, тоже не подпадают под защиту свободы слова.
Защита свободы слова зачастую не может быть однозначно отнесена к консеквенциальному или деонтологическому подходу, а является комбинацией аргументов обоих типов. К примеру, часто высказывается мнение, что демократия не может существовать без принципиальной свободы слова, то есть свобода слова рассматривается как средство достижения цели – демократического развития, и здесь же утверждается, что все граждане имеют право на свободу слова, даже если они пользуются им, чтобы противостоять демократии.
Аргументы Милля
Одной из самых известных работ в защиту свободы слова является книга «О свободе» Джона Стюарта Милля (1859). Официально позиция Милля, в данном случае его способ обоснования свободы слова, считается консеквенциальной, однако его теорию вполне можно назвать комбинацией утилитаристских и деонтологических элементов, с включениями этики добродетелей. Краеугольным камнем политической философии Милля является понятие свободы, а не принцип пользы. Милль утверждает, что люди должны обладать максимальной свободой выражать и обсуждать любые мнения, включая самые аморальные[443]. Мы должны быть совершенно свободны высказывать свое мнение по любому вопросу, будь он научным, этическим или теологическим[444]. И это не должно зависеть от количества людей, разделяющих данное мнение: «Если бы весь род человеческий за исключением только одного индивидуума был известного мнения, а этот индивидуум был мнения противного, то и тогда все человечество имело бы не более права заставить молчать этого индивидуума, чем какое имел бы и сам индивидуум заставить молчать все человечество, если бы имел на то возможность»[445].
Милль утверждает в первую очередь, что мы никогда не сможем быть полностью уверены в том, что опровергаемое нами утверждение действительно ложно[446]. Далее он пишет, что даже ложные в целом утверждения могут содержать в себе крупицы истины. Кроме того, он считает, что даже ложные утверждения могут быть полезны, поскольку они могут помешать истинным утверждениям превратиться в застывшие догматы[447]. В основе рассуждения Милля лежит концепция фаллибилизма, согласно которой любое знание не является окончательным. Мы не можем быть совершенно уверены, что утверждения, которые мы считаем истинными, действительно являются истинными в конечной инстанции[448]. Мы лишь можем быть уверены в рациональности наших убеждений, если мы можем подвергнуть их критическому анализу. А это подразумевает их сравнение с другими представлениями. И даже если наше представление выдержит эту проверку, это не значит, что мы можем успокоиться раз и навсегда, поскольку существует некоторая вероятность, что оно все же рано или поздно окажется ложным.
Может показаться, что Милль выступает за полную и неограниченную свободу слова. Однако это не совсем так. Он считает, что у свободы слова есть свои границы, и они определяются – подобно границам других свобод – его принципом причинения вреда. «Каждый член цивилизованного общества только в таком случае может быть справедливо подвергнут какому-нибудь принуждению, если это нужно для того, чтобы предупредить с его стороны такие действия, которые вредны для других людей»[449]. Формулировка, при помощи которой Милль объясняет одну из самых известных своих идей, не очень наглядна, поскольку в ней не уточняется, что именно следует понимать под вредом. При широком толковании этого понятия едва ли существуют границы тому, что можно в том или ином понимании трактовать как причиняющее вред другому лицу. Например, я мог бы запретить вам говорить плохо о музыкальном произведении, которое так мило моему сердцу, что мне невыносимо слышать негативные отзывы о нем. Разумеется, Милль совершенно не имел в виду столь абсурдных вещей. Речь идет не о любом вреде. Споры о том, какой именно смысл вкладывал Милль в принцип причинения вреда, еще ведутся, но обычное толкование заключается в том, что этот вред должен состоять в нарушении прав другого человека[450].
В некоторых случаях очевидно, что выражение личного мнения повлечет за собой ущемление прав другого человека, к примеру, когда адвокат или врач нарушает профессиональную тайну. Защита личности во многих случаях устанавливает четкие границы свободы слова. Однако есть и другие случаи, в которых все менее очевидно, поскольку вероятность нарушения чьих-либо прав зависит от контекста высказывания. Некоторые высказывания могут быть совершенно безобидными в одном контексте и приносить вред в другом. Сам Милль иллюстрирует это следующим примером: мы имеем полное право написать в газету заметку о том, что по вине торговцев зерном народ голодает, однако человек, сказавший такое разъяренной толпе перед домом торговца зерном, заслуживает наказания[451]. На практике это зависит от точки зрения, однако Милль открыто заявляет, что любое высказывание теряет свой «иммунитет», когда обстоятельства, при которых оно произносится, способствуют толкованию этого высказывания как призыва к насилию. Далее, совершенно ясно, что для Милля свобода слова не покрывает выражения, которые являются наказуемым обманом или шантажом.
Принцип причинения вреда, сформулированный Миллем, гласит, что рамки свободы слова достаточно широки, так что кое-кто назвал бы его позицию «фундаментализмом от свободы слова», поскольку для него свобода слова имеет приоритет перед многими другими правами и свободами, также высоко ценимыми в либеральной демократии. Однако в действительности принцип причинения вреда основан на идее, что свобода, в частности свобода слова, является самой сутью жизни в либерально-демократическом государстве, а потому ее не могут затмить никакие иные, даже самые благие цели.
Критика и логика оскорбления
Основными инструментами демократического развития являются дискуссии и критика. Стать объектом критики может быть весьма неприятно. Это может ощущаться как унижение и оскорбление, в особенности тогда, когда критика кажется нам самим справедливой. Понятие «критика» происходит от греческого слова kritike, означающего «разделять, упорядочивать, решать, судить, исследовать» и т. д. Критика служит не только доказательством некоторых утверждений, на практике она часто служит для того, чтобы отделить правильное от неправильного. Зачастую критика бывает негативной, когда внимание направлено исключительно на неправильное, на поиск ошибок и недостатков в людях, группах, учреждениях, представлениях, высказываниях и практиках.
Резкая критика других не противоречит идее равного достоинства людей, но неразрывно связана с этой идеей. Если я воздерживаюсь от критики других людей или групп по поводу какого-либо серьезного с моей точки зрения недостатка из-за того, что считаю их слишком ранимыми, чтобы воспринять критику, я как раз не воспринимаю их как равных. Едва ли существует совершенно объективный критерий, позволяющий определить, является ли критика оскорбительной. Конечно, мы можем воспользоваться чисто субъективным критерием, согласно которому кто-то считается оскорбленным в силу того, что он испытывает обиду. Этот критерий едва ли можно использовать, поскольку практически любое выражение может быть воспринято кем-то как оскорбительное. Например, если я скажу: «Теория прибавочной стоимости Маркса неверна», ярый сторонник теорий Маркса может счесть себя оскорбленным, но это не значит, что я перешел границы и нарушил его права. Давайте возьмем в качестве примера более экспрессивные высказывания наподобие: «Футбольный клуб Волеренга – отстой», «Группа “Дансбанд” играет дерьмовую музыку» или «Правые экстремисты – имбецилы». Эти высказывания наверняка будут оскорбительными для болельщиков футбольного клуба Волеренга, фанатов группы «Дансбанд» и правых экстремистов. Однако это не значит, что они могут заявить об оскорблении или что выражение, которое после пристального анализа было признано оскорбительным, не защищается принципом свободы слова.
Вопрос о том, насколько оскорбительным является высказывание Х, безусловно, связан с эмоциональной реакцией адресата этого высказывания. Однако эта реакция, равно как и другие эмоциональные реакции, может быть адекватной или неадекватной своему объекту, поскольку некоторые реакции воспринимаются нами как уместные, а некоторые как неуместные[452]. Кроме того, чувство обиды, как правило, сопровождается идеей, что у адресата есть причина обидеться. Эта причина привносит в обиду элемент рациональности, который делает ее менее субъективной и позволяет третьему лицу провести анализ. Причина указывает на некоторое свойство самого высказывания, которое может представить обиду как адекватную реакцию. Тем самым мы перемещаемся из чисто субъективной области в более объективное или, по крайней мере, интерсубъективное пространство. Развивая мысль, мы можем предположить, что высказывание X действительно следует считать оскорбительным лишь в том случае, если окружающие подтвердят его оскорбительный характер. Следующая проблема заключается в том, что различные группы в одном и том же обществе могут иметь разную точку зрения на то, является ли высказывание X оскорбительным. К примеру, религиозная община может считать высказывание X оскорбительным, тогда как светская часть населения не считает его оскорбительным, однако мы не будем углубляться в этот вопрос. В любом случае очевидно: требуется нечто большее, чем заявление индивида, что он чувствует себя оскорбленным высказыванием Х. Необходимо объяснить причину, почему X является оскорбительным, и эта причина должна быть признана другими людьми.
Любое представление может стать объектом критики, и даже в том случае, если критика носит глубоко оскорбительный характер, само по себе это не означает, что она не защищена свободой слова. Даже самое уничижительное высказывание, которое не добавляет ничего нового и ценного к общественной дискуссии и произнесено исключительно с целью унизить противника, по умолчанию находится под защитой свободы слова. Некоторые люди считают, что уничижительные высказывания представляют собой отдельную категорию, которая не должна подпадать под свободу слова. По моему мнению, тот лишь факт, что высказывание является уничижительным или оскорбительным, вовсе не является решающим фактором, и совершенно неважно, насколько уничижительным или оскорбительным оно является.
Свобода слова может вступать в конфликт с другими правами, начиная с авторского права и заканчивая защитой личности, и в таких случаях она вынуждена будет уступить. Однако оскорбления могут расцениваться таковыми исходя из принципа причинения вреда лишь в том случае, если мы имеем право не подвергаться оскорблениям. Если у нас нет такого права, а по моему мнению, у нас такого права нет, то никакого конфликта прав здесь не наблюдается. Сами по себе высказывания не представляют собой вреда такого типа, от которого нас защищает законодательство. Судя по всему, мир стал бы лучше без такого количества уничижительных высказываний, однако вместе с тем мир, где уничижительные высказывания запрещены, гораздо хуже мира, где действует свобода слова.
Важнейшей задачей межчеловеческих отношений является задача не задеть чувства другого человека. Оскорбления или любые высказывания и поступки, которые воспринимаются как ранящие, не обязательно должны быть под запретом. Свобода слова нередко наносит вред, однако чаще всего оказывается, что вред нанесен необоснованным представлениям, которые этого вполне заслуживают. Не ранить чувства окружающих – это весьма достойная цель, и разумеется, ранить чьи-то чувства намеренно, не имея никакой другой цели, совершенно неэтично, однако неэтичное поведение не являтеся незаконным.
Толерантность
Культура, настолько проникнутая критикой, как я описал выше, кажется совсем не толерантной, тогда как толерантность является одной из важнейших ценностей в либеральной демократии. Слово «толерантность» происходит от латинского «tolerantia», означавшего терпение. Понятие толерантности связано – имплицитно или эксплицитно – с понятием осуждения. Мы можем проявить толерантность лишь по отношению к тому, что мы так или иначе считаем неправильным, или, как минимум, не очень ценным. Толерантность может существовать лишь при условии, что мы предприняли критический анализ и пришли к выводу, что какое-то явление несостоятельно. Мы не можем проявлять толерантность по отношению к своим собственным представлениям, а также по отношению к представлениям других, если они совпадают с нашими. Мир, в котором все друг с другом согласны, был бы миром без толерантности, поскольку она была бы совершенно лишней. Кроме того, мы не можем проявить толерантность по отношению к представлениям, которые мы не подвергли критическому анализу. В этом случае мы скорее говорим о равнодушии. Чтобы проявить толерантность, мы должны, во-первых, занять по отношению к чему-то негативную позицию, во-вторых, мы должны быть в состоянии преодолеть это отрицательное отношение, а в-третьих, мы должны не реализовать его.
Толерантность означает принятие права других жить иначе, чем мы, мыслить иначе и выражать мнения, отличные от наших. Толерантность вовсе не требует от нас полной солидарности со всем этим, но лишь отказа от принуждения других жить, думать и выражаться так же, как и мы. Толерантность вполне совместима с суровой критикой того, что нам не нравится. Именно эта идея лежит в основе известного выражения Вольтера: «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». Вольтер имеет в виду, что мы должны уважать право других людей высказывать свое мнение, и это не то же самое, что уважать их мнения. Однако в наше время эта идея была извращена и толкуется в том духе, что мы должны признавать и уважать то, по отношению к чему мы проявляем толерантность[453]. Это говорит о глубоком непонимании логики толерантности, поскольку толерантность возможна лишь в том случае, когда мы не согласны с другими людьми, и требование солидарности и признания представлений и образа жизни других людей является проявлением полного отсутствия толерантности. И хотя истинная толерантность всегда содержит в себе элемент осуждения, она покоится на фундаменте осознания, что плюрализм убеждений и жизненных укладов необходим для существования личной свободы и либерального общества.
Ни в одном обществе никогда не существовало абсолютной толерантности, поскольку определенные убеждения или высказывания всегда подвергались цензуре. Джон Локк в своих «Письмах о веротерпимости» (1689) предстал одним из первых защитников религиозной толерантности[454]. Он подчеркивал, что одной из важнейших задач законодательства является не определение того, что является истинным и ложным, а обеспечение безопасности граждан. Из этого следует, что религиозные убеждения не должны становиться предметом политического регулирования. Однако он допускает два серьезных исключения из этого правила и утверждает, что не следует проявлять толерантность по отношению к католикам и атеистам, поскольку католики дают клятву верности иной власти, а атеисты не признают божественную волю источником права и морали. В современной Норвегии католики и атеисты не являются объектом толерантности, поскольку никому не приходит в голову принудить католика или атеиста отказаться от своей веры или отсутствия таковой. Таким образом, толерантность по отношению к ним является излишней. С другой стороны, богохульственные высказывания не являются объектом толерантности, поскольку в конституции все еще присутствует соответствующая статья, а следовательно, такие высказывания могут подвергнуться юридическому преследованию. Эта статья редко используется на практике, но теоретически мы по-прежнему можем подать на человека в суд за богохульство.
Либеральное общество не должно устанавливать границы религиозных убеждений и критики оных. Это не означает, что выражать свои убеждения или свое несогласие с ними можно каким угодно способом. К примеру, мы имеем право запретить религиозной общине распространять свои убеждения посредством громкоговорителей в публичном месте – не из несогласия с этими убеждениями, но потому, что уровень громкости мешает окружающим. Свобода слова не подразумевает права выражать свое мнение в любом контексте и любыми средствами.
В последнее время различные религиозные общества неоднократно заявляли, что определенные высказывания оскорбляют их религиозные чувства, причем под высказываниями здесь подразумеваются романы, пьесы, фильмы или карикатуры. В соответствии с принципом причинения вреда решающую роль играет вопрос, обладают ли люди правом на защиту своих религиозных чувств и убеждений от оскорбления. Религиозные общества утверждают, что свобода слова защищает высказывания только тогда, когда эти высказывания не оскорбляют ничьих религиозных чувств. С точки зрения принципа причинения вреда едва ли они правы. Вероятно, можно утверждать, что ущемление ваших религиозных или моральных чувств может подпадать под понятие «вреда» в широком смысле. Однако, как мы помним, принцип причинения вреда требует, чтобы «вред» являлся нарушением чьих-либо прав, и оскорбление чьих-либо чувств еще не является нарушением прав этого человека или людей, поэтому оскорбительные высказывания не могут быть запрещены.
Следует ли разрешать расистские высказывания? Расизм как явление находится в остром противоречии с центральной идеей либеральной философии о равном достоинстве всех людей. С этой точки зрения либеральная идеология должна была бы поддержать запрет на расистские высказывания и введение наказания за них. Страна, в которой действует либеральная демократия, обязана пропагандировать идею о равном достоинстве всех людей и противодействовать расизму, однако просто запретить расистские высказывания – это не выход. Дейстительно эффективным противодействием расизму стало бы доказательство его необоснованности. В некоторых ситуациях расистские высказывания могут представлять достаточно явную угрозу одному или нескольким этническим меньшинствам, однако в таком случае расистские высказывания теряют свой иммунитет в соответствии с принципом причинения вреда.
Следует различать этическую и юридическую толерантность: то, что нам не нравится, но не становится объектом морального осуждения или юридического преследования соответственно. Нарушения прав других людей не подлежат ни этической, ни юридической толерантности. К некоторым типам высказываний, например оскорблению религиозных чувств, можно проявлять юридическую, но не этическую толерантность, в зависимости от того, каковы были цель, контекст и последствия данного высказывания. Есть и такие высказывания, которые заслуживают как юридической, так и этической толерантности. С политической точки зрения важен в первую очередь вопрос о границах юридической толерантности, тогда как границы этической толерантности относятся к сфере гражданской ответственности.
Свобода слова и критика
Столь всеохватный принцип свободы слова, как тот, что сформулировал Милль, а я поддержал несколькими страницами ранее, неизбежно будет приводить к обидам отдельных людей и периодическому возникновению конфликтов. Кое-кто сочтет, что цена слишком высока, так что нам необходимо проявить больше прагматизма и сопоставлять значимость различных факторов. Вопрос лишь в том, каким образом можно сопоставить значимость свободы слова в целом со значимостью религиозных чувств отдельных групп и индивидов. Какую шкалу мы можем использовать для соизмерения столь различных ценностей? Для религиозного фундаменталиста ответ будет очень прост, поскольку для него религия всегда важнее, но тогда наше общество перестанет быть обществом либеральной демократии. В по-настоящему либеральном обществе определенные права и свободы должны обладать абсолютным статусом, то есть они не должны становиться предметом «соизмерения» с другими ценностями и интересами. Эти ценности получили такой статус не только в силу своей «полезности». В рамках либеральной демократии нам необходимо сформулировать принципы, которые помогают урегулировать конфликты ценностей. Либеральная демократия не сможет существовать без соблюдения некоторых фундаментальных принципов, которые просто нельзя отменить, сопоставив их с другими ценностями в случае возникновения конфликтов.
И хотя сам я поддерживаю юридическую толерантность в отношении оскорбительных высказываний, я считаю, что мы не обязаны соблюдать по отношению к ним этическую толерантность. Защита свободы слова полностью совместима с суровой критикой как отдельных высказываний, так и определенной культуры самовыражения. Либеральные права обеспечивают своим субъектам пространство для принятия решений, в том числе – в определенных границах – и таких решений, которые противоречат морали. Свобода слова позволяет людям выражать свое мнение такими способами, которые могут показаться другим оскорбительными, даже если высказывание не преследует благой цели. Свобода слова требует исходно нейтрального отношения к высказываниям. Тот факт, что высказывание является ложным или аморальным, совершенно не играет роли в решении вопроса, защищено ли высказывание свободой слова. Одним из столпов либерального общества является проведение различия между законом и моралью. Человек должен иметь право быть аморальным, хотя с точки зрения морали он и достоин осуждения. В крайнем случае мы можем подвергнуть оскорбительные высказывания критике, хотя они и не подлежат юридическому преследованию.
Люди должны иметь возможность высказывать ошибочные или неприятные нам мнения, но взамен мы должны иметь право утверждать, что их мнение ошибочно или неприятно. Критика их высказываний не противоречит принципу неприкосновенности свободы слова. Иначе говоря, мы должны держать в уме два принципа одновременно: люди имеют право выражать свое мнение, а мы имеем право их критиковать.
Этика свободы
13 Реализация свободы
Понятие свободы, которое мы обсуждали в предыдущем разделе, озаглавленном «Политика свободы», мало связано с моралью. Оно не дает никаких рецептов хорошей жизни, за исключением попытки обозначить некоторые границы, необходимые для того, чтобы реализовать хорошую и свободную жизнь. В этих рамках возможны многие способы жизни, которые можно назвать хорошими, но много и таких, которые хорошими не являются. Ценность политической свободы в конечном счете состоит в том, что она способствует достижению индивидом личной свободы. Мы не можем поставить знак равенства между политической свободой и личной свободой, поскольку политическая свобода является лишь одной из нескольких предпосылок личной свободы. Эта часть книги носит название «Этика свободы», поскольку здесь мы будем обсуждать, каким образом нам следует жить и подробнее исследовать связь между свободой, моралью и смыслом жизни. Другими словами, мы постараемся понять, каким образом мы можем воплотить свободу в нашей жизни.
Условия, в которых мы реализуем нашу свободу, претерпели очень существенные изменения за последнее время. Еще не так давно свободным временем, материальными ресурсами и возможностью достичь определенного уровня жизни обладал лишь весьма ограниченный круг людей. Жизнь всех остальных проходила под знаком суровой необходимости и борьбы за выживание. В современном мире, где базовые потребности большинства людей полностью удовлетворены, одним из основных занятий становится поиск собственной идентичности. На что мы хотим употребить свою свободу? Кем мы хотим стать? Чарльз Тейлор пишет:
$$$«Вопрос о том, какую жизнь я хочу прожить, тесно связан с вопросом, какая жизнь вообще стоит того, чтобы жить, или же какая жизнь поможет мне выполнить обещание, заключающееся в моих особых талантах, или же удовлетворит требованиям, предъявляемым моими врожденными способностями, или же каковы составляющие полной, осмысленной жизни – в отличие от жизни, наполненной делами второстепенной важности и банальностями. Этот вопрос требует сильной оценки, поскольку люди, задающие такие вопросы, но сомневаются, что человек, следующий своим желаниям и стремлениям, может выбрать неверный путь и потерпеть неудачу в попытке прожить достойную жизнь»[455].
Сильная оценка – это результат размышления о том, какими мы в принципе хотим быть. Основная идея Тейлора заключается в том, что в современном обществе произошли принципиальные изменения, касающиеся основы таких размышлений. В более раннем, традиционнном обществе такие вещи считались сами собой разумеющимися, поскольку определялись в основном социальным контекстом, в котором рос и воспитывался человек. Традиционное общество давало человеку более определенное представление о том, чем ему следует заниматься. Традиция ограничивает свободу выбора, и чаще всего люди не так уж много знают о других способах проживать свою жизнь. В таких обществах человек обладает меньшей степенью автономии, но вместе с тем людям проще найти смысл жизни, поскольку им даже не требуется его искать. В современном обществе этот социальный контекст характеризуется гораздо бóльшим плюрализмом – или фрагментарностью, – а потому выбор становится менее очевидным и в большей степени является результатом личных поисков и размышлений конкретного индивида. Принадлежность к группе все еще играет роль в самоидентификации, однако каждый современный человек входит в значительно большее число различных групп, нежели гражданин традиционного общества. Сегодня вы можете быть гражданином Норвегии, ребенком иммигрантов из Вьетнама, жить в Бельгии, быть физиком, креационистом, социал-демократом, фанатом блэк-металла, гомосексуалистом и филателистом в одном лице. Все эти элементы вашей самоидентификации связывают вас с различными группами. Границы для сильной оценки в наши дни стали более гибкими и размытыми, и мир в гораздо меньшей степени задает нам курс своими ожиданиями относительно того, какими людьми мы должны быть. Это не означает, что любой выбор одинаково хорош. Оценка может быть более или менее удачной с точки зрения формирования самоидентификации и наполнения жизни смыслом. Однако определить, какой именно жизнью нам следует жить, не так уж просто. Как пишет Виктор Франкл: «Сегодня инстинкты не подсказывают человеку, как он должен действовать, равно как и традиции больше не являются руководством к действию. Чаще всего человек даже не знает, чем он хотел бы заниматься в глубине души»[456]. Именно в силу этой неясности современный человек так обеспокоен – пожалуй, можно даже сказать: одержим, – самореализацией. Постоянное и явное стремление к самореализации свидетельствует и о том, что индивид часто терпит неудачу в поиске самого себя. Как опять же точно подмечает Франкл: «Бумеранг возвращается к охотнику только тогда, когда пролетает мимо намеченной цели или добычи. Так же и человек – возвращается к себе самому только тогда, когда, будучи слишком увлечен самим собой, не понимает своей задачи и терпит неудачу в поиске смысла жизни»[457].
Современный индивид освобожден от власти традиций, но именно в силу этого он несет больше ответственности за самого себя, в том числе и за то, чтобы стать самим собой. Как писал Ницше: «Стань тем, кто ты есть»[458]. Этот индивид занимается саморефлексией. Определенная степень саморефлексии была характерна для людей в любом обществе, однако в обществе, где люди не связаны традициями, рассказывающими им о том, кем они являются, эта тенденция к саморефлексии радикально усилилась[459]. Это приводит к тому, что индивидам все в большей степени приходится самим конструировать свою идентификацию при помощи имеющихся в их распоряжении средств, так как их самость не является чем-то данным. Самость необходимо создавать, наблюдать за ней, поддерживать, совершенствовать и т. д.
Эта мысль является одной из центральных в поздней философии Мишеля Фуко. От отрицает идею врожденной самости, выступающей в виде нормы. Нет никакой «сущности», к которой можно вернуться, и потому все мы должны создавать себя как произведение искусства[460]. Мы должны не найти себя, а скорее изобрести себя. Такое создание себя происходит, в частности, посредством того, что Фуко именует «аскезой», подразумевающей, что субъект выполняет постоянную работу над собой, чтобы стать себе господином[461]. Эту работу над собой субъект должен выполнять в окружении бесчисленных форм власти, накладывающей ограничения на его работу. Впрочем, субъект имеет возможность переступить через эти ограничения. Фуко рассматривает индивида как социальную конструкцию, обладающую способностью конструировать саму себя. Недостатком концепции Фуко является то, что она не предлагает никаких принципов или норм создания самости. Напротив, он отвергает представление о всеобщей морали, а также некоторые общепринятые практические принципы. Какой получится эта самость, совершенно непонятно. Может быть, даже слишком непонятно. Ближайшее подобие нормы, которое предлагает Фуко, это концепция стиля жизни как способа формирования себя[462]. Он высказывает сомнение в том, что мы когда-либо сможем стать достаточно «зрелыми»[463]. И поскольку не существует никаких норм для формирования самости, то эта самость никогда не будет знать, в каком направлении двигаться и чем она является, так что она всегда будет стремиться перестать быть собой, поскольку понимает освобождение как процесс, который препятствует нам оставаться прежними[464]. Эта самость никогда не сможет стать собой именно потому, что она не знает – и не имеет даже слабого представления – какой ей следует быть. Эта самость не сможет связно рассказать о себе, потому что ее будушее совершенно неопределенно.
Как отметил Поль Рикер, понимание самости требует от индивида способности рассказать более или менее связную историю о том, кем он был и кем хочет стать[465]. Быть собой значит уметь рассказать о себе, рассказать о том, какими мы были, какими будет и какими являемся в данный момент, между прошлым и будущим. Основным пунктом этого рассказа является вопрос: что тебя волнует?
Смысл и идентичность могут создаваться лишь тогда, когда человека что-то волнует. Однако объяснить, что именно это означает, не так-то просто. В этом вопросе я готов согласиться с Гарри Франкфуртом. Если что-то волнует нас, это значит, что мы придаем этому смысл, это что-то является объектом наших стремлений в широком смысле, и мы хотим поддерживать эти стремления. Это не какие-то мимолетные желания, это то, с чем мы готовы идентифицировать себя и что считаем выражением своей самости. Именно благодаря тому, что что-то волнует нас, мир обретает наполненность, жизнь обретает направление. Принимая решение, что определенное устремление выражает нашу сущность, мы выстраиваем свою личность[466]. То, что больше всего волнует нас – это объекты нашей любви. Франкфурт пишет, что любовь является основанием здравого смысла и первоисточником наших ценностей[467]. Именно любовь лежит в основе нашей способности приписывать ценность чему-либо еще. Франкфурт развивает мысль Аристотеля о том, что только когда мы стремимся к определенным вещам исключительно ради них самих, они могут обрести для нас смысл. Даже чисто инструментальные действия наполняются смыслом, если они подчинены другим действиям, обладающим собственной ценностью[468].
Кроме того, очень важно не переусердствовать с саморефлексией, когда мы стремимся к чему-то. Если меня волнует X только потому, что мне хочется думать о себе как о человеке, которого волнует Х, то X волнует меня по совершенно неправильным причинам. К примеру, если я работаю волонтером для помощи животным, само по себе это весьма достойно. Однако я могу заниматься этим по разным причинам: потому, что животные оказались в беде, или потому, что я хочу быть человеком, который помогает животным в беде. Принимая во внимание нашу поразительную склонность к самообману, мы очень легко можем не отличить одно от другого, однако в действительности вопрос о том, совершен ли поступок по первой или по второй причине, является принципиальным. В первом случае меня волнует собственно объект, и он является центром моего внимания, а во втором случае центром внимания скорее являюсь я сам. Бернард Уильямс указывал на то, что в последнем случае я недостаточно ориентирован на свою самость[469]. Может показаться парадоксальным, что при этом разрушительной оказывается именно ориентация на себя. Однако этот парадокс разрешается, когда мы понимаем, что проблема во втором случае состоит в том, что вместо того, чтобы полностью погрузиться в свои действия, я занимаю по отношению к ним позицию внешнего наблюдателя, как будто я изучаю другого человека. Тем самым я мешаю этим действиям наполнить смыслом мою жизнь и способствовать моей самореализации. Для того чтобы действие X имело смысл и способствовало формированию моей идентичности, я не должен быть слишком обеспокоен тем, чтобы действие X имело смысл и способствовало формированию моей идентичности.
Человек всегда идентифицирует себя с тем, что его по-настоящему волнует. По мнению Франкфурта, мы позволяем тому, что волнует нас, вести нас по жизни как в конкретном случае, так и в целом, тем самым определяя, кем мы являемся. Это место, где собираются вместе все наши связи с окружающим миром, что напоминает о понятии «заботы» (Sorge), предложенном Хайдеггером[470]. Забота о чем-либо является конституирующим фактором для нашей самости и всех наших проектов. Если что-то действительно волнует меня, то тем самым устанавливаются границы всей моей деятельности, поскольку всегда будут действия, которые я ни при каких обстоятельствах не готов выполнять. Те границы, в которых я в принципе готов действовать, определяют также и границы моей самости, мою идентичность. И наоборот: человек, не имеющий таких границ, будет фактически лишен идентичности, поскольку любые его поступки будут определяться лишь окружающей средой. Франкфурт формулирует это следующим образом:
$$$«Любое стабильное волевое качество, присущее индивиду, является продуктом обезличенного, каузального воздействия. Оно не является последствием того, что индивид хотел быть личностью определенного типа или жить определенного рода жизнью. Это определяется не его волей, но случайностями. Другими словами, воля индивида полностью определяется обстоятельствами, а не его внутренней природой. Никакие его волевые качества не являются для него необходимыми, поскольку они не являются продуктом его собственной природы. Следовательно, у него отсутствует внутренняя сущность, которая создавала бы все необходимые предпосылки для цельной личности. У него нет никаких личных границ, неприкосновенность которых он хотел бы защищать. Он никто. То, кем он является в любой момент времени, никак не зависит от него и является результатом случайного стечения обстоятельств»[471].
Франкфурт утверждает, что человек – единственное в мире существо, которое способно принимать себя всерьез, имея при этом в виду, что для нас очень важно «все делать правильно», мы искренне хотим понять, какими нам следует быть, и мы хотим строить свою жизнь в соответствии с этим пониманием[472]. Как мы уже подчеркнули, наша идентичность неразрывно связана с тем, что нас волнует. Для того чтобы все делать правильно, мы должны найти то, что нас волнует. Точка зрения Франкфурта сводится к тому, что то, о чем мы фактически заботимся или переживаем, и есть то, что должно нас волновать. В конечном счете то, что волнует нас, не звисит от нас самих, а определяется главным образом «волевым императивом».
По Франкфурту, волевой императив – это то, что не может нас не волновать. И постольку, поскольку человек подчинен таким императивам, есть вещи, которых он просто не может не делать[473]. То, что нас волнует, в конечном счете определяется нашей биологией и прочими естественными факторами, так что у нас практически нет права голоса в этих вопросах, утверждает он[474]. Некоторые из таких волевых императивов являются общими для всех людей, другие очень личными, но в целом Франкфурт считает, что людей волнуют по большей части одни и те же вещи, поскольку люди мало отличаются друг от друга в том, что касается биологии, психологии и внешних причин, формирующих их волю. Если мы не можем не беспокоиться о том, что нас волнует, если наша биология и среда почти полностью определяют эти вещи, то никто из нас не может нести ответственность за то, что его волнует. Тем самым мы теряем логическое пространство для рационального анализа смысла и морали.
Здесь возникают некие трудности, поскольку Франкфурт рассматривает мораль как нечто производное, как элемент нашего отношения к тому, что нас волнует. А нас могут волновать столь многие вещи. Франкфурт хочет избежать морализаторства, поскольку главным предметом его интереса являются условия осмысленной жизни, а осмысленная жизнь – это далеко не всегда высокоморальная жизнь. Комендант концентрационного лагеря, жизнь которого с точки зрения морали совершенно неприемлема, может обожать свою работу, и тем самым его жизнь будет в высшей степени осмысленна. С другой стороны, мораль тоже может придавать жизни смысл, и хотя высокоморальная жизнь не обязательно будет более осмысленной, чем совершенно аморальная, она хотя бы лучше с точки зрения морали.
Мы можем в общем согласиться с утверждением, что определенные действия и модели жизни более привлкательны, чем другие, к примеру, что жизнь Рауля Валленберга была лучше жизни Адольфа Эйхмана. Это не означает, что в жизни Валленберга было больше смысла, или что он был более вовлечен в свою жизнь, чем Эйхман. В действительности Эйхмана очень волновали его задачи, заключавшиеся в траспортировке евреев в концентрационные лагеря и лагеря смерти[475]. Как подчеркивает сам Франкфурт: «В своей преданности германской идеологии нацист может почерпнуть силы для того, чтобы превзойти самого себя, достичь высокой степени самоотдачи, стать частью большого братства единомышленников, людей, самоотверженно посвятивших себя делу, которое они считают важным»[476]. Франкфурт утверждает, что всегда найдутся достаточные причины для того, кем мы являемся и что мы делаем, а это значит, что мы не могли быть другими и действовать иначе при тех же обстоятельствах. Поэтому свобода для Франкфурта состоит в том, чтобы быть целостным, выполнять действие потому, что мы хотим выполнять это действие и более того – хотим этого хотеть. Будучи целостным, обладая единой и неделимой волей, полностью посвятив себя чему-то, вы пользуетесь совершенно особой формой свободы[477]. Большей свободы для человека быть не может, утверждает Франкфурт[478].
С точки зрения Франкфурта, мы можем лишь утверждать, что желание Валленберга спасти как можно больше евреев и желание Эйхмана перевезти как можно больше евреев в лагеря смерти в равной степени являются проявлениями волевого императива. Следовательно, мы не имеем логической возможности смотреть на это иначе, кроме как признать, что Валленберг «все делает правильно», всем сердцем принимая свои желания, а Эйхман все делает правильно, принимая свои. Тому, кто знаком с биографиями Валленберга и Эйхмана, совершенно очевидно, что они действительно полностью посвящали себя своему делу, что они были цельными, и это наполняло их жизнь смыслом и поддерживало их самоидентификацию. Однако нам столь же очевидно, что жизнь Валленберга была намного более «правильной», чем жизнь Эйхмана, и теорию, которая не учитывает это различие, едва ли можно принимать всерьез. Можем ли мы считать жизнь Валленберга более хорошей, чем жизнь Эйхмана, в рамках теории Франкфурта? Франкфурт признает, что некоторые поступки можно назвать неприемлемыми с точки зрения морали или по другим причинам, но вместе с тем сложно понять, каким образом это различие между приемлемыми и неприемлемыми поступками вписывается в рамки его концепции свободы[479].
Франкфурт не верит, что индивид может играть активную роль в определении того, кем он является и что его волнует[480]. Поэтому его совершенно не интересует вопрос, что должно нас волновать, отчасти по той причине, что это совершенно не зависит от нас, отчасти потому, что ответ на этот вопрос, с его точки зрения, всегда будет закольцован[481]. Он приходит к выводу, что «самый фундаментальный и существенный вопрос, который человек задает о своей жизни, не может быть нормативным вопросом о том, как ему следует жить», поскольку этот вопрос может стать осмысленным только после ответа на вопрос о том, что фактически волнует человека[482]. Анализ того, что важно для нас, что волнует нас, и что должно нас волновать, никогда не может быть начат на пустом месте[483]. Справедливо будет утверждать, что анализ того, что должно нас волновать, нужно начинать лишь после того, как мы выясним, что фактически волнует нас. Франкфурт проводит также различие между тем, что «достойно» того, чтобы волновать нас, и тем, что недостойно, однако основания для проведения такого различия недостаточно очевидны[484].
Франкфурт прав в том, что для подобного нормативного вопроса должны быть основания, и любое исследование о том, какого рода жизнью нам следует жить, должно базироваться на уже существующих представлениях и стремлениях человека. Если бы нам нужно было решать эту проблему на пустом месте, наш выбор был бы совершенно случайным, потому что у нас не было бы никаких оснований предпочесть одну альтернативу всем остальным[485]. Выбор должен быть основан на различии, и чтобы выбор был осмысленным, различие тоже должно быть осмысленным. Это в свою очередь подразумевает, что у нас уже имеются представления о том, что имеет смысл, а следовательно, у нас уже имеется что-то, что нас волнует. Это не означает, что мы не имеем права задать нормативный вопрос и дать на него ответ, который скорректирует ту жизнь, которой мы фактически живем, и то, что фактически нас волнует. Однако Франкфурт ограничивается утверждением, что поскольку вопрос о том, что должно нас волновать, зависит от вопроса о том, что уже волнует нас, то «любой ответ на этот вопрос будет производным от явно субъективных рассуждений»[486]. Если это все, что он может сказать по теме, значит, он отрицает идею, что у морального поощрения и порицания может быть рациональная основа.
Как мы уже видели ранее, Франкфурт определяет свободу как соответствие между предпочтениями первого и второго порядка. Исходно такое соответствие может возникать в результате того, что предпочтения первого порядка подстраиваются под предпочтения второго порядка, либо наоборот. Франкфурт предпочитает второй вариант, поскольку он верит, что мы практически не можем повлиять на то, что нас волнует или что мы любим.
Правильно ли это? Даже если индивид обладает позитивной идентификацией второго порядка со своими предпочтениями первого порядка и действует соответственно, это вовсе не означает, что этот индивид свободен. Я настаиваю, что вдобавок индивид должен иметь возможность понять, что он не может идентифицировать себя с тем или иным предпочтением, и что он мог бы поступить вопреки ему, поскольку у него есть на то веские причины, а также что он мог бы изменить свое предпочтение. Франкфурт допускает возможность того, что индивид может некоторым образом повлиять на свои предпочтения, однако ничего не говорит о том, каким образом это могло бы произойти, что вызывает дополнительные трудности, поскольку такое влияние не может быть объектом волевого контроля[487].
То, что нас волнует, может меняться. Если что-то волнует вас в определенный момент времени, это не обязательно совпадает с тем, что волновало нас раньше или будет волновать в будущем[488]. Вместе с тем для Франкфурта очень важно, что то, что волнует человека, не подчиняется непосредственно его воле и не может быть изменено без усилий. То, что волнует человека больше всего, это прежде всего то, что просто не может его не волновать[489]. Лишь в этом случае оно может придавать жизни смысл.
Аристотель утверждает, что всякий человек вынужден действовать в соответствии со своим характером, однако в определенным смысле он действует добровольно, поскольку его характер частично сформирован им самим[490]. Франкфурт открыто отрицает эту идею, утверждая, что быть ответственным за свой характер, а также те действия, которые из него проистекают, не означает, что мы сами можем формировать свой характер, а значит лишь, что мы должны «взять на себя ответственность за него»[491].
Волевые императивы Франкфурта связывают волю в том смысле, что человек не может хотеть ничего, помимо того, чего он хочет. И тем не менее это не ощущается нами как принуждение, поскольку человек и не хочет хотеть ничего иного. В сартровских выражениях, в теории Франкфурта слишком много фактического и слишком мало трансцендентного. Более экзистенциальный и либертарианский подход признает, что наша самость является в той или иной степени данностью, и что индивид должен сделать эту данную самость своей собственной, предоставляя ей автономию, однако либертарианец вдобавок будет утверждать, что индивид должен обладать способностью выйти за пределы данного, заново создать и определить себя, если таков его выбор. С точки зрения Франкфурта, возможность такого выбора вовсе не является условием автономии, а, напротив, подрывает такую возможность. В ситуации, где мы не обладаем никакой предопределенной самостью, где нет никаких ограничений для проявлений человеческой воли, мы не смогли бы ориентироваться, поскольку у нас не было бы никаких критериев для выбора своей идентификации. Проблема в том, что Франкфурт представляет это как жесткую дихотомию: самость либо является полностью предопределенной, либо полностью неопределенной.
Никто не может создать самого себя с нуля. Мы обладаем рядом представлений об окружающем мире и самих себе, а кроме того, некоторыми ценностями и предпочтениями. Лишь немногие из этих представлений, ценностей и предпочтений можно с полным правом называть выбранными. Однако мы обладаем способностью перерабатывать и менять многие из них, к примеру, избавляться от предрассудков или приучать себя к определенным блюдам, однако мы можем делать все это лишь на основе других ценностей, предпочтений и представлений, которые мы по большей части не выбирали. Создать самого себя ex nihilo просто невозможно, и считать полностью самостоятельно созданную личность единственным условием истинной свободы значит требовать невозможного. Создание и изменение себя в любом случае происходит на основании того, что уже существует. Мы можем менять не только наши предпочтения первого порядка, но и наши предпочтения второго порядка, исходя из предпочтений третьего порядка. Однако сами предпочтения третьего порядка основываются на чем-то данном, так что мы не смогли бы совершить выбор, совершенно лишенный предпосылок и не основанный на уже имеющихся представлениях и предпочтениях.
Человек, желающий создать себя на пустом месте, оказался бы в той же ситуации, что и человек из подполья у Достоевского, который считает, что свобода возможна лишь при условии полной независимости от любой мыслимой власти или силы[492]. Для него поступок является свободным лишь в том случае, если на него ничто не повлияло. А поскольку свои чувства и свой разум он считает продуктами такого влияния, то истинно свободный поступок должен быть независим и от них. Следовательно, действительно свободный поступок должен быть совершенно лишен связи с желаниями, предпочтениями и ценностями индивида. Однако это очень сильно отличается от наших интуитивных представлений о свободном индивиде, совершающем свободные поступки. Если я свободен, мои действия так или иначе должны проистекать из моей личности и служить выражением меня. При этом мою личность невозможно воспринимать саму по себе, в отрыве от окружающей среды. Как пишет Чарльз Тейлор: «Я могу определить собственную идентичность только на фоне значимых для меня вещей. Исключить историю, природу, общество, требования солидарности и все остальное, из чего я состою, значит исключить любые потенциально важные факторы»[493]. Свобода в высшей инстанции – это свобода посвятить себя тому, что нас волнует, а то, что нас волнует, никогда не возникает из вакуума. Вместе с тем мы обладаем способностью к рефлексии относительно того, что нас волнует, и можем принимать решение, стоит ли нам посвятить себя этому. Именно так мы определяем, кто мы есть.
Если сравнить теории Франкфурта и Тейлора, станет ясно, что последняя предоставляет нам гораздо больше свободы в сознательном выборе ценностей и того, чему мы посвящаем себя, не предполагая при этом, что такой выбор должен происходит в вакууме, хотя именно так Франкфурт и представляет альтернативу своей позиции. Позиция Тейлора родственна взглядам Фуко, который отмечает, что субъект, разумеется, не сам изобретает все те практики, которыми он пользуется в ходе создания себя[494]. Эти практики «навязаны» субъекту его культурой, обществом и социальными группами. И тем не менее работа субъекта над собой является выражением его свободы. Это «я», которое дисциплинирует себя посредством «аскезы» и освобождается от желаний и предпочтений, являющихся его частью, но тем не менее воспринимаемых как нечто чужеродное, от чего следует избавиться. Именно задавая себе вопрос, следует ли нам принять или отвергнуть определенные стороны своей личности, мы формируем свою самоидентификацию. Тем самым мы определяем себя и берем на себя ответственность за свою личность.
Можно сказать, что все – особенно те, кто больше всего удовлетворен собой – не только имеют представление о том, кем они являются сейчас, но о том, кем они станут в будущем, где каждый ожидает увидеть лучшую версию себя. Конечно, где-то могут существовать люди, у которых настолько отсутствует способность к самоанализу, что они считают себя совершенными, так что им уже некуда улучшать себя. Люди, живущие в экстремальных условиях, например на грани голодной смерти, едва ли могут рефлексировать о том, как им стать лучше. А к концу жизни многие, возможно, считают, что теперь все будет идти на спад, так что они неизбежно будут становиться худшей версией себя по мере старения тела и ума. Однако большинство из нас живет в уверенности, что нам есть куда стремиться и что мы должны стремиться стать такими, какими нам следует быть – при том, что идеал едва ли достижим. Мы можем даже утвеждать, что чувствуем себя обязанными заниматься таким самоанализом. Как пишет Кант, человек является единственным существом, которое может заглянуть внутрь себя и даже обязано это делать, чтобы посредством такого самоанализа стать лучше[495]. Кроме того, Кант полагает, что многие из нас оказываются весьма разочарованы результатом, если им все же удается провести тщательное и искреннее изучение самих себя. Впрочем, добавляет Кант, людям свойственно впадать в самообман, так что мало кто осознает, как плохо все обстоит на самом деле[496]. И все же самообман, в котором мы живем, не настолько глобален, чтобы мы не замечали разницы между тем, кто мы есть, и тем, кем мы должны быть.
Франкфурт утверждает, что значение морали для ответа на вопрос о том, что имеет ценность и каким образом нам следует жить, сильно переоценено[497]. Возможно, в этом он прав, и все же очевидно, что существуют и другие ценности, помимо морали, и не всякая ценность может быть редуцирована до уровня морали или подчинена ей. К примеру, произведение искусства может иметь отрицательную моральную ценность, и тем не менее обладать большой эстетической ценностью, причем именно аморальный посыл может придавать ему эстетичность. Если исключить аморальный посыл из произведений, например, Жана Жене или Луи-Фердинанда Селина, то их эстетическая ценность снизится. И даже если мы признаем эстетическую перспективу произведения искусства или поступка, это не означает, что мы при этом не учитываем его моральной составляющей. Ничто не мешает нам воспринимать аморальный поступок как утонченное произведение искусства, не забывая при этом подвергать его моральному осуждению. Это требует от нас способности держать в уме два критерия одновременно, однако между этими критериями нет никакого противоречия. Поэтому придется отдать Франкфурту должное и признать, что и другие ценности, помимо морали, могут служить смыслом жизни, что, однако, не значит, что мы можем полностью отказаться от моральных ценностей: они все еще остаются неизбежными.
Наша личная свобода есть свобода реализовать собственные ценности в собственной жизни, и мы должны нести ответственность за то, какие ценности мы выбираем для этого. Свободная жизнь не обязана быть осмысленной, просто потому что индивид может потратить свою свободу на довольно бессмысленные вещи. А осмысленная жизнь не обязана быть свободной, поскольку индивид может видеть смысл жизни в такой деятельности, которая оставляет ему мало личной свободы. Представим себе женщину, которая пережила религиозную трасформацию. Она чувствует, что ее прежняя «свободная» жизнь была недостойной и аморальной, так что она радикально меняет свой образ жизни и присоединяется к религиозному движению, выходит замуж и полностью подчиняется воле мужа, поскольку именно так она и должна поступить согласно заповедям своей религии. Она не должна покидать дома без сопровождения мужа, а также должна практически полностью закрывать свое тело. Она не может работать и не имеет права голоса в вопросах семейного бюджета. Для нас важно здесь то, что она добровольно решила во всем подчиняться мужу. Такая женщина удволетворяет критериям автономии в том смысле, что она живет в соответствии с ценностями, которые она осознанно и добровольно выбрала для себя. С другой стороны, она фактически сделала себя недееспособной и теперь живет без собственной воли. И все же она удовлетворяет требованиям минимальной автономии, и с этой точки зрения она несет ответственность за жизнь, которую она для себя выбрала. К примеру, в случае совершения преступления она могла бы быть осуждена. Вместе с тем она выбрала для себя жизнь, которая минимизирует ее автономию. Автономия и самореализация не всегда совпадают друг с другом, поскольку даже если автономия является необходимым условием самореализации, так как, не будучи автономным, человек не может реализовать самого себя, однако такая самореализация сама по себе может как способствовать развитию автономии, так и уменьшать ее.
Есть мнение, что свободная жизнь не может быть аморальной. Когда мы говорили о различных теориях автономии, я упоминал, что помимо иерархических теорий и теорий на основе аутентичности, существуют также кантиантские теории, и согласно этим теориям только действие, мотивированное моральным законом, который индивид устанавливает себе сам, может быть полностью автономным. Одним из современных представителей такой кантиантской позиции является Кристина М. Корсгор[498]. Она утверждает, что автономия должна обладать способностью к универсализации, то есть мы действуем, в соответствии с категорическим императивом Канта, на основании своих субъективных принципов, которые мы хотели бы сделать всеобщим законом[499]. Грубо говоря, это означает, что мы должны поступать только так, как, по нашему мнению, следовало бы поступать другим. Корсгор открыто заявляет, что дурные поступки следует рассматривать как особую форму гетерономии[500]. По моему мнению, такие требования к автономии слишком строги, даже строже, чем позиция самого Канта. У Канта можно выделить два уровня автономии. Мы полностью автономны лишь в том случае, если наши действия определяются нашим собственным моральным законом, однако решение не следовать этому моральному закону тоже является автономным выбором. Согласно Канту, импульс или стремление может определять решения индивида, если индивид принял решение сделать это своим субъективным принципом действия[501]. Далее, индивид должен принять свободное решение позволить себе следовать своим предпочтениям в тех случаях, когда они приводят к действию. И если затем это предпочтение заставляет индивида поступить аморально, то такой поступок является выражением его автономии. Мы можем утверждать, что поступок, определенный рациональной причиной, более свободен, чем поступок, определенный менее рациональной причиной, однако из этого не следует, что второй поступок вообще не свободен. Он является достаточно свободным хотя бы для того, чтобы индивид нес за него ответственность.
Похожую позицию мы находим у Сьюзен Вулф, которая приводит аргументы в пользу так называемого «разумного подхода» к свободе, в рамках которого свобода состоит в «способности поступать согласно своему разуму», или, более конкретно, «способность действовать в соответствии с Истиной и Добром»[502]. Как отмечает сама Вулф, из ее теории следует удивительная асимметрия между порицанием и похвалой, так как человек, ментально детерминированный совершать добрые поступки, заслуживает похвалы, а человек, ментально детерминированный совершать дурные поступки, не заслуживает порицания, поскольку первый является свободным, а второй нет[503]. Возвращаясь к примеру с мирами «Уолден два» и «Уолден три», которые мы обсуждали в самом начале книги, из ее теории следует, что жители «Уолден Два» свободны и подлежат моральной ответственности, а жители «Уолден три» нет, а это противоречит нашей интуиции. Различие между «Уолден два» и «Уолден три» состоит лишь в том, что первым управляет манипулятор с благими намерениями, а вторым – манипулятор с дурными намерениями, и нам кажется неубедительной теория, согласно которой одна лишь эта разница должна иметь такие последствия для взглядов на их свободу и ответственность. Я считаю симметрию между «Уолден два» и «Уолден три» очень сильным аргументом против теории Вулф и ее следствий. Еще одна проблема теории Вулф заключается в том, что она не учитывает Аристотелевой идеи о том, что мы можем быть ответственны за то, в какое состояние мы приводим себя сами. Давайте представим, что Пер знает о своей нетипичной реакции на алкоголь, а именно: иногда вместо того чтобы стать веселым и расслабленным, он становится весьма агрессивным, теряет контроль над собой и оказывается не в состоянии «действовать в соответствии с Истиной и Добром». И все же Пер решается выпить, поскольку ему нравится быть веселым и расслабленным. Однако на этот раз ему не повезло, он взрывается из-за какого-то пустяка и убивает другого человека. Пер пытается оправдать себя тем, что в момент убийства он не мог контролировать себя. Насколько я могу судить, для Вулф такого оправдания было бы достаточно, и она сочла бы, что Пер не несет ни моральной, ни юридической ответственности за свой поступок, поскольку в момент преступления он был ментально детерминирован действовать именно так. Однако в соответствии с общепринятыми этическими нормами – или реактивными установками, если угодно, – а также практически любым уголовным кодексом, Пер должен нести и моральную, и юридическую ответственность, поскольку он сам добровольно привел себя в такое состояние. Мы можем придумать и другой пример, где индивид в течение долгого времени развивает в себе жестокие и садистские склонности, так что в конце концов он совершенно теряет свой моральный облик и способность «действовать в соответствии с Истиной и Добром». С точки зрения Вулф, такой человек не должен нести моральной и юридической ответственности, тогда как наша интуиция, равно как и большинство этических теорий, признают, что этот человек несет ответственность за то, что он стал таким, а следовательно и за поступки, проистекающие из такого характера. Аргументы, которые Вулф приводит в пользу своей теории, не кажутся мне настолько убедительными, чтобы перевесить здравый смысл, который подсказывает обратное. Как мне кажется, против теории Вулф можно направить те же возражения, что и против Корсгор. Мы можем выбирать образ действий, который является неразумным или аморальным, просто потому, что нам захотелось поступить именно так, и такие поступки будут считаться свободными. Мы всегда можем связать свободу с рациональным контролем и заявить, что рациональные действия более свободны, однако иррациональные действия тем не менее остаются достаточно свободными для того, чтобы возложить на индивида ответственность за них.
Едва ли мы совершаем какие-то поступки потому, что они придают нашей жизни смысл. Смысл – это скорее скрытый, нежели явный мотив, а может быть, и побочный эффект. В философских дискуссиях о смысле жизни наблюдается противостояние между субъективистами и объективистами. Субъективисты считают, как подсказывает нам название, что смысл жизни субъективен, то есть полностью зависит от установок субъекта. Объективисты, напротив, утверждают, что существуют независимые от субъекта стандарты смысла жизни, например, этического свойства. В философии XX века без сомнений доминировал субъективистский подход, однако в последние годы тенденция изменилась. В пользу объективизма говорит то, что существуют такие возможные жизни, которые в целом являются бессмысленными, несмотря на то, что определенному количеству людей они субъективно кажутся осмысленными. С другой стороны, едва ли возможно дать общее объяснение смысла жизни, не отталкиваясь при этом от субъективного отношения к этому смыслу.
Сьюзен Вулф считает, что смысл жизни есть результат встречи между субъективной симпатией и объективной привлекательностью[504]. Вулф считает, что смысл жизни должен частично происходить из чего-то, обладающего объективной ценностью, независимо от предпочтений субъекта. Смысл должен иметь какую-то объективную базу. Вопрос в том, как нам понять, что обладает объективной ценностью, а что нет. Кто должен быть высшей инстанцией, решающей этот вопрос? Вулф признает, что высшей инстанции не существует, однако утверждает, что несмотря на это, можно провести границу между тем, что обладает истинной ценностью, и тем, что ею не обладает[505].
Это различие чисто интуитивно. Предположим, индивид X посвятил свою жизнь написанию труда, который должен дать людям новое, более полное понимание своего бытия, а индивид Y посвятил свою жизнь тому, чтобы заполнять лист за листом одним и тем же предложением: «All work and no play makes Jack a dull boy» (в переводе с английского: «Тоько работа и никаких развлечений – какая скука»). Далее мы можем предположить, что X и Y получают от своих занятий совершенно одинаковое удовлетворение. И тем не менее существует принципиальная разница между ними, состоящая в том, что X делает что-то по-настоящему осмысленное, тогда как занятие Y представляется нам совершенно лишенным смысла. Это подсказывает нам, что смысл может и должен заключаться в чем-то внешнем по отношению к субъекту и его субъективным ценностям.
Здесь Вулф пересекается с критикой романтизма, в котором никакие объективные критерии не имели значения, и все определялось лишь субъективным восприятием мира. Гегель утверждал, что эта субъективность оказывалась пустой: «То, что существует, существует лишь благодаря моему “я”; а то, что существует благодаря моему “я”, я могу изменить или отвергнуть. Из такого абстрактного “я” не может произойти ничего, кроме пустых форм; и если у нас есть лишь они, то ничто не может обладать ценностью само по себе, а лишь в силу той ценности, которой наделяет его „я” в своей субъективности»[506]. Проблема в том, что если монополия на приписывание вещам смысла принадлежит субъекту, то все вещи теряют смысл, поскольку он не является свойством самих вещей, а следовательно, они пусты.
Вулф продолжает рассуждать следующим образом: жизнь не имеет смысла, если она совершенно эгоцентрична, если они посвящена исключительно благополучию субъекта и не служит реализации ценностей, независимых от его собственной выгоды[507]. Такое требование к смыслу слишком категорично, поскольку признает, что моя жизнь осмысленна лишь в том случае, если она придает ценность жизни других людей. Я думаю, что в такой формулировке это требование едва ли приемлемо, поскольку оно предполагает, что отшельник, живущий в пещере в полной изоляции и посвятивший себя служению Богу, не может прожить свою жизнь со смыслом. В другой формулировке Вулф выражается мягче, говоря, что речь идет о том, чтобы «жить с позитивной привязанностью к объектам и людям, обладающим ценностью вне зависимости от самого субъекта»[508]. Такая формулировка допускает возможность, что монах-отшельник живет осмысленной жизнью, несмотря на то, что его деятельность не способствует реализации ценностей в жизни других людей. Достаточно того, что его жизнь посвящена ценности, признаваемой кем-то помимо него самого.
Следующий вопрос заключается в том, требуется ли фактическое признание, или достаточно, чтобы этот смысл в принципе мог быть признан другими. Проблемы возникают в обоих случаях. Требование фактического признания других людей для того, чтобы жизнь и деятельность индивида была осмысленной, кажется несправедливым. Вернемся к Перу, который всю жизнь трудится над своим литературным произведением, которое, с его точки зрения, должно стать вехой в истории литературы (допустим, качество произведения даже соответствует ожиданиям Пера), однако делает это в строжайшей тайне, никому его не показывая. Когда произведение наконец закончено, оно погибает вместе с автором в пожаре, так никем и не прочитанное. Если требуется фактическое признание других, получается, что жизнь Пера не имела смысла. Кажется несправедливым утверждать, что Пер прожил совершенно бессмысленную жизнь лишь потому, что он никому не успел показать свое произведение. Вторая альтернатива неприемлема потому, что фактически она снимает требование объективности, поскольку нет такой деятельности, которая в принципе не может быть признана другим субъектом, включая бесконечное повторение предложения «All work and no play makes Jack a dull boy».
Жизнь каждого человека может содержать множество элементов, лишенных смысла, однако некоторые способы жить кажутся бессмысленными целиком. В качестве примера можно привести Сизифа, осужденного богами вечно толкать камень вверх по одному склону горы, а затем смотреть, как он скатывается вниз, и так до бесконечности. Наверное, все согласятся с тем, что деятельность Сизифа кажется нам довольно бессмысленной. Некоторые жизни более осмысленны, чем другие, а жизнь Сизифа находится на нижнем конце этой шкалы. Посвящать себя подобной работе изо дня в день – это полная противоположность тому, что придает смысл человеческой жизни. Как отмечает Достоевский в «Записках из Мертвого дома»: «Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы»[509]. Однако давайте предположим, что в один прекрасный день Сизифа начинает безмерно радовать возложенная на него задача, и он начинает видеть в ней глубокий смысл. С объективной точки зрения деятельность останется совершенно бесполезной, однако с субъективной точки зрения картина совершенно изменится. Вопрос в том, считаем ли мы, что Сизифова жизнь обрела смысль только оттого, что ему самому так кажется.
Или же представим себе игрока в шахматы, посвятившего этой игре всю свою жизнь. Или философа, который каждый час своего бодрствования посвящает философии. Что отличает их от Сизифа?
Что именно делает игру в шахматы или философию более осмысленными, чем толкание камня? Ответ совершенно не очевиден. Если кто-то считает некую деятельность исполненной смысла, и если эта деятельность действительно волнует его, я скорее всего предположу, что у самой этой деятельности есть некое свойство, которое и делает ее осмысленной. И я могу это признать, даже понимая, что эта деятельность никогда не стала бы осмысленной для меня. В качестве примера можно привести популярный сейчас скрапбукинг. Это такое хобби, главным образом для женщин, подразумевающее создание альбома, открыток или других продуктов собственного дизайна с использованием специального картона, узорчатой бумаги, печатей, блесток, туши и прочих декоративных элементов. Часто центральным элементом всего произведения является фотография. Существует огромное количество интернет-сайтов, блогов и форумов, посвященных этой деятельности, и некоторые энтузиасты воспринимают свое увлечение скрапбукингом так серьезно, что едва ли существуют пределы тому, сколько времени – а также денег – они готовы потратить на это хобби. Пожалуй, из всех занятий, на которые я готов тратить свое время и деньги, скрапбукинг занял бы последнее место в списке, однако я готов признать, что для любителей скрапбукинга это занятие обладает глубоким смыслом. С другой стороны, типичный скрапбукер едва ли разделил мою страсть к наручным часам и согласился бы тратить на них столько же денег и времени, необходимого для того, чтобы хорошо понимать рынок наручных часов, но я ожидаю, что этот скрапбукер признает мое право интересоваться наручными часами и видеть в этом большой смысл. Можно сказать, что сами по себе наручные часы никаким смыслом не обладают, однако вокруг этих объектов выстраиваются определенные социальные группы, которые устраивают встречи и обмениваются мнениями в Интернете, так что в широком контексте смысл, очевидно, есть. Некоторые марки часов, например, «Панераи», имеют поклонников, которые в своем энтузиазме не уступают футбольным болельщикам.
Независимо от того, сколько смысла мы вкладываем в занятия скрапбукингом или коллекционирование наручных часов, этого оказывается недостаточно. Впрочем, абсолютно все вещи в конечном счете оказываются недостаточно осмысленными. С другой стороны, некая комбинация вещей, задач и отношения может оказаться вполне достаточной и достойной стать смыслом жизни. Вероятно, не существует конечной цели, к которой ведут все остальные цели, окончательного смысла, а только комбинации отдельных целей и отдельных смыслов, которые могут быть согласованы между собой или противоречить друг другу. Едва ли существует такая вещь, которая одна может составить смысл чьей бы то ни было жизни. Смысл жизни обычно состоит из целой сети меньших смыслов, связанных с семьей, друзьями, любимым человеком, домом, работой, хобби, а также возможностью устанавливать себе цели. И мы должны пробовать разные вещи и найти ту оптимальную комбинацию вещей, которая составит единый смысл. Конечно, мы можем вслед за Аристотелем заявить, что существует какая-то особенная, единственная вещь, к которой мы стремимся ради нее самой, а именно счастье, так что все вещи, которые я выше называю носителями смысла и ценности, в действительности подчинены этой наивысшей из ценностей[510]. Аристотель понимает счастье как нечто универсальное и объективное, однако такая концепция едва ли подходит к современному обществу, в котором каждый должен достичь своего собственного счастья. В либеральной традиции это счастье считается чем-то неопределенным, что каждый индивид должен выяснить для себя самостоятельно.
Существует огромное разнообразие возможностей прожить осмысленную жизнь. Какие из них актуальны для вас лично – зависит от того, кто вы есть, в каких условиях вы живете, но очевидно, что для того, чтобы ваша жизнь имела смысл, вас должно волновать то, чем вы ее наполняете. Вы должны взять на себя определенные обязательства. Обязательства играют решающую роль в наполнении жизни смыслом. Помимо этого, не существует никакого универсального и информативного ответа на вопрос о том, каков смысл жизни. Вы должны сами решить, что придает смысл вашей жизни, что вас волнует.
Основная проблема современного человека заключается в том, чтобы принять лакуны бессмысленности между составляющими смысла. Мы живем в horror vacui, страхе пустоты, и ожидаем от жизни полной осмысленности, абсолютного счастья. И когда это совершенно неоправданное ожидание абсолютного счастья оказывается не соответствующим реальности, мы становимся несчастными[511]. Мы все больше начинаем воспринимать счастье не только как состояние, к которому мы имеем право стремиться, как гласит американская Декларация независимости, но скорее как нечто, чего мы вправе требовать. А удовлетворять это требование должно государство. Это очевидно противоречит либеральной традиции, поскольку перемещает стремление к счастью из частной сферы в политическую. Существует распространенное убеждение, что власти должны обеспечивать счастье граждан, поскольку очевидно, что все граждане предпочитают счастье несчастью. Проблема заключается в том, что счастье является индивидуальной величиной, которую власти не могут изучать от имени индивида. Счастье неопределенно, и никто не имеет монополии на окончательное и полное знание о его истинной природе.
Мы должны научиться принимать ограничения, которые встречаются в жизни и которые являются не противоположностью свободы, но предпосылкой для нее. Человек становится свободным не в силу свободы от всех обязательств и ограничений, когда он может безраздельно посвятить себя самому себе и стать центром собственной вселенной. Быть самим собой, реализовать себя, значит уметь нести ответственность не только за себя. Основная трудность здесь заключается в том, что мы перенесли идеал негативной свободы из политической сферы, где он должен играть важную роль, в личную сферу, где ему не место, по крайней мере, не в таком объеме. Современный человек в своем стремлении к счастью оказывается заложником парадокса, который заключается в одновременном стремлении к совершенной независимости и желании быть частью чего-то большего[512]. Разрешение этой дилеммы требует пересмотра наших взглядов на личную свободу. В настоящий момент мы часто понимаем свободу чисто негативно, как свободу от всех обязательств перед другими людьми. Однако можно понимать ее и как позитивную свободу брать на себя такие обязательства. В такой свободе гораздо меньше одиночества.
Негативная свобода принципиальна в политическом контексте, и некоторое количество ее необходимо также для личной свободы, однако она гораздо больше подходит для политики, нежели для частной жизни. Если придать негативной свободе статус наивысшей ценности не только в политике, но и в жизни каждого человека, это приведет к опустошению как жизни человека, так и самого понятия свободы.
С точки зрения Гегеля, лишь при помощи осознания своих обязательств по отношению к чему-то и действий в соответствии с этими обязательствами мы можем реализовать свою свободу. Вот как он формулирует это сам:
$$$«В качестве ограничения связывающая обязанность может выступать лишь по отношению к неопределенной субъективности или к абстрактной свободе и по отношению к влечениям природной или определяющей свое неопределенное добро, только руководствуясь своим произволом, моральной волей. Однако индивид находит в связанности скорее свое освобождение, отчасти от зависимости, в которой он находится под властью чисто природных влечений, отчасти от стесненности, испытываемой им в качестве субъективной особенности в моральных рефлексиях о долженствовании и дозволении, отчасти от неопределенной субъективности, не достигающей наличного бытия и объективной определенности действования и остающейся в себе и как некая недействительность. В обязанности индивид освобождает себя к субстанциальной свободе»[513].
Кроме того, Гегель описывает свободу как способность оставаться самим собой в отношениях с другим: «Любовь означает вообще сознание моего единства с другим, то, что я не изолирован для себя, а обретаю мое самосознание только как отказ от своего для-себя-бытия и посредством знания себя как своего единства с другим и другого со мной»[514]. Согласно Гегелю, потребность любить и быть любимым является самой фундаментальной из всех потребностей, и она реализуется в семье, где человек осознает себя как часть целого. Индивиды, принадлежащие к семье, свободны, хотя они не всегда ощущают себя таковыми. Чувство несвободы происходит от обязательства оставаться членом семьи независимо от того, как вы себя чувствуете и в хорошем ли вы настроении. И тем не менее Гегель утверждает, что, беря на себя такое обязательство, индивид реализует свою свободу, а не лишается ее, поскольку тем самым он придает своей свободе содержание. Это свобода стать кем-то. Живя вместе с другим человеком, мы учимся чувствовать и понимать себя: мы осознаем, кто мы есть, становимся собой. С такой позиции можно трактовать долгосрочное обязательство перед другим человеком как свободу становиться самим собой. Причем это не обязательно должно касаться только романтических отношений. Речь может идти, например, об опеке. Обязательства такого рода накладывают определенные ограничения на нашу деятельность, они требуют самодисциплины. Если свобода понимается исключительно как отсутствие ограничений, а самодисциплина накладывает ограничения, то самодисциплина воспринимается как препятствие свободе. В таком случае критерием свободы являлся бы бескомпромиссный разрыв всех связей. Но такой вывод неверен. Если я дисциплинирую себя и добровольно отказываюсь от некоторых предпочтений и поступков, тот факт, что я принял такое решение добровольно, делает мой отказ свободным поступком. Таким образом, для личной свободы важно не отсутствие всяких ограничений, которые будут присутствовать в любом случае, но добровольное их принятие. Ограничения, которые мы налагаем сами, являются реализацией нашей свободы. Ведь для чего нам вообще нужна свобода, если не для того, чтобы мы могли употребить ее на благо людей, которые нам дороги, в тот момент, когда они в нас нуждаются? На практике личная свобода прежде всего является не свободой от всех обременений, но свободой посвятить себя тому, что важно для нас.
Послесловие
В этой книге мы рассмотрели многие аспекты понятия свободы. Я попытался показать взаимосвязь между всеми этими аспектами, начиная с онтологических условий человеческой деятельности, где я продемонстрировал, что мы можем обосновать возможность значительной свободы действий в рамках научного представления о мире, и заканчивая областью личной свободы и способами ее применения, попутно рассмотрев политический контекст, в котором разворачивается вся наша деятельность.
Главным выводом в этой книге может послужить поставленный в самом начале эпиграф из Дэвида Фостера Уоллеса: «Та свобода, что в самом деле важна, связана с вниманием, сознательностью, тренировкой и умением действительно проявлять заботу о других людях и отдавать. Снова и снова, в самых мелких непривлекательных ситуациях, бесчисленное количество раз на дню»[515]. Мы должны быть благодарны за нашу свободу, поскольку именно свобода отличает нас от других животных. Лучший способ продемонстрировать свою благодарность заключается, видимо, в том, чтобы потратить нашу свободу на что-то более существенное, нежели самолюбование.
Глава, посвященная онтологической свободе, заканчивается изложением концепции автономии, из которой следуют некоторые выводы относительно устройства общества, оптимального для жизни автономных индивидов. В разделе, посвященном политической свободе, мы сосредоточились на правовых аспектах в широком смысле, на контексте, необходимом для свободного развития и самореализации. Вероятно, мне не помешало бы уделить больше внимания различным институциональным и материальным предпосылкам свободы, однако каждый писатель сталкивается с необходимостью опустить какие-то важные вещи, исходя из допустимого объема произведения и имеющегося в его распоряжении времени. Это свободное решение, однако вместе с тем оно основано на понимании специфических ограничений, с которыми сталкивается в своей работе писатель, как и представитель любой другой профессии, вынужденный принимать ограничения в своей работе.
Применение свободы на практике – а что это за свобода, если ее не применять на практике – это взаимодействие с окружающим миром, включая все установленные им ограничения. Другими словами, неограниченной свободы не существует: всякая настоящая свобода ограничена. Ограничения свободы могут носить различный характер. Некоторые ограничения абсолютны и неизменны, другие можно изменить в ходе социального или личного процесса, некоторые ограничения легитимны, а некоторые нет.
Свободная личность всегда ситуативно обусловлена, однако эта личность обладает способностью к саморефлексии и изменению себя и своего окружения. К примеру, мы не всегда обязаны придерживаться тех ценностей, с которыми выросли и которыми живем сейчас. Быть ситуативно обусловленным не означает быть детерминированным, а означает лишь, что мы никогда не начинаем с пустого места, формируя свое отношение к миру и самим себе: мы всегда оказываемся помещенными в контекст существующих ценностей и представлений. Однако этот контекст может быть подвергнут изменениям, поскольку, получая опыт взаимодействия с окружающим миром и размышляя об этом опыте, мы можем перешагнуть контекст и задать новый горизонт для своей свободы.
В этом смысле свобода является качеством, которое мы вырабатываем в ходе постоянной работы над собой в течение всей жизни.
Литература
Aakvaag, Gunnar C. Å leve sitt eget liv. Oslo: Universitetsforlaget, 2009.
Adorno, Theodor W.. Om kategoriene statikk og dynamill i sosiologien. В переводе на норв. Kjell Eyvind Johansen, Nils Johan Ringdal // Essays i utvalg. Oslo: Gyldendal, 1976.
Allison, Henry E. Kant’s Theory of Freedom. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Andreassen, Bård A., Odd A. Ryan (red.) Menneskerettigheter: en dokumentsamling. Oslo: Ad Notam, 1991.
Ariely, Dan. Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. New York: Harper-Collins, 2008.
Ariès, Philippe, Duby, Georges (red.) A History of Private Life, т. 5. Cambridge MA: Belknap Press, 1992.
Aristoteles: Den nikomakiske etikk, в переводе на норв. Øyvind Rabbås, Anfnn Steigen. Oslo: Bokklubben Dagens Bøker, 1999. = Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 4. Москва: Мысль, 1983.
Aristoteles. Politikken. Пер. на норв. Tormod Eidie. Oslo: Vidarforlaget, 2007. = Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 4. Москва: Мысль, 1983.
Physics. В переводе на англ. R.P. Hardie, R.K. Gaye, Jonathan Barnes (red.) The Complete Works of Aristotle. т. 1. Princeton NJ: Princeton University Press, 1984. = Аристотель. Физика // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Москва: Мысль, 1984.
Ashraf, Nava, Camerer, Colin F., Loewenstein, George. Adam Smith, Behavioral Economist // Journal of Economic Perspectives. 3/2005.
Ayer, A.J. Philosophical Essays. London: Macmillan, 1954.
Babeuf, François-Noël, Marechal, Sylvain. The Manifesto of Inequality // Louis P. Pojman, Robert Westermoreland (red.) Equality. Selected Readings. New York/Oxford: Oxford University Press, 1997. = Гракх Бабеф. Сочинения в 4-х томах. Москва: Наука,1975–1977.
Balaguer, Mark. Free Will as an Open Scientifc Problem. Cambridge MA/ London: MIT Press, 2010.
Baldwin, Tim. MacCallum and the Two Concepts of Freedom // Ratio. 2/1984.
Bales, Kevin. Disposable People: New Slavery in the Global Economy. 3rd ed. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 2012.
Barry, Norman P. On Classical Liberalism and Libertarianism. New York: St. Martin’s Press, 1987.
Beebee, Helen, Hitchcock, Christopher, Menzies, Peter (red.) The Oxford Handbook on Causation. Oxford/New York: Oxford University Press, 2009.
Beitz, Charles R. The Idea of Human Rights. Oxford/New York: Oxford University Press, 2009.
Bentham, Jeremy. Panopticon // Miran Bozovic (red.) The Panopticon Writings. London: Verso, 1995.
Berg, Siv Frøydis. Den unge Karl Evang og utvidelsen av helsebergepet. Oslo: Solum, 2002.
Berlin, Isaiah. Liberty. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Berlin, Isaiah. The Bent Twig // The Crooked Timber of Humanity. Princeton NJ: Princeton University Press, 1998.
Berlin, Isaiah. Reply to Robert Kocis // Political Studies. 31/1983.
Berlin, Isaiah. The Pursuit of the Ideal // The Crooked Timber of Humanity. Princeton NJ: Princeton University Press, 1998.
Berlin, Isaiah. To begreper om frihet // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen. Oslo: Universitetsforlaget, 2009.
Berlin, Isaiah, Polanowska-Sygulska, Beata. Unfnished Dialogue. Amherst NY: Prometheus Books, 2006.
Blakemore, Colin. The Mind Machine. London: BBC Publications, 1988.
Blokland, Hans. Freedom and Culture in Western Society. London: Routledge, 1997.
Bremnes, Ragnhild et al. Tvunget psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001–2006. Trondheim: SINTEF, 2008.
Boaz, David (red.) The Libertarian Reader. New York: The Free Press, 1997.
Bobbio, Norberto. Liberalism and Democracy. Transl. by Martin Ryle, Kate Soper. London/New York: Verso, 1990.
Boswell, James. The Life of Johnson. London: Peguin, 2008.
Bruckner, Pascal. Perpetual Euphoria. On the duty to be happy. Princeton/ Oxford: Princeton University Press, 2010. = Паскаль Брюкнер. Вечная эйфория. Эссе о принудительном счастье. Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2007.
Burke, Edmund. On Empire, Liberty, and Reform. Speeches and Letters. New Haven/London: Yale University Press, 2000.
Butler, Samuel. Erewhon. London: Penguin Books, 1985.
Camerer, Colin F., Loewenstein, George, Rabin, Matthew (red.) Advances in Behavioral Economics. Princeton: Princeton University Press, 2003.
Campbell, Joseph Keim, O’Rourke, Michael, Shier, David (red.) Freedom and Determinism. Cambridge MA/London: MIT Press, 2004.
Carter, Ian, Kramer, Matthew H., Steiner, Hillel (red.) Freedom: A Pholosphical Anthology. Malden MA/Oxford: Blackwell, 2007.
Cartwright, Nancy. How the Laws of Physics Lie. Oxford: Oxford University Press, 1983.
Cesarani, David. Eichmann: Byråkrat og massemorder. Oslo: Spartacus, 2007.
Charvet, John. Quentin Skinner and the Idea of Freedom // Studies in Political Thought. 2/1993.
Chisholm, Roderick M.. Human Freedom and the Self // Gary Watson (red.) Free Will, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Christman, John. The Politics of Persons: Individual Autonomy and SocioHistorical Selves. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Christman, John (red.) The Inner Citadel: Essays on Individual Autonomy. Oxford/New York: Oxford University Press, 1989.
Christman, John, Anderson, Joel (red.) Autonomy and the Challenges to Liberalism: New Essays. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2005.
Clarke, Randolph. Libertarian Accounts of Free Will. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Clayton, Matthew, Williams, Andre (red.) The Ideal of Equality. New York: St. Martins Press, 2000.
Cohn, Norman. The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages. London: Paladin, 1970 (1957).
Cook, Maeve. A space of one’s own: autonomy, privacy, liberty // Philosophy & Social Criticism. 1/1999.
Constant, Benjamin. Om de gamles frihet sammenliknet med de nyes. В переводе на норв. Erik Thorstensen // Lars Fr.H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Перевод на русский язык доступен в Интернете под названием: Бенжамен Констан. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей. В переводе к.ф.н. М. М. Федоровой.
Crick, Francis. The Astonishing Hypothesis: The Scientifc Search for the Soul. New York: Simon & Schuster, 1994.
Dahl, Robert A., Shapiro, Ian, Antonio, Jose (red.) The Democracy Sourcebook. Cambridge MA/London: MIT Press, 2003.
Dallaire, Bernadette et al. Civil commitment due to mental illness and dangerousness: the union of law and psychiatry within a treatmentcontrol system // Sociology of health & illness. 22/2000.
Damico, Alfonso J. (red.) Liberals and Liberalism. Totowa: Rowman & Littlefeld, 1986
Darwin, Charles. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Princeton: Princeton University Press, 1981. = Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой подбор. Санкт-Петербург: Издание В. И. Губинского, 1908.
Dennett, Daniel C.. Elbow Room: Varieties of Free Will Worth Wanting. Cambridge MA: MIT Press, 1984.
Dennett, Daniel C.: Freedom Evolves. London: Penguin, 2003.
Dewey, John. Human Nature and Conduct. New York: Henry Holt,1922.
Dikötter, Frank. Mao’s Great Famine: The History of China’s Most Devastating Catastrophe, 1958–1962. London: Bloomsbury Publishing, 2010.
Dillon, John, Gergel, Tania (red.) The Greek Sophists, London: Penguin Books, 2003.
Doherty, Brian. Radicals for Capitalism: A Freewheeling History of the Modern American Libertarian Movement. New York: Public Afairs, 2007.
Достоевский Ф. М. Среда // Дневник писателя. ПСС. Т. 21. Л.: Наука, 1980.
Достоевский Ф. М. Записки из подполья. ПСС. Л.: Наука, 1973.
Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. ПСС. Т. 4. Л.: Наука, 1973.
Dunn, John. Democracy: A History. New York: Atlantic Monthly Press, 2005
Dupre, John. The Disorder of Things: Metaphysical Foundations of the Disunity of Science. Cambridge MA/London: Harvard University Press, 1993.
Dupre, John. Human Nature and the Limits of Science. Oxford: Clarendon Press, 2001.
Dworkin, Gerald. The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
Dworkin, Gerald. Paternalism // Stanford Encyclopedia of Philosophy. /.
Dworkin, Ronald. Rights as Trumps // Jeremy Waldron (red.) Theories of Rights. New York: Oxford University Press, 1985.
Dworkin, Ronald. Liberalism // A Matter of Principle. Oxford: Oxford University Press, 1985.
Dworkin, Ronald. Sovereign Virtue. Cambridge MA: Harvard University Press, 2000.
Ekstrom, Laura Waddell (red.) Agency and Responsibility: Essays on the Metaphysics of Freedom. Boulder CO: Westview Press, 2000.
Eliot, T.S. The Complete Poems and Plays. London/Boston: Faber and Faber, 1969. c. 14. = Т. С. Элиот. Полые люди. Санкт-Петербург: Издательский Дом «Кристалл», 2000.
Emberland, Marius. Retorikk og realiteter. Norsk meneskerettighetsproblematikk på en sidespor? Oslo: Civita, 2006.
Evans, Edward Payson. The criminal prosecution and capital punishment of animals. London: Heinemann, 1906.
Feinberg, Joel. Harm to Self. Oxford/New York: Oxford University Press, 1986.
Fischer, John Martin, Ravizza, Mark. Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Fleischacker, Samuel. A Short History of Disctributive Justice. Cambridge MA: Harvard University Press, 2004.
Flikschuh, Katrin. Freedom: Contemporary Liberal Perspectives. London: Polity Press, 2007.
Forsa: Meinungen der Bundesbürger zur Vorratsdatenspeicherung. Forsa – Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Ananlysen mbH. Berlin, 2008. / images/forsa_2008-06-03.pdf.
Foucault, Michel. Bruken av nytelse. Seksualitetens historie, bind 2. Oslo: Exil/Pax, 2002. = Мишель Фуко. Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2. Санкт-Петербург: Академический проект, 2004.
Foucault, Michel. Ethics: Subjectivity and Truth. Essential Works of Michel Foucault 1954–1984. Т. 1. New York: New Press, 1997.
Foucault, Michel. Power, The Essential Works of Michel Foucault 19541984. Т.3. New York: New Press, 2000.
Frankfurt, Harry G.. The Importance of What We Care About. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
Frankfurt, Harry G.. Necessity, Volition, and Love. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Frankfurt, Harry G.. The Reasons of Love. Princeton/New York: Princeton University Press, 2004.
Frankfurt, Harry G.. Taking Ourselves Seriously & Getting It Right. Stanford: Stanford University Press, 2006.
Frankl, Viktor E.. Vilje til mening. Oslo: Gyldendal, 1971. = Виктор Франкл. Воля к смыслу. Москва: Эксмо-пресс, 2000.
Frede, Michael. A Free Will. Origins of the Notion in Ancient Thought. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 2011.
Freeman, Michael. Human rights. Cambridge: Polity Press, 2002.
Freeman, Samuel. Illiberal Libertarians: Why Libertarianism Is Not a Liberal View // Philosophy & Public Afairs. 2/2002.
Fried, Charles. Privacy // The Yale Law Journal. 3/1968.
Friedman, Milton. Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago Press, 2002 (1962).
Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992. = Фрэнсис Фукуяма. Конец истории и последний человек. Москва: АСТ, 2015.
Fukuyama, Francis. The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the French Revolution. Fukuyama, Francis. The Future of History: Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class? // Foreign Afairs. 1/91 2012.London: Profle Books, 2011.
Furedi, Frank. On Tolerance: A Defense of Moral Independence. London/ New York: Continuum, 2011.
Gallie, W.B.. Essentially Contested Concepts // Proceedings of the Aristotelian Society. 167/1956.
Garnsey, Peter. Thinking about Properly: From Antiquity to the Age of Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Gaus, Gerald F. Contemporary Theories of Liberalism. London: Sage Publications, 2003.
Gazzaniga, Michael S. Who’s in Charge? Free Will and the Science of the Brain. New York: Harper Collins, 2011.
Getty, J. Arch, Naumov, Oleg V. The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks 1932-39. New Haven/London: Yale University Press, 1999.
Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity. Self and Identity in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991.
Giddens, Anthony. The Transformations of Intimacy. Oxford: Polity Press, 1992. = Энтони Гидденс. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. Санкт-Петербург: Питер, 2004.
Girgen, Jen. The historical and contemporary prosecution and punishment of animals // Animal Law, 2003.
Gilovich, Thomas, Grifn, Dale, Kahneman, Daniel (red.) Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgement. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Glaeser, Edward L.. Paternalism and Psychology // University of Chicago Law Review. 1/2006.
Gofman, Erving. The Presentation of Self in Everydau Life. New York: Doubleday, 1959. = Эрвинг Гоффман. Представление себя другим в повседневной жизни. Москва: КАНОН-ПРЕСС, 2000.
Graef, Ortwin de et al. Discussion with Harry G. Frankfurt // Ethical Perspectives. 5/1998.
Gray, John. Post-liberalism. London: Routledge, 1993.
Gray, John. Liberlaism. 2nd edition. Buckingham: University Press, 1995.
Gray, John. Isaiah Berlin. Princeton NJ: Princeton University Press, 1996.
Gray, John. Where Pluralists and Liberals Part Company // International Journal of Philosophical Studies. 6/1998.
Gray, John. Two Faces of Liberalism. Cambridge: Polity Press, 2000.
Gray, John. Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia. London: Allan Lane, 2007.
Grayling, A.C. Towards the Light: The Story of the Stuggles for Liberty and Rights. London: Bloomsbury, 2007.
Green, Thomas Hill. Liberal Legislation and Freedom of Contract // Lectures on the Principles of Political Obligations and Other Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
Grifn, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Grisso, Thomas et al. The MacArthur Treatment Competence Study // Law and Human Behaviour. 2/1995.
Gwartney, James, Lawson, Robert, Hall, Joshua. Economic Freedom in the World: 2011 Annual Report. Vancouver: Frazer Institute, 2011.
Habermas, Jürgen. Das Sprachspiel verantwortlicher Urheberschaft und das Problem der Willensfreiheit: Wie lässt sich der epistemische Dualismus mit einen ontologischen Monismus versöhnen // Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 5/2006.
Hamowy, Ronald (red.) The Encyclopedia of Libertarianism. Thousand Oaks/London: Sage Publications, 2008.
Hampshire, Stuart. Thought and Action. London: Chatto and Windus, 1959.
Hampshire, Stuart. Morality and Confict. Cambridge MA: Harvard University Press, 1984.
Haines, John-Dylan. Beyond Libiet: Long-term Prediction of Free Choices from Neuroimaging Signals // Walter Sinnott-Armstrong, Lynn Nadel (red.) Conscious Will and Responsibility: A Tribute to Benjamin Libet. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Hayek, Friedrich A. Law, Legislation and Liberty. Vol.1. Rules and Order. Chicago: University of Chicago Press, 1973.
Hayek, Friedrich A. Law, Legislation and Liberty. Vol.2. The Mirage of Social Justice. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
Hayek, Friedrich A. Law, Legislation and Liberty. Vol.3. The Political Order of a Free Pople. Chicago: University of Chicago Press, 1979. = Фридрих Хайек. Право, законодательство и свобода. Москва: ИРИСЭН, Мысль, 2006.
Hayek, Friedrich. Frihetens konstitusjon. В переводе на норв. Lars Alldén // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009.
Hayek, Friedrich A. Sann og falsk individualisme // Thorbjørn Røe Isaksen, Henrik Syse (red.) Konservatisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2011= Фридрих Хайек. Индивидуализм истинный и ложный // Фридрих Хайек. Индивидуализм и экономический порядок. Москва: Социум, 2011.
Hegel, G.W.F.. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I, Werke. Т. 8. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986.
Hegel, G.W.F.. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Werke Bd. 12. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986.
Hegel, G.W.F. Åndens fenomenologi. В переводе на норв. Jon Elster et al. Oslo: Pax, 1999. = Г. В. Ф. Гегель. Феноменология духа. Москва: Академический проект, 2014.
Hegel, G.W.F.. Rettsflosofen. Oslo: Vidarforlaget, 2006. § 149. = Г. В. Ф. Гегель. Философия права. Москва: Мысль, 1990.
Hegel, G.W.F.. Innledning i estetikken. Oslo: Aschehoug, 1986.
Hellevik, Ottar. Jakten på den norske lykken. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.
Hempel, Carl Gustav. Philosophy of Natural Science. Inglewood Clifs NJ: Prentice Hall Inc., 1966.
Hobbes, Thomas. Leviathan. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. С. 152. = Томас Гоббс. Левиафан. Москва: Мысль, 2001.
Hobbes, Thomas. On the Citizen. Transl. And ed. Richard Tuck, Michael Silverthorne. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. = Томас Гоббс. О гражданине // Томас Гоббс. Сочинения в 2-х тт. Т. 1. Москва: Мысль, 1989.
Hobbes, Thomas. Selection from The Questions concerning Liberty, Necessity, and Chance. // Vere Chappell (red.) Hobbes and Bramhall on Liberty and Necessity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Hobbes, Thomas. On Liberty and Necessity // Vere Chappell (red.) Hobbes and Bramhall on Liberty and Necessity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Houellebecq, Michel. De grunnleggende bestanddeler. В переводе на норв. Per A. Forsse. Oslo: Cappelen, 2000. = Мишель Уэльбек. Элементарные частицы. Москва: Азбука, 2013.
Humboldt, Wilhelm von. Ideer til et forsøk på å bestemme grensene for statens virksomhet. В перев. на норв. Øystein Skar // Lars Fr.H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009.
Hume, David. En avhandling om menneskets natur. Oslo: Pax. 2009.
Høyer, Georg. On the justifcation for civil commitment // Acta Psychiatrica Scandinavica. 101/2000.
Høyer, Georg et al. Paternalism and Autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system // International Journal of Law and Psychiatry. 25/2 2002.
Inwagen, Peter van. An Essay on Free Will. Oxford: Clarendon Press, 1983.
Ishay, Madeline R. (red.) The Human Rights Reader, 2nd ed. London/New York: Routledge, 2007.
Jacobs, Jonathan. Choosing Character: Responsibility for Virtue and Vice. Inthaka/London: Cornell University Press, 2001.
James, William. The Will to Believe and Other Essays. New York: Dover Publications, 1956.
Jahanbegloo, Ramin. Conversations with Isaiah Berlin. London: Peter Halban, 1992.
Kane, Robert. The Signifcance of Free Will. Oxford/New York: Oxford University Press, 1996.
Kane, Robert (red.) The Oxford Handbook of Free Will. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. = Дэниел Канеман. Думай медленно, решай быстро. Москва: АСТ, 2013.
Kahneman, Daniel, Slovic, Paul, Tversky, Amos (red.) Judgement under Uncertainity: Heuristics and Biases. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
Kahneman, Daniel, Tversky, Amos (red.) Choices, Values and Frames. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Kant, Immanuel. Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik // Kants gesammelte Schriften, т. II, Preußischen Akademie der Wissenschaften (red.) Berlin/New York: De Gruyter, 1902-. = Иммануил Кант. Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики // Кант. Собрание сочинений. Москва: Чоро, 1994.
Kant, Immanuel. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten // Kants gesammelte Schriften. Т.4. Berlin/New York: de Gruyter, 1902-.
Kant, Immanuel. Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernuft // Kants gesammelte Schriften. т.6. Preußischen Akademie der Wissenschaften (red.) Berlin/New York: de Gruyter, 1902-.
Kant, Immanuel. Die Metaphysik der Sitten // Kants gesammelte Schriften. Т. 6. Berlin/New York: de Gruyter, 1902-. = Иммануил Кант. Метафизика нравов // Иммануил Кант. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 6. Издательство: ЧОРО, 1994.
Kant, Immanuel. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht // Kants gesammelte Schriften, т. VII, Preußischen Akademie der Wissenschaften (red.) Berlin/New York: De Gruyter, 1902-.
Kant, Immanuel. Pädagogik // Kants gesammelte Schriften, т. IX, Preußischen Akademie der Wissenschaften (red.) Berlin/New York: De Gruyter, 1902-.
Kant, Immanuel. Bemerkungen zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen // Kants gesammelte Schriften. Т. 20. Berlin/New York: de Gruyter, 1902-. = Иммануил Кант. Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного // Иммануил Кант. Сочинения в 6 томах. Т. 2. Москва, 1963.
Kant, Immanuel. Om ordtaket: «Det kan være riktig i teorien, men duger ikke i praksis». В переводе на норв. Øystein Skar // Lars Fr.H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. = Иммануил Кант. О поговорке… // Иммануил Кант. Сочинения в шести томах. Москва: Мысль, 1965.
Katsakou, C., Priebe, S. Outcomes of involuntary hospital admission – a review // Acta Psychiatrica Scandinavica. 114/2006.
Keane, John. The Life and Death of Democracy. London: Simon and Schuster, 2009.
Kelly, Paul. Liberalism. London: Polity Press, 2005.
Kojève, Alexandre. Introduksjon til lesningen av Hegel. В переводе на норв. Agnete Øye. Oslo: Pax, 1996. = Александр Кожев. Введение в чтение Гегеля. Москва: Наука, 2003.
Korsgaard, Christine M. The Sources of Normativity. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1996.
Korsgaard, Christine M. Self-Constitution. Agency, Identity and Integrity. Oxford/New York: Oxford University Press, 2009.
Kymlicka, Will. Contemporary Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1990.
Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press, 1995.
Lenin, Vladimir I. Staten og Revolusjonen. Den marxistiske teorien om staten og oppgavene til proletariatet i revolusjonen, august-september 1917. Oslo: Oktober, 1977. = В. И. Ленин. Государство и революция.
Libet, Benjamin. Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action // Behavioural and Brain sciences. 8/1985.
Libet, Benjamin. Consciousness, Free Action and the Brain // Journal of Consciousness Studies. 8/2001.
Libet, Benjamin. Do We Have Free Will? // Robert Kane (red.) The Oxford Handbook of Free Will. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Libet, Benjamin. Mind Time: The Temporal Factor in Consciousness. Cambridge MA/London: Harvard University Press, 2004.
Lincoln, Abraham. Address at Sanitary Fair, Baltimore, Maryland, April 11, 1864 // Roy P. Basler (red.) Collected Works of Abraham Lincoln. Т. 7. NJ: New Brunswik, 1953.
Locke, John. The Second Treatise of Government // Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. § 42. = Джон Локк. Второй трактат о правлении // Джон Локк. Соч.: В 3 т. Т. 3. Москва: Мысль, 1988.
Locke, John. The First Treatise of Government // Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. § 42. = Джон Локк. Первый трактат о правлении // Джон Локк. Соч.: В 3 т. Т. 3. Москва: Мысль, 1988.
Locke, John. A Letter Concerning Toleration // Ian Shapiro (red.) Two treatises of Government and A Letter Concerning Toleration. New Haven/ New York: Yale University Press, 2003.
Locke, John. The correspondence of John Locke. т.4. Oxford: Clarendon Press, 1979.
Loewenstein, George. Exotic Preferences: Behavioral Economics and Human Motivation. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Lucrets. Om tingenes natur. В переводе на норв. Trygve Sparre. Oslo: Aschehoug, 1978. = Лукреций. О природе вещей. Москва: ЛКИ, 2012.
MacCallum, Gerald C. Jr. Negative and Positive Freedom // Philosophical Review. 76/1967.
Mackie, John. Ethics: Inventing Right and Wrong. Pelican Books, 1977.
Manent, Pierre. Historie intellectuelle du libéralisme. Paris: Calmann-Lévy, 1987.
Marar, Ziyad. The Happiness Paradox. London: Reaktion Books, 2003.
Marx, Karl. Til jødespørsmålet // Verker i utvalg. Bd. 1. Filosofske skrifter. Oslo: Pax, 1972. = Карл Маркс. К еврейскому вопросу.
Karl Marx. Den tyske ideologi // Fredrik Engelstad (red.) Det beste av Karl Marx. Oslo: Pax, 1992. = Карл Маркс. Немецкая идеология // Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Сочинения. Издание второе. Т. 3.
Marx, Karl. Kritikk av Gotha-programmet (1875) // Fredrik Engelstad (red.) Det beste av Karl Marx. Oslo: Oktober, 1992. = Карл Маркс. Критика Готской программы.
Mason, Andrew (red.) Ideals of Equality. Oxford: Blackwell, 1998.
McCloskey, H.J. Privacy and the Right to Privacy // Philosophy. 55/1980.
McDowell, John. Having the World in View: Lecture One // Journal of Philosophy. 95/1998.
McKenna, Michael, Russell, Paul (red.) Free Will and Reactive Attitudes. Perspectives on P.F. Strawson’s «Freedom and Resentment». Farnham/ Burlington: Ashgate, 2008.
Mehlum, Lars et al. Forebygging av selvmord, del 2. Oslo: Nasjonalt kunskapssenter for helsetjenesten, 2007.
Mele, Alfred R. Autonomous Agents: From Self-Control to Autonomy. Oxford/New York: Oxford University Press, 1995.
Maurice Merleau-Ponty. Kroppens fenomenologi. В переводе на норв. B.Nake. Oslo: Pax, 1904. = Морис Мерло-Понти. Феноменология восприятия. Санкт-Петербург: Ювента; Наука, 1999.
Mill, John Stuart. Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy // Collected Works of John Stuart Mill. Т. 3. Toronto/London: University of Toronto Press/Routledge, 1974 = Джон Стюарт Милль. Основания политической экономии. Москва: Прогресс, 1980.
Mill, John Stuart. A System of Logic Ratiocinative and Inductive // Collected Works of John Stuart Mill. т.8. Toronto/London: University of Toronto Press/Routledge, 1974. = Джон Стюарт Милль. Система логики силлогистической и индуктивной: Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. Москва: ЛЕНАНД, 2011.
Mill, John Stuart. An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy // Collected Works of John Stuart Mill. т.9. Toronto/London: University of Toronto Press/Routledge, 1974.
Mill, John Stuart. Nature // Collected Works of John Stuart Mill. Т.10. Toronto/London: University of Toronto Press, 1974.
Mill, John Stuart. Om friheten. В переводе на норв. Pål Foss. Oslo: Vidarforlaget, 2010. = Джон Стюарт Милль. О свободе // О Свободе: Антология мировой либеральной мысли (I половины XX века). Москва: Прогресс-Традиция, 2000.
Miller, Terry, Holmes, Kim R., Feulner, Edwin J. 2012 Index of Economic Freedom. Washington/New York: The Heritage Foundation/The Wall Street Journal 2012.
Milton, John. Areopagitica – eller om trykkefrihet. Overs. Olav Lausund. Oslo: Vidarforlaget, 2010. = Джон Мильтон. Ареопагитика // Современные проблемы. Москва-Новосибирск, 1/1997.
Moore, Barrington Jr. Privacy Studies on Social and Cultural History. Armonk NY: M.E. Sharpe, 1984.
Monahanet, John et al. Coercion and commitment: Understanding involuntary mental hospital admission // International Journal of Law and Psychiatry. 18/1995.
Montesquieu, Charles. The Spirit of the Laws. В переводе и редакции Anne M. Cohler, Basia C. Miller, Harold S. Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Murphy, Nancey, Brown, Warren S. Did My Neurons Make Me Do It? Philosophical and Neurobiological Perspectives on Moral Responsibility and Free Will. Oxford/New York: Oxford University Press, 2006.
Murphy, Nancey, Ellis, George Fr.R., O’Connor, Timothy (red.) Downward Causation and the Neurobiology of Free Will. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2009.
Nagel, Thomas. The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press, 1986.
Nelkin, Dana Key. Making Sense of Freedom and Responsibility. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Nichols, Shaun. After Incompatibilism: A Naturalistic Defence of Reactive Attitudes. Philosophical Perspectives. 21/2007.
Nichols, Shaun, Knobe, Joshua. Moral Responsibility and Determinism: The Cognitive Science of Folk Intuitions // Noûs. 4/2007.
Nietzsche, Friedrich. Die fröhliche Wissenschaft, Kritische Studienausgabe. Т. 3. München/Berlin/New York: dtv/de Gruyter, 1988.
Nicholson, Robert A. et al. Coercion and the Outcome of Psychiatric Hozpitalization // International Journal of Law and Psychiatry.18/1995.
Nilstun, Tore, Syse, Aslak. The right to accept and the right to refuse // Acta Psychiatrica Scandinavica. 10/2000.
Noble, Denis. The Music of Life. Biology Beyond Genes. Oxford/New York: Oxford University Press, 2006.
Noë, Alva. Out of our heads.Why you are not your brain, and other lessons from the biology of consciousness. New York: Hill and Wang, 2009.
Nozick, Robert. Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books, 1974. = Роберт Нозик. Анархия, государство и утопия. Москва: ИРИСЭН, 2008.
Nussbaum, Martha. Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Nussbaum, Martha. Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2006.
Nussbaum, Martha. Creating Capabilities: The Human Development Approach. Cambridge MA/London: Harvard University Press, 2001.
Nussbaum, Martha. Den feministiske liberalismens fremtid. В переводе на норв. Lars Holm-Hansen // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009.
Nussbaum, Martha, Sen, Amartya (red.) The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press, 2003.
O’Neill, Brendan. The truth about the «surveillance society» // Spiked. 08.05.2008.
Paine, Thomas. Rights of Man, Part II // Political Writings. Red. Bruce Kuklick. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Paine, Thomas. Agrarian Justice // Political Writings. Red. Bruce Kuklick. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. = Томас Пейн. Аграрная справедливость // Томас Пейн. Избранные сочинения. Москва: Издательство Академии наук СССР, 1959.
Patterson, Orlando. Freedom. Volume I: Freedom in the Making of Westerm Culture. New York: Basic Books, 1991.
Paul, Ellen Frankel et al. (red.) Autonomy. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2003.
Paul, Ellen Frankel et al. (red.) Natural Rights Liberalism from Locke to Nozick. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Paul, Ellen Frankel et al. (red.) Liberalism: Old and New. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Pereboom, Derk. Living Without Free Will. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Pettit, Philip. The Common Mind: An Essay on Psychology, Society and Politics. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Pettit, Philip. Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford: Clarendon Press, 1989.
Pettit, Philip. A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency. Oxford: Oxford University Press, 2001.
Pettit, Philip. Keeping Republican Freedom Simple: On a Diference with Quentin Skinner // Political Theory. 30/2002.
Pettit, Philip. The Instability of Freedom as Noninterference: The Case of Isaiah Berlin // Ethics. 4/2011.
Pink, Thomas, Stone, Martin (red.) The Will and Human Action: From Antiquity to the Present Day. London: Routledge, 2003.
Pitkin, Hanna Fenichel. Are Freedom and Liberty Twins? // Political Theory. 4/1988.
Platon. Staten // Samlede Verker V. Oslo: Vidarforlaget, 2001. = Платон. Государство. Москва: Московский институт права, 2009.
Platon. Lovene // Samlede verker VIII. Oslo: Vidarforlaget, 2002.
Pojman, Louis P., Westmoreland, Robert (red.) Equality. Selected Readings. New York/Oxford: Oxford University Press, 1997.
Popper, Karl R. The Open Society and Its Enemies. Volume One: The Spell of Plato. London: Routledge, 2005. = Карл Раймунд Поппер. Открытое общество и его враги. Москва: Культурная инициатива, 1992.
Popper Karl R. Conjectures and Refutations. London: Routledge, 1989. = К. Р. Поппер. Предположения и опровержения: Рост научного знания. Москва: ACT, 2008.
Rachels, James. Why Privacy is Important // Philosophy and Public Afairs. 4/1975.
Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge MA: Harvard University Press, 1971. = Джон Ролз. Теория справедливости. Новосибирск: Издательство НГУ, 1995.
Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge MA: Harvard University Press, 2001. = Джон Ролз. Справедливость как честность. Логос, 2006.
Rawls, John. Political Liberalism. Revised ed. New York: Columbia University Press, 2005.
Raz, Joseph. The Morality of Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1986.
Reznek, Lawrie. Evil or Ill? Justifying the Insanity Defence. London/New York: Routledge, 1997.
Rhinehart, Luke. The Dice Man. New York/Woodstock: The Overlook Press, 1971.
Ricoeur, Paul. Eksistens og Hermeneutikk. Oslo: Aschehoug, 1999.
Rigoni, Davide et al. Inducing Disbelief in Free Will Alters Brain Correlates of Preconscious Motor Preparation: The Brain Minds Whether We Believe in Free Will or Not // Phsychological Science. 5/2011.
Ringen, Stein. Hvorfor demokrati? Oslo: Koloritt Forlag, 2008.
Ritter, Joachim, Gründer, Karlfeld (red.) Historisches Wörterbuch der Philosophie, т. 5. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980.
Rousseau, Jean-Jacques. Den ensomme vandrers drømmerier. В переводе на норв. B. Huse. Oslo: Bokvennen, 1995. = Жан-Жак Руссо. Прогулки одинокого мечтателя.
Rousseau, Jean-Jaques. Om samfunnspakten. В перев. На норв. Haakon Hofgaard Halvorsen. Oslo: De norske bokklubbene, 2001. = Жан-Жак Руссо. Об общественном договоре. Трактаты. Москва: КАНОНпресс, Кучково поле, 1998.
Röpke, Wilhelm. Liberalismens kulturideal. В переводе на норв. Øystein Skar // Lars Fr.H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009.
Sarkassian, Hagop et al. Is Belief in Free Will a Cultural Universal // Mind & Language. 3/2010.
Schmidtz, David, Brennan, Jason. A Brief History of Liberty. Oxford: WileyBlackwell, 2010.
Schopenhauer, Arthur. Kan Menneskets frie Villie bevises af dets Selvbevidsthed. В переводе Johan Fredrik Bjelke. Oslo: Solum, 1993.
Schwartz, Barry. The Paradox of Choice: Why More is Less. New York: HarperCollins. = Барри Шварц. Парадокс выбора. Почему «больше» значит «меньше». Москва: Добрая книга, 2005.
Searle, John R.. Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Sejersted, Francis et al. Ytringsfrihed bør fnde sted // NOU 1999: 27. .
Sen, Amartya. Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory // Philosophy and Public Afairs. 4/1977.
Sen, Amartya. Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford: Oxford University Press, 1981.
Sen, Amartya. Rationality and Freedom. Cambridge: Belknap Press, 2002.
Sen, Amartya. Inequality Reexamined. Cambridge MA: Harvard University Press, 1992.
Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999.
Sen, Amartya. The Idea of Justice. London: Allan Lane, 2009.
Sen, Amartya. Utvikling for frihet. В переводе на норв. Lars Holm-Hansen // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009.
Shearer, David R. Policing Stalin’s Socialism: Repression and Social Order in the Soviet Union, 1924–1953. New Haven/London: Yale Universtity Press, 2009.
Siegel, Karolynn, Tuckel, Peter. Suicide and Civil Commitment // Journal of Health Politics, Policy and Law. 12/1987.
Simhony, Avital, Weinstein, David (red.) The New Liberalism: Reconciling Liberty and Community. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Sinnott-Armstrong, Walter, Nadel, Lynn (red.) Conscious Will and Responsibility: A Tribute to Benjamin Libet. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Skinner, B.F. Walden Two. Indianopolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 2005 (1948).
Skinner, E. Benjamin. A Crime So Monstrous: Face-To-Face With ModernDay Slavery. New York/London/Sidney: Free Press, 2009.
Skinner, Quentin. Vilkårlig makt: Essays om politisk frihet. Oslo: Res Publica, 2009.
Skinner, Quentin. Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Smith, Adam. Theory of Moral Sentiments. Glasgow ed. Vol. 1. Indianopolis, Liberty Fund, 1976. = Адам Смит. Теория нравственных чувств. Москва: Республика, 1997.
Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Glasgow Edition vol.2. Indianopolis: Liberty Fund, 1981. = Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: Соцэкгиз, 1962.
Smith, Adam. Lectures on Jurisprudence. Glasgow edition vol.5. Indianopolis: Liberty Fund, 1976.
Smilansky, Saul. Free Will and Illusion. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Solove, Daniel J. Understanding Privacy. Cambridge MA/London: Harvard University Press, 2008.
Solove, Daniel J. Nothing to Hide: The False Tradeof Between Privacy and Security. New Haven/London: Yale University Press, 2011.
Soon, Chun Siong et al. Unconscious determinants of free decisions in the human brain // Nature Neuroscience. 13.04.2008.
Soysa, Indra de, Fjelde, Hanne. Is the Hidden Hand an Iron Fist? Capitalism and Civil Peace, 1970–2005 // Journal of Peace Research. 3/2010.
Starr, Paul. Freedom’s Power. The True Force of Liberalism. New York: Basic Books, 2007.
Stewart, Helen. A Metaphysics for Freedom. Oxford: Oxford University Press, 2012.
Stocker, Michael. Plural and Conficting Values. Oxford: Clarendon Press, 1990.
Strawson, Galen. Freedom and Belief. Oxford: Clarendon Press, 1991.
Strawson, Galen. The Impossibility of Moral Responsibility // Philosophical Studies. 75/1994.
Strawson, Peter F. Freedom and Resentment and Other Essays. London: Routledge, 2008 (1974).
Streatfeild, Dominic. Brainwash. The Secret History of Mind Control. London: Hodder & Stoughton, 2006.
Suppes, Patrick. The Transcendental Character of Determinism // Midwest Studies in Philosophy. 18/1993.
Svendsen, Lars Fr. H. Mennesket, moralen og genene – en kritikk av biologismen. Oslo: Universitetsforlaget, 2001.
Svendsen, Lars Fr. H. Hva er flosof. Oslo: Universitetsforlaget, 2003.
Svendsen, Lars Fr. H. Frykt. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. = Ларс Свендсен. Философия страха. Москва: Прогресс-Традиция, 2010.
Svendsen, Lars Fr. H. Liberalismens historie fra Locke til Hobhouse – en skisse // Øystein Sørensen, Lars Fr. H. Svendsen, Lars Peder Nordbakken. Tre essays om liberalisme. Oslo: Civita, 2008.
Svendsen, Lars Fr. H. (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009.
Svendsen, Lars Fr. H. Arbeidets flosof. Oslo: Universitetsforlaget, 2011.
Swinford, Steven, Smith, Nicola. Word on the street … they’re listening // The Sunday Times. 26.11.2006.
Syse, Aslak. Straferettslig (u)tilregnelighet: juridiske, moralske og faglige dilemmaer // Tidsskrift for Straferett. 03/2006.
Sørensen, Øystein. Drommen om det fullkomne samfunn: Fire totalitære ideologier. Oslo: Aschehoug, 2010. – Эйстейн Серенсен. Мечта о совершенном обществе: Феномен тоталитарной идеологии. Москва: Прогресс-Традиция, 2014.
Talbott, William J.. Which Rights Should Be Universal? Oxford/NewYork: Oxford University Press, 2005.
Talbott, William J. Human Rights and Human Well-Being. Oxford/New York: Oxford University Press, 2010.
Tallis, Raymond. Aping Mankind: Neuromania, Darwinitis and the Mispresentation of Mankind. Durham: Acumen, 2011.
Tännsjö, Torbjörn. Privatliv. Lidingö: Fri tanke, 2010.
Taylor, Charles. Sources of the Self: The Making of Modern Identity. Cambridge MA: Harvard University Press, 1989.
Taylor, Charles. The Ethics of Authenticity. Cambridge: Harvard University Press, 1992.
Taylor, Charles. Hva er galt med negativ frihet? В переводе на норв. Lars Allden // Lars Fr.H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009.
Taylor, James Stacey (red.) Personal Autonomy: New Essays on Personal Autonomy and Its Role in Contemporary Moral Philosophy. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2005.
Thaler, Richard H., Sunstein, Cass R. Libertarian Paternalism // The American Economic Review. 2/2003.
Thaler, Richard H. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron // The University of Chicago Law Review. 4/2003.
Thaler, Richard H., Sunstein, Cass R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. New Haven: Yale University Press, 2008.
Thomson, Judith Jarvis. The Right to Privacy // Philosophy and Public Affairs. 4/1975.
Tocqueville, Alexis de. Om demokratiet i Amerika // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. = Алексис де Токвиль. Демократия в Америке Москва: Прогресс, 1992.
Tocqueville, Alexis de. Tredje bok, tredje kapittel: Hvorfor franskmennene ønsket reformer fremfor frihet. В перев. На норв. Erik Thorstensen // Torbjørn Røe, Henrik Syse (red.) Konservatisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. = Алексис де Токвиль. Старый порядок и революция. Кн. III, гл. III. Москва: Московский философский фонд, 1997.
Turnbull, Colin. The Mountain People. New York: Simon and Schuster, 1972.
Viroli, Maurizio. Republicanism. Transl. Antony Shugaar. New York: Hill & Wang, 2002.
Vohs, Kathleen D., Schooler, Jonathan W. The Value of Believing in Free Will. Encouraging a Belief in Determinism Increases Cheating // Psychological Science. 1/2008.
Vonnegut, Kurt. Harrison Bergeron // Welcome to the Monkey House. Delacort Press, 1950.
Wall, Steven. Liberalism, Perfectionism and Restraint. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Wallace, David Foster. This Is Water. Some Thoughts on a Signifcant Occasion, about Living a Compassionate Life. New York/Boston/London: Little, Brown and Company, 2009.
Walzer, Michael. Thinking Politically: Essays in Political Theory. New Haven: Yale University Press, 2007.
Warren, Samuel D., Brandeis, Louis D. The Right to Privacy // Harvard law Review. 5/1890.
Watson, Gary. Free Agency // Journal of Philosophy. 72/1975.
Watson, Gary (red.) Free Will, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Watson, Gary. Introduction // Gary Watson (red.) Free Will, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Wegner, Daniel M. The Illusion of Conscious Will. Cambridge MA/London: MIT Press, 2002.
Weintraub, Jef, Kumar, Krishan (red.) Public and Private in Thought and Practice: Refections on a Grand Dichotomy. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
Werth, Nicholas. Cannibal Island: Death in a Siberian Gulag. Translated by Steven Randall. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2007.
Widerker, David, Michael Mckenna (red.) Moral Responsibility and Alternative Possibilities: Essays on the Importance of Alternative Possibilities. Aldershot/Burlington: Ashgate Publishing, 2006.
Wilde, Oscar. Lady Windermere’s Fan // Complete Works of Oscar Wilde. London: Collins, 1966. С. 417. См. Оскар Уайльд. Веер леди Уиндермир.
White, Stuart. Equality. Cambridge: Polity Press, 2007.
Wilkinson, Nick. An Introduction to Behavioral Economics. A Guide for Students. New York/Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.
Wilkinson, Richard, Pickett, Kate. The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. London: Allan Lane, 2009.
Williams, Bernard. Practical Necessity // Moral Luck. Philosophical Papers 1973–1980. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Williams, Bernard. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge: Harvard University Press, 1985.
Williams, Bernard. From Freedom to Liberty: The Construction of a Political Value // Philosophy & Public Afairs. 1/2001.
Wilson, Ben. What Price Liberty? London: Faber and Faber, 2009.
Wilson, Edward O. Consilience: The Unity of Knowledge. London: Abacus, 1999.
Wilson, Edward O. On Human Nature. Harmondsworth: Penguin, 1995 (1978).
Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Occasions 1912–1951. Indianopolis/ Cambridge: Hackett Publishing Company, 1993.
Wittgenstein, Ludwig. Filosof og kultur. Spredte bemerkninger. В перев. K.O.Åmås. Oslo: Cappelen, 1995.
Wolf, Susan. Freedom Within Reason. Oxford: Oxford University Press, 1990.
Wolf, Susan. Meaning in Life and Why It Matters. Princeton/London: Princeton University Press, 2010.
Wolfe, Alan: The Future of Liberalism. New York: Knopf, 2009.
Wu, Steven. When is Nudge a Shove? The Case for Preference-Neutrality. Columbia Law School 2009.
Young, Arthur. The Farmer’s Tour through the East of England. Т. 4. London, 1771.
Сноски
1
Я могу порекомендовать следующие книги по истории свободы: David Schmidtz, Jason Brennan. A Brief History of Liberty. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010; Orlando Patterson. Freedom. Volume I: Freedom in the Making of Westerm Culture. New York: Basic Books, 1991; Ben Wilson. What Price Liberty? London: Faber and Faber, 2009; A.C. Grayling. Towards the Light: The Story of the Struggles for Liberty and Rights. London: Bloomsbury, 2007. В этих книгах наибольшее внимание уделяется политической свободе. Также могу порекомендовать антологию, состоящую из философских текстов различных исторических эпох, посвященных в основном онтологическим аспектам: Thomas Pink, Martin Stone (red.) The Will and Human Action: From Antiquity to the Present Day. London: Routledge, 2003. Отличные антологии с хорошим охватом современных работ: Robert Kane (red.) The Oxford Handbook of Free Will. Oxford: Oxford University Press, 2002; Gary Watson (red.) Free Will, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2003; Joseph Keim Campbell, Michael O’Rourke, David Shier (red.) Freedom and Determinism. Cambridge MA/London: MIT Press, 2004; Laura Waddell Ekstrom (red.) Agency and Responsibility: Essays on the Metaphysics of Freedom. Boulder CO: Westview Press, 2000; Ian Carter, Matthew H. Kramer, Hillel Steiner (red.) Freedom: A Pholosphical Anthology. Malden MA/Oxford: Blackwell, 2007.
(обратно)2
Daniel C. Dennett. Elbow Room: Varieties of Free Will Worth Wanting. Cambridge MA: MIT Press, 1984. с.3. Также о взглядах Деннета на свободу см. Daniel C. Dennett: Freedom Evolves. London: Penguin, 2003.
(обратно)3
О различии между «аналитической философией» и «континентальной философией» см. Lars Fr. H. Svendsen. Hva er flosof. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Глава 6.
(обратно)4
B.F. Skinner. Walden Two. Indianopolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 2005 (1948). С. 247.
(обратно)5
Colin Turnbull. The Mountain People. New York: Simon and Schuster, 1972. Следует добавить, что книга Тернбулла стала объектом весьма суровой критики, а также в значительной степени дискредитирована, однако это не мешает служить ей хорошим примером для иллюстрации моей мысли.
(обратно)6
W.B. Gallie. Essentially Contested Concepts // Proceedings of the Aristotelian Society. 167/1956.
(обратно)7
Montesquieu. The Spirit of the Laws. В переводе и редакции Anne M. Cohler, Basia C. Miller, Harold S. Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. кн. 11.2, с. 154.
(обратно)8
Abraham Lincoln. Address at Sanitary Fair, Baltimore, Maryland, April 11, 1864 // Roy P. Basler (red.) Collected Works of Abraham Lincoln. Т. 7. NJ: New Brunswik, 1953. С. 310 и далее.
(обратно)9
Isaiah Berlin. To begreper om frihet // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. С. 297.
(обратно)10
Это зависит также от фундаментальных онтологических убеждений индивида. Такие широкие философские категории, как «натурализм» или «прагматизм», не очень полезны, поскольку в них заключается большое разнообразие несовместимых позиций; впрочем, они хотя бы задают некий горизонт, на который можно ориентироваться. Если кому-то интересно мое философское кредо, то я отнес бы себя к категории «натуралистов» в самом широком смысле, то есть я предполагаю, что за пределами видимой Вселенной ничего не существует (а если бы и существовало, это не оказывало бы никакого влияния на происходящее в этой Вселенной, а следовательно, его существованием можно пренебречь). С этой общей натуралистической позицией согласятся многие из современных философов. Однако я не отношу себя к сциентистам, то есть я не думаю, что наука в целом и естествознание в частности может рассказать нам все, что нам необходимо знать о человеческой жизни. Я также не поддерживаю редукционизм, согласно которому различные онтологические уровни можно последовательно свести к нескольким базовым онтологическим уровням, так что все на свете может быть объяснено исходя из свойств элементарных физических частиц. Напротив, я придерживаюсь плюрализма и считаю, что мы сможем лучше понять любой феномен, рассматривая его на различных уровнях и объясняя при помощи различных теорий.
(обратно)11
John Dewey. Human Nature and Conduct. New York: Henry Holt,1922. С. 303.
(обратно)12
Isaiah Berlin. Liberty. Oxford: Oxford University Press, 2002. С. 4–12, 16 и далее, 29 и далее, 265–270, 322 и далее.
(обратно)13
Ср. Kathleen D.Vohs, Jonathan W. Schooler. The Value of Believing in Free Will. Encouraging a Belief in Determinism Increases Cheating // Psychological Science. 1/2008.
(обратно)14
Стоит упомянуть и еще один терминологический нюанс, а именно, что в англоязычной литературе используется два разных слова для обозначения понятия свободы: liberty и freedom, тогда как в других европейских языках используется только одно слово. Как правило, эти два тремина считаются синонимичными, и я буду придерживаться той же позиции. Единственным исключением является Ханна Арендт, которая проводит между этими терминами различие, которое мы не будем здесь обсуждать. Хорошее изложение позиции и этимологии данных слов можно найти в работе Hanna Fenichel Pitkin. Are Freedom and Liberty Twins? // Political Theory. 4/1988. Кроме того, Бернард Уильямс тоже различает эти два слова, однако его подход более прагматичен и сводится главным образом к обозначению разницы между онтологическим и политическим аспектами, тогда как в обыденном словоупотреблении этой разницей можно пренебречь. См. Bernard Williams. From Freedom to Liberty: The Construction of a Political Value // Philosophy & Public Afairs. 1/2001.
(обратно)15
Работа, в которой проводится гораздо более четкое различие между либертарианством и либерализмом: Samuel Freeman. Illiberal Libertarians: Why Libertarianism Is Not a Liberal View // Philosophy & Public Afairs. 2/2002. Антология, многие тексты которой относятся к либертарианской в широком смысле слова традиции: David Boaz (red.) The Libertarian Reader. New York: The Free Press, 1997. Справочник, в котором содержатся краткие статьи о центральных понятиях и фигурах либертарианизма: Ronald Hamowy (red.) The Encyclopedia of Libertarianism. Thousand Oaks/London: Sage Publications, 2008. Также стоит прочесть Norman P. Barry. On Classical Liberalism and Libertarianism. New York: St. Martin’s Press, 1987. Весьма занимательная история либертарианизма в США: Brian Doherty. Radicals for Capitalism: A Freewheeling History of the Modern American Libertarian Movement. New York: Public Afairs, 2007.
(обратно)16
Из этого следует также, что так называемый анархокапитализм не является формой либерализма. В наше время анархокапитализм является довольно маргинальной идеологией, и если вам хочется услышать имена основных теоретиков, я могу назвать Мюррея Ротбарда и Дэвида Фридмана. Для анархокапиталиста допустимы исключительно добровольные отношения между людьми, и с его точки зрения это несовместимо с подчинением государству, которое представляет собой монополию насилия. Анархокапитализм принимает лишь совершенно нерегулируемый рынок, на котором индивид может приобрести у конкурирующих между собой поставщиков такую услугу, как защита от насилия – или отказаться от ее приобритения. Это весьма далеко отстоит от обычного понимания либерализма. Либерализм не считает государство как таковое неприемлемой монополией, в отличие от анархокапиталиста. Несмотря на это, анархокапитализм часто считается одной из позиций в рамках либерализма.
(обратно)17
Я попытался хотя бы отчасти показать широту либеральной традиции в своей книге Lars Fr. H. Svendsen. Liberalisme. Politisk Frihet fra John Locke til Amartya Sen. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Общий объем литературы о различных аспектах либерализма составляет не одну тысячу томов. Однако с чего-то начинать нужно, и хорошей отправной точкой для изучения этой традиции могут стать следующие работы: Hans Blokland. Freedom and Culture in Western Society. London: Routledge, 1997; Alfonso J. Damico (red.) Liberals and Liberalism. Totowa: Rowman & Littlefeld, 1986; Katrin Flikschuh. Freedom: Contemporary Liberal Perspectives. London: Polity Press, 2007; Gerald F. Gaus. Contemporary Theories of Liberalism. London: Sage Publications, 2003; John Gray. Liberlaism. 2nd edition. Buckingham: University Press, 1995; John Gray. The Two Faces of Liberalism. Cambridge: Polity Press, 2000; Stephen Holmes. Passions and Constraint. Chicago: University of Chicago Press, 1995; Paul Kelly: Liberalism. London: Polity Press, 2005; Pierre Manent. Historie intellectuelle du libéralisme. Paris: Calmann-Lévy, 1987; Ellen Frankel Paul et al. (red.) Natural Rights Liberalism from Locke to Nozick. Cambridge: Cambridge University Press, 2005; Ellen Frankel Paul et al. (red.) Liberalism: Old and New. Cambridge: Cambridge University Press, 2007; Paul Starr. Freedom’s Power. The True Force of Liberalism. New York: Basic Books, 2007; Alan Wolfe: The Future of Liberalism. New York: Knopf, 2009.
(обратно)18
Некоторые исследователи проводят различие между свободой воли и свободой действия, при этом свобода воли состоит в том, что мы можем выбирать, чего хотеть, а свобода действия в том, чтобы делать то, что мы хотим делать, однако для моей работы это различие не играет особой роли. Я рассматриваю это как две стороны одного явления, поскольку мы не можем обладать свободой воли без свободы действия, равно как и свободой действия без свободы воли. Кое-кто также проводит различие между свободой воли и добровольностью, в том смысле, что мы можем действовать добровольно, не обладая свободой воли, но и такое различие я не готов принять, поскольку я убежден и готов доказать, что свобода воли является необходимой предпосылкой для добровольных действий.
(обратно)19
См. Gunnar C. Aakvaag. Å leve sitt eget liv. Et essay om frihet. Oslo: Universitetsforlaget, 2012.
(обратно)20
Обширный исторический обзор поразительных правовых документов о процессах над животными можно найти в книге Edward Payson Evans. The criminal prosecution and capital punishment of animals. London: Heinemann, 1906. Более свежее исследование: Jen Girgen. The historical and contemporary prosecution and punishment of animals // Animal Law, 2003.
(обратно)21
Grigen. The historical and contemporary prosecution and punishment of animals, С. 110.
(обратно)22
Charles Darwin. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Princeton: Princeton University Press, 1981. Т. 1, с. 70. Здесь и далее перевод цитируется по изданию: Чарльз Дарвин. Происхождение человека и половой подбор. Санкт-Петербург: Издание В. И. Губинского, 1908.
(обратно)23
Darwin. The Descent of Man. Т. 1, с. 88 и далее.
(обратно)24
Я более подробно осветил этот вопрос в моей книге Lars Fr. H. Svendsen. Mennesket, moralen og genene – en kritikk av biologismen. Oslo: Universitetsforlaget, 2001.
(обратно)25
Aristoteles. Politikken. Пер. на норв. Tormod Eidie. Oslo: Vidarforlaget, 2007. 1253a. Перевод здесь и далее цитируется по изданию: Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 4. Москва: Мысль, 1983.
(обратно)26
Aristoteles: Den nikomakiske etikk, в переводе на норв. Øyvind Rabbås, Anfnn Steigen. Oslo: Bokklubben Dagens Bøker, 1999. Книга III (1109b30f). Перевод здесь и далее цитируется по изданию: Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т.4. Москва: Мысль, 1983.
(обратно)27
Ср. Dominic Streatfeild. Brainwash. The Secret History of Mind Control. London: Hodder & Stoughton, 2006.
(обратно)28
John Stuart Mill. Om friheten. В переводе на норв. Pål Foss. Oslo: Vidarforlaget, 2010. С. 70. Перевод здесь и далее цитируется по изданию: Джон Стюарт Милль. О свободе // О Свободе: Антология мировой либеральной мысли (I половины XX века). Москва: Прогресс-Традиция, 2000.
(обратно)29
John Stuart Mill. Om friheten. C. 83.
(обратно)30
Immanuel Kant. Pädagogik // Kants gesammelte Schriften, т. IX, Preußischen Akademie der Wissenschaften (red.) Berlin/New York: De Gruyter, 1902. С. 463. Ср. Immanuel Kant. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht // Kants gesammelte Schriften, т. VII, Preußischen Akademie der Wissenschaften (red.) Berlin/ New York: De Gruyter, 1902. С.149.
(обратно)31
Ср. Maurice Merleau-Ponty. Kroppens fenomenologi. В переводе на норв. B.Nake. Oslo: Pax, 1904. См. Русскоязычное издание Морис Мерло-Понти. Феноменология восприятия. Санкт-Петербург: Ювента; Наука, 1999.
(обратно)32
G.W.F. Hegel. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I, Werke. Т. 8. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986. § 410.
(обратно)33
Jonathan Jacobs. Choosing Character: Responsibility for Virtue and Vice. Inthaka/London: Cornell University Press, 2001. С.19.
(обратно)34
Федор Михайлович Достоевский. Среда // Дневник писателя. В переводе на норв. Geir Kjetsaa. Т. 1. Oslo: Solum Forlag, 1993. С. 23.
(обратно)35
Джон Локк. Письмо к Молинэ от 20 января 1693 года в John Locke. The correspondence of John Locke. т.4. Oxford: Clarendon Press, 1979.
(обратно)36
James Boswell. The Life of Johnson. London: Peguin, 2008. С. 681 (15 апреля 1778).
(обратно)37
Edward O. Wilson. Consilience: The Unity of Knowledge. London: Abacus, 1999. С. 131. А также Edward O. Wilson. On Human Nature. Harmondsworth: Penguin, 1995 (1978). С. 195.
(обратно)38
James Boswell. The Life of Johnson. London: Peguin, 2008. С. 681 (15 апреля 1778).
(обратно)39
Arthur Schopenhauer. Kan Menneskets frie Villie bevises af dets Selvbevidsthed. В переводе Johan Fredrik Bjelke. Oslo: Solum, 1993. С. 79.
(обратно)40
Более пространную дискуссию по этой теме см. в книге John R. Searle. Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. С. 130.
(обратно)41
Daniel M. Wegner. The Illusion of Conscious Will. Cambridge MA/London: MIT Press, 2002. С. 317 и далее.
(обратно)42
Colin Blakemore. The Mind Machine. London: BBC Publications, 1988. С. 270.
(обратно)43
Весьма интересную дискуссию об этом можно найти в книге Jürgen Habermas. Das Sprachspiel. verantwortlicher Urheberschaft und das Problem der Willensfreiheit: Wie lässt sich der epistemische Dualismus mit einen ontologischen Monismus versöhnen // Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 5/2006. Также см. Thomas Nagel. The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press, 1986.
(обратно)44
William James. The Will to Believe and Other Essays. New York: Dover Publications, 1956. С. 151. См. Русское издание: Уильям Джеймс. Воля к вере. Москва: Республика, 1997.
(обратно)45
Объяснить, что означает понятие причины, – задача заведомо трудная. Полное и основательное изложение различных подходов и теорий каузальности можно найти в книге: Helen Beebee, Christopher Hitchcock, Peter Menzies (red.) The Oxford Handbook on Causation. Oxford/New York: Oxford University Press, 2009.
(обратно)46
Ludwig Wittgenstein. Philosophical Occasions 1912–1951. Indianаpolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1993. С. 429–44. См. Русскоязычное издание: Людвиг Витгенштейн. Философские исследования. Москва: АСТ, Астрель, 2011.
(обратно)47
Ludwig Wittgenstein. Philosophical Occasions 1912–1951. С. 431.
(обратно)48
Там же. С. 433.
(обратно)49
Ludwig Wittgenstein. Filosof og kultur. Spredte bemerkninger. В перев. K.O.Åmås. Oslo: Cappelen, 1995. c.80.
(обратно)50
Nancy Cartwright. How the Laws of Physics Lie. Oxford: Oxford University Press, 1983.
(обратно)51
Denis Noble. The Music of Life. Biology Beyond Genes. Oxford/New York: Oxford University Press, 2006. Гл. 5.
(обратно)52
Ср. Helen Stewart. A Metaphysics for Freedom. Oxford: Oxford University Press, 2012.
(обратно)53
Svendsen. Mennesket, moralen og genene.
(обратно)54
Lucrets. Om tingenes natur. В переводе на норв. Trygve Sparre. Oslo: Aschehoug, 1978. кн. 2, ст. 216–93. См. русскоязычное издание: Лукреций. О природе вещей. Москва: ЛКИ, 2012.
(обратно)55
Patrick Suppes. The Transcendental Character of Determinism // Midwest Studies in Philosophy. 18/1993. С. 254.
(обратно)56
Либет изложил суть этих экспериментов и толкование их результатов в целом ряде работ. Для целей настоящей книги самой важной является следующая: Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action // Behavioural and Brain sciences. 8/1985, а также Consciousness, Free Action and the Brain // Journal of Consciousness Studies. 8/2001; Do We Have Free Will? // Robert Kane (red.) The Oxford Handbook of Free Will. Oxford: Oxford University Press, 2002. Либет также опубликовал свои результаты в более доступной широкой публике форме в книге Mind Time: The Temporal Factor in Consciousness. Cambridge MA/London: Harvard University Press, 2004. Антология, в которой содержится довольно много достойных внимания соображений об экспериментах Либета: Walter Sinnott-Armstrong, Lynn Nadel (red.) Conscious Will and Responsibility: A Tribute to Benjamin Libet. Oxford: Oxford University Press, 2011.
(обратно)57
Такая трактовка Либета встречается, например, у Вегнера. См. Wegner. The Illusion of Conscious Will.
(обратно)58
Chun Siong Soon et al. Unconscious determinants of free decisions in the human brain // Nature Neuroscience. 13.04.2008; John-Dylan Haines. Beyond Li– // biet: Long-term Prediction of Free Choices from Neuroimaging Signals // Walter Sinnott-Armstrong, Lynn Nadel (red.) Conscious Will and Responsibility: A Tribute to Benjamin Libet. Oxford: Oxford University Press, 2011.
(обратно)59
См. например Libet. Consciousness, Free Action and the Brain. с.63; Libet. Do We Have Free Will? с.562 и далее; Libet. Mind Time. С. 154 и далее.
(обратно)60
Libet. Do We Have Free Will? С. 563.
(обратно)61
Davide Rigoni et al. Inducing Disbelief in Free Will Alters Brain Correlates of Preconscious Motor Preparation: The Brain Minds Whether We Believe in Free Will or Not // Phsychological Science. 5/2011.
(обратно)62
Raymond Tallis. Aping Mankind: Neuromania, Darwinitis and the Mispresentation of Mankind. Durham: Acumen, 2011. С. 248 и далее.
(обратно)63
Мое толкование экспериментов Либета сходно с тем, что мы находим у Деннета: Daniel Dannett. Freedom Evolves. С. 239 и далее.
(обратно)64
Убедительное изложение этой идеи можно найти в работе Alva Noë. Out of our heads.Why you are not your brain, and other lessons from the biology of consciousness. New York: Hill and Wang, 2009.
(обратно)65
Michael S. Gazzaniga. Who’s in Charge? Free Will and the Science of the Brain. New York: Harper Collins, 2011. С. 190.
(обратно)66
Francis Crick. The Astonishing Hypothesis: The Scientifc Search for the Soul. New York: Simon & Schuster, 1994. С. 3.
(обратно)67
Вопрос о том, какова роль такой нисходящей каузальности в проблеме свободы воли, обсуждался достаточно широко. В связи с этой темой стоит обратить внимание на антологию Nancey Murphy, George Fr.R.Ellis, Timothy O’Connor (red.) Downward Causation and the Neurobiology of Free Will. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. Также см. Nancey Murphy, Warren S. Brown. Did My Neurons Make Me Do It? Philosophical and Neurobiological Perspectives on Moral Responsibility and Free Will. Oxford/New York: Oxford University Press, 2006.
(обратно)68
Ср. Carl Gustav Hempel. Philosophy of Natural Science. Inglewood Clifs NJ: Prentice Hall Inc., 1966. С. 78.
(обратно)69
Immanuel Kant. Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik // Kants gesammelte Schriften, т. II, Preußischen Akademie der Wissenschaften (red.) Berlin/New York: De Gruyter, 1902. С. 324 и далее. Перевод цитируется по изданию: Иммануил Кант. Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики // Кант. Собрание сочинений. Москва: Чоро, 1994.
(обратно)70
Строго говоря, с точки зрения логики может найтись гораздо больше позиций, особенно учитывая, что многие философы занимают «агностическую» позицию относительно истинности детерминизма и/или возможности свободы. Если расширить нашу таблицу другими возможными комбинациями, она примет следующий вид:
Однако, как я уже сказал, я на страницах этой книги ограничусь рассмотрением позиций (1), (2) и (3).
(обратно)71
Вероятно, по этой причине уместнее было бы говорить об «эксклюзивном» и «инклюзивном» детерминизме, первый из которых исключает свободу из области природной необходимости, а второй включает ее. Однако я не думаю, что нам принесет большую пользу введение новых терминов, поэтому в дальнейшем я буду пользоваться устоявшимся термином «компатибилизм».
(обратно)72
Одной из наиболее интересных работ, представляющих эту позицию, а также этические и экзистенциальные следствия из нее, является: Derk Pereboom. Living Without Free Will. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
(обратно)73
См. особенно: Galen Strawson. Freedom and Belief. Oxford: Clarendon Press, 1991.
(обратно)74
См., к примеру: Saul Smilansky. Free Will and Illusion. Oxford: Oxford University Press, 2000.
(обратно)75
Ср. Hagop Sarkassian et al. Is Belief in Free Will a Cultural Universal // Mind & Language. 3/2010. Также см. Shaun Nichols, Joshua Knobe. Moral Responsibility and Determinism: The Cognitive Science of Folk Intuitions // Noûs. 4/2007.
(обратно)76
Peter van Inwagen. An Essay on Free Will. Oxford: Clarendon Press, 1983. С. 16.
(обратно)77
Существует целое множество различных позиций в рамках либертарианизма. Отличное систематическое изложение этого разнообразия с точки зрения современной аналитической философии можно найти в работе: Randolph Clarke. Libertarian Accounts of Free Will. Oxford: Oxford University Press, 2003.
(обратно)78
Роберту Кейну удалось весьма эффективно использовать подобные примеры для обоснования либерализма в книге: Robert Kane. The Signifcance of Free Will. Oxford/New York: Oxford University Press, 1996.
(обратно)79
Aristoteles. Den nikomakiske etikk. 1110A17f. Аристотель. Никомахова этика.
(обратно)80
Aristoteles. Den nikomakiske etikk. 1113b6. Аристотель. Никомахова этика.
(обратно)81
Aristoteles. Physics. В переводе на англ. R.P. Hardie, R.K. Gaye, Jonathan Barnes (red.) The Complete Works of Aristotle. Т. 1. Princeton NJ: Princeton University Press, 1984. 256а6–8. См. русскоязычное издание: Аристотель. Физика // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Москва: Мысль, 1984.
(обратно)82
Roderick M. Chisholm. Human Freedom and the Self // Gary Watson (red.) Free Will, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2003.
(обратно)83
Gary Watson. Introduction // Gary Watson (red.) Free Will, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2003. С. 10.
(обратно)84
A.J. Ayer. Philosophical Essays. London: Macmillan, 1954. С. 275.
(обратно)85
Джон Макдауэлл пишет: «Выносить суждения, принимать решения, наши убеждения – мы в принципе несем ответственность за все это, поскольку мы сами делаем все эти вещи, они не сами собой происходят в нашей жизни. Разумеется, наши убеждения не всегда являются результатом того, что мы воспользовались своей свободой, чтобы решить, каким образом нам следует думать. Но даже если наши убеждения не являются результатом нашей свободной и сознательной работы, они все равно являются воплощением нашей способности, а именно понятийной способности, которая является парадигматическим проявлением свободы таким же образом, как и наша способность к суждению». Цит. по: John McDowell. Having the World in View: Lecture One // Journal of Philosophy. 95/1998. С. 434.
(обратно)86
John Dupre. The Disorder of Things: Metaphysical Foundations of the Disunity of Science. Cambridge MA/London: Harvard University Press, 1993. С. 215. См. Также John Dupre. Human Nature and the Limits of Science. Oxford: Clarendon Press, 2001. Гл. 7.
(обратно)87
Wittgenstein. Philospohical Occasions 1912–1951. С. 431.
(обратно)88
На это указывает и Джон Стюарт Милль: «Несмотря на то, что мы не можем освободиться от действия естественных законов в целом, мы можем обойти каждый закон в отдельности, если нам удастся подняться над обстоятельствами, в которых он возникает. И хотя мы не можем действовать, вовсе не учитывая законы природы, мы можем использовать одни законы, чтобы противодействовать другим». Цит. по: John Stuart Mill. Nature // Collected Works of John Stuart Mill. Т. 10. Toronto/London: University of Toronto Press, 1974. С. 379.
(обратно)89
Bernard Williams. Practical Necessity // Moral Luck/ Philosophicf papers 1973–1980. Cambridge University Press, Cambridge 1981. P. 130.
(обратно)90
Перевод цит. по: Дэвид Юм. Трактат о человеческой природе. Мн.: ООО «Попурри», 1998.
(обратно)91
Вероятно, лучшее изложение этой идеи в рамках компатибилизма можно найти в работе: John Martin Fischer, Mark Ravizza. Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
(обратно)92
Harry G. Frankfurt. Alternate Possibilities and Moral Responsibility // The importance of what we care about. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Эта статья Франкфурта дала начало целой академической индустрии комментариев, возражений и апологий в таком объеме, который мы просто не можем уместить на страницах этой книги. Избранные работы по статье Франкфурта можно найти в книге: David Widerker, Michael Mckenna (red.) Moral Responsibility and Alternative Possibilities: Essays on the Importance of Alternative Possibilities. Aldershot/Burlington: Ashgate Publishing, 2006.
(обратно)93
Существуют и другие возражения против требования иного поведения, чтобы его действие считалось свободным. К примеру, Дана Кей Нелкин пишет об асимметрии между хорошими и дурными поступками с точки зрения способности поступить иначе. Она утверждает, что такая способность требуется для свободных и дурных поступков, или поступков, произведенных не из добрых побуждений, тогда как для добрых поступков или поступков, произведенных из добрых побуждений, это не требуется. Dana Key Nelkin. Making Sense of Freedom and Responsibility. Oxford: Oxford University Press, 2011.
(обратно)94
Впрочем, компатибилист не обязательно должен рассмтривать действие, вызванное страхом, как несвободное. К примеру, Гоббс считает такие поступки столь же свободными, как и поступки, вызванные любым другим чувством или склонностью. Единственным решающим аргументом для Гоббса является отсутствие чисто физических препятствий к действию лица в соответствии со своими предпочтениями. Понятие свободы у Гоббса подробно обсуждается в начале главы 6.
(обратно)95
Интересная работа, в которой делается соответствующий вывод: Mark Balaguer. Free Will as an Open Scientifc Problem. Cambridge MA/London: MIT Press, 2010. Гл. 4.
(обратно)96
Здесь необходимо заметить, что вопрос о том, является ли ответственность предпосылкой к свободе, тоже является неоднозначным. John Martin Fischer и Mark Ravizza в книге «Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility» пишут, что свобода предполагает способность действовать иначе, что действующему лицу должно быть открыто несколько альтернатив, тогда как ответственность этого не предполагает, поэтому ответственность возможна, а свобода нет. Я не буду дальше углубляться в их спорные рассуждения.
(обратно)97
Подобная позиция сходна с «агностическим автономизмом» Альфреда Меле. См.: Alfred R. Mele. Autonomous Agents: From Self-Control to Autonomy. Oxford/New York: Oxford University Press, 1995.
(обратно)98
Peter F. Strawson. Freedom and Resentment and Other Essays. London: Routledge, 2008 (1974). Статья Стросона дала начало бурной дискуссии. Авторитетная антология, в которой освещены основные позиции по этому вопросу: Michael McKenna, Paul Russell (red.) Free Will and Reactive Attitudes. Perspectives on P.F. Strawson’s «Freedom and Resentment». Farnham/Burlington: Ashgate, 2008.
(обратно)99
Peter F. Strawson. Freedom and Resentment. С. 6.
(обратно)100
Там же. С. 8 и далее.
(обратно)101
Там же. С. 9.
(обратно)102
Jean-Jacques Rousseau. Den ensomme vandrers drømmerier. В переводе на норв. B. Huse. Oslo: Bokvennen, 1995. С. 140. Жан-Жак Руссо. Прогулки одинокого мечтателя.
(обратно)103
Samuel Butler. Erewhon. London: Penguin Books, 1985. С. 102 и далее.
(обратно)104
Strawson. Freedom and Belief. С. 88 и далее.
(обратно)105
Эта позиция тоже весьма спорна, в частности, Шон Николс утверждает, что реактивные установки практически не зависят от нашей позиции касательно детерминизма. Shaun Nichols. After Incompatibilism: A Naturalistic Defence of Reactive Attitudes. Philosophical Perspectives. 21/2007.
(обратно)106
Peter F. Strawson. Freedom and Resentment. С. 12.
(обратно)107
Gazzaniga. Who’s in Charge? С. 194.
(обратно)108
Довольно информативный обзор различных критериев невиновности с точки зрения скорее права, нежели морали, можно найти в книге: Lawrie Reznek. Evil or Ill? Justifying the Insanity Defence. London/New York: Routledge, 1997. Обзор норвежской судебной практики по признанию недееспособности см. в работе Aslak Syse. Straferettslig (u)tilregnelighet: juridiske, moralske og faglige dilemmaer // Tidsskrift for Straferett. 03/2006.
(обратно)109
Galen Strawson. The Impossibility of Moral Responsibility // Philosophical Studies. 75/1994.
(обратно)110
Aristoteles. Det nikomakiske etikk. 1114a13–22. Аристотель. Никомахова этика.
(обратно)111
Современную версию аристотелевой теории о том, что мы сами формируем наш характер, а следовательно, должны нести ответственность за действия, проистекающие из этого характера, можно найти в книге Jonathan Jacobs. Choosing Character: Responsibility for Virtue and Vice.
(обратно)112
Здесь необходимо отметить, что именно эта взаимосвязь между свободой и ответственностью оспаривается в книге Fischer, Ravizza. Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility, где авторы утверждают, что мы можем нести ответственность, не будучи свободными. Это полукомпатибилистская позиция едва ли требует дальнейшего обсуждения на этих страницах.
(обратно)113
Существует весьма обширная литература по вопросу автономии, включающая в себя множество различных позиций. Антологии, в которых представлены наиболее важные теоретические работы и концепции современной философии: John Christman (red.) The Inner Citadel: Essays on Individual Autonomy. Oxford/New York: Oxford University Press, 1989. John Christman, Joel Anderson (red.) Autonomy and the Challenges to Liberalism: New Essays. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2005. Ellen Frankel Paul et al. (red.) Autonomy. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2003. James Stacey Taylor (red.) Personal Autonomy: New Essays on Personal Autonomy and Its Role in Contemporary Moral Philosophy. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2005.
(обратно)114
Более серьезное исследование истории этого понятие можно найти, к примеру, в книге Joachim Ritter, Karlfried Gründer (red.) Historisches Wörterbuch der Philosophie. т.1. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980.С. 701–719.
(обратно)115
Исходя из описания автономии на данный момент возникает впечатление, что автономия совпадает со свободой. Джеральд Дворкин утверждает, что понятие автономии не синонимично понятию свободы, обосновывая это тем фактом, что если врач обманывает пациента, он нарушает его автономию, но не его свободу. См. Gerald Dworkin. The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. С. 14. Это аргумент может работать, если подобные действия врачей фактически не нарушают свободу пациентов. С точки зрения Гоббса, Дворкин вполне может оказаться прав, как я покажу в главе 6, посвященной негативной и позитивной свободе, однако поскольку Гоббсово понимание свободы не выдерживает критики, а следовательно, манипуляции, угрозы и обман можно считать нарушением свободы пациентов. Возвращаясь к Аристотелевым критериям добровольности, мы видим, что обман и манипуляция подрывают возможность добровольных действий, поскольку при таких условиях действующее лицо не удовлетворяет критерию знания.
(обратно)116
Вероятно, самой влиятельной работой, выражающей такую точку зрения, является: Harry Frankfurt. Freedom of the Will and the Concept of the Person // The importance of what we care about. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
(обратно)117
У этой точки зрения есть много представителей, важный вклад в дискуссию внес, в частности, Чарльз Тейлор: Charles Taylor. Sources of the Self: The Making of Modern Identity. Cambridge MA: Harvard University Press, 1989; Charles Taylor. The Ethics of Authenticity. Cambridge: Harvard University Press, 1992; Charles Taylor. Hva er galt med negativ frihet? В переводе на норв. Lars Allden // Lars Fr.H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Позиция Тейлора будет обсуждаться дополнительно в главах 6 и 13.
(обратно)118
Christine M. Kongsgaard. The Sources of Normativity. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1996; Christine M. Kongsgaard. Self-Constitution. Agency, Identity and Integrity. Oxford/New York: Oxford University Press, 2009.
(обратно)119
Harry G. Frankfurt. The Reasons of Love. Princeton/New York: Princeton University Press, 2004. С. 97.
(обратно)120
Ortwin de Graef et al. Discussion with Harry G. Frankfurt // Ethical Perspectives. 5/1998. С. 33.
(обратно)121
Harry G. Frankfurt. Taking Ourselves Seriously & Getting It Right. Stanford: Stanford University Press, 2006. С. 14.
(обратно)122
Harry G. Frankfurt. The Importance of What We Care About. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. С. 20.
(обратно)123
Frankfurt. The Importance of What We Care About. С. 18.
(обратно)124
Frankfurt. The Importance of What We Care About. С. 25.
(обратно)125
Frankfurt. Taking Ourselves Seriously & Getting It Right. С. 7.
(обратно)126
Harry G. Frankfurt. Necessity, Volition, and Love. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. С. 114.
(обратно)127
John Stuart Mill. A System of Logic Ratiocinative and Inductive // Collected Works of John Stuart Mill. Т. 8. Toronto/London: University of Toronto Press/Routledge, 1974. сС. 840. Перевод цит. по изданию: Джон Стюарт Милль. Система логики силлогистической и индуктивной: Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. Москва: ЛЕНАНД, 2011.
(обратно)128
Aristoteles. Den nikomakiske etikk. 1114b22. Аристотель. Никомахова этика.
(обратно)129
Милль пишет, что наше осознание свободы состоит в том, что «я чувствую (или же я убежден), что я мог бы, и мне даже следовало бы, выбрать другую альтернативу, если бы я предпочел ее, то есть если бы она мне больше нравилась, а не в том, что я мог бы выбрать одну альтернативу, предпочитая при этом другую». John Stuart Mill. An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy // Collected Works of John Stuart Mill. Т. 9. Toronto/ London: University of Toronto Press/Routledge, 1974. С. 450. Это не служит отрицанием того, что мы часто делаем вовсе не то, что нам следовало бы сделать, однако такие действия всегда должны быть объяснены, к примеру, тем, что причины поступить аморально в данном случае оказались важнее поступить в соответствии с моралью.
(обратно)130
Mill. An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy. С. 452 и далее.
(обратно)131
Ср. Gary Watson. Free Agency // Journal of Philosophy. 72/1975. С. 205–220.
(обратно)132
Dworkin. The Theory and Practice of Autonomy. с.15 и далее.
(обратно)133
Самое обстоятельное изложение своих взглядов на автономию он дает в книге: John Christman. The Politics of Persons: Individual Autonomy and Socio-Historical Selves. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
(обратно)134
Luke Rhinehart. The Dice Man. New York/Woodstock: The Overlook Press, 1971.
(обратно)135
Henry E. Allison. Kant’s Theory of Freedom. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. С. 40.
(обратно)136
Immanuel Kant. Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernuft // Kants gesammelte Schriften. т.6. Preußischen Akademie der Wissenschaften (red.) Berlin/New York: de Gruyter, 1902. С. 23.
(обратно)137
См., к примеру, Daniel Kahneman. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. См. Русскоязычное издание Дэниел Канеман. Думай медленно, решай быстро. Москва: АСТ, 2013.
(обратно)138
Stuart Hampshire. Thought and Action. London: Chatto and Windus, 1959. С. 177.
(обратно)139
Ср. Michael Frede. A Free Will. Origins of the Notion in Ancient Thought. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 2011. С. 75.
(обратно)140
Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992. См. русскоязычное издание: Фрэнсис Фукуяма. Конец истории и последний человек. Москва: АСТ, 2015.
(обратно)141
G.W.F. Hegel. Åndens fenomenologi. В переводе на норв. Jon Elster et al. Oslo: Pax, 1999. См.: Г. В. Ф. Гегель. Феноменология духа. Москва: Академический проект, 2014. Alexandre Kojève. Introduksjon til lesningen av Hegel. В переводе на норв. Agnete Øye. Oslo: Pax, 1996.См.: Александр Кожев. Введение в чтение Гегеля. Москва: Наука, 2003.
(обратно)142
Francis Fukuyama. The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the French Revolution. London: Profle Books, 2011. С. 4.
(обратно)143
См. Особенно Fukuyama. The Origins of Political Order. Гл. 5.
(обратно)144
Francis Fukuyama. The Future of History: Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class? // Foreign Afairs. 1/91 2012.
(обратно)145
/
(обратно)146
Я не буду развивать на этих страницах обширную дискуссию о сущности демократии, поскольку это уведет нас слишком далеко от темы. Отличная подборка важнейших текстов о демократии есть в книге: Robert A. Dahl, Ian Shapiro, Jose Antonio (red.) The Democracy Sourcebook. Cambridge MA/ London: MIT Press, 2003. Об истории демократии см. к примеру, John Dunn. Democracy: A History. New York: Atlantic Monthly Press, 2005, а также John Keane. The Life and Death of Democracy. London: Simon and Schuster, 2009.
(обратно)147
Wilhelm Röpke. Liberalismens kulturideal. В переводе на норв. Øystein Skar // Lars Fr.H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. С. 223.
(обратно)148
Необходимо подчеркнуть, что Гоббс в своей приверженности к абсолютизму довольно далеко отстоит от либеральной традиции. В ответ на утверждения более демократично настроенных философов, что в абсолютной монархии люди менее свободы, чем в демократии, Гоббс заявляет, что при обеих формах правления люди подчиняются законам, и законы абсолютизма не обязательно должны быть строже законов демократического государства. Все законы, которые принимает суверен, рассматриваются как данные Богом, однако содержание их определяет именно суверен.
(обратно)149
Wilhelm von Humboldt. Ideer til et forsøk på å bestemme grensene for statens virksomhet. В перев. На норв. Øystein Skar // Lars Fr.H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. С. 105.
(обратно)150
John Locke. The Second Treatise of Government // Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. § 42. См. Русскоязычное издание: Джон Локк. Соч.: В 3 т. Т. 3. Москва: Мысль, 1988.
(обратно)151
John Locke. The First Treatise of Government // Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. § 42. См. Русскоязычное издание: Джон Локк. Соч.: В 3 т. Т. 3. Москва: Мысль, 1988.
(обратно)152
Motesquieu. The Spirit of Laws. В перев. И ред. Anne M. Cohler, Basia C. Miller, Harold S. Stone. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. кн. 23. См. Русскоязычное издание Ш. Л. Монтескье. О духе законов. Москва: Мысль, 1999.
(обратно)153
Более подробно я написал о Кобдене в другой работе: Lars Fr. H. Svendsen. Liberalismens historie fra Locke til Hobhouse – en skisse // Øystein Sørensen, Lars Fr. H. Svendsen, Lars Peder Nordbakken. Tre essays om liberalisme. Oslo: Civita, 2008. с. 49–53.
(обратно)154
Ср. Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Glasgow Edition vol. 2. Indianopolis: Liberty Fund, 1981. Кн. 3, гл. 3. См. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: Соцэкгиз, 1962.
(обратно)155
Alexis de Tocqueville. Tredje bok, tredje kapittel: Hvorfor franskmennene ønsket reformer fremfor frihet. В перев. на норв. Erik Thorstensen // Torbjørn Røe, Henrik Syse (red.) Konservatisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. С. 125. Перевод цит. по изданию: Алексис де Токвиль. Старый порядок и революция. Кн. III, гл. III. Москва: Московский философский фонд, 1997.
(обратно)156
John Stuart Mill. Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy // Collected Works of John Stuart Mill. Т. 3. Toronto/London: University of Toronto Press/Routledge, 1974. С. 938. См.: Джон Стюарт Милль. Основания политической экономии. Москва: Прогресс, 1980.
(обратно)157
Тут необходимо уточнение, поскольку существует целый ряд представителей перфекционистского либерализма, включающий в свою теорию и понятие добра. См., например: Joseph Raz. The Morality of Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1986 или Steven Wall. Liberalism, Perfectionism and Restraint. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Однако подробное обсуждение перфекционистского либерализма не входит в мои задачи.
(обратно)158
Thomas Hobbes. Leviathan. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. С. 152. См.: Томас Гоббс. Левиафан. Москва: Мысль, 2001.
(обратно)159
В «Левиафане» Гоббс утверждает, что в обществе должна действовать свобода вероисповедания. Основополагающие, неприкосновенные права, упоминаемые Гоббсом наравне со свободой вероисповедания, это право на самозащиту (как в отношении своего тела, так и своей чести), право не свидетельствовать против себя, а также право не отнимать жизнь у других и самого себя (а следовательно, право на отказ от службы в армии).
(обратно)160
Edmund Burke. On Empire, Liberty, and Reform. Speeches and Letters. New Haven/London: Yale University Press, 2000. С. 170.
(обратно)161
Необходимо также подчеркнуть, что экономическая свобода в современном Китае находится на более низком уровне развития, чем принято считать. В «Индексе экономической свободы в мире» Института Фрейзера за 2011 год Китай стоит на 92 месте, тогда как Норвегия находится на 35 месте. (James Gwartney, Robert Lawson, Joshua Hall. Economic Freedom in the World: 2011 Annual Report. Vancouver: Frazer Institute, 2011). В «Индексе экономической свободы» организации «Heritage Foundation» за 2012 год Китай оказывается на 138 месте, а Норвегия на 40. (Terry Miller, Kim R. Holmes, Edwin J. Feulner. 2012 Index of Economic Freedom. Washington/New York: The Heritage Foundation/The Wall Street Journal 2012).
(обратно)162
Indra de Soysa, Hanne Fjelde. Is the Hidden Hand an Iron Fist? Capitalism and Civil Peace, 1970–2005 // Journal of Peace Research. 3/2010.
(обратно)163
Milton Friedman. Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago Press, 2002 (1962). С. 10. См.: Милтон Фридман. Капитализм и свобода. Москва: Новое издательство, Либеральная миссия, 2006.
(обратно)164
Stein Ringen. Hvorfor demokrati? Oslo: Koloritt Forlag, 2008. С. 90.
(обратно)165
Ср. Gwartney, Lawson, Hall. Economic Freedom of the World: 2011 Annual Report и Miller, Holmes, Feulner. 2012 Index of Economic Freedom.
(обратно)166
/
(обратно)167
/
(обратно)168
Berlin. To begreper om frihet. С. 297. Берлин. Два понимания свободы // Исайя Берлин. Философия свободы. Европа. Москва: Новое литературное обозрение, 2001.
(обратно)169
Hobbes. Leviathan. С. 91. Здесь и далее см. русскоязычное издание: Томас Гоббс. Левиафан. Москва: Мысль, 2001.
(обратно)170
Thomas Hobbes. Selection from The Questions concerning Liberty, Necessity, and Chance. // Vere Chappell (red.) Hobbes and Bramhall on Liberty and Necessity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. С. 81.
(обратно)171
Hobbes. Leviathan. С. 146.
(обратно)172
См. Также Thomas Hobbes. On Liberty and Necessity // Vere Chappell (red.) Hobbes and Bramhall on Liberty and Necessity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. С. 38.
(обратно)173
Hobbes. Leviathan. С. 152.
(обратно)174
Там же. С. 206.
(обратно)175
В этом Гоббс отличается от того же Канта, который различает страх перед законом и уважение к нему как факторы, определяющие наши действия, и утверждает, что уважение предпочтительнее именно потому, что оно не лишает нас свободы. Immanuel Kant. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten // Kants gesammelte Schriften. Т.4. Berlin/New York: de Gruyter, 1902. С. 401 и далее.
(обратно)176
Hobbes. Leviathan. С. 239 и далее.
(обратно)177
Thomas Hobbes. On the Citizen. Transl. And ed. Richard Tuck, Michael Silverthorne. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. С. 111. См. Русскоязычное издание: Томас Гоббс. О гражданине // Томас Гоббс. Соч.: В 2 т. Т. 1. Москва: Мысль, 1989.
(обратно)178
Berlin. To begreper om frihet. С. 297 и далее. Здесь и далее перевод приводится по изданию: Исайя Берлин. Философия свободы. Европа. Москва: Новое литературное обозрение, 2001.
(обратно)179
Berlin. Liberty. C. 32. Ср. Berlin. To begreper om frihet. С. 298.
(обратно)180
Ср. Frank Dikötter. Mao’s Great Famine: The History of China’s Most Devastating Catastrophe, 1958–1962. London: Bloomsbury Publishing, 2010.
(обратно)181
Amartya Sen. Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford: Oxford University Press, 1981.
(обратно)182
Berlin. To begreper om frihet. С. 298.
(обратно)183
Там же. С. 300. ср. Berlin. Liberty. c.38.
(обратно)184
Там же. С. 312. См. Также Berlin. Liberty. c.31.
(обратно)185
John Rawles. A Theory of Justice. Cambridge MA: Harvard University Press, 1971. C. 143.
(обратно)186
Подбное предположение вполне можно оспорить. Не всякое увеличение числа альтернатив ведет к реальному увеличению свободы выбора. По крайней мере, если рассматривать свободу как нечто, реализуемое на практике. Как правило, нам сложно справляться с большим числом альтернатив. Разумеется, вопрос о том, начиная с какого числа количество альтернатив становится «слишком» большим, весьма индивидуален. Как правило, если у вас появляется 4 варианта выбора вместо 2, это увеличивает свободу выбора, но это не означает, что иметь 100 вариантов выбора даст вам большую свободу, нежели иметь 10 вариантов, поскольку 100 вариантв выбора скорее всего введут вас в ступор. В книге «Парадокс выбора» Барри Шварц утверждает, что возможность выбирать неоценима, однако количество вариантов выбора, предлагаемых нашим обществом, столь огромно, что они просто подавляют нас. В таком количестве эти варианты выбора уже не увеличивают нашу свободу, а тиранизируют нас. Barry Schwartz. The Paradox of Choice: Why More is Less. New York: HarperCollins. С. 2. См. Русскоязычное издание: Барри Шварц. Парадокс выбора. Почему «больше» значит «меньше». Москва: Добрая книга, 2005. В частности, Шварц ссылается на исследование, которое показало, что покупатели, которым предлагали продегустировать 6 сортов варенья, гораздо проще определялись, какой из них им приобрести, чем покупатели, которым предлагали 24 сорта. (Schwartz. Paradox of Choice. C. 19 и далее). Поначалу это выглядит странным, ведь нам кажется, что чем больше сортов человеку дают попробовать, тем больше вероятность, что он найдет среди них тот, который ему понравится. Однако на практике это ведет к тому, что большинство людей оказывается не в состоянии выбрать один сорт. По мнению Шварца, слишком большое количество вариантов выбора требует от нас сил и времени, которые мы предпочли бы употребить на что-то другое. Мы можем справляться с избытком вариантов выбора по-разному. Одна из распространенных стратегий заключается в том, чтобы придерживаться старых вариантов и просто игнорировать новые альтернативы. Например, мы раз за разом покупаем автомобиль той же марки, игнорируя других производителей. Другая стратегия – переложить анализ альтернатив на кого-то другого, изучить отзывы или довериться консультанту, а затем последовать его совету. Это добровольное ограничение собственной свободы выбора, и оно явно отличается от ограничений, имеющих внешний источник, например со стороны властей. Как потребитель я намеренно отказываюсь от совершения выбора во многих случаях, например от смены поставщика различных услуг, если я оцениваю экономию в результате такой смены как незначительную по сравнению с временем, которое мне необходимо потратить на изучение условий, так что овчинка не стоит выделки. Но я ценю возможность сменить поставщика этих услуг, если мне этого захочется. Кроме того, я считаю, что конкуренция между различными поставщиками будет иметь благоприятные последствия для меня как потребителя вследствие снижения цены и повышения качества услуг.
(обратно)187
Далее мы должны исходить из того, что содержание различных альтернатив известно – или может стать известно – действующему лицу. То есть мы не можем принимать во внимание неизвестные альтернативы, например как в ситуации, когда индивид должен принять таблетку из пузырька, в котором все таблетки, кроме одной, смертельны: в таком случае индивид, конечно, предпочел бы выбирать из как можно меньшего числа таблеток.
(обратно)188
Amartya Sen. Rationality and Freedom. Cambridge: Belknap Press, 2002. Гл. 20–22.
(обратно)189
Amartya Sen. Inequality Reexamined. Cambridge MA: Harvard University Press, 1992. C. 51.
(обратно)190
Berlin. To begreper om frihet. с. 299 и далее. Берлин. Два понимания свободы.
(обратно)191
Berlin. Liberty. C. 273.
(обратно)192
Berlin. To begreper om frihet. С. 304 и далее.
(обратно)193
Berlin. Liberty. C. 39.
(обратно)194
Jean-Jaques Rousseau. Om samfunnspakten. В перев. На норв. Haakon Hofgaard Halvorsen. Oslo: De norske bokklubbene, 2001. С. 20. Курсив Свендсена. Здесь и далее перевод цит. по изданию: Жан-Жак Руссо. Об общественном договоре. Трактаты. Москва: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998.
(обратно)195
Rousseau. Om samfunnspakten. С. 109.
(обратно)196
Там же.
(обратно)197
Berlin. To begreper om frihet. С. 306.
(обратно)198
Нам не обязательно обращаться к Руссо или политическим режимам коммунизма и фашизма за таким толкованием позитивной свободы. Нечто подобное можно встретить у представителей так называемого «нового либерализма», который развивался в конце XIX и начале XX века такими мыслителями, как Томас Хилл Грин и Леонард Хобхауз. Дискуссию о различных аспектах такого вида либерализма можно найти в книге: Avital Simhony, David Weinstein (red.) The New Liberalism: Reconciling Liberty and Community. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. В работе «Либеральное законодательство и свобода договоров» Грин пишет: «Говоря о свободе, мы должны тщательно разобраться, что мы под ней подразумеваем. Мы имеем в виду не только свободу от помех и принуждения. Мы говорим не о свободе делать все, что мы хотим, чего бы мы ни хотели. Когда мы говорим о свободе, мы имеем в виду позитивную способность сделать что-то достойное или приносящее удовольствие». Thomas Hill Green. Liberal Legislation and Freedom of Contract Lectures on the Principles of Political Obligations and Other Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. С точки зрения Грина, свобода подразумевает, что индивид будет поступать «правильно». Задачей государства является создание условий для реализации такой свободы. Грин определяет свободу как действия, «исходящие из представления о всеобщем благе». Ставя представление о всеобщем благе во главу угла, он уходит от того, что он называет эгоистическим индивидуализмом ранней либеральной традиции. Теперь индивидуальная свобода понимается как такой тип самоопределения, при котором мы используем наши способности не только для достижения целей, которые мы выбрали сами, но и высокоморальных целей. Другими словами, индивидуальная самореализация практически приравнивается к альтруизму, поскольку мы должны сделать достижение счастья другими людьми своим главным интересом. Хобхауз во многом согласен с Грином в понимании как самореализации индивида, так и роли государства. Оба настаивают, что человек должен реализовать себя определенным образом, наилучшим для коллектива, и только это дает человеку настоящую свободу. Согласно Хобхаузу, хорошая жизнь должна быть результатом рациональной цельности индивида. Тем не менее индивид настолько глубоко вовлечен в социальные взаимодействия, что его самореализация неразрывно связана с самореализацией всех остальных членов общества. Забота об обществе перекрывает индивидуальные права, которые ставились во главу угла в раннем либерализме. В то время как классический либерализм выступал за сильную, хотя и ограниченную власть государства, Хобхауз выступает за сильное государство, не связанное никакими ограничениями. Такое стремление реализовать свободу граждан является в действительности угрозой этой свободе.
(обратно)199
Gerald C. MacCallum Jr. Negative and Positive Freedom // Philosophical Review. 76/1967. Берлин комментирует и опровергает возражение Маккаллума в своей книге Belrin. Liberty. С. 36 и далее, С. 326.
(обратно)200
Berlin. To begreper om frihet. с.301 и далее, с. 304. Ср. Berlin. Liberty. C. 326.
(обратно)201
Berlin. Liberty. c.36 и далее, с.326.
(обратно)202
Ср. Tim Baldwin. MacCallum and the Two Concepts of Freedom Ratio. 2/1984. C. 141.
(обратно)203
Berlin. Liberty. C. 35.
(обратно)204
Там же. C. 32.
(обратно)205
Immanuel Kant. Om ordtaket: «Det kan være riktig i teorien, men duger ikke i praksis». В переводе на норв. Øystein Skar // Lars Fr.H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. С. 60. Перевод цитируется по изданию: Иммануил Кант. О поговорке… // Иммануил Кант. Сочинения в шести томах. Москва: Мысль, 1965. Т. 4.Ч.2.
(обратно)206
Taylor. Hva er galt med negativ frihet? C. 431 и далее.
(обратно)207
Там же. C. 429.
(обратно)208
Там же. C. 430.
(обратно)209
Berlin. Liberty. C. 50 и далее.
(обратно)210
Там же. C. 38.
(обратно)211
Там же.
(обратно)212
Berlin. To begreper om frihet. с.336 и далее.
(обратно)213
Berlin. Liberty. C. 48.
(обратно)214
Там же. C. 172, 285.
(обратно)215
Там же. C. 41
(обратно)216
Berlin. To begreper om frihet. с.337 и далее.
(обратно)217
John Gray. Two Faces of Liberalism. Cambridge: Polity Press, 2000. C. 6.
(обратно)218
См., к примеру, Isaiah Berlin. The Bent Twig // The Crooked Timber of Humanity. Princeton NJ: Princeton University Press, 1998. C. 259.
(обратно)219
Ср. Berlin. Liberty. c.50 и далее, 216 и далее.
(обратно)220
Ramin Jahanbegloo. Conversations with Isaiah Berlin. London: Peter Halban, 1992. C. 44.
(обратно)221
Isaiah Berlin, Beata Polanowska-Sygulska. Unfnished Dialogue. Amherst NY: Prometheus Books, 2006. C. 213.
(обратно)222
Berlin, Polanowska-Sygulska. Unfnished Dialogue. C. 93.
(обратно)223
John Gray. Isaiah Berlin. Princeton NJ: Princeton University Press, 1996. гл.6. См. Также John Gray. Where Pluralists and Liberals Part Company // International Journal of Philosophical Studies. 6/1998.
(обратно)224
Ср. Michael Stocker. Plural and Conficting Values. Oxford: Clarendon Press, 1990.
(обратно)225
Isaiah Berlin. Reply to Robert Kocis // Political Studies. 31/1983. C. 390 и далее.
(обратно)226
Jahanbegloo. Conversations with Isaiah Berlin. C. 37.
(обратно)227
Там же. C. 108.
(обратно)228
Isaiah Berlin. The Pursuit of the Ideal // The Crooked Timber of Humanity. Princeton NJ: Princeton University Press, 1998. C. 11.
(обратно)229
Я не хотел бы сейчас подробно останавливаться на том, насколько убедительна позиция морального реализма. Одним из наиболее известных критиков морального реализма является Джон Маки, сформулировавший так называемый «аргумент от странности» (argument from queerness) John Mackie. Ethics: Inventing Right and Wrong. Pelican Books, 1977. В общих чертах он заключается в том, что с точки зрения онтологии ценности являются довольно «странными» феноменами, которые просто-напросто не вписываются в нашу онтологическую картиру мира, построенную на физических частицах. Этические ценности не похожи ни на что из того, с чем нам приходится иметь дело. Они обладают очевидно не-физической сущностью, мы не знаем, откуда они возникли или каким образом они могут оказывать каузальное влияние на события. Моральный реалист ответит, что этические ценности, разумеется, отделены от физических частиц, поскольку мы имеем два независимых онтологических контекста, и нам не следует вычеркивать этические ценности из нашей онтологии потому лишь, что они непохожи на физические частицы, точно так же, как мы не вычеркиваем физические частицы из-за того, что они непохожи на этические ценности. Такой подход был бы строго дуалистичен, а моральному реалисту нет необходимости прибегать к дуализму. Он может заявить, что ценности являются в высшей степени реальными природными феноменами, доступными только на более высоком онтологическом уровне, нежели физические частицы, так что их невозможно объяснить посредством редукции до элементарных частиц, что, впрочем, происходит и с целым рядом других феноменов. Такой подход можно обозначить как нередукционистский натурализм. Моральный реалист может просто заявить, что мир гораздо богаче, чем может показать наука, так что мы должны составить себе более полную картину объективной реальности за пределами того, что способно вместить в себя естествознание.
(обратно)230
Jahanbegloo. Conversations with Isaiah Berlin. C. 39.
(обратно)231
Stuart Hampshire. Morality and Confict. Cambridge MA: Harvard University Press, 1984. C. 155.
(обратно)232
Berlin. Liberty. C. 52 и далее.
(обратно)233
Там же. C. 41.
(обратно)234
Вопрос о том, насколько верно современная республиканская теория толкует взгляды этого классического республиканского философа, является спорным. Ср. John Charvet. Quentin Skinner and the Idea of Freedom // Studies in Political Thought. 2/1993. Однако мы не будем останавливаться на этом здесь. Я также не планировал давать исчерпывающее представление о различных элементах республиканизма, я ограничусь описанием республиканской критики либерального понимания свободы и предлагаемой альтернативы.
(обратно)235
К примеру, Джон Ролз пишет, что между политическим либерализмом и классическим республиканизмом нет принципиальных различий. John Rawls. Political Liberalism. Revised ed. New York: Columbia University Press, 2005. C. 205 и далее.
(обратно)236
Maurizio Viroli. Republicanism. Transl. Antony Shugaar. New York: Hill & Wang, 2002. С. 61.
(обратно)237
См. особ. Philip Pettit. Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford: Clarendon Press, 1989; Philip Pettit. A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency. Oxford: Oxford University Press, 2001; Quentin Skinner. Vilkårlig makt: Essays om politisk frihet. Oslo: Res Publica, 2009; Quentin Skinner. Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. См. Русскоязычное издание: Квентин Скиннер. Свобода до либерализма. Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета, 2006.
(обратно)238
Петтит утверждает, что принципиальное различие между ним и Скиннером заключается в том, что сам он приравнивает свободы к недоминированию, тогда как Скиннер требует одновременно недоминирования и невмешательства. Philip Pettit. Keeping Republican Freedom Simple: On a Diference with Quentin Skinner Political Theory. 30/2002. C. 342. Петтит прав в том, что Скиннер не дает столь же чистого определения понятию свободы, как он сам, что, однако, делает позицию Скиннера более убедительной, поскольку благодаря этому его не касаются те возражения, которые выдвигаются против позиции чистого республиканизма и о которых мы поговорим в этой главе.
(обратно)239
Benjamin Constant. Om de gamles frihet sammenliknet med de nyes. В переводе на норв. Erik Thorstensen // Lars Fr.H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Перевод на русский язык доступен в Интернете под названием: Бенжамен Констан. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей. В переводе к.ф.н. М. М. Федоровой.
(обратно)240
Constant. Om de gamles frihet sammenliknet med de nyes. С. 146.
(обратно)241
Skinner. Vilkårlig makt. C. 221.
(обратно)242
Philip Pettit. The Instability of Freedom as Noninterference: The Case of Isaiah Berlin // Ethics. 4/2011. C. 709.
(обратно)243
Pettit. Republicanism. С. 56.
(обратно)244
Pettit. A Theory of Freedom. С. 137.
(обратно)245
Цит. По Amartya Sen. The Idea of Justice. London: Allan Lane, 2009. C. 352.
(обратно)246
Pettit. A Theory of Freedom. С. 139.
(обратно)247
Pettit. The Instability of Freedom as Noninterference. С. 707–35.
(обратно)248
Skinner. Vilkårlig makt. С. 206.
(обратно)249
Pettit. Republicanism. С. 291.
(обратно)250
Viroli. Republicanism. С. 10.
(обратно)251
Skinner. Vilkårlig makt. С. 46.
(обратно)252
Philip Pettit. The Common Mind: An Essay on Psychology, Society and Politics. Oxford: Oxford University Press, 1996. С. 310.
(обратно)253
John Locke. Annen avhandling om borgerstyret. В переводе на норв. Lars Holm-Hansen // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. § 22. С. 27 и далее. См. также полный текст: Locke. The Second Treatise of Government.§§ 136 и далее, 143 и далее, 222. Перевод цит. по: Джон Локк. Второй трактат о правлении // Сочинения в 3-х томах. Т. 3. Москва: Мысль, 1988. С. 137–405.
(обратно)254
Friedrich Hayek. Frihetens konstitusjon. В переводе на норв. Lars Alldén // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. C. 238 и далее.
(обратно)255
Immanuel Kant. Bemerkungen zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen // Kants gesammelte Schriften. т.20. Berlin/New York: de Gruyter, 1902. C. 91 и далее. Перевод цит. по: Иммануил Кант. Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного // Иммануил Кант. Сочинения в 6 томах. Т. 2. Москва, 1963.
(обратно)256
Norberto Bobbio. Liberalism and Democracy. Transl. by Martin Ryle, Kate Soper. London/New York: Verso, 1990. С. 91 и далее.
(обратно)257
Философская литература, посвященная понятию равенства, столь обширна, что трудно разобраться, с чего надо начинать ее изучение, однако многие важные тексты собраны в антологии Louis P. Pojman, Robert Westmoreland (red.) Equality. Selected Readings. New York/Oxford: Oxford University Press, 1997. Другие полезные антологии: Andrew Mason (red.) Ideals of Equality. Oxford: Blackwell, 1998; Matthew Clayton, Andre Williams (red.) The Ideal of Equality. New York: St. Martins Press, 2000. Хороший обзор многих важнейших тем и позиций дается в книге: Stuart White. Equality. Cambridge: Polity Press, 2007. Одной из самых обсуждаемых работ о равенстве и неравенства за последние годы является книга Richard Wilkinson, Kate Pickett. The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. London: Allan Lane, 2009 (в более поздних изданиях подзаголовок отличается от первого издания). Однако адекватное изложения идей Уилкинсона и Пикетт потребовало бы также привлечения разного рода возражений, направленных на эмпирическую базу их книги, а также качества проведенного ими статистического анализа, что выходит за рамки нашей темы и моей компетенции.
(обратно)258
Will Kymlicka. Contemporary Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1990. С. 4.
(обратно)259
Karl Marx. Kritikk av Gotha-programmet (1875) // Fredrik Engelstad (red.) Det beste av Karl Marx. Oslo: Oktober, 1992.
(обратно)260
Marx. Kritikk av Gotha-programmet. С. 380.
(обратно)261
Английской выражение «equality of opprtunity» часто переводится как «равенство шансов», что является довольно неудачным переводом, поскольку складывается впечатление, что жизнь есть лотерея, результат которой не зависит от приложенных индивидом усилий и зависит в общем от случайности, удачи или неудачи. Поэтому лучше будет переводить это выражение как «равенство возможностей».
(обратно)262
Sen. Inequality Reexamined. C. 12 и далее.
(обратно)263
Michel Houellebecq. De grunnleggende bestanddeler. В переводе на норв. Per A. Forsse. Oslo: Cappelen, 2000. C. 62. Перевод цит. по изданию: Мишель Уэльбек. Элементарные частицы. Москва: Азбука, 2013.
(обратно)264
Kurt Vonnegut. Harrison Bergeron // Welcome to the Monkey House. Delacort Press, 1950. Текст также опубликован в книге Louis P. Pojman, Robert Westermoreland (red.) Equality. Selected Readings. New York/Oxford: Oxford University Press, 1997.
(обратно)265
См. Особ. Friedrich A. Hayek. Law, Legislation and Liberty. Vol. 1. Rules and Order. Chicago: University of Chicago Press, 1973. Friedrich A. Hayek. Law, Legislation and Liberty. Vol. 2. The Mirage of Social Justice. Chicago: University of Chicago Press, 1976. Friedrich A. Hayek. Law, Legislation and Liberty. Vol. 3. The Political Order of a Free Pople. Chicago: University of Chicago Press, 1979. См. Русскоязычное издание: Фридрих Хайек. Право, законодательство и свобода. Москва: ИРИСЭН, Мысль, 2006.
(обратно)266
Robert Nozick. Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books, 1974. С. 169. См.: Русскоязычное издание Роберт Нозик. Анархия, государство и утопия. Москва: ИРИСЭН, 2008.
(обратно)267
François-Noël Babeuf, Sylvain Marechal. The Manifesto of Inequality // Louis P. Pojman, Robert Westermoreland (red.) Equality. Selected Readings. New York/Oxford: Oxford University Press, 1997. См. Гракх Бабеф. Сочинения в 4-х томах. Москва: Наука, 1975–1977.
(обратно)268
Harry Frankfurt. The Importance of What We Care About. С. 134–158.
(обратно)269
Frankfurt. Necessity, Volition, and Love. С.146 и далее.
(обратно)270
Ср. Ronald Dworkin. Sovereign Virtue. Cambridge MA: Harvard University Press, 2000. гл. 2.
(обратно)271
Dworkin. Sovereign Virtue. С. 323.
(обратно)272
Ср. Rawls. A Theory of Justice. С. 74, 104. См.: русскоязычное издание: Джон Ролз. Теория справедливости. Новосибирск: Издательство НГУ, 1995.
(обратно)273
Можно также отметить, что позднее Ролз отказывается от этой позиции и утверждает, что люди, предпочитающие досуг работе, не должны иметь права на тот минимальный доход, следующий из так называемого принципа различия. John Rawls. Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge MA: Harvard University Press, 2001. C. 179. См.: Джон Ролз. Справедливость как честность. Логос, 2006. Только тот, кто готов прилагать усилия, должен что-то получать, пишет он, тем самым приближаясь к позиции Дворкина.
(обратно)274
Aristoteles. Den nikomakiske etikk. кн. V. 2–4. Аристотель. Никомахова этика.
(обратно)275
Это может быть особенно важно для понимания Адама Смита. Когда Смит пишет о «distributive justice» (справедливости распределения) и направляет против нее критические замечания, он использует это выражение в старом, Аристотелевом значении. Если не учитывать этого, мы можем подумать, что Смит либо недостаточно последователен, либо упускает из виду некоторые существенные вопросы справедливого распределения в современном значении этого выражения. Подробную дискуссию об этом можно найти к книге Samuel Fleischacker. A Short History of Disctributive Justice. Cambridge MA: Harvard University Press, 2004, оказавшей огромное влияние на последующие доводы Смита.
(обратно)276
Adam Smith. Lectures on Jurisprudence. Glasgow edition vol. 5. Indianopolis: Liberty Fund, 1976. C. 81.
(обратно)277
Adam Smith. Theory of Moral Sentiments. C. 81. См.: русскоязычное издание Адам Смит. Теория нравственных чувств. Москва: Республика, 1997.
(обратно)278
Smith. Theory of Moral Sentiments. C. 79, 81.
(обратно)279
Smith. Wealth of Nations. С. 785. Здесь и далее перевод цит. по: Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: Соцэкгиз, 1962.
(обратно)280
Там же. С. 725.
(обратно)281
Smith. Wealth of Nations. С. 842.
(обратно)282
Arthur Young. The Farmer’s Tour through the East of England. Т. 4. London, 1771. C. 361.
(обратно)283
Smith. Wealth of Nations. C. 100.
(обратно)284
Ср. Smith. Wealth of Nations. C. 96.
(обратно)285
Thomas Paine. Rights of Man, Part II // Political Writings. Red. Bruce Kuklick. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. C. 235.
(обратно)286
Paine. Rights of Man, Part II. C. 233 и далее.
(обратно)287
Там же. С. 235.
(обратно)288
Там же. С. 244.
(обратно)289
Thomas Paine. Agrarian Justice // Political Writings. Red. Bruce Kuklick. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. С. 327, 331.
(обратно)290
Paine. Agrarian Justice. C. 332. Перевод цит. по изданию: Томас Пейн. Аграрная справедливость // Томас Пейн. Избранные сочинения. Москва: Издательство Академии наук СССР, 1959.
(обратно)291
Smith. Wealth of Nations. C. 869 и далее.
(обратно)292
Theodor W. Adorno. Om kategoriene statikk og dynamill i sosiologien. В переводе на норв. Kjell Eyvind Johansen, Nils Johan Ringdal // Essays i utvalg. Oslo: Gyldendal, 1976. C. 97.
(обратно)293
Martha Nussbaum, Amartya Sen (red.) The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press, 2003.
(обратно)294
Martha Nussbaum. Creating Capabilities: The Human Development Approach. Cambridge MA/London: Harvard University Press, 2001. C. X, ср. с. 18.
(обратно)295
Martha Nussbaum. Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2006. C. 75, 274; Nussbaum. Creating Capabilities. C. 40.
(обратно)296
Sen. The Idea of Justice. C. 5 и далее.
(обратно)297
Там же. C. 15.
(обратно)298
Похожую позицию занимает Майкл Вальцер, называющий типичного философа, который занимается политической философией, «героическим», причем этот эпитет вовсе не является комплиментом. Героический философ берет в скобки представления, господствующие в обществе, в котором он живет, и пытается на основе одной лишь рациональности сформулировать политические принципы, обладающие универсальным действием. После чего этот философ хочет непосредственно внедрить их в политическую практику. С точки зрения Вальцера, такой философ обречен на разочарование, поскольку, возвращаясь из своих умозрительных миров к реальному обществу, он столкнется с гражданами, которые и слышать не хотят об этих предположительно универсальных принципах, никак не связанных с местными обычаями и привычным взглядом на политику. Michael Walzer. Thinking Politically: Essays in Political Theory. New Haven: Yale University Press, 2007.
(обратно)299
Sen. The Idea of Justice. C. 56 и далее.
(обратно)300
Там же. C. 102.
(обратно)301
Там же. C. 106.
(обратно)302
Amartya Sen. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999. C. 75.
(обратно)303
Amartya Sen. Utvikling for frihet. В переводе на норв. Lars Holm-Hansen // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. C. 516.
(обратно)304
Голодовка – это демонстрация бессилия, используемая в качестве орудия власти. Ведь что есть власть как не способность навязать свою волю? Обладая властью, мы можем заставить гражданина сделать что-то, чего он сам бы не сделал. Бессилие можно понимать как отсутствие власти, как отсутствие способности навязать свою волю и заставить других действовать так, как нужно нам. И тем не менее это бессилие можно использовать как орудие власти. В «Сенхус Мор», сборнике древнеирландских законов, который, согласно преданию, был составлен по велению святого Патрика, встречается рекомендация поститься, чтобы заставить более могущественного должника вернуть свой долг. Бедняк, не имеющий ресурсов, чтобы конфисковать имущество должника в счет уплаты долга, мог сесть у его порога и голодать до тех пор, пока долг не будет выплачен. В данном случае кредитор бессилен, если он не обладает властью заставить дебитора выплатить долг. Может показаться, что для дебитора не представляет большой проблемы голодовка кредитора, даже если тот умрет с голоду у его дверей, однако смысл этого действия в том, что оно навлекает позор на должника, и вынуждает его уплатить долг, чтобы избежать позора. В этом обычае мы видим исток современной традиции голодовок, часто устраиваемых для достижения политических целей. Идея в том, что, демонстрируя свое бессилие, мы тем самым получаем значительную власть.
(обратно)305
Подробнее об этом см. Sen. Development as Freedom. Гл. 4.
(обратно)306
Стоит отметить, что целых 600 милионов человек, то есть одна десятая всех жителей земли, старадают серьезными дисфункциями, причем 400 миллионов из них живут в странах третьего мира, где условия жизни в целом гораздо хуже, даже для здоровых людей. Ср. Sen. The Idea of Justice. C. 258.
(обратно)307
Sen. Development as Freedom. C. 587.
(обратно)308
Сен также пользуется выражением «позитивная свобода» в другом смысле, для обозначения «способности индивида совершать обоснованные поступки с учетом всех обстоятельств (включая как внешние препятствия, так и внутренние ограничения). Sen. Rationality and Freedom. C. 586.
(обратно)309
Sen. Rationality and Freedom. C. 587.
(обратно)310
Sen. The Idea of Justice. C. 295.
(обратно)311
Nussbaum. Frontiers of Justice. C. 70.
(обратно)312
Martha Nussbaum. Den feministiske liberalismens fremtid. В переводе на норв. Lars Holm-Hansen // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. C. 482 и далее.
(обратно)313
Nussbaum. Den feministiske liberalismens fremtid. с. 485 и далее. Впервые список был опубликован в работе Martha Nussbaum. Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. С. 78 и далее, кроме того, он был опубликован в нескольких более поздних изданиях.
(обратно)314
Nussbaum. Creating Capabilities. C. 62 и далее.
(обратно)315
Nussbaum. Frontiers of Justice. C. 75, 281.
(обратно)316
Nussbaum. Frontiers of Justice. C. 76; Nussbaum. Creating Capabilities. C. 36, 108.
(обратно)317
Nussbaum. Creating Capabilities. C. 42.
(обратно)318
Sen. The Idea of Justice. C. 295. Sen. Inequality Reexamined. C. 45.
(обратно)319
Platon. Staten // Samlede Verker V. Oslo: Vidarforlaget, 2001. 501a. См. русскоязычное издание: Платон. Государство. Москва: Московский институт права, 2009.
(обратно)320
Platon. Staten. 370a-b.
(обратно)321
Там же. 433a.
(обратно)322
Platon. Lovene // Samlede verker VIII. Oslo: Vidarforlaget, 2002.
(обратно)323
John Gray. Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia. London: Allan Lane, 2007. C. 1.
(обратно)324
Norman Cohn. The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages. London: Paladin, 1970 (1957).
(обратно)325
Основным источником информации о Мюнстере для меня послужила работа Cohn. The Pursuit of the Millennium, гл. 12 и 13. Эйстейн Серенсен писал об этом в книге «Мечта о совершенном обществе: Феномен Тоталитарной идеологии» (Øystein Sørensen. Drommen om det fullkomne samfunn: Fire totalitære ideologier. Oslo: Aschehoug, 2010. C. 7–16. См. русскоязычное издание Эйстейн Серенсен. Мечта о совершенном обществе: Феномен тоталитарной идеологии. Москва: Прогресс-Традиция, 2014).
(обратно)326
G.W.F. Hegel. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Werke Bd. 12. Frankfurt a.Mein: Suhrkamp, 1986. C. 35.
(обратно)327
Цит. по: Paul Hollander. Revisiting the Banality of Evil: Political Violence in Communist Systems // Partisan Review. 1/1997. C. 56.
(обратно)328
Karl Marx. Den tyske ideologi // Fredrik Engelstad (red.) Det beste av Karl Marx. Oslo: Pax, 1992. c. 53. Перевод цит. по: Карл Маркс. Немецкая идеология // Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Сочинения. Издание второе. Т. 3.
(обратно)329
Vladimir I. Lenin. Staten og Revolusjonen. Den marxistiske teorien om staten og oppgavene til proletariatet i revolusjonen, august-september 1917. Oslo: Oktober, 1977. См. В. И. Ленин. Государство и революция.
(обратно)330
Gray. Black Mass. C. 66 и далее.
(обратно)331
Данные почерпнуты главным образом из книги David R. Shearer. Policing Stalin’s Socialism: Repression and Social Order in the Soviet Union, 1924–1953. New Haven/London: Yale Universtity Press, 2009. Еще одним важным источником была книга J. Arch Getty, Oleg V. Naumov. The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks 1932–39. New Haven/London: Yale University Press, 1999.
(обратно)332
Одно из самых точных описаний того, в каких условиях жили – и умирали – депортированные, можно найти в книге Nicholas Werth. Cannibal Island: Death in a Siberian Gulag. Translated by Steven Randall. Princeton/ Oxford: Princeton University Press, 2007.
(обратно)333
Karl R. Popper. The Open Society and Its Enemies. Volume One: The Spell of Plato. London: Routledge, 2005. Гл. 9. См. русскоязычное издание: Карл Раймунд Поппер. Открытое общество и его враги. Москва: Культурная инициатива, 1992.
(обратно)334
Karl R. Popper. Conjectures and Refutations. London: Routledge, 1989. C. 361. Перевод цит. по: К. Р. Поппер. Предположения и опровержения: Рост научного знания. Москва: ACT, 2008.
(обратно)335
Oscar Wilde. Lady Windermere’s Fan // Complete Works of Oscar Wilde. London: Collins, 1966. C. 417. См. Оскар Уайльд. Веер леди Уиндермир.
(обратно)336
Это утверждение не вполне обоснованно. К примеру, Рональд Дворкин утверждает, что идеал равенства для либеральной традиции важнее, чем идеал свободы. Ronald Dworkin. Liberalism // A Matter of Principle. Oxford: Oxford University Press, 1985. Впрочем, это утверждение кажется мне достаточно эксцентричным, особенно учитывая этимологию слова и тот факт, что подавляющее большинство теоретиков либерализма высказываются за то, что главной его ценностью является свобода.
(обратно)337
Более основательное изложение истории понятия можно найти, например, в работе Joachim Ritter, Karlfeld Gründer (red.) Historisches Wörterbuch der Philosophie, т.5. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. C. 256–272.
(обратно)338
Mill: Principles of Political Economy. C. 938.
(обратно)339
Блестящее доказательство этой мысли можно найти в книге Patterson. Freedom. Volume I: Freedom in the Making of Western Culture.
(обратно)340
Взгляды Аристотеля на рабство я рассматривал в другой моей книге: Lars Fr. H. Svendsen. Arbeidets flosof. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. C. 65 и далее.
(обратно)341
John Dillon, Tania Gergel (red.) The Greek Sophists, London: Penguin Books, 2003. c. 293.
(обратно)342
Kevin Bales. Disposable People: New Slavery in the Global Economy. 3rd ed. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 2012. См. также: E. Benjamin Skinner. A Crime So Monstrous: Face-To-Face With Modern-Day Slavery. New York/London/Sidney: Free Press, 2009.
(обратно)343
См., к примеру: Joel Feinberg. Harm to Self. Oxford/New York: Oxford University Press, 1986. C. 83–87. А также Nozick. Anarchy, State and Utopia. C. 331.
(обратно)344
Mill. Om friheten. c. 120 и далее. Перевод цит. по: Джон Стюарт Милль. О Свободе: Антология мировой либеральной мысли (I половины ХХ века). Москва: Прогресс-Традиция, 2000. С. 288–392
(обратно)345
См., к примеру: Peter Garnsey. Thinking about Properly: From Antiquity to the Age of Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
(обратно)346
О правах человека было написано так много, что я просто не в состоянии отдать должное всем этим работам. Подборка многих важных документов, начинает со Всемирной декларации прав человека 1948 года и далее, входит в книгу Bård A. Andreassen, Odd A. Ryan (red.) Menneskerettigheter: en dokumentsamling. Oslo: Ad Notam, 1991. Еще более полное собрание документов начиная с античных времен и до наших дней можно найти в книге Madeline R. Ishay (red.) The Human Rights Reader, 2nd ed. London/New York: Routledge, 2007. Доступное введение в проблематику прав человека: Michael Freeman. Human rights. Cambridge: Polity Press, 2002. Из недавних философских работ по теме я с особенным удовольствием рекомендую James Grifn. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008 и Charles R. Beitz. The Idea of Human Rights. Oxford/New York: Oxford University Press, 2009.
(обратно)347
См. особ.: Karl Marx. Til jødespørsmålet // Verker i utvalg. Bd. 1. Filosofske skrifter. Oslo: Pax, 1972. С. 71–76. Карл Маркс. К еврейскому вопросу.
(обратно)348
Ronald Dworkin. Rights as Trumps // Jeremy Waldron (red.) Theories of Rights. New York: Oxford University Press, 1985.
(обратно)349
Краткое обсуждение этого вопроса можно найти в моей книге Svendsen. Arbeidets flosof. С. 70 и далее.
(обратно)350
Ср. Marius Emberland. Retorikk og realiteter. Norsk meneskerettighetsproblematikk på en sidespor? Oslo: Civita, 2006.
(обратно)351
Ср. Will Kymlicka. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press, 1995. Гл. 3.
(обратно)352
William J. Talbott. Which Rights Should Be Universal? Oxford/NewYork: Oxford University Press, 2005. C. 11.
(обратно)353
Здесь можно упомянуть, что Фридрих Хайек, довольно строгий в вопросах прав на материальные блага для взрослых, признает эти права за детьми. См. особ.: Hayek. Law, Legislation and Liberty. Vol. 2. The Mirage of Social Justice. C. 87, 101. А также Hayek. Law, Legislation and Liberty. Vol. 3. The Political Order of a Free People. C. 61.
(обратно)354
Одно из самых курьезных обоснований прав человека принадлежит Э. О. Уилсону, который утверждает, что права человека обусловлени тем, что он является млекопитающим! E.O. Wilson. On Human Nature. C. 199. Права млекопитающих, как мы должны их называть, не вполне совпадают с правами человека. В отличие от более общих и универсальных прав млекопитающих, большинство прав человека, например, право на образование, вообще не имеет смысла. И все же права должны как-то соотноситься со свойствами и предпочтениями их обладателей.
(обратно)355
Одним из тех, кто сформулировал это определение в 1946 году, был Карл Эванг, и оно закреплено в первом параграфе Устава ВОЗ от 1948 года, признанной всеми странами-членами организации. Ср. Siv Frøydis Berg. Den unge Karl Evang og utvidelsen av helsebergepet. Oslo: Solum, 2002. Это определение не особенно очевидно, посколько большинство из нас все же воспринимает здоровье как отсутствие болезней. Таким образом, определение ВОЗ существенно расходится с принятой практикой употребления этого слова. При этом поразительно, что определение здоровья, данное ВОЗ, с одной стороны невероятно узкое, поскольку в результате мы получаем пустое множество (ни один человек на земле не может полностью удовлетворять этим критериям по той простой причине, что никого нельзя назвать полностью здоровым с физической, ментальной и социальной точки зрения), а с другой стороны это определение слишком широко, поскольку не остается ни одного аспекта человеческой жизни, который не был бы связан со здоровьем. Все это дает нам основания сомневаться в целесообразности такого определения.
(обратно)356
Однако его можно найти и в списке Тэлботта: Talbott. Which Rights Should Be Universal? C. 137, 163. Более подробно Тэлботт обсуждает это право в книге: William J. Talbott. Human Rights and Human Well-Being. Oxford/New York: Oxford University Press, 2010. Гл. 12 и 13.
(обратно)357
Kant. Om ordtaket: «Det kan være riktig i teorien, men duger ikke i praksis», c. 60.Перевод цит. по: Иммануил Кант. О поговорке… // Иммануил Кант. Сочинения в шести томах. Москва: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 2. С. 59–105.
(обратно)358
Berlin. To begreper om frihet. C. 309, 326. Берлин. Два понимания свободы.
(обратно)359
Mill. Om friheten. C. 21. Милль. О свободе.
(обратно)360
Подробный обзор см., к примеру, в работе Gerald Dworkin. Paternalism // Stanford Encyclopedia of Philosophy. /.
(обратно)361
Такое понимание мягкого патернализма можно найти в работе: Feinberg. Harm to Self. С. 126. Файнберг, впрочем, не указывает критериев, помогающих определить «в значительной степени недобровольное» действие, и, судя по всему, считает эти критерии довольно гибкими, в зависимости от величины риска, возможности травмы и других факторов (С. 118–122).
(обратно)362
Mill. Om friheten. C. 114.
(обратно)363
См. Georg Høyer et al. Paternalism and Autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system // International Journal of Law and Psychiatry. 25/2 2002.
(обратно)364
Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein. Libertarian Paternalism // The American Economic Review. 2/2003; Richard H. Thaler. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron // The University of Chicago Law Review. 4/2003; Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. New Haven: Yale University Press, 2008.
(обратно)365
Мы переводим английское слово «nudge» как подталкивание. Согласно словарю «Oxford Dictionary of English», оно происходит от норвежского слова «nugge», которое согласно словарю «Norsk ordbok» означает «пихать, толкать, дергать», а словарь «Norsk riksmålsordbok» добавляет к этим значениям формулировку «с целью привлечь чье-либо внимание к чему– // либо». Таким образом, перевод вполне соответствует значению английского слова.
(обратно)366
Талер и Санстейн обсуждают также «либертарианскую филантропию» (libertarian benevolence), в которой используются те же механизмы подталкивания, что и в либертарианском патернализме, но в целях помощи другим людям: к примеру, подталкивание людей к донорству органов в бόльших мастабах, нежели они склонны делать это сегодня. Thaler, Sunstein. Nudge. Гл. 11. Поскольку это не является формой патернализма, мы не будем продолжать обсуждение этого явления.
(обратно)367
Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron. C. 1160.
(обратно)368
Более развернутое представление работ Канемана и Тверски можно найти в книге Daniel Kahneman, Paul Slovic, Amos Tversky (red.) Judgement under Uncertainity: Heuristics and Biases. Cambridge: Cambridge University Press, 1982; Daniel Kahneman, Amos Tversky (red.) Choices, Values and Frames. Cambridge: Cambridge University Press, 2000; Thomas Gilovich, Dale Grifn, Daniel Kahneman (red.) Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgement. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
(обратно)369
Довольно доступное изложение можно найти в работе: Dan Ariely. Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. New York: Harper-Collins, 2008; Nick Wilkinson. An Introduction to Behavioral Economics. A Guide for Students. New York/Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. Более глубокая и обширная работа: George Loewenstein. Exotic Preferences: Behavioral Economics and Human Motivation. Oxford: Oxford University Press, 2008. Ряд наиболее важных статей по теме собран в книге Colin F. Camerer, George Loewenstein, Matthew Rabin (red.) Advances in Behavioral Economics. Princeton: Princeton University Press, 2003.
(обратно)370
Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron. C. 1199.
(обратно)371
Там же. C. 1167. Ср. Thaler, Sunstein. Nudge. C. 6.
(обратно)372
Kahneman. Thinking, Fast and Slow. C. 408–418. См. Канеман. Думай медленно, решай быстро.
(обратно)373
Friedrich A. Hayek. Sann og falsk individualisme // Thorbjørn Røe Isaksen, Henrik Syse (red.) Konservatisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. C. 201. Здесь и далее перевод цит. по: Фридрих Хайек. Индивидуализм истинный и ложный // Фридрих Хайек. Индивидуализм и экономический порядок. Москва: Социум, 2011.
(обратно)374
Hayek. Sann og falsk individualisme. C. 202 и далее.
(обратно)375
Ср. Nava Ashraf, Colin F. Camerer, George Loewenstein. Adam Smith, Behavioral Economist // Journal of Economic Perspectives. 3/2005. Статья также опубликована в Loewenstein op.cit.
(обратно)376
Hayek. Sann og falsk individualisme. C. 205.
(обратно)377
Hayek. Frihetens konstitusjon. C. 255.
(обратно)378
Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron. C. 1167n22.
(обратно)379
Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism. C. 175; Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron. C. 1162.
(обратно)380
Amartya Sen. Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory // Philosophy and Public Afairs. 4/1977.
(обратно)381
Thaler, Sunstein. Nudge. C. 5. Курсив в оригинале.
(обратно)382
Там же. C. 249.
(обратно)383
Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism, c. 177; Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron. С. 1164.
(обратно)384
Thaler, Sunstein. Nudge. C. 5.
(обратно)385
Там же. С. 11.
(обратно)386
Там же. С. 5 и далее. Ср. Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron. C. 1162.
(обратно)387
Mill. Om friheten. C. 118.
(обратно)388
Thaler, Sunstein. Nudge. C. 47.
(обратно)389
Похожий аргумент против Талера и Санстейна выдвигается Стивеном Ву: Steven Wu. When is Nudge a Shove? The Case for Preference-Neutrality. Columbia Law School 2009. .
(обратно)390
Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism. C. 175.
(обратно)391
Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron. C. 1162.
(обратно)392
Thaler, Sunstein. Nudge. C. 5.
(обратно)393
Там же.
(обратно)394
Еще одна трудность заключается в том, как мы смотрим на соотношение между временем и максимизацией благосостояния. Что лучше, синица в руках или журавль в небе? Судя по всему, Талер и Санстейн считают, что значительное благо в будущем лучше маленького блага сейчас: по крайней мере, на это указывают их взгляды на вопрос пенсионных накоплений. На это едва ли можно ответить что-либо, помимо того, что все люди разные, и рациональность некоторых людей не распространяется на долгосрочную перспективу.
(обратно)395
Ср. Ottar Hellevik. Jakten på den norske lykken. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.
(обратно)396
Mill. Om friheten. C. 14.
(обратно)397
Thaler, Sunstein. Nudge. Гл. 3.
(обратно)398
ср. Rawls. A Theory of Justice, c. 133. Rawls: Political Liberalism, c. 66 и далее.
(обратно)399
Thaler, Sunstein. Nudge. С. 244 и далее.
(обратно)400
Там же. С. 245.
(обратно)401
Thaler, Sunstein. Nudge. С. 36; Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron. C. 1161.
(обратно)402
Ср. Edward L. Glaeser. Paternalism and Psychology // University of Chicago Law Review. 1/2006.
(обратно)403
Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron. c. 1165.
(обратно)404
Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism. С. 175. Thaler, Sunstein. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron. c. 1162.
(обратно)405
Alexis de Tocqueville. Om demokratiet i Amerika // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. C. 160 и далее. Перевод цит. по: Алексис де Токвиль. Демократия в Америке. Москва: Прогресс, 1992.
(обратно)406
Закон Норвегии 1999-07-02 «Об учреждении и проведении психиатрического лечения». -19990702-062.html
(обратно)407
Thomas Grisso et al. The MacArthur Treatment Competence Study // Law and Human Behaviour. 2/1995. C. 105–174.
(обратно)408
Ragnhild Bremnes et al. Tvunget psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001–2006. Trondheim: SINTEF, 2008.
(обратно)409
Ср. John Monahanet et al. Coercion and commitment: Understanding involuntary mental hospital admission // International Journal of Law and Psychiatry. 18/1995. Robert A. Nicholson et al. Coercion and the Outcome of Psychiatric Hospitalization // International Journal of Law and Psychiatry.18/1995.
(обратно)410
Tore Nilstun, Aslak Syse. The right to accept and the right to refuse // Acta Psychiatrica Scandinavica. 10/2000. C. 31–34.
(обратно)411
C. Katsakou, S. Priebe. Outcomes of involuntary hospital admission – a review // Acta Psychiatrica Scandinavica. 114/2006.
(обратно)412
Ср. Georg Høyer. On the justifcation for civil commitment // Acta Psychiatrica Scandinavica. 101/2000. c. 66 и далее.
(обратно)413
Bernadette Dallaire et al. Civil commitment due to mental illness and dangerousness: the union of law and psychiatry within a treatment-control system // Sociology of health & illness. 22/2000.
(обратно)414
Karolynn Siegel, Peter Tuckel. Suicide and Civil Commitment // Journal of Health Politics, Policy and Law. 12/1987.
(обратно)415
Siegel, Tuckel. Suicide and Civil Commitment.
(обратно)416
Lars Mehlum et al. Forebygging av selvmord, del 2. Oslo: Nasjonalt kunskapssenter for helsetjenesten, 2007. / binary?download=true&id=1171.
(обратно)417
Такой подход можно встретить также в работе: Charles Fried. Privacy // The Yale Law Journal. 3/1968.
(обратно)418
Friedrich Hayek. Frihetens konstitusjon // Lars Fr. H. Svendsen (red.) Liberalisme. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. C. 240.
(обратно)419
Ср. Maeve Cook. A space of one’s own: autonomy, privacy, liberty // Philosophy & Social Criticism. 1/1999.
(обратно)420
Francis Sejersted et al. Ytringsfrihed bør fnde sted // NOU 1999: 27. , c. 29 и далее, ср с. 140 и далее.
(обратно)421
Хороший обзор философских попыток дать определение «частной жизни» можно найти в работе: H.J. McCloskey. Privacy and the Right to Privacy // Philosophy. 55/1980.
(обратно)422
Примером такого подхода служит, в частности, работа: Daniel J. Solove. Understanding Privacy. Cambridge MA/London: Harvard University Press, 2008. Гл. 3.
(обратно)423
Ср. Philippe Ariès, Georges Duby (red.) A History of Private Life, т. 5. Cambridge MA: Belknap Press, 1992. См.: Филипп Арьес, Жорж Дюби. История частной жизни. Москва: Новое литературное обозрение, 2014; Jef Weintraub, Krishan Kumar (red.) Public and Private in Thought and Practice: Refections on a Grand Dichotomy. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
(обратно)424
Ср. Barrington Moore Jr. Privacy Studies on Social and Cultural History. Armonk NY: M.E. Sharpe, 1984.
(обратно)425
Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis. The Right to Privacy // Harvard law Review. 5/1890.
(обратно)426
Judith Jarvis Thomson. The Right to Privacy // Philosophy and Public Afairs. 4/1975.
(обратно)427
Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967). .
(обратно)428
James Rachels. Why Privacy is Important // Philosophy and Public Afairs. 4/1975.
(обратно)429
Erving Gofman. The Presentation of Self in Everydau Life. New York: Doubleday, 1959. См. русскоязычное издание: Эрвинг Гоффман. Представление себя другим в повседневной жизни. Москва: КАНОН-ПРЕСС, 2000.
(обратно)430
T.S. Eliot. The Complete Poems and Plays. London/Boston: Faber and Faber, 1969. C. 14. Перевод цит. по изданию: Т. С. Элиот. Полые люди. СанктПетербург: Издательский дом «Кристалл», 2000.
(обратно)431
Jeremy Bentham. Panopticon // Miran Bozovic (red.) The Panopticon Writings. London: Verso, 1995. C. 31.
(обратно)432
Torbjörn Tännsjö. Privatliv. Lidingö: Fri tanke, 2010.
(обратно)433
Ср. Daniel J. Solove. Nothing to Hide: The False Tradeof Between Privacy and Security. New Haven/London: Yale University Press, 2011. Гл. 2.
(обратно)434
Forsa: Meinungen der Bundesbürger zur Vorratsdatenspeicherung. Forsa – Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Ananlysen mbH. Berlin, 2008. -06-03.pdf.
(обратно)435
Brendan O’Neill. The truth about the «surveillance society» // Spiked. 08.05.2008. -online.com/index.php?/site/article/5112/.
(обратно)436
Steven Swinford, Nicola Smith. Word on the street … they’re listening // The Sunday Times. 26.11.2006.
(обратно)437
Ben Wilson. What Price Liberty? C. 5, 330.
(обратно)438
Berlin. To begreper om frihet. C. 241.
(обратно)439
John Milton. Areopagitica – eller om trykkefrihet. Overs. Olav Lausund. Oslo: Vidarforlaget, 2010. Перевод цит. по изданию: Джон Мильтон. Ареопагитика // Современные проблемы. Москва; Новосибирск, 1/1997.
(обратно)440
Ср. Dworkin. Rights as Trumps.
(обратно)441
Подробное обсуждение этого вопроса см. в работе: Rawls. Political Liberalism. c. 340–356.
(обратно)442
Brandernurg v. Ohio – 395 U.S. 444 (1969). .
(обратно)443
Mill. Om friheten. Гл.2.
(обратно)444
Там же. C. 21.
(обратно)445
Там же. C. 26.
(обратно)446
Там же. C. 26, 64.
(обратно)447
Там же. C. 45, 64.
(обратно)448
Там же. C. 30 и далее, 64.
(обратно)449
Там же. C. 18.
(обратно)450
Там же. C. 89.
(обратно)451
Там же. C. 67.
(обратно)452
Этот вопрос я подробнее исследую с точки зрения чувства страха в другой моей книге: Lars Fr. H. Svendsen. Frykt. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. См. русскоязычное издание: Ларс Свендсен. Философия страха. Москва: Прогресс-Традиция, 2010.
(обратно)453
Очень достойное описание произошедшего изменения в толковании толерантности можно найти в работе: Frank Furedi. On Tolerance: A Defense of Moral Independence. London/New York: Continuum, 2011.
(обратно)454
John Locke. A Letter Concerning Toleration // Ian Shapiro (red.) Two treatises of Government and A Letter Concerning Toleration. New Haven/New York: Yale University Press, 2003.
(обратно)455
Taylor. Sources of the Self. C. 14.
(обратно)456
Viktor E. Frankl. Vilje til mening. Oslo: Gyldendal, 1971. C. 8. Здесь и далее перевод цит. по: Виктор Франкл. Воля к смыслу. Москва: Эксмо-пресс, 2000.
(обратно)457
Frankl. Vilje til mening. С. 37.
(обратно)458
Friedrich Nietzsche. Die fröhliche Wissenschaft, Kritische Studienausgabe. Т. 3. München/Berlin/New York: dtv/de Gruyter, 1988. § 270 ср. § 335.
(обратно)459
Ср. Anthony Giddens. Modernity and Self-Identity. Self and Identity in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991. C. 5; Anthony Giddens. The Transformations of Intimacy. Oxford: Polity Press, 1992. C. 30. См. русскоязычное издание: Энтони Гидденс. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. Санкт-Петербург: Питер, 2004.
(обратно)460
Michel Foucault. Ethics: Subjectivity and Truth. Essential Works of Michel Foucault 1954–1984. Т. 1. New York: New Press, 1997. C. 262.
(обратно)461
Michel Foucault. Bruken av nytelse. Seksualitetens historie, bind 2. Oslo: Exil/ Pax, 2002. С. 35–40. См. русскоязычное издание: Мишель Фуко. Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2. Санкт-Петербург: Академический проект, 2004.
(обратно)462
Foucault. Ethics: Subjectivity and Truth. C. 137 и далее.
(обратно)463
Там же. С. 318.
(обратно)464
Ср. Michel Foucault. Power, The Essential Works of Michel Foucault 1954–1984. Т. 3. New York: New Press, 2000. C. 241 и далее.
(обратно)465
Paul Ricoeur. Eksistens og Hermeneutikk. Oslo: Aschehoug, 1999.
(обратно)466
Frankfurt. The Importance of What We Care About. c. 170.
(обратно)467
Frankfurt. The Reasons of Love. C. 55 и далее.
(обратно)468
Там же. C. 59.
(обратно)469
Bernard Williams. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge: Harvard University Press, 1985. c. 11.
(обратно)470
Martin Heidegger. Væren og tid. Oslo: Pax, 2007. § 39–43, 57, 61–66, 69, 70 и далее. Понятие «Sorge» является одним из важейших в данной работе, и я привел лишь наиболее существенные для его понимания параграфы. См. русскоязычное издание: Мартин Хайдеггер. Бытие и время. Тбилиси, 1989.
(обратно)471
Frankfurt. Necessity, Volition, and Love. С. 114 и далее.
(обратно)472
Frankfurt. Taking Ourselves Seriously & Getting It Right.
(обратно)473
Frankfurt. Necessity, Volition, and Love. С. 114.
(обратно)474
Frankfurt. The Reasons of Love. С. 44.
(обратно)475
Хорошее изложение биографии Эйхмана можно найти в работе David Cesarani. Eichmann: Byråkrat og massemorder. Oslo: Spartacus, 2007.
(обратно)476
Ortwin de Graef et al. Discussion with Harry G. Frankfurt // Ethical Perspectives. 5/1998. С. 18.
(обратно)477
Frankfurt. The Reasons of Love. С. 97.
(обратно)478
Graef et al. Discussion with Harry G. Frankfurt. С. 33.
(обратно)479
Frankfurt. Necessity, Volition, and Love. С. 108.
(обратно)480
Frankfurt. The Reasons of Love. С. 44.
(обратно)481
Там же. С. 25.
(обратно)482
Там же. С. 26.
(обратно)483
Frankfurt. Necessity, Volition, and Love. С. 93.
(обратно)484
Там же. С. 162.
(обратно)485
Там же. С. 110.
(обратно)486
Frankfurt. Taking Ourselves Seriously & Getting It Right. С. 7.
(обратно)487
Frankfurt. Necessity, Volition, and Love. С. 94.
(обратно)488
Там же. С. 93.
(обратно)489
Там же. С. 94.
(обратно)490
Aristoteles. Den nikomakiske etikk. 1114b22. Аристотель. Никомахова этика.
(обратно)491
Frankfurt. Taking Ourselves Seriously & Getting It Right. С. 7.
(обратно)492
Ф. М. Достоевский. Записки из подполья.
(обратно)493
Taylor. The Ethics of Authenticity. С. 40.
(обратно)494
Foucault. Ethics: Subjectivity and Truth. С. 291.
(обратно)495
Immanuel Kant. Die Metaphysik der Sitten // Kants gesammelte Schriften. т. 6. Berlin/New York: de Gruyter, 1902. C. 441 и далее. См.: Иммануил Кант. Метафизика нравов // Иммануил Кант. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 6. Издательство: ЧОРО, 1994.
(обратно)496
Kant. Anthropologie. С. 121, 133. См.: Иммануил Кант. Антропология с прагматической точки зрения // Иммануил Кант. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. Издательство: ЧОРО, 1994.
(обратно)497
Frankfurt. The Reasons of Love. C. 6 и далее.
(обратно)498
Christine M. Korsgaard. The Sources of Normativity. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1996; Christine M. Korsgaard. Self-Constitution. Agency, Identity and Integrity. Oxford/New York: Oxford University Press, 2009.
(обратно)499
Korsgaard. Self-Constitution. С. 180. Ср. Формулировку категорического императива у Канта: Kant. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, c. 421. См.: Иммануил Кант. Основоположения метафизики нравов // Иммануил Кант. Собрание сочинений в 8 томах. Т.4. Издательство: ЧОРО, 1994.
(обратно)500
Korsgaard. Self-Constitution. С. 161.
(обратно)501
Kant. Religion. С. 23. См.: Иммануил Кант. Религия в пределах только разума // Иммануил Кант. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 6. Издательство: ЧОРО, 1994.
(обратно)502
Susan Wolf. Freedom Within Reason. Oxford: Oxford University Press, 1990. С. 68, 73.
(обратно)503
Wolf. Freedom Within Reason. С. 79
(обратно)504
Susan Wolf. Meaning in Life and Why It Matters. Princeton/London: Princeton University Press, 2010. C. 9, 26.
(обратно)505
Wolf. Meaning in Life. С. 40.
(обратно)506
G.W.F. Hegel. Innledning i estetikken. Oslo: Aschehoug, 1986. С. 85.
(обратно)507
Wolf. Meaning in Life. С. 41.
(обратно)508
Там же. С. 42.
(обратно)509
Ф. М. Достоевский. Записки из Мертвого дома I.
(обратно)510
Aristoteles. Den nikomakisle etikk, кн. 1. Аристотель. Никомахова этика.
(обратно)511
Ср. Pascal Bruckner. Perpetual Euphoria. On the duty to be happy. Princeton/ Oxford: Princeton University Press, 2010. См. русскоязычное издание: Паскаль Брюкнер. Вечная эйфория. Эссе о принудительном счастье. Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2007.
(обратно)512
Ср. Ziyad Marar. The Happiness Paradox. London: Reaktion Books, 2003.
(обратно)513
G.W.F. Hegel. Rettsflosofen. Oslo: Vidarforlaget, 2006. § 149. Здесь и далее перевод цит. по: Г. В. Ф. Гегель. Философия права. Москва: Мысль, 1990.
(обратно)514
Hegel. Rettsflosofen. § 158.
(обратно)515
David Foster Wallace. This Is Water. Some Thoughts on a Signifcant Occasion, about Living a Compassionate Life. New York/Boston/London: Little, Brown and Company, 2009. С. 120.
(обратно)

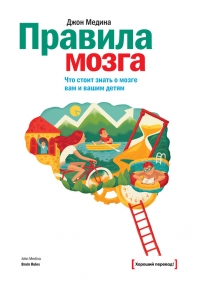
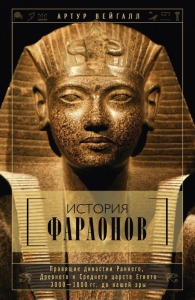



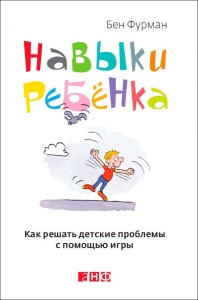
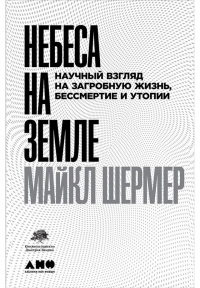

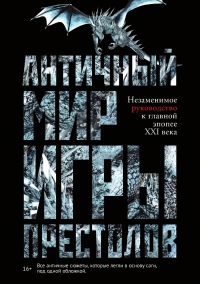
Комментарии к книге «Философия свободы», Ларс Свендсен
Всего 0 комментариев