Эд Йонг Как микробы управляют нами. Тайные властители жизни на Земле
Ed Yong
I CONTAIN MULTITUDES: THE MICROBES WITHIN US AND A GRANDER VIEW OF LIFE
Печатается с разрешения автора и литературных агентств Janklow & Nesbit (UK) Ltd. и Prava I Prevodi International Literary Agency.
Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.
© Ed Yong 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2018
* * *
Эд Йонг – известный британский научный журналист и блогер. Его нестандартные подходы в написании научно-популярных статей характеризуются многими коллегами как «будущее научной журналистики». За свои работы журналист был удостоен ряда наград.
* * *
«В своей книге Йонг обобщает сотни научных статей, но вовсе не перегружает вас наукой. Он просто выдает одно удивительное откровение за другим. Это научная журналистика в лучших своих проявлениях».
Билл Гейтс«Исполненная увлекательных, даже пугающих подробностей того, какое влияние невидимый мир оказывает на людей, книга Йонга в соответствии со своим названием вмещает множество фактов, предъявленных в форме изящной, доступной прозы… и читать ее весело».
Wall Street Journal«Восхитительная, остроумная книга. Автор живописует замысловатые альянсы, которые микробы создают со всеми остальными организмами на планете».
Science«Эта книга меняет вас так же, как и вся выдающаяся литература: вы оказываетесь дезориентированы и взираете на окружающий мир совершенно новым взглядом».
Карл Циммер, научный журналистПредисловие к русскому изданию
Автор этой книги Эд Йонг – высококлассный научный журналист. В эту профессию, что немаловажно, он пришел непосредственно из науки: Йонг закончил Кембриджский университет и получил магистерскую степень в Университетском колледже Лондона – в этих престижнейших вузах его научные интересы были связаны с зоологией и биохимией. Однако стремление писать перевесило, и в августе 2006 года он начал вести блог Not Exactly Rocket Science, где делился с читателями рассказами о последних научных открытиях в области биологии. Эти усилия не остались без внимания – в 2010 году блог удостоился нескольких наград, и Йонга пригласили вести его в научно-популярном издании Discover, где он присоединился к таким известным популяризаторам науки, как Карл Циммер и Фил Плейт.
Именно там осенью 2011 года я впервые познакомился с его творчеством, и с той поры оно остается неизменным источником вдохновения для моей собственной работы в научно-развлекательном проекте «Батрахоспермум». Глубокая проработка тем и ироничный стиль повествования – вот то, что всегда привлекало меня в статьях Йонга, и эти качества в полной мере соответствуют стандартам, которых я придерживаюсь в своем журнале. Несомненным достоинством работы автора является и отражение субъективных мыслей специалистов по освещаемым вопросам: Йонг не ограничивается изложением фактов и сути открытия – он собирает комментарии ученых, общаясь с ними лично, проникая в их лаборатории и на закрытые научные конференции. Таким образом, он предоставляет читателям эксклюзивную информацию с переднего края науки – знания в процессе научного осмысления, идеи, которые исследуются прямо сейчас. Это яркий пример научной журналистики высокого полета.
В 2012 году блог Эда Йонга перекочевал на портал National Geographic, а в 2015-м журналисту предложили позицию в уважаемом американском издании The Atlantic, где он и сейчас работает, продолжая традиции своего старого доброго блога. Следуя по пятам за автором, я застал тот момент, когда из научного журналиста он перевоплотился в научного писателя: в 2016 году вышла его дебютная книга I Contain Multitudes, которая мигом стала бестселлером в сегменте научно-популярной литературы. Это квинтэссенция передовых знаний о мире микробов, почерпнутых Йонгом из многочисленных научных публикаций и интервью с учеными-микробиологами.
И вот ведь какая штука. За пять лет редакторской работы с текстами Эда я настолько «сроднился» с его творчеством, что почувствовал личную ответственность за эту книгу – за адаптацию ее для русскоговорящего читателя. Позволить кому-то испортить ее недостаточно шикарным переводом я не мог. Той осенью я проделал большую работу по поиску издательства, готового выпустить книгу в нашей стране, но волшебным образом издательство вдруг само меня нашло.
Так началось наше неожиданное сотрудничество с департаментом АСТ Non/fiction. Перевод блестяще выполнила Полина Иноземцева, которая неоднократно помогала мне в работе над журналом, а редактором выступил я. В результате этого непростого процесса, наполненного кропотливыми лингвистическими изысканиями и трепетным отношением к оригинальному тексту, получился тот перевод, которого книга Эда Йонга действительно заслуживает.
Более того, русскоязычное издание является дополненным по сравнению с оригиналом. В конце концов, за полтора года с момента англоязычной публикации в микробиологии сделаны новые открытия, в научных журналах опубликованы результаты, о которых автор сообщает лишь со слов исследователей. Поэтому список литературы в данной книге пополнен свежими ссылками, а какие-то новые данные отражены в редакторских примечаниях по ходу текста. Нам также удалось поймать некоторые неточности и описки в оригинальном издании – в настоящей книге они устранены. Обо всех деталях наших редакторских исследований я уведомил Йонга по электронной почте. «Отличная работа!» – ответствовал он благодарственно.
Книга, которую вы держите в руках, – это результат совместной работы многих людей, заключивших друг с другом союзы. О союзах и сама эта книга. Ее оригинальное название – «Я вмещаю множества» (отсылка к цитате из «Песни о себе» Уолта Уитмена) – указывает на существование внутри нас миллионов невидимых союзников, о которых многие и не догадываются. В теле человека микробных клеток почти в полтора раза больше, чем собственно человеческих, и мы неразрывно с ними связаны в сложнейшем и удивительном симбиозе. Влияние микробов на нашу жизнь незримо, но огромно, мы во многом от них зависим, и в какой-то мере они действительно нами управляют. Но не стоит забывать, что зависимость эта взаимная, а отношения между нами и микробами неоднозначны и многовекторны. Эта книга предоставляет возможность взглянуть на наш союз особым взглядом, как и на другие их союзы, коих множество, и заметно расширяет наши представления о вездесущих микробах – а значит, в конечном счете и о нас самих.
Виктор Ковылин, редактор книги,
главный редактор журнала «Батрахоспермум»
(The Batrachospermum Magazine)
Пролог. Поход в зоопарк
Баба невозмутим. Ему совсем не мешает столпившаяся вокруг ватага восторженных ребят. Его нисколько не беспокоит палящий зной калифорнийского солнца. Он совершенно не против того, что по его морде, туловищу и лапам елозят ватными палочками. Такая беззаботность вполне оправдана, ведь жизнь его безопасна и легка. Его дом – зоопарк Сан-Диего, его костюм – надежный и прочный доспех, а сам он сейчас обнимается с работником зоопарка. Баба – белобрюхий панголин, премилое создание, похожее на помесь муравьеда с сосновой шишкой. Размером он с небольшого кота. Взгляд его черных глаз меланхоличен, а шерсть у щек напоминает бакенбарды. Его розоватая мордашка увенчана беззубым рыльцем, специально приспособленным для поедания муравьев и термитов. Длинными, изогнутыми когтями на крепких передних лапах можно цепляться за стволы деревьев и разрывать муравейники, а благодаря длинному хвосту – спокойно виснуть на ветвях (и на работниках зоопарка).
Однако самое запоминающееся в нем – это чешуя. Его голова, конечности и хвост покрыты бледно-оранжевыми, наслаивающимися друг на друга пластинами, которые создают очень прочную защитную броню. Состоят они из того же материала, что и ваши ногти – из кератина. И правда, внешне и на ощупь они скорее напоминают ногти, только крупные, покрытые лаком и сильно погрызенные. К телу каждая пластина прикреплена нежестко, но прочно – когда я глажу его по спине, чешуя под рукой словно проминается и тут же возвращается в прежнее положение. Погладь я его в другую сторону, я бы, наверное, порезался – многие пластины довольно сильно заострены. Без брони у Бабы остались лишь морда, живот и лапы, но при необходимости он может запросто их защитить, свернувшись в клубок. Отсюда у этих зверей и появилось название: слово «панголин» происходит от малайского pengguling, что означает «нечто сворачивающееся».
Баба – один из «послов» зоопарка, в этой функции выступают самые послушные и выдрессированные животные, они участвуют в общественных мероприятиях. Работники зоопарка часто возят Бабу в дома престарелых и детские больницы, чтобы чуточку скрасить деньки больным и старикам и рассказать им о необычных животных. Но сегодня у него выходной. Он просто прижимается к талии смотрителя зоопарка и выглядит при этом как самый необычный кушак на свете, а Роб Найт аккуратно снимает ватной палочкой мазки у него с морды. «Я с детства обожаю панголинов, разве не здорово, что такие замечательные животные вообще существуют?» – радуется Роб.
Найт – долговязый новозеландец с короткой стрижкой – специалист по микроскопической жизни, знаток мира невидимок. Он занимается изучением бактерий и других микроорганизмов, то есть микробов, причем особенно его привлекают те, что обитают на телах животных и у них внутри. А чтобы их изучить, надо их сначала поймать. Для ловли бабочек, например, используют сачки и банки, ну а Найт предпочитает работать ватной палочкой. Вот он засовывает ее кончик в ноздрю Бабы и ковыряет там пару секунд – часть бактерий оттуда как раз успевает попасть на палочку. Теперь в вате завязли тысячи, если не миллионы микроскопических клеток. Найт обращается с палочкой очень осторожно, чтобы не побеспокоить панголина. Впрочем, чтобы его побеспокоить, нужно постараться. Мне кажется, если около него взорвать бомбу, он разве что ухом поведет.
Баба – не только панголин, он еще и дом для множества микробов. Некоторые из них живут у него внутри, главным образом в кишечнике. Некоторые – на теле: на морде, животе, лапах, когтях и чешуе. Найт по очереди берет мазки с каждого места. Со своего тела он тоже снял не один мазок, ведь и в нем обитает целое сообщество микроорганизмов. Как и во мне. Как и в каждом животном из этого зоопарка. Как и в любом живом существе на планете, кроме некоторых специально выращенных в лаборатории стерильных животных.
В каждом из нас находится огромный микроскопический зоопарк, известный под названием «микробиота» или «микробиом»[1]. Живут его обитатели у нас на коже, в организме, а иногда даже внутри клеток. Большую их часть составляют бактерии, но есть и другие крошечные организмы – грибы (например, дрожжи) и археи, загадочная группа, о которой мы поговорим позже. Сюда же входят и крайне многочисленные вирусы – это «виром», он заражает все остальные микроорганизмы и иногда клетки организма-хозяина. Увидеть этих мельчайших созданий невооруженным взглядом мы не можем. Но если бы все наши клетки взяли и неведомым образом испарились, можно было бы разглядеть призрачное мерцание микробов, формирующее примерный силуэт только что исчезнувшего тела[2].
В некоторых случаях вы бы даже не заметили, что клетки исчезли. Губки – одни из самых простых животных, их тела неподвижны и толщиной не превышают несколько клеток, но микробиом у них процветает. Не исключено, что, глядя на губку в микроскоп, вы ее не увидите из-за покрывающих ее тело микробов. Пластинчатые – еще более незамысловатые существа, по сути, коврики из клеток. Они выглядят как амебы, но на самом деле они такие же животные, как и мы, и микроскопические товарищи у них тоже есть[3]. Муравьи живут в колониях, насчитывающих миллионы особей, но при этом каждый муравей – сам по себе колония. Белый медведь, в одиночку бредущий по Арктике и не видящий вокруг ничего, кроме льда, на самом деле окружен живностью. Горные гуси катают микробов за Гималаи и обратно, а морские слоны погружаются с ними в глубь океана. Нил Армстронг и Базз Олдрин, ступив на поверхность Луны, совершили огромный шаг и для микросообщества.
Орсон Уэллс сказал: «Мы рождаемся в одиночестве, живем в одиночестве и умираем в одиночестве». Он ошибался. Даже когда мы одиноки, мы не одни. Мы существуем в симбиозе – этот замечательный термин означает совместное существование разных организмов. К одним животным микробы присоединяются, когда те еще находятся на стадии неоплодотворенной яйцеклетки, другие же объединяются с новыми товарищами при рождении. Так и живем бок о бок с ними. Мы едим – и они едят. Мы путешествуем – они едут с нами. Мы умираем – они нас пожирают. Каждый из нас – это своеобразный зоопарк, колония, существующая в одном теле. Коллектив из множества видов. Целый мир.
Возможно, это нелегко понять – хотя бы потому, что мы, люди, являемся на Земле доминирующим видом. Для нас не существует границ. Мы посетили каждый уголок земного шара, а некоторые даже покидали его. Нам сложно представить, что какие-то существа обитают в кишечнике или даже в одной-единственной клетке организма или что наши части тела – это целые ландшафты. Но ведь так оно и есть. На Земле есть множество разных экосистем: тропические леса, пастбища, коралловые рифы, пустыни, солончаки – и каждую населяют определенные сообщества. Но в любом животном тоже полно экосистем. Кожа, рот, кишечник, гениталии, любой орган, контактирующий с окружающим миром, – везде обитают специфичные для этих органов микроорганизмы[4]. Понятия, используемые экологами для описания континентальных экосистем, которые можно увидеть со спутника, применимы и к экосистемам в наших телах, которые мы рассматриваем через микроскоп. Мы можем говорить о разнообразии видов микробов. Мы можем нарисовать пищевые сети, которые покажут, как различные организмы питаются друг другом и друг друга кормят. Можем выявить ключевые микроорганизмы, оказывающие на окружающую среду особенно сильное влияние, как каланы или волки. Можем рассматривать микробов, вызывающих болезни, – то есть патогенов – как инвазивных животных, таких как жаба-ага или красный огненный муравей. Можем сравнить воспаленный кишечник человека с гибнущим коралловым рифом или распаханным полем – покореженной экосистемой с нарушенной экологической устойчивостью.
Эти сходства означают, что, глядя на термита, губку или мышь, мы глядим на самих себя. Пусть их микробы и отличаются от наших, но наши и их симбиозы основаны на одних принципах. Моллюск, покрытый бактериями, светящимися только по ночам, прольет свет на суточные ритмы бактерий у нас в кишечнике. Микроорганизмы в коралловом рифе, буйствующие из-за загрязнения и чрезмерного вылова рыбы, подскажут, что происходит в кишечнике, когда мы едим нездоровую пищу или принимаем антибиотики. Мышь, чье поведение меняется под влиянием кишечных микробов, сможет объяснить нам, как наши товарищи-микробы влияют на наш собственный разум. Микробы объединяют нас и других существ, пусть наши жизни и различаются до невероятия. Эти самые жизни невозможно прожить в одиночестве, ведь нельзя забывать про микроорганизмы. Нам, таким большим, нужно согласовывать каждый шаг с микробами, такими маленькими. Микробы еще и перемещаются между животными, а также между нашими телами и почвой, водой, воздухом, зданиями и всем, что вокруг нас находится. Они соединяют нас с миром и друг с другом.
Вся зоология – это на самом деле экология. Не разобравшись с микробами в наших собственных телах и с нашими симбиотическими отношениями, мы не сможем полностью понять и жизнь животных. А не поняв, как микробы наших собратьев по планете влияют на их жизнь и улучшают ее, мы не сумеем оценить по достоинству и наш микробиом. Нам нужно взглянуть на весь животный мир в целом и разглядеть при этом скрытые экосистемы в каждом животном по отдельности. Мы смотрим на жуков и слонов, на морских ежей и дождевых червей, на родителей и друзей – и видим индивидуумов, состоящих из одного многоклеточного тела, управляемых одним мозгом и обладающих одним геномом. Приятное заблуждение. На самом деле имя нам – легион, каждому из нас. Всегда есть «мы», а не «я». Забудьте Орсона Уэллса, прислушайтесь лучше к Уолту Уитмену: «Я огромен, я вмещаю множества!»[5]
Глава 1. Живые острова
Возраст Земли – 4,54 миллиарда лет. Осмыслить такой огромный промежуток времени просто так не получится, так что мы сейчас попробуем мысленно сжать всю историю существования планеты в один календарный год[6]. Сейчас, когда вы читаете эту книгу, 31 декабря – вот-вот должны пробить куранты (к счастью, 9 секунд назад изобрели фейерверки). Люди существуют уже полчаса, может, чуть меньше. До вечера 26 декабря миром правили динозавры, но все они, кроме птиц, вымерли после столкновения астероида с Землей. Цветы и млекопитающие появились чуть раньше, тоже в декабре. В ноябре планету заполонили растения, а в океанах появились почти все основные группы животных. И растения, и животные состоят из множества клеток – подобные многоклеточные организмы уже точно существовали к началу октября. Возможно, они появились и раньше – по окаменелостям нельзя сказать наверняка, – но тогда они были немногочисленны. В подавляющем большинстве живые организмы до начала октября были одноклеточными. Их невозможно было бы разглядеть невооруженным глазом, если бы тогда вообще существовали глаза. Так все и продолжалось с момента появления жизни на Земле где-то в марте.
Подчеркну, что все известные нам видимые живые организмы – все те, кто приходит на ум, когда мы вспоминаем о «природе», – появились здесь совсем недавно, к эпилогу. На протяжении большей части истории единственными представителями жизни на Земле были микробы. В нашем воображаемом календаре с марта по октябрь планета была в их полном распоряжении.
И за это время они очень круто ее изменили. Бактерии обогащают почву и расщепляют загрязняющие ее вещества. Они поддерживают геохимические циклы углерода, азота, соли и фосфора, преобразуя их в составляющие, которые потребляются животными и растениями, а затем возвращая их в почву путем разложения органических тел. Они стали первыми организмами, способными готовить себе пищу, используя солнечную энергию в процессе фотосинтеза. Их главный продукт жизнедеятельности – кислород, и они выделили его столько, что атмосфера планеты изменилась навсегда. Именно благодаря им мы живем в мире с кислородом. Даже сейчас бактерии-фотосинтетики в океане производят половину кислорода, которым мы дышим, и связывают столько же углекислого газа[7]. Считается, что мы живем в антропоцене – новой геологической эпохе, отличительным признаком которой является огромная степень влияния человека на планету. Однако с тем же успехом можно заявить, что мы все еще живем в микробиоцене – эпохе, которая началась с зарождением жизни на Земле и будет продолжаться до ее исчезновения.
Микроорганизмы и правда вездесущи. Они обитают в воде глубочайших океанских впадин и среди скал на дне. Выживают в непрестанно извергающихся «черных курильщиках», горячих источниках и антарктических льдах. Даже в облаках они есть: помогают дождю и снегу выпасть на землю. На нашей планете они существуют в астрономических количествах. Даже больше, чем в астрономических: в вашем кишечнике микробов больше, чем звезд в нашей галактике[8].
В таком изобилующем микробами и ими же измененном мире и появились животные. Как заметил палеонтолог Эндрю Нолл, «если животные на эволюционном торте – вишенка, то бактерии – это сам торт»[9]. Они всегда были частью экологии нашего мира. Мы развились в тех, кем являемся, посреди них – причем как раз из них мы и развились. Животные относятся к эукариотам – группе, включающей в себя также все растения с водорослями и грибы. Несмотря на все наши очевидные различия, организмы эукариот состоят из клеток с одинаковым базовым строением, что и отличает их от остальных живых организмов. Практически вся ДНК эукариот собрана в центральном ядре клетки, что и послужило основой для их названия: «эукариота» происходит от греческого «истинное ядро». Еще у них есть внутренний «скелет», обеспечивающий опору и перемещающий молекулы с места на место. И конечно, митохондрии – маленькие бобовидные генераторы, которые обеспечивают клетки энергией.
Для всех эукариот эти черты являются общими, так как мы произошли от одного предка около двух миллиардов лет назад. До того жизнь на Земле была разделена на два лагеря, или домена: бактерии, о которых мы уже знаем, и археи, о которых мало кому известно и которые отличаются талантом к колонизации сред с самыми неблагоприятными условиями. Организмы обеих групп – одноклеточные, то есть гораздо менее сложные, чем эукариоты. У них отсутствует внутренний скелет, как и клеточное ядро. Митохондрий, снабжающих их энергией, у них тоже нет – скоро вы поймете почему. К тому же на первый взгляд они похожи внешне, отчего поначалу ученые считали, что археи – тоже бактерии. Но внешность обманчива – биохимически археи отличаются от бактерий примерно так же, как Windows от Mac.
В течение примерно двух с половиной миллиардов лет от зарождения жизни на Земле бактерии и археи эволюционировали раздельно. А затем бактерия каким-то неведомым образом соединилась с археей, потеряв тем самым возможность существовать независимо, и так и осталась заключена в новом организме-хозяине. Именно так, по мнению многих ученых, появились эукариоты. Это повесть о том, как создавались мы с вами, – о слиянии двух доменов жизни в третий, о величайшем симбиозе всех времен. Архея образовала тело клетки-эукариоты, а бактерия со временем превратилась в митохондрию.
Этот судьбоносный союз и дал начало всем эукариотам[10]. Именно поэтому в наших геномах содержится множество генов архейной природы и тех, что больше напоминают гены бактерий. По той же причине митохондрии присутствуют во всех наших клетках. Эти прирученные бактерии изменили все. Эукариотические клетки смогли использовать этот источник энергии для роста, накопления большего количества генов и развития в более сложные организмы. Биохимик Ник Лейн называет все это «черной дырой в сердце биологии». Расстояние между простыми клетками бактерий и более сложными клетками эукариот огромно, и жизнь пересекла его лишь один раз за четыре миллиарда лет. С тех пор бактериям и археям ни разу не удалось снова создать эукариотическую клетку, несмотря на то что развиваются они очень быстро. Как такое возможно? Другие сложные конструкции – глаза, покровы, многоклеточные тела – не раз развивались в ходе эволюции независимо друг от друга, но появление эукариоты – это единичный случай. Как утверждают Лейн и другие ученые, слияние археи и бактерии, создавшее эукариот, было настолько маловероятным, что так и не повторилось, а если и повторилось, то не привело к подобному результату. Своим союзом эти два микроорганизма вопреки всем ожиданиям дали толчок к появлению всех существующих в мире растений, животных, грибов и вообще всего видимого невооруженным глазом. Именно благодаря им я пишу эту книгу, а вы ее читаете. В нашем воображаемом календаре это слияние произошло где-то в середине июля. Эта книга – о том, что произошло после.
После возникновения эукариот некоторые из них вскоре начали взаимодействовать и объединяться. Так появились многоклеточные – к ним относятся и растения с животными. Впервые живые организмы стали крупными, настолько крупными, что у них появилась возможность принимать в собственные тела большие сообщества бактерий и других микроорганизмов[11]. Сосчитать их – задача крайне сложная. Считается, что в среднем в организме человека на каждую человеческую клетку приходится десять микробных, так что можно сказать, что мы – не более чем погрешности в своем собственном теле. Однако отношение 10 к 1, упоминаемое в книгах, журналах, конференциях TED и практически в каждом научном обзоре на эту тему, на самом деле не более чем грубая прикидка, основанная на крайне неточных подсчетах, которую, к сожалению, многие приняли за факт[12]. По последним подсчетам, наших собственных клеток в нашем организме около 30 триллионов, а клеток микробов примерно 39 триллионов – почти поровну. Эти результаты тоже не отличаются точностью, да оно и неважно: мы в любом случае вмещаем множества.
Если мы рассмотрим свою кожу под увеличением, мы увидим их: круглые бусинки, упитанные палочки и хвостатые фасолинки, каждая размером в несколько миллионных метра. Они настолько малы, что, несмотря на их количество, все вместе они весят всего пару килограммов. Дюжина этих ребят или даже больше смогли бы удобно уложиться по ширине человеческого волоса. Миллион смог бы устроить вечеринку на булавочной головке.
У большинства из нас нет доступа к микроскопу, так что мало кому удастся рассмотреть этих крох напрямую. Все, что мы замечаем, – это последствия их деятельности, причем обычно плохие. Мы чувствуем, как болит воспаленный кишечник, и слышим, как кто-то чихает в двух шагах от нас. Увидеть бактерию Mycobacterium tuberculosis невооруженным глазом у нас не получится, а вот кровь в слюне больного туберкулезом – вполне. Yersinia persis, другую бактерию, мы тоже не заметим, но проглядеть вызванную ей эпидемию чумы сложно. Это болезнетворные микробы, так называемые патогены. За всю историю человечества они нанесли нам немало ущерба и, несомненно, оставили свой культурный след. Многие из нас до сих пор считают микробов вредными разносчиками болезней, от которых нужно держаться подальше. В желтой прессе частенько попадаются страшилки, рассказывающие о том, что предметы повседневного пользования, такие как клавиатуры, мобильные телефоны и дверные ручки, оказывается – ужас-то какой! – кишат бактериями. Даже в большей степени, чем сиденье унитаза! Подобные рассказы намекают на то, что микробы – это плохо и что их присутствие указывает на грязь, запущенность и выглядывающие из-за угла болезни. По отношению к микробам это очень несправедливо. Большинство из них патогенами не являются. Они не становятся причиной заболеваний. Существует менее сотни видов болезнетворных бактерий, опасных для человека[13], вместе с тем в нашем кишечнике живут тысячи видов, и почти все безобидны. В худшем случае они – пассажиры, автостопом путешествующие по организмам, в лучшем же – неотъемлемая часть наших тел, охраняющая их от напастей. Их нельзя увидеть, но они не менее важны, чем желудок или глаза. Это своеобразный орган, состоящий из миллиардов клеток, только они не образуют единое скопление, как принято у нормальных органов, а копошатся отдельно друг от друга.
Микробиом гораздо более изменчив, чем любая из известных нам частей нашего тела. Ваши клетки содержат от 20 до 25 тысяч генов, а клетки микробов в вашем теле – в 500 раз больше[14]. Благодаря своему генетическому разнообразию вкупе с высокой скоростью развития они способны приспособиться к любым трудностям. Они помогают нам переваривать пищу, высвобождая питательные вещества, к которым у нас иначе не было бы доступа. Они производят витамины и минеральные вещества, не поступающие в организм с пищей. Они расщепляют токсины и опасные химические вещества. Они защищают нас от болезней, вытесняя более опасных микробов или сразу убивая их антибиотиками. Они производят вещества, влияющие на то, как мы ощущаем запахи. Они появляются настолько неизбежно, что мы передали им контроль над подчас неожиданными аспектами нашей жизни. Они руководят развитием нашего тела, вырабатывая сигнальные молекулы, ответственные за рост наших органов. Они учат нашу иммунную систему отличать хороших микробов от плохих. Они непосредственно влияют на развитие нашей нервной системы и, возможно, даже на наше поведение. Их влияние на нашу жизнь огромно, они нашли себе работу в каждом уголке нашего организма. Игнорировать их – значит смотреть на свою жизнь в замочную скважину.
Данная книга призвана эту дверь раскрыть. Мы займемся исследованием невообразимой вселенной, существующей в нашем собственном теле. Мы узнаем, откуда берет начало наш союз с микроорганизмами, как они придают форму нашему телу и нашей жизни и каким образом мы не позволяем им выходить за рамки дозволенного и поддерживаем с ними мир. Мы взглянем со стороны на то, как, сами того не осознавая, разрушаем этот мир и тем самым подвергаем свое здоровье опасности. Мы узнаем, как подойти к этим проблемам с другой стороны и использовать микробиом в собственных интересах. А еще мы услышим рассказы веселых ученых-энтузиастов с отличным воображением, посвятивших свою жизнь тому, чтобы разобраться в микроскопическом мире, несмотря на частые насмешки, отказы и неудачи.
Впрочем, нас интересуют не только люди[15]. Мы узнаем, как микробы поделились с животными необыкновенными способностями, новыми возможностями развития и даже собственными генами. Возьмем удодов, к примеру: эти птички, в профиль смахивающие на кирку, а окрасом напоминающие тигра, смазывают отложенные яйца секретом копчиковой железы, содержащим большое количество бактерий. Эти бактерии вырабатывают антибиотики, которые не позволяют вредным микробам попасть в яйца и причинить птенцам вред. Муравьи-листорезы специально возят на себе микробов, производящих антибиотики, – они обеззараживают грибы, которые муравьи выращивают у себя на подземных плантациях. Иглобрюх с помощью бактерий вырабатывает тетродотоксин – мощнейший яд, способный поразить любого хищника, решившего этой рыбой полакомиться. В слюне всем нам известного колорадского жука содержатся бактерии, подавляющие защитные механизмы растений. Рыбы сифамии из семейства кардиналовых приютили у себя на теле светящихся бактерий, которые привлекают добычу. Муравьиные львы, хищные насекомые с грозными челюстями, парализуют своих жертв токсинами, которые вырабатываются бактериями в их слюне. Некоторые круглые черви умерщвляют насекомых, извергая в их тела рвотные массы с токсичными светящимися бактериями[16], а другие благодаря украденным у микробов генам пробираются прямо в клетки растений, что приводит к значительным убыткам в сельском хозяйстве.
Союзы с микробами не раз меняли курс эволюции животных и приводили к изменениям в окружающем нас мире. Понять, насколько такие партнерства важны, будет проще всего, если мы узнаем, что случится, если их разрушить. Представьте, что все микробы на Земле взяли и исчезли. С одной стороны, конечно, инфекционные болезни канут в небытие, а многие насекомые-вредители не смогут питаться своей привычной пищей, но на этом хорошие вести заканчиваются. Травоядные млекопитающие – коровы, овцы, антилопы, олени – вымрут от голода, ведь для расщепления грубой клетчатки, содержащейся в растениях, им без микробов не обойтись. Исчезнут стада, обитающие на пастбищах Африки. Термиты при пищеварении тоже полагаются на помощь микробов, так что и они исчезнут – а заодно и животные покрупнее, которые питаются термитами или используют термитники в качестве убежищ. Тли, цикады и другие букашки, питающиеся соком растений, тоже вымрут без бактерий, которые производят питательные вещества, отсутствующие в соке. Многие черви, моллюски и другие животные из тех, что проживают на дне океана, получают энергию именно благодаря бактериям. Без микробов вымрут и они, и тогда будут разрушены пищевые сети темных, неизведанных глубин. В местах, где помельче, ситуация будет обстоять почти так же. Кораллы, полагающиеся на микроскопические водоросли и на множество разнообразных бактерий, ослабнут и станут крайне уязвимы. Богатыри-рифы поблекнут и начнут постепенно разрушаться, отчего пострадает все живое рядом с ними.
А вот люди, как ни странно, переживут. В отличие от других животных, для которых стерильность означает быструю гибель, мы протянем недели, месяцы, даже годы. Наше здоровье в конце концов ухудшится, но поначалу нам будет не до того. Количество отходов начнет быстро расти, ведь разлагают их именно микробы. Вместе с остальными травоядными млекопитающими вымрет домашний скот. Об урожае тоже можно будет забыть: микробы вырабатывают необходимый растениям азот, а без него они исчезнут. (В этой книге будут рассматриваться только животные – примите мои глубочайшие извинения, любители ботаники.) «Думаем, что в течение года общество ждет полный коллапс, ведь пищевая цепочка катастрофически нарушится, – написали микробиологи Джек Гилберт и Джош Нойфельд, тщательно обдумав этот гипотетический сценарий[17]. – Большая часть видов на Земле вымрет, а численность тех, что выживут, значительно сократится».
Микробы важны. Мы их игнорировали. Мы боялись их и ненавидели. Настало время оценить их по достоинству, ведь, если этого не сделать, мы не сможем понять собственное тело. В этой книге я покажу вам, как на самом деле выглядит царство животных и насколько более удивительным оно начинает казаться, если рассматривать его как мир непрерывного сотрудничества, коим оно в действительности является. Это рассказ об истории природы, который расширит уже имеющиеся знания о ней, полученные от величайших исследователей прошлого.
В марте 1854 года британец Альфред Рассел Уоллес, разменяв четвертый десяток, отправился в грандиозный круиз по островам Малайзии и Индонезии[18]. За восемь лет он повстречал на своем пути огненно-рыжих орангутанов, кенгуру, скачущих вокруг деревьев, великолепных райских птиц, огромных бабочек-птицекрылок, свиней-бабирусс, чьи бивни прорастают сквозь рыло, и даже лягушку, планирующую от дерева к дереву на лапах-парапланчиках. Все эти потрясающие существа попали в коллекцию Уоллеса, состоящую из более 125 тысяч экспонатов, – там и ракушки, и растения, и тысячи различных насекомых на булавках, а еще шкуры и чучела птиц и млекопитающих. В отличие от других коллекционеров Уоллес присвоил каждому экспонату бирку с указанием, где именно был собран тот или иной образец.
Место поимки было крайне важно. Благодаря этим деталям Уоллес смог выявить закономерности. Он заметил, например, что в определенных местах животные отличаются значительным разнообразием, даже в пределах своего же вида. Выяснил, что на некоторых островах обитают уникальные виды животных. А во время путешествия от Бали до Ломбока – между ними всего 35 километров – он отметил, что животный мир Азии резко сменялся совсем не похожей на него фауной Австралазии, словно эти два острова были разделены невидимым барьером (позже его назовут линией Уоллеса). Нынче Уоллеса вполне заслуженно называют отцом биогеографии – науки о распространении разных видов на нашей планете. Однако, как утверждает Дэвид Куаммен в своей книге «Песнь додо», «биогеография в руках осмотрительных ученых отвечает не только на вопросы, какой это вид и где он обитает, но и почему. И что иногда еще более важно – почему нет»[19].
Изучение микробиомов начинается точно так же: первым делом нужно перечислить микробиомы разных животных или разных участков тела на одном животном. Где какие виды обитают? Почему? И почему не обитают там, где не обитают? Перед тем как заняться исследованием их влияния на организм, нужно обратиться к их биогеографии. Исследования Уоллеса и его коллекция позволили ему сформулировать самый важный постулат биологии: виды изменчивы. «Возникновение каждого вида совпадает в пространстве и во времени с уже существующим близкородственным видом», – писал он много раз, иногда курсивом[20]. Животные постоянно соревнуются между собой, а сильнейшие из них выживают и размножаются, передавая свои преимущества своему потомству. Иными словами, они эволюционируют путем естественного отбора. Это стало самым важным озарением за всю историю науки, а ведь началось все с неутомимого желания узнать больше об окружающем мире и исследовать его, а также со склонности подмечать, кто где живет.
Кроме Уоллеса по миру в поисках сокровищ природы скитались и многие другие натуралисты. Чарлз Дарвин совершил кругосветное путешествие на борту корабля «Бигль»: за пять лет он обнаружил окаменевшие кости гигантских ленивцев и броненосцев в Аргентине, встретил гигантских черепах, морских игуан и разнообразных пересмешников с Галапагосских островов. Его приключения и коллекции заронили интеллектуальные семена той же идеи, что дала ростки и в мыслях Уоллеса, – теории эволюции, которая позднее станет неразрывно связана с именем Дарвина. Томас Генри Гексли, которого окрестили «бульдогом Дарвина» за активную пропаганду идеи естественного отбора, побывал в Австралии и Новой Гвинее, где изучал морских беспозвоночных. Ботаник Джозеф Хукер добрался аж до Антарктиды, по пути собирая образцы растений. А уже совсем недавно Эдвард Осборн Уилсон, закончив изучать муравьев Меланезии, написал учебное пособие по биогеографии.
Многие считают, что эти знаменитые ученые обращали внимание лишь на видимый мир животных и растений, игнорируя скрытый мир микробов. Это не совсем так. Дарвин, несомненно, пополнил свою коллекцию микробами, попавшими на палубу «Бигля», – он их называл инфузориями[21]. Также он вел переписку с ведущими микробиологами[22]. С оборудованием того времени у него попросту не было возможности углубиться в эту тему.
А вот современные ученые способны собирать образцы микроорганизмов, разделять их на части, извлекать ДНК и распознавать их путем секвенирования генов. Таким образом, они делают все то же самое, что и Дарвин с Уоллесом в свое время. Они собирают образцы в разных местах, опознают и задают главный вопрос: что где живет? Они тоже занимаются биогеографией, только в другом масштабе. На смену размахиванию сачком для бабочек приходят аккуратные мазки ватной палочкой. Прочесть данные генома – все равно что пролистать определитель. А день, проведенный в зоопарке, можно сравнить с путешествием на «Бигле» – он шел от острова к острову, а микробиологи переходят от вольера к вольеру.
Дарвин, Уоллес и их коллеги относились к островам с особым любопытством. Оно и понятно – ведь самые причудливые и прекрасные формы жизни встречаются именно там. Благодаря изоляции островов от окружающей природы и их ограниченным размерам эволюция там может разгуляться на всю катушку. Принципы, по которым работает биология, там проявляются куда четче, чем на обширном материке по соседству. Но остров – это не только окруженный водой участок суши. Для микробов любой организм-хозяин является островом – целым миром, вокруг которого пустота. Рука, которой я глажу Бабу в зоопарке Сан-Диего, – это плот, на котором микроскопические обитатели острова-человека переезжают на остров-панголин. Взрослый человек, слегший с холерой, – словно остров Гуам, захваченный завезенными туда змеями. Человек – не остров? А вот и неправда: для бактерий мы все – острова[23].
Каждый из нас обладает своим собственным уникальным микробиомом. Его формируют унаследованные нами гены, принятые лекарства, рукопожатия, возраст, а также то, где мы жили и что мы ели. В плане микробов мы очень похожи, но при этом такие разные. Когда микробиологи только занялись составлением полного списка человеческих микробов, они планировали открыть некую основу микробиома – группу видов, обитающих в организме каждого. Сейчас сам факт существования такой основы является спорным[24]. Некоторые виды встречаются часто, но не везде. Если основа и есть, то на уровне функций, а не организмов. Есть определенные задачи, например, переварить некие питательные вещества или исполнить какой-нибудь особый метаболический трюк, и выполняют их всегда микробы – вот только не одни и те же. Эту же тенденцию можно наблюдать и в мире животных. Птицы киви в Новой Зеландии роются в мусоре в поисках червей, а в Англии этим занимаются барсуки. Тигры и дымчатые леопарды – гроза лесов на Суматре, тем временем на Мадагаскаре, где кошачьи не водятся, ту же роль выполняют фоссы, млекопитающие из семейства мадагаскарских виверр, а на Комодо главным хищником в пищевой цепочке является огромный варан. Одни и те же задачи выполняются разными видами на разных островах. Острова эти могут представлять из себя как участки суши, так и разных людей.
На самом деле человек скорее напоминает архипелаг – цепочку островов. На каждом отдельном острове Галапагосов обитают свои разновидности вьюрков и черепах, а на каждой части нашего тела – своя микробная фауна. На коже микробиом по большей части состоит из бактерий Propionibacterium, Corynebacterium и Staphylococcus; Bacteroides правят в кишечнике, Lactobacillus – во влагалище, а Streptococcus – в полости рта. В самих органах бактерии тоже неоднородны. Микроорганизмы, обитающие в начале тонкой кишки, отличаются от тех, что проживают в прямой кишке. Над десневым краем и под ним живут разные микробы. Жирные участки на лице и груди заселили одни микробы, жаркие и влажные заросли в области паха и под мышками – другие, а третьи захватили сухие пустыни на предплечьях и ладонях. Кстати, о ладонях: население вашей правой ладони всего на одну шестую совпадает с населением левой[25]. Разница между частями тела в этом плане во много раз превосходит разницу между людьми. Проще говоря, бактерии у вас на предплечье больше напоминают бактерий на моем предплечье, чем у вас же во рту.
Микробиом меняется не только территориально, но и со временем. Когда ребенок при рождении покидает идеально чистый мир маминого живота, его тело сразу заселяют вагинальные микробы матери. Почти три четверти штаммов микроорганизмов новорожденного совпадают с материнскими. Затем начинается экспансия. Ребенок получает новые виды бактерий от родителей и окружающего мира, и микробиом его кишечника постепенно становится все разнообразнее[26]. Главенствующие в кишечнике виды сменяют друг друга, ведь рацион младенца меняется: на смену Bifidobacterium, специализирующимся на переваривании молочных продуктов, приходят Bacteroides, любители углеводов. Вместе с микробами меняется и их поведение. Они начинают производить разнообразные витамины и подготавливают кишечник к перевариванию взрослой пищи.
Это очень бурный период, но его этапы вполне предсказуемы. Представьте, что будет происходить в лесу после пожара или на новорожденном острове, только что высунувшемся из океана на поверхность. И там, и там вскоре появятся самые незамысловатые обитатели – мхи и лишайники. За ними подтянутся трава и мелкие кустарники, а потом и деревья. Экологи называют этот процесс сукцессией, или сменой сообществ, и к микробам данное понятие тоже применимо. Микробиому новорожденного требуется от одного до трех лет, чтобы достичь зрелого состояния, а потом наступает стабильность. Да, микробиом меняется изо дня в день, от рассвета до заката, даже от обеда к ужину, но эти изменения ничтожны по сравнению с теми, что произошли в первые годы жизни. Микробиом взрослого человека динамичен, но лишь на фоне общей стабильности[27].
У разных животных смена микробных сообществ происходит по-разному, потому что мы – довольно привередливые хозяева. Колонизировать нас дано не любым микробам, а тем, что дано, мы можем сами подбирать товарищей. Как именно это делается, мы узнаем чуть позже, а пока будем иметь в виду, что микробиом человека отличается от микробиома шимпанзе, который отличается от микробиома гориллы, – примерно как леса Борнео с орангутанами, карликовыми слонами и гиббонами не похожи на леса Мадагаскара с лемурами, фоссами и хамелеонами, а те, в свою очередь, на леса Новой Гвинеи с райскими птицами, валлаби и казуарами. Мы знаем об этом благодаря ученым, которые прошлись ватной палочкой по всему животному миру. Они описали микробиомы панд, валлаби, комодских варанов, дельфинов, лори, дождевых червей, пиявок, шмелей, цикад, погонофор, тлей, белых медведей, дюгоней, питонов, аллигаторов, мух цеце, пингвинов, попугаев какапо, устриц, капибар, летучих мышей, морских игуан, кукушек, индеек, грифов-индеек, павианов, палочников и многих других животных. Они секвенировали микробиомы новорожденных, недоношенных, детей постарше, взрослых, пожилых, беременных женщин, близнецов, жителей крупных городов США и Китая, деревенских жителей из Буркина-Фасо и Малави, охотников и собирателей из Камеруна и Танзании, никогда прежде не контактировавших с цивилизованным миром представителей амазонских племен, стройных и полных людей, а также здоровых и больных.
Подобные исследования сейчас набирают обороты. Микробиология существует уже не один век, но в последние несколько десятилетий она кардинально ускорила шаг благодаря развитию технологий и осознанию того, что микробы, оказывается, имеют значение – особенно в плане здоровья. Ведь именно они отвечают за то, как наш организм воспринимает прививки, сколько энергии дети получают из пищи и в какой степени рак у больных поддается лечению. Многие болезни, в том числе ожирение, астма, рак толстой кишки, диабет и аутизм, сопровождаются изменениями в микробиоме, а значит, можно предположить, что эти микробы как минимум служат признаком болезни, а как максимум – ее причиной. Если причиной, то, возможно, нам удастся существенно укрепить здоровье, внеся определенные изменения в свои сообщества микроорганизмов – можно добавлять и уничтожать различные виды, пересаживать целые сообщества из организма одного человека в организм другого и даже создавать искусственные микроорганизмы. Можно даже управлять микробиомами других животных – разрушать партнерства, позволяющие червям-паразитам заражать нас жуткими тропическими болезнями, и создавать новые симбиозы, позволяющие кровососущим насекомым самим бороться с вирусом, вызывающим лихорадку денге.
Микробиология – быстро меняющаяся область науки, которая до сих пор укрыта завесой неизвестности, непостижимости и разногласий. Мы не можем даже идентифицировать многих микробов в собственном теле, а выяснить, как они влияют на нашу жизнь и здоровье, – тем более. Но ведь это так увлекательно! Быть на волне и предвкушать то, что впереди, куда круче, чем оказаться прибитым к берегу. Сейчас на этой волне сотни ученых. Микробиологию активно финансируют. Во много раз увеличилось количество значимых исследований. Микробы всегда правили нашей планетой, и теперь наконец-то они вошли в моду. «Раньше микробиология была никому не известной наукой, а сейчас вышла в первые ряды, – улыбается биолог Маргарет Макфолл-Най. – Забавно наблюдать, как все вокруг осознают, насколько важны микробы, и как процветает эта отрасль. Теперь мы знаем, что микробы составляют огромную и разнообразную часть биосферы, что они живут в непосредственной близости к животным и имеют большое влияние на их природу. Как по мне, так это самый крутой переворот в биологии со времен Дарвина».
Критики утверждают, что микробиом не заслужил такой популярности и большинство исследований в этой области представляют не большую ценность, чем коллекционирование марок. Мы знаем, какие микробы живут на морде панголина, а какие – в кишечнике человека, и что с того? Это дает ответы на вопросы «что?» и «где?», но не «как?» и «почему?». Почему на одних животных некоторые микробы живут, а на других – нет? Или почему у некоторых особей они есть, а у большинства их нет? Почему микробы живут лишь на определенных частях тела, а не на всех? Почему мы наблюдаем то распределение, которое наблюдаем, и как оно возникает? Как микробы попадают в хозяина и как они там остаются? Как микробы и хозяева меняют друг друга, заключив союз? И как они себя ведут, когда этот союз разрушается?
В конечном итоге именно на эти вопросы микробиология и пытается ответить. В этой книге я расскажу вам, как мы продвинулись в поисках ответов, какие перспективы заложены в изучении микробиома и управлении им и что нам придется сделать, чтобы их достичь. Пока что будем иметь в виду, что ответить на эти вопросы можно, лишь шаг за шагом собирая данные, так же как Дарвин и Уоллес в свое время. «Коллекционирование марок» необходимо. «Дневник Дарвина тоже всего лишь описывал его путешествия и рассказывал о красочных животных и живописных местах, о теории эволюции там не было ни слова, – писал Дэвид Куаммен[28]. – Теория появилась после». Сначала был долгий и упорный труд. Систематизация. Составление описаний. Сбор материала. «Если материки еще не исследованы, перед тем как выяснять, почему все расположено так, а не иначе, нужно выяснить, как именно оно расположено», – замечает Роб Найт.
Ради исследования Найт и отправился в зоопарк Сан-Диего. Он решил взять мазки с морд и шкур различных млекопитающих, чтобы описать их микробиомы и химические вещества – метаболиты, которые микробы производят. Эти вещества формируют среду, в которой живут и развиваются микробы, а также служат индикатором не только самого факта их существования, но и того, какие задачи эти микробы выполняют. Наблюдение за метаболитами смахивает на опись произведений искусства, пищевых продуктов, изобретений и поставок в городе вместо обычной переписи населения. Недавно Найт попытался заняться описанием метаболитов на лице человека, но выяснил, что косметические средства – солнцезащитные средства и кремы для лица – заглушают естественные метаболиты, выделяемые микробами[29]. Что делать? Взять мазки у животных, конечно! Панголин Баба, в конце концов, увлажняющим кремом не пользуется. «Надеюсь, удастся еще добыть мазки из полости рта, – делится планами Найт. – И вагинальные тоже». Я удивленно поднимаю бровь. «В рамках программ по разведению гепардов и панд тут установлены морозилки, и они набиты мазками из влагалищ», – уверяет меня он.
Работник зоопарка провожает нас к колонии голых землекопов – грызунов, бегающих по соединенным между собой пластмассовым трубам. Красотой природа их явно обделила – они смахивают на зубастые морщинистые сардельки. А еще они очень странные: нечувствительны к боли, невосприимчивы к раку, очень долго живут, почти не умеют контролировать температуру тела, а сперма у них крайне низкого качества. Они живут колониями, как муравьи, с королевой и рабочими. Еще они норные, что делает их особенно интересными для Найта. Он совсем недавно получил грант на исследование микробиомов животных с одинаковыми чертами и образом жизни: живущих в норах, летающих, водных, умеющих приспосабливаться к высоким или низким температурам и даже разумных. «Пока что это лишь предположение, но, возможно, у микробов имеются преадаптации, благодаря которым хозяйский организм получает необходимую для всего этого энергию», – делится он. Нельзя сказать, что это предположение неправдоподобно. Микробы открыли для животных множество возможностей. Благодаря им многие животные смогли вести необычный образ жизни, который иначе был бы для них недоступен. А если у животных схожие привычки, то и микробиомы часто оказываются похожи друг на друга. К примеру, Найт и его коллеги однажды выяснили, что в кишечнике у всех млекопитающих, питающихся муравьями или термитами (панголинов, броненосцев, муравьедов, трубкозубов, земляных волков), обитают похожие сообщества кишечных микробов, хотя они развивались независимо друг от друга на протяжении вот уже ста миллионов лет[30].
Мы проходим мимо колонии сурикатов – некоторые, почуяв чужаков, встают на задние лапы, остальные продолжают играть. Найту нужно снять мазок у самки, но единственная подходящая для этого самка – матриарх колонии – уже стара, и у нее больное сердце. У сурикатов это часто встречается. Иногда они нападают на детенышей других сурикатов или покидают собственных. Когда такое случается, работники зоопарка вмешиваются и вскармливают детенышей вручную. Они выживают, но смотритель говорит, что в старости у них начинаются проблемы с сердцем по неизвестным причинам. «Интересно, – говорит Найт. – А вы что-нибудь знаете о молоке сурикатов?» Он спрашивает потому, что молоко млекопитающих содержит специальные сахара – младенцы не могут их переварить, а некоторые микробы могут. Когда женщина вскармливает ребенка грудью, она его не только кормит, но и заботится о том, чтобы в его кишечнике поселились «правильные» микробы. Найт задается вопросом: а у сурикатов так же? Возможно, брошенные детеныши начинают жить не с теми микробами в кишечнике из-за того, что не имеют возможности питаться молоком матери? Влияет ли этот недостаток на их здоровье в будущем?
Найт работает и над другими проектами, направленными на улучшение здоровья обитателей зоопарка. Мы проходим мимо вольера гривистых тонкотелов – это такие симпатичные мартышки с отливающей оловом шерстью и торчащим во все стороны пушком на морде, – и он рассказывает, что пытается выяснить, почему одни виды обезьян в неволе часто заболевают колитом (воспалением толстой кишки), а другие – нет. Есть все основания полагать, что тут замешаны микробы. В кишечнике человека при воспалительном заболевании, как правило, возникает избыток провоцирующих иммунную систему бактерий, а вот тех, что ее усмиряют, как раз не хватает. Подобное проявляется и при других заболеваниях, таких как ожирение, диабет, астма, аллергия и рак толстой кишки. Считается, что эти заболевания имеют экологический характер – по отдельности микробы ни при чем, дело во всем сообществе сразу. Это значит, что в симбиозе что-то пошло не так. И если причиной заболеваний действительно становятся нарушения в микробиоме, грамотное управление сообществом микробов поможет их вылечить. Даже если изменения в микробных сообществах – результат болезни, а не причина, благодаря им можно будет поставить диагноз до проявления видимых симптомов заболевания. Потому Найт и исследует обезьян, сравнивая здоровых и болеющих колитом представителей разных видов, – он хочет выяснить, существуют ли признаки, по которым смотрители зоопарка смогут определить, что не проявляющее никаких симптомов животное заболело. Подобные исследования могут помочь нам понять, что меняется в микробиоме людей – или собак – с воспалительными заболеваниями кишечника.
И вот наконец мы заходим в скрытое от посторонних глаз помещение, куда временно поместили нескольких животных. В одном вольере мы видим огромный силуэт покрытого черным мехом существа длиной около метра – по очертаниям что-то вроде ласки, только выражение морды как у медведя. Это бинтуронг – один из самых крупных и лохматых представителей семейства виверровых. Джеральд Даррелл описал его как «небрежно сотканный коврик». По словам смотрителя, снять мазки с морды и лап нам не составит труда, но нас-то интересует кое-что подальше. У бинтуронгов с обеих сторон анального отверстия находятся пахучие железы – запах, которые они выделяют, чем-то напоминает попкорн. Скорее всего, такой аромат получается именно благодаря бактериям. Ученые уже описали микробные запахи, выделяемые пахучими железами барсуков, слонов, сурикатов и гиен. Бинтуронг, ты следующий!
«А мазок с заднего прохода можно будет снять?» – интересуюсь я.
Смотритель медленно переводит взгляд на устрашающего зверя в вольере, а затем обратно на нас. «Н-не думаю…»
Если взглянуть на животный мир, учитывая при этом микроорганизмы, даже самые привычные сферы жизни становятся удивительными. Там, где гиена трется об траву пахучими железами, микробы записывают ее автобиографию, которую смогут прочесть другие гиены. Мама-сурикатиха, выкармливая детенышей молоком, строит в их кишечниках целые миры. Броненосец, набивая брюхо муравьями, кормит триллионы бактерий, которые, в свою очередь, обеспечивают его организм энергией. Когда мартышка или человек заболевают, их организмы становятся схожи с затянутым тиной озером или заросшим сорняками полем – в экосистеме что-то пошло не так. Наши жизни находятся под контролем внешних сил, которые на самом деле у нас внутри. Они зависят от миллиардов существ, которые живут сами по себе и в то же время являются частью нас. Запахи, здоровье, пищеварение, рост и развитие, а также десятки других вещей, которые обычно приписывают отдельным особям, – это на самом деле результат сложной совместной работы организма-хозяина и микробов.
Какое же определение мы дадим слову «особь», зная все это[31]? Если дать определение с анатомической точки зрения и сказать, что особь – это обладатель определенного тела, придется вспомнить, что микробы живут в том же теле, что и мы. Можно попробовать подойти к этому вопросу с точки зрения развития плода, тогда особь – это существо, выросшее из одной оплодотворенной яйцеклетки. Но это тоже не подойдет: организмы некоторых животных, среди которых мыши и рыбки данио-рерио, строятся по инструкциям, заложенным как в их генах, так и в их микробах. Они не смогут нормально развиваться в стерильной среде. Можно прибегнуть к определению с точки зрения физиологии – особь состоит из частей (органов и тканей), которые взаимодействуют на благо всему организму. Но как же насекомые, получающие необходимые питательные вещества благодаря совместной работе как собственных ферментов, так и бактериальных? Микробы – это часть целого, причем неотъемлемая. Генетическое определение, по которому особь состоит из клеток с одинаковым геномом, сталкивается с той же проблемой.
В любом животном есть как его собственный геном, так и множество микробных, которые влияют на его жизнь и развитие. Иногда гены микробов внедряются в геномы хозяев и так там и остаются. Имеет ли смысл рассматривать их как разные сущности? Вариантов остается все меньше – может, попробовать свалить все на иммунную систему? Ведь считается, что она существует именно для того, чтобы отличать клетки нашего организма от чужеродных, не путать себя и не себя. Только вот и это не совсем так: живущие в нас микробы, как мы увидим позже, участвуют в построении иммунной системы, а она взамен учится их не обижать. Как бы мы к этому вопросу ни подходили, ясно одно: микробы переворачивают само понятие индивидуальности с ног на голову. Они же ее и формируют. В целом ваш геном почти такой же, как мой, а вот микробиомы у нас могут быть совершенно разными (а виромы – тем более). Можно сказать, что я не вмещаю множества – я и есть множества.
Подобные мысли могут запросто сбить с толку. Независимость, самосознание и свобода воли играют в нашей жизни важнейшую роль. Как однажды заметил первопроходец мира микробиомов Дэвид Релман, «потеря чувства самосознания, связанные с ним иллюзии и ощущение контроля со стороны» являются потенциальными признаками психического расстройства[32]. «Неудивительно, что последние исследования симбиотических отношений породили значительный интерес к этой теме, – писал он, но также добавлял: – [Подобные исследования] подчеркивают всю прелесть биологии. Мы, будучи существами социальными, пытаемся понять, как мы связаны с другими существами. Симбиоз – это непревзойденный пример того, как сотрудничество приводит к успеху и какие преимущества нам дают близкие отношения».
И я с ним согласен. Симбиоз указывает нам на ниточки, которыми соединено все живое на Земле. Каким образом у таких разных организмов, как люди и бактерии, получается сосуществовать и сотрудничать друг с другом? Все дело в том, что мы происходим от одних предков. Мы все храним информацию о себе в ДНК и пользуемся одним и тем же кодом, а в качестве энергетической валюты у нас у всех аденозинтрифосфат. Представьте себе обычный сэндвич: каждый ингредиент – от помидоров и листьев салата до свинки, предоставившей для сэндвича бекон, от дрожжей, на которых испекли булочку, до микробов, которые наверняка на ней сидят, – говорит на одном и том же молекулярном языке. Как сказал Алберт Ян Клюйвер, нидерландский биолог: «Что слон, что маслянокислая бактерия – все одно!»
Стоит лишь понять, насколько мы похожи и как сильно между собой связаны, – и наше восприятие мира станет во много раз ярче. Мое, например, уже стало. Я с детства обожаю природу. Дома у меня полно документальных фильмов и книг, из которых так и просятся наружу сурикаты, пауки, хамелеоны, медузы и динозавры. Однако о микробах и их влиянии на жизнь хозяев там ни слова, а значит, они несовершенны – как картины без рам, торты без вишенок или Леннон без Маккартни. Теперь я знаю, что жизни всех описанных там созданий во многом зависят от невидимых существ, с которыми они сосуществуют, сами того не подозревая, которым они частично или полностью обязаны своими способностями и которые обитают на нашей планете гораздо дольше их самих. Ошеломляющая перемена взгляда на мир, и какая важная!
Когда меня впервые взяли в зоопарк, я был слишком мал, чтобы что-нибудь запомнить (и чтобы знать, что в вольер к слоновым черепахам лучше не лазить). Сейчас я нахожусь в зоопарке Сан-Диего с Найтом (и Бабой), и теперь все иначе. Здесь царит буйство красок и шума, но я понимаю, что большую часть живого здесь нельзя увидеть и услышать. Здесь одни сосуды с микробами платят за то, чтобы взглянуть на другие сосуды с микробами, обитающие в вольерах и клетках. По птичникам, спрятавшись в оперенные посудины, летают триллионы микробов. Еще триллионы раскачиваются на ветвях деревьев и шныряют по вырытым в земле тоннелям. Кучка бактерий, живущая в небрежно сотканном черном коврике, наполняет воздух вокруг себя стойким ароматом попкорна. Именно так и выглядит окружающий нас мир, и, хоть невооруженным глазом его не разглядеть, я его наконец-то вижу.
Глава 2. Те, что решили взглянуть
Бактерии повсюду – хотя с точки зрения наших глаз их вообще нигде нет. Исключения, конечно, есть, но их крайне мало: бактерия Epulopiscium fishelsoni, обитающая только в пищеварительном тракте коричневого хирурга (это такая рыба), бывает размером вот с эту точку. Остальных невооруженным глазом не разглядеть, а значит, очень долго бактерии оставались невидимками. Обратившись к нашему воображаемому календарю, сжавшему историю Земли до одного года, мы увидим, что бактерии появились на планете в середине марта. На протяжении всей эпохи правления микроорганизмов об их существовании никто даже не подозревал. Из безвестности они вышли лишь за несколько секунд до конца года, когда один любознательный натуралист из Нидерландов зачем-то решил рассмотреть каплю воды через самодельные линзы непревзойденного на тот момент качества.
Антони ван Левенгук родился в 1632 году в суетливом городке Делфте, центре международной торговли, насквозь пронизанном каналами, аллеями и каменными мостовыми[33]. Днем он управлял небольшой галантерейной лавкой, а ночью делал линзы. Место и время были как раз подходящими: совсем недавно голландцы изобрели телескоп и составной микроскоп. Благодаря небольшим стеклянным кружочкам ученые получили возможность разглядывать то, что из-за расстояния или размера нельзя было увидеть невооруженным глазом. Одним из этих ученых был Роберт Гук, энциклопедист из Англии. Что он только не рассмотрел – и блох, и вшей, и острия игл, и павлиньи перья, и семена мака. В 1665 году результаты его наблюдений были опубликованы в книге под названием «Микрография», куда Гук также включил множество великолепных, подробных иллюстраций. В Британии книга сразу стала хитом продаж. Штучки маленькие – популярность огромная.
Левенгук, в отличие от Гука, не получал высшего образования, не был квалифицированным ученым, не знал латыни и говорил только на нидерландском языке. Это не помешало ему методом проб и ошибок научиться делать линзы, равных которым не было нигде. Точный процесс создания линз неизвестен, но выглядело это приблизительно так. Сначала он шлифовал стеклянный шарик до такой степени, что тот превращался в гладкую, идеально симметричную линзу диаметром меньше двух миллиметров. Ее он вставлял между двумя латунными прямоугольными брусками. Затем с помощью крошечной булавки он прикреплял перед линзой то, что хотел рассмотреть, и закреплял это парой винтиков. Полученный в результате микроскоп напоминал скорее витиеватую дверную петлю, да и вообще мало чем отличался от обычной настраиваемой лупы. Левенгуку приходилось держать его так, что тот почти касался его лица, и вглядываться в крохотную линзу при ярком свете солнца. Для глаз эти модели с одной линзой были утомительнее, чем оптические микроскопы с несколькими линзами, которые изготавливал Гук. Зато они давали более четкое изображение при большем увеличении. Приборы Гука увеличивали предметы в 20–50 раз, а линзы Левенгука – до 270 раз. В те времена его микроскопы однозначно были лучшими на Земле.
Однако, как замечает Алма Смит Пэйн в биографии Левенгука, «он не только отлично делал микроскопы, но еще и прекрасно умел ими пользоваться». Он фиксировал все в подробностях, проводил повторные наблюдения и методические опыты. Хоть он и не был профессионалом, научный метод таился у него внутри, словно инстинкт, – как, кстати, и безграничное любопытство настоящего ученого. С помощью своих линз он рассматривал шерсть самых разных животных, мушиные головы, древесину, семена, мышцы кита, частички кожи и бычьи глаза. Он увидел множество чудес, а затем показал их друзьям, родственникам и делфтским ученым.
Один из этих ученых, врач Ренье де Грааф, был членом Королевского научного общества – высоко почитаемого союза ученых, недавно основанного в Лондоне. Он посоветовал своим коллегам связаться с Левенгуком, чьи микроскопы «во много раз превосходят те, что мы до сей поры видели». Генри Ольденбург, секретарь общества и редактор выпускаемого им журнала, последовал его совету и через некоторое время перевел и опубликовал несколько писем Левенгука. Написаны они были неформальным языком и обезоруживали своей беспорядочностью, зато автор с непревзойденной точностью и старанием описал красные кровяные тельца, ткани растений и пищеварительную систему вшей.
А затем Левенгук решил рассмотреть воду из озера Беркельсе Мер в окрестностях Делфта. Собрав стеклянной пипеткой немного мутной жидкости, он капнул ее под линзу микроскопа и увидел, что там кишмя кишат живые существа – «маленькие зеленые облачка» водорослей наряду с тысячами крошечных танцующих созданий[34]. «Микроскопические зверушки[35] двигались в воде так шустро, туда-сюда, вперед и взад – просто чудо расчудесное! – писал он. – И по-моему, некоторые из них были больше чем в тысячу раз мельче самых маленьких из тех, что я видел на корке сыра»[36]. Это были организмы из группы простейших, которая включает в себя амеб и других одноклеточных эукариот. Левенгук стал первым человеком, увидевшим их[37].
В 1675 году Левенгук решил взглянуть на воду, скопившуюся в горшке после дождя, и его взору снова открылся удивительный зверинец. На этот раз он увидел мельчайших созданий, извивающихся, словно змеи, а также овалы «с разными крохотными лапками» – это тоже были простейшие. Он увидел и еще более мелких существ, в тысячу раз меньше, чем глаз блохи, которые «вертелись с быстротой невероятной, будто юла». Да это же бактерии! Позже он рассмотрел воду, собранную в его кабинете, на крыше дома, в каналах Делфта, в море неподалеку и в колодце его сада – «анималькули» были везде. Жизнь, как выяснилось, существовала в немыслимых количествах за пределами восприятия – увидеть ее мог лишь один человек, и все благодаря превосходным линзам. Как позже писал историк Дуглас Андерсон, «никто прежде не видел почти ничего из того, что видел он». Кстати, а с чего он вообще решил посмотреть на воду в микроскоп? Что заставило его разглядывать капли дождя, скопившиеся в горшке? То же самое можно спросить о многих людях из истории микробиологии: они были теми, кто решил взглянуть.
В октябре 1676 года Левенгук поведал Королевскому обществу о своих открытиях[38]. Меньше всего его письма напоминали научные доклады академических журналов. В них было полно сплетен и жалоб на здоровье. Как заметил Андерсон, «человеку не помешал бы блог». В октябрьском письме, например, он рассказал о погоде в Делфте тем летом. Но и «анималькулей» он в нем описал на удивление подробно. Они были «невероятно мелкие, нет, настолько мелкие, что, по-моему, если сотню этих крошек выложить в ряд, они и до размера крупной песчинки не дотянут, а если это правда, то десять сотен тысяч этих созданий едва ли будут равны этой самой песчинке». (Позже он заметил, что песчинка в диаметре составляет около 1/80 дюйма, а значит, «эти крошки» в длину были около 3 микрометров. В среднем бактерии как раз такого размера. Этот человек был потрясающе точен в расчетах.)
Представьте, что кто-то заявил об открытии чудных, невидимых созданий, которых никто никогда прежде не видел. Вы ему поверите? Вот и Ольденбург засомневался, однако письмо Левенгука в 1677 году все же опубликовал. Ник Лейн назвал эту публикацию «выдающимся памятником непредвзятому научному скептицизму». Тем не менее Ольденбург приписал, что Общество хотело бы узнать детали работы Левенгука, чтобы его неожиданные наблюдения могли быть подтверждены и другими. Левенгук не пошел ему навстречу – его методы создания линз держались в тайне. Вместо того чтобы эту тайну раскрывать, он показал «анималькулей» местным нотариусу, адвокату, доктору и другим авторитетным господам, а те в свою очередь убедили Королевское общество, что Левенгук и вправду мог все это видеть. Другие мастера тем временем пытались повторить проделанную Левенгуком работу, но безуспешно. Даже великий Гук поначалу ничего не добился. Успеха он достиг лишь тогда, когда обратился к ненавистным ему микроскопам с одной линзой. Этот успех подтвердил слова Левенгука и закрепил его репутацию в научных кругах. В 1680 году торговец без высшего образования был избран членом Королевского общества. А так как латыни и английского он все еще не знал, свидетельство о членстве согласились написать на нидерландском.
Будучи первым человеком, увидевшим микробов как таковых, вскоре Левенгук стал еще и первым, кто увидел своих личных микробов. В 1683 году он заметил, что между зубов у него скопился плотный белый налет, и, разумеется, решил рассмотреть его через линзы. Он увидел еще больше существ, которые «весьма изящно шевелятся!». Там были и длинные палочки в форме торпеды, стремительно перемещающиеся по воде «щуке подобно», и существа поменьше, вращающиеся как заведенные. «Во всех Объединенных Нидерландах людей меньше, чем этих существ сегодня у меня во рту!» – писал он. Этих микробов он срисовал, и набросок, который у него получился, стал «Моной Лизой» микробиологии. Он изучил микроорганизмы и во рту других жителей Делфта – двух женщин, восьмилетнего ребенка и старика, который, по слухам, ни разу в жизни не чистил зубы. Как-то раз он капнул на налет с собственных зубов виноградным уксусом и увидел, что «анималькули» затихли. Это было первое свидетельство обеззараживания.
Умер Левенгук в 1723 году в возрасте 90 лет. К тому времени он стал одним из самых известных членов Королевского общества. Им он завещал черный лакированный шкафчик с выдвижными ящиками, в котором хранились 26 созданных им изумительных микроскопов с образцами. Каким-то невероятным образом шкафчик исчез, его так и не нашли. Эта пропажа тем более прискорбна, что Левенгук так никому и не объяснил, как создавал инструменты. В одном из своих писем он жаловался, что учеников интересует не столько «открытие невидимых глазу вещей», сколько деньги и слава. «Среди тысячи людей сложно найти одного, кто мог бы проводить такие исследования, ведь на них тратится столько времени и денег! – сокрушался он. – Но самое-то главное – большинству даже не интересно, а некоторые и прямо говорят: да какая разница, знаем мы об этом или нет?»[39]
Его отношение к своим наработкам чуть их не погубило. Другие, глядя в микроскопы, уступающие по качеству линзам Левенгука, ничего не видели и прибегали к выдумкам. Интерес к этой теме пошел на спад. Карл Линней при классификации живых организмов отнес микробов к одному роду, назвав его Chaos, что означает «бесформенный», и к классу Vermes, что означает «черви». Между открытием мира микробов и надлежащим его исследованием пройдет полтора века.
Микробов сейчас так тесно связывают с болезнями и грязью, что, если показать человеку населяющие его рот множества, он, вероятнее всего, с отвращением шарахнется. Левенгук такой неприязни к микробам не испытывал. Тысячи мельчайших существ? В питьевой воде? У него во рту? У всех во рту? Вот здорово! Если он и подозревал, что микробы могут становиться причиной заболеваний, в своих письмах он не сказал об этом ни слова. Его письма вообще были замечательны тем, что в них не было спекулятивных рассуждений. Другие ученые этим похвастаться не могли. В 1762 году венский врач Маркус Пленчич заявил, что размножение микроскопических существ в организме и распространение их по воздуху могло становиться причиной болезней. «За каждой болезнью стоит свой организм», – утверждал он. Эти слова были провидческими, но, увы, они не были подкреплены доказательствами, а значит, он не мог убедить остальных в том, что эти незначительные организмы, оказывается, очень даже значительны. «Я не буду тратить время на опровержение столь абсурдных гипотез», – писал один из критиков[40].
В середине XIX века ситуация начала меняться – все благодаря химику Луи Пастеру, дерзкому и самодовольному французу[41]. Он показал, что жидкость под влиянием бактерий скисает, а сырое мясо разлагается. И если бактерии приводят к брожению и разложению, стать причиной заболеваний они тоже вполне могут, заключил Пастер. Эту так называемую микробную теорию поддерживали Пленчич и многие другие, но менее противоречивой она от этого не становилась. В те времена считалось, что болезни вызывал исходящий от гнилого мяса дурной воздух, так называемые миазмы. Пастер опроверг это мнение в 1865 году, выяснив, что обе болезни, поразившие шелкопрядов во Франции, были вызваны микробами. Изолировав зараженные яйца от здоровых, он предотвратил распространение недуга и спас шелковую промышленность от упадка.
Тем временем Роберт Кох, немецкий микробиолог и врач, пытался положить конец падежу скота на фермах из-за эпидемии сибирской язвы. В тканях умерших животных другие ученые тогда уже нашли бактерию Bacillus anthracis. В 1876 году Кох ввел ее мыши – та скончалась. Он извлек бациллу из тела и ввел ее другой мыши – та тоже скончалась. Ученый неумолимо продолжал вводить эту бактерию грызунам на протяжении двадцати с лишним поколений, но результат оставался неизменным. Так Кох окончательно доказал, что возбудителем сибирской язвы является Bacillus anthracis. Микробная теория болезней оказалась верна.
О микробах снова вспомнили, но теперь в худшем свете. Их начали считать вредителями, патогенами, разносчиками заразы – в общем, воплощением смерти. За следующие два десятилетия Кох и другие ученые выяснили, что появлением лепры, гонореи, брюшного тифа, туберкулеза, холеры, дифтерии, столбняка и чумы мы также обязаны бактериям. Здесь, как и в истории с Левенгуком, особую важность приобрели новые инструменты и методы – линзы лучшего качества, выращивание чистых микробных культур в чашках с агаром и новые красители, с помощью которых было проще замечать бактерий и определять их тип. От определения, как правило, сразу переходили к уничтожению. Британский хирург Джозеф Листер, вдохновившись примером Пастера, начал применять в своей практике дезинфекцию – он заставлял подчиненных обрабатывать руки, инструменты и операционные столы антисептическими веществами и тем самым спас бессчетное число пациентов от инфекционных заболеваний. Другие ученые тем временем занялись поисками новых препятствий для бактерий, чтобы лечить болезни, повысить уровень санитарии и дольше хранить еду. Бактериология стала прикладной наукой, изучающей микробов для того, чтобы их отпугивать и уничтожать.
Как раз перед этими открытиями – в 1859 году – некий Чарльз Дарвин опубликовал свой труд «Происхождение видов», что явно не пошло на пользу репутации микробов. «Так сложилось, что развитие микробной теории болезней пришлось на эпоху беспощадного дарвинизма, во время которой любые взаимодействия между живыми организмами расценивались как борьба за выживание и все вокруг считались либо союзниками, либо врагами – третьего просто не было дано, – писал микробиолог Рене Дюбо[42]. – Все последующие попытки взять инфекционные заболевания под контроль были сформированы именно этой позицией. Это и привело к началу жестокой борьбы с микробами, целью которой было уничтожение их как в организме больного, так и в мире в целом».
Эта позиция сохранилась по сей день. Если я зайду в библиотеку и вышвырну из окна любую книгу о микробиологии, проходящий в этот момент под окном человек наверняка получит черепно-мозговую травму. А вот если я вырву из этой книги все страницы, на которых рассказывается о полезных микробах, я разве что кого-нибудь бумагой смогу порезать. Микробиология до сих пор ассоциируется у нас в первую очередь с болезнями и смертью.
Пока одни ученые, греясь в лучах славы, вовсю открывали новые виды болезнетворных микробов, другие, пребывая в тени, вкалывали над исследованиями, которые в итоге представят микробов в совершенно ином свете.
Мартинус Бейеринк был одним из первых ученых, продемонстрировавших миру истинную важность микробов. Этот резкий, погруженный в себя и не пользующийся популярностью нидерландец терпеть не мог как людей, за исключением разве что нескольких коллег, так и медицинскую микробиологию[43]. Болезни его не интересовали. Он предпочитал изучать микробов в естественной среде обитания – в почве и воде, на корнях растений. В 1888 году он открыл бактерий, превращающих азот из воздуха в аммиак, который потом потребляли растения, а через некоторое время обнаружил новый вид бактерий, участвующих в круговороте серы в почве и атмосфере. Его открытия послужили толчком к возрождению микробиологии в Делфте – городе, где работал Бейеринк и где Левенгук два века назад впервые увидел бактерий. Члены созданной им Делфтской школы наряду с единомышленниками, среди которых был Сергей Виноградский из России, прозвали себя экологическими микробиологами[44]. Благодаря им выяснилось, что микробы – неотъемлемая часть нашей планеты, а не просто угроза человечеству.
Газеты того времени заговорили о «хороших бактериях», которые удобряли почву и участвовали в производстве выпивки и молочных продуктов. В учебнике 1910 года написано, что «плохие бактерии», которые так всех заинтриговали, «являются лишь небольшой специализированной ветвью бактерий и в целом особой важности не представляют»[45]. Авторы учебника утверждали, что большинство бактерий являются редуцентами, то есть возвращают питательные вещества из разлагающихся органических тканей в почву и воду. «Не будет преувеличением сказать, что без них… жизнь на нашей планете наверняка исчезнет».
Другие микробиологи рубежа веков выяснили, что многие микробы обитают в телах животных, растений и других видимых живых существ. Оказалось, что лишайник, украшающий цветными кляксами камни, стены, бревна и кору деревьев, состоит из множества микроскопических водорослей, живущих в симбиозе с хозяином-грибом и снабжающих его питательными веществами в обмен на воду и микроэлементы[46]. Выяснилось, что в клетках животных – например, морских анемонов и плоских червей – тоже содержатся водоросли, а у муравьев-древоточцев – бактерии. Растущие на корнях деревьев грибы, которые издавна считались паразитами, оказались партнерами – они обеспечивают деревья азотом, получая взамен углеводы.
Это партнерство получило название «симбиоз» – от греческого «совместная жизнь»[47]. Сам термин не имел какой-либо эмоциональной окраски и мог обозначать любую форму совместного существования. Если один партнер получал выгоду за счет другого, он считался паразитом (или патогеном, если он при этом причинял вред здоровью соседа). Если выгоду партнер получал, но хозяину от этого не было ни холодно, ни жарко – это комменсализм, а если хозяин тоже получал от сожительства выгоду – мутуализм. Все это разные формы симбиоза.
Возникли эти понятия в крайне неудачное время. Биологи, находясь под влиянием дарвинизма, были заняты обсуждением теории естественного отбора. Считалось, что все формы жизни, не покладая лап, вели кровавую борьбу за выживание. Томас Гексли, «бульдог Дарвина», сравнивал мир животных с боем гладиаторов. Симбиоз же подразумевал сотрудничество и взаимопомощь. С идеями конкуренции и конфликта он не сочетался, как и с общепринятым мнением, что все микробы – злодеи. После того как Пастер провел свои исследования, присутствие микробов стали считать первым признаком болезни, а их отсутствие – знаком того, что все в порядке. Сама мысль о том, что микробы могут быть безвредными, казалась настолько абсурдной, что Фридриху Блохманну, впервые увидевшему бактерий в телах муравьев-древоточцев в 1884 году, пришлось прибегать к языковым выкрутасам, лишь бы не называть их бактериями[48]. В своих ранних записях он окрестил их «плазматическими прутиками» или «весьма заметными волокнистыми образованиями в плазме яйца». Лишь в 1887 году – после трех лет тщательной работы – он наконец занял четкую позицию по этому вопросу: «Ничего другого не остается, кроме как заявить, что эти прутики и есть бактерии».
Другие ученые тем временем выяснили, что в кишечнике у людей и других животных обитают целые армии бактерий-симбионтов. Ни болезней, ни разложения они не вызывали – просто жили себе спокойно, как «нормальная флора». «С появлением животных… бактерии время от времени должны были неизбежно попадать в их тела», – писал Артур Исаак Кендалл, один из первых исследователей кишечных бактерий[49]. Тело человека для микробов стало лишь очередным местом, куда можно заселиться, и Кендалл был убежден, что подавлять и уничтожать их не нужно – для начала с ними стоит хотя бы познакомиться. Конечно, проще сказать, чем сделать. Уже тогда было ясно, что микробов у нас в организме ну просто сокрушительно много. Теодор Эшерих, открывший кишечную палочку – бактерию, которая стала главным оплотом микробиологической науки, – как-то написал: «Сомнительное и бесполезное, казалось бы, занятие – пытаться разобраться в бактериях, вроде бы случайным образом оказывающихся в кишечнике и нормальном стуле, ведь на их появление, похоже, влияет множество не связанных между собой обстоятельств»[50].
Что ж, современников Эшериха это не останавливало. Они создавали описания бактерий, живущих в организмах котов, собак, волков, тигров, львов, лошадей, коров, овец, коз, слонов, верблюдов и людей, за сотню лет до того, как слово «микробиом» оказалось у всех на слуху[51]. Они в общих чертах описали микробную экосистему человека за несколько десятилетий до 1935 года, когда слово «экосистема» вообще появилось. Они доказали, что микробы скапливаются в теле человека с момента его рождения и что в разных органах могут преобладать разные виды бактерий. Они выяснили, что в кишечнике микробов особенно много и что они могут меняться в зависимости от того, чем животное питается. В 1909 году Кендалл характеризовал кишечник как «совершенный инкубатор» для бактерий, чья деятельность «не мешает деятельности хозяина»[52]. Теоретически, когда организм хозяина ослаблен, бактерии способны стать причиной болезни, но в целом они безопасны.
А приносить пользу они умеют? Как ни странно, Пастер – человек, из-за которого микробам была объявлена война, – считал, что да. Он утверждал, что бактерии могут быть важной и даже неотъемлемой частью жизни, ведь уже тогда было известно, что коровьи желудки могут переваривать клетчатку, тем самым снабжая коров легко всасывающимися летучими жирными кислотами. Кендалл высказал предположение, что микробы в кишечнике человека защищают его от чужеродных бактерий, не давая им прижиться (а вот в том, что они и в пищеварении играют какую-то роль, он сомневался)[53]. Илья Мечников, лауреат Нобелевской премии из России, в этом плане совсем впал в крайность. Его как-то назвали «сумасбродной особой, сошедшей со страниц романа Достоевского»[54]. Натурой он действительно был крайне противоречивой – будучи абсолютным пессимистом, как минимум дважды пытавшимся покончить с собой, он написал книгу под названием «Этюды оптимизма», в которой разобрал способы продления человеческой жизни. В этой книге его противоречия нашли выход, и направлены они были на мир микробов.
С одной стороны, он утверждал, что кишечные бактерии вырабатывают токсичные вещества, которые и становятся причиной болезней и старения организма. По его словам, именно они были «главной причиной краткости нашей жизни». А с другой стороны, он был уверен, что некоторые бактерии умеют продлевать жизнь. На эту мысль его подтолкнули болгарские крестьяне – они регулярно пили «кисело мляко», или болгарский йогурт, и жили больше ста лет. Эти свойства, как говорил Мечников, связаны между собой. В сквашенном молоке были бактерии, в том числе и так называемая болгарская бацилла. Они вырабатывали молочную кислоту, убивающую вредных, сокращающих продолжительность жизни микробов в кишечниках крестьян. Мечникову эта мысль так понравилась, что он и сам стал регулярно пить «кисело мляко». Многие другие вдохновились его примером – а как же, уважаемый ведь ученый! – и тоже начали. Кстати, благодаря его утверждениям даже вошла в моду колостомия, а Олдос Хаксли написал роман «Через много лет», в котором голливудский магнат объедается кишками карпов, чтобы заменить микробов в своем кишечнике и добиться бессмертия. Нет, люди, конечно, издавна употребляли в пищу забродившие молочные продукты, но теперь они это делали ради микробов. Этот пунктик, кстати, пережил самого Мечникова, который умер от сердечной недостаточности в 71 год.
Несмотря на все усилия Кендалла, Мечникова и других ученых, возрастающее внимание науки к патогенным бактериям задавило все попытки исследования бактерий-симбионтов в организмах человека и других животных. В памятках по здравоохранению начали рекомендовать избавляться от бактерий как в собственном теле, так и вокруг него, с помощью дезинфицирующих веществ и постоянного поддержания абсолютной чистоты. Тогда же ученые открыли первые антибиотики – вещества, подавляющие как микробов, так и их окружающую среду, – и пустили их в промышленное производство. У нас наконец-то появилась возможность одержать победу над нашими крошечными врагами. И вместе с тем начался период застоя в изучении бактерий-симбионтов, который продолжался вплоть до второй половины XX века. В опубликованном в 1938 году труде, посвященном истории бактериологии, живущие в наших телах микробы не упоминаются вообще[55]. Передовая на тот момент книга уделила им всего одну главу, в которой рассказывалось, как отличить полезных микробов от вредных. На них обращали внимание лишь затем, чтобы отделить их от микробов поинтереснее. Ученые, как правило, изучали бактерий только для того, чтобы лучше разобраться в других организмах. Выяснилось, что многие аспекты биоорганической химии – например, вопросы переключения генов и накопления энергии – у всех живых существ одинаковые. Путем изучения кишечной палочки ученые пытались понять, как устроены слоны. Бактерии стали «суррогатом для универсального, редукционистского восприятия жизни», как писала историк Фанке Сангодейи. «Микробиология стала служанкой других отраслей науки»[56].
И ее путь к признанию был очень долгим. Во многом помогли новые технологии, позволяющие, например, выращивать не выносящих кислород кишечных микробов, – благодаря им ученые смогли исследовать множество важных для нас микроорганизмов, которые раньше были им недоступны[57]. Да и отношение к микробиологии начало меняться. Благодаря экологическим микробиологам Делфтской школы до ученых дошло, что нужно изучать сообщества микробов в их естественной среде – в данном случае в организмах животных, – а не засовывать их по отдельности в пробирку. Врачи, работающие не в центральных отраслях медицины, таких как стоматология и дерматология, начали изучать микробную экологию органов, с которыми работают[58]. Они «противопоставляли свой труд тому, что на тот момент считалось в микробиологии важным», писала Сангодейи. Однако они работали в одиночку. Ботаники также изучали микробов, живущих на растениях, а зоологи разбирались с микробами животных. Микробиология была разделена по интересам, усилия отдельных ученых запросто игнорировались – ведь между ними не было связи. Не существовало единого сообщества ученых, занимающихся изучением микробов-симбионтов, а значит, не было и посвященной этому отрасли науки. Кто-то должен был в лучших традициях симбиоза соединить отдельные части в нечто большее.
В 1928 году этим занялся Теодор Розбери, микробиолог, специализирующийся на бактериях полости рта. В течение более 30 лет он по кусочку собирал все статьи, посвященные человеческому микробиому, а в 1962 году сплел из этих ажурных кусочков прочное полотно – открывающую новые горизонты книгу «Микроорганизмы, обитающие на человеке»[59]. «Насколько я знаю, никто до меня не пытался создать подобную книгу, – писал он. – Похоже, здесь эта тема впервые рассматривается как отдельная отрасль науки». И он был прав. Его книга поражала своей детальностью и масштабом, она стала предвестницей книги, которую вы сейчас читаете[60]. Он в подробностях рассказал об обычных бактериях, населяющих каждую часть нашего тела. Он описал, как микробы заселяют организм новорожденного ребенка. Он высказал предположение, что они вырабатывают витамины и антибиотики, а также защищают организм от вызванных патогенами инфекций. Он заметил, что после курса антибиотиков микробиом возвращается в свое нормальное состояние, но при постоянном приеме может преобразиться окончательно. «На нормальную флору так до сих пор и не обращают внимания, – огорчался он. – Эта книга написана в том числе и для того, чтобы навести на мысль, что пора бы начать».
И у нее это получилось. Созданный Розбери сборник трудов вернул чахнувшую отрасль науки к жизни и побудил множество ученых к новым исследованиям[61]. Одним из них стал Рене Дюбо, обаятельный американец французского происхождения. К тому времени он уже заявил о себе, следуя учениям Делфтской школы об экологии. Изучая почвенных микробов, он сумел получить лекарства, которые в числе других положили начало эпохе антибиотиков. Однако Дюбо считал, что с помощью этих лекарств микробов нужно приручать, а не уничтожать. Он предпочитал не называть микробов врагами человечества и избегал воинственных метафор даже в своем позднем труде о туберкулезе и пневмонии. Он всем сердцем обожал природу, а микробы – это ее часть. «В течение всей своей жизни он был уверен, что живой организм можно понять лишь через его связи со всем остальным», – писала Сьюзен Моберг, составительница его биографии[62].
Он видел, что наши микробы-симбионты важны, и его удручало то, что никто не обращал на них внимания. «Сведения о том, что микроорганизмы могут быть человеку полезны, никогда никого особо не привлекали, ведь, как правило, люди предпочитают разбираться с тем, что непосредственно им угрожает, забывая про силы природы, от которых зависит их жизнь, – писал он. – История военных действий всегда манит сильнее, чем рассказы о сотрудничестве. Чума, холера и желтая лихорадка становятся героями романов, пьес и фильмов, но никто еще не прославился, написав повесть о пользе микробов в кишечнике или желудке»[63]. Вместе со своими коллегами Дуэйном Сэвиджем и Расселом Шедлером он попытался выяснить, какую роль в организме играют микробы. Они доказали, что после уничтожения местных видов микробов их место занимают более вредные захватчики. Изучая мышей, выращенных в стерильных инкубаторах, они выяснили, что эти грызуны меньше жили и медленнее росли, имели предрасположенность к стрессу и инфекционным заболеваниям, а их пищеварительная и иммунная системы не могли нормально развиваться. «Некоторые виды микробов играют важнейшую роль в развитии и физиологии обычных животных и людей», – писал он[64].
Однако Дюбо понимал, что это только начало. «Очевидно, что [уже известные бактерии] являются лишь небольшой частью всего местного сообщества микробов, причем не самой важной», – писал он. Все остальные – что-то около 99 % от всех наших микробов – наотрез отказывались расти в лабораторных условиях. Это «некультурное большинство» обескураживало. Несмотря на все исследования со времен Левенгука, микробиологи не знали ровным счетом ничего о существах, которых, по идее, должны изучать. Мощные микроскопы не помогали. Разные методы культивации микробов тоже не помогали. Нужен был другой подход.
В конце 1960-х молодой американец Карл Везе начал работу над проектом весьма узкой направленности. Проект заключался в сборе различных видов бактерий и анализе молекулы 16S рРНК, присутствовавшей в каждой бактерии. Ни один из его коллег не представлял, зачем это нужно, так что конкурентов у Везе не было. «В этом забеге участвовала лишь одна лошадь», как он потом говорил[65]. Забег дорого ему обходился, медленно продвигался и был довольно опасным – для него требовалось немалое количество жидких радиоактивных веществ. Вместе с тем он оказался революционным.
В те времена для установления родственных связей между видами биологи полагались исключительно на физические черты особей. Чтобы понять, кто кому приходился родичем, их сравнивали по размеру, форме и устройству организма. Везе же считал, что молекулы жизни – ДНК, РНК и белки, без которых не обходится ни одно живое существо, – помогут ему лучше справиться с этой задачей. Со временем в этих молекулах накапливаются изменения, так что у близкородственных видов они более похожи, чем у состоящих в дальнем родстве. Везе был убежден, что, сравнив нужную молекулу у достаточного количества разных видов бактерий, он прольет свет на все ветви и стволы древа жизни[66].
Он остановился на молекуле 16S рРНК, за которую отвечает одноименный ген. Она составляет часть производящего белки аппарата, имеющегося у всех живых организмов, а Везе как раз это и было нужно. К 1976 году он составил описание 16S рРНК около 30 разных видов микробов. В июне того года он занялся видом, который вскоре изменил его жизнь – а также биологию.
Вид этот ему предоставил Ральф Вулф – к тому времени уже эксперт по малоизученной группе микробов, называемых метаногенами. Для жизни этим крошкам требовались в основном лишь водород и углекислый газ, которые они превращали в метан. Обитали они в болотах, океанах и человеческом кишечнике – Methanobacterium thermoautotrophicum, что прислал Вулф, была найдена в горячих канализационных отходах. Везе, как и все остальные, решил, что это всего лишь очередная бактерия, хоть и со странными привычками. Однако, взглянув на ее 16S рРНК, он удивился – молекула оказалась какой-то небактериальной! Есть разные версии того, насколько полно он осознал свое открытие, как отреагировал на него и запросил ли повторный эксперимент. Однако одно мы знаем точно: к декабрю его научная группа провела секвенирование еще нескольких метаногенов и заметила в каждом из них те же особенности. Вулф делится воспоминаниями о словах Везе: «Эти штуки и бактериями-то не являются».
Результаты исследования Везе опубликовал в 1977 году. В своей статье он назвал метаногенов архебактериями – позже их стали называть археями[67]. По словам Везе, они были не бактериями со странностями, а представителями совершенно новой формы жизни. Утверждение было действительно шокирующим. Везе в прямом смысле вытащил этих микробов из навозной кучи и поставил на один уровень с вездесущими бактериями и могучими эукариотами! Как будто все вокруг разглядывали карту мира, а Везе, не говоря ни слова, разложил перед ними еще треть карты, прежде скрытую.
Разумеется, без шумной критики не обошлось, причем даже от других ученых-бунтарей. Журнал Science позже окрестил его «покрытым шрамами эволюционером микробиологии», и шрамы эти остались у него до конца жизни, завершившейся в 2012 году[68]. Сегодня его наследие не вызывает сомнений. Он оказался прав: археи действительно не являются бактериями. И что еще более важно, разработанный им подход – сравнение генов для выяснения степени родства между видами – в современной биологии является одним из главных[69]. Его методы позволили другим ученым – например, его давнему другу Норману Пейсу – начать исследовать мир микробов по-настоящему.
В 1980-х годах Пейс принялся изучать рРНК архей, населяющих места с чрезвычайно высокой температурой. Особенно ему понравилась Октопус Спрингс, глубокая котловина с голубой водой, температура которой достигала аж 91 градуса по Цельсию. В этом источнике было очень много неизвестных микробов, предпочитающих погорячее, – настолько много, что их скопления образовывали видимые розовые волокна. Пейс вспоминает, как прочел об этом источнике и кинулся в лабораторию с криком: «Эй, ребята, вы только взгляните! Их же там килограммы! Хватайте ведро и поехали за ними». Один из коллег возразил: «Ты ведь даже не знаешь, что это за организм».
И Пейс ответил: «Ничего. Просеквенируем и узнаем».
Он мог бы вполне прокричать: «Эврика!» До Пейса дошло: благодаря методам Везе больше не нужно было выращивать микробов, чтобы их изучать! Да чего уж там, даже видеть их было необязательно. Можно было просто вытащить из среды ДНК и РНК и секвенировать их. Так Пейс мог узнать, что там обитает и где оно находится на микробиологическом древе жизни, – биогеография и эволюционная биология в одной пробирке. «Так мы и отправились с ведерком в Йеллоустон», – рассказывает он. В водах этого «спокойного, прекрасного и смертельного» места команда Пейса нашла два вида бактерий и один вид архей, неизвестных до этого науке. Результаты исследования увидели свет в 1984 году[70] – впервые ученым удалось открыть новый организм только по его генам. И тот первый раз был не последним.
В 1991 году Пейс и его ученик Эд Делонг исследовали образцы выуженного в Тихом океане планктона. Сообщество микробов, которое они там нашли, оказалось еще более разнообразным, чем в Йеллоустоне: 15 новых видов бактерий, два из которых явно отличались от всех известных тогда групп. На скудном древе жизни бактерий потихоньку вырастали новые листья, ветви и даже стволы. В 1980-х годах все известные науке бактерии входили в дюжину основных таксономических групп. К 1998 году их уже стало около 40. Пейс во время нашего разговора сказал, что сейчас их примерно сотня, причем около 80 из них так и не культивировали. Спустя месяц Джилл Бэнфилд известила мир об открытии 35 новых таксономических групп – и это лишь в одном месторождении подземных вод в Колорадо[71].
Теперь микробиологи, освобожденные от необходимости выращивать микробов и разглядывать их в микроскоп, имели возможность провести более полную перепись микробного населения планеты. «Наша цель в этом всегда и заключалась, – утверждает Пейс. – Микробная экология, казалось, отжила свой век. Кто-то заглянул под камень, нашел там бактерию и решил, что у остальных все так же. Это же глупо! Мы с первых дней исследований распахнули ворота в настоящий микробный мир. Пусть в моем некрологе так и напишут. Это прекрасное ощущение, таким оно и останется».
Одной лишь 16S рРНК они не ограничивались. Пейс, Делонг и другие скоро научились секвенировать каждый микробный ген в горстке земли или ковшике с водой[72]. Нужно было извлечь ДНК из всех находящихся там микробов, покромсать ее на небольшие фрагменты и сразу все секвенировать. «Да мы, черт возьми, могли так любой ген достать!» – хвастается Пейс. С помощью 16S рРНК они могли узнать, кто там был, но еще у них была возможность выяснить, на что местные виды бактерий были способны. Для этого нужно было поискать гены, отвечающие за синтез витаминов, переваривание клетчатки или невосприимчивость к антибиотикам.
Раз уж эта технология должна была стать для микробиологии революционной, нужно было придумать для нее название поинтереснее. Его придумала Джо Хэндельсман в 1998 году – метагеномика, то есть геномика сообществ[73]. Она как-то сказала, что «появление метагеномики, пожалуй, стало самым важным событием в микробиологии со времен изобретения микроскопа». Наконец-то появился ключ к пониманию того, каких масштабов достигла на Земле жизнь. Хэндельсман и другие начали изучать микробов, обитающих в почве Аляски, на полях Висконсина, в кислотных отходах шахт в Калифорнии, в водах Саргассова моря, в телах глубоководных червей и пищеварительных трактах насекомых. Разумеется, некоторые микробиологи, как и Левенгук в свое время, решили работать в одиночку.
Как и многие другие ученые, в конце концов пересмотревшие свое отношение к микробам, Дэвид Релман изначально собирался их уничтожать и даже стал для этого практикующим врачом, специализирующимся на инфекционных заболеваниях. В конце 1980-х годов он воспользовался методикой Пейса, чтобы выяснить, что за микробы становились причиной загадочных болезней у людей. Поначалу вся его работа казалась тщетной, ведь в каждом образце тканей, где мог потенциально находиться новый патоген, было полно микробов, составляющих нормальную микрофлору. Они лишь сбивали Релмана с толку, пока он не решил, что эти микробы сами по себе могут представлять для него интерес. Почему бы не заняться описанием этих микробов вместо поисков болезнетворного меньшинства?
Для начала Релман отправился к стоматологу и попросил его соскоблить немного налета с десны, а затем поместить образец в стерильную пробирку – так у микробиологов появилась традиция секвенировать собственный микробиом. Этот образец он отнес в свою лабораторию и расшифровал содержащуюся в нем ДНК, зная, что это вряд ли к чему-то приведет. Рот на предмет микробов к тому времени исследовали вдоль и поперек. Микробов полости рта разглядывал Левенгук и изучал Розбери. Микробиологам удалось вырастить почти 500 штаммов бактерий из различных уголков рта. Если и была часть тела, на которой было открыто все, что можно, то только рот. Тем не менее Релман выявил целый ряд новых бактерий на своих деснах – намного больше, чем он смог бы вырастить из тех же образцов[74]. Даже в самой тщательно исследованной среде в теле человека новые виды в огромном количестве сидели и ждали, пока их кто-нибудь откроет. В 2005 году Релман обнаружил то же самое в кишечнике. Он взял пробы с различных участков кишечника у трех добровольцев и обнаружил почти 400 видов бактерий и один вид архей, причем 80 % из них прежде не были известны науке[75]. Другими словами, догадки Дюбо оказались верны – все исследования человеческой микрофлоры в его время были только началом.
В начале 2000-х прогресс начал набирать обороты – исследователи провели секвенирование генов в образцах со всего тела человека. Джефф Гордон, микробиолог-новатор, с которым мы познакомимся позже, доказал, что микробы отвечают за накопление жира и создание новых кровеносных сосудов, а также что у людей, страдающих ожирением, микробы в кишечнике не такие, как у стройных[76]. Да и сам Релман назвал микрофлору «крайне важным органом». Эти первопроходцы привлекли как соратников из всех остальных областей биологии, так и внимание газет и журналов, а еще финансирование для крупных международных проектов, исчисляющееся миллионами долларов[77]. На протяжении столетий микробиом человека таился на задворках биологии, а отстаивать его необходимость пытались лишь бунтари и мятежники. Теперь же он стал частью истеблишмента. История микробиома – это рассказ о том, как представления о науке и организме перемещаются с периферии в центр внимания.
У входа в Королевский зоопарк «Артис» в Амстердаме стоит двухэтажное здание, на стене которого изображена огромная шагающая фигура человека. Человек этот составлен из маленьких пушистых шариков – оранжевых, бежевых, желтых и голубых – и символизирует микробиом человека. Он словно машет прохожим, приглашая их в «Микропию» – первый музей в мире, полностью посвященный микробам[78].
Этот музей открылся в сентябре 2014 года после двадцати лет разработок. Его стоимость – 10 миллионов евро. Логично, что его открыли именно в Нидерландах: всего в 65 километрах от этого места стоит город Делфт, где Левенгук впервые представил миру невидимое царство бактерий. Первое, что я вижу, проходя через турникет в «Микропии», – точная копия одного из его прекрасных микроскопов. Этот скромный и незамысловатый микроскоп помещен в стеклянную банку, а вокруг него разложены образцы того, что в свое время, должно быть, рассматривал Левенгук, – в том числе перцовые настойки, ряска из пруда неподалеку и зубной налет.
Оттуда я вместе с приятелем и небольшой семьей захожу в лифт. Поднимая взгляд вверх, мы видим на потолке экран с видеотрансляцией, а на нем – себя. Лифт поднимается, и видео постепенно увеличивает наши лица, все сильнее и сильнее, вот уже видны ресничные клещи, клетки кожи, бактерии и, наконец, вирусы. На втором этаже двери лифта открываются, и мы видим знак, состоящий из мелких огоньков, мерцающих, словно живые. «Если приглядитесь как следует, вам откроется новый мир – куда более прекрасный и удивительный, чем вы можете себе представить, – написано на знаке. – Добро пожаловать в «Микропию».
Мы тут же получаем возможность взглянуть на этот новый мир своими глазами через ряд микроскопов, наведенных на личинки комаров, водяных блох, круглых червей, слизевиков и прудовых бактерий. Бактерии увеличены в 200 раз, и я с удивлением размышляю: ведь самодельный микроскоп Левенгука на первом этаже мог так же! Сам Левенгук, наверное, тоже видел эти чудеса, хоть и без особых удобств. Ему приходилось щуриться в крошечную линзу, а я могу просто прижаться глазом к специальному окуляру с подушечкой для комфорта и смотреть на четкий цифровой дисплей.
За микроскопами находится экран, демонстрирующий биогеографию человеческого микробиома в натуральную величину. Посетители встают перед камерой, та сканирует их туловище и выдает изображение всех микробов на нем – получается этакий микробный аватар. Его кожа подсвечена белыми точками, внутренние органы обозначены яркими цветами. Аватар повторяет движения посетителя: машет рукой, пританцовывает вместе с ним. Двигая руками, посетитель указывает на разные органы и открывает данные о микробах на коже, в желудке, кишечнике, в волосах, во рту, в носу и много где еще. Там можно узнать, кто где живет и чем занимается. В этой инсталляции представлены десятки лет исследований и открытий – от Кендалла до Розбери, от Розбери до Релмана. Собственно говоря, весь музей – это дань уважения истории. Тут можно найти ряд лишайников – это симбиотические ассоциации грибов и зеленых водорослей, благодаря которым ученые в XIX веке впервые осознали важность симбиоза. Тут можно полюбоваться на молочнокислых бактерий, столь обожаемых Мечниковым, – это увеличенные в 630 раз крошечные сферы, которые весьма изящно шевелятся.
Я поражен тем, насколько беззастенчиво и правдиво до зрителей доносится вся эта информация и как быстро и легко они признают существование мира микробов. Никто не шарахается, не хмурится, не морщит нос. На красной платформе в форме сердца парочка целуется перед устройством под названием Kiss-o-Meter («Поцелуеметр»), которое подсчитывает, сколькими бактериями эти двое обменялись. Девушка с интересом разглядывает образцы фекалий горилл и капибар, рыжих панд и валлаби, львов и муравьедов, слонов и ленивцев, хохлатых павианов и многих других – их собрали в зоопарке по соседству, запечатали в герметичные банки и накрыли оргстеклом. Группа подростков не сводит глаз с чашек Петри с подсветкой, где в агаровой среде растут плесневые грибы и бактерии, некоторые из которых были собраны на предметах повседневного пользования. Если приглядеться, можно различить отпечатки ключей, мобильных телефонов, компьютерных мышек, пультов от телевизора, зубных щеток, дверных ручек и даже прямоугольный контур банкноты. Подростки удивленно глазеют на оранжевые точки клебсиеллы, голубые коврики энтерококка и серые кляксы стафилококка, напоминающие штрихи карандашом.
Семья, с которой я ехал в лифте, любуется красивым изображением древа жизни Карла Везе, которое занимает всю стену. Здесь животные и растения сместились в небольшой кружок в углу, а на стволе и ветвях вовсю доминируют бактерии и археи. Отец семейства, скорее всего, родился еще до того, как о существовании архей вообще стало известно, а сегодня его дети узнают о них, находясь в одной из главных достопримечательностей Амстердама.
В «Микропии» представлены три с половиной века, во время которых мы узнавали о микробах все больше, а отношение к ним постоянно менялось. Здесь они не какие-нибудь второстепенные персонажи и не жестокие злодеи. Здесь они захватывающие, прекрасные, стоящие нашего внимания. Здесь они – настоящие звезды. Джордж Элиот в романе «Миддлмарч» писала: «Большинству из нас великие первооткрыватели становятся известны лишь тогда, когда они, засияв новыми звездами, уже правят нашими судьбами». Она могла бы так сказать не только об ученых, открывших для нас мир микробов, но и о самих микробах.
Глава 3. Телостроители
«То, что нам нужно, размером где-то с мячик для гольфа», – объясняет Нелл Бекиэрес[79].
Я стою в лаборатории Висконсинского университета в Мадисоне, уставившись на небольшой аквариум. По-моему, он пустой – ничего размером с мячик для гольфа я точно не вижу. Собственно говоря, я там вообще ничего не вижу, только песок на дне. Бекиэрес опускает руку в воду – и тут из песка вдруг что-то вырывается и выпускает густое облако чернил. Это самка гавайского моллюска Euprymna scolopes, размером с мой большой палец. Бекиэрес зачерпывает воду с ней в миску, и она продолжает стрелять во все стороны чернилами, побледнев от возбуждения, растопырив щупальца и неистово махая плавниками. Вскоре она успокаивается, подбирает под себя щупальца и, замерев на месте, меняет форму – теперь она напоминает не дротик, а большую мармеладную горошину. Кожа тоже меняется: крохотные цветные пятнышки моментально расширяются и превращаются в темно-коричневые, красные и желтые круги в переливающуюся крапинку. Она больше не белая – ее окраска больше напоминает осенний пейзаж, написанный Жорж-Пьером Сера.
«Когда они коричневые, как сейчас, они довольны, – улыбается Бекиэрес. – Коричневый – это хорошо. Самцы обычно злее – все чернила выстреляют, пока успокоятся. Бывает, пульнут тебе на лицо или на грудь водой – а ты потом верь, что они не специально».
Я впечатлен. Из этой самки прямо-таки сочится индивидуальность. И выглядит она просто прекрасно.
Других животных в миске нет, но моллюск не одинок. Под мантией у него расположены две камеры – органы свечения, а в них – уйма люминесцентных бактерий Vibrio fischeri, подсвечивающих его тело снизу. При флуоресцентном лабораторном освещении их свет кажется слабым, но на отмели среди рифов вокруг Гавайских островов его видно куда лучше. Считается, что свечение этих бактерий по ночам походит на падающий сверху лунный свет и скрывает силуэт моллюска от глаз хищников. Тени E. scolopes не отбрасывает.
Снизу этих моллюсков, может, и не видно, зато сверху заметить их очень легко. Нужно всего-то прилететь на Гавайи, дождаться ночи и отправиться на мелководье, вооружившись налобным фонариком и сетью. Если у вас хорошая реакция, с полдюжины за ночь вы точно поймаете. Они, кстати, прекрасно питаются и размножаются в неволе и не требуют особого ухода. «Если уж посреди Висконсина они выжили, значит, выживут где угодно», – заверяет зоолог Маргарет Макфолл-Най, заведующая этой лабораторией. Элегантная, спокойная и уравновешенная, Макфолл-Най вот уже почти тридцать лет изучает гавайских эупримн и их люминесцентных бактерий. Она превратила их в символ симбиоза, а сама в процессе стала символом идеального микробиолога. Коллеги описывают ее по-разному – как смелую бунтарку, увлеченную скейтбордистку и неутомимую защитницу микробов, причем ставшую ей еще до того, как слово «микробиом» вошло в моду. «Когда Маргарет говорит о «новой биологии», кажется, будто она капс не выключила», – поделился со мной один биолог. И она не всегда была такой – ее изменил моллюск[80].
В аспирантуре Макфолл-Най изучала рыб, в организме которых тоже обитали светящиеся бактерии. Она была от них в восторге, но при этом в смятении. Выяснилось, что в лаборатории эти рыбы не размножаются, так что все особи, с которыми она работала, были уже заселены бактериями. Из-за этого Маргарет не могла ответить ни на один из интересующих ее вопросов. Что происходит, когда рыба и бактерия встречаются впервые? Как они устанавливают друг с другом связь? Почему организм-хозяин не заселяют другие микробы? А потом коллега спросил у нее: «Слушай, ты вот об этом моллюске слыхала?»
Гавайская эупримна была уже давно известна эмбриологам, а микробиологи знали о ее светящихся бактериях, но вот их парт-нерство никто никогда не исследовал – а Макфолл-Най именно оно и интересовало. Чтобы ее изучить, Маргарет тоже понадобился партнер, достаточно хорошо разбирающийся в бактериях, чтобы дополнить ее знания и опыт в зоологии. Им стал Нед Руби. «Кажется, я был третьим микробиологом, к которому она обратилась за помощью, и первым, кто согласился», – говорит он. Маргарет и Нед образовали профессиональный союз, который вскоре перерос в романтический. Невозмутимый «инь» серфера Руби идеально дополнил пылкий «ян» деятельной Макфолл-Най. У них, как выразился один из их друзей, «настоящий симбиоз». Сейчас они руководители лабораторий по соседству друг от друга и гордые хозяева головоногих питомцев.
Здесь животные обитают в аквариумах, выставленных в ряд в узком коридоре. Места хватает ровно на 24 особи. Как только приезжает новая партия, Бекиэрес, менеджер лаборатории, выбирает букву, и студенты по ней подбирают животным имена. Самку, с которой мы познакомились выше, зовут Йоши. В соседних аквариумах живут Йаху, Изольда, Йардли, Ира, Ив, Иосиф, Йокель и мистер Йук[81]. У самок каждые две недели свидания с самцами. После спаривания их рассаживают по аквариумам с трубами из ПВХ, в которые они откладывают сотни яиц. Через несколько недель из них вылупляются малыши-моллюски. Сейчас на полке у аквариумов стоит пластмассовая чаша, а в ней шевелятся несколько десятков этих малышей, каждый длиной всего несколько миллиметров. Десять самок гавайской эупримны способны произвести на свет до 60 000 детенышей в год – вот первая причина, по которой они отлично подходят для разведения в лаборатории. Вторая заключается в том, что свежевылупившиеся моллюски стерильны. В природных условиях V. fischeri населят их за пару часов, а в лаборатории Макфолл-Най и Руби имеют возможность этот процесс контролировать. Пометив клетки V. fischeri светящимися белками, они могут следить за тем, как бактерии добираются до светящихся органов моллюска. У них есть возможность увидеть, как начинается партнерство.
А начинается оно с физики. Снаружи органы свечения покрыты слизью и пульсирующими ресничками – их еще называют «цилии». Реснички создают завихряющийся поток, в который попадают частицы размером с бактерию, но не крупнее. Микробы, в том числе V. fischeri, вязнут в слизи. Теперь физика сменяется химией. Если одна клетка V. fischeri коснется моллюска, ничего не произойдет. Две клетки – все еще ничего. А вот если в контакт с моллюском вступят пять клеток, они включат целый ряд его генов. Одни из них производят смесь антибактериальных веществ, которые никак не вредят V. fischeri, зато создают враждебную среду для остальных микробов. Другие выделяют ферменты, расщепляющие слизь моллюска, производя тем самым вещество, которое привлекает еще больше V. fischeri. Таким образом, V. fischeri вскоре начинает доминировать в слизистом слое, хотя поначалу другие бактерии численно превосходили ее в тысячу раз. Она и только она способна превращать наружные ткани моллюска в пейзаж, привлекающий сородичей и отталкивающий соперников. Она напоминает главных героев научно-фантастических рассказов, терраформирующих суровые планеты, превращая их в комфортные дома, – только она «терраформирует» животных.
Изменив моллюска снаружи, V. fischeri начинает продвигаться внутрь. Она проскальзывает в одну из нескольких пор, спускается по длинному каналу, протискивается сквозь узкий проход и, наконец, оказывается перед несколькими лакунами, которые заканчиваются тупиками. Прибытие бактерии изменяет моллюска еще сильнее. Лакуны устланы клетками, похожими на колонны, – они увеличиваются в размерах и заключают прибывающих микробов в крепкие объятия. Пока бактерии устраиваются на новом месте, дверь за ними захлопывается. Вход в лакуну сужается. Каналы сокращаются. Реснички вянут. Светящийся орган достигает зрелости. В него заселились нужные бактерии (весь этот путь проделывают только V. fischeri) – и больше в него не сможет заселиться никто.
И, собственно, что? Вряд ли кому-то нужно знать столько интимных деталей жизни какого-то малоизвестного животного. Однако все эти детали подчеркивают один немаловажный факт, на который Макфолл-Най сразу обратила внимание. В 1994 году, завершив первый этап изучения эупримн, она написала: «Результатом этих исследований стали первые экспериментальные данные, показывающие, что определенный бактериальный симбионт может играть в развитии животного ведущую роль».
Другими словами, микробы формируют организмы животных.
Как? В 2004 году научная группа Макфолл-Най выяснила, что в основе трансформирующих способностей V. fischeri лежат две молекулы с ее наружной оболочки – пептидогликан и липополисахарид. Это было неожиданно. Эти молекулы тогда были известны лишь в контексте патологий. Их относили к патоген-ассоциированным молекулярным паттернам (PAMP) – это характерные вещества, оповещающие иммунную систему животного об инфекции. Но ведь V. fischeri – не патоген. Она состоит в родстве с бактерией, вызывающей холеру у людей, но моллюску она не вредит никак. Так что Макфолл-Най заменила в аббревиатуре патогенное «П» на более общее микробное «М» и назвала эти молекулы MAMP – микроб-ассоциированные молекулярные паттерны. Новый термин символичен для науки о микробиоме в целом. Он говорит миру, что эти молекулы – не только признак заболевания. Да, они могут спровоцировать тяжело протекающий воспалительный процесс, но они же могут положить начало восхитительной дружбе животного и бактерии. Без них орган свечения не сможет развиться полностью. Без них моллюск выживет, но так никогда и не достигнет полной зрелости.
Сейчас нам известно, что многие животные, от рыб до мышей, растут под влиянием партнеров-бактерий, причем часто под эгидой тех же MAMP, что формируют светящиеся органы моллюска[82]. Благодаря этим открытиям мы можем взглянуть на развитие – процесс превращения животного из одной клетки во взрослую, приспособленную к жизни особь – в новом свете.
Если осторожно отделить оплодотворенную яйцеклетку – человека, моллюска, да кого угодно – и рассмотреть ее под микроскопом, можно увидеть, как она разделяется на две части, затем четыре, затем восемь. Клеточный шарик растет, деформируется, искажается. Клетки обмениваются молекулярными сигналами, указывающими, какие ткани и органы нужно создавать. Начинают формироваться части тела. Зародыш растет и будет расти, пока ему хватает питательных веществ. Весь процесс кажется автономным – словно очень мощная компьютерная программа выполняется сама собой. Однако гавайская эупримна и другие животные говорят, что развитие – это нечто большее. Оно продвигается по инструкциям генов животного, но также и микробных генов. Оно является результатом непрерывных переговоров между несколькими видами, лишь один из которых в их процессе развивается. Это развертывание целой экосистемы.
Чтобы понять, нуждается ли животное в микробах для нормального развития, проще всего их у него забрать. Одни попросту погибают: комар Aedes aegypti, переносчик лихорадки денге, доживает до стадии личинки, но дальше не развивается[83]. Другие легче переносят стерильность. Гавайская эупримна, например, просто перестает светиться по ночам – в лаборатории Макфолл-Най ей, может, и без разницы, а вот в естественных условиях без маскировки она станет легкой добычей. Ученые вырастили стерильные версии почти всех стандартных лабораторных животных, включая рыбок, мушек и мышек. Животные эти выживают, но все-таки они другие. «Стерильное животное – несчастное создание, ведь ему, по всей видимости, постоянно требуется искусственный заменитель микробов, которых у него нет, – писал Теодор Розбери. – Он – что ребенок, которого держат за стеклом, защищая от всех трудностей внешнего мира»[84].
Лучше всего странности биологии стерильных животных заметны в кишечнике. Правильно функционирующему кишечнику для всасывания питательных веществ требуется большая площадь поверхности, поэтому его стенки покрыты множеством длинных ворсинок, по форме напоминающих палец. Ему нужно непрерывно регенерировать клетки стенок, так как проходящий по нему поток еды отшелушивает и уносит их вместе с собой. Ему необходима обширная сеть прилежащих кровеносных сосудов, чтобы переносить питательные вещества по организму. Еще он должен быть недоступным для чужеродных молекул и микробов – его клетки должны плотно прилегать друг к другу, чтобы в вышеупомянутые сосуды не попало ничего лишнего. Без микробов каждая из этих важнейших характеристик оказывается под угрозой. Если рыбки данио-рерио или мыши будут расти без бактерий, их кишечники не смогут как следует развиться, ворсинки в них окажутся более короткими, а стенки – менее прочными. Сеть кровеносных сосудов будет скорее напоминать редкие тропинки на окраине, чем оживленные городские улицы, а регенерационный цикл перейдет на пониженную передачу. Большинство из этих дефектов можно исправить, просто предоставив животным необходимых микробов или даже отдельные микробные молекулы[85].
Сами по себе бактерии облик кишечника непосредственно не меняют. Напротив, они работают через хозяев. Они не рабочая сила, а скорее руководство. Лора Хупер продемонстрировала это, введя стерильным мышам обычную кишечную бактерию Bacteroides thetaiotaomicron – для друзей просто B-theta[86]. Она выяснила, что микробы активировали множество мышиных генов, отвечающих за всасывание питательных веществ, создание неприступного барьера, расщепление токсинов, формирование кровеносных сосудов и созревание клеток. Другими словами, микробы объяснили мышам, как наладить работу кишечника с помощью своих же генов[87]. Биолог Скотт Гилберт называет этот процесс совместным развитием. Вот какой путь проделала наука. Когда-то считалось (да и сейчас эта живучая идея не сдает позиций), что микробы – это лишь угроза, а оказывается, они помогают нам стать теми, кто мы есть[88].
Скептики, вероятно, возмутятся и скажут, что мыши, данио-рерио и гавайские эупримны в микробах не нуждаются: стерильная мышь все так же выглядит как мышь, бегает как мышь и пищит как мышь. Убрав бактерии, мы получим все то же животное. Однако стерильные животные обитают в неприхотливой среде – в пузырьках с управляемым микроклиматом, изобилием пищи и воды, полным отсутствием хищников и каких-либо инфекций. В жестоких природных условиях они мало протянут. Выжить они смогут, но, скорее всего, недолго. Они способны развиваться сами, но с партнерами-микробами им будет гораздо проще.
Почему? Зачем животным перекладывать ответственность за свое развитие на другие виды? Почему бы не делать все самим? «Думаю, это неизбежно, – говорит Джон Ролз, работавший со стерильными мышами и моллюсками. – Микробы – неотъемлемая часть жизни животного. От них не избавиться». Не забывайте, что животные возникли в мире, где уже на протяжении миллиардов лет обитали микробы. Они правили планетой задолго до того, как появились мы. А когда мы все-таки появились, у нас, разумеется, развились механизмы взаимодействия с окружающими нас микробами. Было бы глупо, если бы они не развились, – все равно что переехать в другой город, нацепив беруши, повязку на глаза и противогаз. К тому же развитие отношений с микробами оказалось не только неизбежным, но и полезным. Они кормили первых животных. Более того, их присутствие сигнализировало о том, где больше питательных веществ, где благоприятнее температура, где можно поселиться. Первые животные чувствовали эти сигналы и тем самым получали ценную информацию об окружающем мире. И как мы вскоре увидим, следы их взаимодействия в древности сохранились до сих пор.
Николь Кинг сейчас вдалеке от дома. Она руководит лабораторией в Калифорнийском университете в Беркли, но сейчас она в отпуске в Лондоне. Она планирует отвести восьмилетнего сына Нейта на дневной показ мюзикла «Билли Эллиот», но при условии, что он спокойно просидит полчаса с нами на скамейке в парке, пока мы обсуждаем малоизвестную группу существ под названием хоанофлагелляты. Кинг – одна из немногих ученых, которые их изучают. Она ласково называет их «хоаны», так что я тоже буду[89].
Их можно найти в воде где угодно – от тропических рек до морей подо льдами Антарктиды. Пока мы о них разговариваем, Нейт, до этого тихонько рисовавший что-то в блокноте, радостно взвизгивает и рисует одну для нас. Он чертит овал с изогнутым хвостиком и воротником из жестких волосков – похоже на сперматозоид в юбочке. Хвостик, дергаясь, отправляет бактерий и другие мелкие частицы к воротнику, они там застревают, поглощаются и перевариваются: хоаны – активные хищники. Рисунок Нейта замечательно передает их суть, в особенности тот факт, что хоаны одноклеточные. Они, как и мы с вами, эукариоты, и у них, в отличие от бактерий, есть бонусы в виде митохондрий и ядра. Однако, как и бактерии, они состоят из одной-единственной плавающей клетки[90].
Иногда эти клетки ведут общественный образ жизни. Salpingoeca rosetta, любимый вид Николь, часто формирует колонии-розетки. Ее сын может и их нарисовать – десятки хоан образуют хоровод, выставив жгутики наружу, словно какая-то волосатая малинка. Кажется, будто хоаны для этого сюда и приплыли, но на самом деле эта малинка – результат деления, а не встречи. Хоаны размножаются делением надвое, но иногда у пары дочерних клеток не получается разделиться полностью, и они так и остаются соединенными короткой перемычкой. Потом это происходит снова и снова, пока неразлучные хоаны не образуют сферу, покрытую одной оболочкой. Это и есть розетка. Эти знания были бы нам бесполезны, если бы не тот факт, что хоаны – ближайшие живущие ныне родственники всех животных на Земле[91]. Они связаны родством с каждой лягушкой, скорпионом, червяком, морской звездой, воробушком. Кинг пытается понять, как появились первые животные, и хоаны приводят ее в восхищение. А процесс, в результате которого появляются розетки и одна клетка становится многоклеточной гроздью, – тем более.
О том, как выглядели первые животные, мы почти ничего не знаем, ведь их мягкие тела не подвергались процессу окаменения. Они приходили и уходили, словно легкий порыв ветра, не оставляя ни единого следа. Зато мы можем строить на их счет вполне обоснованные предположения. Каждое современное животное – это многоклеточное существо, которое развилось из полого сгустка клеток, и ему для выживания нужно питаться, так что логично будет предположить, что эти черты были присущи и нашему общему предку[92]. Значит, возможно, эти розетки – современные образы первых животных. А процесс их создания – деление одной клетки в сплоченную колонию – воспроизводит эволюционный переход, в ходе которого появились сначала примитивные животные, а потом и белки, голуби, утки, дети и все остальные зверушки в парке, в котором мы с Кинг болтаем. Изучая этих безобидных малоизвестных одноклеточных созданий, она практически вплотную подбирается к покрытому тайной зарождению всего нашего царства животных.
Отношения с S. rosetta у нее довольно бурные. Она знала, что в естественных условиях они формируют колонии, но уговорить их повторить то же самое в лаборатории у нее никак не получалось. В руках у нее и у других ученых социальные прежде существа загадочным образом становились одиночками. Она меняла им температуру, уровень питательных веществ, кислотность – бесполезно. В отчаянии она решила заняться секвенированием генома S. rosetta, но и там ее ждали сложности. Кинг кормила S. rosetta бактериями, но теперь ей пришлось избавиться от их клеток, чтобы те не засоряли результаты секвенирования. Она накормила хоан антибиотиками и, к ее удивлению, полностью лишила их способности образовывать колонии. Если раньше они формировали их неохотно, то теперь вообще наотрез отказывались. Значит, за их социальный образ жизни в какой-то мере отвечали бактерии.
Аспирантка Рози Алегадо изолировала микробов из образцов воды без антибиотиков и по очереди стала скармливать их хоанам. Розетки начали снова появляться лишь благодаря одной бактерии из 64. Потому первые опыты Кинг и не удавались – S. rosetta образуют колонии лишь при встрече с нужным микробом. Алегадо его идентифицировала и назвала Algoriphagus machipongonensis – неизвестный прежде вид из группы Bacteroidetes, представители которой живут у нас в кишечнике[93]. Она же выяснила, как именно бактерии побуждают хоан к образованию розеток: они вырабатывают жироподобную молекулу RIF-1. «Я назвала ее RIF, «розеткоиндуцирующий фактор», и добавила номер, потому что наверняка есть и другие», – говорит Рози. И она была права: с тех пор ученые идентифицировали еще несколько молекул, подталкивающих хоан к общественной жизни, у многих других микробов[94].
Как предполагает Алегадо, эти вещества сигналят о том, что где-то рядом есть еда. Группа хоан лучше справится с ловлей бактерий, чем одна, так что, почувствовав неподалеку бактерию, они объединяются. «Думаю, хоаны «подслушивают», – размышляет Алегадо. – Плавают они медленно, а бактерии подсказывают им, что они попали туда, где много еды и ресурсов. Тогда можно и розетку образовать».
Что из всего этого следует? Неужели первые животные появились благодаря тому, что бактерии спровоцировали наших одноклеточных предков на образование многоклеточных колоний? Кинг советует подходить к этому вопросу с осторожностью. Современные хоанофлагелляты – наши кузины, а не бабули. Если на основе их поведения можно будет выяснить, как вели себя древние хоаны и как они реагировали на древних микробов, это станет огромным прорывом в науке. Кинг пока в этом не уверена. Сейчас она хочет выяснить, реагируют ли современные животные на бактерий таким же образом и, если да, влияют ли бактерии на развитие хоан и животных с помощью тех же самых молекул. Это существенно укрепило бы теорию о том, что у наших истоков стоял этот древний феномен. «Думаю, никто не станет спорить, что в океанах, где появились первые животные, было множество бактерий, – рассуждает Кинг. – Разных видов бактерий. Они правили миром, а животным приходилось под них подстраиваться. Без натяжки можно полагать, что какие-то из производимых бактериями молекул повлияли на развитие первых животных». Действительно без натяжки – особенно если учесть, что до сих пор творится в Перл-Харбор.
Утром 7 декабря 1941 года эскадрилья японских истребителей нанесла внезапный удар по базе военного флота США, расположенной в бухте Перл-Харбор на Гавайях. Первым потонул линкор «Аризона», унеся с собой жизни более тысячи офицеров ВМС и членов экипажа. Остальные семь линкоров в бухте были разрушены или получили значительные повреждения, как и еще 18 кораблей и 300 воздушных судов. Сейчас в этой бухте куда более спокойно. Хоть она и является по-прежнему важным военным портом и в ней до сих пор стоят несколько громадных кораблей, угроза для нее в первую очередь исходит не с неба, а с моря.
Узнать, что происходит с потонувшими кораблями, можно, кинув в воду что-нибудь металлическое. Через несколько часов на металле начнут расти бактерии. Возможно, за ними последуют водоросли, затем моллюски или морские желуди. Но в течение нескольких дней там появятся белые трубочки. Они маленькие – длиной всего в несколько сантиметров и толщиной в несколько миллиметров. Но вскоре их становятся сотни. Потом тысячи. Миллионы. В конце концов вся поверхность начинает выглядеть как ковер с грубым ворсом на морозе. Эти трубочки вскоре оказываются всюду – на камнях и сваях, на металлических рыболовных сетях и кораблях. Если авианосец постоит в бухте несколько месяцев, трубочки образуют на его корпусе слой в несколько сантиметров. По-научному это называется «биообрастание», а по-простому – «жуткий геморрой». Время от времени ВМС отправляет к кораблям дайверов, и те укрывают пропеллеры и другие открытые конструкции полиэтиленом, чтобы белые трубочки до них не добрались[95].
И создатель, и житель каждого белого цилиндрика – животное. На флоте его называют «червяк-закорючка» (squiggly worm), а Майклу Хэдфилду, морскому биологу при Гавайском университете, оно известно как полихета Hydroides elegans. Открыли ее в Сиднейской бухте, и с тех пор она объявилась в Средиземном море, у Карибских островов, у берегов Японии, у Гавайев – везде, где есть корабли и теплая вода. Цепляясь снизу за судна, построенные человеком, эта профессиональная безбилетница захватила весь мир.
Хэдфилд начал исследовать «червяков-закорючек» в 1990 году по требованию ВМС. Он уже тогда был экспертом по обитающим в морях личинкам, и в ВМС хотели, чтобы он протестировал различные предохраняющие от обрастания краски и выяснил, способны ли какие-то из них отталкивать червей. Однако, как он решил, важнее будет узнать, что именно толкает червей на заселение. Почему они ни с того ни с сего появляются на корпусе судна?
Этот вопрос появился еще в древности. Арман Мари Леруа в своей замечательной биографии Аристотеля пишет: «Как-то, по словам Аристотеля, дивизия кораблей отчалила от острова Родос, и за борт было выброшено множество глиняной посуды. В горшках начал скапливаться ил, затем появились живые устрицы. Устрицы не смогли бы сами залезть в горшки или куда-либо еще – значит, они появились из ила»[96]. Теория самопроизвольного зарождения на протяжении веков оставалась популярной, но при этом безнадежно неверной. Факты, стоящие за внезапным появлением устриц и полихет, на деле куда банальнее. У этих животных, как и у кораллов, морских ежей, мидий и омаров, есть стадия личинки, на которой они плавают себе по открытому океану, пока не найдут местечко, где можно поселиться. Личинки эти микроскопически малы, существуют в огромных количествах (в одной капле морской воды их может быть до сотни) и нисколько не похожи на взрослых особей. Детеныш морского ежа напоминает скорее воланчик, чем игольницу, в которую потом превратится. Личинка H. elegans выглядит как гитарный медиатор с глазками, но точно не как длинный червь в трубке. С трудом верится, что это одно и то же животное.
В какой-то момент личинки обосновываются на одном месте. Юношеская страсть к путешествиям проходит, и их тела начинают принимать взрослую оседлую форму. Этот процесс – метаморфоз – является самым важным моментом их жизни. Когда-то ученые считали, что он происходит случайным образом – личинки селились где придется и, если место оказывалось пригодным для жизни, выживали. На самом деле они целеустремленны и разборчивы. Чтобы найти самые подходящие для метаморфоза места, они следуют по путеводным нитям в виде химических следов, изменений в температуре и даже звуков.
Вскоре Хэдфилд выяснил, что полихет привлекают бактерии, в особенности биопленки – склизкие пелены плотно прилегающих друг к другу бактерий, которые быстро появляются на поверхности погруженных под воду предметов. Отыскав биопленку, личинка подплывает к бактериям и прижимается к ним головкой. Через несколько минут она прикрепляется к ним, выделив из тыльной части вермишелину из слизи, и формирует вокруг себя прозрачный чехол. Прикрепившись попрочнее, она начинает меняться. Реснички, с помощью которых она перемещалась под водой, отпадают за ненадобностью. Ее тело удлиняется. Вокруг головки вырастает кольцо щупалец – ими она будет захватывать кусочки пищи. Начинает формироваться твердая трубка. Личинка стала взрослой полихетой, и больше ей никогда не придется двигаться. Это превращение полностью зависит от бактерий. Для H. elegans чистая, стерильная мензурка – словно Неверленд, страна вечной юности.
Этим червям нужны не просто какие-нибудь там микробы. Из всех обитающих в гавайских водах микробов Хэдфилд выделил лишь несколько бактерий, способных вызывать метаморфоз, причем выраженно это делала лишь одна. Язык сломаешь, пока произнесешь ее название – Pseudoalteromonas luteoviolacea. Хэдфилд, к счастью, называет ее просто P-luteo. В умении превращать личинок полихет во взрослых особей у P-luteo среди микробов равных нет. Без бактерий эти черви так и не смогли бы достичь зрелости[97].
И не только они. Личинки некоторых губок тоже оседают на поверхности и видоизменяются, повстречав бактерий. Как и мидии, морские желуди, асцидии и кораллы. И даже – прости, Аристотель – устрицы. Гидрактиния, родственница медуз и актиний, достигает зрелости, соприкоснувшись с бактериями, обитающими на раковинах раков-отшельников. В океанах полно детенышей животных, чей биологический цикл будет завершен лишь при контакте с бактериями – нередко именно с P-luteo[98].
А что произойдет, если эти микробы вдруг исчезнут? Вымрут ли вышеупомянутые животные, потеряв возможность достигать зрелости и размножаться? Перестанут ли появляться коралловые рифы – самые богатые экосистемы океанов, – если разведчики-бактерии больше не будут выбирать для них подходящие места? «Я вроде никогда раньше не заявлял ничего настолько грандиозного», – с присущей ученым осторожностью говорит Хэдфилд. И, к моему удивлению, добавляет: «Но ведь так и есть. Разумеется, не всем личинкам в океане нужен стимул в виде бактерии, да и большинство личинок мы еще не проверили. Но полихеты, кораллы, актинии, морские желуди, мшанки, губки… Можно продолжать сколько угодно. Во всех этих группах есть виды, для которых бактерии – это основа».
Опять же, зачем полагаться на бактерий? Возможно, микробы позволяют личинкам прочнее закрепиться на месте или производят молекулы, отпугивающие болезнетворных бактерий. Но Хэдфилд считает, что все гораздо проще. Наличие биопленки предоставляет личинкам важную информацию о том, что тут (1) твердая поверхность, (2) которая уже давно здесь находится, (3) не слишком токсична и (4) с достаточным количеством питательных веществ для микробов. Чем не поводы там поселиться! Логично будет спросить: а почему бы не полагаться на бактерий? А еще логичнее: кто вас вообще спрашивает? «Когда личинки первых морских животных были готовы оседать, чистых мест нигде не было, – вторит Хэдфилд Ролзу и Кинг. – Все вокруг было покрыто бактериями. Неудивительно, что различия в тех сообществах бактерий и стали первым ключом к заселению».
Хоанофлагелляты Кинг и полихеты Хэдфилда не только тонко настроены на присутствие микробов, но и кардинально ими изменены. Без бактерий дружелюбные хоаны навсегда остались бы одиночками, а личинки червей навсегда остались бы недоразвитыми. Эти примеры прекрасно показывают, насколько сильно микробы могут изменить тела животных или их родственников. И все же симбиозом в привычном нам значении эти отношения не являются. Полихеты не дают P-luteo поселиться у себя в организме и, насколько мы знаем, во взрослой форме никак с ними не взаимодействуют. Их отношения мимолетны. Они как туристы, что спрашивают прохожих, как куда-то пройти, и идут дальше. А вот другие животные формируют с микробами отношения более длительные и взаимозависимые.
Одним из таких существ является плоский червь Paracatenula. Это крошечное создание, обитающее по всему миру в донных осадках теплых океанских вод, доводит симбиоз до крайности. Половина его тела длиной в один сантиметр состоит из бактерий-симбионтов. Они ютятся в полости под названием трофосома, которая занимает до 90 % самого червя. Практически все, что находится за мозгом, – это или микробы, или их жилплощадь. Биолог Харальд Грубер-Фодика, изучающий плоских червей, описывает бактерий как двигатель и аккумулятор одновременно: они вырабатывают для червей энергию и запасают ее в виде жиров и соединений серы. Эти запасы и придают червю ярко-белый цвет. Они же питают самую необычную способность червя: Paracatenula – мастер регенерации[99]. Разрежьте его надвое – и обе половинки превратятся в полностью жизнеспособных животных. Задняя половинка даже отрастит себе голову и мозг. «Если их нарезать, получится десять червяков, – говорит Грубер-Фодика. – То же, наверное, происходит и в природных условиях. Они вырастают все длиннее и длиннее, один конец отделяется, и червей становится двое». Это умение полностью зависит от трофосомы, населяющих ее бактерий и запасенной ими энергии. Покуда в куске плоского червя достаточно симбионтов, из него может вырасти целое животное. Если симбионтов слишком мало, кусок погибнет. Это значит, что, вопреки очевидному, единственный неспособный к регенерации фрагмент плоского червя – это его голова, в которой нет бактерий. Хвост отрастит себе мозг, но мозг сам по себе не сможет заново вырастить хвост.
Партнерство Paracatenula с микробами типично для всего царства животных, включая нас с вами. Хоть у нас и отсутствуют чудесные способности плоских червей к исцелению, мы все же предоставляем микробам жилье в собственном теле и взаимодействуем с ними на протяжении всей жизни. В отличие от трубочных полихет Хэдфилда, чьи тела благодаря бактериям в окружающей среде перевоплощаются лишь однажды, наши тела непрерывно строятся и меняются обитающими в нас бактериями. Наши с ними отношения – это не разовая интрижка, а непрерывные разговоры по душам.
Мы уже знаем, что микробы влияют на развитие кишечника и других органов, однако, закончив с этим, они не станут отдыхать. Чтобы организм животного функционировал, нужно поработать. По словам Оливера Сакса, «нет ничего более важного для выживания и независимости организмов, будь то слоны или простейшие, чем поддержание неизменной внутренней среды»[100]. А для поддержания как раз и необходимы микробы. Они воздействуют на отложение жира. Они помогают восполнять слои кожи и стенок кишечника, заменяя поврежденные и отмирающие клетки новыми. Они обеспечивают неприкосновенность гематоэнцефалического барьера – сети плотно прилегающих друг к другу клеток, пропускающих из крови в мозг питательные вещества и мелкие молекулы, но закрывающих туда доступ более крупным частицам и живым клеткам. Они даже влияют на беспрестанную реконструкцию скелета, во время которой появляется новая кость, а старая рассасывается[101].
Однако лучше всего их постоянное воздействие заметно в иммунной системе – это клетки и молекулы, работающие вместе, чтобы защитить тело от инфекции и других угроз. Она запутана до неприличия. Представьте себе огромную машину Голдберга, состоящую из кажущегося бесконечным набора составляющих, которые друг друга контролируют, запускают и оповещают. Теперь представьте, что эту машину не доделали: каждая ее часть не закончена, неправильно подключена к другим, или этих частей меньше, чем нужно. Именно так выглядит иммунная система стерильного грызуна. Именно поэтому такие животные, как сказал Теодор Розбери, «крайне подвержены заражению, будучи неподготовленными к опасностям окружающего мира»[102].
Это говорит о том, что геном животного предоставляет не все, что нужно для развития зрелой иммунной системы. Ей требуется участие микробиома[103]. В сотнях научных статей о самых разных видах животных – о мышах, мухах цеце, рыбках данио-рерио – показано, что микробы определенным образом помогают формировать иммунную систему. Они воздействуют на создание целых классов иммунных клеток и на развитие органов, которые эти клетки производят и накапливают. Особенно они важны на первых этапах жизни, когда только что построенная машина-иммунитет приспосабливается к большому и злому миру. А когда она входит в рабочий ритм, микробы продолжают проверять, как она реагирует на угрозы[104].
Взять, например, воспаление – это защитная реакция, при которой иммунные клетки устремляются к месту ранения или заражения и приводят к опухлости, покраснению и повышению температуры. Оно необходимо для защиты тела от угроз, без него нас бы изрешетили инфекции. Однако оно становится проблемой, когда разносится по всему телу, слишком долго не проходит или появляется по малейшему поводу: это может привести к астме, артриту и другим воспалительным и аутоиммунным заболеваниям. Поэтому воспаление должно вызываться лишь тогда, когда надо, и при этом тщательно контролироваться. Его подавление столь же важно, как и инициирование. Микробы занимаются и тем и другим. Одни виды стимулируют производство воинственных воспалительных клеток, а другие отвечают за мирные и кроткие противовоспалительные клетки[105]. Работая вместе, они позволяют нам реагировать на угрозы подобающе. Без них баланс исчезает – потому-то стерильные мыши и склонны как к инфекциям, так и к аутоиммунным заболеваниям: они не способны вызвать уместную иммунную реакцию, когда она так необходима, а в более спокойные времена не могут отразить неуместную.
Давайте на секунду остановимся и задумаемся, насколько это необычно. Привычный нам взгляд на иммунитет полон боевых метафор и воинственных словечек. Мы считаем его оборонительной силой, которая отличает свое (клетки нашего тела) от чужого (микробы и все остальное) и уничтожает последнее. Но сейчас мы понимаем, что микробы изначально формируют его и настраивают!
Рассмотрим всего один пример – широко распространенную кишечную бактерию Bacteroides fragilis, или B-frag. В 2002 году Саркис Мазманян установил, что именно этот микроб может исправить некоторые сложности с иммунитетом у стерильных мышей. Если точнее, то его присутствие восстанавливает нормальное количество Т-хелперов, важнейших иммунных клеток, которые объединяют остальных и управляют ими[106]. Мазманяну даже не нужен был весь микроб. Он выяснил, что всего одна сахарная молекула в его стенке – полисахарид А (PSA) – сама по себе способствует росту количества Т-хелперов. Так в первый раз было доказано, что один-единственный микроб… нет, одна-единственная микробная молекула способна исправить определенную иммунную проблему. Позже научная группа Мазманяна выяснила, что PSA может препятствовать появлению воспалительных болезней – например, поражающего кишечник колита и поражающего нервные клетки рассеянного склероза – и даже лечить их, по крайней мере у мышей[107]. Эти болезни возникают при слишком острой иммунной реакции, а PSA несет здоровье через умиротворение.
Однако вспомните, что PSA является бактериальной молекулой – если следовать здравому смыслу, именно ее иммунная система должна считать угрозой. По идее, PSA должен провоцировать воспаление. На деле он, наоборот, его подавляет и успокаивает иммунную систему. Мазманян называет его симбиотическим фактором – химическим посланием от микроба к хозяину, в котором говорится: «Я иду с миром»[108]. Это свидетельствует о том, что иммунная система не приучена с рождения различать безобидных симбионтов и вредных патогенов. В данном случае ей помогает именно микроб.
Но как же при таком раскладе нам считать иммунную систему воинственным войском, помешанным на уничтожении микробов? Разумеется, все гораздо заковыристее. Иммунитет может вскипеть, разозлившись на собственное тело, – отсюда и появляются аутоиммунные болезни, такие как диабет первого типа и рассеянный склероз. А может тихонько булькать себе, не обращая внимания на бессчетное количество местных микробов, таких как B-frag. Думаю, иммунную систему будет лучше сравнить с командой лесничих в заповеднике – и та и другая управляют экосистемой. Их задача – держать под тщательным контролем количество обитающих в экосистеме видов и избавляться от вторгшихся захватчиков.
Но вот в чем изюминка: обитающие в нашем парке существа сами наняли лесничих. Они приучили своих защитников заботиться об одних видах и прогонять другие. И они постоянно выделяют вещества, такие как PSA, которые определяют, насколько лесничие бдительны и проворны. Иммунитет – это не просто средство для контроля микробов. Он и сам контролируется микробами, по крайней мере отчасти. Это еще один способ, с помощью которого наши множества нас берегут.
Если составить список всех видов в микробиоме, можно будет узнать, кто там живет. Если составить список всех генов этих микробов, можно будет выяснить, на что они способны[109]. А вот если составить список всех химических веществ, которые производят микробы, мы сможем сказать, чем эти виды на самом деле занимаются. Какие-то из этих веществ мы уже повстречали – например, симбиотический фактор PSA и две манипулирующие моллюсками молекулы MAMP, которые выявила Макфолл-Най. Существуют еще сотни тысяч подобных молекул – мы только приступили к изучению их функций[110]. С помощью этих веществ животные общаются со своими симбионтами. Сейчас многие ученые пытаются подслушать, о чем они говорят, – и не только ученые. Молекулы, которые производят микробы, могут распространяться и вне организмов хозяев, доставляя сообщения по воздуху. Такие уведомления можно учуять в африканских саваннах.
Пятнистые гиены – самые общительные крупные хищники во всей Африке. В одном львином прайде может жить до дюжины особей, а в клане гиен – от 40 до 80. Они не находятся все в одном месте одновременно: на протяжении дня формируются и распадаются небольшие подгруппы. Потому-то гиен так интересно изучать биологам во время полевых исследований. «Можно наблюдать за львами в их естественной среде, но они все время лежат на месте, а можно несколько лет изучать волков и только находить помет или слышать вой, – рассказывает Кевин Тейс, поклонник гиен. – А вот гиены… у них и приветствия, и повторные принятия в клан, и сигналы лидерства и подчинения… Можно наблюдать за тем, как молодняк пытается выяснить свое положение в клане, или за тем, как пришедшие в клан самцы устраивают перекличку, чтобы понять, кто там есть. Их общественная жизнь гораздо более многогранна».
С этой многогранностью они справляются с помощью широкого ассортимента сигналов, в том числе химических. Пятнистая гиена расставляет задние лапы над стеблем высокой травы и выпячивает расположенную сзади пахучую железу, а затем трется ей о стебель, оставляя на нем тонкий слой пасты. Цвет может быть разным, от черного до оранжевого, а консистенция – от плотной до жидкой. А запах? «По-моему, она пахнет как перегной, но некоторые считают, что запах скорее напоминает чеддер или дешевое мыло», – делится Тейс.
Он уже несколько лет изучал выделения гиен, когда коллега вдруг спросил его, участвуют ли в создании запаха бактерии. Тейс вошел в ступор. Потом он узнал, что другие ученые выдвинули эту же теорию в 1970-х, утверждая, что в пахучих железах млекопитающих обитают бактерии, ферментирующие жиры и белки для производства воздушных молекул с сильным запахом. Различия среди этих микробов как раз могут объяснить, почему разным видам присущ свой характерный запах, – помните пахнущего попкорном бинтуронга из зоопарка Сан-Диего?[111] Они же могут стать своеобразным бейджиком животного и разглашать информацию о его статусе или состоянии здоровья. А когда особи играют вместе, борются и спариваются, есть вероятность, что они обменяются микробами, что придаст им уникальный запах всей группы.
Эта гипотеза казалась логичной, но подтвердить ее долгое время было нелегко. Несколько десятилетий спустя у Тейса в распоряжении оказались последние методологические наработки генетики, и таких сложностей не возникло. За время работы в Кении он собрал образцы пасты из желез 73 находящихся под наркозом гиен. Секвенировав ДНК живущих там микробов, он открыл больше типов бактерий, чем все предыдущие исследователи, вместе взятые. Он же выяснил, что эти бактерии и производимые ими вещества различаются у пятнистых гиен и полосатых, у гиен из разных кланов, у самок и самцов, а также у способных к зачатию и бесплодных[112]. На основании этих различий он заключил, что паста была своего рода химическим граффити, рассказывающим, кто художник и к какому виду он принадлежит, сколько ему лет и готов ли он к спариванию. Маркируя стебли травы своими пахучими микробами, гиены оставляют свою подпись по всей саванне.
Однако гипотеза пока так и остается гипотезой. «Нужно попробовать управлять микробиомом пахучих желез, чтобы узнать, изменятся ли типы запаха, – рассказывает Тейс. – Потом нужно будет доказать, что гиены замечают изменения в запахе и реагируют на них». Другие ученые тем временем нашли нечто подобное в пахучих железах и моче других млекопитающих, включая слонов, сурикатов, барсуков, летучих мышей и просто мышей. Запах старого суриката отличается от душка детеныша. У слона-самца амбре совсем не такое, как у самки.
И наконец, мы. Подмышка человека во многом похожа на пахучую железу гиены – тоже теплая, влажная и с кучей бактерий. Каждый вид создает свой запах. Corynebacterium превращает пот в нечто с запахом лука, а тестостерон – в нечто с запахом ванили или мочи либо вообще без запаха, зависит от генов нюхающего. Несут ли эти запахи полезные сигналы? Видимо, да! Микробиом подмышек на удивление устойчив, как и наши соответствующие запахи. Все люди воняют по-своему – в одной серии экспериментов добровольцы смогли узнать людей по запаху их футболок, умудрившись даже различить однояйцевых близнецов. Возможно, мы, как и гиены, способны получать информацию друг о друге, лишь учуяв запах сообщений, посланных нам микробами. И речь не только о млекопитающих. Кишечные бактерии пустынной саранчи производят часть агрегационного феромона, который побуждает этих одиночных насекомых собраться в затмевающий небо рой. Кишечные бактерии рыжих тараканов отвечают за их отвратительную привычку собираться вокруг фекалий друг друга. А клопы-краевики Thasus neocalifornicus полагаются на симбионтов для создания феромона тревоги, с помощью которого они предупреждают друг друга об опасности[113].
Зачем животным для создания химических сигналов прибегать к помощи микробов? Тейс предлагает ту же причину, что и Ролз, Кинг и Хэдфилд: это неизбежно. Любая поверхность населена микробами, которые производят легкоиспаряющиеся вещества. Если эти вещества сообщают о том, что не помешает знать, – о поле, скажем, о силе или способности к размножению, – пахучие органы животных-хозяев могут развиться так, чтобы давать приют соответствующим микробам. В конце концов случайные намеки превращаются в мощные произвольные сигналы. Вполне вероятно, что микробы, создавая воздушные послания, воздействуют на поведение особей, находящихся вдалеке от их хозяина. И если это так, неудивительно, что они способны влиять на поведение животных, в которых, собственно, обитают.
В 2001 году нейробиолог Пол Паттерсон ввел беременным мышам вещество, имитирующее вирусную инфекцию и провоцирующее иммунную реакцию. Детеныши родились здоровыми, но по мере их роста Паттерсон начал замечать в их поведении любопытные странности. Мыши вообще не слишком любят открытые пространства, а эти – особенно. Они сильно пугались громких звуков. Они беспрестанно чистили себя или закапывали мраморные шарики. Они оказались менее общительными, чем другие мыши, и не шли с ними на контакт. Тревожность, монотонные движения, проблемы с общением: в своих мышах Паттерсон увидел отражение двух человеческих расстройств – аутизма и шизофрении. Эти сходства были вполне предсказуемыми. Паттерсон когда-то читал, что у женщин, подвергающихся во время беременности серьезным инфекциям вроде гриппа или кори, с большей вероятностью рождаются дети с аутизмом и шизофренией. Он решил, что иммунная реакция матери может как-то воздействовать на развитие мозга плода. Однако он не знал, как именно[114].
Дошло до него несколько лет спустя, во время обеда с коллегой Саркисом Мазманяном, открывшим противовоспалительные способности кишечной бактерии B-frag. Вместе ученые осознали, что все это время смотрели на противоположные части одной и той же задачи. Мазманян выяснил, что кишечные микробы воздействуют на иммунную систему, а Паттерсон – что иммунная система влияет на развитие мозга. Оказалось, что мыши Паттерсона страдали от тех же проблем с кишечником, что и дети-аутисты: и те и другие в большей степени подвержены диарее и другим желудочно-кишечным расстройствам, и сообщества кишечных бактерий у них отклонялись от нормы. Возможно, заключили наши ученые, эти микробы каким-то образом воздействовали на поведенческие симптомы у людей и мышей? И возможно, вылечив желудочно-кишечные расстройства, можно повлиять на поведение?
Чтобы проверить эту гипотезу, ученые добавили B-frag в корм мышей Паттерсона[115]. Результаты превзошли ожидания. Грызуны начали более охотно разведывать новые места, почти избавились от склонности к монотонным движениям, стали более общительными и менее пугливыми. К другим мышам они все еще старались не приближаться, но все остальные проблемы, вызванные иммунной реакцией их матерей, B-frag исправила.
Как? И почему? Логичнее всего предположить вот что: имитация вирусной инфекции у беременных матерей запустила иммунную реакцию, из-за которой стенки кишечника у детенышей выросли слабыми и в них поселились нетипичные микробы. Выделяемые ими вещества попадали в кровь и отправлялись к мозгу, где запускали атипичное поведение. Главный злодей здесь – токсин под названием 4-этилфенилсульфат (4EPS), вызывающий тревожность у здоровых в целом животных. Когда мыши проглатывали B-frag, микробы залатывали их кишечник, тем самым прерывая поток 4EPS (и других веществ) к мозгу и избавляя мышей от отклонений.
В 2014 году Паттерсон умер, но Мазманян продолжил исследования друга. Его конечная цель – вывести бактерию, которую можно будет употреблять с пищей для облегчения особенно тяжелых симптомов аутизма. Возможно, ей станет B-frag – в организмах мышей она справилась замечательно, а в кишечнике больных аутизмом наблюдается ее острый дефицит. Родители детей-аутистов, прочитавшие его статьи, часто пишут ему с вопросом, где эту бактерию взять. Многие из них уже дают своим детям пробиотики, чтобы облегчить проблемы с кишечником, – некоторые из них утверждают, что заметили улучшения в поведении. Теперь Мазманян вдобавок к этим рассказам хочет добыть объективные клинические данные. Он верит в лучшее.
Другие же сомневаются. Прежде всего, критикуют тот факт, что, по словам популяризатора науки Эмили Уиллингэм, «у мышей не бывает аутизма – это человеческая нейробиологическая концепция, в какой-то мере определенная тем, что в обществе принято считать нормальным»[116]. Действительно ли мышь, все время закапывающую мраморный шарик, можно сравнить с качающимся из стороны в сторону ребенком? Действительно ли более редкие попискивания – то же самое, что неспособность разговаривать с людьми? С одной стороны, сходств с аутизмом действительно много. С другой – можно заметить и сходства с расстройствами иного рода: мышей Паттерсона, к примеру, изначально вывели для наблюдения симптомов шизофрении, а не аутизма. Опять же, команда Мазманяна недавно провела эксперимент, результаты которого наталкивают на мысль, что особенности поведения мышей и людей с аутизмом действительно связаны. Пересадив микробов из кишечников детей-аутистов, они обнаружили, что у грызунов появились те же странности, что описывал Паттерсон, – повторяющиеся движения и неприязнь к общению[117]. Значит, микробы хотя бы частично отвечают за эти особенности поведения. «Вряд ли кому-то придет в голову утверждать, что аутизм можно полностью воспроизвести в организме мыши, – улыбается Мазманян. – У результатов есть свои пределы, но как уж есть».
Паттерсон и Мазманян доказали по крайней мере то, что манипуляции с кишечными микробами мыши – или даже с одной микробной молекулой 4EPS – могут повлиять на ее поведение. Мы уже знаем, что микробы воздействуют на развитие кишечника и костей, кровеносных сосудов и Т-хелперов. Теперь мы выяснили, что они меняют и мозг – орган, который влияет на то, какие мы на самом деле, больше, чем какой-либо другой. Довольно тревожная мысль. Мы так трепетно относимся к свободе воли, что перспектива потери независимости и переход власти к невидимым силам вызывает у нас подсознательный ужас. Художественная литература переполнена оруэлловскими антиутопиями, тайными заговорами и контролирующими разум злодеями. А оказалось, что все это время нами управляли живущие в нас микроскопические одноклеточные организмы, не имеющие мозга.
6 июня 1822 года на одном из островов Великих озер двадцатилетнему торговцу мехом Алексису Сент-Мартину нечаянно выстрелили в бок из мушкета. Единственным врачом на острове был армейский хирург по имени Уильям Бомонт. К тому времени, как Бомонт прибыл на место, Сент-Мартин уже полчаса истекал кровью. Ребра у него были сломаны, а мышцы порваны. Из бока показывалась часть обожженного легкого. В области желудка зияла дыра шириной с палец, из которой наружу вытекала полупереваренная пища. «В этой ситуации я посчитал, что спасать ему жизнь нет смысла, все равно не выйдет», – написал позже Бомонт[118].
Однако он попытался. Он забрал Сент-Мартина к себе домой и, вопреки всему, спустя месяцы ухода и множество операций ему удалось стабилизировать больного. Однако Сент-Мартин так и не выздоровел полностью. Его желудок сросся со стенками дыры в животе, создав тем самым прямой выход наружу – «непроизвольное отверстие», как назвал его Бомонт. О пушном промысле Сент-Мартин мог забыть, так что он стал помощником и слугой врача. Бомонт к нему относился как к лабораторной мыши. В те времена о работе пищеварения не было известно практически ничего. В ране Сент-Мартина Бомонт увидел настоящее окно возможностей – в прямом смысле слова. Он собрал множество образцов желудочного сока и иногда даже просовывал пищу сквозь отверстие, чтобы посмотреть на процесс переваривания. Опыты продолжались до 1833 года, а потом мужчины распрощались. Сент-Мартин вернулся в Квебек, стал фермером и умер в возрасте 78 лет. Бомонт же прославился как отец гастрофизиологии[119].
Среди многих наблюдений Бомонта есть запись о том, что на желудок Сент-Мартина влияло его настроение. Когда он раздражался или сердился – а сложно не разозлиться, когда хирург запихивает в тебя еду через дырку в боку, – менялась скорость переваривания. Это стало первым явным признаком того, что мозг оказывает влияние на кишечник. Почти два века спустя эта истина нам прекрасно знакома. Когда у нас меняется настроение, мы теряем аппетит, а когда мы голодны, у нас меняется настроение. Расстройства психики и пищеварительные расстройства часто идут рука об руку. Биологи говорят об «оси кишечник – мозг» – двустороннем пути общения мозга и кишечника.
Теперь мы знаем, что кишечные микробы являются частью этой оси, причем в обоих направлениях. Скудный ручеек исследований с 1970-х показал, что любые виды стресса – голод, бессонница, отлучение от матери, внезапное появление кого-то агрессивного, непривычная температура, толпа, даже громкие звуки – могут внести изменения в микробиом кишечника мыши. И наоборот: микробиом способен повлиять на поведение хозяина, в том числе на его социальные установки и стрессоустойчивость[120].
В 2011 году этот ручеек превратился в реку. В течение нескольких месяцев разные ученые опубликовали потрясающие статьи, доказывающие, что микробы способны влиять на мозг и поведение[121]. Свен Петтерсон из Каролинского института в Швеции выяснил, что стерильные мыши менее тревожны и более смелы, чем их родичи с микробами. Но если в их организмы в раннем возрасте попадали микробы, вырастая, эти мыши вели себя так же осторожно, как все остальные. На другом берегу Атлантического океана Стивен Коллинз из канадского Университета Макмастера сделал подобное открытие едва ли не случайно. Будучи по образованию гастроэнтерологом, он исследовал влияние пробиотиков на кишечник стерильных мышей. «Лаборант мне сказал, что с этим пробиотиком что-то не то и мыши из-за него становятся нервными, – вспоминает он. – Они, мол, какие-то не такие». Тогда Коллинз работал с двумя обычными линиями лабораторных мышей, представители одной из которых были от природы более робкими и пугливыми, чем представители другой. Если он заселял кишечники стерильных мышей более смелой линии микробами из робкой линии, мыши становились более робкими. И наоборот: стерильные особи робкой линии становились смелее благодаря микробам своих отважных родичей. Коллинз на более сенсационный результат и рассчитывать не мог – обменявшись кишечными бактериями, животные обменялись еще и частью индивидуальности.
Как мы уже знаем, стерильные мыши – это необычные существа со множеством физиологических странностей, которые вполне могли повлиять на их поведение. Поэтому очень важным стало открытие Джона Крайана и Теда Дайнана из Ирландского национального университета в Корке, обнаруживших схожие результаты у обычных мышей с полноценным микробиомом. Они работали с той же линией робких мышей, что исследовал Коллинз, и у них получилось изменить поведение животных, скормив им один штамм бактерии Lactobacillus rhamnosus, часто используемой в йогуртах и молочных продуктах. Усвоив этот штамм, известный как JB-1, мыши стали лучше справляться с тревожностью и начали проводить больше времени в открытых частях лабиринта или посреди открытого пространства. Еще они начали успешнее бороться с плохим настроением – когда их роняли в емкость с водой, они старались больше грести лапками и меньше уныло покачиваться на воде[122]. Подобные тесты часто проводятся для выяснения степени эффективности психиатрических препаратов, и эффект JB-1 был как раз похож на действие успокоительных и антидепрессантов одновременно. «Мыши как будто принимали уменьшенные дозы «Прозака» или «Валиума», – говорит Крайан.
Чтобы выяснить, что именно делала бактерия, члены научной группы рассмотрели мышиные мозги. Они выяснили, что JB-1 воздействовал на то, как различные участки мозга – те, что отвечают за обучение, память и контроль над эмоциональным состоянием, – реагируют на GABA, успокоительное вещество, которое утихомиривает возбуждение нейронов. Здесь снова всплывает поразительная схожесть с психическими расстройствами у людей: тревожность и депрессию связывают с нарушениями реакции на GABA, а группа успокоительных препаратов под названием бензодиазепины как раз усиливает эффекты GABA. Вдобавок к этому ученые выяснили, как именно микробы воздействуют на мозг. Главным подозреваемым у них был блуждающий нерв. Это длинный ветвистый нерв, связывающий мозг и внутренние органы, в том числе кишечник, – настоящее воплощение оси «кишечник – мозг». Ученые его удалили, и оказалось, что изменяющий сознание JB-1 растерял всю свою мощь[123].
И эти, и следующие за ними исследования показали, что изменение микробиома мыши способно поменять ее поведение, химические вещества у нее в мозге и склонность к мышиным вариантам тревожности и депрессии. Однако в них достаточно много расхождений. В одних исследованиях было показано, что микробы воздействуют только на мозг детенышей, в других – что подростки и взрослые тоже подвержены их влиянию. Одни выяснили, что благодаря бактериям грызуны становятся менее тревожными, а другие – что более. Одни пришли к выводу, что микробам необходим блуждающий нерв, а другие подчеркивают, что микробы способны производить нейромедиаторы, такие как дофамин и серотонин, а они в свою очередь переносят послания от нейрона к нейрону[124]. Появления подобных трудностей следовало ожидать – когда сталкиваются две настолько сложные вещи, как микробиом и мозг, надеяться на идеальные результаты довольно наивно.
Сейчас вопрос в том, важно ли что-нибудь из этого на самом деле. Действительно ли едва уловимое воздействие микробов на организм, выявляемое в регулируемой среде лабораторных мышей, имеет какое-то значение на практике? Крайан понимает, что сомнения неизбежны и что заглушить их можно лишь одним способом – нужно проводить опыты не только на грызунах. «Мы должны заняться людьми», – утверждает он.
В попытках выяснить, действительно ли у людей меняется поведение после приема антибиотиков или пробиотиков, было проведено несколько исследований, но и там не все ладно – то с методикой проблемы, то результаты неоднозначные. В одном из перспективных исследований (хотя все равно мелком) Кирстен Тиллиш обнаружила, что у женщин, употребляющих в день по две порции йогурта с большим содержанием микробов, участки мозга, отвечающие за обработку эмоций, были менее активны, чем у тех, кто употреблял молочные продукты без микробов. Так и не известно, что эти различия означают, зато можно точно сказать, что бактерии воздействуют на деятельность головного мозга[125].
Сложнее будет выяснить, могут ли бактерии помочь людям справиться со стрессом, тревожностью, депрессией и другими отклонениями в психике. И здесь уже есть определенные успехи. Стивен Коллинз совсем недавно закончил небольшое клиническое исследование, в котором пробиотическая бифидобактерия, запатентованная продовольственной компанией, ослабляла признаки депрессии у людей с синдромом раздраженного кишечника[126]. «Думаю, это первая демонстрация способности пробиотика справляться с отклонениями от нормального поведения среди больных», – заявляет он. Джон Крайан и Тед Дайнан тем временем почти закончили собственное исследование, в котором пытаются понять, могут ли пробиотики – психобиотики, как они их называют, – помогать людям справляться со стрессом. Дайнан, психиатр, владеющий клиникой для страдающих от депрессии, больших надежд на это не возлагает. «Должен сказать, что раньше я сильно сомневался в том, что у животного изменится поведение, если накормить его микробами», – делится он. Сейчас он переубежден, но все еще считает, что «вряд ли получится создать смесь пробиотиков, способных справиться с тяжелой депрессией». «Однако небольшой потенциал у исследований все же есть, – добавляет Дайнан. – Многие отказываются принимать антидепрессанты, или же лечение им не по карману, и если мы сможем предложить им эффективный пробиотик, это станет крайне важным прорывом в психиатрии».
Благодаря этим исследованиям многим ученым уже приходится рассматривать разные аспекты поведения человека, помня при этом о микробах. Если часто пить алкоголь, стенки кишечника становятся слабее, а значит, микробы в большей степени воздействуют на мозг – можно ли этим объяснить склонность алкоголиков к депрессии и тревожности? Наше питание меняет сообщества микробов у нас в кишечнике – могут ли эти изменения распространяться и на разум?[127] С возрастом микробиом кишечника становится менее устойчивым – не это ли одна из причин роста заболеваний головного мозга у пожилых? А может, микробы могут влиять на то, что мы хотим съесть? Вот тянетесь вы за бутербродом или шоколадкой – но что именно движет вашей рукой?
С вашей точки зрения, выбор нужного пункта в меню обуславливает разницу между хорошим обедом и плохим. А вот для ваших кишечных бактерий этот выбор куда более важен. Разные микробы предпочитают разную пищу. Одни лучше всех переваривают растительную клетчатку, другие обожают жиры. Выбирая, что поесть, вы также решаете, какие бактерии насытятся и получат преимущество над другими. А им совсем не обязательно сидеть и терпеливо ждать, пока вы определитесь. Мы уже знаем, что бактерии способны воздействовать на нервную систему. Если бы они вырабатывали дофамин – вещество, вызывающее чувство наслаждения, – когда вы едите то, что им нужно, получилось ли бы у них приучить вас выбирать из всех возможных вариантов именно эту пищу? Есть ли у них право голоса?[128]
Пока что это лишь предположение – но не такое уж невозможное. В природе полно паразитов, которые контролируют разум хозяев[129]. Вирус бешенства поражает нервную систему и делает носителей вспыльчивыми и агрессивными – нападая на других животных и кусая их или царапая, они переносят вирус в организм новых хозяев. Toxoplasma gondii – паразит, поражающий головной мозг, – тоже манипулятор. Размножаться он может только в кошачьем организме. Оказавшись внутри крысы, он подавляет ее страх перед кошачьим запахом, заменяя его на что-то вроде полового влечения. Грызун тут же отправляется на поиски ближайших котов. Исход предсказуем – теперь T. gondii сможет завершить свой жизненный цикл[130].
Вирус бешенства и T. gondii – самые настоящие паразиты, ведь они размножаются за счет своих хозяев, нанося им ущерб и нередко приводя к их гибели. Наши кишечные микробы совсем не такие. Они – естественная часть нашей жизни. Они помогают нам создавать наше тело – пищеварительную, иммунную и нервную системы. Они приносят нам пользу. Однако не стоит из-за этого становиться беспечными. Микробы-симбионты все еще существуют сами по себе. У них свои интересы и своя борьба за существование. Они могут быть нашими партнерами, но не друзьями. Даже в самом гармоничном симбиозе есть место разногласиям, эгоизму и предательству.
Глава 4. Условия договора
В 1924 году Маршалл Гертиг и Симеон фон Вольбах обнаружили внутри комара обыкновенного, Culix pipiens, пойманного неподалеку от Бостона и Миннеаполиса, новый микроорганизм[131]. Внешне он чем-то напоминал бактерию Rickettsia, которая, как прежде установил Вольбах, вызывает пятнистую лихорадку Скалистых гор и сыпной тиф. Однако новый микроб вроде бы ни к каким заболеваниям причастен не был, так что внимания на него обращать не стали. Лишь двадцать лет спустя Гертиг официально назвал его Wolbachia pipientis – в честь друга, его открывшего, и комара, его носящего. И лишь спустя еще много десятилетий биологи наконец осознали, насколько эта бактерия на самом деле особенная.
У многих людей есть любимый фильм или любимая группа, а у популяризаторов науки, часто пишущих про микробиологию, нередко появляется любимая бактерия. У меня это вольбахия. Характер ее великолепен, а распространена она потрясающе широко. А еще она является замечательным примером двуличности микробов – партнеров и паразитов.
В 1980-х и 1990-х, после того как Карл Везе открыл миру способ идентифицировать микробов путем секвенирования их генов, биологи начали обнаруживать вольбахию повсюду. Ученые, независимо друг от друга исследующие бактерий, способных управлять половой жизнью своих хозяев, поняли, что все это время работали с одним и тем же микроорганизмом. Ричард Стаутхамер открыл группу асексуальных наездников, все представители которой были самками и размножались клонированием. Этой чертой они оказались обязаны бактерии, а именно вольбахии: когда Стаутхамер накормил их антибиотиками, среди них вдруг снова появились самцы и представители обоих полов начали спариваться. Тьерри Риго обнаружил в мокрицах бактерий, превращающих самцов в самок, препятствуя образованию половых мужских гормонов, – и это тоже были вольбахии. Грег Херст выяснил, что зародышей самцов прекрасной лунной бабочки с Фиджи и Самоа убивала бактерия, в результате чего самки превосходили количеством самцов примерно в сто раз, – снова вольбахия. Все они относились к разным штаммам и представляли из себя разные версии микроба из комара Гертига и Вольбаха[132].
Вольбахия не просто так «ненавидит» самцов. Она может передаваться следующему поколению только в яйцеклетках – сперматозоиды слишком мелкие, ей в них не поместиться. Ее билет в будущее – это самки, а самцы – эволюционный тупик. Так что в процессе эволюции у нее появилось множество способов от самцов избавиться. Она их убивает – пример тому бабочки Херста. Превращает в самок – пример тому мокрицы Риго. Делает так, что самцы становятся вообще не нужны, давая самкам возможность размножаться вегетативным способом, – пример тому наездники Стаутхамера. На все эти уловки способна не только вольбахия, но лишь она имеет в своем арсенале сразу три.
В тех случаях, когда вольбахия все-таки позволяет самцам выжить, она не перестает ими управлять. Она частенько вносит изменения в их сперму, чтобы они не могли оплодотворять яйцеклетки, если те не заражены тем же штаммом вольбахии. В результате зараженные самки (которые могут спариваться с кем угодно) получают преимущество перед незараженными (которые могут спариваться лишь с незараженными самцами). С каждой сменой поколений зараженных самок становится все больше, как и переносимых ими особей вольбахии. У эффекта и название есть – цитоплазматическая несовместимость. Это самая любимая и успешная стратегия вольбахии – штаммы, которые ей следуют, распространяются по популяции настолько быстро, что, как правило, заражают 100 % потенциальных хозяев.
Вдобавок к своим мужененавистническим приемам вольбахия прекрасно справляется с вторжением в яичники и захватом яйцеклеток, так что за родителями ее «донашивает» потомство. А еще она с необычной ловкостью находит себе новых хозяев, так что, даже если с одним видом ей приходится разойтись, она может поселиться в дюжине новых. «Одну и ту же вольбахию я могу найти в австралийском жуке и европейской мухе», – говорит биолог Джек Уэррен, исследующий эту бактерию. Потому-то вольбахия и стала столь распространенной. В одном недавнем исследовании выяснилось, что она поражает по меньшей мере четыре из десяти видов членистоногих – в эту группу входят насекомые, пауки, скорпионы, клещи, мокрицы и многие другие. Это же абсурдные масштабы! Большинство из примерно 7,8 миллиона живущих сейчас видов животных – это членистоногие. Если вольбахия действительно поразила из них 40 %[133], то, пожалуй, она является самой успешной бактерией в мире – по крайней мере, на суше[134]. Вольбах, к сожалению, об этом так и не узнал. Он умер в 1954 году, не подозревая, что его именем был назван один из самых пронырливых инфекционных агентов во всей истории жизни.
У многих животных вольбахия поражает половую систему, то есть манипулирует половой жизнью хозяев для достижения своих целей. Хозяевам из-за этого тяжко – одни умирают, другие становятся бесплодными. Тем, до кого бактерия не добралась, тоже нелегко – партнеров для спаривания у них совсем мало. Казалось бы, вольбахия – архетип «злого микроба», однако у нее есть и полезные качества. Она приносит пользу некоторым круглым червям, какую – неизвестно, однако они без нее не могут выжить. Она защищает некоторые виды мух и комаров от вирусов и других патогенов. Наездники Asobara tabida без нее не способны создавать яйца. Для постельных клопов вольбахия – питательная добавка: она производит витамины группы B, а в крови, которой клопы питаются, их почти нет. Без вольбахии клопы задерживаются в развитии и не могут производить потомство[135].
Но о самом поразительном свойстве вольбахии вы узнаете, если прогуляетесь осенью по яблоневому саду в Европе. Среди желтых и рыжих листьев вы, возможно, найдете несколько с зелеными островками – они словно защищаются от увядания. Это работа моли-пестрянки Phyllonorycter blancardella, чьи гусеницы обитают в листьях яблони. Практически все они являются носителями вольбахии. В этих насекомых она выделяет гормоны, предотвращающие пожелтение и отмирание листа. Именно с помощью нее гусеницы задерживают приход осени, чтобы дать себе время вырасти. Если избавиться от вольбахии, листья погибнут и опадут, а вместе с ними и гусеницы.
Получается, что вольбахия – создание многоликое. Одни штаммы – самые настоящие паразиты, эгоистичные интриганы, благодаря своему манипуляторскому мастерству распространившиеся по всему миру на крыльях и ножках тысяч хозяев. Они убивают животных, извращают их биологию и ограничивают их в выборе. Другие же – мутуалисты, доброжелатели, незаменимые союзники. А некоторые так вообще все сразу. И вольбахия в своем многообразии не единственная.
Эта мысль довольно необычна для книги, повествующей о том, как важно мирно сосуществовать с микробами, но в то же время крайне важна: микробов вообще нельзя разделить на хороших и плохих. Для детских сказок такие обобщения еще подойдут, но уж точно не для описания беспорядочных, капризных, неоднозначных связей в живой природе[136].
В действительности бактерии могут вести себя по-разному и быть как «плохими» паразитами, так и «хорошими» мутуалистами. Некоторые микробы, например вольбахия, запросто меняют роли в зависимости от штамма и организма-хозяина. Однако многие являются одновременно и патогенами, и мутуалистами: желудочные бактерии Helicobacter pylori вызывают язву и рак желудка, зато те же штаммы защищают нас от рака пищевода[137]. Некоторые способны надевать разные маски в зависимости от обстоятельств, находясь в одном и том же хозяине. Вполне можно сказать, что названия «мутуалист», «комменсал», «патоген» и «паразит» – не отличительные знаки, а скорее различные варианты состояния (наподобие «голодный», «заспанный», «живой») или типы поведения («сотрудничающий», «враждебный»). Они больше напоминают прилагательные и причастия, чем существительные, так как служат для описания отношений двух партнеров в определенный момент и в определенных условиях.
Николь Бродерик обнаружила отличный пример того, как меняются отношения между микробом и хозяином, во время изучения почвенной бактерии Bacillus thuringiensis, или Bt. Бацилла производит токсины, которые пронзают пищеварительный тракт гусеницы и тем самым ее убивают. Фермеры, кстати, с 1920-х годов охотно используют ее в качестве живого пестицида, даже на органических фермах. Об эффективности такого метода никто не спорит, но на протяжении аж нескольких десятилетий ученые ошибочно думали, что насекомые попросту умирали от голода, так как повреждения от токсинов были слишком серьезными. В этом объяснении явно чего-то не хватало: исследования показали, что гусенице для голодной смерти требовалась неделя, а Bt могла ее убить дня за три.
Что у них там происходило на самом деле, Бродерик выяснила едва ли не случайно[138]. Она подозревала, что в кишках гусениц могли быть микробы, защищающие их от Bt. Поэтому, перед тем как порадовать очередную группу гусениц живым пестицидом, она накормила их антибиотиками. Ожидалось, что в отсутствие микробов-защитников гусеницы умрут еще быстрее. А они взяли и все выжили. Как выяснилось, эти кишечные бактерии не защищают гусениц, а скорее являются орудием их убийства бациллами! В кишках они безвредны, но они могут проникнуть в кровь через повреждения от токсинов Bt. Тогда их замечает иммунная система гусениц – и привет. По организму распространяется воспаление, повреждая органы и препятствуя нормальному кровотоку. Заражение крови – вот от чего насекомые погибают.
Возможно, то же самое ежегодно происходит с миллионами людей. Нас так же заражают патогены, протыкающие нам кишки, а потом наши кишечные микробы отправляются в круиз по кровеносной системе, устраивая нам заражение крови. Как и у гусениц, эти микробы могут помогать нашему организму, находясь в кишечнике, и становиться нашими врагами, попадая в кровоток. Они являются мутуалистами лишь тогда, когда этому способствует их окружающая среда. Те же принципы применимы к живущим в нас «бактериям-оппортунистам»: обычно они безвредны, но в организмах с ослабленным иммунитетом вполне могут вызвать опасную для жизни инфекцию[139]. В общем, все зависит от ситуации. Даже такие давние и надежные симбионты, как митохондрии, источники энергии в животных клетках, могут сильно навредить, оказавшись не в том месте. Если вы, скажем, порежетесь или ударитесь, часть ваших клеток разорвется, а фрагменты митохондрий попадут в кровь. Не стоит забывать о древней бактериальной природе этих фрагментов: когда ваша иммунная система их заметит, ей покажется, что организму угрожает инфекция, и она начнет формировать защиту от нее. Если травма серьезная и в кровь попало достаточно митохондрий, воспаление может разойтись по всему телу и стать причиной синдрома системной воспалительной реакции организма (SIRS)[140]. Этот синдром может причинить организму больший ущерб, чем сама травма. Как бы глупо это ни звучало, SIRS возникает лишь оттого, что наше тело перегибает палку при встрече с микробами, мирно живущими у нас в клетках более двух миллиардов лет. Даже красивый цветок с клумбы можно посчитать за сорняк, если он вырастет на грядке с тыквами. Так и с микробами: они могут быть незаменимы в одном органе и опасны в другом, жизненно необходимы внутри наших клеток и смертоносны вне их. «Если у вас немного снизится иммунитет, они вас убьют, а когда вы умрете – сожрут, – стращает Форест Роуэр, специалист по биологии кораллов. – Им до вас нет дела. Это не дружба, это всего лишь биология».
Так что в мире симбиоза наши союзники могут запросто нас предать, а враги – встать на нашу сторону. Для того чтобы разрушить давний союз, порой достаточно пары миллиметров.
Так почему наши с ними отношения столь ненадежны? Почему микробы вот так вот запросто становятся то патогенами, то мутуалистами? На самом деле эти роли противоречат друг другу не так сильно, как кажется на первый взгляд. Что дружелюбному соседушке-микробу нужно сделать в кишечнике, чтобы выжить и установить с организмом хозяина прочные отношения? Правильно – уцепиться за стенки кишечника, чтобы не унесло, и начать взаимодействовать с клетками нового дома. То же самое должны сделать и патогены. Так что и герои, и злодеи часто используют одни и те же молекулы для одних и тех же целей. Каким-то из этих молекул дали имена с негативной коннотацией: например, «факторы вирулентности» – так как открыты они были в контексте болезни, – а ведь на самом деле и они, и использующие их микробы сами по себе нейтральны. Они – всего лишь инструменты, как компьютер, шариковая ручка и нож: с их помощью можно как творить чудеса, так и устраивать пакости.
Даже микробы, которых мы считаем полезными, могут нам косвенно вредить, создавая уязвимости, облегчающие работу паразитам и патогенам. Иногда эти уязвимости появляются просто из-за самого их присутствия. Микробы, живущие в организме тли и необходимые для ее жизнедеятельности, например, производят летучие молекулы, привлекающие муху-журчалку. Для тли эта черно-желтая мушка, внешне напоминающая осу, – верная смерть. Ее личинки, пока не окуклятся, пожирают тлей сотнями, так что для того, чтобы прокормить потомство, взрослые особи вынюхивают «Микробиом № 5» – отличительный аромат тли, которым она не может не пахнуть. В природе таких непреднамеренных приманок не счесть – вы, кстати, их тоже выделяете прямо сейчас. Некоторые бактерии превращают хозяев в ходячий шведский стол для малярийных комаров, а другие, наоборот, их отпугивают. Никогда не видели, как из двух людей, вместе бродивших по лесу, один с ног до головы покрыт укусами мошек, а второй идет себе и улыбается лучезарно? Частично за это отвечают наши собственные микробы[141].
Еще патогены могут использовать наших микробов для вторжения в организм – как, например, вирус полиомиелита. Он хватается за молекулы на оболочке кишечных бактерий, как за поводья, и едет на них к клеткам хозяина. Цепляться за клетки млекопитающих ему удобнее, к тому же благодаря нашей температуре тела его покатушки на микробах становятся гораздо приятнее. Этим микробам, собственно, полиовирус и обязан высокой эффективностью своих атак[142].
Важно понять, что симбиоз с микробами имеет свою цену. Даже помогая своим хозяевам, они создают в их организмах слабые места. К тому же их нужно приютить, накормить и переместить куда надо – то есть потратить на это энергию. И что главное, у них, как и у любого другого организма, есть свои интересы, которые не всегда совпадают с интересами организма хозяина. Wolbachia передается от матери к дочери, так что, убивая самцов, в краткосрочной перспективе она приобретет больше носителей – но в долгосрочной есть вероятность, что носители вымрут. Если некоторые бактерии гавайской эупримны потухнут, они сэкономят энергию, но если их погаснет слишком много, то эупримна утратит защитную подсветку и вся компания станет обедом какого-нибудь внимательного хищника. Если микробы у меня в кишечнике начнут подавлять мою иммунную систему, они улучшат себе условия для роста, а вот я заболею.
Впрочем, любое товарищество в биологии основано именно на этом. Всегда есть те, кто попытается урвать себе лучший кусок. Всегда есть опасность того, что ваш партнер вас подставит. Симбиотические пары могут прекрасно сосуществовать и сотрудничать, но появись у одного партнера возможность получить те же выгоды, прилагая меньше усилий и без какой-либо опасности для себя, – он обязательно ею воспользуется, если за ним не проследить и не наказать. Об этом в 1930 году писал Герберт Джордж Уэллс: «В каждом симбиозе в какой-то степени таится вражда, и состояние взаимовыгоды может поддерживаться лишь надлежащей выверкой и нередко тщательным согласованием. Отношения ради взаимной пользы нелегко сохранить даже между людьми – и это несмотря на то, что мы наделены достаточным умом для того, чтобы понять значение подобных связей. У низших же организмов нет разумения, необходимого для развития таких отношений. Взаимовыгодное партнерство – это адаптация, подхватываемая ими столь же слепо и осуществляемая столь же неосознанно, сколь и все остальные виды симбиоза»[143].
Об этих правилах часто забывают. Нас устраивают рассказы про борьбу добра со злом, где сразу ясно, кто герой, а кто злодей. За последние несколько лет популярный ранее лозунг «Смерть бактериям!» постепенно сменился на «Микроб мне друг, да здравствует микроб!», только вот вторая точка зрения столь же неверна, как и первая. Мы не можем взять и сказать, что вот этот микроб хороший, лишь потому, что он внутри нас живет. Об этом порой забывают даже ученые. Изменилось и значение самого термина «симбиоз»: у нейтрального прежде значения «сожительство» появились чудные позитивные оттенки, напоминающие о содружестве и гармоничном блаженстве. Увы, эволюция так не работает. Она далеко не всегда предпочтет взаимодействие, даже если оно выгодно всем, и нередко обременяет раздором даже самые слаженные отношения.
Эта печальная правда станет еще более явной, если мы ненадолго покинем мир микробов и взглянем на ребят покрупнее – например, на волоклюев. Эти птицы живут в Африке к югу от Сахары – там они находят себе жирафов и антилоп и выклевывают из их шкур клещей и разных кровососов. Но они также могут и открытые раны поклевать – а это замедляет процесс заживления и повышает риск попадания в рану инфекции. Пташки жаждут крови и утоляют эту жажду за счет крупных животных, а вот полезно оно для этих животных или нет – зависит от ситуации. Похожие процессы можно наблюдать у коралловых рифов – мелкая рыбка губан-чистильщик там заведует природным спа-салоном. Крупные рыбы приплывают туда, чтобы почистить чешуйки, и губан вытаскивает паразитов из их челюстей, жабр и других труднодоступных участков тела. Губанам – еда, клиентам – медицинские услуги. Однако иногда губаны мухлюют и начинают поедать кусочки слизи и здоровой ткани. Клиентам такой сервис не нравится, и они уплывают, да и другие губаны не погладят по головке коллег-обманщиков, отпугивающих потенциальных клиентов. Тем временем в Южной Америке муравьи защищают акацию от сорняков, вредителей и животных на выпасе. Акация взамен предоставляет муравьям сахарные вкусняшки и полые вздутия у основания шипов, в которых можно жить. На первый взгляд, у них абсолютно взаимовыгодные отношения. Вот только дерево добавляет в муравьиную пищу особый фермент, из-за которого муравьи теряют способность переваривать сахар, полученный из других источников. Оказывается, муравьи – не свободные вассалы, а эксплуатируемые рабы. Все это традиционные примеры кооперации, их можно найти в учебниках и документальных фильмах о дикой природе. И в каждом из них имеется привкус раздора, манипуляции и обмана[144].
«Нужно научиться разделять важное и гармоничное. Микробиом очень важен для нас, но это вовсе не значит, что он гармоничен», – утверждает эволюционный биолог Тоби Кирс[145]. Эффективное парт-нерство вполне можно считать использованием друг друга. «Оба партнера могут получать выгоду, но их отношениям все равно присуща некая напряженность. Симбиоз – это конфликт, который невозможно разрешить полностью».
Однако симбиотическими отношениями можно управлять и в какой-то мере их стабилизировать. В конце концов, воды вокруг Гавайев не населяют полчища темных моллюсков[146]. Среди множества видов насекомых, пораженных вольбахией, есть самцы. Иммунная система у меня работает вполне неплохо. У нас получилось построить стабильные отношения с микробами, сделать их верными партнерами, а не предателями. Мы придумали, как выбирать виды бактерий, которые будут в нас жить, и как держать их под контролем, чтобы они вели себя как мутуалисты, а не как патогены. Здесь, как и везде, чтобы добиться наилучших отношений, приходится потрудиться. Во всех важных преобразованиях в истории жизни – от одноклеточных организмов к многоклеточным, от отдельных особей к симбиотическим союзам – нужно было разобраться с одной и той же задачей: как преодолеть корыстные помыслы отдельных особей и создать группу, основанную на сотрудничестве?
Иными словами, как же мне вмещать мои множества?
Содержание наших множеств чем-то напоминает земледелие. Чтобы отметить границы своего огорода, мы ставим заборы и загородки. Чтобы питать растения, мы их удобряем. Мы выдергиваем сорняки и обрабатываем их химикатами. И огород мы устраиваем там, где для того, что мы выращиваем, имеются подходящие климат, почва и уровень освещения. К подобным мерам прибегают и животные, когда диктуют условия договора своим партнерам-микробам[147]. Разберем их по порядку.
На каждой части тела всех видов животных есть свой зоологический терруар – характерная совокупность температуры, кислотности, насыщенности среды кислородом и других факторов, определяющих, какие там могут обитать микробы. Человеческий кишечник, в котором бактерии прямо-таки купаются в пище и жидкости, может показаться микробным раем. Но и сложностей там хватает. Пища по кишечнику проходит быстрым, сметающим все на своем пути потоком, так что микробам нужно или быстро расти, или цепляться за стенки кишечника с помощью соответствующих молекул. В кишечнике темно и страшно, а значит, там не смогут благополучно развиваться микробы, которым для питания нужен солнечный свет. Кислорода там тоже нет, что объясняет, почему абсолютное большинство кишечных микробов – анаэробы, то есть организмы, способные питаться и расти без этого вроде бы необходимого газа. Некоторые из них так зациклены на своей анаэробности, что, почуяв кислород, погибают.
А вот кожа – совсем другое дело. Там и сухие прохладные пустыни, такие как предплечье, и жаркие влажные джунгли, такие как паховая область и подмышки. Солнечного света там предостаточно, но и он может стать проблемой из-за ультрафиолетового излучения. Кислорода тоже хватает, а так как кожа в основном находится на свежем воздухе, аэробам на ней хорошо. Однако скрытые закутки – скажем, потовые железы – создают все условия для роста ненавидящих кислород анаэробов, например Propionibacterium acnes, вызывающих угревую сыпь. Биология наших тел подчиняется законам физики и химии.
А еще животные умеют этими факторами управлять – развешивать пригласительные вывески и, напротив, отгораживать запретные зоны. Наши желудки вырабатывают сильные кислоты, благодаря которым бактерии туда не суются, за исключением устойчивых к кислоте видов – например, H. pylori. У муравьев-древоточцев желудочной кислоты нет, зато есть муравьиная, которую у них выделяет железа на задней части туловища. Как правило, они разбрызгивают ее в защитных целях, но могут и высосать кислоту с собственной попки – так они окисляют свой пищеварительный тракт, чтобы туда не лезли нежелательные микробы[148].
Эти факторы и обуславливают основные требования к кандидатам на поселение внутри нас. Они – грубые фильтры, которые примерно определяют, какие типы микробов станут нашими сожителями, и отправляют их туда, где им будет комфортно. Но нам также нужны более точные способы настройки наших микробных сообществ и более надежные преграды, чтобы они не вылазили за их пределы. Не забывайте о важности местонахождения микробов: в зависимости от того, где они находятся, из полезных союзников микробы могут запросто превратиться в смертельную угрозу. Поэтому, чтобы оградить свой микробный рассадник, многие животные поставили настоящие, физические преграды. В ходе эволюции у нас появились надежные заборы, чтобы и соседи стали надежными. Гавайская эупримна предоставляет своим светящимся партнерам лакуны. Плоский червь Paracatenula выделяет под микробных сожителей большую часть своего тела. У некоторых клопов посреди пищеварительного тракта находится очень узкий коридор – он останавливает поток пищи и жидкости, превращая заднюю половину кишечного тракта в просторный дом для микробов. И примерно пятая часть от всех видов насекомых содержит симбионтов внутри специальных клеток – бактериоцитов[149].
Бактериоциты неоднократно появлялись в разных линиях независимо друг от друга. Одни насекомые рассовывают их между остальными клетками, другие создают из них органы, висящие на кишках, как гроздья винограда, – так называемые бактериомы. Откуда бы они ни взялись, функции у них одни и те же: содержать и контролировать симбионтов, не допускать их проникновения в другие ткани и прятать их от иммунной системы. До роскошного жилья бактериоцитам далеко. В одной клетке могут обитать десятки тысяч бактерий – им там так тесно, что по сравнению с ними и бочка с селедкой покажется просторной. Они являются клетками во всех смыслах.
Еще они – инструменты, необходимые для надзора. Несмотря на давние и взаимозависимые отношения между насекомыми и их симбионтами, конфликты возникают не так уж редко. Если вам это кажется странным, вспомните, что каждый год у миллионов людей диагностируют рак. Эта болезнь вызвана клеточным восстанием – клетка нарушает правила собственного тела. Она начинает бесконтрольно расти и делиться – так появляются опухоли, подвергающие жизнь хозяина риску. Уж если на такое способны клетки человека, будучи при этом частью его же тела, легко себе представить, что то же самое может выкинуть и бактерия Blochmannia – отдельный организм в теле муравья. Она может стать чем-то вроде симбиотического рака, который размножается без присмотра, забирает себе необходимую муравью энергию и захватывает клетки, к которым вообще приближаться не должен[150].
С помощью бактериоцитов насекомые способны это предотвратить. Они могут управлять перемещением питательных веществ по бактериоцитам, лишая пищи симбионтов-мошенников, которые нарушают условия аренды и не приносят пользы, которую должны приносить. Микробов-пленников они могут расстреливать наносящими урон ферментами и антибактериальными веществами, чтобы держать их население под контролем. Долгоносик – жучок, пожирающий рис и другие зерна, – так обращается с бактериями Sodalis, которые живут у него в бактериоцитах и производят вещества, из которых строится защитный панцирь насекомого. Когда долгоносик достигает зрелости и впервые решает обзавестись панцирем, он ослабляет контроль над бактериями, чья численность увеличивается в четыре раза. А вот когда панцирь готов, работники-микробы долгоносику больше не нужны, так что он их убивает. Содержимое бактериоцитов, включая бактерий Sodalis, он перерабатывает в сырье, а сами клетки заставляет самоуничтожиться. В своих клеточных тюрьмах долгоносик может увеличить популяцию прирученных бактерий, когда того требует ситуация, и расправиться с ними, когда партнерство перестает приносить плоды[151].
Позвоночным животным, таким как мы с вами, содержать бактерий сложнее. Нам приходится держать под контролем микробный консорциум гораздо более крупный, чем у любого насекомого, да еще и без бактериоцитов. Большая часть наших микробов живет среди наших клеток, но не в них самих. Взять хотя бы наш кишечник: это длинная, компактно сложенная трубка – если ее полностью разгладить, она покроет собой футбольное поле. В этой трубке роятся триллионы бактерий. Всего один слой клеток эпителия, которым покрыты и другие органы, не позволяет им проникнуть сквозь стенки кишечника и попасть в кровеносные сосуды, по которым потом можно добраться до любой части тела. Кишечный эпителий – наша главная точка соприкосновения с нашими товарищами-микробами, но при этом и самая главная уязвимость. У простых водных животных, таких как кораллы или губки, дела обстоят еще хуже. Их тело практически полностью состоит из слоев эпителия, погруженных в ванну из микробов, а они все равно умудряются держать своих симбионтов под контролем. Как?
Во-первых, у них есть слизь – та самая вязкая жижа, что закладывает вам нос при простуде. «Слизь везде пригодится, она ведь клевая», – подмигивает Форест Роуэр[152]. Он-то в этом точно разбирается, он ведь много лет собирал образцы слизи у представителей животного царства. Почти у всех животных ткани, подверженные влиянию внешней среды, покрыты слизью. У нас это кишечник, легкие, нос и гениталии. У кораллов это вообще все. В каждом случае слизь представляет собой материальный барьер. Она состоит из огромных молекул под названием муцины, а они, в свою очередь, состоят из центрального белкового остова, к которому прицепились тысячи углеводных молекул. Благодаря углеводам отдельные муцины связываются друг с другом и образуют плотную, практически непробиваемую гущу – Великую Слизистую стену, не позволяющую заплутавшим микробам проникнуть глубже в тело. Вдобавок к этому стену охраняют вирусы – чтобы уж наверняка.
Когда вы вспоминаете о вирусах, вам в голову, наверное, приходят эбола, ВИЧ, грипп – всем известные злодеи, из-за которых мы заболеваем. Однако большинство вирусов на самом деле заражают и убивают микробов. Это бактериофаги – дословно «пожиратели бактерий», можно просто фаги. Их угловатые головки расположены на длинных и тонких ножках, прямо как у аппарата, доставившего Нила Армстронга на Луну. Приземлившись на бактерию, они впрыскивают в нее свою ДНК, тем самым превращая ее в завод по производству новых фагов, которые через некоторое время вырываются из бактерии-хозяина, убивая ее. Животных фаги не заражают, при этом их гораздо больше, чем опасных для животных вирусов. На триллионы микробов у вас в кишечнике могут приходиться миллионы миллиардов фагов.
Несколько лет назад Джереми Барр, член научной группы Роуэра, заметил, что фаги просто обожают слизь. В обычной среде на одну клетку бактерии приходится около 10 фагов[153]. В слизи – все 40. На деснах человека, в кишечнике мыши, в морских червях, актиниях и кораллах их тоже в 4 раза больше. Только представьте, как полчища фагов, засунув голову в слизь, вытягивают ножки в ожидании проходящего мимо микроба, чтобы заключить его в смертельные объятия! Не исключено, что эти любители слизи на самом деле не просто грубое противомикробное оружие. Роуэр подозревает, что, внося изменения в химический состав своей слизи, животные способны привлекать определенных фагов, чтобы те убивали одних бактерий и давали спокойно пройти другим. Возможно, это один из наших способов выбирать себе микробов-партнеров.
Это говорит о многом. Можно предположить, что у фагов – а они, между прочим, вирусы – с животными, в том числе и с нами, взаимовыгодные отношения. Они приглядывают за нашими микробами, а мы взамен помогаем им размножаться в полной бактерий среде. У фагов в слизи шансов поймать жертву в 15 раз больше, чем без нее. Где животные – там и слизь, а где слизь – там и фаги, а значит, скорее всего, наше партнерство началось на заре царства животных. Роуэр даже подозревает, что фаги изначально и составляли иммунную систему, с помощью которой первые животные держали прибывших микробов под контролем[154]. Вирусов в их среде и так уже было предостаточно. Нужно было просто собрать их вместе, предоставив им слой слизи, к которому можно прилипнуть. Из простенького начала стали развиваться другие, более сложные методы контроля.
Рассмотрим, например, кишечник млекопитающего. Его покрывают два слоя слизи: прямо на клетках эпителия – плотный внутренний, а поверх него – зыбкий внешний. Внешний слой кишит фагами, но также на нем оседают и успешно размножаются микробы. Их тут полно. А вот в плотном внутреннем слое их почти нет. Все дело в том, что клетки эпителия не скупятся на антимикробные пептиды (АМП) – крошечные молекулярные пули, способные быстро расправиться с любыми вторгшимися микробами. Благодаря им появляется, как сказала Лора Хупер, зона разоружения – область прямо перед эпителием, на которой микробы не могут поселиться[155].
А если какой-нибудь микроб все-таки изловчится пройти через плотный слой слизи, пробиться сквозь войска фагов и АМП, а потом пролезть сквозь эпителий, на другой стороне его ждет армия иммунных клеток, готовая проглотить его и уничтожить. Эти клетки там не в потолок плюют – они на удивление предусмотрительны. Некоторые из них заглядывают за эпителий, словно за забор, в поисках микробов на той стороне. Если в зоне разоружения окажутся бактерии, иммунные клетки возьмут их в плен и затащат внутрь. Благодаря захвату пленников иммунная система регулярно собирает данные разведки о широко распространенных в слизи микробах, тем самым получая возможность подготовить антитела и другие надлежащие ответные меры[156].
Эти ответные меры – слизь, антимикробные пептиды, антитела – также определяют, каким видам микробов можно остаться в кишечнике[157]. Мы об этом знаем, потому что ученые вывели множество линий мутантных мышей, у которых отсутствует один или несколько из этих компонентов. В организме таких мышей нестандартные микробы и, как правило, воспаленный кишечник. Так что иммунная система кишечника – это не барьер, неспособный различать микробов, она не просто берет и разделывается с каждой бактерией, оказавшейся поблизости. Она весьма разборчива. А еще она отзывчива. Многие бактериальные молекулы стимулируют клетки кишечной стенки, чтобы те производили больше слизи: чем больше в кишечнике бактерий, тем мощнее кишечник защищен. А клетки кишечника, получив сигналы от бактерий, вырабатывают соответствующие АМП – они обстреливают зону разоружения не все время, а лишь когда их цели подберутся слишком близко[158].
Можно сказать, что иммунная система калибрует микробиом: чем больше микробов, тем сильнее она дает им отпор. Или наоборот – что это микробы калибруют иммунную систему, провоцируя ее на реакции, сокращающие количество их конкурентов, но не трогающие их самих. Последнее предположение логично, если учесть, что большая часть наших самых распространенных кишечных микробов адаптировалась для мирного сосуществования с иммунной системой. Вот почему мы постепенно отходим от стандартного взгляда на иммунитет, согласно которому в организме только и происходит, что расправа с угрожающими нашему здоровью микробами. Сейчас, когда я это пишу, «Википедия» дает иммунной системе следующее определение: «система биологических структур и процессов, защищающая организм от заболеваний». Если система приведена в действие, значит, она заметила патоген – угрозу, которую она уничтожает. Однако, как считают многие ученые, истребление патогенов является лишь бонусом. Главная же функция иммунной системы – управление отношениями нашего организма и микробов. Ее основная задача – балансировка и менеджмент, а не защита и разрушение.
У позвоночных животных, таких как мы с вами, иммунная система устроена очень сложно – она способна создавать уникальную длительную защиту от определенных угроз. Именно поэтому мы невосприимчивы к детским инфекциям, например к кори, а также к инфекциям, от которых были привиты. Дело не в том, что мы более уязвимы для инфекций по сравнению с другими животными. Как считает наш эксперт по моллюскам Макфолл-Най, столь замысловатая иммунная система появилась для того, чтобы управлять более сложным микробиомом – позволять позвоночным с большей точностью отбирать микробов для своего организма и поддерживать выверенные отношения на протяжении времени. Вместо того чтобы их ограничивать, иммунная система эволюционировала так, чтобы поддерживать еще больше микробов[159].
Вспомните предыдущую главу, в которой я сравнивал иммунную систему с командой лесничих, управляющих заповедником. Если микробы преодолевают границы заповедника, то есть слизь, лесничие выталкивают их обратно и укрепляют ограду. Они держат под контролем виды, чьи популяции слишком разрастаются, и расправляются с патогенами, которые вторгаются из внешнего мира. Они поддерживают равновесие в сообществе, неустанно защищая баланс заповедника от угроз – как внешних, так и внутренних.
Отпуск эти лесничие получают лишь в самом начале нашей жизни, когда в плане микробиологии мы представляем собой «чистые доски». Чтобы дать нашим первым микробам возможность поселиться в нашем новорожденном теле, особый класс иммунных клеток подавляет остальную защитную систему организма – поэтому в течение первых шести месяцев жизни младенцы легко поддаются инфекционным заболеваниям[160]. Дело не в том, что их иммунная система еще не достигла зрелого состояния, как считают многие: ее развитие преднамеренно сдерживается, чтобы позволить всем желающим микробам обосноваться. Однако как младенец млекопитающего убедится, что к нему присоединились нужные микробы, если иммунная система не помогает с отбором?
Ему помогает мать. В материнском молоке содержится множество антител, которые контролируют популяцию микробов в организме взрослого, и младенцы усваивают эти антитела при грудном вскармливании. Иммунолог Шарлотта Кэтцель вывела мышей с мутацией, из-за которой они не могли производить одно из этих антител, и обнаружила, что кишечники их детенышей оказались заселены очень странными микробами[161]. Среди них было множество видов бактерий, часто встречающихся у людей с воспалительными заболеваниями кишечника, причем многие из них вдобавок пробрались сквозь стенки кишечника и вызвали воспаление ближайших лимфоузлов. Как мы уже знаем, большинство безобидных бактерий безобидны лишь там, где они находятся. Молоко держит их в узде – и не только. Молоко – это одно из самых поразительных средств контроля над микробами в организме млекопитающего.
В Калифорнийском университете в Дейвисе над большим виноградником и огородом со спелыми овощами возвышаются несколько зданий со стенами цвета обожженной глины. Все вместе напоминает тосканский особняк, который чудом телепортировали на запад США. На самом деле это научно-исследовательский институт, где все просто помешаны на изучении молока. Управляет ими невысокий нервный и энергичный дяденька по имени Брюс Джерман. Если бы существовала награда за самое активное расхваливание молока в мире, Брюс бы ее точно получил. Я захожу в его кабинет, жму ему руку и спрашиваю: «А почему вы интересуетесь молоком?» Полчаса спустя он все еще толкает речь, прыгая на фитболе и теребя в руках истрепанный кусочек пленки с пупырышками.
Молоко – это идеальный источник питательных веществ, рассказывает Брюс, «чудо-пища», действительно достойная такого названия. Так считают немногие. На данный момент научных публикаций, посвященных молоку, совсем немного, если сравнивать со статьями о других телесных жидкостях – крови, слюне и даже моче. В молочной промышленности несметные богатства тратятся на то, чтобы получать от коров больше молока, но практически не выделяется денег на то, чтобы понять суть этой белой жидкости и принципы ее работы. В медицинских фондах посчитали, что это не имеет значения. Как объясняет Джерман, «это никак не относится к болезням белых мужчин среднего возраста». А вот диетологи решили, что молоко – это обычная смесь жиров и сахаров, которую можно с легкостью заменить искусственными аналогами. «Говорят, что это просто кучка химических веществ, – жалуется Джерман. – На самом деле это даже близко не так».
Молоко впервые появилось у млекопитающих. Любая кормящая мать, будь то пантера или панголин, жираф или женщина, для кормления детенышей в прямом смысле растворяет собственное тело, чтобы создать белую жидкость, которую затем выделяет через соски. Состав этой жидкости в течение 200 миллионов лет правился и улучшался, чтобы детеныши могли получать из нее все необходимые питательные вещества. Помимо всего прочего в составе есть сложные сахара – олигосахариды. Их производят все млекопитающие, но человек почему-то решил особенно выделиться: ученые уже нашли более 200 олигосахаридов человеческого молока[162] – это третья по объему его составляющая, сразу после лактозы и жиров. Уж они-то наверняка должны быть отличным источником энергии для подрастающих младенцев!
Только вот младенцы не способны ее переваривать.
Джерман, впервые узнав об олигосахаридах, был просто ошеломлен. Зачем матери тратить столько энергии на производство этих сложнейших веществ, если ее ребенок не сможет их переварить и получить от них хоть какую-то пользу? Почему естественный отбор не положил конец такому расточительству? Вот подсказка: через желудок и тонкую кишку эти сахара проходят целыми, оказываясь в итоге в толстой кишке, где живет большинство наших бактерий. А может, они вообще предназначены не для младенцев? Вдруг они являются пищей для микробов?
Эта теория появилась в начале XX века, когда две разные группы ученых сделали открытия, не зная, что они окажутся тесно между собой связанными[163]. В одной группе педиатры обнаружили, что микробы по имени Bifidobacterium более распространены в стуле младенцев, вскармливаемых грудью, чем искусственно вскармливаемых. Они выдвинули предположение, что человеческое молоко содержит вещество, снабжающее этих бактерий питанием, – его вскоре назовут «бифидус-фактор». А химики тем временем выяснили, что в человеческом молоке содержатся углеводы, которых нет в коровьем, и начали понемногу разбивать эту загадочную смесь на отдельные составляющие, среди которых в итоге нашли и несколько олигосахаридов. Два одиночества встретились в 1954 году, а все благодаря сотрудничеству Ричарда Куна (химика, австрийца и лауреата Нобелевской премии) и Пола Дьердя (педиатра, американца с венгерскими корнями и приверженца грудного вскармливания). Вместе они установили наверняка, что таинственный бифидус-фактор и олигосахариды молока – это одно и то же и что именно они питают кишечных микробов. Нередко для того, чтобы понять партнерство разных царств жизни, требуется партнерство разных отраслей науки.
К 1990-м годам ученые уже знали, что в человеческом молоке содержится более ста олигосахаридов, но подробно описали лишь несколько. Никто не знал, как большинство из них выглядят и каких бактерий кормят. Считалось, что они питают сразу всех бифидобактерий одновременно. Джермана это не устраивало. Он хотел точно знать, кем являются посетители молочной кухни и что они заказывают. Чтобы это выяснить, он вспомнил прошлое и набрал к себе в команду химиков, микробиологов и специалистов по проблемам питания[164]. Вместе они идентифицировали все олигосахариды, вывели их из молока и накормили ими бактерий. К их большому разочарованию, на рост бактерий это не подействовало.
Вскоре выяснилось, в чем дело: оказывается, олигосахариды человеческого молока – это не универсальная еда бифидобактерий. В 2006 году команда обнаружила, что этими сахарами питается лишь один их подвид, Bifidobacterium longum infantis, или B. infantisдля краткости. Покуда у этой бактерии есть доступ к олигосахаридам, она будет превосходить числом всех остальных микробов в кишечнике. Родственный ей подвид – B. longum longum – растет на тех же сахарах довольно вяло. Как бы иронично это ни звучало, B. lactis, на которой основано большинство йогуртов-пробиотиков, не растет на них совсем. Еще у одного популярного компонента пробиотиков, B. bifidum, дела с олигосахаридами обстоят чуть лучше, но, когда дело касается еды, она – большая привереда. Расщепив несколько олигосахаридов, она съедает только те их кусочки, что ей больше всего нравятся. А вот B. infantis, напротив, пожирает все до последней крошки благодаря кластеру из 30 генов – настоящему столовому набору для употребления олигосахаридов[165]. Такого кластера больше нет ни у одной бифидобактерии, только у B. infantis. Человеческое молоко развилось так, чтобы кормить именно эту бактерию, а она, в свою очередь, стала отпетым олигосахаридоедом. Неудивительно, что в кишечниках вскармливаемых грудью младенцев она, как правило, доминирует.
И она заслуживает свое место. Переваривая олигосахариды, B. infantis вырабатывает короткоцепочечные жирные кислоты, которые питают клетки кишечника младенца, – получается, что, пока мать кормит микроба, микроб кормит ее ребенка. Путем прямого соприкосновения B. infantis также побуждает клетки кишечника к выработке адгезивных белков, которые заделывают щели между ними, и противовоспалительных молекул, которые калибруют иммунную систему. Все это происходит, лишь когда B. infantisпитается олигосахаридами, – если же она получает вместо них лактозу, она выживает, но никак не влияет на клетки организма ребенка. Полностью свой потенциал помощника она раскрывает, лишь питаясь грудным молоком. И соответственно, чтобы ребенок мог воспользоваться всеми преимуществами материнского молока, у него в кишечнике должна обитать B. infantis[166]. Поэтому Дэвид Миллз, микробиолог, работающий с Джерманом, рассматривает B. infantis как часть грудного молока, хоть она и вырабатывается не в груди[167].
Человеческое грудное молоко отличается от молока других млекопитающих: в нем содержится в несколько сотен раз больше олигосахаридов, чем в коровьем молоке, и в пять раз больше их типов. Даже молоко шимпанзе по сравнению с нашим скудное. Никто не знает, откуда эти различия взялись, но Миллз может предложить пару догадок. Одна из них касается нашего головного мозга – для примата нашего размера он очень крупный и в первый год жизни растет на удивление быстро. Для такого быстрого роста он в какой-то мере полагается на сиаловую кислоту – питательное вещество, которое в числе прочих молекул вырабатывается B. infantis, когда она питается олигосахаридами. Не исключено, что если мамы кормят эту бактерию до отвала, то мозг у их детей развивается лучше. Это может объяснить, почему у тех видов приматов, что ведут социальный образ жизни, олигосахаридов в молоке больше и они более разнообразны, чем у тех, что предпочитают уединение. Чем больше группа, тем больше нужно запомнить общественных связей, тем больше у животного приятелей, с которыми нужно поддерживать дружбу, и соперников, на которых нужно влиять. Многие ученые считают, что эта необходимость и привела к развитию интеллекта у приматов, и возможно, что на разнообразие олигосахаридов повлияла тоже она.
Другая догадка касается заболеваний. Патогены запросто переходят от одного хозяина к другому, так что животным, живущим в группах, требуется защита от эпидемий. Олигосахариды могут в этом помочь. Когда патогены заражают наш кишечник, для начала они, как правило, цепляются за гликаны – такие углеводные молекулы – на поверхности клеток кишечника. Однако олигосахариды очень похожи на кишечные гликаны, так что иногда патогены цепляются за них. Олигосахариды действуют как ловушки, которые не дают противнику нанести ущерб клеткам организма ребенка. Они способны помешать целому списку кишечных злодеев: сальмонелле, листерии, холерному вибриону, дизентерийной амебе и многим болезнетворным штаммам кишечной палочки. Возможно, они даже могут препятствовать ВИЧ – это объяснило бы, почему большинство младенцев, питающихся молоком зараженной матери, не заражаются сами, хотя не один месяц сосут молоко, в котором полно вирусов. Всякий раз, как ученые добавляли патогенных микробов в клеточные культуры с олигосахаридами, клетки с улыбкой избегали инфекции. Этим можно объяснить тот факт, что у младенцев на грудном вскармливании кишечных инфекций меньше, чем у младенцев на искусственном вскармливании, а также то, почему в человеческом молоке так много олигосахаридов. «Логично, что они должны быть разнообразными: им ведь нужно справляться с целой кучей разных патогенов, от вирусов до бактерий, – говорит Миллз. – Думаю, именно их удивительное многообразие обеспечивает столь разностороннюю защиту»[168].
У этой научной группы все только начинается. В своем псевдотосканском институте они установили внушительную фабрику по переработке молока, чтобы раскрыть самые неизвестные секреты этой известнейшей жидкости. В главной лаборатории, которой управляют Миллз и специалист по проблемам питания Даниэла Бэрил, стоят две огромные стальные цилиндрические емкости с молоком, пастеризатор, напоминающий кофеварку для капучино, и еще куча оборудования для фильтрации жидкости и ее расщепления на составляющие. На полке рядом стоят сотни пустых белых ведер. «Обычно они полные», – говорит Бэрил.
Полные ведра хранятся в огромной морозильной комнате, охлажденной аж до -32 °C – на нее даже смотреть холодно. Тут же на скамейке стоят выстроенные в ряд резиновые сапоги («молоко при переработке часто проливается на пол», объясняет Бэрил), молоток для обкалывания льда («дверь в морозильник плохо закрывается») и даже нож для нарезки ветчины (не спрашиваю зачем). Мы заглядываем внутрь. На поддонах и полках расставлены белые ведра, а в них почти 2300 литров молока. В основном молоко коровье – его безвозмездно поставляют молочные заводы, однако на удивление приличное количество выделено и из женской груди. «Многие женщины сцеживают молоко про запас, а потом отлучают ребенка от груди и думают: ну и куда это все теперь девать? Затем они узнают о нас, и мы получаем бесплатное молоко, – рассказывает Миллз. – Некто из Стэнфордского университета за два года собрал порядка 80 литров человеческого молока, пришел к нам и спросил: вам надо?» Ну конечно, надо. Чем больше у них молока, тем лучше.
Они планируют изучать ингредиенты молока – олигосахариды и все остальное. В молоке и жиры, и белки, к которым прилепились гликаны: какое влияние они оказывают на B. infantis и других бифидобактерий? А еще есть фаги, и их много. Джерман начал работать с Джереми Барром, чтобы выяснить, используется ли материнское молоко для того, чтобы обеспечить ребенка начальным набором симбиотических вирусов. Они уже обнаружили кое-что крайне странное: фаги и так прекрасно прилипают к слизи, но, если рядом есть грудное молоко, они начинают прилипать в десять раз лучше. В молоке есть что-то, что помогает им укрепиться на одном месте. Похоже, все дело в крохотных шариках жира, которые заключены в белки, напоминающие те, что содержатся в слизи. Если оставить стакан молока в комнате, на поверхности образуется слой жира, и в нем таких глобул полно. Они обеспечивают ребенка энергией, но не исключено, что, помимо этого, они позволяют первым вирусам младенца осесть у него в кишечнике.
Я от рассказов Барра просто в шоке. Ведь это означает, что наши способы формирования и управления микробиомом – фаги, слизь, иммунная система, ингредиенты молока – связаны между собой. Я рассказывал о них как об отдельных инструментах, но на самом деле они – часть огромной взаимосвязанной системы регулирования наших отношений с микробами. В этой реальности, противоречащей здравому смыслу, вирусы могут быть нашими союзниками, иммунная система может содействовать микробам, а кормящая мать не просто кормит ребенка – она обустраивает внутри него целый мир. А что насчет грудного молока? Джерман прав: это не просто кучка химических веществ. Оно кормит как младенца, так и микробов. Оно, словно первичная иммунная система, отпугивает болезнетворных бактерий. Оно дает матери убедиться, что у ее ребенка с первых дней жизни будут нужные и верные партнеры[169]. Оно готовит ребенка ко взрослой жизни.
Как только нас отлучают от груди, нам приходится самим кормить своих микробов. В какой-то мере мы питаем их тем, что едим сами: вместо олигосахаридов человеческого молока наша пища в обилии поставляет им гликаны. Но мы и сами создаем гликаны – их у нас полно в слизистой оболочке кишечника, получаются этакие пастбища для кишечных микробов. Выбирая правильную пищу, мы кормим бактерий, которые с большей вероятностью принесут нам пользу, и морим голодом тех, что более опасны. Наш долг кормить своих микробов столь для нас важен, что мы продолжаем это делать, даже когда не едим сами. Когда животное заболевает, у него, как правило, пропадает аппетит – здравая тактика, позволяющая не тратить энергию на поиски пищи, а вместо этого направить ее на выздоровление. Это значит, что у наших микробов начинается временный кризис – они голодают. Больные мыши в таких случаях вырабатывают для них резервный паек – моносахарид фукозу. Кишечные микробы могут понемногу отъедать кусочки от нее, чтобы дожить до той поры, когда хозяин начнет кормить их в прежнем режиме[170].
Бактерии из группы Bacteroides, обожающие гликаны, вскоре становятся самой распространенной группой микробов во всем кишечнике. Однако следует учесть то, что гликаны настолько разнообразны, что приспособлений, необходимых для того, чтобы съесть их все, нет ни у одного вида бактерий. Это означает, что, употребляя с пищей или производя достаточно гликанов, мы способны поддерживать изобилие разных бактерий. Одни из них едят что придется, словно голуби или еноты, а другие привередничают, как, например, панды или муравьеды. Они образуют пищевые сети, в которых одни микробы расщепляют самые крупные и прочные молекулы на кусочки поменьше, которые затем подъедают другие микробы. Они вступают в соглашения, по условиям которых два вида кормят друг друга, переваривая разную пищу и оставляя огрызки, которые сможет съесть партнер. Они объявляют перемирие и регулируют свои предпочтения в еде так, чтобы не конкурировать с соседями[171].
Их взаимодействия для нас важны, ведь они способствуют стабильности. Если бы одна бактерия слишком усердно поедала гликаны, возможно, она проела бы в слизистом барьере дыру, через которую могли бы пробраться и другие микробы. А вот сотни соперничающих видов не дают друг другу объесться и присвоить себе все пищевые ресурсы. Предоставляя бактериям питательные вещества в широком ассортименте, мы кормим множество их видов и укрепляем огромные и разнообразные сообщества. А эти сообщества, в свою очередь, мешают патогенам захватить кишечник. Если мы правильно накроем стол, на ужин пожалуют те, кого мы ждем, а незваные гости останутся за дверью. Эту традицию начали наши матери, вскормив нас своим молоком, когда мы родились, а мы продолжаем их правое дело.
У хозяев есть и другой способ свести борьбу со своими микробами на нет, причем весьма радикальный: в результате их зависимость друг от друга может достичь такого уровня, что, по сути, они станут одним организмом[172]. Это происходит, когда бактерии забираются прямо в клетки организма-хозяина и затем добросовестно передаются потомству. Теперь их судьбы накрепко связаны. У них все еще есть собственные интересы, но они настолько схожи, что различия уже не имеют значения.
Такие взаимоотношения наиболее популярны у насекомых, и они заманивают микробов в ловушку примитивизации. В клетках хозяина микробы ограничены маленькими популяциями и лишены общения с другими бактериями. Из-за изоляции в их ДНК накапливаются вредные мутации. Все гены не первой необходимости портятся, становятся бесполезными и в конце концов исчезают[173]. Если засунуть симбионта в клетку насекомого и ускорить время, можно будет увидеть, как его геном искажается, коверкается и сокращается. В конце концов в нем останется минимум генов – в основном лишь те, что необходимы для поддержания жизни. У обычного свободного микроба, например у кишечной палочки, геном состоит примерно из 4,6 миллиона нуклеотидов. У Nasuia, самого мелкого из известных симбионтов, их всего 112 тысяч. Если бы геном кишечной палочки был размером с эту книгу, то, чтобы сделать из него Nasuia, вам пришлось бы вырвать все страницы, оставив лишь пролог. Такие симбионты полностью одомашнены: самостоятельно им не выжить, они навсегда заперты в хоромах тел своих хозяев-насекомых[174]. А те, в свою очередь, начинают полагаться на сморщенных симбионтов, которые предоставляют им питательные вещества и другие плюшки. Именно в результате этого процесса древние бактерии превратились в митохондрии – важнейшие органеллы, без которых нам не выжить.
Такие слияния успешно решают все конфликты хозяев с микробами, но и у них есть побочные эффекты. Джон Маккатчен, высокий лысый биолог в очках и хорошем настроении, понял это при исследовании периодической цикады Magicicada tredecim. У этой букашки черное тельце и красные глаза, а большую часть жизни она проводит в стадии нимфы, проживая под землей и питаясь жидкостью с корней растений. Через тринадцать лет праздного существования все цикады разом выбираются и устраивают всеобщую какофонию. А после нескольких часов бурного секса они все разом умирают, устилая землю разлагающимися трупиками. Раз уж образ жизни у них такой чудной, подумал Маккатчен, то и симбионты у них, наверное, такие же чудные. И он оказался прав – вот только ему и в голову не приходило, насколько чудными они окажутся.
Последовательности ДНК симбионтов цикад продемонстрировали полный бардак. Казалось, что они должны принадлежать одному и тому же геному, только Маккатчену словно выдали вперемешку фрагменты нескольких одинаковых, но неполных наборов паззлов. Окончательно запутавшись, он принялся за изучение другого вида цикад, Tettigades undata из Южной Америки, с меньшей продолжительностью жизни, но более пушистых. И тут он столкнулся с той же проблемой: фрагменты ДНК никак не хотели собираться в один цельный геном. Зато в два – запросто.
Эти два генома принадлежали бактериям, произошедшим от симбионта Hodgkinia. Забравшись в пушистика, бактерия каким-то образом разделилась на два разных «вида» – прямо внутри насекомого[175]. Оба дочерних вида утратили по части исходных генов Hodgkinia, но каждый избавился от тех генов, что остались у другого. Хоть их нынешние геномы и не такие полные, как были раньше, они идеально друг друга дополняют. Они – словно две половинки того, что когда-то было целым: все, что умела первоначальная Hodgkinia, умеют и две ее дочки, когда работают вместе.
Чтобы понять, что же там у них творится, Маккатчену потребовался почти год, зато, когда он наконец разобрался, стала понятнее и путаница в симбиотических ДНК M. tredecim. В организме этой цикады тоже обитает Hodgkinia, вот только вместо того, чтобы разделиться на два вида, она разделилась на неизвестно сколько. Ее ДНК в итоге сложилась по меньшей мере в 17 отдельных колец, а может, и во все 50. Является ли обладатель каждого генома отдельным видом? Или это разные бактериальные линии, чьи геномы распределились по разным кольцам? Никто не знает. Как бы там ни было, научная группа Маккатчена уже исследовала множество других цикад и не раз столкнулась со схожим расщеплением. В одной из чилийских цикад Hodgkiniaразделилась на шесть взаимодополняемых геномов[176].
Гены, отвечающие за создание необходимых для жизни витаминов, во всех подобных случаях раскиданы по геномам цикад и их обширной компании симбионтов, так что выжить им удается лишь при условии, что каждый член компании находится на своем месте. В течение некоторого времени с ними все будет в порядке, а вот потом может случиться всякое. Если Hodgkinia так и будет делиться на фрагменты, оказывающиеся со временем все меньше по размеру, но все такие же жизненно важные, надежность всего сообщества окажется под угрозой. Потеря одного фрагмента, возможно, обречет их всех на гибель. «Я на них смотрю с тем же чувством, что и на крушение поезда в замедленной съемке, – говорит Маккатчен. – Из-за них я стал совсем по-другому относиться к симбиозу». Прежде он считал его чем-то позитивным – силой, благодаря которой партнеры получают преимущества и новые возможности. Но, как оказалось, он может стать ловушкой, в которой зависимость партнеров друг от друга подвергает их опасности. Нэнси Моран, в прошлом научный руководитель Маккатчена, называет этот феномен «эволюционной кроличьей норой» – эта метафора подразумевает «путешествие в очень странный мир, в котором не работают привычные нам законы, причем, как правило, без возможности в№ернуться назад»[177]. Тем, кто провалился в кроличью нору, выбраться, скорее всего, будет очень сложно. А внизу вместо страны чудес их ожидает вымирание.
Такова цена симбиоза. Даже в тех случаях, когда организм нуждается в микробах в меньшей степени, чем цикада, они все равно оказывают на нас титаническое влияние. А если они вдруг решат проявить нрав, последствия могут быть ужасными. Потому-то животные и изобрели столько решений для того, чтобы свои множества стабилизировать. Мы держим их в узде с помощью химии наших тел. Мы огораживаем их заборами. Мы поощряем их пряником, употребляя в пищу то, что им нравится. А можем и побить кнутом, напустив на них фагов, антитела и других солдат иммунитета. У нас есть масса возможностей загладить конфликты со своими микробами, равно как и заключить с ними договоры.
Увы, мы с вами, сами того не желая, создали столь же много возможностей эти договоры разорвать.
Глава 5. В болезни и в здравии
Возьмите глобус и поверните его так, чтобы с вашей стороны большая его часть была синей. Вы увидите Тихий океан, ошеломляющий своими просторами. А теперь ткните пальцем прямо в его середину. Теперь чуть пониже и правее. Ваш палец оказался на архипелаге Лайн – группе из 11 крошечных островков, появившихся из ниоткуда у черта на куличках. Они находятся примерно в 5600 километрах от Калифорнии, в 6100 километрах от Австралии и в 7900 – от Японии, прямо-таки олицетворяя собой уединенность. Если вам хочется оказаться как можно дальше от всего мира, а покинуть планету нет возможности, эти острова – то, что вам нужно. Вот какой огромный путь пришлось преодолеть Форесту Роуэру, чтобы узреть самые прекрасные коралловые рифы из тех, что он когда-либо видел.
В августе 2005 года Роуэр нырнул с палубы «Уайт Холли» в воды рифа Кингмен на севере архипелага, как раз неподалеку от береговой гряды[178]. Сквозь кристально чистую воду он разглядел целую армию кораллов, выходящую из океанских глубин и устилающую дно пышным ковром. Этот риф, знакомый нам по мультфильму «В поисках Немо», представляет собой роскошную экосистему со множеством знаменитостей – там и морские дьяволы, и дельфины, и косяки шестиполосых каранксов, и стайки клыкастых луцианов-кубер, и даже акулы. Вокруг дайверов кружили по меньшей мере 50 темноперых серых акул, каждая размером примерно с человека. Однако Роуэр и другие ученые были невозмутимы, ведь они знали, что акулы – это признак здорового рифа, и были только рады увидеть, что их тут много. К тому же охотятся акулы в основном по ночам, так что, если исследователи успевали в№ернуться на корабль до заката, опасность им не угрожала. И они всегда тянули до последнего. Последний исследователь взбирался на палубу, когда солнце уже почти садилось за горизонт, и, как позже писал Роуэр, «много акул» превращались в «черт побери, очень много акул!».
В семистах километрах на юго-восток, на острове Рождества, известном сейчас под названием Киритимати, все было совсем не так. Там Роуэр увидел «пожалуй, самые безжизненные рифы» из всех, что видел за всю жизнь. Процветающий, богатый, разнообразный мир Кингмена сменился призрачными скелетами кораллов, покрытыми слизью, – будто по рифу прошлась неведомая сила и лишила его цвета и жизни. В мутной воде плавали какие-то пылинки. Рыбы почти не было. Акул не было совсем – за сто проведенных под водой часов исследователи не заметили ни одной.
Так было не всегда. В 1777 году на острове Рождества побывал Джеймс Кук, и его штурман сделал пометку о «бесчисленных акулах». Даже в конце XX века здесь еще обитали эти крупные хищники, а рифы были здоровы. Все изменилось в 1988 году, когда люди вовсю принялись его заселять. Сейчас там около 6500 жителей – немного, но достаточно для того, чтобы истребить всех акул и уничтожить рифы. Кингмен, в отличие от острова Рождества, никогда не был заселен. Там земли хватит максимум на три футбольных поля – и заселять-то нечего. Благодаря своей неприветливости на суше он остался настоящим раем под водой. Роуэру он позволил взглянуть в прошлое, на те великолепные рифы, что когда-то открылись взору капитана Кука. А вот остров Рождества олицетворяет собой наше печальное, лишенное кораллов будущее, несущее с собой, как мы вскоре поймем, многие распространенные человеческие заболевания.
Кораллы – это животные с мягкими трубчатыми телами, увенчанными жалящими щупальцами. Мы их такими практически не видим, потому что они прячутся в известняке, который сами же и производят. Эти каменные остовы и образуют собой рифы – подводные пейзажи из ветвей, выступов и валунов, в которых обитает множество морских животных. На протяжении сотен миллионов лет кораллы занимались постройкой рифов, но не исключено, что дни подводного строительства сочтены. Популяции кораллов у Карибских островов сильно сократились. Могучий Большой Барьерный риф у Австралии потерял большую часть кораллов. Целая треть рифообразующих видов кораллов находится под угрозой вымирания. Из-за углекислого газа, вырабатываемого человеком, солнечное тепло остается в океанах и нагревает их. Из-за повышения температуры кораллы изгоняют из своих клеток водоросли, обеспечивающие их питательными веществами. А без водорослей они слабеют и бледнеют. Углекислый газ к тому же и сам растворяется в океанах, повышая степень кислотности воды. В результате снижается число доступных карбонат-ионов, необходимых кораллам для постройки рифов, так что те начинают постепенно разрушаться. Ураганы, корабли и прожорливые морские звезды изнашивают их еще больше. Лишившись расцветки, пищи, дома и строительных материалов, бедные кораллы заболевают. Им угрожает целая палитра заразы: «белая чума», «черная лента», «розовая линия», «красная лента»[179]. Таких болезней насчитываются дюжины, и за последние десятилетия они сильно распространились.
И это странно. Как правило, инфекции распространяются быстрее в тех случаях, когда концентрация переносчиков достаточно высока, но частота заболеваний кораллов подскочила как раз тогда, когда популяции кораллов пошли на убыль. Дело в том, что специфичные патогены вызывают лишь часть этих заболеваний. С остальными дело обстоит сложнее: судя по всему, их вызывают большие группы микробов, работающих вместе, или бактерии, являющиеся частью микробного мира кораллов. Именно этот мир и привлек внимание Роуэра.
Волосы у Роуэра черные и взлохмаченные, манеры непринужденные, а голос резкий. Он одевается во все оттенки черного и темно-серого и носит серебряные украшения. Он – пионер метагеномики, принципиально новой методики, заключающейся в описании микробов с помощью их генов, о которой мы читали во второй главе. Сначала Роуэр использовал эту методику для описания вирусов в открытом океане, а потом переключился на кораллы. Другие ученые уже выяснили, что микроскопических ребят кораллам не занимать. На каждом квадратном сантиметре их поверхности содержится 100 миллионов микробов – это в десять с лишним раз больше, чем на таком же участке кожи человека или почвы в лесу. Кораллы считаются чудесным и многоликим миром, но большая часть их многоликости невидима. Забудьте о скатах, черепахах и электрических угрях – большую часть природы кораллового рифа составляют бактерии и вирусы, причем большинство из них не изучили до сих пор.
А что эти микроорганизмы делают? «Ну, во-первых, они занимают место», – объясняет Роуэр. В теле коралла не так уж много источников пищи и участков, пригодных для обитания микробов. Если эту нишу займут полезные микробы, опасным будет негде приткнуться, так что само присутствие разнообразного микробиома препятствует появлению болезней. Такой эффект называется колонизационной резистентностью. Если ее нарушить, начнет распространяться инфекция. Роуэр предположил, что именно это и стало причиной разрушения стольких рифов. Явления, вызывающие стресс кораллов, – нагревание океанов, повышение кислотности воды, избыток питательных веществ – нарушают их партнерство с микробами. У кораллов остаются искаженные, истощенные сообщества микробов, восприимчивые к заболеваниям или даже способные сами их вызывать[180].
Чтобы проверить свою теорию, Роуэр должен был исследовать самые разные рифы – от нетронутых до разоренных. Так он и попал на «Уайт Холли». За два месяца этот корабль прошел мимо четырех северных островов архипелага Лайн по нарастанию человеческой деятельности: риф Кингмен (не заселен), атолл Пальмира (несколько десятков человек), остров Фаннинг (2500 жителей), остров Рождества (5500 жителей). Пока остальные исследователи занимались подсчетом рыбы и сбором кораллов, Роуэр и его коллега Лиз Динсдейл изучали местных микробов. Они взяли по образцу воды с каждого участка и пропустили ее сквозь стеклянный фильтр с такими крохотными отверстиями, что даже вирусы бы не пролезли. Затем они соскребли с этих суперситечек всех оставшихся там микробов и пометили их флуоресцентными красками, чтобы светились под микроскопом. «Этими крошечными светящимися точками была начерчена судьба кораллов – здоровье или увядание», – писал позже Роуэр.
Динсдейл и Роуэр обнаружили, что чем больше на местности людей, тем больше становится микробов. Если сравнить остров Рождества с Кингменом, мы увидим, что высшие хищники, такие как акулы, перестали господствовать на рифе и их остались единицы, доля покрытия кораллами упала с 45 до 15 %, а количество микробов и вирусов в воде увеличилось в 10 раз. Все эти закономерности сплелись в сеть причинно-следственных связей, основанную на борьбе за власть между кораллами и их давними соперниками – макроводорослями[181].
Некоторые водоросли приходятся кораллам союзниками – обитают у них в клетках, обеспечивая их пищей, или же образуют твердый поверхностный слой розового цвета, объединяющий отдельные колонии в одну большую и прочную. Но макроводоросли – их противники: они борются с кораллами за территорию. Взлет водорослей означает падение кораллов – и наоборот. На большинстве рифов макроводоросли находятся под контролем местных садовников-вегетарианцев – например, рыбы-хирурги и рыбы-попугаи объедают их так, что от них остаются лишь ухоженные лужайки. Но люди вылавливают травоядных рыб острогами, удочками и рыболовными сетями. К тому же мы истребляем высших хищников, таких как акулы, что приводит к стремительному росту популяций хищников среднего звена – а они, в свою очередь, поедают травоядных. В любом случае мы даем водорослям фору. Ухоженные лужайки разрастаются и становятся заросшими лугами, а живущие рядом с ними кораллы погибают. Дженнифер Смит, еще одна участница экспедиции, продемонстрировала это с помощью простого эксперимента. Она поместила кусочки кораллов и водорослей в смежные аквариумы, разделенные лишь фильтром, о котором мы говорили выше. Микробы через них пройти не могли, а вода с растворенными в ней веществами могла. Спустя два дня все кораллы погибли. Водоросли выделяли в воду что-то, что их убивало. Токсин? Не исключено. Но когда Смит обработала кораллы антибиотиками, они выжили. Значит, не токсин. И не микробы – фильтры не дали бы им добраться до кораллов. Нет, водоросли вырабатывали нечто, убивающее кораллы с помощью их собственных микробов.
Это «нечто» оказалось растворенным органическим углеродом (РОУ) – по сути, это углеводы в воде. Когда макроводорослей вокруг кораллов становится слишком много, они вырабатывают РОУ в огромных количествах и устраивают микробам пир на весь риф. В естественных условиях углеводы водорослей отправились бы вверх по пищевой цепочке, попав в организм травоядных рыб и, наконец, акул. В одной-единственной акуле – энергия от нескольких тонн водорослей. Однако, если акул больше нет, углеводы остаются в самом низу пищевой сети. Там, вместо того чтобы питать рыб, они питают микробов. Те, в свою очередь, объедаются и начинают быстро расти и размножаться, поглощая весь имеющийся кислород. В итоге кораллы задыхаются.
Однако РОУ не питает всех микробов одновременно. Будучи высокоэнергетической, легко перевариваемой пищей (Роуэр сравнивает его с гамбургерами), он предпочитает кормить быстрорастущие виды, а патогены в основном к ним и относятся. У рифа Кингмен к семействам, способным вызывать болезни у кораллов, относятся лишь 10 % микробов, а у острова Рождества – аж половина. «Поверьте, вы бы не захотели там поплавать, – пишет Роуэр. – А вот у кораллов, увы, нет выбора». Значит, нет ничего удивительного в том, что больных кораллов у острова Рождества в два раза больше, чем у Кингмена, притом что в целом там в четыре раза меньше кораллов. (Позже выяснилось, что несколько здоровых рифов у острова Рождества все же сохранилось – на бывших полигонах для испытаний ядерного оружия. Рыбаки туда не ходят из-за страха облучения, что и спасло рыб и кораллы.) Эти воды напоминают грязную больничную палату, забитую больными с ослабленным иммунитетом. Как и больные в такой палате, кораллы крайне редко умирают из-за экзотических патогенов, прибывших к ним издалека. В основном их поражают условно-патогенные части их собственных микробиомов, поглощающие запасы РОУ во вред своим хозяевам.
Описанная Роуэром последовательность событий образует замкнутый круг. Кораллы, погибая, предоставляют больше места водорослям, которые вырабатывают еще больше РОУ, которые питают еще больше патогенов, которые убивают еще больше кораллов. В конце концов этот цикл набирает такую скорость, что весь риф перестает быть королевством рыб и кораллов и становится империей водорослей – скорее всего, необратимо. «Ужасно все это. И так быстро! – жалуется Роуэр. – Так можно за год уничтожить целый риф. Вот он растет и процветает – и вдруг он мертв».
Начало этому порочному циклу может положить любой из стресс-факторов, ослабляющих рифы. В 2009 году научная группа Роуэра подвергла одни кусочки коралла повышенной температуре, другие – повышенной кислотности воды, третьи – повышенной концентрации питательных веществ или большему количеству РОУ. В результате микробиомы кораллов перестали быть такими, как у здоровых рифов, и стали напоминать сообщества, заселяющие больные кораллы. Также были основания считать, что появилось больше генов вирулентности, с помощью которых бактерии поражают организм хозяев, а также вирусов, родственных тем, что вызывают у человека герпес. Вирус герпеса, например, может прятаться себе в геноме хозяина и не высовываться, пока его не активирует какой-нибудь стресс-фактор. Тогда латентный прежде вирус даст о себе знать язвочками на коже человека. Мы не знаем точно, какой вред причиняют кораллам бактерии и вирусы, но болезнь накрывает их с большой вероятностью[182].
Люди же могут запустить этот цикл по-своему, порой неожиданным образом. В 2007 году рыболовное судно длиной более 25 метров село на мель у рифа Кингмен – возможно, из-за возгорания двигателя. Происхождение и название судна неизвестны, как и судьба его команды. А вот его влияние на риф очевидно до ужаса. Когда корабль развалился, его куски начали падать на риф, создав тем самым мертвую зону длиной в километр, совсем не похожую на знакомые нам выцветшие развалины. Эти кораллы покрыты темными водорослями, а вода вокруг них чрезвычайно мутная. Такие рифы называются черными. Они представляют собой настоящий Мордор из мира Толкиена, только морской. Появляются они, когда в экосистеме, где мало питательных веществ, откуда-то появляется уйма железа. Железо удобряет макроводоросли, и они начинают расти так стремительно, что даже травоядные рыбы не поспевают их подстригать. А затем водоросли дают начало циклу Роуэра: больше РОУ – больше микробов, больше патогенов, больше болезней, больше погибших кораллов.
Группа Роуэра нашла черные рифы и в других местах у архипелага Лайн – всегда по течению от того места, где когда-то произошло кораблекрушение. В отличие от таких мест, как остров Рождества, где практически все кораллы разрушены, черные рифы могут появиться даже в безупречно чистых водах. «Нет, серьезно: вот тут у нас здоровый риф, – показывает на стол Роуэр, – а вот эта его часть мертва». Он ударяет ладонью по середине стола. «В любом месте, где есть хоть капелька железа, да хоть болтик, образуется маленький участок черного рифа».
В 2013 году работники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США убрали портящее рифы судно из Кингмена. Они вручную подняли тонны обломков на поверхность, нарезали их плазменными горелками и бензопилами, а затем переправили куски на сушу. Под водой остался лишь основной двигатель, который весит больше двух тонн – железа там довольно много. Теперь большая часть лома исчезла из мест обитания кораллов, а значит, у них есть шанс выздороветь.
Другим рифам повезло меньше. Они страдают не из-за одноразового поступления в их среду железа, а из-за постоянного влияния человеческой деятельности. Исследователи из группы Роуэра ко всему прочему измерили степень нашей активности в 99 участках Тихого океана и составили единый рейтинг, отражающий совокупность влияния рыбалки, промышленности, загрязнения, судоходства и других факторов на среду. Они также рассчитали «рейтинг микробиализации» для этих участков – пропорцию количества энергии в экосистеме, питающей микробов, а не рыб. Выяснилось, что эти рейтинги прямо пропорциональны друг другу. Делая наше присутствие все более заметным, мы нарушаем древнюю связь между кораллами и их микробами, превращая роскошные и живописные рифы, где полно рыбы, в блеклую водорослевую пустошь, томящуюся в бульоне из патогенов.
Именно так, по словам Роуэра, и погибает коралловый риф: сначала его ослабляют многочисленные угрозы, а потом губят собственные микробы. Это объяснение гибели рифов не единственное, но определенно убедительное и увлекательное – Великая единая теория гибели кораллов. Оно наглядно показывает, что крупнейшие акулы связаны с мельчайшими вирусами. Оно доказывает, что в конце концов судьбу рифа определяет его невидимая часть. Как сказал Роуэр, «хоть коралловые рифы и крайне сложные создания, за их здоровье или увядание в первую очередь отвечают микробы».
Вспомните о заболеваниях, вызываемых микробами. Вспомните о гриппе, СПИДе, кори, лихорадке Эбола, свинке, бешенстве, оспе, туберкулезе, чуме, холере и сифилисе. Хоть они и отличаются друг от друга, структура у них похожа. Их причиной становится один микроорганизм – вирус или бактерия. Он поражает наши клетки, размножается за наш счет и вызывает предсказуемые симптомы. Его можно найти, изолировать и исследовать, а если повезет, и убрать, положив недугу конец.
Результаты исследований кораллов Роуэром указывают на иной тип заболевания, вызываемого микробами, – у них нет одного-единственного виновника, которого мы знаем[183]. Такие заболевания вызваны целым сообществом микробов, которое вдруг стало опасным для организма. Сами по себе эти микробы не являются причинами болезней – просто все сообщество перешло в состояние патогенности. У этого состояния и название есть – дисбиоз[184]. Это слово означает разлад и разногласия в месте, где процветали гармония и взаимовыручка. Это настоящая противоположность симбиозу – дисбиоз контрастирует со всеми его формами, которые мы уже видели.
Вспомните, что особь любого животного, будь то человек или коралл, сама по себе экосистема. Она развилась под влиянием микробов и не перестает оживленно с ними взаимодействовать. Не забывайте и о том, что интересы этих партнеров нередко противоречат друг другу, так что хозяевам приходится держать своих микробов под контролем – кормить излюбленной пищей, запирать в нужных тканях и вести надзор с помощью иммунной системы. А теперь представьте, что нечто берет и разрушает весь этот контроль – меняет пропорции видов бактерий в микробиоме, побуждает их активировать другие гены, производить другие вещества. Искаженное сообщество продолжает вести диалог с хозяином, но тон их общения меняется. Иногда он становится провокационным и в буквальном смысле провоцирует воспаление, когда микробы пробираются в ткани, где им не место, или чересчур возбуждают иммунную систему. А иногда микробы заражают хозяев, воспользовавшись ее временной слабостью.
Это и есть дисбиоз. Тут дело не в том, что особи не справляются с патогенами, а в том, что между разными видами – хозяином и симбионтом – нарушается связь. Это заболевание, ставшее экологической проблемой. Здоровых особей можно сравнить с нетронутыми джунглями, пышными лугами или рифом Кингмен. Больных – с распаханными полями, загрязненными озерами или выцветшими рифами у острова Рождества: они – экосистемы, в которых устроили бардак. Такое представление о здоровье довольно запутанно, и оно вызывает множество важных вопросов. Прежде всего, нужно выяснить, что собой представляют эти изменения – причину заболевания или всего лишь его последствия?
«А что у вас в термосе?» – поинтересовался я.
Мы с профессором Джеффом Гордоном и двумя его студентками ехали в лифте Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Одна из студенток держала в руках металлическую коробку.
«Да так, кал в тюбиках», – ответила она.
«Там у нас микробы из кала здоровых детей, ну и истощенных тоже. Мы этих микробов в мышей переселим», – объяснил Гордон таким тоном, словно зауряднее этого ничего и быть не может.
Джефф Гордон – возможно, самый влиятельный и уважаемый ученый, занимающийся человеческим микробиомом. Но и связаться с ним куда сложнее, чем с другими. Мне пришлось шесть лет писать про его исследования, чтобы он наконец ответил на мои письма, так что потрудиться ради привилегированной возможности посетить его лабораторию пришлось изрядно. Приехав сюда, я ожидал, что профессор окажется угрюмым и необщительным, а в итоге встретил приятного, дружелюбного человека с морщинками вокруг глаз, доброй улыбкой и эксцентричными манерами. Обходя лабораторию, он называет всех «профессор», даже своих студентов. Средства массовой информации он не жалует, но не из-за неприветливости, а из-за неприязни к саморекламе. Даже приглашения на научные конференции он отклоняет – центру внимания предпочитает свою уютную лабораторию. Там Гордон больше, чем кто-либо другой, узнал о влиянии микробов на здоровье человека, а также о том, какие связи обоснованы, а какие случайны (causal or casual, выражаясь его словами). Однако при расспросах о его заслугах Гордон говорит, что большую часть работы проделали его студенты и коллеги, с которыми он сотрудничал раньше и сотрудничает по сей день[185].
Его статус руководителя знаменателен еще и тем, что он уже был выдающимся ученым, опубликовавшим сотни исследований о развитии человеческого кишечника, задолго до того, как начал изучать микробиом. В 1990-х у него появилась идея: а что если на развитие кишечника какое-то влияние оказывают бактерии? Однако он понимал, насколько сложно будет это выяснить. Маргарет Макфолл-Най как раз тогда доказывала, что микробы влияют на развитие гавайской эупримны, но она занималась исследованием лишь одного вида бактерий. В человеческом кишечнике их тысячи. Гордон решил изолировать части кишечника и исследовать их в контролируемых условиях. Ему требовался ценнейший ресурс, который так необходим ученым и которым отказывается делиться биология, – возможность контролировать ситуацию. Другими словами, ему нужны были мыши, много мышей, в организмах которых не было бактерий.
Лифт наконец приехал, и я пошел вслед за Гордоном, студентками и термосом с замороженными фекалиями. Мы вошли в большую комнату – там рядами стояли герметичные камеры из прозрачного пластика. Среда в этих камерах, пожалуй, одна из самых странных на свете – там совершенно нет бактерий, только мыши. В камерах есть все, что им нужно: корм, питьевая вода, солома для гнездышек и домик из пенопласта, где две мышки могут уединиться. Исследователи, работающие под руководством Гордона, стерилизуют все это облучением и кладут в специальные цилиндры. Их кипятят при высокой температуре и давлении, а потом отправляют в камеру через специальные окошки в задней стенке. Для этого используются соединительные рукава – их, конечно, тоже стерилизуют. Над всем этим приходится попотеть, но только при таких условиях мыши рождаются и живут, никак не пересекаясь с микробами. По-научному это называется «гнотобиоз» – от греческого «известная жизнь». Мы точно знаем, что именно живет в этих мышах, точнее, что в них вообще ничего не живет. Каждая из этих мышей – в отличие от всех остальных грызунов на планете – всего лишь мышь. Пустой сосуд. Незакрашенный силуэт. Экосистема, состоящая из одного существа. Ни единого множества эти мыши не вмещают[186].
К каждой камере через окошки прикреплены черные резиновые перчатки. С их помощью исследователи могут взаимодействовать с тем, что находится в камере. Перчатки очень толстые – я засунул в них руки и тут же вспотел. Я кое-как поднял одну мышку за хвостик. Зверек с белым мехом и розовыми глазками уютно расположился у меня на ладони. Это было странное ощущение: я держал животное лишь с помощью двух резиновых штуковин, выпячивавшихся в его герметичный мирок. Мышь сидела у меня на руке, но при этом была отделена от меня. Погладив панголина Бабу, я обменялся с ним микробами. Погладив эту мышку, я не обменялся с ней ничем.
Сейчас подобных стерильных лабораторий в мире десятки. Установленное в них оборудование – мощнейший инструмент для понимания того, как работает микробиом. Однако в 1940-х, когда изолированные камеры были разработаны, и десять лет спустя, когда их доработали, популярностью они не пользовались[187]. Стерильные мыши были не востребованы. А вот Гордон понял, что для его исследований эти камеры – как раз то, что нужно. Он мог вводить определенных микробов в организмы этих грызунов и полностью определять их рацион, а потом повторять это снова и снова в контролируемых и воспроизводимых условиях. У него появилась возможность превращать мышей в живые биореакторы, в которых вместо запутанного микробиома можно было наблюдать отдельные, легко управляемые его части.
В 2004 году специалисты из группы Гордона провели на стерильных грызунах эксперимент, определивший дальнейшую судьбу всей лаборатории[188]. В организмы мышей без бактерий ввели микробов из кишечников обычных мышей. Обычно они ели столько, сколько хотели, и не набирали вес, но с появлением первопроходцев в их кишечниках все изменилось. Больше есть они не стали – даже, возможно, ели немного меньше, – но теперь большая часть пищи превращалась в жир, так что грызуны начали толстеть. Мыши, разумеется, сильно отличаются от людей, но строение их организма в какой-то степени похоже на человеческое, так что ученые имеют возможность использовать их для исследований – от испытаний лекарств до изучения строения головного мозга. К мышиным микробам это тоже относится. Гордон сделал вывод, что, если эти ранние результаты применимы и к людям, наши микробы наверняка оказывают влияние на то, какие питательные вещества мы получаем из пищи, и, соответственно, на наш вес. Наконец-то у ученых появилась сочная, увлекательная и важная для медицины область, за которую можно было ухватиться зубами научной мудрости.
Вскоре они выяснили, что в кишечниках людей (и мышей) с ожирением обитают другие сообщества микробов[189]. Прежде всего, разница была в соотношении двух главных групп кишечных бактерий – Firmicutes и Bacteroidetes. Первых в кишечниках людей с ожирением было больше, а вторых – меньше, чем в кишечниках обладателей стройных тел. Разумеется, сразу возник вопрос: это лишний жир способствует увеличению числа фирмикутов или, наоборот, фирмикуты способствуют отложению лишнего жира? На одних сравнениях далеко не уедешь – для ответа на этот вопрос исследователям нужны были эксперименты.
И вот за дело взялся Питер Тернбо, на тот момент аспирант в лаборатории Джеффа Гордона. Он набрал микробов из кишечников как полных, так и стройных мышей и скормил их мышам, в чьих организмах бактерий не было. Те грызуны, что получили микробов от худеньких мышей, набрали на 27 % больше веса, а вот те, что получили микробов от мышек-пышек – аж на 47 % больше. Результат был ошеломляющий: Тернбо успешно перенес склонность к полноте от одного животного к другому, всего лишь переместив микробов. Это было откровение из разряда «о боже!», вспоминает Гордон. Воодушевление подскочило до небес. Благодаря этому эксперименту мы узнали, что микробиом в кишечниках тучных мышей изменен – и это может еще больше усилить ожирение, по крайней мере в некоторых случаях. Возможно, микробы помогали усваивать больше калорий из пищи или влияли на то, как в организмах мышей откладывался жир. Как бы там ни было, стало ясно, что микробы не простые пассажиры – иногда они выхватывают руль!
И повернуть они могут куда угодно. Тернбо показал, что кишечные микробы могут привести к набору веса, а другие ученые выяснили, что они могут спровоцировать его потерю. Akkermansia muciniphila, довольно обычная кишечная бактерия, встречается в организмах стройных мышей в 3000 раз чаще, чем в организмах мышей, генетически предрасположенных к ожирению. Когда эти бактерии попадают в организм толстых мышей, те теряют вес и начинают проявлять меньше симптомов диабета второго типа. Кстати, желудочное шунтирование – радикальная операция, при которой желудок уменьшают до размеров куриного яйца и заново соединяют с тонкой кишкой, – своим успехом тоже в чем-то обязано кишечным микробам. После этой процедуры можно сбросить десятки килограммов. Такой результат достигается главным образом благодаря уменьшению желудка, но микробы тоже играют здесь свою роль: в перестроенной структуре микробиома увеличивается количество различных видов бактерий, в том числе и Akkermansia. Если пересадить эти новые сообщества в организмы стерильных мышей, они тоже начнут терять вес[190].
Средства массовой информации по всему миру, конечно, запели, что эти открытия – прямо индульгенция для обжор. Зачем сидеть на жестких диетах, когда можно взять и поменять бактерий в кишках, правильно? Ни к чему париться из-за лишних калорий, раз в лишнем весе виноваты микробы, логично? «Растолстели? Это все кишечные бактерии!» – писали газеты. Разумеется, такие заголовки – полная чушь. Микробиом ни в коем случае не подменяет известные нам причины ожирения и не противоречит им, но он тесно с ними связан. Ванесса Ридора, еще одна студентка Гордона, в 2013 году подтвердила этот факт экспериментом, в котором устроила битвы микробов из кишечников стройных и полных людей[191]. Она разделила стерильных мышей на две группы, переселила в их кишечники сообщества этих микробов и посадила обе группы в одну камеру. Мыши с радостью поедают помет сородичей, так что микробы скоро распространились по всем кишечникам. Тогда Ридора заметила, что «стройные» микробы захватили кишечники, населенные «полными», а мыши перестали набирать вес. Наоборот не случалось ни разу: бактерии-«толстушки» никак не могли укрепиться в кишечнике, если там уже были «худышки».
Казалось бы, у «худых» микробов априори преимущество перед «толстыми», но нет. На самом деле Ридора дала им фору: диета мышей состояла из растительной пищи. В растениях содержится много грубой клетчатки, она-то и предоставила возможность микробам с соответствующими ферментами ее расщепить – создала своего рода вакансии для них, по словам Гордона. В кишечниках полных людей есть несколько видов бактерий, пригодных для этой работы, но в кишечниках стройных людей квалифицированных претендентов гораздо больше – в том числе таких прожженных специалистов по расщеплению клетчатки, как B-theta. Так что, попав в кишечники худых мышей, «толстые» микробы обнаруживали, что все вакансии уже заняты – клетчатку уже слопали без них. А вот когда «худые» микробы появлялись в кишечниках толстых мышей, их ждал целый пир из несъеденной клетчатки – условия для размножения просто прекрасные. Потом, правда, их ждал облом – Ридора начала кормить мышей жирной пищей с низким содержанием волокон, прямо как в «Макдоналдсе». Без клетчатки «худые» микробы уже не могли заселять кишечники и помогать мышам сохранить нормальный вес. Они поселялись лишь в кишечниках мышей, питающихся здоровой пищей. Чертовы заголовки лишь вводят нас в заблуждение – за питанием все равно придется следить.
Из этого эксперимента мы смогли усвоить важный урок: как бы ни были важны микробы, от их хозяев – то есть нас – зависит очень многое. Наши кишечники, как и любая другая экосистема, характеризуются не только обитающими в них видами, но и питательными веществами. Тропический лес не становится тропическим благодаря лишь местным птицам, насекомым, обезьянам и растениям – на условия в нем также влияют проливные дожди, солнечный свет и богатая питательными веществами почва. Если животные из такого леса попадут в пустыню, им придется несладко. Научная группа Гордона несколько раз подтвердила это у себя в лаборатории – а еще в Малави.
По уровню младенческой смертности Малави обгоняет почти все страны мира, причем в половине случаев причиной смерти является истощение организма. Истощение бывает разным. При алиментарной дистрофии, например, дети становятся отощалыми. А при квашиоркоре телесные жидкости попросту вытекают из кровеносных сосудов ребенка, что приводит к одутловатости конечностей, вздутию живота и повреждениям кожи. О квашиоркоре долгое время было мало что известно. Кто-то утверждал, что его причиной становится недостаток белков в пище, но ведь дети, больные квашиоркором, потребляли ничуть не меньше белков, чем страдающие от алиментарной дистрофии! Да и когда благотворительные организации поставляли в Малави богатую белком пищу, лучше детям не становилось. К тому же один близнец может заболеть квашиоркором, а другой – алиментарной дистрофией, и это при условии, что у них одинаковый геном, они живут в одной деревне и едят одну и ту же пищу.
Джефф Гордон считает, что тут не обошлось без кишечных микробов и именно они, возможно, смогут объяснить различия в состоянии здоровья одинаковых по всем остальным параметрам детей. После того как его группа провела те самые передовые опыты, ему в голову пришла мысль: если бактерии могут влиять на ожирение, может, они играют роль и в истощении? Большинство других ученых относились к такой возможности скептически, но Гордона это не остановило. Его команда отправилась в Малави собирать образцы стула детишек, пока из годовалых младенцев они вырастали в трехлетних малышей. Выяснилось, что кишечные микробиомы детей с квашиоркором развиваются не так, как у здоровых. Их внутренние экосистемы застаиваются, вместо того чтобы развиваться и становиться разнообразнее, так что их микробиологический возраст вскоре начинает отставать от биологического[192].
Когда ученые поместили недоразвитые сообщества из кишечников детей, больных квашиоркором, в кишечники стерильных мышей, грызуны начали терять вес – но лишь при условии, что их корм, как и пища детей в Малави, содержал мало питательных веществ. Если же мыши питались своим обычным кормом, то вне зависимости от того, чьи бактерии обитали в их кишечниках, их вес почти не менялся. Все дело было в сочетании неправильной еды и неправильных микробов, что и выяснила в своем исследовании Ридора. Судя по всему, микробы, отвечающие за квашиоркор, мешали химическим реакциям, заряжающим клетки организма энергией. Следовательно, детям было сложнее получить энергию из пищи, в которой этой самой энергии и так всего ничего.
Истощение обычно лечат сытной витаминизированной смесью из арахисовой пасты, сахара, растительного масла и молока. Однако группа Гордона выяснила, что на бактерий в организмах больных квашиоркором такая смесь оказывает лишь кратковременный эффект – потому-то такое лечение и не помогает. Как только дети снова начинали питаться своей привычной пищей, микробы возвращались в исходное состояние. Почему так?
Представьте себе шарик, помещенный на ровный участок, окруженный возвышенностями. Если шарик подтолкнуть, он закатится на склон, замедлится и в конце концов вернется туда, откуда прикатился. Чтобы шарик перекатился через возвышенность и попал в другую низину, нужно или толкнуть его очень сильно, или быстро подтолкнуть несколько раз. Экосистемы устроены так же: они в какой-то мере устойчивы к переменам. Для того чтобы изменить состояние всей экосистемы, эту устойчивость нужно преодолеть. Теперь представьте, что шарик – это здоровый коралловый риф. Повышение температуры легонько его подталкивает. Нашествие водорослей продвигает его чуть дальше. Появление железа – еще дальше. Наконец, исчезновение акул перекатывает его через верхушку возвышенности, и шарик снова скатывается вниз, в соседнюю низину – только там уже правят водоросли. Риф нездоров – у него дисбиоз, – но, как и прежде, устойчив. Чтобы вернуть его в здоровое состояние, характеризующееся изобилием рыбы и отсутствием водорослей, нужно постараться[193].
В нашем организме происходят такие же изменения. Теперь шарик – это кишечник ребенка. Из-за плохого питания микробы в кишечнике могут смениться. Также оно способно навредить иммунной системе ребенка, мешая ей контролировать микробов в кишечнике и предоставляя различным инфекциям возможность и дальше преобразовывать микробиом. А он, в свою очередь, не дает кишечнику усваивать питательные вещества, что приводит к еще более запущенному истощению, более серьезным проблемам с иммунитетом, более явным нарушениям в микробиоме и много к чему еще. Шарик продвигается все выше, покоряет вершину и скатывается на территорию дисбиоза. Если уж микробиом перешел в дисбиотическое состояние, «починить» его – задача не из легких.
На стене у моего письменного стола установлен термостат. Старенький – вместо цифрового дисплея у него ручка в виде диска. Если повернуть ее вниз, в доме станет прохладно, а если вверх – в комнате можно будет поджариться. Где-то посередине находится метка идеальной температуры, только вот точно на нее я так ни разу и не попал. Иммунная система при всей своей сложности и запутанности во многом похожа на эту ручку. Она – своего рода «иммуностат», который регулирует не температуру, а нашу связь с микробами[194]. Она управляет безвредными триллионами, живущими у нас внутри, и отражает нападения заразного меньшинства. Если установить иммуностат на слишком низкое значение, иммунная система расслабляется, перестает замечать угрозы – и вот мы уязвимы к заболеваниям. А если значение слишком высокое, она становится дерганой, начинает нападать на родных микробов и провоцирует хроническое воспаление. Иммунная система должна отыскать золотую середину между двумя крайностями, нужное соотношение между клетками и молекулами, вызывающими воспаление и подавляющими его. Ей нужно действовать, но не перегибать палку. Однако за последние полвека мы постепенно вывернули свои иммуностаты на значения, близкие к максимальным, – виной тому санитария, антибиотики и современное питание. Теперь наша иммунная система может взбунтоваться из-за самых безобидных вещей, таких как пыль, молекулы у нас в пище, живущие в нашем организме микробы и даже наши собственные клетки.
Именно так обстоит дело с воспалительными заболеваниями кишечника[195]. При них кишечник сильно воспаляется, что влечет за собой постоянные боли, диарею, потерю веса и упадок сил. Как правило, эти заболевания поражают подростков и молодых людей в самом расцвете сил, становясь поводом для косых взглядов и вынуждая лечиться, что весьма непросто. Таблетки и операции, может, и способны ослабить симптомы, но болезнь может обостриться в любой момент жизни больного. Обе основные разновидности воспалительных заболеваний кишечника – язвенный колит и болезнь Крона – были известны с давних времен, но со Второй мировой войны количество заболевших сильно выросло, особенно в развитых странах.
До сих пор неизвестно, что их вызывает. Ученые выявили более 160 аллелей, имеющих отношение к заболеванию, но они много у кого встречаются и относительно стабильны в популяции, так что такой быстрый рост количества заболевших ими не объяснить. Зато они указывают на другого виновника. Большая их часть участвует в выделении слизи, укреплении оболочки кишечника и настройке иммунной системы – в общем, всего, что помогает нам контролировать микробов. Гены человека меняются недостаточно быстро, чтобы вдруг вызвать внезапный рост заболеваний кишечника, – в отличие от микробов.
Ученые давно подозревали, что за воспалительными заболеваниями кишечника стоит микроб, но, сколько бы ни велось расследование, они так и не смогли обвинить ни одного патогена. Скорее всего, тут просто местные микробы решили пуститься во все тяжкие, как и в случаях с кораллами Роуэра и истощенными детьми Гордона. В воспаленном кишечнике микробиом определенно не такой, как в здоровом, но список подозреваемых меняется с каждым исследованием – что неудивительно, ведь разновидностей этого заболевания очень много. Хотя какие-то общие характеристики все же имеются. Микробиом в воспаленном кишечнике, как правило, не такой устойчивый и разнообразный, как в здоровом. В нем нет противовоспалительных микробов, в том числе и тех, что отвечают за брожение клетчатки, – например, Faecalibacterium prausnitzii и B. fragilis. Им на смену приходят виды, провоцирующие воспаление, среди которых Fusobacterium nucleatum и инвазивные штаммы кишечной палочки.
Очевидно, что в воспалительных заболеваниях кишечника эти микробы играют важнейшую роль, однако по отдельности они не способны ни создать экосистему, ни разрушить ее. Само заболевание напоминает дисбиоз. Все сообщество микробов начинает провоцировать воспаление, выставляя иммуностат на высшую отметку, в самый чувствительный режим. Откуда эти сообщества вообще взялись? Дело в пище, которую предпочитают вызывающие воспаление микробы? Или в антибиотиках, разделавшихся с полезными микробами? А может, в аллелях, которые покопались в иммунной системе хозяина и лишили его способности управлять микробами? Последнее кажется более вероятным: Венди Гарретт обнаружила, что в кишечнике мутантных мышей, у которых отсутствовали важные иммунные гены, микробиом получался необычный, причем при переносе его в кишечник здоровой мыши у той проявлялись симптомы воспалительного заболевания. Это также указывает на то, что микробиом не просто реагирует на появление болезни, а сам ей благоприятствует. Однако мы не знаем, сами ли микробы провоцируют воспаление или просто не дают ему исчезнуть, когда оно появляется. Если второе, то что стало изначальной причиной воспаления? Инфекция? Токсин? Может, что-то съедобное пробило брешь в оболочке кишечника? Или иммунная система уже была склонна к неадекватности из-за соответствующих аллелей?
Все эти теории могут оказаться правдой. Разобраться в них нелегко – хотя бы потому, что мы не знаем заранее, у кого воспалится кишечник. Без этого прогноза выяснить, какие изменения происходят в микробиоме в самом начале болезни, а значит, и разграничить причину и следствие практически невозможно. Пока что лучшее, на что способны доктора, – указать на начало дисбиоза у людей, которым только-только поставили диагноз[196]. Все практически уверены, что единой причины воспалительных заболеваний кишечника – связанной с микробами или с чем-то еще – не существует. Судя по всему, для того чтобы заставить экосистему воспалиться, требуется несколько упругих пинков.
Герберт (Скип) Верджин опубликовал свои клинические наблюдения, замечательно эту теорию поддерживающие[197]. Он занимался исследованием мышей, имеющих генетическую мутацию, широко распространенную у людей с болезнью Крона. Кишечник у них рано или поздно воспалялся, но лишь при условии, что, во-первых, их поражал вирус, частично вырубающий иммунную систему, во-вторых, к ним в организм попадал воспалительный токсин, и в третьих, в кишечнике у них были самые обычные бактерии. Если не выполнялось хоть одно условие, мыши оставались здоровыми. Воспалительное заболевание кишечника вызывалось сочетанием генетической предрасположенности, вирусной инфекции, проблем с иммунитетом, токсичной составляющей и микробиома. Эта запутанность и объясняет разнообразие видов заболевания. К каждому случаю заболевания ведет своя последовательность пинков.
Эти правила распространяются и на другие воспалительные заболевания, включая диабет первого типа, рассеянный склероз, аллергию, астму, ревматоидный артрит и так далее[198]. В каждом из них замешана съехавшая с катушек иммунная система, нападающая на воображаемых противников. «Все проблемы начинаются с еле сдерживаемого воспаления в организме хозяина, – объясняет Джастин Зонненберг, бывший член группы Гордона. – Что-то послужило сдвигом с противовоспалительной стороны на воспалительную. Почему у жителей Запада так распространены воспаления?» И почему, как и в случае с заболеваниями кишечника, мы начали гораздо чаще от них страдать за последние полвека – ведь раньше эти недуги встречались крайне редко? «Все эти болезни идут в одном направлении, – добавляет Зонненберг. – Они очень похожи. Наверняка в нашем современном образе жизни существует несколько основных факторов, объясняющих большую их часть. То есть у 30 разных заболеваний не 30 разных причин. Думаю, есть где-то пять факторов, или три, или даже один, объясняющий 90 % случаев 90 % таких заболеваний. Кажется, существует единая причина, объединяющая их».
В 1976 году педиатр по имени Джон Джеррард заметил у жителей Саскатуна, города в Канаде, где он жил на протяжении 20 лет, интересные закономерности в заболеваемости. У светлокожего населения аллергические заболевания – астма, экзема, крапивница – проявлялись чаще, чем у канадских метисов, коренных жителей города. Зато последние чаще страдали от ленточных червей, бактерий и вирусов. Джеррард задумался: а может, эти закономерности связаны между собой и аллергия – это «цена, которую некоторым светлокожим приходится платить за относительную свободу от вирусов, бактерий и червей»? В 1989 году на другой стороне Атлантического океана эпидемиолог Дэвид Стракан пришел к похожему заключению по результатам исследования 17 тысяч детей в Британии. Чем больше у них было старших братьев и сестер, тем меньше была вероятность того, что дети заболеют сенной лихорадкой. «Этим наблюдениям… можно дать объяснение, если представить, что инфекция в первые годы жизни, полученная путем негигиеничного контакта со старшими братьями и сестрами, позже предотвращает аллергические заболевания», – писал Стракан в статье под названием «Сенная лихорадка, гигиена и величина семьи»[199]. Высказанная в ней идея впоследствии получила название «гигиеническая гипотеза»[200].
В современном виде эта гипотеза утверждает, что в развитых странах дети уже не подвержены такому обилию инфекционных заболеваний, как раньше, и потому иммунная система у них неопытная и раздражительная[201]. В краткосрочной перспективе современные дети более здоровы, но при этом подвержены паническим иммунным реакциям на самые безобидные вещи – например, на пыльцу. Эта концепция подразумевала незавидный компромисс между инфекционными и аллергическими заболеваниями: нам словно суждено страдать или от одного, или от другого. Позже появились другие версии гигиенической гипотезы – в них уже говорилось не столько о патогенах, сколько о полезных микробах, обучающих иммунитет, о микробах внешней среды, затаившихся в грязи и пыли, и даже о паразитах, заражающих нас надолго, но так, чтобы организм точно справился. Их окрестили «старыми друзьями»[202]. За всю историю нашей эволюции они были частью нашей жизни, но за последнее время наши отношения перестали быть такими крепкими, как раньше.
Причина их исчезновения кроется не только в более жестких требованиях к чистоте тела, на которые смущенно указывает само слово «гигиена». Здесь также замешаны всевозможные ловушки урбанизации – маленькие семьи, каменные джунгли вместо грязных деревень, хлорированная вода и подвергшаяся санитарной обработке пища, а также то, что мы живем все дальше от домашнего скота и других животных. Все эти изменения напрямую связаны с более высокой предрасположенностью к аллергическим и воспалительным заболеваниям, а еще из-за них мы встречаем куда меньше микробов. Всего один пес может все изменить. Сьюзен Линч исследовала образцы пыли в 16 домах и обнаружила, что там, где не было питомцев, царили настоящие «микробные пустыни». В домах, где жили кошки, микробов было гораздо больше, а там, где собаки, и подавно[203]. Оказывается, лучший друг человека еще и старых друзей человека подвозит.
Собаки заносят микробов с улицы в дом, благодаря чему растет библиотека видов, которыми мы можем пополнить свой микробиом. Линч скормила мышам найденных в пыли «собачьих» микробов, и чувствительность грызунов к различного рода аллергенам понизилась. К тому же после пыльных обедов в кишечнике грызунов увеличилась численность более ста видов бактерий, по меньшей мере один из которых защищал мышей от аллергенов. В этом и заключается суть гигиенической гипотезы и всех ее вариантов – чем с большим количеством микробов мы контактируем, тем сильнее меняется микробиом и тем меньше вероятность аллергических реакций. У мышей, во всяком случае.
Однако главную роль в наших встречах со старыми друзьями-микробами играют не питомцы, а наши матери. Когда ребенок покидает матку, его заселяют вагинальные микробы мамы – таким образом они передаются из поколения в поколение. И здесь мы тоже нынче наблюдаем изменения. Около четверти младенцев в Великобритании и около трети в США появляются на свет с помощью кесарева сечения, причем во многих случаях оно не обязательно. Мария Глория Домингес-Бейо обнаружила, что первые микробы детей, рождающихся через разрез в мамином животе, попадают к ним не из влагалища матери, а с ее кожи и из среды роддома[204]. Что это означает в долгосрочной перспективе, неясно, но раз первые поселенцы на острове оказывают влияние на виды, попавшие туда после них, то и первые микробы ребенка вполне могут повлиять на его микробиом в будущем. Возможно, именно этим объясняется то, что дети, появившиеся на свет в результате кесарева сечения, с возрастом становятся более подвержены аллергии, астме, глютеновой болезни и ожирению. «При рождении иммунитет ребенка совсем наивен и обучается всему, что видит, – объясняет Домингес-Бейо. – Если он сначала познакомится с плохими ребятами – не теми, что нужно, – он сам себя подвергнет риску. Не исключено, что это будет проявляться до конца жизни».
Искусственное вскармливание может проблему усугубить. Мы уже знаем, что материнское молоко проектирует экосистему младенца. Благодаря ему кишечник ребенка заселяется большим количеством микробов, а олигосахариды человеческого молока питают наших маленьких товарищей, таких как B. infantis. Возможно, оно поможет исправить первоначальные недочеты, вызванные кесаревым сечением, но «если вы решите делать кесарево и кормить ребенка искусственными смесями, то я могу с уверенностью сказать, что его развитие пойдет по иному пути», утверждает эксперт по молочным делам Дэвид Миллз. Как только нас начинают кормить твердой пищей, этот путь может еще дальше увести нас от нормы, если не предоставлять микробам нужную им еду. Микробы, провоцирующие воспалительные процессы, обожают насыщенные жиры. Еще они любят две стандартные пищевые добавки, карбоксиметилцеллюлозу и P80 – их используют для увеличения срока годности мороженого, щербета и полуфабрикатов. Эти добавки к тому же подавляют действие противовоспалительных бактерий[205].
А вот у клетчатки эффект противоположный. Клетчатка – это общее название ряда сложных растительных углеводов, которые наши микробы способны расщеплять. Она стала основой ЗОЖ еще тогда, когда ирландец Денис Беркитт, хирург-миссионер, заметил, что жители сельских поселений в Уганде потребляют порой в семь раз больше клетчатки, чем жители Запада. Кал у них в пять раз тверже, но по кишечнику он проходит в два раза быстрее. В 1970-х годах Беркитт начал вовсю проповедовать идею о том, что именно благодаря пище с высоким содержанием клетчатки жители Уганды крайне редко страдают от диабета, рака толстой кишки, сердечно-сосудистых и других заболеваний, часто встречающихся в развитых странах. Разумеется, частично это объяснялось тем, что эти хронические заболевания чаще проявляются в пожилом возрасте, а продолжительность жизни на Западе выше. Однако Беркитт все же был на верном пути. «Америка – страна запоров, – заявил он, не церемонясь. – Чем меньше испражняешься, тем больше больниц»[206].
Вот только он не знал, почему так. Клетчатка представлялась ему «веником для кишок», выметающим оттуда канцерогены и другие токсины. О микробах он не задумывался. Сейчас мы знаем, что бактерии, расщепляя клетчатку, выделяют короткоцепочечные жирные кислоты, которые вызывают наплыв противовоспалительных клеток, а те, в свою очередь, успокаивают бурлящий иммунитет, оставляя его мирно побулькивать. Без клетчатки мы выкручиваем свой иммуностат на максимум, что дает нам предрасположенность к воспалительным заболеваниям. Более того, в отсутствие клетчатки наши бактерии начинают с голода пожирать все, что попадется, в том числе покрывающую кишечник слизь. Слой слизи становится все тоньше, а за стенкой кишечника поджидают иммунные клетки – приближаясь к ней, бактерии провоцируют иммунные реакции. Если не укрощать их короткоцепочечными жирными кислотами, они накапливаются и выходят из-под контроля[207].
Еще без клетчатки меняется микробиом кишечника. Как мы уже знаем, клетчатка очень сложно устроена, так что она предоставляет вакансии целому ряду микробов с соответствующими пищеварительными ферментами. Если сделать эти вакансии недоступными, количество желающих рано или поздно сократится. Эрика Зонненберг, супруга и коллега Джастина, продемонстрировала это, несколько месяцев кормя мышей пищей с низким содержанием клетчатки[208]. Вскоре их микробиом стал гораздо менее разнообразным. Когда мышам снова начали давать клетчатку, он восстановился, но некоторые микробы из самоволки так и не вернулись. Детеныши этих мышей начали свой жизненный путь с оскудевшим микробиомом. А если они тоже питались кормом с низким содержанием клетчатки, с горизонта исчезали и другие микробы. С каждой сменой поколений их покидало все больше и больше старых друзей. Возможно, именно поэтому у европейцев и американцев кишечный микробиом далеко не так разнообразен, как у сельских жителей Буркина-Фасо, Малави и Венесуэлы[209]. Мало того что мы употребляем меньше пищи растительного происхождения, мы еще и подвергаем глубокой обработке то, что все-таки едим. При молотьбе, например, большая часть клетчатки в ядрышках пшеницы отправляется в мусор. Мы, по словам Зонненбергов, морим голодом свою микробную сущность.
Сначала мы не даем микробам в нас попасть, потом тем, что добрались, даем умереть с голоду, но это еще не все. Тем, кто умудрился выжить, мы безжалостно угрожаем самым мощным оружием – антибиотиками. Микробы используют их для борьбы друг с другом с момента появления на Земле. Люди же ими вооружились в 1928 году, причем случайно. Британский химик Александр Флеминг по возвращении в лабораторию после отпуска в деревне обнаружил, что в одну из чаш, где он выращивал бактерий, попала плесень и поубивала вокруг себя все живое. Из этой плесени Флеминг выделил вещество, которое назвал пенициллином. Несколько лет спустя Говард Флори и Эрнст Чейн разработали способ его массового производства, превратив тем самым малоизвестную грибковую субстанцию в спасителя бессчетных войск антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Так началась современная эра антибиотиков. Ученые вскоре разработали новые классы антибиотиков, один за другим, оставив от многих смертельных заболеваний мокрое место – в фармацевтическом смысле[210].
Вот только антибиотики бьют без разбора. Они убивают как тех бактерий, от которых мы хотим избавиться, так и тех, что мы хотим оставить, – с таким же успехом можно сбросить на город ядерную бомбу, чтобы избавиться от крысы. Чтобы начать бомбежку, нам даже не обязательно замечать крысу – часто антибиотики выписывают, чтобы избавиться от вирусной инфекции, с которой им в любом случае не справиться. Их пьют совершенно бесцельно – в любой день от 1 до 3 % населения развитых стран принимает какой-либо антибиотик. По одному из расчетов, ребенку в Америке приходится пропить в среднем три курса антибиотиков до того, как ему исполнится два года, и десять – до того, как он отметит десятилетие[211]. А другие исследования доказали, что микробиом человека может измениться даже после короткого курса приема антибиотиков. Некоторые виды бактерий временно исчезают совсем. Сообщество микробов становится менее разнообразным. Когда мы перестаем пить антибиотики, наш микробиом восстанавливается почти до исходного состояния – но не полностью. Как и в эксперименте Зонненберг с клетчаткой, с каждым ударом в экосистеме остаются бреши. Чем больше ударов, тем они крупнее.
Как бы иронично это ни звучало, ущерб от приема антибиотиков может проложить дорогу другим болезням. Не забывайте, что здоровый и разнообразный микробиом преграждает путь наступлению патогенов. С исчезновением наших старых друзей этот путь оказывается открытым. Без них, возможно, несъеденными питательными веществами и экологическими нишами воспользуются более опасные для нас микробы[212]. К ним относятся сальмонелла, главная виновница пищевого отравления и брюшного тифа, и Clostridium difficile, вызывающий тяжелую диарею. Эти кишечные сорняки разрастаются, заполняют пробелы, оставшиеся при сокращении микробиома, и устраивают пир из веществ, которые уже были бы съедены их полезными соперниками, будь они там. Потому-то C. difficile и поражает в основном тех, кто недавно принимал антибиотики, а заражения происходят в основном в больницах, домах престарелых и других медицинских учреждениях. Иногда вызываемые этой бактерией болезни называют искусственными, ведь появляется она как раз там, где мы, по идее, должны выздоравливать. Вот что получается, если убивать микробов без разбора – это то же самое, что обрабатывать пестицидами заброшенный сад, чтобы вместо сорняков там выросли цветы. Как правило, мы в итоге получаем еще больше сорняков[213].
Непредвиденные последствия могут быть вызваны и приемом небольших доз антибиотиков. В 2012 году Мартин Блейзер покормил антибиотиками молодых мышек, причем дозы были слишком маленькими, чтобы ими можно было что-либо вылечить. Кишечный микробиом мышей все равно изменился – появилось больше представителей видов, способных получать из пищи больше энергии. Мышки растолстели. Затем научная группа Блейзера накормила небольшими дозами пенициллина как новорожденных детенышей, так и мышат, только переходящих с материнского молока на корм. Выяснилось, что первая группа, закончив прием антибиотиков, набрала больше веса. Микробиомы мышат пришли в норму, но они все равно стали толще. А когда исследователи поместили их микробов в кишечники стерильных мышей, те тоже начали набирать вес. Это указывает нам на кое-что важное. Во-первых, на раннем этапе жизни особи существует решающий период, во время которого антибиотики влияют на организм особенно сильно. Во-вторых, их влияние зависит от степени изменения микробиома, однако, даже когда он практически нормализуется, оно не исчезает. Вторая мысль для нас важна, а первая и так давно известна. Фермеры экспериментируют так еще с 1950-х – заставляют скот набирать вес с помощью небольших доз антибиотиков. Неважно, кого и какими антибиотиками подкармливать, – результат всегда один: животные быстрее растут и становятся тяжелее. Все знали, что эти «активаторы роста» работают, но никто не мог понять как. Благодаря исследованиям Блейзера можно дать им следующее объяснение: антибиотики нарушают строение микробиома, что приводит к набору веса[214].
Блейзер не раз выдвигал теорию о том, что злоупотребление антибиотиками «лежит в основе быстрого распространения таких заболеваний, как ожирение», не говоря уж о других бичах современного мира. Так ли это? Результат его экспериментов не такой уж значительный: мыши, в организм которых попадали антибиотики, набрали всего на 10 % больше веса, чем обычные. Это как лишние 7 килограммов или две единицы индекса массы тела (ИМТ) для человека, весящего 70 килограммов. И само собой разумеется, что мышь – не человек, так что исследования на людях расскажут нам о связи антибиотиков и ожирения гораздо больше. В одном из собственных исследований Блейзер показал, что у принимающих антибиотики в младенческом возрасте детей к семи годам не было выявлено повышенной склонности к ожирению. Да и исследования на лабораторных животных не всегда приводят к одному и тому же результату – в других опытах с мышами ученые замечали, что некоторые антибиотики в больших дозах могут замедлить рост или снизить процент жира в организме, если дать их детенышам в раннем возрасте.
Также не исключено, что прием антибиотиков в раннем детстве повышает риск аллергии, астмы и аутоиммунных заболеваний, внося в микробиом изменения в критический для него период, – но здесь, как и с ожирением, риск неопределенный. О преимуществах антибиотиков мы знаем гораздо больше. Как сказал лауреат Нобелевской премии Барри Маршалл, «я никого антибиотиками не убил, зато знаю многих, кто умер из-за того, что их не получил»[215]. До открытия антибиотиков люди все время умирали от простых царапин и укусов, от воспаления легких и во время родов. Благодаря антибиотикам появилась возможность держать все это под контролем. Повседневная жизнь стала безопаснее. Медицинские вмешательства в организм, к которым раньше старались не прибегать из-за высокой вероятности схлопотать смертельную инфекцию, стали осуществимы и обыденны. Это пластические операции и кесарево сечение, все операции на органах, в которых много бактерий (например, на кишечнике), и процедуры, подавляющие иммунную систему (такие как химиотерапия при раке и пересадка органов), а также все, что связано с катетерами, стентами и имплантатами: гемодиализ, шунтирование и замена тазобедренного сустава. Современная медицина почти полностью основана на фундаменте, который заложили антибиотики, и сейчас этот фундамент рушится. Мы принимаем их без разбора, из-за чего многие бактерии выработали к ним устойчивость: некоторые штаммы научились противостоять всем лекарствам, с помощью которых мы пытаемся с ними бороться, и стали практически неуязвимыми[216]. И при этом мы так и не разработали новые антибиотики на смену тем, что уже устаревают. Такими темпами нас скоро ждет вселяющая ужас постантибиотическая эра.
Проблема антибиотиков не столько в их употреблении, сколько в злоупотреблении ими – из-за этого разрушается наш микробиом и провоцируется распространение устойчивых к антибиотикам бактерий. Решение заключается в том, чтобы избавиться от одержимости антибиотиками и начать использовать их с умом – лишь тогда, когда они действительно необходимы, и с учетом соотношения пользы и риска. «Раньше мы считали антибиотики абсолютно полезными. Врачи могли их выписать просто потому, что они вам не навредят, хотя и не факт, что помогут, – объясняет Блейзер. – А вот если понять, что навредить они все-таки могут, придется все пересмотреть». Роб Найт занялся пересмотром, когда его маленькая дочь заразилась стафилококком. «Я подумал: с одной стороны, можно взять и избавиться от инфекции, которая, возможно, угрожает ее жизни и причиняет ей сильную боль, – рассказывает Роб. – А с другой – к восьми годам она может быть на одну единицу ИМТ тяжелее. Обычно мы стараемся не давать ей антибиотики, но, когда они помогают, мы очень им благодарны».
Подобные решения нужно принимать и по отношению к другим микробам-хулиганам. Без сомнения, благодаря санитарии уровень здоровья населения значительно увеличился – инфекционные заболевания больше не угрожают нам на каждом углу. Однако и с ней мы впадаем в крайность. «Чистоплотность уже не стоит рядом с благочестием – она сама стала религией, – писал Теодор Розбери. – Мы превращаемся в нацию чисто вымытых и приятно пахнущих невротиков». Он это написал в 1969 году[217]. Сейчас все гораздо хуже. Если я запущу на сайте одного из самых известных онлайн-магазинов поиск по слову «антибактериальный», я найду в продаже салфетки для рук, мыло, шампуни, зубные щетки, расчески, моющие средства, посуду, постельное белье и даже носки. Дезинфицирующее вещество под названием триклозан включено в состав множества предметов быта – в зубные пасты, косметику, дезодоранты, кухонные приборы, игрушки, одежду и строительные материалы. Чистоплотность для нас стала означать мир без микробов, но мы не задумываемся о том, во что этот мир может превратиться. Мы уже слишком давно отталкиваем их от себя. Так мы создали мир, враждебно относящийся к тем микробам, что нам нужны.
Мартин Блейзер беспокоится не только из-за того, что в организме некоторых людей отсутствуют важные микробы, – он боится, что какие-то их виды могут вообще исчезнуть. Вот, к примеру, его любимица – Helicobacter pylori. В какой-то мере ее репутацию разрушил в 1990-х и сам Блейзер. Ученым уже было известно, что она вызывает язву желудка, но он вместе с другими исследователями выяснил, что она еще и повышает вероятность появления рака желудка. Светлую ее сторону он обнаружил позже: H. pylori снижает вероятность изжоги (состояние, при котором желудочный сок доходит до глотки), рака пищевода и, возможно, астмы. Теперь Блейзер рассказывает о H. pylori с любовью. Среди наших старых друзей она – одна из старейших, ведь она заражает нас уже как минимум 58 тысяч лет.
Сейчас ей угрожает вымирание. Из-за плохой репутации ее начали уничтожать – настойчиво и весьма успешно. «Хорошая Helicobacter pylori – это мертвая Helicobacter pylori» – утверждается в одной авторской статье в медицинском журнале The Lancet. Некогда она была распространена везде, а сейчас встречается лишь у 6 % детей в западных странах. За последние полвека «этот древний, упорный, практически вездесущий и господствующий житель человеческого желудка практически вымер», сокрушается Блейзер. Без этой бактерии меньше народу будет страдать от язвы и рака желудка – это, конечно, замечательно. Однако, если Блейзер прав, ее исчезновение послужило предпосылкой для учащения случаев изжоги и рака пищевода. Что важнее – плюсы или минусы? Видимо, ни то ни другое. В обширном исследовании, где участвовало почти 10 тысяч человек, Блейзер доказал, что присутствие или отсутствие H. pylori никак не влияет на риск смерти человека в любом возрасте. Тогда имеет ли для нас хоть какое-то значение ее вымирание? Наверное, нет – но Блейзер предупреждает, что исчезновение H. pylori предвещает утрату и других бактерий. Ее легко заметить, а значит, она играет роль канарейки в шахте. Она предупреждает нас о том, что, возможно, другие микробы пропадают прямо у нас под носом[218].
Возможно, B. infantis, жительница младенческого кишечника, которого мы кормим грудным молоком, тоже в опасности. Научная группа Дэвида Миллза недавно обнаружила, что B. infantis обитает в кишечниках 60–90 % младенцев в развивающихся странах, таких как Бангладеш и Гамбия, а вот в развитых – в Ирландии, Швеции, Италии и США – всего у 30–40 %[219]. Дело явно не в искусственном вскармливании: почти все участвующие в эксперименте дети питались грудным молоком. И не в кесаревом сечении: большинство младенцев из Бангладеш появились на свет именно этим путем, а у них в кишечнике B. infantis оказывалась чаще всего. Точного объяснения у Миллза нет, но есть предположение. Он заметил, что B. infantis в основном пропадает из кишечника взрослых людей, а значит, возможно, матери просто не могут передать ее ребенку. На протяжении истории человечества такой проблемы не существовало, так как женщины помогали друг другу растить и кормить детей. «Детей во все времена вскармливали разные женщины – так B. infantis передавалась от человека к человеку», – объясняет Миллз. Однако со временем растить детей стали отдельно друг от друга, и пути передачи бактерии закрылись. Возможно, именно поэтому у западного населения она стала исчезать – даже у тех, кого кормят грудным молоком. Если бактерии нет, то и кормить некого. Так это или нет, B. infantis определенно скоро попадет в Красную книгу микробов.
Это исследование подчеркивает кое-что важное: выяснить, действительно ли у жителей развитых стран не хватает нужных им микробов, мы сможем, лишь изучив ситуацию у достаточно обширного круга людей. До недавнего времени большая часть исследований микробиома проводилась на людях из ОДИОЗных стран: Обеспеченных, Демократических, Индустриализованных, Образованных, а главное, Западных[220]. Это примерно восьмая часть всего населения Земли. Ориентироваться только на них – то же самое, что пытаться понять, как устроены города, изучив Лондон или Нью-Йорк и проигнорировав Мумбаи, Мехико, Сан-Паулу и Каир. Микробиологи это осознали и принялись за работу. Одни занялись анализом микробиомов жителей поселений в Буркина-Фасо, Малави и Бангладеш. Другие начали исследовать группы охотников и собирателей – яномамо в Венесуэле, матсес в Перу, хадза в Танзании, бака в Центральной Африканской Республике, асаро и сауси в Папуа – Новой Гвинее и пигмеев в Камеруне[221]. Все они до сих пор ведут традиционный образ жизни. Они сами собирают и ловят себе пищу. О современной медицине большинство из них даже не знают. И все же они современные люди в современном мире, и микробы у них тоже современные, однако благодаря им мы можем хотя бы прикинуть, как должны выглядеть микробиомы без ловушек индустриализации.
Микробиомы представителей этих народов гораздо разнообразнее, чем у жителей Запада. Их множества куда множественнее наших. А еще в них содержатся виды и штаммы бактерий, которых у жителей Запада нет совсем. И у хадза, и у матсес в организме в больших количествах обитают бактерии Treponema – к данному роду относится в том числе возбудитель сифилиса, но у представителей этих народов штаммы не болезнетворные – они просто мирно расщепляют углеводы. Они присутствуют в микробиомах охотников и собирателей, как и человекообразных обезьян, а вот у индустриализованного населения их нет. Возможно, они являются частью древнего набора микробов, имевшегося у наших предков, просто жители развитых стран потеряли с ними связь. Исследования окаменевших фекалий также позволяют предположить, что до индустриализации у людей микробиом был гораздо полнее, чем у городских жителей в наше время.
И что, мы из-за этого стали менее здоровыми? Есть подтверждение того, что разнообразному микробиому проще противостоять захватчикам, таким как C. difficile, а малое количество видов микробов нередко сопровождает различные заболевания. Крупная европейская научная группа под руководством Олуфа Педерсена запустила исследование, направленное на определение уровня разнообразия микробиомов, – для этого она подсчитала количество генов бактерий в кишечниках почти трех сотен человек[222]. Среди добровольцев, у которых микробных генов было меньше, больше людей страдали от ожирения и проявляли симптомы воспалительных процессов и проблем с метаболизмом. Но опять же, возможно, сокращенные сообщества микробов – не причина плохого здоровья, а его следствие. Пока что никто не доказал, что чем менее разнообразный у человека микробиом, тем больше он склонен к тому, чтобы заболеть. А бывает и такое, что в разнообразном микробиоме с большей вероятностью окажутся кишечные паразиты[223].
Также есть основания полагать, что микробиом человека начал терять в численности задолго до начала эры антибиотиков и даже до Промышленной революции. У сельских жителей микробиом кишечника действительно разнообразнее, чем у городских, зато у шимпанзе, бонобо и горилл он еще разнообразнее. Наши микробиомы потихоньку сокращаются с того момента, как мы отделились от остальных обезьян[224]. Возможно, мы просто стали лучше вычищать из кишечника паразитов. А еще у нас изменилось питание. Гориллы, шимпанзе и бонобо в основном питаются растениями. Жители поселений тоже, однако они готовят пищу – расщепляют ее с помощью термообработки, тем самым снимая с микробов часть обязанностей по перевариванию пищи. А американцы в этом плане стали еще более независимы – они употребляют в пищу гораздо меньше растений, а те, что едят, лишают клетчатки. У животных остается тот микробиом, который им нужен, а у нас снизились потребности и, соответственно, количество партнеров.
Однако эти изменения происходили на протяжении тысячелетий, так что у хозяев и микробов было достаточно времени, чтобы к ним привыкнуть. Сейчас мы меняем свой микробиом в ускоренном режиме, и многовековые связи рушатся за несколько поколений. Со временем обе стороны свыкнутся с новым положением дел, но на это может уйти еще много поколений. «Проблемы возникают посередине», – утверждает Зонненберг. То есть сейчас.
Блейзер с ним согласен. Он пишет, что «за утрату микробного разнообразия на наших телах и внутри них придется очень дорого заплатить». Он описывает надвигающуюся катастрофу как «суровую и гнетущую, словно метель над оледеневшим пейзажем», и называет ее «антибиотической зимой»[225]. Он преувеличивает: хоть наш микробиом и меняется под нашим влиянием, оснований ожидать его полного вымирания пока очень мало. Однако если ради того, чтобы это вымирание предотвратить, нужно поступиться строгостью интерпретаций и немножко постращать остальных, Блейзера это устроит. Провозглашая грядущую гибель микробов, он создал себе имидж микробиологической прорицательницы Кассандры. И, как и Кассандра, он привлекает внимание скептиков.
В 2014 году Джонатан Айзен включил Блейзера в список получивших награду «Раздутие темы микробиома» за интервью для журнала Time, в котором тот утверждал, что «антибиотики уничтожают наш микробиом и вносят изменения в развитие человека»[226]. Награда состоит из размещенной в блоге Айзена звезды, цель которой – (обес)славить исследователей и журналистов, приукрашивающих исследования в области микробиологии и выдающих свои измышления за факты. Среди награжденных в прошлые годы числятся издания Daily Mail и Huffington Post. «Вот что я думаю: антибиотики, может, и добавляют в микробиом бардака, что приводит к большему количеству человеческих заболеваний, – написал Айзен. – Но «уничтожают»? Ничего подобного».
На первый взгляд эта награда может показаться грубым способом пожурить, тем более что Айзен сам по себе веселый и добродушный энтузиаст и любитель микробов. Однако, несмотря на весь свой энтузиазм, Айзен ведет себя сдержанно и понимает, что мы не знаем о своих микробных партнерах еще очень, очень многого. И его беспокоит, что отношение научного сообщества к ним переходит от гермофобии, несущей уничтожение каждому микробу, к микробомании, означающей, что бактерий превозносят и считают объяснением и решением всех наших болячек.
Его беспокойство оправдано. В биологии многие давно стремятся отыскать единую причину всех сложных заболеваний. Древние греки считали, что многие болезни вызваны дисбалансом четырех телесных жидкостей, или гуморов: крови, слизи, черной желчи и желтой желчи, – и эти представления дожили аж до XIX века. Примерно столько же просуществовало мнение, что болезни вызывает «дурной воздух», то есть миазмы, но потом ему на смену пришла микробная теория. А в 1960-х многие канцерологи решили, что опухоли появляются из-за вирусов, – после того как у кур был обнаружен всего один канцерогенный вирус[227]. Ученые нередко говорят о принципе бритвы Оккама, утверждающем, что простое и изящное объяснение чему-либо, как правило, вернее сложного и запутанного. Мне кажется, что на самом деле простые объяснения кажутся им, как и всем остальным, успокаивающими. Они убеждают нас, что наш странный и беспорядочный мир можно понять и даже в какой-то мере можно управлять им. Они обещают помочь нам описать неописуемое и взять под контроль бесконтрольное. Однако, как мы знаем из истории, такие обещания нередко оказываются иллюзией. Уверовавшие в вирусную природу рака бросились в путь, но десять с лишним лет и полмиллиарда долларов спустя так ни к чему и не пришли. Позже мы выяснили, что некоторые вирусы и правда могут вызывать рак, но они объясняют лишь малую часть всех случаев заболевания. Единая причина – одна идея, чтобы править всеми, – оказалась лишь крошечным фрагментом огромной мозаики.
Об этих уроках скромности не стоит забывать, когда мы вспоминаем о роли микробиома в медицине и о длиннющем списке приписанных ему заболеваний[228]. В него среди прочих входят болезнь Крона, язвенный колит, воспалительные заболевания кишечника, рак толстой кишки, ожирение, диабет первого типа, диабет второго типа, глютеновая болезнь, аллергия и атопия, квашиоркор, атеросклероз, заболевания сердечно-сосудистой системы, аутизм, астма, атопический дерматит, пародонтит, гингивит, угри, цирроз печени, неалкогольный стеатогепатит, алкоголизм, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, депрессия, нервозность, спастические боли в животе, синдром хронической усталости, реакция тканевой несовместимости, ревматоидный артрит, псориаз и инсульт. На сатирическом сайте The Allium как-то написали: «На самом деле нам для здоровья ничего и не нужно, кроме микробиома – он может вылечить рак, избавить нас от голода и нищеты, отрастить ампутированные конечности и все такое»[229].
Большинство подобных ассоциаций – не более чем корреляции. Исследователи зачастую сравнивают людей с какими-то болезнями и здоровых добровольцев, находят различия в микробиомах и на этом останавливаются. Эти различия намекают на наличие связи между микробами и болезнью, но не раскрывают ее причину и суть. Описанные мной исследования ожирения, квашиоркора, воспалительных заболеваний кишечника и аллергии восполняют этот пробел. Они направлены на то, чтобы выяснить, как именно изменения в микробиоме приводят к проблемам со здоровьем. Судя по тому, что из-за пересаженных микробов у стерильных мышей начинаются те же проблемы со здоровьем, причинная связь все же есть. Однако эти эксперименты порождают больше вопросов, чем ответов. Какую роль здесь в действительности играли микробы – сами явились причиной появления симптомов или просто усугубили и без того тяжелую ситуацию? Во всем виноват один вид микробов или виновных несколько? Что на самом деле важно – присутствие одних микробов, отсутствие других или все вместе? И ведь даже если эксперименты подтвердят, что микробы могут становиться причиной болезней у мышей и других животных, насчет людей мы не можем быть уверены. Действительно ли изменения в микробиоме влияют на наше здоровье вне идеальных условий лаборатории и нестандартных организмов подопытных грызунов? Какова степень их влияния на распространение заболеваний XXI века? Как они соотносятся с другими потенциальными причинами бедствий наших дней, такими как курение и загрязнение окружающей среды? Разобраться, где причина, а где следствие, в беспорядочном и многогранном мире дисбиоза очень нелегко.
Кстати, а что вообще считается дисбиозом? Как можно понять, что в экосистеме беспорядок? Обилия C. difficile, вызывающего неудержимый понос, не заметить сложно, но в основном сообщества бактерий проявляют себя не так явно. Если в кишечнике нет B. infantis – это дисбиоз? Если у вас в микробиоме меньше видов бактерий, чем у жителя африканской деревушки, – это дисбиоз? Экологическую природу заболевания этот термин передает отлично, но вместе с тем он стал своего рода микробиологической версией искусства или порнографии: дать точное определение сложно, но когда увидишь – узнаешь. А многие ученые стремятся окрестить дисбиозом любые изменения в микробиоме[230].
Смысла в этом особого нет – в микробиоме крайне важен контекст[231]. В разных ситуациях у одних и тех же микробов могут быть совершенно разные отношения с хозяином. H. pylori бывает как героиней, так и злодейкой. Полезные микробы, пробравшись сквозь слой слизи и продырявив стенку кишечника, могут спровоцировать разрушительную иммунную реакцию. Сообщества, кажущиеся на первый взгляд «нездоровыми», могут оказаться нормой или даже необходимостью. В микробиоме кишечника, например, к третьему триместру беременности наступает настоящий переполох, он становится похож на микробиом больного метаболическим синдромом – это расстройство несет с собой ожирение, повышение уровня сахара в крови и предрасположенность к диабету и болезням сердца[232]. Ничего ненормального тут нет: запасы жира и сахара в крови нужны для питания растущего плода. Если бы вы рассмотрели такое сообщество отдельно от женщины, то, возможно, решили бы, что ей грозит хроническое заболевание, а на самом деле ей грозит всего-навсего материнство.
Микробиом может претерпевать изменения по необъяснимым причинам. Сообщества микробов во влагалище могут существенно и резко меняться на протяжении дня, периодически оказываясь вроде бы в предболезненном состоянии, но причины тому остаются неизвестными, а никакого вреда здоровью не следует. Если вы попытаетесь определить состояние здоровья женщины лишь по вагинальным микробам, разобраться в результатах анализа будет сложно – к тому же они устареют еще до того, как будут готовы. К другим частям тела это тоже относится[233].
Микробиом непостоянен. Он представляет собой обширное скопление тысяч видов, которые неустанно борются друг с другом, переговариваются с хозяином, развиваются и меняются. Он колеблется и пульсирует на протяжении суток – одних видов больше днем, другие же ведут ночной образ жизни. Ваш геном сейчас точно такой же, как в прошлом году, а вот микробиом с рассвета или с обеда изменился.
Было бы куда проще, если бы существовал идеал здорового микробиома, к которому мы могли бы стремиться, или возможность определить, является ли сообщество микробов здоровым или нездоровым. Но ни того ни другого у нас нет. Экосистемам присущи сложность, разнообразие, изменчивость и зависимость от обстоятельств – качества, враждебные простоте систематизации.
Усугубляет ситуацию тот факт, что ранние открытия в области микробиома почти наверняка ошибочны. Помните, что у людей и мышей с ожирением в кишечнике больше бактерий Firmicutes и меньше Bacteroidetes, чем у их более стройных сородичей? Соотношение F/B стало одним из самых нашумевших открытий по этой теме, а ведь оно – мираж. В 2014 году две попытки проанализировать результаты того исследования показали, что соотношение Firmicutes и Bacteroidetes не связано с ожирением у людей напрямую[234]. Разницу между микробиомом полных и стройных людей можно заметить в любом исследовании, только вот она каждый раз другая. Наличия связи между микробиомом и ожирением никто не отменял – стерильные мыши действительно начинают набирать вес, если к ним в кишечники попадут микробы полной мыши или человека. Что-то связанное с микробными сообществами влияет на вес, но это не соотношение F/B – по крайней мере, не только оно. Несмотря на десять лет упорной работы, ученые едва ли продвинулись вперед в выяснении того, какие же микробы явно связаны с ожирением, а ведь среди исследователей эта отрасль микробиологии самая популярная. «Наконец-то до всех доходит, что простого показателя вроде процентного соотношения определенных микробов недостаточно, чтобы объяснить настолько сложную вещь, как ожирение», – усмехается Кэтрин Поллард, под чьим руководством был проведен один из тех пересмотров.
Противоречащие друг другу результаты часто возникают в начале исследований какой-либо отрасли – главным образом из-за недостатка финансирования и погрешностей техники. Ученые проводят небольшие исследования, сравнивая мелкие выборки людей или животных тысячами различных способов. «Проблема в том, что их результатам можно доверять так же, как картам таро, – жалуется Роб Найт. – Что бы вам ни выпало, это можно связать между собой и превратить в неплохую историю». Представьте, что я встретил на улице десять человек в синих футболках и десять в зеленых. Задав им достаточно вопросов, я наверняка найду между этими двумя группами хотя бы два значительных отличия. Возможно, синие футболки предпочитают кофе, а зеленые – чай. Размер ноги у носящих зеленые футболки может в среднем оказаться больше, чем у любителей синих. Тогда я смогу выдвинуть гипотезу о том, что синие футболки побуждают людей пить кофе и уменьшают ступни. А вот если у меня будут две группы по миллиону человек, найти между ними различия мне будет куда сложнее, но те, что я все же смогу найти, скорее всего, окажутся значимыми. Вот только для того, чтобы привлечь к исследованию миллион человек, нужно потратить немало денег и времени. Генетики тоже сталкивались с такой проблемой. В начале XXI века, когда технологии еще отставали от амбиций, было выявлено множество генетических комбинаций, связанных с болезнями, особенностями тела и поведением. Но как только технологии секвенирования ДНК стали достаточно дешевыми и мощными, чтобы анализировать образцы миллионами, а не десятками или сотнями, выяснилось, что многие предыдущие результаты ложноположительны. Микробиология человека проходит через те же неприятные трудности.
Микробиом очень изменчив: сообщества микробов у мышей могут различаться, если они относятся к разным линиям, были куплены у разных продавцов, родились у разных самок или жили в разных клетках, и этот факт не облегчает задачу микробиологам. Эти различия могут стать причиной обнаружения иллюзорных паттернов или же несоответствий между разными исследованиями. Также существует проблема загрязнения образцов, ведь микробы – вездесущие создания[235]. Они могут попасть во все что угодно, включая используемые в опытах реактивы.
Однако сейчас с этими проблемами понемногу справляются. Микробиологи находят все новые и новые способы обойти препятствия, из-за которых результаты могут оказаться ложными, а также создают новые стандарты для будущих исследований. Нескончаемых корреляций им хватает по горло – им нужны эксперименты, которые подтвердят причинную связь и укажут на то, как изменения в микробиоме могут привести к болезни. Они пытаются рассмотреть микробиом в мельчайших деталях и разработать способы, позволяющие определить в микробном сообществе штамм бактерии, а не только ее вид. Теперь помимо секвенирования ДНК они изучают РНК, белки и продукты обмена веществ: по ДНК можно понять, что это за микроб и на что он способен, а по остальным молекулам – выяснить, чем он занимается на самом деле. Исследователям больше не требуется изучать один-два вида отдельно от других – благодаря компьютерным программам они идентифицируют сложные сообщества микробов, которые, возможно, и являются причиной заболеваний[236]. Снижение стоимости секвенирования позволяет им проводить более масштабные эксперименты.
Длительность экспериментов тоже увеличивается. Вместо того чтобы рассматривать один-единственный кадр из микробиома, исследователи пытаются посмотреть весь фильм целиком. Как микробные сообщества изменяются с течением времени? Сколько пинков они могут выдержать, перед тем как развалиться? Что делает их более стойкими или, наоборот, ослабляет? Влияет ли степень их стойкости на риск заболевания у человека?[237] Одна группа исследователей набрала сотню добровольцев, которые будут в течение девяти месяцев раз в неделю сдавать на анализ мочу и кал, потребляя при этом определенную пищу или принимая антибиотики по расписанию. Другие проводят подобные исследования на беременных, чтобы выяснить, способствуют ли микробы преждевременным родам, а также на людях с повышенным риском развития диабета второго типа, чтобы понять, могут ли микробы ускорить процесс перехода болезни в полностью развитую форму. Группа Гордона создала график развития микробиома у здоровых детей и его торможения у детей с квашиоркором. Используя образцы кала детей из Бангладеш и Малави за первые два года их жизни, ученые разработали шкалу, по которой можно измерить степень развития сообществ микроорганизмов в кишечнике, – есть надежда, что по ней можно будет определить, есть ли у младенца риск заболеть квашиоркором, даже если никаких симптомов болезни нет[238].
Главная цель всех этих проектов – научиться замечать признаки болезни как можно раньше, прежде чем человеческий организм превратится в нечто вроде поросшего водорослями рифа – в вырожденную экосистему, восстановить которую очень тяжело.
«Профессор Плэнер! – воскликнул Джефф Гордон. – Как поживаете?»
Это он обратился к своему студенту Джо Плэнеру, стоящему перед обычным лабораторным столом с пипетками, пробирками и чашками Петри, запечатанными в прозрачный пластик. Сооружение из пластика напоминает герметичные камеры для мышей, только оно нужно для устранения кислорода, а не микробов. Здесь исследователи выращивают кишечных бактерий, крайне нетерпимых к кислороду. «Если написать на бумаге «кислород» и показать этим крошкам, они сразу окочурятся», – шутит Гордон.
В этой анаэробной камере Плэнер вырастил столько микробов, сколько смог найти в образце кала ребенка с квашиоркором из Малави. Затем он разделил все сообщество на штаммы и поместил каждый штамм в свое отделение. Таким образом он превратил хаотичную экосистему кишечника ребенка в упорядоченную библиотеку, разместив огромное количество микробов по аккуратным рядам. «Мы знаем, что собой представляет каждая бактерия, – говорит он. – Сейчас мы скажем роботу, чтобы он взял определенные бактерии и смешал их вместе». Он указывает на прибор внутри пластиковой камеры, напоминающий сваленные в кучу черные кубики и стальные прутья. Плэнер может запрограммировать его так, чтобы он втянул в себя бактерии из нужных отделений и перемешал. «Взять всех энтеробактерий!» – может приказать он. Или всех клостридий. Затем он сможет пересадить полученный микробный коктейль в кишечники стерильных мышей, чтобы выяснить, вызовет ли симптомы квашиоркора именно такая комбинация бактерий. Понадобится ли для этого все сообщество? Может, подойдут культивируемые виды? А одно семейство? А один штамм? Этот подход как дробящий, так и целостный. Микробиом сначала разделяется на части, а затем снова становится целым. «Мы пытаемся выяснить, какие актеры играют здесь главные роли», – подытожил Гордон.
Через несколько месяцев после нашей встречи с Плэнером и его роботом ученые сузили список подозреваемых всего до 11 микробов, вызывающих у мышей большинство симптомов болезни[239]. Были в этой шайке и уже знакомые нам лица – например, B-theta и B-frag. Сами по себе они не были вредны. Проблемы начинались только тогда, когда все эти микробы работали вместе, да и то лишь при условии, что мыши не получали питательные вещества в достаточном количестве. Также исследователи собрали микробные культуры из кишечников здоровых близнецов больных детей и выявили два вида бактерий, умеющих противостоять урону от 11 «друзей» квашиоркора. Одна из них, Akkermansia, уже проявила себя в исследованиях, направленных на снижение веса, но, по-видимому, от истощения она тоже может защитить. Другая, Clostridium scindens, стимулирует регуляторные Т-клетки иммунной системы и тем самым борется с воспалением.
Напротив стола с анаэробной камерой стоит блендер, берущий образцы пищи из различных диет и превращающий их в корм для грызунов. Кто-то прилепил на него бумажку с надписью «Чубакка»[240]. Теперь у исследователей в лаборатории Гордона появилась возможность следить за поведением Akkermansia и C. scindens как в пробирках, так и в организмах стерильных мышей и выяснять, в каких именно питательных веществах нуждаются микробы. Это позволяет сравнить работу микробов при малавийской диете и американской, а также при кормлении грудным молоком (для этого Гордон объединил усилия с Брюсом Джерманом и Дэвидом Миллзом). Какой микроб какую пищу потребляет? Какие микробные гены при этом включаются? Из любого микроба команда ученых может создать тысячу мутантов, у каждого из которых один ген будет поврежден. Этих мутантов затем заселят в организмы мышей, чтобы выяснить, какие гены действительно нужны микробам для того, чтобы выжить в кишечнике, установить связь с другими микробами и вызвать квашиоркор – или, наоборот, защитить от него организм.
По сути, Гордон создал источник причинных связей – набор инструментов и методик, благодаря которым, как он надеется, можно будет уточнить, какое именно влияние оказывают на нашу жизнь микробы, и получить на все вопросы четкие ответы, а не догадки и предположения. Борьба с квашиоркором – это только начало. Эти же методики смогут помочь нам разузнать больше о любой болезни, в которой есть место микробам.
И речь сейчас идет не только о человеческих болезнях. В зоопарках многие животные заболевают по непонятным причинам[241]. У гепардов начинается гастрит, вызванный их эквивалентом H. pylori. Маленькие и милые обезьянки-мармозетки страдают от названного в их честь синдрома истощения мармозеток. Дисбиоз ли это все? Возможно ли, что животные заболевают из-за проблем с микробиомом, вызванных необычным питанием, чрезмерно чистыми вольерами, незнакомыми лекарствами и особенностями программ разведения животных в неволе? Если выпустить животных из зоопарка в их естественную среду обитания, как они проживут без микробов, которых лишились за время жизни в зоопарке? Будут ли у них нужные пищеварительные бактерии? Сможет ли их иммунная система справляться с заболеваниями, если рядом не будет ветеринаров? Мы знаем, что микробы способны влиять на поведение (а стерильные мыши отличаются от обычных спокойствием), – так вот хватит ли животным осторожности, чтобы выжить бок о бок с хищниками?
И сейчас для этих многочисленных вопросов как раз самое время. На нашей планете наступил антропоцен – новая эпоха, при которой влияние человечества на окружающий мир приводит к глобальным изменениям в климате, уменьшению мест обитания диких животных и радикальному снижению разнообразия жизни на Земле. Микробы тоже не избежали подобной участи: и на коралловых рифах, и в собственных кишечниках мы постепенно разрушаем устоявшиеся связи между микроорганизмами и их хозяевами, зачастую разделяя виды, жившие бок о бок миллионы лет. Гордон, Блейзер и многие другие исследователи изо всех сил стараются понять и, возможно, предотвратить конец этих долгосрочных партнерских отношений. А кого-то больше интересует их начало.
Глава 6. Долгий вальс
15 октября 2010 года Томас Фриц, инженер на пенсии, взял бензопилу и пошел спиливать погибшую яблоню за домом в Эвансвилле, штат Индиана. Спилить дерево труда не составило, но, унося ствол, Фриц споткнулся, и прямо между большим и указательным пальцем на его правой руке вонзился сучок размером с карандаш. Фриц был добровольным пожарным и прошел медицинскую подготовку – он знал, как правильно обработать рану. Однако, несмотря на все его усилия, рука воспалилась. Через два дня, когда он отправился к врачу, на месте раны образовалась киста. Фриц пропил курс антибиотиков – бесполезно. Рука начала заживать лишь спустя пять недель, после того как хирург извлек из раны несколько застрявших там и не желающих вылезать обломков коры.
Так бы этот случай и забылся, если бы врач Фрица не взял из раны немного жидкости. Образец отправился в лабораторию при Университете Юты, куда попадают для знакомства с учеными многие загадочные микробы. Автоматизированные инструменты в лаборатории опознали бактерий из раны Фрица как Escherichia coli, но Марк Фишер, медицинский директор, отнесся к ним с недоверием. ДНК соответствовала не полностью. Проверив результаты секвенирования повнимательнее, он заметил, что у бактерии Sodalis, открытой совсем недавно, в 1999 году, ДНК почти идентичная. По счастливой случайности, открывший ее ученый работал здесь же, в университете – Колин Дейл, биолог из Великобритании.
Дейл сначала Фишеру не поверил. Фишер пытался его убедить, что Sodalis росла в чашке с агаром в лаборатории. Нет, заявил Дейл, это наверняка ошибка. Как всем на тот момент было известно, Sodalis обитала лишь в телах насекомых. Дейл впервые ее обнаружил у кровососущей мухи цеце, а потом и у долгоносиков, клопов-щитников, тлей и вшей. Бактерия устроилась прямо в клетках этих животных и потеряла слишком много генов, чтобы жить где-нибудь еще. Она бы никак не смогла выжить в чашке Петри, а уж в ране на руке или на ветви погибшего дерева – тем более. Но ведь ДНК не врет. Большая часть генов бактерии из руки Фрица совпадала с генами Sodalis. Дейл назвал новый штамм HS – human Sodalis, то есть «Sodalis человека». «Думаю, HS довольно широко распространен, но мы в мертвых деревьях в поисках бактерий особо не ковыряемся», – говорит он.
Только подумайте, сколько в этом рассказе совпадений. Микроб оказался на нужной ветке, заразил нужного человека и в итоге попал в нужную лабораторию – на одной улице с лабораторией человека, что открыл его сестрицу, обитающую в клетках насекомых. Вроде бы невероятное стечение событий. Но вскоре все повторилось. На этот раз пострадал мальчик, взбираясь на дерево. Как и Фриц, он упал и наткнулся на сучок. В отличие от Фрица у него не началось воспаление. Первые симптомы появились десять лет спустя – на месте давно зажившей раны откуда-то возникла киста. Врачи ее вырезали и отправили образец в Университет Юты. На этот раз в нем оказалось два штамма HS[242].
Забудьте о Фрице и о мальчике: они в порядке, разве что с деревьями теперь обращаются с большей осторожностью. Давайте поговорим о HS. У ученых, занимающихся симбиозом, при упоминании этой бактерии появляется блеск в глазах, ведь она позволяет нам взглянуть на одну из основных, но при этом малоизвестных сторон отношений животных и бактерий – на их зарождение. Обычно к тому времени, как мы об этих отношениях узнаем, партнеры вальсируют вместе уже миллионы лет. Но как они выглядели в самом начале танца? Почему начали танцевать? Как продолжили и как менялись в процессе? Эти вопросы волнуют многих. Первые шаги долгого вальса со временем обычно забываются, а их следов для нас почти не осталось.
HS стала исключением. Она показывает, как, возможно, выглядела Sodalis до заключения в клетках насекомого, еще когда она была вольным микробом, резвилась на природе и при случае могла заразить какое-нибудь животное. HS – утерянное звено. Симбионт в ожидании. Ученые уже давно предсказали, что подобные «предковые» микробы существуют, но мало кто мог помыслить, что когда-нибудь удастся обнаружить хоть одного. Дейл обнаружил двоих. Вскоре он дал HS официальное имя, Sodalis praecaptivus – «Sodalis до пленения»[243].
Так вот, представьте себе HS – сидит себе на деревьях и бог знает где еще, никого не трогает. Если ей доведется попасть в споткнувшегося садовника или упавшего ребенка, она начнет размножаться. Но с большей вероятностью она попадет в организм обитающего на дереве насекомого. По ее генам Дейл может предположить, что она – патоген: вызывает у деревьев болезни и переносится между ними на ротовых органах насекомых. Вот она уже полагается на животных, чтобы те доставляли ее к новым хозяевам. Затем, возможно, в процессе эволюции она развилась так, чтобы приносить насекомым пользу – предоставлять питательные вещества, например, или защиту от паразитов. Потом она может переместиться из кишечника или слюнных желез хозяина в его собственные клетки. Теперь, вместо того чтобы находить себе новых насекомых через деревья, она начинает переходить от матери к потомству и становится постоянной частью организма хозяина. Удобно устроившись, она, как и другие симбионты насекомых, утрачивает ненужные более гены и становится «плененной» Sodalis. Эта цепочка событий, наверное, складывалась не один раз[244] – потому разные версии Sodalis существуют в разных группах насекомых[245].
Скорее всего, так начались многие симбиозы со случайными микробами среды – как паразитами, так и ребятами поприличнее, – каким-то образом попавшими в животные организмы. Такие вторжения случаются часто, и предотвратить их нельзя. Бактерии вездесущи, а значит, что бы мы ни делали, мы вступаем в контакт с новыми видами.
Втыкать в себя сучок для этого совсем не обязательно. Секс вполне подойдет: при спаривании тли обмениваются микробами, помогающими защищаться от паразитов или переносить высокую температуру. Или можно что-нибудь слопать. Мокрицы, например, пополняют свою коллекцию микробов, пожирая друг друга, а мыши – поедая помет других мышей. Две белокрылки могут обменяться микробами, попив сока одного и того же растения. Человек в среднем проглатывает до миллиона микробов на грамм пищи. Микробы везде, так что практически любая пища – лужица воды, стебель растения, плоть другого животного – это потенциальный источник новых симбионтов[246].
У паразитов есть еще один способ попасть в организм животного. Многие наездники откладывают яйца в тела других насекомых, протыкая одну жертву за другой заостренными трубками. Они, по сути, являются живыми, летающими, грязными шприцами, которые распространяют потенциально полезных микробов от хозяина к хозяину так же, как хоботок комара распространяет малярию и лихорадку денге. Мы знаем, что так происходит, потому что ученые лично наблюдали это в полевых условиях, а потом воспроизводили в лабораторных[247]. Загрязненная пища и вода, незащищенный секс, использованные шприцы – для нас это путь к болезням. Но раз уж по тропинке могут пройти патогены, полезные микробы тоже могут достичь по ней новых хозяев.
Однако путь – это еще не все. Когда бактерия прибывает на новое место, ей нужно первым делом там обустроиться, и успех ей вовсе не гарантирован. Ей придется справиться с иммунной системой, микробами-соперниками и другими угрозами. Возможно, лишь один из сотни прыжков по горизонтали ведет к стабильному партнерству. А может, примерно один из миллиона. Нам этого не узнать никак. Но на одном поле, возможно, миллион тлей пьют сок одних и тех же растений, а миллион наездников жужжат над ними и протыкают их зараженными кинжалами. При таких количествах маловероятное становится вероятным, а почти невозможное – возможным, даже проткнуть себе руку древесным сучком и получить вместе с ним нового симбионта.
Микробы-новички, скорее всего, останутся на новом месте надолго, если они способные паразиты, но некоторым микробам гражданство гарантировано, если они приносят пользу. Им даже адаптироваться не придется. В мире полно микробов, уже адаптированных к симбиозу благодаря тому, что они и так делают. Если в организм вегетарианца попадут микробы, умеющие расщеплять сложные углеводы и высвобождать тем самым недоступные ранее химические вещества, которые потом сжигаются клетками для получения энергии, они сразу же впишутся в компанию. Им не придется больше ничего делать, они просто продолжат привычную жизнедеятельность как ни в чем не бывало, но теперь будут приносить хозяину пользу. Такой «побочный мутуализм» – идеальное знакомство[248]. Оба партнера что-то с него получают, а вкладываться не приходится никому. Потом у хозяина могут появиться новые свойства для укрепления партнерства – от клеток, служащих микроскопическим партнерам домиками, до молекулярных опорных точек, за которые партнеры смогут уцепиться. А самое главное из этих свойств – то, что способно закрепить симбиоз куда лучше, чем все остальное, – это наследование.
На европейском лугу под жарким летним солнышком меж цветов жужжит пчела. Вдруг к ней навстречу вылетает другое желто-черное насекомое, нападает на нее и парализует жалом. Это пчелиный волк – крупная и могучая оса с весьма метким названием. Она затаскивает жертву в подземную нору, чтобы закопать рядом с одним из своих яиц и еще несколькими пчелами – обездвиженными, но пока живыми. Личинка, вылупившись, сожрет все запасы в живой кладовке, заботливо припасенные матерью.
Пчелиные волки оставляют в подарок потомству не только пчел. Мартин Калтенпот, изучая поведение пчелиных волков, заметил, как из усиков одной особи выделяется белая густая жидкость. Это вещество он уже видел. Выкопав нору, самка пчелиного волка, перед тем как отложить яйцо, прижимается усиками к земле и выдавливает из них белую пасту, как мы – зубную пасту из тюбика. Затем она мотает головой и размазывает ее по потолку норы. Эта паста – своего рода знак «Выход здесь»: когда молодая особь осы готова покинуть нору, она начинает копать именно там. Калтенпот рассмотрел пасту под микроскопом и удивился: оказывается, в ней кишмя кишат бактерии! Оса, выделяющая микробов из усиков? Неслыханное дело. И что еще более странно, бактерии были одни и те же. В усиках у всех пчелиных волков содержится один и тот же штамм Streptomyces.
Это стало отличной подсказкой. Бактерии Streptomyces мастерски убивают других микробов – на этой группе бактерий основано две трети наших антибиотиков. А молодому пчелиному волку антибиотики точно не помешают. Съев запасенных пчел, он окружает себя коконом и остается в нем зимовать. Целых девять месяцев он заключен в теплую влажную камеру – идеальное место для болезнетворных грибов и бактерий. Калтенпот решил, что антибактериальная паста матери поможет детенышу не подхватить смертельную инфекцию. И действительно, понаблюдав за личинками, он обнаружил, что они «вплетают» бактерии из пасты в волокна кокона, так что детеныши укрываются самотканым одеялком из микробов, вырабатывающих антибиотики. Когда Калтенпот забирал у молодых ос белую пасту, в течение месяца почти все погибали от микоза[249]. А когда он ее оставлял, все обычно выживали. Весной новоиспеченные взрослые осы выбираются из коконов и наполняют усики теми же Streptomyces, что защищали их всю зиму. И вот они разлетаются – копать свои норы, ловить своих пчел и передавать жизненно важных микробов своему потомству.
Подобные акты трансмиссии, во время которых животные передают потомству микробов в эстафете поколений, в мире симбиоза имеют едва ли не наибольшую важность, ведь они переплетают между собой судьбы хозяев и симбионтов[250]. Они гарантируют, что долгий вальс и правда будет долгим, что он будет продолжаться веками, что новые поколения животных и микробов вступят в связь, как и их родители. И с помощью эволюции они заставляют танцоров сливаться друг с другом в танце еще ближе. Микробам под давлением эволюции приходится развивать у себя способности, приносящие хозяевам пользу, чтобы с ними хотело танцевать больше партнеров. А у животных должны появляться новые эффективные способы передачи потомству микробного наследства.
Поселить микробов прямо в яйцеклетках надежнее всего – тогда и симбиоз будет задушевнее некуда. Митохондрии – бывшие бактерии, дающие нашим клеткам энергию, – и так уже там, так что от матери к ребенку они переходят без лишней мороки. Других микробов приходится туда заселять – так делают глубоководные моллюски, морские плоские черви и целая куча разных видов насекомых. Будучи лишь оплодотворенной яйцеклеткой, они уже находятся в сопровождении микробов. Они никогда не бывают одиноки.
Обеспечить потомству нужных микробов можно и без яйцеклетки. Многие насекомые идут по тому же пути, что и пчелиные волки: устраивают там, где вылупятся их детеныши, микробную заначку. В этом особенно преуспели клопы-щитники. Мало кто знаком с ними лучше, чем Такема Фукацу – энтомолог с заразительным энтузиазмом, вознамерившийся изучить всех существующих на Земле насекомых[251]. Он обнаружил, что представители одного вида щитников упаковывают микробов в прочные погодостойкие капсулы и раскладывают их рядом с яйцами, а вылупившиеся клопята потом эти капсулы поедают. Представители другого вида покрывают сами яйца желеобразным веществом с микробами. А вот у одного вида японских щитников – обаятельных букашек с красно-черной окраской, милых взгляду, но немилых урожаю, – тактика самая надежная. Большинство насекомых сразу покидают детенышей на произвол судьбы, а эти охраняют яйца до последнего. Самка их высиживает, словно курица, а иногда даже кормит вылупившихся нимф кусочками плодов. Она каким-то образом чувствует, когда они вот-вот вылупятся, и прямо перед чудом рождения обильно поливает яйца слизью с бактериями из тыльной стороны тела. Яйца в белой жидкости теперь напоминают мармеладки, покрытые самой мерзкой глазурью на свете. Детеныши вылупляются, проглатывают слизь – и их тут же заселяют свежайшие кишечные микробы. Забудьте ненадолго об отвращении и задумайтесь о значимости этого момента: каждый клопик с первым глотком перестает быть индивидом со стерильным организмом и становится колонией из множеств, богатой экосистемой.
Муха цеце – кровосос, распространяющий среди людей сонную болезнь, – тоже снабжает детенышей микробами, только на этот раз в своем собственном теле. Это насекомое, которое изо всех сил старается стать млекопитающим. Муха цеце не откладывает яйца – она живородящая. И вместо того чтобы перестраховаться и произвести на свет сразу много детенышей, она направляет все силы на одну-единственную личинку – выращивает ее в матке и кормит жидкостью, напоминающей молоко. В молоке достаточно питательных веществ и микробов (в том числе, кстати, Sodalis), так что, когда абсурдно крупный детеныш вылезает из несчастной матери (поверьте, у людей роды по сравнению с этим – пара пустяков), у него уже есть все нужные партнеры-бактерии[252].
Другие животные, перед тем как накормить детенышей микробами, ждут, пока те вылупятся или родятся. Детеныш коалы в шестимесячном возрасте отлучается от материнского молока и переходит на листья эвкалипта. Но перед этим он трется носом о ягодицы матери, на что она в ответ выделяет кашицу, которую малыш должен проглотить. В кашице содержатся бактерии, позволяющие маленькой коале переваривать жесткие листья эвкалипта, причем их там в 50 раз больше, чем в обычных фекалиях. Без этого первого обеда со всеми последующими придется тяжко[253].
У людей, к превеликому облегчению, кашицы нет. Бактерий у нас в яйцеклетках тоже нет, не считая митохондрий, а мамы не поливают нас слизью. С первыми микробами мы знакомимся при рождении. В 1900 году французский педиатр Анри Тиссье выдвинул предположение, что матка – это стерильная камера, отделяющая ребенка от бактерий. Нашему уединению приходит конец, когда мы проходим по родовым путям и встречаемся с вагинальными бактериями. Это наши первые поселенцы – первопроходцы в наших пустых экосистемах. Мы, как и японские клопы-щитники, появляемся на свет в маминых микробах. Недавние исследования ставят этот факт под сомнение, указывая на следы ДНК микробов там, где их быть не должно, – в околоплодных водах, пуповинной крови и плаценте, – но их результаты весьма спорные[254]. Неясно, как микробы туда попали, важно ли это и были ли они там вообще, – возможно, это ДНК отмерших клеток или бактерий, случайно попавших в образцы. Не исключено, что теория Тиссье о стерильности матки действительно неверна, но пока нам нечем ее опровергнуть.
Даже если животные не получают микробов вертикально, то есть от родителей, у них есть возможность «поймать» нужных симбионтов горизонтально. Многие животные регулярно засеивают все вокруг исторгнутыми микробами, которые затем попадают к их потомству[255]. Некоторые работают напрямую. Термиты, по словам Грега Херста, предпочитают лизать зад – по-научному это называется «проктодеальный трофаллаксис». Им, как и коалам, нужны микробы, чтобы переваривать пищу, только уже древесину, и они их получают, высасывая соответствующую жидкость у своих родственников. Однако в отличие от коал термиты при каждой линьке теряют все содержимое кишечника, включая микробов. Чтобы пополнить запасы, им приходится каждый раз вылизывать задний проход других термитов. Нам подобные привычки не по вкусу, но для животных брезгливость нехарактерна. Многие хорошо нам знакомые животные – коровы, слоны, панды, гориллы, крысы, кролики, собаки, игуаны, жуки-могильщики, тараканы, мухи и многие другие – регулярно поедают помет друг друга. Это называется копрофагией.
А кожным микробам хватает простого прикосновения. У самых разных животных – саламандр, лазурных птиц, людей – при проживании рядом друг с другом сообщества микробов на коже, как правило, более похожи, чем у друзей, живущих порознь. У бабуинов, живущих в одной стае и, соответственно, вычесывающих друг другу шерсть, сходств в микробиоме кишечника тоже больше по сравнению с соседями, даже если обе стаи проживают на одной территории и питаются одним и тем же. А лучше всего такое сближение проявляется у игроков в роллер-дерби. Игроки одной команды обладают одними и теми же кожными бактериями, так что у разных команд сообщества свои, уникальные. Но во время игры, когда две команды толкаются и борются друг с другом, кожные микробы у них смешиваются. Прикосновения влекут за собой единообразие. Иногда долгий вальс не обходится без силовых приемов[256].
Нередко микробы, чтобы попасть к хозяину, полагаются на социальные контакты. Это случается лишь при условии, что родители не покидают потомство или же разные поколения обитают в одной большой группе. Японские щитники заботятся о потомстве и сами предоставляют детенышам нужных бактерий. Термиты живут в колониях близко друг к другу, так что новые рабочие могут слизать микробов у соратников. Для такой тактики есть причины, утверждает биолог Майкл Ломбардо. Он считает, что некоторые животные образуют большие группы именно для того, чтобы получать друг от друга нужных симбионтов. Это не единственный фактор, стоящий за развитием общественной жизни, и даже не самый главный: живущие в группе животные получают возможность вместе охотиться, отпугивать хищников большим стадом и лучше ориентироваться на местности. Ломбардо думает, что передача микробов – это еще одно правдоподобное преимущество совместной жизни, о котором, как правило, никто не задумывается. Вспоминая о том, что микробы могут передаваться от одного человеку к другому, люди в первую очередь подразумевают патогены. В стадах, стаях и колониях болезни распространяются быстрее. Однако и у полезных симбионтов там больше возможностей найти новых хозяев[257]
Бессчетное количество путей, по которым микробы попадают от одного животного к другому, создано для одной цели: хозяева должны передавать микробов из поколения в поколение. Щитники и коалы, пчелиные волки и бабуины – животные находят способы сделать так, чтобы у следующих поколений партнеры не менялись. Иногда речь идет о строгом вертикальном наследовании от родителя к потомству – тогда одни и те же микробы остаются у хозяев на протяжении многих поколений. А иногда – о более свободном горизонтальном переносе через сожителей или среду обитания: он гарантирует некоторую продолжительность, позволяя при этом животным меняться симбионтами более вольготно и даже получать новых. Но даже тогда животные не перестают быть разборчивыми. Для поиска партнеров у них есть целый мир, и танцевать с кем попало они не станут.
В пруду неподалеку от вашего дома проживает восхитительное и на удивление харизматичное существо, которое вы, возможно, и не видели никогда. Хотя найти его нетрудно: соберите из пруда немного ряски (впрочем, подойдет любое плавающее растение), положите в баночку, налейте туда воды… и ждите. Внимательно разглядев растение, вы, возможно, найдете под листьями или на корнях небольшой зеленый или коричневый шарик размером всего в несколько миллиметров. При достаточном освещении он вскоре превратится в длинный увенчанный щупальцами стебелек. Когда этот стебелек раскрывается полностью, он напоминает тонкую студенистую руку, растопырившую длинные пальцы.
Это гидра – родственница актиний, кораллов и медуз. Назвали ее в честь обитающей в болоте устрашающей многоглавой змеи, той самой, что в греческой мифологии накостыляла Гераклу. Из-за крошечного размера существа такое название кажется до смешного абсурдным, но все же оно на удивление подходящее. Гидра-чудовище своим ядовитым дыханием и не менее ядовитой кровью наводила ужас на деревни, а гидра-животное убивает дафний и прочих мелких ракообразных ядовитыми гарпунами, выстреливающими из стрекательных клеток. У чудовища вместо одной отрубленной головы вырастало две новых, настоящая гидра – тоже мастер регенерации. Ей отрезали конечность? Да не вопрос. Вывернули наизнанку? Она управится.
А особенно гидра нравится биологам, исследующим развитие и рост животных. Ее легко поймать, с уходом и разведением тоже никаких сложностей. А еще она почти полностью прозрачна, так что устройство ее организма можно рассмотреть через оптический микроскоп. До того как специалист по биологии развития Томас Бош наткнулся на нее в 2000 году, ученые исследовали гидру на протяжении веков. Сам Левенгук как-то зарисовал ее в одной из своих записных книжек. Другие выведали, как она из одной клетки превращается во взрослую особь, как она заново отращивает поврежденные части тела. Бош, как только ее увидел, был пленен. «Я никогда не позволяю студентам говорить, что какой-либо организм примитивен, – утверждает он. – Гидра уже 500 миллионов лет ведет изящный и успешный образ жизни».
Но даже Бош задумался: как гидры умудрились столько прожить с таким простым строением тела? Человеческий организм устроен настолько сложно, что большая его часть скрыта от внешнего мира – с ним контактируют только клеточные слои, покрывающие кишечник, легкие и кожу. Это – эпителий. Помимо всего остального он преграждает микробам путь и не дает им пробраться в организм глубже. А вот у гидры никакого «глубже» нет. Она состоит всего из двух клеточных слоев, полость между которыми заполнена студенистым веществом, так что и внешняя, и внутренняя части гидры постоянно контактируют с водой. У нее нет барьера, отделяющего ткани ее организма от внешней среды, – ни кожи, ни раковины, ни какой-либо другой оболочки. Гидра настолько обнажена, насколько только возможно для животного. «Она ж просто кусок склизкого эпителия во враждебной среде», – описывает гидру Бош. Так почему же такое незамысловатое существо не подвержено инфекциям? Как оно умудряется оставаться здоровым?
Чтобы это узнать, Бошу сначала понадобилось выяснить, какие микробы живут в гидре и окружают ее. Себастьян Фрауне, подопечный Боша, для этого перемолол их тела, выделил из получившейся массы бактериальную ДНК и все секвенировал. Проанализировав два родственных вида гидры, он с удивлением обнаружил, что микробиомы у них совершенно разные – будто фауна на разных континентах.
И это было странно, ведь эти гидры более тридцати лет выращивались в одинаковых пластмассовых контейнерах в лабораторных условиях. Не один десяток лет их держали в одной и той же воде с тщательно выверенным составом, кормили одной пищей и поддерживали им одинаковую температуру. Если бы заключенных в тюрьмах содержали в таких же отупляюще одинаковых условиях, они бы через тридцать лет собственного имени не вспомнили. А вот каждая гидра – животное без мозга – каким-то образом набирает себе именно тех микробов, которые подходят ее виду. Это казалось невероятным, так что поначалу Бош в результатах усомнился. Фрауне провел эксперимент заново, но получил такие же результаты. Тогда он секвенировал ДНК других видов гидры и выяснил, что у представителей каждого вида микробиом уникален и при этом полностью совпадает с микробиомом диких особей того же вида, пойманных в озере[258].
«Для меня этот момент был переломным, – восторгается Бош. – Я всегда считал, что ткани защищают организм от плохих ребят, как и принято в микробиологии». Но благодаря его экспериментам было доказано, что разные виды гидры сами формировали свой микробиом.
Среди животных такие тенденции преобладают – мы не просто тащим танцевать первую попавшуюся бактерию. В нашей жизни постоянно появляются новые микробы, но животные сами выбирают себе подходящих партнеров из прорвы желающих. Большинство бактерий в человеческом кишечнике, например, относятся к четырем основным группам, а в природе их сотни. Даже гидры, какими бы они ни были простыми и незащищенными, позволяют обосноваться у себя на оболочке лишь избранным видам бактерий, а остальных прогоняют. Наши тела – большие и маленькие, сложные и простые – создают условия, подходящие лишь для определенных микробов. Со временем, а также благодаря постоянному наследованию микробов хозяева и симбионты приспосабливаются друг к другу, и наша разборчивость достигает нового уровня. Мы те еще привереды[259].
В результате у каждого вида формируется свое специфичное сообщество микробов. Человеческий микробиом можно легко отличить от микробиома мыши или рыбки данио-рерио и даже от микробиома шимпанзе или гориллы. У живущих бок о бок в океанах китов и дельфинов, чья кожа во время плавания и выпрыгивания из воды все время подвергается трению, кожный микробиом остается уникальным – присущим их виду. Пчелиные волки, с которыми мы недавно познакомились, настолько привередливы, что отказываются вырабатывать для потомства белую слизь, если у них в усиках окажутся не те штаммы бактерий, что нужно. Если они чувствуют, что выбрали неподходящих партнеров, они прерывают цепочку наследственности и прекращают вальс[260].
У микробов тоже есть предпочтения в партнерах – многие адаптировались так, чтобы заселять определенных хозяев. Одни штаммы пчелиного симбионта Snodgrassellaприспособились к пчелам, а другие – к шмелям, а заселить кого-то другого не сможет ни один из них. У кишечного микроба Lactobacillus reuteri есть штаммы, подходящие людям, мышам, крысам, свиньям и курицам. Если их смешать и засунуть в мышь, мышиный штамм вскоре затмит остальные. Из таких экспериментов с заменой микробов можно много чего узнать. Самые значимые из них провел Джон Ролз. Он поменял микробиомы двух столпов лабораторной науки – мыши и данио-рерио. Вырастив стерильных мышей и рыбок, Ролз поселил в них микробиомы обычных особей другого вида, желая узнать, примет ли данио-рерио кишечных микробов мыши, а мышь – микробов данио-рерио. Как выяснилось, примет. Однако Ролз обнаружил, что животные не просто смирились с новыми поселенцами. Они переделали обретенные сообщества так, чтобы те походили на стандартные для каждого из двух видов. Мыши сделали микробиом рыбок в какой-то мере мышиным, и наоборот[261].
Нельзя сказать, что у всех представителей того или иного вида микробиом одинаковый. Всегда есть место разнообразию. Представьте, что гены животного – это декораторы в театре: они создают сцену, на которой будут выступать определенные микробы[262]. Окружающая нас среда – друзья и дом, пыль и пища – оказывает на актеров влияние. А в кресле продюсера расположилась случайность – потому-то микробиом немного разный даже у двух генетически идентичных мышей, живущих в одной клетке. Состав нашего микробиома в этом плане похож на рост, интеллект, темперамент и предрасположенность к раку – это сложный признак, управляемый совместной работой сотен генов и еще большего количества факторов среды. Разница заключается в том, что на наш рост и размер головного мозга гены влияют напрямую, а вот на микробиом – нет. Они лишь создают условия, подходящие тем или иным видам.
В своей знаменитой книге «Расширенный фенотип» Ричард Докинз пишет о том, что гены животного (его генотип) формируют не только его тело (фенотип). Они также косвенно влияют на окружение животного. Гены бобра строят организм бобра, а потом этот организм отправляется строить плотины – получается, что гены еще и изменяют течение рек. Гены птицы создают птицу, и они же вьют гнездо. Мои гены сделали мне глаза, руки и мозг, чтобы с их помощью написать эту книгу. Все это – плотины, гнезда, книги – Докинз называет расширенным фенотипом. Они – плоды работы генов, находящиеся вне тела животного. В какой-то степени таков и наш микробиом. Его тоже формируют гены животного – они создают условия, стимулирующие рост и размножение определенных микробов. Хоть микробиом и находится в теле владельца, его вполне можно назвать расширенным фенотипом, как и плотину бобра.
Но и такое сравнение не идеально, ведь микробы – в отличие от плотины и этой книги – живые существа. У них есть собственные гены, причем некоторые из них важны или даже необходимы хозяевам микробов. Они являются не просто продолжением генома хозяина, как и хозяин является не просто продолжением генома микробов. Некоторые ученые убеждены, что их, в принципе, и разделять не стоит. Если животные тщательно подбирают себе микробов, а микробы – животных и при этом их партнерство длится на протяжении многих поколений, то, возможно, стоит считать их отдельными едиными особями. Может, хозяин плюс микроб – это не «они», а «оно».
Мы уже знаем, что некоторые бактерии объединяются с хозяевами настолько, что и не разобрать, где заканчивается один вид и начинается другой. Так устроены многие симбионты Hodgkinia в цикадах. И про митохондрии нельзя забывать – когда-то эти клеточные бактерии были свободными, но их навечно поглотила клетка покрупнее. Этот процесс, известный под названием эндосимбиоз, был предложен в качестве гипотезы еще в начале XX века, но в научном сообществе его приняли лишь спустя несколько десятилетий, во многом благодаря смелости американского биолога Линн Маргулис. Она построила связную теорию эндосимбиоза и подробно растолковала ее в исследовании, где смешались доказательства из клеточной биологии, микробиологии, генетики, геологии, палеонтологии и экологии. Получился превосходный образец научного творчества. Прежде чем работа была напечатана в 1967 году, издатели отказали Маргулис раз пятнадцать[263].
Другие ученые лишь посмеивались над Маргулис и не воспринимали ее всерьез, но она все же старалась изо всех сил. Будучи презирающей устои бунтаркой, она восставала против всех научных догм. «Я не считаю свои теории спорными, – как-то сказала она. – Я считаю их верными». С митохондриями и хлоропластами она определенно попала в точку, но из-за многих других заявлений к ней относились как с превеликим уважением, так и с осторожным скепсисом. Один биолог однажды рассказал мне, как услышал, что она в разговоре назвала его имя. Ого, подумал он, Линн Маргулис меня знает! И тут же она добавила: «совершенно неправ». Круто, обрадовался он, если уж Линн Маргулис считает, что я неправ, то я точно на верном пути.
Мировоззрение Маргулис на протяжении всей ее профессиональной жизни было пронизано эндосимбиозом. Ее притягивала связь между живыми существами, и она осознала, что каждое из них живет в сообществе со многими другими. В 1991 году она придумала название этой связи: холобионт – от греческого «цельная единица жизни»[264]. Термин применим ко множеству организмов, проводящих вместе значительную часть жизни. Холобионт пчелиного волка состоит из осы и всех бактерий у нее в усиках. Холобионт Эда Йонга – это я, все мои бактерии, грибы, вирусы и многое другое.
Супружескую пару из Израиля, Юджина Розенберга и Илану Цильбер-Розенберг, этот термин сразу привел в восторг. Они занимались изучением кораллов и пришли к выводу, что эти животные представляют собой совокупность организмов, чья судьба зависит от водорослей в их клетках и других микробов, обитающих рядом с ними. Считать их едиными сообществами казалось вполне логичным. Они поняли, что здоровье рифа можно оценить, лишь учитывая весь холобионт коралла.
Розенберг перенес понятие холобионта в мир генов. Эволюционные биологи к тому моменту уже считали, что животные и другие организмы – всего лишь транспорт для генов. У генов, строящих самый лучший транспорт – самых быстрых гепардов, например, или самые прочные кораллы, или самых красивых райских птиц, – больше шансов попасть в следующее поколение. Со временем эти гены распространяются все шире в популяциях. Их животный транспорт – тоже, но напрямую естественный отбор влияет именно на гены. Они, так сказать, и есть «единицы отбора». Однако о чьих генах идет речь? Животное зависит не только от своих генов, но и от генов микробов, а их зачастую в разы больше. Микробы тоже полагаются на то, что гены их хозяина выстроят организм, способный передать их следующему поколению. Рассматривать все эти наборы ДНК отдельно друг от друга Розенбергу казалось бессмысленным. Он был убежден, что они представляют собой единое целое – хологеном, который «следует считать единицей естественного отбора при эволюции»[265].
Чтобы понять, что все это значит, вспомните, что эволюция путем естественного отбора зависит лишь от трех вещей: у особей должны быть различия, должна быть возможность эти различия унаследовать, и они должны оказывать влияние на приспособленность животного, то есть его способность выжить и дать потомство. Разнообразие, наследственность и приспособленность – если все три помечены галочкой, эволюция заводит мотор и начинает воспроизводить поколения, которые адаптируются к своей среде все лучше и лучше. Гены животного явно этим трем критериям удовлетворяют, но и гены микробов животного – тоже, подметил Розенберг. У разных особей в организме находятся разные сообщества, виды и штаммы микробов – это разнообразие. Как мы уже знаем, животные передают микробов потомству самыми разными способами – это наследственность. И как мы скоро узнаем, благодаря микробам у хозяина появляются новые способности, от которых зависит его успех, – вот и приспособленность. Три галочки поставлены – и мотор заводится. Со временем те холобионты, что лучше всего справляются со сложностями, которые подкидывает им жизнь, смогут передать следующему поколению свой хологеном – совокупность генов животных и микробов. Животные и их микробы эволюционируют вместе. Это более целостный взгляд на эволюцию – он заново определяет, что такое особь, и подчеркивает неразлучность микробов и животных.
Любая попытка вот так вот переписать основы теории эволюции многих выведет из себя, и теория хологенома здесь не исключение: мало что в этой книге так же побудит спокойных и вежливых исследователей симбиоза ехидничать и огрызаться. По-моему, очень иронично – теория, посвященная сплоченности и сотрудничеству, отстраняет друг от друга людей, всю жизнь посвятивших исследованию сплоченности и сотрудничества.
Многим такое смелое заявление нравится. Оно возвышает обделенных вниманием микробов до уровня их хозяев, обводит их маркером и до кучи размещает вокруг мигающие стрелки. Оно напоминает, что микробы важны – и только попробуйте об этом забыть. «Любое животное – это экосистема на лапках, – объясняет Джон Ролз. – Мы, конечно, можем ее и как-нибудь по-другому называть, но термин «холобионт» идеально отражает всю ее суть, и ничего лучше я не слыхал».
А вот Форест Роуэр более сдержан в оценках. Он заново ввел термин «холобионт» в обращение после Маргулис, но лишь как описание живущих вместе организмов. «Это же обычный симбиоз, – утверждает он. – Разные сочетания и комбинации возникают в зависимости от внешней обстановки, а полученные в результате свойства могут приносить как пользу, так и вред». И от идеи хологенома он не в восторге. Ему это понятие кажется слащавым, как будто микробы с хозяевами жгутик об руку несутся, радостно подпрыгивая, в светлое будущее. Эволюция устроена не так. Мы уже знаем, что даже в самом гармоничном симбиозе есть место вражде. Роуэр считает, что Розенберг, представив хологеном основной единицей отбора, эту вражду умаляет. Розенберг словно утверждает, что цель эволюции – обеспечить успех целого, но это совсем не так. Она влияет и на части целого, причем нередко эти части между собой не в ладах. С Роуэром согласна эволюционный биолог Нэнси Моран, изучающая тлей и их симбионтов. «Уж я-то определенно знаю, что симбионты очень важны, куда важнее, чем считалось раньше, – рассказывает она. – Но понятие хологенома используют для прикрытия множества мутных измышлений».
Природа хологенома тоже неясна. Такой симбионт, как Sodalis, что живет в клетках мух цеце и наследуется по вертикали, связан с хозяином так крепко, что его гены можно вполне считать частью хологенома цеце. Собственные штаммы Streptomyces у пчелиных волков, тщательно отобранные множества у гидр – сюда концепция хологенома тоже подходит. Но не все животные так разборчивы. У коровьих трупиалов, кардиналов и, вероятно, многих других певчих птиц микробиом кишечника совершенно разный – у представителей одного вида разница порой более заметна, чем у всех млекопитающих[266]. Влияние генов самих животных на микробиом присутствует, но его, похоже, затмевает влияние окружающей среды. Если микроскопические партнеры животного столь непостоянны, имеет ли смысл считать хологеном единым целым? А как же виды, оказавшиеся у нас в теле случайно и вскоре его покинувшие? Когда Томас Фриц напоролся рукой на сук, стали ли гены штамма HS частью его хологенома? Включает ли мой хологеном в себя микробов с сэндвича, который я только что съел?
Сет Борденстайн из Университета Вандербильта, нацепивший на себя мантию главного проповедника теории хологенома, утверждает, что ни одно из этих противоречий для нее не губительно. Он подчеркивает, что идея хологенома основана не на утверждении, что животному необходим каждый микроб в его теле. Какие-то микробы оказались там случайно, какие-то просто мимо проходили, но всегда есть те, что действительно важны. «Возможно, 95 % микробов нейтральны, и всего несколько ключевых видов остаются с вами на всю жизнь и в какой-то степени определяют вашу приспособленность», – объясняет он[267]. На нейтральных естественный отбор и внимания не обратит, а вот ключевым даст фору. Некоторые микробы – например, заглянувший на огонек холерный вибрион – причиняют организму вред, так что естественный отбор избавит хологеном от них, как обычно избавляет геном от вредной мутации. В таком ключе концепция учитывает конфликты. Теория хологенома посвящена не только сплоченности и сотрудничеству, как заявляют скептики (и даже некоторые приверженцы теории). Она всего лишь утверждает, что микробов и их гены не следует исключать из общей панорамы. Они оказывают на хозяев влияние, важное для естественного отбора, причем оказывают так, что мы не должны о них забывать, рассуждая об эволюции животных. «Основа не идеальная, но, как мне кажется, ничего лучшего для размышлений о том, как особь объединяется с микробами, у нас пока нет», – говорит Борденстайн. Критики же напоминают, что для этого у нас уже много веков есть симбиоз[268].
Однако вот с чем согласны все: хватит метафор, пришло время математики. Успех взгляда на эволюцию с точки зрения генов можно в какой-то мере приписать тому, что эволюционные биологи могут использовать уравнения для моделирования взлетов и падений генов, а также пользы мутаций и цены, которую придется за нее заплатить. У них есть возможность придать своим абстрактным идеям форму с помощью чисел. А вот у сторонников теории хологенома такой возможности нет. «Мы пока только начали, так что многие считают, что наша теория основана на поверхностных и не особо точных суждениях», – улыбается Борденстайн. Он признает, что все по правилам, и надеется, что вскоре отношение людей к теории изменится.
Розенберг сдаваться не собирается. Он считает, что приверженцы традиционной эволюционной биологии приучили себя мыслить прежде всего о хозяевах и это мешает им оценить микробов по достоинству. «Меня даже друзья обвиняют в том, что я слишком повернут на бактериях», – жалуется он. Недавно он вышел на пенсию и теперь надеется, что в битву умов вступят и другие. «Я закрыл лабораторию и открыл разум», – смеется он. Однако перед этим он должен был внести в науку свой последний вклад.
Несколько лет назад Розенберги наткнулись на старую статью 1989 года – биолог по имени Диана Додд доказала в ней, что питание мухи может оказывать влияние на ее половую жизнь. Одну линию дрозофил она вырастила на крахмале, а другую, идентичную первой, на мальтозе, или солодовом сахаре. 25 поколений спустя «крахмальные» мухи стали отдавать предпочтение другим «крахмальным», а «солодовым» мухам стали милы другие такие же. Довольно неожиданный результат – вместе с питанием мух Додд каким-то образом изменила их предпочтения при выборе партнеров.
Розенберги тут же заявили: дело наверняка в бактериях. Питание животного влияет на его микробиом, микробы – на запах хозяина, а запах, в свою очередь, на привлекательность животного. Заявление выглядело вполне осмысленным и как раз подходило под концепцию хологенома. Если Розенберги были правы, значит, эволюция мух заключается не только в смене генов, но и в смене микробов – как, предположительно, и у стойких кораллов Средиземного моря. Они воспроизвели эксперимент Додд и получили те же результаты: спустя всего два поколения стало заметно, что мухи предпочитают спариваться с особями, питающимися тем же, чем они. А если насекомые получали дозу антибиотиков, их половые предпочтения исчезали вместе с микробами[269].
Этот эксперимент при всей своей странности представлял для науки большую ценность. Если особи из двух групп одного вида животного игнорируют друг друга и спариваются лишь между собой, рано или поздно они разделятся на два вида. В природных условиях такие разделения происходят регулярно и по разным причинам. Среди них и физические препятствия, такие как горные массивы и реки, и разница в графиках, при которой период активности у животных приходится на разные часы или сезоны, и генетическая несовместимость, предотвращающая межвидовое скрещивание. Все, что не позволяет животным спариваться, убивает потомство пар или ослабляет его, может привести к репродуктивной изоляции – это своего рода пропасть между двумя видами, которая растет и все более отдаляет их друг от друга. И как доказал Розенберг, бактерии тоже могут стать причиной ее возникновения. Создавая живой барьер, не дающий двум популяциям встретиться, микробы могут способствовать появлению новых видов.
Эта идея существовала и раньше. В 1927 году американец Айван Уоллин назвал симбиоз «двигателем новшеств». Он утверждал, что бактерии-симбионты превращают существующие виды в новые и что это фундаментальный способ возникновения новых видов. Линн Маргулис подхватила его мысли в 2002 году, заявив, что формирование новых симбиозов между отдельными организмами (она назвала этот процесс симбиогенезом) – главный путь появления новых видов. Для нее перечисленные в этой книге отношения были не просто стержнями эволюции, а ее основой. Привести убедительные доводы, правда, у нее так и не получилось. Она перечислила немало примеров симбиотических микробов, поспособствовавших возникновению важных эволюционных приспособлений, но у нее не было доказательств, что они на самом деле провоцируют появление новых видов и тем более что они – ведущая сила видообразования[270].
Сейчас доказательства понемногу появляются. В 2001 году Сет Борденстайн со своим наставником Джеком Уэрреном изучали два близкородственных вида наездника, Nasonia giraulti и Nasonia longicornis. Они разделились на два вида всего 400 тысяч лет назад и неспециалисту покажутся абсолютно одинаковыми – махонькие, с черным тельцем и оранжевыми лапками. Но они не могут скрещиваться. Представители этих двух видов – переносчики разных штаммов вольбахии: столкновение штаммов-соперников при их спаривании убивает большую часть гибридов. Когда Борденстайн избавился от вольбахии с помощью антибиотиков, гибриды выжили. Он доказал, что этих насекомых от репродуктивной изоляции можно избавить – ясное свидетельство того, что новоиспеченные виды удерживаются порознь именно благодаря микробам. В 2013 году он провел этот же эксперимент на двух других видах наездников, состоящих в дальнем родстве, – при скрещивании они также не могли производить жизнеспособное потомство. Результаты оказались еще убедительнее. На этот раз он обнаружил, что кишечные микробы у гибридов не такие, как у обоих родителей, и сделал вывод, что их убивает именно перемешанный микробиом, несовместимый с их собственным геномом. Искаженный хологеном предвещает гибель[271].
Борденстайн заявил, что это исследование – прямое доказательство того, что симбиоз провоцирует создание новых видов, как и утверждали Уоллин и Маргулис. А вот критики говорят, что исковерканный микробиом тут ни при чем и на самом деле все куда проще[272]. По их словам, у гибридов нарушен иммунитет, поэтому они подвержены пагубному влиянию любых микробов. Они умрут вне зависимости от того, какой у них микробиом. Кто бы ни оказался прав, мы выяснили, что у гибридов проблемы с микробами и из-за этого между двумя видами наездников появляется пропасть. Это само по себе представляет интерес. «Мы натолкнулись на эти две истории у Nasonia – не думаю, что нам просто так повезло, – размышляет Борденстайн. – Все потому, что мы задались вопросом, являются ли микробы причиной репродуктивной изоляции. Скольким этот вопрос не пришел в голову? Сколько подобных историй нам не довелось услышать? Не думаю, что благодаря некому везению мы обнаружили единственные два примера в мире».
И все же разделение на виды путем симбиоза пока что остается правдоподобной и захватывающей теорией, требующей доказательств. Те несколько случаев, что уже были выявлены, несомненно, замечательны сами по себе. Если вы найдете золотой самородок, вам не понадобится всем рассказывать, что вы ограбили Форт-Нокс, и тем не менее золото у вас будет. Так и с теорией эволюции: не нужно давать ей новое определение, чтобы признать, что судьбы микробов зачастую крепко связаны с судьбами животных.
Очевидно, что микробы участвуют в формировании организма хозяев, что они задействованы в самых интимных аспектах нашей жизни – иммунитете, запахе и поведении – и что само их присутствие может сказать о том, здоровы вы или больны. По-моему, это довольно удивительно. Как все это ни назови – хологеном, симбиоз, как угодно, – мы теперь знаем, что микробы способны вырваться из малообещающей рутины паразитов и бездельников и, очутившись в теле животного, создать мощные и порой необходимые связи на целые поколения. Теперь пора взглянуть на последствия столь близких связей – речь не о развитии и здоровье отдельных особей, а о судьбе целых видов и групп. Пора узнать, каких высот добиваются животные благодаря своим микроскопическим партнерам.
Глава 7. Взаимогарантированный успех
Я стою в комнате размером с небольшой сарай. Яблоку тут, может, и есть где упасть, но укатиться ему будет некуда. Дверь в комнату тяжелая и внушительная. Внутри все белое и идеально чистое. Регулирование воздуха осуществляется с помощью ужасно громко рокочущего вентилятора – представьте себе Дарта Вейдера с мегафоном, чтобы понять, насколько громко. И тут повсюду растения. В маленьких горшочках на выставленных на полках поддонах уютно устроились ростки гороха, бобы и рассада люцерны. Комната напоминает какую-то странную теплицу, и, что еще более странно, все растения чем-то накрыты. Одни горшки укрыты прозрачными пластиковыми стаканчиками, другие стоят в пластмассовых ящиках – туда можно добраться лишь через покрытые тонкой тканью окошки, в которые как раз пролазит рука. Из одного особенно большого ящика выглядывают буйно растущие побеги.
«Мы их совсем недавно начали разводить, так что не знаю, появились ли они уже», – говорит биолог Нэнси Моран, хозяйка этой комнаты и всего, что в ней находится.
Я уставился на побеги. Если уж Моран чего-то не видит, то я – и подавно.
«О, да вот же они! – радуется она. – Вон на том стебле».
После долгой паузы и как раз перед тем, как сдаться и спросить, о каком именно стебле идет речь, я тоже их замечаю. К стеблю словно приросли крохотные черные клинышки меньше сантиметра в длину. Это цикадки Homalodisca vitripennis – мелкие насекомые с острыми ротовыми органами, которыми они пронзают растения, чтобы высосать из них сок. Усвоив скудные питательные вещества, они избавляются от оставшейся воды, выбрызгивая ее тонкой струей из заднепроходного отверстия[273]. Цикадка питается соком десятков разных растений, что делает ее мощной угрозой сельскому хозяйству – потому-то здесь и нужны ткань и внушительная дверь.
Таких угроз в этой комнате пруд пруди. Прямо сейчас в ящике неподалеку какое-то растение пожирается другим видом цикадок. Бобы на нескольких полках уплетают гороховые тли – зеленые насекомые на зеленых стеблях. Заметить их нелегко, но у меня все-таки получилось: маленькие зеленые ромбики на тонких ножках, с усиками, указывающими назад, и двумя торчащими из живота иголками. У каждой тли здесь свое личное владение – целый росток, на котором можно делать что угодно. Тли – опасные вредители, как и цикадки. Растения вянут и погибают от одного их нападения, не говоря уже о переносимых ими вирусах. Они – бич сельского хозяйства, непрошеные гости в любом месте, где человек занимается выращиванием растений. Кроме этой комнаты в Техасском университете в Остине. Здесь все устроено для них. Здесь растения существуют лишь для того, чтобы их кормить. Таких садов в мире немного: здесь хозяйка специально разводит тлей и других насекомых-вредителей.
Все эти ничего не подозревающие насекомые относятся к отряду полужесткокрылых[274] – разнообразной группе, включающей в себя постельных клопов, клопов-хищнецов, червецов и цикадок. Их главное отличие от других насекомых – острые ротовые органы, приспособленные для высасывания сока. Большинство представителей этого отряда всю жизнь проводят именно за этим занятием, и из всех животных лишь они делают это в обязательном порядке. Бабочки и колибри балуются соком растений по случаю, но охочие до сока полужесткокрылые питаются исключительно им. Своим образом жизни они обязаны бактериям-симбионтам. Если все эти бактерии вдруг погибнут, та же участь ждет и всех насекомых в комнате, в которой я сейчас нахожусь. «Эти группы, в общем-то, и существуют лишь благодаря симбионтам», – объясняет Моран. И не просто существуют, а процветают – описано уже около 82 тысяч видов полужесткокрылых, а еще тысячи только ждут своего часа.
Мы уже знаем, что самые обычные и даже необходимые аспекты жизни отдельных особей, такие как формирование органов и настройка иммунной системы, порой зависят от микробов. Нам также известно, что некоторые микробы награждают хозяев уникальными способностями – от светящегося камуфляжного костюма гавайской эупримны до мастерства регенерации плоского червя Paracatenula. А сейчас мы узнаем, как полученные от микробов способности превратили некоторые группы животных в победителей эволюционной гонки, способных переваривать неперевариваемую пищу, выживать в самых суровых условиях, не погибать от смертельных веществ и вообще добиваться успеха там, где другие виды сдаются. Лучше всего, конечно, начать с полужесткокрылых.
Немецкий зоолог Пауль Бухнер занялся изучением их симбионтов в 1910 году во время своего путешествия по миру насекомых[275]. Проанализировав вдоль и поперек бессчетное количество видов, он пришел к выводу, что симбиоз животных и микробов случается далеко не так редко, как на тот момент считалось. Оказалось, что это не исключение, а правило – «широко распространенное, хоть и всегда второстепенное приспособление, что дает животным-хозяевам множество новых возможностей». Результатом десятилетий работы стал величайший труд под названием «Эндосимбиоз животных и микроорганизмов растений»[276], переведенный на английский язык и напечатанный как раз перед восьмидесятилетием Бухнера. Моран достает экземпляр с полки в своем кабинете и с благоговением перелистывает страницы. «Это библия нашей области науки», – с почтением объясняет она.
Букашки интересуют Моран не один десяток лет. Когда-то она была из тех детей, что коллекционируют насекомых и хранят их в баночках. Сейчас она одна из ведущих ученых в области симбиоза, и краеугольным камнем ее карьеры стали тли. В 1991 году она помогала секвенировать гены симбионтов одиннадцати видов тлей – на тот момент это была та еще задачка, ведь технология секвенирования только начинала развиваться и ей с коллегами приходилось «таскать дискеты туда-сюда». Тогда они выяснили, что все симбионты тлей принадлежат к одному и тому же неизвестному виду. По традиции только что открытых микробов называют в честь особенно крутых микробиологов – это что-то вроде автографа. Имя Симеона Берта Вольбаха, например, навсегда увековечено вольбахией. Луи Пастер продолжает жить как Pasteurella. Вряд ли вы слыхали о Дэниеле Элмере Салмоне, малоизвестном американском ветеринаре, а вот с сальмонеллой – его «тезкой» – вы наверняка знакомы. Как же назвать симбионта тли? Моран и выбирать не пришлось – разумеется, Buchnera[277].
Buchnera – партнер тли с древних времен. Семейное древо разных штаммов Buchneraточно такое же, как у ее хозяев тлей: нарисуете одно – получите заодно и другое[278]. Это означает, что Buchnera заселила организм тли лишь однажды (ну или лишь одно заражение оказалось успешным). Случилось это 200–250 миллионов лет назад, когда динозавры только начали появляться, а млекопитающие и цветы еще не существовали. Чем же все это время занималась Buchnera? Бухнер предположил, что симбионты главным образом помогают хозяевам переваривать пищу. Ведь именно так ведут себя симбионты многих изученных им насекомых. Однако с Buchnera дело обстоит немного иначе. Она не расщепляет питательные вещества тли. Она их дополняет.
Тли питаются флоэмным соком – текущей по стеблю сладкой жидкостью. Это во многом отличный источник пищи: сахаров много, токсинов мало, да и другие животные на него не покушаются. Но, увы, в нем не хватает некоторых питательных веществ, в том числе десяти незаменимых аминокислот, необходимых животным для выживания. Нехватка хоть одной из них может привести к непоправимым последствиям. Нехватка всех десяти была бы вообще несовместима с жизнью, если бы им не было достойной замены. Сейчас имеются веские доказательства того, что эта замена и есть Buchnera[279]. Ученые выяснили, что если избавиться от Buchnera в организме тли с помощью антибиотиков, то для того, чтобы выжить, тле потребуются искусственные заменители аминокислот. Они отследили перемещения питательных веществ от микроба к хозяину с помощью радиоактивных веществ и обнаружили, что аминокислоты двигаются именно в этом направлении. И они доказали, что в геноме Buchnera, каким бы измельчавшим он ни был, сохранились многие гены, необходимые для создания незаменимых аминокислот.
Многие, но не все. Создание аминокислот – задача не из легких, и в нее входит прогон начальных составляющих через серию химических реакций, каждую из которых ускоряют разные ферменты. Представьте себе конвейер на автомобильном заводе, проходящий через несколько устройств. Одно устанавливает сиденья, другое – раму, третье ставит колеса. В конце с конвейера сходит готовая машина. Биохимические конвейеры по производству аминокислот работают примерно так же, но ни тля, ни Buchnera не способны сами создать все необходимые ферменты. Им приходится работать вместе, чтобы построить конвейер, идущий по обоим заводам сразу, один из которых находится в другом. Только вместе они способны прожить на одном флоэмном соке[280].
Связь между питанием соком растений и дополняющими симбионтами подчеркивают те полужесткокрылые, что утратили и то и другое. Некоторые виды поедают клетки растений целиком, а раз аминокислот с питанием в их организм теперь поступает достаточно, то и от симбионтов они избавились. В их отношениях нет места ностальгии и сентиментальности. Жесткие условия естественного отбора диктуют, что если партнер больше не нужен, то он изгоняется. К генам это тоже относится – потому-то полужесткокрылые изначально и оказались в таком опасном положении в плане питания. Они – животные, а все животные происходят от одноклеточных хищников, поедающих все вокруг. Пища обеспечивала их большей частью необходимых питательных веществ, так что они утратили гены, необходимые для их создания. Нас – тлей, панголинов, людей и всех остальных – это наследие обременяет до сих пор. Никто из нас не умеет создавать десять незаменимых аминокислот самостоятельно, так что нам приходится получать их с пищей. А если мы решим соригинальничать и начнем питаться скудной пищей, например флоэмным соком, нам потребуется помощь.
И тут за дело берутся бактерии. Они не раз позволили полужесткокрылым пересечь границу, за которой находится все царство животных, и начать питаться тем, что почти никто не ест[281]. Когда сушу заселили растения, вместе с ними появились и питающиеся их соком букашки. Сейчас среди них насчитывается около 5000 видов тли, 1600 видов белокрылок, 3000 листоблошек, 8000 червецов, 2500 цикад, 3000 церкопоидов, 13 тысяч фулгороидов и больше 20 тысяч цикадок – и это лишь те, о которых мы уже знаем. Благодаря своим симбионтам полужесткокрылые стали настоящим воплощением успеха.
Полужесткокрылые – далеко не единственные животные с симбионтами, связанными с питанием. На таких микробов полагаются от 10 до 20 % насекомых – они обеспечивают насекомых витаминами, аминокислотами для создания белков и стеринами для создания гормонов[282]. Благодаря своим живым дополнениям животные имеют возможность прокормить себя даже неполноценной пищей, от сока растений до крови. Муравьи-древоточцы – разнообразная группа, состоящая где-то из тысячи видов, – являются переносчиками симбионта по имени Blochmannia, позволяющего им питаться в основном растительной пищей и господствовать в листве деревьев тропических лесов[283]. Миниатюрным вампирам, таким как вши и постельные клопы (наряду с животными, не относящимися к насекомым, например клещами и пиявками), для производства витаминов группы B, отсутствующих в их кровавых обедах, требуются бактерии.
Раз за разом бактерии и другие микробы позволяли животным превзойти свою животную сущность и пробиться во все уголки экологии, которые без них так и оставались бы недоступными; начать вести образ жизни, при котором иначе нельзя было бы выжить; питаться тем, что они не смогли бы переварить; добиться успеха, несмотря на собственную природу. А чтобы узнать о самых бескомпромиссных примерах такого взаимогарантированного успеха, мы отправимся в глубь океана, туда, где микробы дополняют своих хозяев до такой степени, что те могут питаться самой скудной пищей на свете – ничем.
В феврале 1977 года, за несколько месяцев до того, как «Тысячелетний сокол» улетел бороздить просторы открытого космоса, столь же отважный корабль под названием «Алвин» отправился исследовать подводный мир. И не просто корабль, а батискаф – достаточно большой, чтобы в нем поместилось трое исследователей, достаточно маленький, чтобы они даже потянуться не могли, и достаточно прочный, чтобы позволить им добраться до неслыханных глубин океана. Он опустился под воду в 400 километрах к северу от Галапагосских островов – там, где две литосферные плиты отдаляются друг от друга, словно разошедшиеся любовники. Из-за их расставания в земной коре появился рифт, а значит, не исключено, что там можно было найти первые гидротермальные источники, – считалось, что дно океана изрыгает в этих местах перегретую в результате вулканической деятельности воду.
Команда «Алвина» начала спуск. На смену синеве поверхности океана пришла всепоглощающая чернота глубоких вод. Чернота чернее черного. Черноту перемежали лишь случайное поблескивание люминесцентных существ, а через некоторое время включились и прожекторы батискафа. На глубине 2400 метров команда обнаружила источники, за которыми отправилась. Но кроме источников там было кое-что еще – жизнь, причем в изобилии! К стенкам расщелин стайками цеплялись моллюски и ракообразные. Вокруг них карабкались призрачно-белые креветки и крабы. Мимо проплывала рыба. И что самое странное, камни были целиком покрыты прочными белыми трубками, увенчанными темно-красными хохолками, похожими на помаду, которую слишком сильно выкрутили из тюбика, или вообще на что-то неприличное. Это были огромные черви – погонофоры.
На самом дне океана – там, куда не добраться солнечным лучам, где неустанно бьет вода температурой в 400 °C, а давление толщи океана достигает невиданной мощи, – команда «Алвина» открыла скрытую экосистему, не уступающую в изобилии тропическим джунглям. Как писал Роберт Кунциг в своей книге «Нанося глубины на карту», «это как если бы вы родились и выросли на полуострове Лабрадор, даже не догадываясь, что собой представляет мир, а потом вдруг оказались на Таймс-сквер». Члены команды даже представить себе не могли, что обнаружат там жизнь, так что биологов среди них не было – одни геологи. Они с горем пополам собрали образцы и взяли их с собой на поверхность, законсервировав предварительно в водке[284].
Одна из погонофор в итоге оказалась у Мередита Джонса в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне – он назвал его Riftia pachyptila. И так червь ему понравился, что в 1979 году он лично отправился к Галапагосскому рифту, чтобы собрать еще образцов. Один участок так зарос этими штуками с красными хохолками, что его и назвали соответствующе – «Розовый сад». На старом черно-белом снимке запечатлен Джонс, уже седой и с пышными усами, с одним из образцов Riftia в руках. Он выглядит так, словно ничего ценнее у него нет, а червь – будто сосиски неаккуратно упаковали. Червь очень длинный, гораздо крупнее, чем все открытые прежде глубоководные черви, – размером, наверное, с Джонса. И что дико, у него нет ни рта, ни кишечника, ни анального отверстия.
Как же этот червь умудряется выжить без еды? Логично было предположить, что он впитывает питательные вещества кожей, как ленточные черви, но эту теорию быстро отмели – он при всем желании не смог бы их впитывать достаточно быстро. Вскоре Джонс заметил важную подсказку. Трофосома червя – загадочный орган, составляющий аж половину его веса, – заполнена кристаллами чистой серы. Джонс упомянул это на одной из своих лекций в Гарварде, и у Коллин Кавано, одной из слушательниц, возникла кое-какая мысль. От описания трофосомы на нее снизошло настоящее озарение. По ее словам, она вскочила с места и заявила, что в теле червей находились бактерии – они и использовали серу для выработки энергии. Говорят, Джонс тогда попросил ее сесть. А потом дал ей червя для изучения.
Мысль Кавано оказалась верной и принципиально новой[285]. Рассмотрев трофосому Riftia под микроскопом, она обнаружила там множество бактерий – где-то миллиард на каждый грамм ткани. Еще один исследователь выяснил, что в трофосоме содержатся ферменты, способные перерабатывать сернистые компоненты, например сероводород, которого в среде подводного источника предостаточно. Кавано подумала-подумала и поняла, что ферменты эти вырабатываются бактериями. Они их используют для приготовления пищи по рецепту, который в то время и представить себе не могли.
На суше все живое питается солнцем. Животные, водоросли и некоторые бактерии используют солнечную энергию, чтобы преобразовывать углекислый газ и воду в сахара, и таким образом создают себе пищу. Этот процесс, при котором углерод из неорганического вещества переходит в нечто съедобное, называется связыванием углерода, а использование для этого энергии солнца – фотосинтезом. Это основа всех пищевых сетей, которые нам известны. Каждое дерево и каждый цветок, каждая мышка и каждый ястреб в итоге зависят от солнечной энергии. А вот в глубинах океана ее брать неоткуда. В принципе, можно прокормиться скудными остатками органических веществ, опадающими на дно сверху, но, чтобы по-настоящему преуспеть, потребуется новый источник энергии. Для бактерий, обитающих в организме Riftia, это сера – точнее, изрыгаемые источниками сульфиды. Бактерии их окисляют, а с помощью высвобожденной энергии связывают углерод. Это уже хемосинтез – создание пищи путем использования химической энергии, а не света и энергии солнца. И в качестве побочного продукта выделяется не кислород, как у фотосинтезирующих растений, а чистая сера. Так в трофосоме Riftia и появляются желтые кристаллы.
Благодаря хемосинтезу становится ясно, почему у этих червей нет рта и кишечника, – все необходимые питательные вещества им предоставляют симбионты. Тлей и цикадок бактерии снабжают аминокислотами, а погонофор они снабжают всем.
Вскоре подобные симбиозы были обнаружены по всему океану. Как выяснилось, хемосинтезирующих бактерий, которые связывают углерод с помощью серы или метана, приютили в себе самые разнообразные животные[286]. К ним, кстати, относится и регенерирующий плоский червь Paracatenula. Среди них и черви, и брюхоногие моллюски с хемосинтезирующими симбионтами прямо в клетках, и креветки с целыми колониями на жабрах и ротовых органах. Это и нематоды, полностью покрытые микробами: кажется, будто они в шубах. И крабы-йети, которые выращивают у себя на щетинистых клешнях сады из бактерий и смешно ими шевелят, будто танцуют.
Многие из этих существ обитают у горячих гидротермальных источников. Кто-то предпочитает холодные – вещества там примерно те же, но температура ниже и вода не изрыгается, а лениво вытекает. Некоторые полихеты, родственные Riftia, заселяют деревянные части затонувших кораблей и опустившиеся на дно бревна, получая энергию от сульфидов в гниющей древесине. Трупы китов, опускаясь на дно, словно манна небесная, тоже создают среду с обилием сульфидов, в которой вскоре образуются временные, но многочисленные группы хемосинтезирующих существ. Некоторые из них – например, Osedax mucofloris, питающиеся костями «зомби-черви», у которых нет кишечника, – специализируются как раз на китовой падали.
Для этих животных жизнь в глубине океана – это пункт назначения обратного пути эволюции, занявшего миллиарды лет. Жизнь на Земле появилась у глубоководных источников, и первыми живыми созданиями стали хемосинтезирующие микробы (кстати, один из участков в Галапагосском рифте назван «Эдемским садом»). Первые микробы со временем развились в бесчисленные формы, замечательные и причудливые, которые выбрались из глубин туда, где помельче. Некоторые дали начало более сложным существам – животным. И некоторые из животных объединились с хемосинтезирующими бактериями и отправились обратно в бездну – в мир, где без бактерий они бы не смогли себя прокормить. Все животные, обитающие в районе гидротермальных источников, в том числе и Riftia, эволюционировали из видов, живших на мелководье, которые стали хозяевами глубоководных микробов. Установив с ними прочную связь, эти животные получили пропуск назад в катархейские глубины, где когда-то зародилась жизнь.
Хемосинтез появился в глубине океана, но встречается он не только там. Кавано обнаружила хемосинтезирующих бактерий в моллюсках, обитающих в богатом серой иле у берегов Новой Англии, что на северо-востоке США. Другие нашли подобные союзы на мангровых болотах, в затопляемых местностях, в загрязненном сточными водами иле и даже в грунте вокруг коралловых рифов – в общем, в экосистемах, больше всего похожих на мелководье. Николь Дюбилье, когда-то работавшая вместе с Кавано, исследует хемосинтез в месте, меньше всего на свете похожем на бурные гидротермальные источники, – на острове Эльба, прекрасном, как на открытке.
Эльба нежится в солнечных лучах, и эта энергия не пропадает впустую. В бухтах неподалеку от берега пышно произрастает морская трава. Хоть фотосинтез и кажется здесь главным, хемосинтезу тут тоже место есть. Дюбилье ныряет под заросли морской травы, зачерпывает горстку ила и из нее тут же высовываются ярко-белые веревочки. Это черви Olavius algarvensis, близкие родственники дождевых червей. В длину они несколько сантиметров, в ширину – полмиллиметра, и у них нет ни кишечника, ни рта. «По-моему, они лапушки, – умиляется Дюбилье. – Они белые, потому что у них под кожей бактерии-симбионты, в которых содержатся частицы серы. Их легко заметить». Эти бактерии хемосинтезирующие, как и во многих местных нематодах, моллюсках и плоских червях. Здесь, в средиземноморском иле, живущих на сульфидах организмов не меньше, чем на глубине. «В Италии! – торжественно заявляет Дюбилье. – Нам пришлось отправиться к неизведанным источникам на немыслимой глубине, чтобы понять, что симбиоз на основе хемосинтеза встречается прямо у нас под носом. Мы на каждой полевой вылазке открываем новые виды и новые симбиозы».
Эльба, может, и кажется идеальным местом, но хемосинтезирующим существам тут приходится несладко. Не забывайте, что бактерии Riftia высвобождают энергию, окисляя сульфиды. В иле у Эльбы сульфидов крайне мало, а значит, типичный хемосинтез там вроде бы вообще не должен происходить. Как тогда выживают черви Olavius? Дюбилье это выяснила в 2001 году, обнаружив, что у них два разных симбионта – большой и маленький, и оба под кожей[287]. Бактерия поменьше захватывает сульфаты, которых в иле Эльбы полно, и превращает их в сульфиды. Бактерия побольше затем окисляет сульфиды и запускает хемосинтез, прямо как микробы червя Riftia. В процессе она вырабатывает сульфаты, которые затем снова перерабатывает ее мелкая соседка. Два микроба по очереди кормят друг друга серой, благодаря чему питается и червь – эдакий симбиоз на троих. Приняв в союз маленьких бактерий, захватывающих сульфаты, черви Olavius сумели поселиться в иле, который иначе был бы слишком скудным для их обычных хемосинтезирующих товарищей.
С тех пор Дюбилье выяснила, что этот союз на самом деле еще сложнее, чем кажется. У Olavius, оказывается, аж пять симбионтов – двое перерабатывают сульфаты, двое занимаются сульфидами, а что делает пятый спиралеобразный симбионт – пока неясно. «Нам, наверное, еще лет тридцать понадобится, чтобы в этом разобраться!» – смеется Дюбилье. На самом деле ей повезло. Она занимается исследованием мелководных симбиозов, а значит, для сбора образцов ей не приходится втискиваться в тесный батискаф. Нужно всего лишь нырять на пляжах солнечной Эльбы, у Карибских островов, у Большого Барьерного рифа… Ох, нелегкая это штука, все эти исследования, но нужно же кому-то ими заниматься.
А вот у Рут Лей со сбором микробов возникли сложности. Проблема не в том, что ей нужны были образцы стула животных – в мире микробиомной науки к работе с испражнениями привыкаешь быстро. И не в обитателях зоопарка, чей стул она собирала, – от клыков и когтей ее всегда отделяли решетки, стены и смотрители зоопарка с палками наготове. Нет, проблему представляла бумажная волокита.
Лей – специалист по микробной экологии, и ей нужно было сравнить бактерий в кишечниках различных млекопитающих, чтобы понять, как их питание и эволюция повлияли на микробиом. Для этого ей требовалось много животных и много фекалий – и того и другого было предостаточно в зоопарке Сент-Луиса неподалеку. В перерывах между другими опытами Лей забегала туда с перчатками, мешочками и ведром сухого льда. Приветливый смотритель возил ее по зоопарку и отвлекал животных, пока она пробиралась в клетку и собирала помет. «Я просто туда ходила, когда понадобится, а потом кто-то заметил, что мы там бегаем и собираем какашки, и решил, что это должно быть официально», – жалуется она. На смену приветливому смотрителю и приключениям без всяких формальностей пришли официальный договор, бланк для сбора кала и строжайшее следование регламенту. Как-то зимним днем Лей заметила, что бегемот только что справил большую нужду на пол вольера. «Там во-о-от такая куча была! – восклицает она. – А они все твердили, что о бегемотах договоренности не было. А потом ко мне подошел уборщик и сказал, что через десять минут все это окажется в закоулке прямо за зоопарком и тогда я смогу взять, сколько мне надо». Ну, она и взяла.
Еще она собирала фекалии медведей (гималайских, белых и очковых), слонов (африканских и индийских), носорогов (индийских и черных), лемуров (черных, мангустовых и кошачьих) и панд (больших и малых). За четыре года посещений зоопарка она собрала кал 106 особей, принадлежащих к 60 видам. Она высушивала каждый образец в микроволновке, перетирала в блендере и толкла в ступке. Амбре получалось незабываемое. Наградой стала ДНК, позволившая Лей описать микробов, живущих в кишечнике автора образца.
Лей выяснила, что кишечные микробы у всех млекопитающих индивидуальны и при этом делятся на определенные группы в зависимости от происхождения их владельца и, что особенно важно, его питания[288]. У травоядных было больше всего разновидностей бактерий, а у хищников – меньше всего. Всеядные со всем своим разнообразием пищи оказались посередине. Были и исключения: так, кишечные микробы малых и больших панд больше напоминали микробов их хищных родичей – медведей, кошек и собак, – чем травоядных, коими они, собственно, являются[289]. Однако в целом все совпадало. Объяснение тому было простым, а значение – крайне важным.
Для начала разберем объяснение. Растения – самый распространенный источник пищи на суше, но для того, чтобы их переварить, требуется больше ферментов. В растительных тканях по сравнению с мясом животных содержится больше сложных углеводов, таких как клетчатка, гемицеллюлоза, лигнин и резистентный крахмал. У позвоночных нет молекулярных приборов, чтобы их расщепить, а у бактерий есть. У широко распространенной кишечной бактерии B-theta нужных ферментов более 250, а у нас и сотни нет, и это притом, что наш геном в 500 раз больше. Раскалывая растительные углеводы на части своими инструментами, B-theta и другие микробы высвобождают вещества, что питают наши клетки напрямую. Вместе они производят 10 % потребляемой нами энергии и аж 70 % энергии коровы или овцы. Чтобы питаться растительной пищей, животному необходимо множество микробов, причем самых разных[290].
Теперь о значении. Первые млекопитающие были хищниками – крошечными суетливыми поедателями насекомыми. Переход с мяса на растительную пищу стал для нас настоящим прорывом. Благодаря изобилию и разнообразию растений травоядные начали развиваться гораздо быстрее своих плотоядных сородичей и вскоре заняли экологические ниши, оставленные после себя крупными динозаврами. Большая часть ныне живущих млекопитающих едят растительную пищу, да и почти во всех отрядах есть хотя бы несколько травоядных видов. Даже в отряде хищных, куда входят кошки, собаки, медведи и гиены, есть также и панды, которые питаются бамбуком. Получается, что успех млекопитающих основан на вегетарианстве, а вегетарианство – на микробах. Разные группы млекопитающих снова и снова получали с пищей из среды микробов, способных расщеплять растительные ткани, и с помощью их ферментов расправлялись с листьями, стеблями и ветвями.
Просто завести у себя нужных микробов недостаточно. Им для работы требуется пространство и время. Травоядные млекопитающие предоставили им и то и другое. Они увеличили участки пищеварительного тракта, превратив их в отсеки для ферментации, чтобы поселить там своих помощников и замедлить ход пищи, благодаря чему те успевали ее переработать. У слонов, лошадей, носорогов, кроликов, горилл, свиней и некоторых грызунов эти отсеки находятся в нижней части пищеварительного тракта – в кишечнике. Они сначала получают из пищи как можно больше питательных веществ с помощью своих собственных ферментов, а потом уже отдают ее на растерзание микробам. У других млекопитающих – коров, оленей, овец, кенгуру, жирафов, бегемотов и верблюдов – ферментация пищи происходит в верхней части тракта: осуществляющие ее микробы обитают или в отделах, предшествующих желудку, или в первых же его камерах. Часть питательных веществ эти животные тратят на бактерий, зато потом сами же их переваривают. «Вот зачем помещать эти отсеки сверху – так можно и самих бактерий съесть, – объясняет Лей. – Это ведь логично. Можно спокойно жевать солому и все равно получать все необходимые питательные вещества». Некоторые из них – например, крупный рогатый скот – дают микробам дополнительное время с помощью руминации – это довольно неприятный, но эффективный цикл, во время которого пища отрыгивается, пережевывается и снова проглатывается.
В зависимости от расположения отсеков для ферментации пищи в них появляются разные микробы. Лей выяснила, что микробы животных, расщепляющих пищу в верхней части пищеварительного тракта, больше похожи друг на друга, чем на микробов млекопитающих, поселивших их в нижней части, и наоборот. Эти сходства выходят за границы, установленные общими предками. У кенгуру, прыгающего сумчатого из Австралии, и окапи, африканского родича жирафов в полосатых штанишках, микробиомы во многом схожи. У животных с отсеками для ферментации, расположенными в нижней части тракта, сходства такие же[291].
Другими словами, микробы повлияли на развитие пищеварительной системы млекопитающих, а пищеварительная система млекопитающих – на эволюцию микробов[292].
Во время следующего эксперимента Лей это стало еще заметнее. Они с Робом Найтом сравнили результаты секвенирования микробов животных из зоопарка и других животных из самых разных сред – почвы, морской воды, горячих источников и озер. Они обнаружили, что в желудочно-кишечных трактах позвоночных микробиом куда разнообразнее, чем где бы то ни было. Он отличается от микробиомов обитателей озер, источников и всего остального даже сильнее, чем эти места друг от друга. Существует, как решили ученые, «дихотомия ЖКТ и остального организма»[293]. «Довольно неожиданно, – говорит Найт. – Когда этот анализ провели впервые, я подумал, что они просто ошиблись». Причина такого противопоставления пока неясна, но Найт отмечает, что пищеварительный тракт – уникальная среда для микробов: темно, кислорода нет, жидкости полно, иммунными клетками охраняется, а питательных веществ – хоть лопни. Здесь способны выжить не все бактерии, но те, что выживают, оказываются перед множеством экологических возможностей, которыми сразу пользуются. Один представитель вида попадает в кишечник и, одурев от радости, дает начало новым родственным штаммам и видам. В итоге получается семейное древо с высоким и прочным стволом, но редкими и небольшими ветвями, смахивающее скорее на пальму, чем на дуб.
На островах дело обстоит примерно так же. Вот животное-первопроходец оказывается на суше – его сюда принес мощный ураган, или привезло упавшее в воду бревно, или доставила лодка… Оно вылетает, выбегает или выползает на берег, а его потомство начнет понемногу заселять различные местообитания на острове, формируя новые виды. Так появились гавайские цветочницы, галапагосские вьюрки, змеи Французской Полинезии, карибские анолисы… и, возможно, наши кишечные микробы.
Научная группа обнаружила, что желудочно-кишечные микробиомы растительноядных позвоночных животных отличались вообще от всего – от микробных сообществ внешней среды, от микробиома хищников, от микробиома других частей тела и от микробиома беспозвоночных. Пищеварительная система сама по себе особенна, пищеварительная система позвоночного особенна вдвойне, а пищеварительная система позвоночного-вегетарианца – так вообще в квадрате. Кусок прожеванных побегов и листьев с множеством углеводов, которые можно переварить, – словно остров, на котором пища в изобилии. Он даст поселенцам возможность выбирать, чем питаться, а также толчок к размножению и появлению новых видов[294]. Пищеварение, управляемое микробами, не раз позволило животным стать вегетарианцами – причем не только млекопитающим.
Среди насекомых рекорд по поеданию растений удерживают термиты. В 1889 году выдающийся американский натуралист Джозеф Лейди вскрыл кишечники термитов, чтобы выяснить, чем они питаются. Разглядывая разрезанных насекомых под микроскопом, он с удивлением обнаружил, что от их тел повсюду расползались крошечные точки, словно «толпа людей, расходящихся по домам с собрания». Он решил, что это паразиты, но сейчас мы знаем, что крошечные выселенцы – это протисты, микробы-эукариоты с более сложным строением, чем бактерии, но при этом одноклеточные. Протисты составляют до половины веса термита-хозяина, и тому есть причина: они вырабатывают ферменты для расщепления грубой клетчатки в древесине, которой термиты питаются[295].
Протисты в основном обитают в кишечниках термитов из самых ранних групп, пренебрежительно названных низшими. Так называемые высшие термиты – те еще снобы – появились позже. Они полагаются главным образом на бактерий, которые обитают у них в желудках, по устройству напоминающих коровьи[296]. А еще более напыщенные макротермиты появились совсем недавно, и стратегия по уничтожению древесины у них самая изощренная – они занимаются сельским хозяйством. В испещренных пещерами термитниках они выращивают грибы, удобряя их древесными щепками. Грибы расщепляют клетчатку на составляющие поменьше, которые потом поедаются термитами. Бактерии у них в кишечнике переваривают то, что осталось. Сами термиты, в общем-то, и не при делах: их задача – содержать бактерий и выращивать грибы. Если хоть один партнер исчезнет, термиты умрут от голода. У их королевы все еще интереснее. Она огромна: ее торс не длиннее ногтя, а вот брюшко размером с ладонь, эдакий пульсирующий яйцекладущий мешок, настолько раздутый, что королева и пошевелиться не может. И микробов в пищеварительном тракте у нее почти нет. Вместо них ее кормят подданные (и их микробы). Вся ее колония – тысячи рабочих, миллиарды микробов, огромные плантации расщепляющих древесину грибов – выполняют роль ее пищеварительной системы[297].
Отправившись в Африку, вы и сами убедитесь, насколько такая стратегия эффективна. Там макротермиты строят просто огромные термитники. Некоторые из них достигают в высоту девяти метров, подпирая небеса готическими шпилями и выступами. Самому древнему из них – ныне покинутому – 2200 лет. В термитниках селятся и многие другие животные, а кого-то термиты даже кормят. Кроме того, они поедают разлагающиеся растения и таким образом перегоняют через свою среду питательные вещества и воду. Они – инженеры экосистемы. В саванне они втихаря всем заправляют – точнее, не они, а их микробы. Без расщепляющих клетчатку бактерий африканские пейзажи выглядели бы совсем по-другому. Исчезли бы не только термиты, но и колоссальные стада антилоп, буйволов, зебр, жирафов и слонов, без которых животный мир Африки и представить нельзя.
Я как-то побывал в Кении как раз во время великой миграции гну – ежегодного марафона, во время которого миллионы антилоп, внешне похожих на коров, преодолевают огромные расстояния в поисках пастбищ. Один раз нам пришлось остановить джип больше чем на полчаса, чтобы дать пройти немыслимо длинной толпе антилоп. Без микробов, позволяющих получать питательные вещества из грубой неперевариваемой пищи, этих травоядных бы не было. Нас, кстати, тоже. Сложно представить себе, что без прирученных бактерий мы никогда бы не продвинулись дальше охоты, собирательства и простенького сельского хозяйства, не говоря уже о том, чтобы изобрести межконтинентальные перелеты и сафари. Вместо туристов, разинув рот разглядывающих стадо ферментативных камер, что несутся мимо с громким топотом копыт, здесь была бы пустынная равнина. И тишина.
Катерина Амато на протяжении тридцати недель занималась одним и тем же. Она вставала до рассвета, отправлялась в мексиканский национальный парк Паленке и вслушивалась. С первыми лучами солнца ветви деревьев оглашались глубоким и очень громким гортанным ревом. Этот зов исходил из глоток мексиканских ревунов – крупных черных обезьян с цепким хвостом, обитающих на деревьях и известных своим мощным голосом. Амато целый день следила за ними, следуя по звукам их рева, и, пока они лазили по верхушкам деревьев, старалась не отставать на земле. Ее интересовал кишечный микробиом ревунов, так что ей нужно было собрать их помет. Ревуны, что весьма удобно, всегда испражняются одновременно. «Как только у одного процесс пошел, уже знаешь, что сейчас начнется», – улыбается Амато.
А зачем ей все это? Дело в том, что ревуны на протяжении года питаются по-разному. Примерно полгода они в основном едят фиги и другие фрукты – калорийно и переварить пара пустяков. Когда фрукты заканчиваются, обезьяны переходят на листья и цветки – калорий меньше, переварить сложнее. Некоторые ученые предполагали, что ревуны ведут менее активный образ жизни и таким образом переживают голодовку, но наблюдения Амато это не подтвердили – ее ревуны вели себя активно во все времена года. А вот кишечные микробы у них меняются. Что особенно заметно, во время отсутствия фруктов они вырабатывали больше короткоцепочечных жирных кислот. Эти вещества питают клетки обезьян, так что микробы снабжали хозяев большим количеством энергии в период, когда калорий в пище было мало. Благодаря им ревуны, несмотря на капризы времен года, питаются стабильно[298].
Было бы слишком просто считать, что каждый вид животных постоянно питается чем-то одним. На самом деле наше питание меняется в зависимости от времени года, а иногда даже изо дня в день. Вот ревун устраивает себе фруктовый пир, а через месяц жует невкусные листья. В одно время года белка объедается орехами, а в другое вообще ничего не ест. Сегодня я слопаю круассан, а завтра буду ковыряться в салате. И с каждым обедом и куском мы избирательно кормим микробов, которые лучше всего переваривают то, что мы только что съели. Скорость реакции у них отменная. В одном исследовании десять добровольцев по пять дней просидели на двух разных диетах: одна включала в себя фрукты, овощи и злаки, а вторая – мясо, яйца и сыр. Вместе с питанием изменились и микробиомы участников, причем очень быстро. Всего за день они переключились с растительного режима, рассчитанного на углеводы, на мясной, рассчитанный на белки[299]. Собственно говоря, эти сообщества микробов сильно напоминали кишечный микробиом травоядных млекопитающих и, соответственно, плотоядных. Миллионы лет эволюции повторились меньше чем за неделю.
Так микробы в нашем кишечнике позволяют нам питаться самой разнообразной пищей. Жителям развитых стран и животным в зоопарках это не так уж важно – они питаются регулярно и в достаточных количествах. Но для наших предков, добывавших пищу охотой и собирательством, это наверняка имело огромное значение, а дикие животные, такие как ревуны, возможно, только благодаря этому и выживают. Они питаются тем, чем позволяет время года. Обилие пищи у них нередко сменяется голодом. Иногда им приходится пробовать новую, незнакомую пищу. Справиться с этими задачами помогает быстро адаптирующийся микробиом. Он предоставляет устойчивость и гибкость в изменчивом и ненадежном мире.
Для животных такая гибкость, конечно, преимущество, зато для нас – проклятие. Западный кукурузный корневой жук, обитающий в Северной Америке, – опасный вредитель. Взрослые особи откладывают яйца на полях кукурузы, а на следующий год их личинки объедают корни растений. Такой жизненный цикл делает насекомых уязвимыми: если из года в год чередовать посев кукурузы и соевых бобов, взрослые особи отложат яйца в кукурузе, а личинки вылупятся в сое и погибнут. Этот процесс известен как чередование культур и для истребления кукурузного жука он весьма эффективен. Только вот некоторые линии с помощью микробов развили устойчивость к чередованию. Кишечные бактерии таких жуков научились переваривать соевые бобы. Так взрослые особи разорвали древнюю связь с кукурузой и начали откладывать яйца на полях с соевыми бобами, чтобы их личинки вылуплялись посреди золота кукурузы. Благодаря микробиому, способному быстро адаптироваться, эти вредители продолжают нам вредить[300].
Живые существа, как правило, не особенно хотят, чтобы их съели. Они защищаются. У животных есть выбор – сражаться или удрать. Растения не столь подвижны, так что они полагаются на химическую защиту. Их ткани заполняются веществами, отпугивающими растительноядных животных, – ядами, которые вредят здоровью, лишают возможности иметь потомство, приводят к потере веса или неврологическим расстройствам, провоцируют появление опухолей или выкидыши и просто убивают.
Креозотовый куст – одно из самых распространенных растений в пустынях Юго-Запада США. Он достиг успеха благодаря своей устойчивости к засухе, старению и челюстям животных. Его листья покрыты смолой, в которой содержатся сотни химических веществ, вместе составляющих до четверти сухой массы кустарника. Эта смесь источает резкий запоминающийся запах, который особенно чувствуется, когда листья мокнут под дождем. Говорят, что креозот пахнет дождем, но на самом деле скорее дождь пахнет креозотом. Как бы там ни было, запах смолы не вреден, зато при попадании внутрь она вредит печени и почкам. Лабораторная крыса, поев листьев креозотового куста, умирает. А вот с пустынным хомяком ничего не происходит. Он еще съест. И еще. В пустыне Мохаве грызунам так нравятся эти листья, что зимой и весной они в основном ими и питаются. Каждый день они съедают столько смолы, что любой другой грызун уже давно бы склеил лапки. Как им это удается?
У животных существует множество способов обойти ядовитую защиту растений, но у каждого способа есть своя цена. Можно есть лишь наименее ядовитые части, но чем животное привередливее, тем меньше у него возможностей. Можно употреблять в пищу нейтрализующие вещества, например глину, но для поиска противоядия нужны усилия и время. Можно самим создавать обезвреживающие ферменты, но на это требуется энергия. Бактерии предлагают альтернативное решение. Они – мастера биохимии, способные расщепить что угодно, от тяжелых металлов до неочищенной нефти. Яды растительного происхождения? Да запросто! Еще в 1970 году ученые выдвинули предположение, что микробы в пищеварительном тракте обезвреживают все яды в пище еще до того, как они попадут в кишечник[301]. Благодаря тому, что микробы обезоруживают пищу заранее, животным не приходится думать о противоядиях. Эколог Кевин Коль предположил, что своей стойкостью пустынный хомяк обязан именно бактериям, а проверить эту теорию ему помогли несколько тысячелетий климатических изменений.
Примерно 17 тысяч лет назад на юге современных США начало теплеть, и вскоре из Южной Америки туда переселился креозотовый куст. Он уютно устроился в теплой пустыне Мохаве, где его и обнаружили пустынные хомяки. Однако до пустыни Большого Бассейна к северу от Мохаве он так и не добрался – там холоднее. Там пустынные хомяки креозотовый куст в глаза не видели и питались в основном можжевельником. Если догадка Коля была верна, в кишечнике опытных пустынных хомяков Мохаве должно было быть достаточно бактерий, обезвреживающих яд, которых не было у неподготовленных грызунов Большого Бассейна. Коль поймал в каждой пустыне по несколько особей – и все подтвердилось. Столкнувшись с токсинами креозотовой смолы, кишечные бактерии неподготовленных особей понятия не имели, что делать, а вот микробы опытных хомяков переключались на гены, расщепляющие токсины, и быстренько с ними расправлялись. Чтобы окончательно доказать, что опытные особи обязаны своим мастерством микробам, Коль добавил в их корм антибиотики. Хомяки все так же спокойно ели обычный лабораторный корм, а вот креозотовые листья причиняли им боль. Без кишечных микробов они реагировали на креозотовую смолу даже хуже, чем их собратья из Большого Бассейна, ни разу не пробовавшие ее в природных условиях. Хомяки начали усиленно терять вес, так что Коль был вынужден закончить эксперимент досрочно. Всего за пару недель он изменил направление 17 тысяч лет эволюции и превратил профессиональных поедателей креозотовых кустов в полных дилетантов[302].
И наоборот тоже. Он собрал помет опытных хомяков, превратил его в кашицу в блендере и скормил неподготовленным грызунам, чтобы обезвреживающие микробы поселились у них в кишечнике. И вот эти особи начали спокойно уплетать креозотовые листья. Их новоявленные способности особенно отразились на моче: из-за токсинов в креозотовой смоле она темнеет, а прежде неопытные хомяки теперь расщепляли токсины в таких количествах, что мочились золотистой, чистой жидкостью. За несколько обедов они набрались опыта, который их собратья накапливали многие тысячи лет.
Видимо, когда креозотовые кусты впервые появились в Мохаве, произошло что-то подобное. Пустынный хомяк наткнулся на незнакомый ему кустик и решил попробовать. Фу, гадость какая! Впрочем, зимой еды и так мало, так что выбирать не приходится. Ну, тогда еще кусочек. С каждым куском в организм хомяка попадали микробы, обитающие на креозотовых листьях, – возможно, они уже тогда умели расщеплять токсины смолы. Съев этих микробов, хомяк и сам стал лучше подготовленным. Потом он убегает и справляет нужду, оставляя после себя шарик помета, наполненный бактериями. Этот шарик находит и съедает другой хомяк – так суперсила распространяется. В конце концов способность есть листья растения появляется у всех хомяков, и скоро она распространится по всей пустыне. Возможно, именно своей готовности принимать новых микробов эти грызуны обязаны своим успехом и неприхотливостью[303].
И таких примеров много – микробы нередко дают хозяевам возможность употреблять в пищу что-то потенциально смертельное[304]. Лишайники – всем известные иконы симбиоза – полны ядовитой усниновой кислоты. А северные олени, что питаются в основном лишайниками, умеют расщеплять ее так, что в экскрементах от нее и следа почти не остается. По-видимому, и здесь дело в кишечных микробах. Многие растительноядные млекопитающие, от коал до хомяков, являются переносчиками микробов, расщепляющих танины – горькие соединения, придающие вяжущий вкус красному вину, но вредящие печени и почкам. Кишечные микробы кофейного жучка Hypothenemus hampei умеют расщеплять кофеин – вещество, позволяющее кофеманам проснуться и отравляющее любого вредителя, желающего полакомиться кофейными зернами. Любого, кроме кофейного жучка. Благодаря расщепляющим кофеин бактериям он стал единственным в мире животным, способным питаться лишь кофейными зернами, и одной из главных угроз мировой индустрии кофе.
Обезвреживание наряду с перевариванием, выживание не только благодаря пище, но и вопреки ей – травоядным без таких приемов не прожить. Совместив способности микробов и собственные пищевые стратегии, растительноядные получили возможность питаться любой зеленью, что найдут. Растениям приходится все это терпеть, но они вроде бы справляются. Креозотовые кусты, будучи основной пищей пустынных хомяков, остаются главным растением пустыни Мохаве. Сколько бы северные олени ни щипали лишайники, они все равно растут по всей тундре. Эвкалипты постоянно лишаются листьев из-за коал, но в Австралии и прогуляться нельзя так, чтобы хоть на один не натолкнуться. Даже с кофе, к счастью, все будет в порядке. Однако иногда микробы заходят со своим обезвреживанием слишком далеко. Иногда растениям приходится совсем несладко.
Пролетая над лесами на западе Северной Америки, вы, скорее всего, заметите крупные участки деревьев с порыжевшими кронами или голыми ветвями. На первый взгляд они, может, и похожи на живописный осенний пейзаж, вот только на самом деле это натюрморт. Эти деревья – сосны. У них не должны рыжеть иголки. Это вечнозеленые растения – точнее, были бы таковыми, если бы не погибали в столь огромных количествах. А кто убийца? Сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae – иссиня-черное насекомое размером с зернышко риса. Он проникает под кору дерева и создает там длинные коридоры, по пути откладывая в них яйца. Личинки, вылупившись из яиц, пробираются внутрь к лубяному слою, чтобы питаться его соком. Один жук – не проблема, но в одном дереве поселяются сразу тысячи. Отодрав кусок коры, вы увидите их творение – целый лабиринт тоннелей, проходящих по всему стволу. Лубоеды лишают дерево большей части питательных веществ, так что оно начинает погибать. А заодно и дерево рядом с ним. И все их соседи. Целые акры деревьев рыжеют и умирают[305].
Сообщники лубоеда еще меньше, чем он сам, – куда бы он ни направился, его сопровождают два вида грибов. Они для жука – пищевые добавки, как Buchnera для тлей. Сами жуки обитают прямо под корой, питательных веществ там немного. Грибы же врастают в ствол и добираются до недоступных жукам запасов азота и других необходимых для жизни веществ. Добравшись, они начинают перегонять вещества ближе к поверхности ствола – в пределы досягаемости личинок. «Эти жуки едят всякую ерунду, а грибы снабжают их питательными веществами», – объясняет энтомолог Диана Сикс, много лет изучающая лубоедов. Когда личинка жука наконец окукливается, грибы производят споры – прочные репродуктивные капсулы. Взрослая особь, вылупившись, укладывает споры в полости во рту, напоминающие чемоданы, и тащит их к следующей бедняге-сосне.
Нашествия жуков начинаются и затихают, но вот последнее оказалось в десять раз масштабнее любого предыдущего – не в последнюю очередь благодаря глобальному потеплению. С 1999 года лубоеды и их грибковые официанты погубили более половины взрослых сосен в Британской Колумбии и поразили более 15 тысяч квадратных километров в США. Они даже каким-то образом переправились через Скалистые горы, что много лет удерживали их на западной окраине континента, и теперь распространяются на восток. А на пути у них огромные, пышные и уязвимые лесные массивы.
Однако деревья просто так не сдаются. При нападении жуков они начинают усиленно вырабатывать терпены – углеводороды, способные при достаточной концентрации и жуков убить, и грибок уничтожить. Считается, что жуки с этой преградой справляются грубой силой – за один раз их нападает столько, что дерево просто не успевает вырабатывать терпены в нужных количествах. Энтомологу Кену Раффе такое объяснение показалось нелогичным. Если бы все было так, деревья бы производили сразу много терпенов и их уровень быстро падал бы с наступлением все новых и новых армий лубоеда. На деле же все происходит по-другому: деревья удерживают химзащиту на высоком уровне по крайней мере с месяц. Получается, что личинкам жука приходится бороться с еще большим количеством токсинов, чем их родителям. Как у них это получается?
Научная группа Раффы выяснила, что лубоеды сотрудничают не только с грибами, но и с бактериями, такими как Pseudomonas и Rahnella – они были найдены во всех пораженных лубоедами деревьях. Они повсюду – на экзоскелетах насекомых, на стенах их лабиринтов, в их ротовых органах и кишечниках. Они – своего рода элита: их гораздо меньше, чем в кишечниках термитов, да и с пищеварением они не помогают. Зато они обладают целым набором генов для расщепления терпенов, и в лабораторных условиях они успешно с этими веществами расправляются. Разные виды бактерий умеют расщеплять разные вещества, так что вместе они справляются со всеми[306].
Хотелось бы заявить, что решение найдено: бактерии обезоруживают деревья, а жуки переносят их от одного ствола к другому. Однако, как мы уже знаем, мир симбиоза сложнее, чем кажется, и простые объяснения, при всей своей заманчивости, нередко оказываются неверными. Известно, что эти же бактерии обитают и на здоровых хвойных деревьях – не исключено, что они являются частью микробиома дерева. При нападении жуков и повышении уровня терпенов бактерии начинают пировать. Обед у них выходит отличный, но в итоге они, сами того не желая, вредят дереву – своему хозяину – и помогают лубоедам. Также выяснилось, что и жуки способны вырабатывать некоторые ферменты, расщепляющие терпены. Так в какой же степени им помогают бактерии – берут на себя большую часть работы или делят обязанности с насекомыми так же, как тли и Buchnera вместе создают аминокислоты? И что самое главное – действительно ли они увеличивают шансы лубоедов выжить?
Пока ясно вот что: на лес обрушивается союз животных, грибов и бактерий, и деревья, несмотря на все свои усилия по самозащите, постепенно умирают. Их гибель свидетельствует о мощи симбиоза – силы, позволяющей самым безобидным существам одолеть сильнейших. Чтобы разглядеть жуков, вам придется прищуриться, а чтобы увидеть их микробов – вооружиться микроскопом, зато проявления их взаимогарантированного успеха заметны аж с небес.
Благодаря полученным от микробов способностям полужесткокрылые научились питаться соком растений, а термиты и травоядные млекопитающие – жевать их стебли и листья. Трубчатые черви поселились на самых глубоких участках океанского дна, пустынные хомяки распространяются по американским пустыням, а сосновые лубоеды устраивают в вечнозеленых лесах разруху континентального масштаба[307].
Обыкновенный паутинный клещ к пафосу и хвастовству не склонен – он пакостит незаметно. Крошечное паукообразное красного цвета размером меньше этой запятой, как и лубоед, губит растения, нападая на них бессчетными армиями. Распространен этот вредитель по всему миру. Такому успеху он обязан устойчивости к пестицидам и разнообразным предпочтениям: он питается более чем 1100 видами растений, от помидоров до клубники, от кукурузы до сои. Для такой вкусовой палитры требуются неслабые навыки по обезвреживанию токсинов, ведь каждое растение вооружено своей смесью защитных веществ и паутинному клещу нужно с ними всеми уметь справляться. К счастью для него, он обладает целым арсеналом обезвреживающих генов, которые активируются в зависимости от того, соком какого растения клещ собирается полакомиться.
И здесь, судя по всему, микробы не играют никакой роли. Паутинный клещ, в отличие от пустынного хомяка и соснового лубоеда, не рассчитывает на кишечных бактерий и сам делает свою пищу пригодной к употреблению. Все необходимое уже есть у него в геноме. Однако бактерии важны даже тогда, когда их нет.
Многие растения, соком которых питается паутинный клещ, при повреждении своих тканей вырабатывают синильную кислоту. Ко всему живому это вещество на удивление недружелюбно. Дератизаторы отравляли синильной кислотой крыс и других грызунов, китоловы смазывали ей гарпуны, нацисты использовали ее в концлагерях – а паутинному клещу до лампочки. Один из его генов вырабатывает фермент, преобразовывающий синильную кислоту в совершенно безвредное вещество. Этим же геном обладают гусеницы разных бабочек и молей – для них синильная кислота тоже безопасна. Ни паутинный клещ, ни гусеницы этот ген не изобрели и не унаследовали от общего предка.
Этот ген им дали бактерии[308].
Глава 8. Аллегро в ми мажор
При рождении вы унаследовали половину генов от матери и половину от отца. Эти кусочки ДНК останутся с вами на всю жизнь, к ним ничего не прибавится, и они никуда не исчезнут. Вы при всем желании не сможете одолжить парочку генов у меня, а я – у вас. А теперь представьте себе мир, в котором друзья и коллеги могут обмениваться генами, когда захотят. У вашего начальника есть ген, дающий иммунитет к разным вирусам? Берите его себе! У вашего ребенка генетическая склонность к какой-то болезни? Замените эти гены на свои, более здоровые! Дальние родственники легко переваривают тяжелую пищу благодаря определенному гену? Не вопрос, этот ген ваш! Гены в этом мире – не семейные сокровища, передающиеся по наследству из поколения в поколение, а предметы быта, которыми можно спокойно друг с другом делиться.
Как раз в таком мире и живут бактерии. Мы обмениваемся номерами, деньгами и идеями, а они – ДНК. Иногда бактерия подкрадывается к другой бактерии, между ними возникает перемычка, и они начинают перемещать по ней туда-сюда кусочки ДНК – это у них вместо секса. Еще они могут утащить себе кусочки ДНК, выброшенные разлагающимися трупиками бактерий. Иногда для перемещения генов из одной клетки в другую бактерии используют вирусы. Обмен ДНК для них такая частая процедура, что геном обычной бактерии буквально испещрен генами других бактерий. Даже у родственных штаммов нередко наблюдаются значительные генетические различия[309].
Горизонтальный перенос генов проводится бактериями уже миллиарды лет, но ученые об этом узнали только в 20-х годах прошлого века[310]. Они обратили внимание на то, что безвредные штаммы пневмококка, побыв рядом с мертвыми вирулентными штаммами, внезапно и сами получали способность заражать. Причиной явно было что-то, находящееся в тех штаммах. В 1943 году микробиолог Освальд Эвери выяснил, что этим «чем-то» была ДНК: безвредные штаммы поглощали ее и делали частью своего генома[311]. Через четыре года молодой генетик Джошуа Ледерберг (именно благодаря ему через некоторое время обрел популярность термин «микробиом») доказал, что бактерии могут обмениваться ДНК напрямую. Он вывел два штамма кишечной палочки, каждый из которых не умел вырабатывать какие-либо питательные вещества. Без соответствующих пищевых добавок они погибали. А вот когда Ледерберг поместил их в одну емкость, обнаружилось, что некоторые дочерние бактерии научились выживать сами. Стало понятно, что два родительских штамма обменялись генами, компенсирующими недостатки друг друга. Затем дочерние бактерии получили по наследству полный набор генов, благополучно выжили и расплодились[312].
Прошло каких-то 60 лет, а мы уже знаем, что горизонтальный перенос – один из важнейших аспектов жизни бактерий. Благодаря ему бактерии могут развиваться с огромной скоростью. Им не нужно ждать, пока в их ДНК накопятся нужные мутации для преодоления новых задач и трудностей, ведь необходимые для адаптации гены можно приобрести оптом у тех, кто уже приспособился к новым условиям. Эти гены часто включают в себя «приборы» для разделки нетронутых источников энергии, «щиты» для защиты от антибиотиков и «боеприпасы» для заражения новых организмов. Если у бактерии появляется какой-то нужный ген, другие бактерии могут тут же его позаимствовать. В результате безвредные обитатели кишечника способны внезапно стать опасными патогенами – из миролюбивых Джекиллов превратиться в злобных Хайдов. А уязвимые патогены, которых уничтожить – раз плюнуть, оборачиваются жуткими монстрами, с которыми не справятся даже самые сильные современные лекарства. Без всяких сомнений, распространение устойчивых к антибиотикам бактерий – одна из главных опасностей нашего века, и этот процесс на практике демонстрирует всю необузданную мощь горизонтального переноса генов.
Животные в этом плане отстают от бактерий: к новым трудностям мы адаптируемся постепенно. Организмы, которым повезло с мутациями, с большей вероятностью выживают и передают генетическую плюшку следующим поколениям. Со временем определенные полезные мутации появляются все чаще, а вредные потихоньку исчезают. Постепенные изменения, которые влияют на популяцию, а не на отдельные организмы, – основа естественного отбора. Лягушки, ласточки и люди накапливают полезные мутации со временем, но конкретная лягушка, ласточка или Людмила не могут просто так взять себе гены с желаемыми мутациями. Хотя нет, иногда все-таки могут! Можно заменить микробов-симбионтов в своих организмах и получить новый набор микробных генов. Или дать новым бактериям возможность установить контакт с вашими – тогда чужие гены переместятся в ваш микробиом и наделят местных микробов новыми способностями. А может случиться и так, что микробные гены войдут в ваш собственный геном – именно так паутинный клещ из прошлой главы заполучил ген, обезвреживающий синильную кислоту[313].
Иногда болтушки-журналисты пытаются утверждать, что горизонтальный перенос ставит под удар слова Дарвина об эволюции, так как благодаря этому процессу организмы якобы могут избежать тирании вертикального наследования. «Дарвин был неправ» – кричала обложка журнала New Scientist, который сам оказался неправ. На самом деле все не так. Да, горизонтальный перенос может разнообразить геном животного – но когда гены-прыгунчики оказываются в новом доме, они по-прежнему остаются предметом интереса старого доброго естественного отбора. Вредные гены исчезнут вместе с носителями, а полезные проявят себя и у следующих поколений. Все именно так, как объяснил Дарвин, только быстрее.
Мы уже знаем, что микробы позволяют животным воспользоваться новыми возможностями для развития. Сейчас мы узнаем, что порой они дают нам возможность воспользоваться ими очень быстро. Благодаря совместной работе с микробами нерасторопное адажио эволюции, к которому привыкли мы, разгоняется до веселого и бодрого аллегро, к которому привыкли они.
Вдоль японских побережий к камням цепляются красно-коричневые водоросли – это порфира, также известная как нори, и она уже больше 1300 лет набивает японские животы. Сначала ее перемалывали в съедобную пасту, потом стали сплющивать в тонкие листы, чтобы оборачивать ими суши. Так делают и в наши дни – нынче нори знают и любят во всем мире. Но с Японией у нее особенная связь: там нори употребляли в пищу в течение многих веков, и японцам переваривать ее проще всего.
Нори, как и другие морские водоросли, содержит уникальные углеводы, которых у наземных растений нет. У нас и у живущих в наших кишечниках бактерий необходимые для их переваривания ферменты отсутствуют. Морским же микробам гораздо проще. Например, бактерии Zobellia galactanivorans, открытые лишь в начале текущего века, водорослями питаются с незапамятных времен. Представьте себе Zobellia несколько столетий назад: сидит себе спокойно, пожевывает водоросли… И вдруг ее мир переворачивается с ног на голову: какой-то рыбак забирает ее ужин вместе с ней самой и готовит пасту нори. Семейство рыбака эту пасту ест и вместе с ней проглатывает бактерию. Она оказывается в совершенно новом для себя окружении: вместо прохладной соленой воды теперь желудочный сок, а на смену ее морским товарищам пришли какие-то странные, незнакомые ребята. Ну что же, Zobellia с ними знакомится и, как это принято у бактерий, обменивается генами.
Эту душещипательную историю мы знаем благодаря Яну-Хендрику Хейеманну: именно он обнаружил ген, явно принадлежащий Zobellia, в бактерии Bacteroides plebeius[314], проживающей в человеческом кишечнике. Это открытие стало настоящей сенсацией: что морской ген мог забыть в кишках у сухопутного человека? Разгадка кроется в горизонтальном переносе. Zobellia не адаптирована для жизни в кишечнике, и ее круиз на нори длился недолго, однако за проведенное там время она вполне могла поделиться с B. plebeius своими генами, в том числе теми, что производят необходимые для переваривания морских водорослей ферменты – порфираназы. Кишечный микроб, который приобрел эти гены, получил возможность использовать углеводы, попадающие в пищеварительную систему вместе с нори, – то есть у него появился новый источник энергии, недоступный для его сородичей. Хейеманн выяснил, что в этом микробе много генов, характерных не для других кишечных бактерий, а именно для морских микроорганизмов. Благодаря постоянному заимствованию у них генов этот микроб научился переваривать морские водоросли[315].
Впрочем, морские ферменты прикарманивает не только B. plebeius. Японцы едят нори на протяжении стольких лет, что пищеварительные гены, полученные от морских микроорганизмов, прямо-таки цветут на их кишечных бактериях. Однако вряд ли эти миграции происходят до сих пор: нынче повара подвергают нори такой термообработке, что микробам на водорослях уже не покататься. Гурманы прошлых лет ели водоросли сырыми, так что бактерии спокойно попадали в их организмы, а затем уже их микробы, приобретя гены крушащих водоросли порфираназ, переходили по наследству детям этих гурманов. Хейеманн заметил, что признаки такого наследования проявляются и в наши дни. Среди людей, на которых проводились исследования, была питающаяся материнским молоком малышка. Она никогда не пробовала суши, но бактерии в ее кишечнике содержали ген, вырабатывающий порфираназы. В ее организме уже имелось все необходимое для переваривания нори.
Открытие Хейеманна было опубликовано в 2010 году и до сих пор является одной из самых поразительных историй о микробиоме. Японские гурманы, просто поедая водоросли столетия назад, устроили пищеварительным генам потрясающий вояж с моря на сушу. Эти гены горизонтально переместились от морских микроорганизмов к кишечным, а затем вертикально – от одного кишечника к другому. Возможно, на этом их путешествие не закончилось. Поначалу Хейеманн нашел гены, вырабатывающие порфираназы, в микробиомах японцев, а у американцев их не было. Сейчас ситуация изменилась: у некоторых американцев, даже у тех, кто не имеет предков в Восточной Азии, эти гены в геноме отчетливо присутствуют[316]. Как такое могло произойти? B. plebeius взяла и перепрыгнула из японских кишечников в американские? Или эти гены попали в организм через других морских микробов, решивших украсить собой блюда с морепродуктами? Жители Уэльса и Ирландии давно используют водоросль Porphyra для приготовления традиционного лавербреда – может, именно они перевезли порфираназы через Атлантический океан? Пока ответа на этот вопрос не знает никто. Но, по словам Хейеманна, все говорит о том, что, «попав в организм первого носителя, где бы это ни случилось, гены могут распространиться и по другим организмам».
Это превосходный пример того, насколько горизонтальный перенос может ускорить адаптацию. Людям не пришлось ждать, пока эволюция дарует им ген, подходящий для усвоения углеводов из морских водорослей: достаточно проглотить побольше микробов с этим геном, и вероятность того, что наши бактерии и сами научатся переваривать водоросли, будет очень велика.
Эрик Элм из Массачусетского технологического института, прочитав об открытии Хейеманна, задумался: а сможет ли и он отыскать подобные примеры? Он просмотрел геномы более 2200 видов бактерий в поисках длинных и практически идентичных последовательностей, окруженных совершенно разными генами. Вряд ли такие похожие островки были переданы от материнской клетки к дочерней – скорее всего, здесь был замешан горизонтальный перенос генов, причем недавний. Научная группа Элма обнаружила более 10 тысяч таких отрывков – вот как распространен горизонтальный перенос[317]. Тогда же было показано, что в теле человека такие обмены происходят исключительно часто. Вероятность обнаружения одних и тех же генов у взятых из человеческого микробиома пар бактерий оказалась в 25 раз больше, чем у пар из любой другой среды.
И это абсолютно логично, ведь горизонтальный перенос генов зависит от близости микроорганизмов друг к другу, а наши тела устроены так, что микробы в них собираются тесными кучками. Говорят, что города – центры инноваций, так как люди в них концентрируются в одном месте, что позволяет быстрее делиться идеями и информацией. Аналогично тела животных являются центрами генетических инноваций, ведь чем ближе микробы друг к другу, тем проще им обмениваться генами. Закройте глаза и представьте, как по вашему телу от микроба к микробу перемещаются моточки генов. Все мы являемся своего рода рынками, на которых бактерии обмениваются своими генетическими товарами.
Раз уж у нас в организме столько микробов, значит, их гены наверняка должны попадать в наш геном[318]! Долгое время считалось, что никуда они не попадают, а геном животных – неприступная святыня, защищенная от генетической беспорядочности микробов. В феврале 2001 года эти убеждения немного пошатнулись – был опубликован первый вариант расшифрованного человеческого генома. Из тысяч идентифицированных генов 223 были и у бактерий, зато их не было у других сложных организмов – мух, червей и дрожжевых грибов. Ученые из проекта «Геном человека» написали, что эти гены, вероятно, появились в результате горизонтального переноса генов от бактерий. Однако спустя всего четыре месяца это смелое утверждение опровергли. Еще одна группа исследователей показала, что этими генами, скорее всего, обладали какие-то ранние организмы, чьи потомки в большинстве своем их утратили – так была создана иллюзия горизонтального переноса, но на самом деле его не происходило[319]. Отношение к самому явлению горизонтального переноса из-за этого охладело. Люди начали сомневаться в том, что перенос генов между бактерией и животными вообще возможен.
Недоверие продлилось еще несколько лет. В 2005 году микробиолог Джули Даннинг-Хотопп обнаружила гены вездесущей вольбахии в геноме гавайской мушки Drosophila ananassae[320]. Сначала она решила, что эти гены принадлежали живым вольбахиям, которые зачем-то прятались в мушиных телах. Однако гены остались на своем месте и после обработки дрозофил антибиотиками. Помаявшись несколько месяцев, она поняла, что гены стали неотъемлемой частью ДНК мушки. Потом она обнаружила схожие последовательности в геномах еще семи животных – круглого червя, комара, наездников и других мушек. Вольбахия словно разбрызгала свою ДНК по всему древу жизни! Большинство фрагментов ДНК были довольно короткими, за одним исключением: в геноме D. ananassae присутствовал весь геном вольбахии. Значит, не так давно вольбахия поделилась с этим хозяином всем своим генетическим материалом. В этой мушке оказалось все, чем бактерия является, вся ее генетическая сущность. Из всех примеров горизонтального переноса генов этот – один из самых впечатляющих. Пожалуй, это хологеном в наивысшем своем проявлении: гены животного и микроба соединились в одном существе.
Даннинг-Хотопп опубликовала результаты своего эксперимента с очевидным выводом: гены перемещаются от бактерий и животным. Более того, от самых распространенных симбионтов они переходят к самым многочисленным животным. Признаки горизонтального переноса генов от вольбахии выявлены в геномах 20–50 % насекомых – а это очень много! «Считается, что горизонтальный перенос происходит редко и не играет особой роли, но эту точку зрения необходимо пересмотреть», – написала она[321].
Нет, происходит он, конечно же, не редко[322]. Но действительно ли он важен? Наличие гитары у человека в спальне не делает из него Слэша. Здесь то же самое – наличие в геноме гена ни о чем не говорит, ведь он может просто там находиться и ничего не делать. Скорее всего, большая часть фрагментов ДНК вольбахии и есть обычный балласт, практически не оказывающий влияния на хозяев. Небольшая часть этих генов находится во включенном состоянии, но и это не значит, что они функционируют, – в клетке постоянно происходит какая-то деятельность просто для виду, гены просто так включаются и не используются. На самом деле есть лишь один способ проверить, заняты ли гены чем-то полезным, – узнать, чем именно. В некоторых случаях это возможно.
Галловые нематоды – это микроскопические черви, поражающие растения, да так эффективно, что ежегодно уничтожают около 5 % урожая во всем мире. Они, как вампиры, прокусывают клетки корней растений своими ротовыми органами и высасывают их содержимое. Это сложнее, чем кажется: оболочка растительной клетки состоит из целлюлозы и других прочных веществ, так что, прежде чем приняться за вкусный бульон, ожидающий их внутри, нематоды смягчают и разрушают эти барьеры с помощью специальных ферментов. Эти ферменты они создают с помощью заложенных в геноме инструкций – у одного вида может быть более 60 генов для проникновения в растения. Странно, ведь такие гены – удел грибов и бактерий, у животных их вообще быть не должно, тем более в таких количествах. А у нематод они есть.
Гены нематод, позволяющие им проникать в клетки растений, явно бактериального происхождения[323]. Они не похожи на гены других нематод, однако подобные им гены есть у микробов, обитающих на корнях растений. В отличие от большинства генов, полученных путем горизонтального переноса, которые не играют никакой роли или чья роль нам пока неизвестна, цель приобретений нематод ясна. Нематоды запускают их в глоточных железах, чтобы создать команду ферментов-подрывников, которую они затем отправляют бомбить корни. На этом основан весь их образ жизни. Без полученных генов паразиты из этих маленьких вампирчиков были бы не ахти.
Никто не знает, откуда у них вообще появились гены бактерий, но на основании того, что нам известно, можно попробовать догадаться. Галловые нематоды – близкие родичи круглых червей, живущих около корней растений и питающихся бактериями. Возможно, представители этих других нематод употребляли в пищу микробов, способных поражать растения, и со временем у них появились гены, позволяющие им делать то же самое. В итоге эти обитатели почвы и любители бактерий на обед стали грозой растений и ненавистными врагами сельского хозяйства.
Кофейный жучок Hypothenemus hampei своими разрушительными способностями тоже обязан горизонтальному переносу генов[324]. Этот вредитель, напоминающий черную кляксу, обезвреживает кофеин в кофейных зернах с помощью кишечных микробов – мы об этом уже знаем из предыдущей главы. А еще он включил в свой геном бактериальный ген, который позволяет личинкам этого жука пожирать углеводы, содержащиеся в кофейных зернах. У других насекомых ничего подобного нет и никогда не было, даже у родственных кофейному жучку видов, – этот ген есть только у бактерий. Он внедрился в геном ничего не подозревающего жучка, тот передал его другим жучкам, они распространились по кофейным плантациям и вскоре стали сниться в кошмарах любителям эспрессо во всем мире.
Да, у фермеров есть все причины ненавидеть горизонтальный перенос – но и любить тоже. Так, гены, полученные наездниками браконидами, сделали их отличными помощниками в дезинсекции. Самки браконид откладывают яйца в живых гусениц, а вылупившиеся из них личинки этих гусениц пожирают. Чтобы помочь деткам, самки еще и впрыскивают в гусениц особые вирусы для ослабления иммунной системы, так называемые браковирусы. Это не просто союзники наездников – это их часть. Гены этих вирусов вошли в геном браконид и находятся под полным его контролем. Самка наездника при создании вирусов обеспечивает их генами, необходимыми для нападения на гусеницу, но не предоставляет те, что нужны для размножения или перехода к другим хозяевам[325]. Браковирусы – настоящие одомашненные вирусы! Для размножения они полностью полагаются на наездников. Можно даже сказать, что они уже не совсем вирусы, ведь они больше похожи на секрет, выделяемый наездником, чем на отдельные организмы. Скорее всего, они произошли от древнего вируса, чьи гены забурились в ДНК предковой бракониды и решили там остаться. Это слияние привело к появлению более 20 тысяч видов браконид, и у всех них в геноме есть браковирусы – это целая династия паразитов с мощнейшим биологическим оружием из вирусов-симбионтов[326].
Некоторые животные используют гены, приобретенные путем горизонтального переноса, для защиты от паразитов. Это вполне логично – в конце концов, антибиотики мы получаем именно из бактерий. Микроорганизмы воюют друг с другом на протяжении миллиардов лет, а их генетическому оружию, изобретенному за все это время, можно только позавидовать. Семейство генов tae, к примеру, вырабатывает белки, которые протыкают внешние оболочки бактерий и тем самым вызывают смертельные протечки. Эти гены были разработаны микробами для борьбы с другими микробами, но потом они появились и у животных – например, у скорпионов и клещей. Также этими генами могут похвастаться актинии, устрицы, дафнии, морские блюдечки и даже ланцетники – близкие родственники позвоночных, в том числе и нас с вами[327].
Гены семейства tae легко поддаются горизонтальному переносу. Они вполне самодостаточны и не нуждаются в помощи других генов для нормальной работы. А еще они полезны, потому что производят антибиотики. Бороться с бактериями приходится всем живым организмам, так что любые гены, способные в этом помочь, жаловаться на безработицу не будут точно. Если такой ген попадет в иной организм, у него будут все шансы занять высокую позицию в геноме нового носителя. Эти генные прыжки впечатляют еще и потому, что, несмотря на весь наш хваленый интеллект и технологии, мы с большим трудом создаем новые антибиотики – ничего принципиально нового мы не открывали уже несколько десятилетий. А вот животные попроще, такие как клещи и актинии, производят свои: нам требуются годы исследований и экспериментов, а у них раз – и готово, все благодаря горизонтальному переносу генов.
Вы можете решить, что горизонтальный перенос – это некое волшебство, дарующее микробам и животным невиданную мощь, но на деле все может оказаться совсем наоборот. Процесс, который наделяет животное микробными способностями, самих микробов может уничтожить – да так, что останутся от них только гены.
На своем примере нам это покажет существо, которое обитает на полях и в теплицах по всему свету и дико злит фермеров и садовников своим присутствием. Это цитрусовый червец: мелкое насекомое с хоботком, напоминающее перхоть с лапками или мокрицу, побывавшую в мешке с мукой. Пауль Бухнер, известный своими работами о симбиозе, навестил этих прелестных созданий во время своего путешествия по миру насекомых. То, что он нашел в их клетках бактерий, никого не удивило, а вот «округлые или овальные слизистые глобулы, в обильных количествах содержащие симбионтов», выглядели необычно. Этим глобулам пришлось ждать своего звездного часа аж до 2001 года – именно тогда ученые выяснили, что это не просто домики для бактерий. Это и есть бактерии.
Цитрусовый червец – это самая настоящая матрешка. В его клетках живут бактерии, а в этих бактериях тоже живут бактерии[328]. Тех, что побольше, назвали Tremblaya – в честь итальянского энтомолога Эрменеджильдо Тремблэ, ученика Бухнера. Тех, что поменьше, – Moranella, в честь специалиста по тлям Нэнси Моран. («То чувство, когда в твою честь называют жалкую букашку», – смеясь, сказала мне Нэнси.)
Джон Маккатчен выяснил истоки столь странного сосуществования, и сюжет у этой истории просто удивителен. Для начала Tremblaya попадает в организм цитрусового червеца, остается там жить и, как и многие другие симбионты, со временем теряет необходимые для самостоятельной жизни гены. В новом удобном домике эти гены ей все равно не нужны. Когда к ней присоединяется Moranella, Tremblaya может позволить себе избавиться еще от некоторых генов – в полной уверенности, что работу, для которой они нужны, возьмет на себя новичок. Покуда ген есть у одного партнера, другой спокойно от него избавляется. И здесь горизонтальный перенос тоже может иметь место, только теперь он не похож на тот, что превратил нематод в растительноядных паразитов, или на тот, что добавил в геном клеща гены-антибиотики. В данном случае никто никаких новых полезных навыков не получает. Горизонтальный перенос выполняет другую функцию – он словно спасает гены с тонущего корабля: благодаря ему сохраняются те гены, которых ждало неизбежное разрушение из-за симбиоза.
Представим, как эти три товарища вместе создают питательные вещества. Для производства аминокислоты фенилаланина им потребуется 9 ферментов. Tremblayaможет изготовить первый, второй и с пятого по восьмой, Moranella – с третьего по пятый, а цитрусовый червец – девятый. Ни сам червец, ни бактерии не способны сами построить аминокислоту, так что они могут полагаться лишь друг на друга. Они напоминают мне о Грайях, сестрах из греческих мифов: у них был один глаз и один зуб на троих, и этого им хватало, чтобы видеть и жевать, никаких излишеств. Так же и у червеца с его симбионтами. У них на троих один метаболизм, распределенный между тремя комплементарными геномами. В арифметике симбиоза 1+1+1 может равняться единице[329].
Этим объясняется и еще кое-что немыслимое в геноме Tremblaya – в нем отсутствует класс древнейших генов, которые считаются необходимыми для всего живого. Они имелись у последнего общего предка всех живых организмов на Земле, а сейчас их можно найти везде – от бактерий до синих китов. Из всех генов эти самые важные для жизни и самые незаменимые. Всего их 20. Некоторые симбионты утратили несколько штук. У Tremblaya их вообще нет, а она все равно умудряется выжить – все благодаря тому, что ее партнеры, насекомое-хозяин и бактерия у нее внутри, эти гены ей компенсируют.
А куда же они девались? Мы уже знаем, что бактериальные гены часто мигрируют в геномы хозяев. И разумеется, изучив геном цитрусового червеца, Маккатчен наряду с его собственными генами обнаружил 22 бактериальных. Однако, к его удивлению, оказалось, что ни Tremblaya, ни Moranella к ним отношения не имеют. Ни к одному. Эти гены попали туда от еще трех видов бактерий – все трое до сих пор населяют клетки насекомых, а в клетках цитрусового червеца на данный момент нет ни одного из них[330].
Получается, что в этом насекомом присутствуют кусочки пяти бактерий – двух съежившихся и зависимых друг от друга, что устроились у него в клетках, и еще как минимум трех, что когда-то обитали в его организме, но давно его покинули.
Оставленные ими гены – призраки симбиотического прошлого – не просто торчат в геноме червеца без дела. Одни вырабатывают аминокислоты, другие помогают с созданием крупной молекулы под названием пептидогликан. Это странно, ведь животные ее не используют – это бактериальная молекула, из нее получается толстая оболочка, удерживающая внутренности бактерии внутри[331]. Вот только Moranellaутратила гены для производства пептидогликана. Оболочку себе она создает благодаря бактериальным генам, подаренным червецу его прежними симбионтами.
Вот Маккатчен и думает: а может ли червец специально дестабилизировать Moranella, снижая поставки пептидогликана? Без этого вещества Moranella в конце концов лопается и освобождает белки, которые она создавать умеет, а Tremblaya – нет. Возможно, за счет этого Tremblaya и выживает – не забывайте, что у нее отсутствуют гены, которые считаются необходимыми. «Это всего лишь домыслы, – оправдывается Маккатчен. – Дурацкая теория, но пока я ничего лучше не придумал». Он рассказывает о ней трепетно, сумбурно и даже смущенно, словно его открытия настолько странные, что он и сам в них не верит. А они есть.
Хоть имеющиеся данные и рассказывают порой сказки с неправдоподобными сюжетами, но они не лгут. Они указывают на то, что цитрусовый червец состоит из шести видов, пять из которых – бактерии, трех из которых там вообще нет. С помощью генов, взятых у прежних симбионтов, он контролирует, укрепляет и дополняет связь между нынешними партнерами, один из которых живет у другого внутри[332].
Не все симбионты связаны со своими хозяевами так крепко. В организмах тлей, например, помимо вездесущей Buchnera обитают еще несколько видов бактерий. Эти «второстепенные симбионты» уступают Buchnera в преданности. У одних популяций тли часто встречаются сразу три вида, у других – ни одного.
Нэнси Моран, заметив эти особенности, поняла, что такие микробы не могут обеспечивать тлей необходимыми питательными веществами, иначе они присутствовали бы в их организмах всегда. А значит, скорее всего, они оказывают тлям услугу, в которой они нуждаются лишь время от времени. Они во многом напоминают вариации человеческого генома, влияющие на риск развития у нас заболеваний. У некоторых из нас, к примеру, есть мутация, из-за которой красные кровяные тельца меняют форму – из сплющенных таблеток превращаются в тонкие серпы. У такой мутации есть своя цена – при наследовании двух ее копий у человека развивается серповидноклеточная анемия, крайне тяжелое заболевание. Зато одна копия дает носителям устойчивость к малярии – у ее переносчиков плохо получается заражать клетки искаженной формы. Эта мутация встречается у 40 % жителей стран Центральной Африки, где опасность заразиться малярией крайне велика. Там, где малярия встречается редко, серповидных эритроцитов почти не бывает. Частота защищающей от чего-то мутации зависит от того, насколько сильно ее носителям это «что-то» угрожает. Моран решила, что, возможно, и второстепенные симбионты тлей представляют собой нечто подобное. Возможно, они защищают тлей от природного врага. Если этот враг встречается редко, их услуги не требуются и число их падает. А если часто – их становится много.
Но что это за враг такой? У тли их полно. Ее ловят пауки, заражают грибки, пожирают божьи коровки и златоглазки… Но самая большая опасность, пожалуй, исходит от паразитоидов, что откладывают свое будущее потомство прямо в тела других насекомых. Столь омерзительный для нас стиль жизни на самом деле на удивление широко распространен. Паразитоидным является каждый десятый вид насекомых, в том числе наездники бракониды с одомашненными вирусами. Один из видов браконид – стройное черное насекомое по имени Aphidius ervi – поражает именно тлей. Да так эффективно, что фермеры начали специально выпускать наездников на поля с урожаем. В интернете несколько сотен наездников можно заказать фунтов за двадцать.
У разных тлей разная степень устойчивости к наездникам. Одни прекрасно с ними справляются, другие сразу опускают лапки и сдаются. Многие ученые считали, что все зависит от собственных генов тлей, но Моран задумалась: а может, и здесь замешаны симбионты? Проверить эту гипотезу она предложила аспиранту Керри Оливеру[333]. Шансов на успех было мало – в те времена никто даже предположить не мог, что симбионты способны защитить хозяина от паразитов. Сама мысль об этом казалась ерундой. Моран не особенно верила, что эксперимент принесет хоть какие-то результаты.
С помощью микроскопа, иглы и растущих из плеч рук Оливер извлек симбионтов из разных видов тлей и ввел их представителям одной конкретной линии. Затем он напустил на этих тлей A. ervi. Спустя неделю садки были усеяны трупиками тлей и молодыми наездниками. Однако одна группа оказалась на удивление устойчивой. Наездники все так же откладывали яйца в тлей, но тлиный симбионт каким-то образом убивал их личинок. При вскрытии, как правило, внутри тли оказывался мертвый или умирающий детеныш бракониды. Другими словами, безумная теория оказалась верна – один из микробов тли работал телохранителем и расправлялся с наездниками. Ученые назвали его Hamiltonella defensa[334].
Если так подумать, в существовании микробов-защитников нет ничего необычного. Защита хозяина от различных угроз – очевидный способ обеспечить выживание самому себе. Бактериям это под силу, ведь они замечательно справляются с созданием антибиотиков. Но Hamiltonella defensa антибиотики не делает. После секвенирования генома Hamiltonella стало ясно, в чем заключаются охранные способности бактерии: ее ДНК почти наполовину состоит из ДНК вируса. Это был фаг – тот самый любитель слизи на тощих ножках, мы уже таких встречали. Обычно фаги размножаются внутри бактерии и выходят гурьбой наружу, разрывая ее насмерть в клочья. Но иногда они решают, что им больше по душе пассивный образ жизни, интегрируют свою ДНК в геном бактерии и остаются там на многие поколения. Сейчас в Hamiltonella прячутся десятки таких фагов[335].
Эти вирусы – своего рода кулаки Hamiltonella: именно благодаря им она стала телохранителем. Оливер выяснил, что если Hamiltonella носит в себе определенный штамм фага, то тлям можно вообще не бояться наездников. Без вируса она становится бесполезной – почти все тли оказываются жертвами наездников, и в этом случае им без разницы, есть у них Hamiltonella или нет. Возможно, фаги отравляют наездников напрямую – они в больших количествах производят токсины, поражающие клетки животных, но не наносящие при этом никакого вреда тлям. А может, они разрывают Hamiltonella изнутри – тогда бактериальные токсины выплескиваются прямо на наездников. Не исключено, что вещества и вируса, и бактерии работают вместе. Как бы там ни было, ясно одно: насекомое, бактерия и вирус объединились против паразита-наездника, что угрожал всем троим.
И союз у них получился довольно гибкий. У разных тлей разный уровень избавления от наездников, ведь они являются носителями разных штаммов Hamiltonella, а бактерия обеспечивает разную степень защиты в зависимости от фага, который в ней обитает. Эти микроскопические партнеры, как и серповидная аномалия эритроцитов, работают не за спасибо. При определенной температуре тли с телохранителями почему-то меньше живут, и детенышей у них не так много, как у других тлей. Если вокруг много наездников, на такую цену вполне можно согласиться, но если нет, она становится слишком высока – тогда прощай симбионт. А еще, если тлей регулярно пасут муравьи (ради выделяемой тлями сладкой жидкости, которая муравьям очень нравится), вероятность того, что они избавятся от симбионта, выше – муравьи сами предоставят им все необходимые услуги по защите от наездников. Вот почему Hamiltonella в организме тли – гость, а не житель. Когда в ней есть необходимость, она заходит. Фаги тоже не постоянно находятся в организме Hamiltonella. В природных условиях они нередко куда-то исчезают, почему – пока непонятно. Их отношения динамичны: благодаря естественному отбору они сами настраиваются на нужный, соответствующий угрозе уровень.
Но как Hamiltonella вообще попадает в тлю? Вот у тли все хорошо, она рассталась с бактерией – как бактерия узнает, что тля снова в беде и ее пора выручать? Моран считает, что один из возможных вариантов – это секс. Hamiltonella и другие защитные симбионты содержатся у самцов в сперме. Во время полового акта они передают бактерий самкам, а те уже прививают потомство. И поскольку самки внезапно получают неуязвимость к нападениям наездников, это делает Hamiltonella самой настоящей диковинкой – желанной венерической инфекцией[336].
Подхватив Hamiltonella половым путем, тля не включает ДНК бактерии в собственный геном. Тем не менее она получает большой набор бактериальных генов в оригинальной упаковке. Это тоже своего рода горизонтальный перенос, только уже генома, а не гена. Благодаря включению в себя целого микроба животное получает возможность адаптироваться к новым задачам очень быстро, если не мгновенно.
Вместо того чтобы накапливать мутации в геноме на протяжении десятков поколений, тля при необходимости собирает микробов, уже приспособленных к решению нужных задач[337]. Вместо того чтобы обучать уже имеющихся работников выполнять новые задания, она просто нанимает новичков, уже умеющих с ними справляться. Скорее всего, претенденты уже есть – бактерии куда более разносторонни, чем мы. Они – гении метаболизма, способные переварить что угодно, от урана до нефти. Они – мастера фармакологии, умеющие создавать вещества для убийства друг друга. Хотите защититься от другого существа или включить в рацион новое блюдо? Можете быть уверены, что существует микроб с необходимыми для этого навыками. А если и не существует, то скоро появится: эти ребята быстро размножаются и охотно обмениваются генами. Они в великой эволюционной гонке бегут, а мы ползем. Зато у нас есть шанс немного их догнать, заключив с ними союз. Другими словами, благодаря бактериям мы можем более-менее прилично этих самых бактерий имитировать.
Именно это случилось, когда в организм пустынного хомяка попали микробы, позволяющие ему обезвреживать яд в креозотовой смоле. Именно это происходит, когда японские клопы, питающиеся бобовыми, поглощают разрушающих инсектициды микробов и становятся неуязвимыми для токсичного дождя, что регулярно устраивают фермеры. И именно этим тли занимаются постоянно. У них помимо Hamiltonella еще как минимум восемь второстепенных симбионтов. Одни защищают хозяев от несущего погибель грибка. Другие помогают им справляться с перепадами температуры. Одна из бактерий позволяет тлям питаться определенными растениями, например клевером. Другая придает красной особи зеленую окраску. Все эти способности имеют для тлей большое значение. Как правило, приобретение новых симбионтов в семействе тлей совпадает по времени с переселением в места с непривычными погодными условиями или с переходом на новые виды растений[338].
Все эти изменения принципиально укладываются в дарвиновскую теорию. Стоит напомнить, что ни в коем случае нельзя считать быстрые или мгновенные скачки эволюции опровержением медленных, постепенных изменений, о которых говорил Дарвин: эти скачки все так же основаны на градуализме. Пустынные хомяки научились противостоять креозотовой смоле, приобретя нужных бактерий, а вот штаммам бактерий учиться расщеплять вредные вещества пришлось самим. С их точки зрения эволюция происходила постепенно, как и должна происходить, а вот с точки зрения хозяина все случилось моментально. В этом и заключается мощь симбиоза – благодаря ему постепенные мутации микробов провоцируют моментальное появление мутаций у хозяев. Всю нудную работу за нас делают бактерии, а мы с ними встречаемся, заключаем союз и быстренько меняемся сами. И если наш союз окажется достаточно выгодным, вскоре он распространится по всему виду.
По североамериканскому лесу с веселым жужжанием летит плодовая мушка. Вот она почуяла что-то вкусненькое – ух ты, да это грибочек выглянул из-под опавших листьев! Она на него садится и, отобедав, начинает откладывать яйца. Все это время мушка, сама того не замечая, заражает гриб паразитическими нематодами Howardula. Они размножаются прямо внутри гриба, а потом находят растущую рядом личинку мушки. Мушка вырастает и отправляется на поиски нового гриба, прихватив с собой запас червей.
Джон Дженайк занялся изучением Howardula в 1980-х. Тогда он заметил, что черви для плодовых мушек ноша крайне тяжелая. Из-за них насекомые быстрее умирают, самцам становится сложнее найти себе пару, а самки вообще оказываются бесплодными. По сути, они превращаются в самолетики для червей. С приходом нового тысячелетия все изменилось: Дженайку стали попадаться зараженные самки, наполненные яйцами до отказа – откладывай не хочу. Дженайк – большой поклонник вольбахии, а она как раз поражает плодовых мушек. Он, естественно, задумался: а может, она защищает их от паразитов? И оказался наполовину прав: мушки действительно находились под защитой симбионтов, но на этот раз – в кои-то веки! – вольбахия оказалась не при делах. Вместо нее на страже стояла спиралевидная малютка по имени Spiroplasma.
История мушек, червей и спироплазмы необычна не своим сюжетом и персонажами, а тем, что Дженайк смог пронаблюдать, как она пишется. Он провел анализ выставленных в музее образцов мушек, пойманных в 1980-х, – спироплазмой там и не пахло. А вот в 2010 году он обнаружил эту бактерию у 50–80 % мушек на востоке Северной Америки, причем она уже и на запад начала продвигаться. К 2013 году она пересекла Скалистые горы. «Лет через десять она и до Тихого океана доберется», – уверен Дженайк[339].
Несмотря на эти недавние результаты, союз спироплазмы и плодовой мушки был заключен уже достаточно давно. По подсчетам Дженайка, спироплазма впервые оказалась в организме мушки несколько тысяч лет назад, но не стала особо распространяться. Потому-то он и не смог ее найти в образцах 1980-х годов. Распространилась она лишь недавно – как раз когда нематоды Howardula покинули Европу и переселились в Северную Америку. Вскоре паразитические черви, оседлав мушек и сделав их бесплодными, оказались вообще везде. Мушкам срочно понадобилось что-то с этим делать, и тут на помощь пришла спироплазма. Она снова позволила хозяевам расплодиться и вытеснить своих бесплодных собратьев. Эти крошечные спасители передавались от родителей к потомству, так что с каждым поколением инфицированных мух становилось все больше. Дженайк их заметил как раз в нужный момент. «Я чуть в своей адекватности не засомневался, – радуется он. – Ну как мне могло так повезти?»
Тут его коллеги начали натыкаться и на другие случаи, которые считались редкими и уникальными. Бактерия Rickettsia, например, всего за шесть лет поселилась во всех табачных белокрылках США, сделав их более стойкими и плодовитыми[340]. Мы, как правило, видим лишь последствия этих союзов. Мы видим червей, моллюсков и других животных, обитающих в самых глубоких местах океана, стада травоядных млекопитающих, объедающих растительность в саваннах, и неисчислимые стаи букашек, высасывающих соки растений, – и все они живут и процветают в своих нишах благодаря микробам. А раз эти союзы явно заключаются достаточно часто, то у ученых периодически появляется возможность взглянуть на их зарождение – надо лишь оказаться в нужное время в нужном месте[341].
Мир вокруг нас – огромное хранилище потенциальных компаньонов, имя которым – микроорганизмы. Все, что попадает к нам в желудок, может принести с собой сюрприз в виде новых микробов, которые смогут переварить неусвояемые прежде ингредиенты, обезвредить яд в несъедобном прежде продукте или убить паразитов, прежде убивавших нас. Каждый новый такой товарищ может помочь нам чуть больше съесть, чуть дальше пройти и чуть дольше прожить.
Большинство животных не имеют возможности порыться в исходном коде таких адаптаций и выбрать себе то, что нужно. Плодовые мушки не занимались поисками спироплазмы, чтобы разрешить вопрос с червями. Пустынные хомяки не выискивали расщепляющих креозотовую смолу микробов, чтобы разнообразить свое питание. Им приходится надеяться лишь на удачу. Нам, людям, с этим куда проще. Мы можем придумывать новое, планировать и решать проблемы, а еще у нас есть огромное преимущество перед другими животными: мы знаем, что микробы существуют! У нас даже есть инструменты, с помощью которых мы их видим. Мы умеем их выращивать. Мы обладаем всеми возможностями для того, чтобы расшифровать законы, управляющие их существованием, и понять природу нашего с ними сотрудничества. И это позволяет нам контролировать такое сотрудничество. Мы можем заменить слабые сообщества микробов на более сильные, улучшающие здоровье. Мы можем создавать новые симбиозы для борьбы с болезнями. А также разорвать давние союзы, которые ставят наши жизни под угрозу.
Глава 9. Микробы на заказ
Все начинается с укуса. Комар садится мужчине на руку, втыкает хоботок в его плоть и начинает сосать. В насекомое попадает кровь, а в руку – множество крошечных паразитов. Это личинки филярий. Микроскопические круглые черви по кровотоку направляются к лимфоузлам в ногах и половых органах человека. За год они превращаются во взрослых особей и начинают спариваться друг с другом, ежедневнопроизводя тысячи новых личинок. Врач бы заметил на УЗИ, как они там копошатся, но зараженному человеку к нему идти незачем – хоть у него внутри и оказались миллионы паразитов, никаких симптомов нет. Однако в конце концов они появляются. Погибая, черви провоцируют воспаление и блокируют течение лимфы, которая начинает скапливаться под кожей человека. Его конечности и пах распухают до огромных размеров. Бедро становится толщиной с туловище, а мошонка – размером с голову. Он больше не может работать, даже встать для него теперь проблема. От этого увечья и, соответственно, от косых взглядов ему теперь не избавиться до конца жизни. Этим мужчиной может оказаться фермер в Танзании, рыбак в Индонезии или пастух в Индии. Это не имеет значения, ведь теперь он – один из миллионов больных лимфатическим филяриозом.
Это заболевание, известное также как элефантиаз или слоновая болезнь из-за ужасающих опухлостей, к которым оно приводит, поражает людей в тропиках. Его вызывают три вида нематод – Brugia malayi, Brugia timori, а главное – Wuchereria bancrofti. Родственный им вид Onchocerca volvulus вызывает похожее заболевание – онхоцеркоз. Его переносчики – мошки, а не комары, и поражает он не лимфоузлы, а более глубокие ткани. Самки этого червя погружаются в жилистую, волокнистую плоть и вырастают там до 80 сантиметров в длину. Их личинки отправляются к коже, где вызывают нестерпимый зуд, или к глазам, где уничтожают сетчатку и зрительный нерв. Потому-то онхоцеркоз в народе и называют «речной слепотой».
Эти патологии, вместе известные как филяриоз, относятся к самым распространенным в мире – ими болеют более 150 миллионов людей, а еще полтора миллиарда рискуют заразиться[342]. До недавнего времени эти болезни считались неизлечимыми. Существовали лекарства для убийства личинок и снятия симптомов, но взрослые особи на редкость устойчивые – против них лекарства были бесполезны. Продолжительность жизни у этих видов – десятки лет, что для нематод крайне долгий срок, так что больным приходится проходить регулярную терапию. «Из всех тропических заболеваний эти два, пожалуй, самые тяжелые», – говорит Марк Тейлор, одетый с иголочки седовласый паразитолог.
Тейлор взялся за исследование филярийных инфекций в 1989 году – его привлекла их тяжесть. Человека может поразить множество нематод, но они, как правило, вызывают не особенно заметные симптомы. Почему же нематоды, стоящие за филяриозом, провоцируют столь болезненное воспаление? Оказывается, у них есть помощник, причем мы с ним уже знакомы. В 1970-х годах исследователи рассмотрели этих червей под микроскопом и обнаружили в них структуры, напоминающие бактерий[343]. До 1990-х годов о них благополучно забыли, зато потом выяснилось, что это Wolbachia – та самая бактерия, что включила свои гены в геном гавайских мушек, убивает самцов лунной бабочки и обитает в двух из трех видов насекомых в мире.
Та вольбахия, что поселилась в нематодах, представляет собой сжатую версию вольбахии других насекомых. Она утратила треть своего генома и навсегда стала частью организма хозяина. Нематоды тоже оказались в плену симбиоза – без бактерий они по не совсем понятным причинам не могут завершить свой жизненный цикл, а также спровоцировать тяжелое заболевание. При гибели червя вольбахия оказывается одна в человеческом теле. Поражать клетки человека она не умеет, зато вызвать иммунную реакцию – это запросто, причем не такую, как червь. По словам Тейлора, мощными симптомами филяриоз обязан совокупности реакций иммунной системы на самого червя и на его симбионтов. Увы, это означает, что гибель червей приводит к ухудшению состояния больного, ведь в предсмертных муках они выпускают наружу все свои запасы вольбахии. «Лимфоузлы разрываются, и в паховой области начинается воспаление, – с мрачным видом объясняет Тейлор. – Вам такого не нужно. Лучше убивать червей постепенно, а как это сделать с помощью противонематодных препаратов – непонятно».
Есть и другой вариант. Почему бы не оставить червей в покое и не приняться за вольбахию?
В лабораторных исследованиях Тейлор и другие выяснили, что черви погибают, если обработать их антибиотиками и убить вольбахию. Личинки не созревают, а взрослые особи теряют способность размножаться. Через некоторое время их клетки самоликвидируются. Расставание для этих партнеров – не вариант: если их симбиотическая связь нарушится, погибнут оба. Этот процесс занимает много времени, порой до 18 месяцев, но медленная смерть – тоже смерть. Поскольку у червей не остается вольбахий, их можно уничтожать без всяких опасений.
В 1990-х Тейлор с коллегами решили применить результаты исследования на практике. Им нужно было выяснить, можно ли с помощью доксициклина – это такой антибиотик – избавиться от вольбахии в организме больных филяриозом. Одна группа занялась жителями деревень в Гане, страдающими от речной слепоты, а другая – танзанийцами, зараженными лимфатическим филяриозом. Оба опыта прошли успешно. Доксициклин привел к бесплодию самок червей в Гане и уничтожил личинок в Танзании[344]. А еще и там, и там он убил взрослых особей нематод в организме трех четвертей добровольцев, не спровоцировав при этом разрушительных иммунных реакций. Это было очень круто. «Мы впервые смогли излечить филяриоз, – радуется Тейлор. – Обычные препараты здесь бы не справились»[345].
Однако доксициклин – это не панацея. Беременным женщинам и детям он противопоказан. К тому же он действует крайне медленно, так что больным приходится принимать его курсами на протяжении многих недель. Довольно сложно все это время поставлять антибиотик в далекие от цивилизации поселения, а убедить больных пройти курс до конца – тем более. Доксициклин – не такое уж плохое оружие для борьбы с филяриозом, но Тейлор решил, что сможет придумать что-нибудь получше.
В 2007 году он собрал международную группу исследователей под названием A·WOL – консорциум «Антивольбахия». Они получили 23 миллиона долларов финансирования от фонда Билла и Мелинды Гейтс, и теперь их задача – открыть новые препараты, способные избавиться от филярийных нематод, убив их симбионта – вольбахию[346]. Они уже рассмотрели тысячи потенциально пригодных для этого веществ и нашли кое-что многообещающее – миноциклин. В лабораторных исследованиях он показал себя на 50 % более действенным, чем доксициклин, так что ученые тут же отправились выяснять, как он себя поведет в Гане и Камеруне. Миноциклин тоже не идеален – беременным женщинам и детям принимать его также нельзя, а еще он в несколько раз дороже доксициклина. Однако группа A·WOL с тех пор исследовала еще 60 тысяч различных веществ и нашла несколько десятков кандидатов получше.
Тем временем Тейлор выяснил, что союз филярийных нематод и вольбахии, возможно, является куда менее надежным, чем считалось ранее. Он обнаружил, что в периоды, когда вольбахия нужна больше всего, ее численность повышается, а черви начинают рассматривать ее в качестве болезнетворного микроба и пытаются уничтожить[347]. «Нематодам кажется, что вольбахия – это патоген», – объясняет он. Как бы им ни была нужна эта бактерия, они знают, что если позволить ей размножаться и дальше, то она их попросту разорвет изнутри, словно симбиотическая опухоль какая-то. Так что нематоды держат ее под контролем. Конфликты возникают даже в союзе, где один партнер не способен выжить без другого. А вместе с ними, считает Тейлор, возникают и возможности. Он уже давно искал препарат, с помощью которого можно избавиться от вольбахии, а тут оказалось, что нематоды и сами этим занимаются. Если у A·WOL получится найти вещества, запускающие в организме червя программу контроля симбионтов, можно будет превратить периодические стычки хозяина и симбионта в настоящую войну и в итоге заставить нематод уничтожить самих себя. Крайне амбициозная мысль, и ставки очень высоки. Если Тейлор сможет разрушить их симбиоз, просуществовавший вот уже 100 миллионов лет, он спасет 150 миллионов жизней.
Мы уже знаем, что микробиом – штука очень изменчивая. Он может преобразиться от одного прикосновения, обеда, нашествия паразитов, приема лекарств или просто со временем. Это динамичное образование то разгорается, то угасает, непрерывно меняя при этом свою структуру. Изменчивость микробиома лежит в основе большей части взаимодействий микробов и их хозяев. Она означает, что симбиоз может становиться выгоднее: иногда прибывшие микробы дают хозяевам свежие гены, новые способности и возможности для развития. Она означает, что в симбиозе может начаться разлад: дисбиоз или отсутствие нужных микробов порой приводит к болезни. Она означает, что симбиоз можно менять по желанию – так, как мы считаем нужным. Теодор Розбери это подметил еще в 1962 году. Микробами, живущими у нас внутри, можно «управлять так же, как и окружающим нас миром, чтобы извлечь для себя выгоду», писал он. Мы должны понять, что они – естественная часть нашей жизни, но «нельзя относиться к этому так, словно они нас не касаются»[348].
Пятьдесят лет спустя микробы вдруг начали касаться всех подряд. Сейчас микробиологи пытаются в спешке переписать отношения микробов и их хозяев-животных – нематод, комаров, нас. Тейлор пытается их вообще уничтожить – лишить нематод их симбионтов, приведя тем самым обоих к гибели, чтобы спасти тех, кого они поразили. Другие ученые, желающие стать манипуляторами микробиома, пытаются предоставить хозяевам новых микробов, чтобы восстановить разрушенную экосистему или даже создать новый симбиоз. Они создают смеси из полезных микробов, чтобы с их помощью лечить или предупреждать болезни, разрабатывают комплексы питательных веществ, чтобы этих микробов кормить, и даже придумывают, как переместить целое сообщество от одной особи к другой.
Именно так выглядит медицина, когда мы понимаем, что микробы – не враги животных, а основа, на которой построено все наше царство. Попрощайтесь с устаревшими и опасными сравнениями наших отношений с войной, в которой солдатам нужно лишь одно – уничтожить бактерий любой ценой. Поприветствуйте более нежное и сложное сравнение с садоводством. Хоть нам и приходится вырывать сорняки, нельзя забывать о посеве и удобрении видов, что разрыхляют почву, освежают воздух и радуют глаз.
Понять все это довольно сложно, причем не только из-за того, что сама мысль о полезных микробах для многих в новинку. Она еще и противоречит здравому смыслу, ведь медицина во многом полагается на простую арифметику. У вас цинга? Вам не хватает витамина C – чтобы пополнить его запасы, ешьте больше фруктов. Грипп? У вас вирус – принимайте нужные лекарства, чтобы от него избавиться. Что нужно – прибавьте. Что не нужно – вычтите. Медицина до сих пор основана вот на таких простых уравнениях. Но математика микробиома куда сложнее, ведь она включает в себя крупные и постоянно меняющиеся сети из взаимосвязанных и взаимодействующих частей. Контролировать микробиом – то же самое, что придавать форму целому миру, то есть очень и очень сложно. Не забывайте, что сообщества по своей природе весьма устойчивы: если их толкнуть, они откатятся обратно. Они еще и непредсказуемы: если внести в них изменения, последствия могут оказаться какими угодно. Добавьте микроорганизм, который вроде бы полезен, а он раз – и вытеснит соперников, которые нам тоже нужны. Уберите микроба, который вроде бы вреден, и его место вскоре займет кто похуже. Вот почему попытки изменить мир на данный момент несколько раз привели к потрясающему успеху и много раз – к неудачам, суть которых неясна. В одной из предыдущих глав мы выяснили, что для налаживания микробиома мало избавиться от «плохих бактерий» с помощью антибиотиков. В этой главе мы узнаем, что добавление «хороших бактерий» тоже не решит проблему.
Двадцать первый век – явно не лучшее время для любителей лягушек. Эти прыгучие земноводные исчезают по всему миру с такой скоростью, что хмурятся даже самые оптимистичные специалисты по охране природы. Не меньше трети видов земноводных сейчас находятся под угрозой исчезновения. Отчасти из-за того же, что и многие другие животные: потеря среды обитания, загрязнение, климатические изменения. Но земноводным угрожает и их собственный враг. Это зловещий грибок Batrachochytrium dendrobatidis, можно просто Bd, образцовый убийца лягушек. Уплотняя кожу своих жертв и лишая их способности впитывать через нее необходимые им ионы натрия и калия, он вызывает у них нечто вроде сердечного приступа. Открыли его в 1990-х, и с тех пор он распространился по шести континентам. Он появляется там, где обитают земноводные, вот только вскоре после его появления они там обитать перестают. Этот грибок способен уничтожить целые популяции лягушек за считаные недели – из-за него уже десятки видов канули в лету. Остромордая речница, скорее всего, вымерла. И заботливых лягушек больше нет. Оранжевая жаба тоже свое отквакала. Сотни других брошены на произвол судьбы. Недаром Bd окрестили «худшим известным инфекционным заболеванием, встречающимся среди позвоночных»[349]. Лягушки, жабы, саламандры, тритоны, червяги – никому от него не укрыться. Если бы появился новый вид гриба, убивающий млекопитающих – всех собак, слонов, дельфинов, летучих мышей, людей, – мы бы, естественно, запаниковали. Как раз в таком состоянии сейчас находятся биологи, занимающиеся земноводными.
Bd – предвестник того, что ждет природу в будущем. В 2013 году был описан родственный ему вид гриба, B. salamandrivorans, поражающий хвостатых земноводных Европы и Северной Америки. По меньшей мере с 2006 года летучим мышам Северной Америки угрожает еще один грибок – он вызывает у них смертельное заболевание, известное как синдром белого носа, так что теперь полы пещер усеяны миллионами трупиков. Вот уже на протяжении десятков лет кораллы терпят эпидемию за эпидемией[350]. Сейчас природа подвержена инфекционным заболеваниям как никогда ранее, и отчасти в этом виноваты люди. Мы разносим патогенных микробов по всему свету на самолетах, кораблях и ботинках с невиданной ранее скоростью – новые хозяева попросту не успевают приспосабливаться. Отличный пример тому – расцвет Bd. Да, он заразен. Да, он подавляет иммунитет земноводных. Но все же он – всего лишь грибок, а земноводные живут бок о бок с грибами вот уже 370 миллионов лет. Для них это не первая гонка. Этот заезд они проигрывают из-за того, что их вымотали климатические изменения, внедренные в их среду обитания хищники и загрязнение окружающей среды. Прибавьте к этому разрушительную и быстро распространяющуюся болезнь – будущее тут же перестанет казаться радужным.
Однако у Рида Харриса, специалиста по земноводным, еще осталась надежда. Харрис открыл потенциальный способ спасти лягушек от грибка-негодника. В начале 2000-х он обнаружил, что красноспинные и четырехпалые саламандры – некрупные змеевидные амфибии, обитающие на востоке США, – покрыты смесью из множества фунгицидов[351]. Производят эти вещества не сами животные, а бактерии на их коже. Возможно, они защищают от грибка яйца саламандр – без них во влажных подземных гнездах он бы успешно размножался. И как позже выяснил Харрис, они способны остановить рост Bd. Возможно, задумался он, именно этим и объясняется устойчивость некоторых видов-везунчиков к грибку-убийце: их кожный микробиом – настоящий симбиотический щит. А может быть, эти микробы помогут предотвратить наступление Квапокалипсиса?
На другом берегу США о том же самом задумался Ванс Вреденберг. Он занимался изучением калифорнийских лягушек Сьерра-Невады и, когда Bd появился и там, уже начал терять надежду. «Я просто поверить не мог, – сокрушается он. – Этой заразой тут и не пахло – и вот она уже всех лягушек в округе поубивала». Вскоре лягушек не стало почти нигде. Почти. Лягушки, обитающие в озере у горы Коннесс, были заражены Bd, но им это не мешало жизнерадостно скакать и квакать. Bd убивает хозяев, наполняя их организмы десятками тысяч спор, но у этих лягушек спор насчитывалось лишь по несколько десятков. Грибок, что считался гибельным и переворачивал лягушек в остальных озерах кверху брюхом, у горы Коннесс оказался разве что мелким хулиганом. Что-то здесь и еще в нескольких местах не давало Bd взять верх. Узнав об эксперименте Харриса, Вреденберг вдруг понял, что именно. Он взял пробу с кожи местных лягушек, и его догадка подтвердилась – там обитали те же противогрибковые бактерии, что обнаружил Харрис у саламандр. Один вид бактерий выделялся из общей массы как своими защитными способностями, так и цветом – его представители были темно-фиолетовыми и зловеще прекрасными. Его назвали Janthinobacterium lividum. Все зовут его просто J-liv[352].
В лабораторных исследованиях Вреденберг и Харрис выяснили, что J-liv действительно защищает от Bd лягушек, не подвергавшихся прежде воздействию грибка. Но каким образом? Может, она вырабатывает антибиотики и ими убивает грибок напрямую? Стимулирует иммунитет лягушек? Вносит изменения в их микробиом? А может, просто занимает место на коже и грибку становится некуда приткнуться? К тому же, раз уж она такая полезная, почему бы ей не встречаться на всех лягушках, а не только на некоторых? И почему, даже когда она есть, ее так мало? «Отлично было бы разузнать все обо всех мелочах, вот только у нас времени нет, – печалится Вреденберг. – Если будем тянуть, лягушки исчезнут. У нас тут кризисная ситуация». Забудьте про мелочи. Главное, бактерия справилась, по крайней мере в уютной лаборатории. Справится ли она в природных условиях?
На тот момент Bd стремительно распространялась по Сьерра-Неваде, захватывая примерно по 700 метров в год. Вреденберг прикинул и решил, что на очереди у грибка был Даси-Бейсин – участок на высоте около 3000 метров над уровнем моря, где тысячи калифорнийских лягушек жили себе спокойно и понятия не имели, что их ждет. В общем, замечательное место, чтобы проверить мощь J-liv на практике. В 2010 году Вреденберг с коллегами отправились на Даси-Бейсин и стали отлавливать всех лягушек, которые им повстречались. На коже одной особи они обнаружили J-liv и вырастили обильные культуры этих бактерий. Затем они окунули часть пойманных лягушек в приготовленный бактериальный бульон, а всех остальных оставили в емкостях с обычной водой из пруда. Спустя несколько часов все лягушки были отпущены на волю. На волю случая и на растерзание грибку.
«Результаты нас просто потрясли!» – восторженно заявляет Вреденберг. Как и предполагалось, летом пришел Bd. Он обычным способом расправился с лягушками, побывавшими в прудовой воде: десятки спор вскоре превратились в тысячи, и каждая лягушка попрощалась со своей лягушачьей жизнью. А вот у животных, которых окунули в раствор J-liv, споры не только вскоре переставали накапливаться, но и зачастую начинали выводиться из организма. Год спустя в живых осталось около 39 % особей с J-liv, а вот все остальные погибли. Испытание сочли успешным. С помощью микроба ученые сумели защитить популяцию лягушек в природных условиях. J-liv начала считаться пробиотиком – обычно так называют йогурты и всякие пищевые добавки, но на самом деле это любой микроорганизм, способный улучшить состояние здоровья хозяина.
Однако не станут же защитники природы ловить и прививать каждую амфибию, которой угрожает Bd, – для этого придется вообще всех отлавливать. Вместо этого Харрис планирует обработать пробиотиками почву, чтобы каждая лягушка и саламандра получила дозу J-liv, просто пробегая мимо. А находящихся под угрозой исчезновения лягушек, размножающихся в неволе, можно будет прививать в лаборатории, а потом отпускать. «Возможностей много, – говорит Вреденберг, – но наша бактерия все-таки не палочка-выручалочка. Перед нами стоит сложная задача, вряд ли получится решить ее лишь с помощью бактерии». И действительно, Мэттью Бекер, учившийся когда-то у Харриса, выяснил, что с панамскими жабами Atelopus zeteki, содержащимися в неволе, такой подход вообще не работает. Этот вид – сущий призрак со шмелиной окраской: прелестное желто-черное создание, истребленное в природе грибком Bd. В наши дни эти ателопы обитают лишь в зоопарках и аквариумах. Пока Bd терроризирует их естественную среду обитания, выпускать их на волю нельзя. Несмотря на весь свой потенциал, J-liv не поможет решить проблему[353].
Впрочем, этого следовало ожидать. Мы уже знаем, что даже у родственных видов животных микробиом может быть совершенно разный. Нет причин полагать, что бактерия, населяющая один вид животных, захочет жить и с другим или что мы когда-нибудь откроем универсальный пробиотик, способный защитить всех земноводных. J-liv обитает на коже саламандр и лягушек США, но в Панаме ее никогда не было, и с ателопами она ни разу в ходе эволюции не пересекалась. Основываясь на имеющемся опыте, можно сказать одно: пытаться намазать американского микроба на панамскую жабу глупо и попахивает империализмом. Тем не менее Бекер не стал отчаиваться и отправился на поиски подходящего пробиотика в Панаму. Он исследовал кожные микробиомы ближайших родичей A. zeteki и обнаружил там несколько местных видов, не позволяющих Bd расти, по крайней мере в чашках Петри. Увы, заселять организмы A. zeteki эти виды тоже отказались, да и в природных условиях они с Bd не справляются. Один лучик надежды все же был: пять особей A. zeteki, пойманных Бекером, нежданно-негаданно оказались от природы устойчивы к Bd. Микробы у них на коже отличались от микробов погибших лягушек, так что сейчас Бекер пытается выяснить, какие именно бактерии в их сообществах обладают защитными свойствами. Харрис проводит похожее исследование в Мадагаскаре, рае земноводных – Bd появился там совсем недавно. Он ищет местных бактерий, препятствующих росту Bd и при этом способных жить на коже животных, если их добавляют вручную. Ни создавать новые симбиозы, ни перемещать бактерий из одной части света в другую Бекер и Харрис не собираются. «Мы просто хотим распространить бактерий, которые и так уже тут», – объясняет Харрис.
Даже если они найдут подходящих кандидатов, нужно будет еще придумать, как их заставить поселиться на лягушках. Возможно, на этот раз купания будет недостаточно. Не исключено, что придется подобрать нужное время: когда головастик превращается в лягушку, его организм полностью лишается микробов, словно лес при пожаре, – так появляется пригодная для заселения пустошь. В этот период животным больше всего угрожает Bd, но, возможно, именно этот момент идеально подходит для добавления пробиотиков. Вероятно, микробам-чужакам будет проще присоединиться к формирующемуся сообществу, в котором царит первозданный хаос, чем к уже сформированному и устойчивому. Остальные детали, наверное, тоже важны. Взять, например, микробов, что уже обитают на коже земноводных разных видов: примут ли они новичков в микробиом или сразу выгонят? А иммунная система хозяина: позволит ли она расширенному сообществу остаться на коже или же займется его корректировкой? Оказывается, мелочи все-таки имеют значение[354]. Порой в них заключается разница между успехом и провалом, сохранением вида или его исчезновением. И в кишечнике человека они так же важны, как и на коже лягушки.
Слово «пробиотик» означает «для жизни». И по этимологии, и по значению это полная противоположность антибиотикам. Антибиотики нужны для того, чтобы избавляться от микробов, а пробиотики – для того, чтобы их получать. В начале XX века Илья Мечников стал одним из первых ученых, занявшихся продвижением в массы этой идеи. На протяжении нескольких десятков лет он регулярно пил сквашенное молоко, пытаясь таким образом поселить у себя в кишечнике молочнокислых бактерий, – он считал, что именно им болгарские крестьяне обязаны своим долгожительством. Однако после его смерти микробиологи Кристиан Гертер и Артур Исаак Кендалл доказали, что микробы, которых так боготворил Мечников, в кишечнике не задерживаются. Сколько бы вы их ни потребляли с пищей, они с ней и выйдут. И все же, несмотря на собственноручный разгром теории Мечникова, Кендалл не перестал поддерживать саму ее основу. «Скоро наступит время, когда кишечные молочнокислые бактерии начнут активно использоваться в лечении определенных кишечных заболеваний, вызванных микробами, – писал он. – Наука откроет и предъявит условия, необходимые для достижения успеха»[355].
Ну, наука как минимум попыталась[356]. В 1930-х японский микробиолог Минору Сирота занялся поисками микробов-крепышей, способных достичь кишечника, не погибнув в желудочном соке. В конце концов он наткнулся на один из штаммов Lactobacillus casei и начал выращивать его в прокисшем молоке. В 1935 году появилась первая баночка молочнокислого продукта под названием Yakult. Нынче в мире ежегодно продается около 12 миллиардов таких баночек. Производство пробиотиков приносит миллиарды долларов. Они насыщают не только наши животы, но и наше стремление к «природной» медицине (несмотря на то что в состав большей части пробиотиков включены модифицированные микробы, выращиваемые искусственно в течение многих поколений). В одних товарах микробы ждут поглощения в живой закваске, в других они высушены путем сублимации и упакованы в капсулы или пакетики. В одних капсулах содержится лишь один штамм микробов, в других – много. Реклама пробиотиков гласит, что они улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и лечат самые разные заболевания – как связанные с пищеварением, так и многие другие.
В пакетике с самым концентрированным пробиотиком содержится всего несколько сотен миллиардов бактерий. Кажется, что это много, но у нас в кишечнике их в сотни раз больше. В бутылочке йогурта бактерий совсем немного, к тому же в кишечнике взрослого человека они не играют важной роли. По большей части они принадлежат к той же категории, что так обожал Мечников, – это молочнокислые лактобациллы и бифидобактерии. Их выбрали не из-за пользы, а из-за практичности. Выращивать их легко, в прокисшей пище они уже есть, а еще они способны выжить как в упаковочном цеху, так и в желудке потребителя. «А вот в человеческом кишечнике им долго не протянуть – не хватает нужных для этого качеств», – объясняет Джефф Гордон. Для подтверждения этого его научная группа провела анализ кишечных микробиомов добровольцев, которые на протяжении семи недель ежедневно употребляли по две порции йогурта «Активиа». Содержащиеся там бактерии не колонизировали кишечник добровольцев и никак не влияли на состав их микробиома. Гертер и Кендалл говорили об этом же еще в 1920-х, а Мэттью Бекер и другие это заметили во время поисков лягушачьих пробиотиков. Такие йогурты – словно сквозняк, влетающий в одно окно и вылетающий в другое[357].
Кто-то начнет утверждать, что это не имеет значения: сквозняк вполне может на своем пути что-нибудь уронить. Группа Гордона обнаружила несколько подтверждений этому: йогурт, который они исследовали, порой провоцировал активацию отвечающих за расщепление углеводов генов у микробов в кишечнике мышей, хоть и ненадолго. Вскоре после этого Венди Гарретт выяснила, что один из штаммов Lactococcus lactis помогает мышам, не оставаясь у них в организме, да и в живых тоже не оставаясь. Попав в кишечник мыши, бактерии словно взрываются, освобождая в момент смерти противовоспалительные ферменты. Поселенцы из них, может, и так себе, зато хоть какую-то пользу могут принести.
Могут. А приносят ли? Ответ на этот вопрос можно найти в самом слове «пробиотики». Всемирная организация здравоохранения дает ему следующее определение: «живые микроорганизмы, которые в определенных дозах улучшают здоровье хозяина». Они полезны для здоровья по определению. Накопилась целая куча исследований, которые, на первый взгляд, это определение подтверждают. Однако большая их часть проводилась на отдельных клетках или с лабораторными животными, так что непонятно, применимы ли результаты к человеческому организму. А в исследованиях, проведенных на людях, обычно было мало испытуемых, так что результаты их сложно назвать объективными, особенно с точки зрения статистики.
Поиск среди таких исследований чего-нибудь достоверного – занятие на редкость сложное и скучное. К счастью, в известной некоммерческой организации «Кокрановское сотрудничество», занимающейся в том числе обзором и анализом исследований в области медицины, это все же сделали. И вот что решили: пробиотики ослабляют приступы гастроэнтерита и снижают риск появления диареи из-за приема антибиотиков. Еще они порой спасают недоношенных младенцев от смертельной болезни – язвенно-некротического энтероколита. И на этом все. Из-за чего, спрашивается, весь этот ажиотаж? До сих пор нет доказательств того, что пробиотики помогают больным аллергией, астмой, экземой, ожирением, диабетом, наиболее часто встречающимися воспалительными заболеваниями кишечника, аутизмом и многими другими нарушениями в работе организма, в которых обвиняют микробиом. И до сих пор неизвестно, действительно ли описанные в исследованиях улучшения происходят благодаря изменениям в микробиоме[358].
Органы государственного регулирования приняли эту проблему к сведению. Теперь пробиотики формально считаются пищевыми продуктами, а не лекарствами. Это значит, что их производителям не приходится преодолевать кучу бюрократических препятствий, ждущих фармацевтические компании при создании нового лекарства. Зато им запрещено утверждать, что их товар предотвращает или лечит какие-то заболевания – этим занимается медицина. Если они переступают грань допустимого, их ждут неприятные последствия. В 2010 году Федеральная торговая комиссия США подала иск на компанию Danone – та уверяла, что «Активиа» «облегчает временные нарушения» и предотвращает простуду и грипп. Вот почему в рекламе пробиотиков обычно используются туманные фразы, порой граничащие с бессмыслицей: компании-производители наперебой утверждают, что их продукты «балансируют пищеварительную систему» и «укрепляют иммунную защиту».
И даже подобные утверждения не остались без внимания противников. В 2007 году Европейский союз постановил, что компании по производству пищевых продуктов и добавок должны научно обосновать все громкие заявления, кричащие с упаковок. Если уж им охота заявить, что благодаря их продуктам люди станут здоровее, сильнее и стройнее, пусть доказывают. Ну, те и попытались – и попали впросак. Научно-экспертный совет ЕС отклонил более 90 % предложенных заявлений – в том числе абсолютно все связанные с пробиотиками. А так как само слово «пробиотик» означает пользу для здоровья, ЕС в декабре 2014 года вообще запретил использовать его на упаковках и в рекламе. Защитники пробиотиков возмутились – мол, отказ не обоснован с научной точки зрения, и теперь всей сфере пробиотиков придется несладко. Скептики же считают, что ЕС не зря вынудила производителей исправиться и предоставить доказательства, подтверждающие их голословные заявления[359].
Несмотря на чрезмерный ажиотаж вокруг пробиотиков, их принципы остаются неизменными[360]. Бактерии выполняют в нашем организме множество важнейших функций – наверняка должен быть способ укрепить здоровье, проглотив или еще как-то употребив нужных микробов. Просто штаммы, которые сейчас для этого используются, оказались не теми, что нужно. Это лишь малая часть микробов, живущих бок о бок с нами, а их способности – лишь крошечная доля всего того, на что способен наш микробиом. В предыдущих главах мы познакомились с некоторыми подходящими микробами. Там и любительница слизи Akkermansia muciniphila, чье присутствие коррелирует с меньшим риском развития ожирения или истощения. Там и Bacteroides fragilis, не дающая иммунитету разозлиться и спровоцировать воспаление. Там Faecalibacterium prausnitzii, еще одна противовоспалительная малышка – в человеческом кишечнике, страдающем воспалительным заболеванием, она встречается крайне редко, зато ее появление способно облегчить симптомы у мышей. Возможно, в будущем пробиотики будут состоять именно из этих бактерий. Их способности впечатляют и представляют для нас огромную ценность. Они уже адаптированы к нашему организму, а некоторые еще и широко в нем распространены: каждая двадцатая бактерия в кишечнике здорового взрослого человека – F. prausnitzii. Они, в отличие от лактобацилл, не какая-нибудь микробиомная массовка. Они – настоящие звезды кишечника. Уж им-то его колонизировать труда не составит[361].
Вместе с тем успешная колонизация влечет за собой не только награду покрупнее, но и риск побольше. Пока что в истории приема пробиотиков практически не было особенно опасных случаев[362], но, возможно, причиной тому является их неспособность остаться в организме надолго. А что будет, если использовать более распространенных жителей кишечника? По опытам на животных мы знаем, что полученные в младенчестве микробы способны еще долго оказывать влияние на физиологию, иммунную систему и даже поведение особи. И как мы уже знаем, хороших по своей сути микробов не бывает – многие виды, в том числе наши давние симбионты, такие как H. pylori, могут как оказаться полезными, так и причинить вред. Бактерию Akkermansia во многих исследованиях боготворили и называли спасительницей, вот только выяснилось, что она, помимо всего прочего, чаще встречается у больных раком толстой и прямой кишки. К пробиотикам не следует относиться беспечно – важно понять, как именно они меняют микробиом и какие у этого могут быть последствия. Здесь, как и у лягушек, важны мелочи.
Среди сомнительных исследований пробиотиков затесались и истории успеха. Самая захватывающая из них началась в 1950-х годах в Австралии. Тогда национальное агентство по делам науки занялось поисками тропических растений, которыми можно было прокормить растущую популяцию домашнего скота. Леуцена, центральноамериканский кустарник, показалась как раз подходящим кандидатом – неприхотливая, не погибает от общипывания и содержит много белков. Увы, кроме белков она содержит еще и мимозин – алкалоид, побочные продукты которого провоцируют разрастание щитовидной железы (зоб), потерю волосяного покрова, замедление роста, а иногда и смерть. Попытки ученых вывести из леуцены эти вещества ни к чему не привели. Эдакое идеальное растение с фатальным недостатком. В 1976 году Рэймонд Джонс, нанятый правительством ученый, случайно обнаружил потенциальное решение проблемы. Пребывая на конференции на Гавайях, он обратил внимание на то, что целое стадо местных коз питается леуценой в больших количествах без какого-либо видимого вреда для здоровья. Тогда он предположил, что у местных коз в рубце – первом отделе желудка – находятся микробы, обезвреживающие мимозин.
После нескольких длительных перелетов – то с термосами со зловонной рубцовой жидкостью, то с живыми козами на борту – Джонс наконец доказал, что его предположение было верным. В середине 1980-х он пересадил бактерий из рубца гавайских коз в австралийский скот – реципиенты стали спокойно питаться леуценой. Благодаря новым микробам в желудке животные, для которых этот кустарник раньше был смертельно опасен, теперь так им объедались, что начали набирать вес на рекордной скорости. Джонс повторил то, для чего японские клопы поедают микробов, обезвреживающих инсектициды, а пустынные хомяки обмениваются друг с другом бактериями, расщепляющими креозотовую смолу, – он снабдил животных новыми сожителями, способными нейтрализовать химическую угрозу. Позже его коллеги выявили конкретную бактерию, расщепляющую мимозин, и назвали ее Synergistes jonesiiв честь Джонса. С 1996 года она начала продаваться в качестве «пробиотической болтушки» – выпускаемой в промышленных масштабах смеси рубцовых жидкостей с высоким содержанием микробов для обрызгивания домашнего скота. Благодаря этому пробиотику фермеры получили возможность кормить скот леуценой, и сельское хозяйство на севере Австралии преобразилось до неузнаваемости[363].
Почему же Джонсу удалось преуспеть там, где другие манипуляторы потерпели поражение? Возможно, дело в том, что он столкнулся с проблемой попроще. Ему не пришлось искать лекарство от воспалительного заболевания кишечника или противостоять грибку-убийце. Все, что от него требовалось, – обезвредить одно вещество. Вполне вероятно, что с этим бы справился всего один микроб. Но даже в таких случаях успех не гарантирован.
Вот, например, оксалаты – соли щавелевой кислоты. Они содержатся в свекле, спарже, ревене и других съедобных растениях. При высокой концентрации оксалатов организм перестает усваивать кальций, и он начинает формировать твердые комки. Камни в почках появляются в том числе и из-за этого. Мы не умеем переваривать оксалаты, а микробы умеют. Кишечная бактерия Oxalobacter formigenes так наловчилась, что только их и использует в качестве источника энергии. Казалось бы, все как с леуценой – есть такое-то вещество (оксалаты), оно вызывает такую-то проблему (камни в почках), а справиться с ним может такой-то микроб (O. formigenes). Если у вас склонность к появлению камней в почках, нужно просто принимать в пищу соответствующие пробиотики, логично? Такие пробиотики существуют, но, увы, они не особо эффективны[364]. Почему?
Возможны два варианта, и оба способны научить нас кое-чему важному. Во-первых, мало просто дать животному бактерий и надеяться на лучшее. Микробы – живые существа, им нужно чем-то питаться. O. formigenes питается только оксалатами, а если у человека камни в почках, он вряд ли будет употреблять в пищу богатые оксалатами продукты. Попав в его организм, она умрет от голода[365]. Кстати, фермерам рекомендуют хотя бы неделю кормить скот леуценой, перед тем как обработать его смесью Synergistes. Тогда новоприбывшим бактериям хватит пищи.
Вещества, которыми питаются лишь полезные микробы, – это пребиотики. Вообще-то оксалаты и леуцену к ним тоже можно отнести, но в основном это растительные углеводы, такие как инулин, очищенные и представленные в форме пищевых добавок[366]. Эти вещества позволяют увеличить численность важных микробов, например F. prausnitzii и Akkermansia, а также, возможно, снижают аппетит и снимают воспаление. А вот нужно ли их принимать в качестве пищевых добавок – другой вопрос. Мы знаем, что пища может внести в наш кишечный микробиом значительные изменения, а пребиотики, в том числе инулин, в больших количествах содержатся в луке, чесноке, артишоках, цикории, бананах и много где еще.
Олигосахариды человеческого молока тоже относятся к пребиотикам – они питают B. infantis и других микробов, умеющих их расщеплять. Педиатр Марк Андервуд считает, что с их помощью можно спасать самых уязвимых людей на свете – недоношенных младенцев. Он руководит неонатальным отделением интенсивной терапии при Калифорнийском университете в Дейвисе. Там под опекой медиков постоянно находится до 48 недоношенных младенцев. Самые ранние из них родились на двадцать третьей неделе, а самые легкие весят где-то полкилограмма. Как правило, они появляются на свет путем кесарева сечения, затем проходят курс антибиотиков и в итоге оказываются в абсолютно стерильной среде. Без стандартных микробов-первопроходцев их микробиом развивается крайне странным образом: привычных бифидобактерий в нем мало, а захватывающих свободные территории патогенов-оппортунистов – много. Вот вам отличный пример дисбиоза, и такие необычные сообщества у младенцев внутри могут привести к некротическому энтероколиту – заболеванию кишечника, нередко заканчивающемуся смертельным исходом. Врачи не раз пытались предотвратить развитие некротического энтероколита с помощью пробиотиков, причем небезуспешно. Андервуд же, посоветовавшись с Брюсом Джерманом, Дэвидом Миллзом и другими, решил улучшить их результаты, кормя младенцев смесью из B. infantis и грудного молока. «Пища бактерий так же важна, как и сами бактерии! Она им помогает размножаться и заселять среду с довольно-таки жесткими условиями», – объясняет он. В небольшом пилотном исследовании он доказал, что B. infantis при наличии в меню своей любимой еды действительно успешнее заселяет кишечник детей, рожденных раньше срока[367]. Сейчас он запустил более масштабное клиническое исследование, чтобы выяснить, сможет ли смесь пробиотика с B. infantis и молочных пребиотиков предотвратить развитие некротического энтероколита.
Второе, что мы можем принять к сведению из рассказов о Synergistes и Oxalobacter, – важность совместной работы. Бактерии обитают не в вакууме. Представители разных видов часто создают сложные и запутанные сообщества, в которых полагаются друг на друга в плане пищи и всего необходимого. Даже если кажется, что с проблемой способен справиться один-единственный микроб, он может нуждаться в группе поддержки лишь для того, чтобы выжить. Возможно, именно поэтому пробиотик с Synergistes так славно работает – других желудочных микробов в нем также немало. Не исключено, что по той же причине не работает пробиотик с Oxalobacter – в нем бактериям не с кем поиграть. Вот и с другими микробами так же. Можно, конечно, помечтать о пакетике с F. prausnitzii, способном излечить воспалительные заболевания кишечника, или о пилюле с Akkermansia, что позволит вам похудеть, но я бы сильно на такое не рассчитывал.
Возможно, разумнее было бы создавать пробиотики из сообщества микробов, работающих дружно и слаженно. В 2013 году японский исследователь Кениа Хонда открыл 17 штаммов Clostridia, способных облегчить воспаление в кишечнике. На основе этих результатов бостонская компания Vedanta BioSciences разработала мультимикробную смесь для лечения воспалительных заболеваний кишечника[368]. Клинические исследования этой смеси планировались как раз на то время, когда эта книга поступила в печать. Сработает ли она? Кто знает. Однако настраивать микробиом с помощью целой группы взаимодействующих микробов явно логичнее, чем с помощью одного штамма. В конце концов, самый успешный метод манипулирования микробиомом работает именно так.
В 2008 году Александр Хоруц, гастроэнтеролог при Миннесотском университете, познакомился с женщиной 61 года – назовем ее Ребеккой. На протяжении восьми месяцев ее постоянно мучали приступы диареи – она потеряла 25 килограммов, ей приходилось перемещаться на инвалидной коляске и пользоваться подгузниками для взрослых. Виновником оказалась Clostridium difficile – бактерия, известная также как C-diff. Дурную славу ей принесла живучесть – иногда бактерия делает вид, что сдалась под напором антибиотиков, а потом вырабатывает к ним устойчивость и появляется снова. Именно так она и вела себя в организме Ребекки. Врачи перепробовали кучу лекарств – безуспешно. «Она уже всю надежду потеряла», – вспоминает Хоруц. Она исчерпала все средства, которые могли бы ей помочь.
Все, кроме одного. Хоруц подумал-подумал и вспомнил, что в медицинском колледже узнал об одном методе, известном как пересадка микрофлоры кишечника. Все просто: врач берет у донора образец стула и вместе с микробами и всем остальным пересаживает его в кишечник больного. И вызванную C-diff инфекцию такая пересадка вроде как тоже могла вылечить. Эта процедура казалась всем дурацкой, ненадежной и отвратительной. Но Ребекка была не против, ведь ей хотелось выздороветь – чем скорее, тем лучше. Она дала согласие на пересадку. Образец стула предоставил ее супруг. Хоруц с помощью блендера превратил стул в кашицу, которую затем ввел Ребекке в кишечник во время колоноскопии.
В течение дня прекратилась диарея. В течение месяца исчезла C-diff – и на этот раз не вернулась. От нее полностью избавились – быстро и надолго.
Хоть случай Ребекки и единичный, он все же вполне классический. У сотен рассказов о пересадке микрофлоры кишечника сюжет похож: больной, которого никак не получается избавить от C-diff, отчаявшийся врач и чудотворное исцеление. В некоторых случаях врачи узнают об этой процедуре от больных[369]. Так, Элейн Петроф из Университета Квинс в Кингстоне (Канада) в 2009 году безуспешно пыталась вылечить женщину от инфекции C-diff, и тут к ней начали заходить члены семьи пациентки с ведерками кала. «Я уж подумала, что они немного того, – вспоминает она. – А потом посмотрела на то, как женщине становилось все хуже и хуже, и подумала: а что мы теряем? Мы провели процедуру и – представьте себе – все получилось! Вот она стояла на пороге смерти – а тут вышла из больницы практически здоровая и в прекрасном виде».
Пересадка стула – это, конечно, гадость, как в теории, так и на практике – кому-то ведь приходится использовать этот несчастный блендер[370]. Однако «больным неважно, что это фу», утверждает Петроф: «Они готовы на что угодно. Часто они просто меня перебивают и спрашивают: а где подписать?» И действительно – мы, люди, отличаемся от других животных своей неприязнью к фекалиям. Многие животные – копрофаги: они с удовольствием едят помет друг друга, чтобы обзавестись нужными микробами. Шмели и термиты таким образом распространяют бактерий по всей колонии – получается своего рода коллективная иммунная система, защищающая колонию от паразитов и патогенов[371]. Пересадка микрофлоры кишечника в этом плане куда приятнее – хотя бы ничего жевать не надо. Бактерий в организм поставляют с помощью колоноскопии, клизмы или вставленной в нос трубки, идущей в желудок или кишечный тракт.
Процедура эта действует по тем же принципам, что и пробиотик, только вместо одного или семнадцати штаммов бактерий она позволяет получить сразу все. Это пересадка экосистемы, своеобразная попытка наладить дела в неустойчивом сообществе, полностью его заменив, – так же на лужайке, заросшей одуванчиками, заново выращивают газон. Хоруц показал, как действует эта процедура, взяв образец кала Ребекки до и после пересадки[372]. До пересадки у нее в кишечнике творилось невесть что. Из-за нашествия C-diff ее микробиом полностью изменился и стал напоминать «что-то, чего вообще в природе не существует, – как будто другая галактика», дивится Хоруц. А вот после пересадки он стал неотличим от микробиома ее мужа. Его микробы ворвались в ее дисбиотический кишечник и вернули его в исходное положение. Хоруц словно провел пересадку органа – заменил больной и поврежденный микробиом пациентки на новенький и здоровый донорский. Получается, что микробиом – единственный орган, который можно заменить без операции.
Пересадкой стула в мире занимаются вот уже как минимум 1700 лет. Самые ранние упоминания об этой процедуре были найдены в руководстве по неотложной медицинской помощи, написанном в Китае в IV веке[373]. Европейцы подключились гораздо позже – в 1697 году немецкий врач написал о пересадке стула книгу с оригинальным названием Heilsame Dreck-Apotheke – «Целебная аптека из скверны». В 1958 году об этой процедуре вспомнил американский хирург Бен Айземан, но спустя лишь год его открытие оказалось в тени ванкомицина – нового антибиотика, хорошо справляющегося с C-diff. Хоруц как-то писал, что к пересадке микрофлоры кишечника «прибегали в единичных случаях, очень редко публиковали результаты и хихикали, натыкаясь на статьи о ней, не один десяток лет». Однако окончательно о ней так и не забыли. В последние лет десять ее начали использовать отважные врачи, многие больницы включили ее в перечень услуг, истории успешных трансплантаций стали накапливаться.
Апогей наступил в 2013 году, когда нидерландская группа исследователей под руководством Джозберта Келлера провела тестирование пересадки стула в рандомизированном клиническом испытании – именно так в медицине отличают рабочие методы лечения от шарлатанства[374]. В спытании участвовали пациенты с рецидивирующей инфекцией C-diff – их случайным образом распределили так, что одни принимали ванкомицин, а другим провели пересадку кишечной микрофлоры. Планировалось, что участие примут 120 добровольцев, но набралось всего 42. Так или иначе, ванкомицин вылечил лишь 27 % принимавших его больных, а вот пересадка микрофлоры помогла аж 94 %. Налицо был такой высокий уровень эффективности этой процедуры, что было решено прекратить давать больным антибиотики. Испытание было завершено досрочно, и пересадку микрофлоры прошли уже все пациенты.
В медицине показатель эффективности лечения тяжелобольных в 94 % без заметных побочных эффектов – нечто неслыханное. К тому же пересадка микрофлоры кишечника еще и крайне малозатратна – ванкомицин обходится дорого, а кал вообще бесплатный. Многие из тех, кто прежде относился к этой процедуре скептически, решили, что это не «дурацкая нетрадиционная методика», а очень даже впечатляющая и полезная, а значит, прибегать к ней нужно первым делом, а не когда вариантов больше не остается. У врачей есть поговорка: альтернативной медицины не бывает – если что-то работает, это просто медицина. Рост популярности пересадки микрофлоры кишечника у работников медицины эту поговорку подтверждает. Хоруц с помощью этой процедуры избавил от C-diff не одну сотню людей. Петроф тоже. Доклады об успешном проведении пересадки стула поступают из больниц по всему миру тысячами.
Благодаря столь блестящему успеху врачи решили опробовать пересадку стула и при других недугах. Раз уж она на отлично справилась с C-diff, почему бы ей не лечить воспалительные заболевания кишечника и не восстанавливать в экосистеме порядок? Увы, не все так просто. При таких заболеваниях эффективность и надежность методики ниже, а побочных эффектов и случаев рецидива больше[375]. А как насчет других недугов? Может ли кал худого человека помочь сбросить вес толстяку? Здесь пока тоже непонятно. Несколько врачей опубликовали сведения о том, что пересадка микрофлоры помогла при ожирении, синдроме раздраженного кишечника, аутоиммунных и психических заболеваниях и даже аутизме, но по единичным случаям невозможно выяснить, что же помогло больным вылечиться – пересадка стула, естественная ремиссия, изменения в образе жизни, эффект плацебо или еще что-нибудь. Мифы от реальности можно отделить лишь с помощью клинических испытаний, и сейчас полным ходом идут уже несколько десятков. Например, нидерландские ученые, что провели тот самый опыт с C-diff, устроили еще одно испытание. 18 добровольцев, страдающих ожирением, были разделены на две группы: одним в кишечник ввели их собственных микробов, а другим – микробов из кишечника стройных людей. Члены группы со «стройными» микробами стали более чувствительны к инсулину, что указывает на улучшение обмена веществ, но вес у них остался прежним[376]. Сбросить экосистему микробов до исходного состояния нелегко даже с помощью пересадки микрофлоры.
C-diff – исключение, подтверждающее это правило[377]. Заражение, как правило, происходит после приема антибиотиков, и, чтобы от нее избавиться, больные принимают еще больше антибиотиков. После такой фармакологической «ковровой бомбардировки» из кишечника исчезают многие местные микробы. Соперников у прибывших микробов донора практически нет, тем более привыкших жить в кишечнике, так что те спокойно его заселяют. Если бы вы пытались создать заболевание, которое можно вылечить путем пересадки микрофлоры кишечника, у вас бы получилось что-то похожее на инфекцию C-diff. А вот ничего похожего на воспалительные заболевания кишечника не получилось бы – при них бактериям донора приходится терпеть неблагоприятные условия и пытаться заселить кишечник, где приспособленных к нему микробов уже и так хватает. Хоруц задается вопросом: нужно ли больным проходить курс антибиотиков перед пересадкой, чтобы избавиться от имеющихся кишечных микробов и дать новичкам фору? А может, лучше включить в питание пребиотики, чтобы им помочь? Как бы там ни было, «нельзя просто взять и накачать человека микробами, а потом надеяться, что пересадка сработает», отмечает Коруц. «Думаю, многие посчитали пересадку микрофлоры кишечника чудодейственным средством, способным справиться с их заболеванием, не подумав при этом обо всех ее тонкостях».
Да и при C-diff с пересадкой микрофлоры кишечника все не так уж однозначно. Кал нужно тщательно проверить на отсутствие патогенов, таких как ВИЧ и гепатит. Некоторые врачи отказываются брать для процедуры кал доноров, страдающих от любых связанных с микробиомом болезней, будь то аллергия, аутоиммунные заболевания или ожирение. На это уходит немало времени, а потенциальных доноров становится все меньше и меньше – в некоторых медицинских учреждениях из-за этого решили замораживать и хранить кал доноров, подходящих по всем критериям[378]. Как раз этим занимается некоммерческая организация OpenBiome. Если будущий донор успешно проходит целую серию анализов, его кал фильтруют, формируют из него капсулы, замораживают их и по необходимости отправляют в больницы[379]. Этим же Хоруц занимается в Миннесоте. В 2011 году та самая Ребекка снова вернулась к нему с C-diff, и он ее вылечил с помощью замороженного образца кала. В 2014 году она пришла снова – и на этот раз для пересадки ей понадобилось лишь проглотить капсулу. «Первопроходцем она побывала неоднократно», – улыбается Коруц.
Сам факт того, что больные принимают внутрь капсулу с замороженными фекалиями, говорит о том, что пересадка микрофлоры кишечника – процедура как минимум странная. Вот у нас, казалось бы, обычная капсула, но состоит она из невесть чего – вещества, которое выходит не с заводов по производству лекарств, а из заднепроходных отверстий доноров. А еще у этих капсул всегда разный состав. В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США от такого разнообразия смутились и решили, что с мая 2013 года кал будет считаться лекарством, а значит, врачам для проведения пересадки микрофлоры кишечника придется заполнять целую кучу разных форм и заявок. Тут же посыпались жалобы от больных и врачей – из-за длительного оформления документов пациенты лишались возможности поскорее вылечиться[380]. Шесть недель спустя для случаев заражения C-diff постановление отменили, но для всех остальных заболеваний оно осталось в силе. Одни исследователи считают все эти нормативные процессы пустой тратой времени. Другие же утверждают, что благодаря им у них наконец появилось время спокойно поработать. В последние годы интерес к процедуре пересадки микрофлоры кишечника подскочил до небывалых высот, так что требуется поскорее испробовать ее для лечения самых разных заболеваний.
Проблема в том, что о долговременных рисках этой процедуры никто не задумывается[381]. По опытам на животных ясно, что после пересадки микробиома у реципиентов с большей вероятностью развиваются воспалительные заболевания кишечника, сердечные и психические расстройства, диабет, ожирение и даже рак, а мы до сих пор не можем предсказать с достаточной точностью, какие именно сообщества микробов за эти заболевания отвечают. Семидесятилетней пациентке с C-diff, может, и без разницы – ей нужно вылечиться вот прямо сейчас. А как же молодежь до тридцати лет? У них C-diff проявляется все чаще. А дети? Эмма Аллен-Верко рассказала мне о врачах и родителях, проведших пересадку кала детям-аутистам. «Это же просто ужас, – возмущается она. – Какашки взрослого человека в детском организме! А вдруг из-за этого у них потом разовьется рак прямой кишки или еще что похуже? По-моему, это попросту опасно».
В пересадке кала нет ничего сложного, ее можно и самому дома провести – собственно, многие так и делают. В интернете появились видеоинструкции и воодушевляющие записи о пересадке, а также крупные сообщества людей, что провели эту процедуру самостоятельно[382]. Эти ресурсы действительно помогли многим нуждавшимся в лечении больным, которым отказали врачи. Однако к пересадке прибегают и люди, введенные в заблуждение обилием информации[383]. Вне лаборатории искать патогенных микробов в кале донора не представляется возможным, так что несколько человек уже обратились в больницу с тяжелыми случаями инфекции после домашней пересадки. «Дикий Запад какой-то, – злится Аллен-Верко. – Кто попало использует чей попало кал». Группа ведущих специалистов в области микробиома, осознав эти проблемы, недавно призвала исследователей сделать процедуру формальной, начать собирать данные для систематизации доноров и реципиентов, а также докладывать обо всех замеченных побочных эффектах[384].
Петроф с ней согласна. «Думаю, все понимают, что кал – это временная мера, – объясняет она. – Рано или поздно нужно перейти на предопределенные смеси». Другими словами, необходимо создать особое сообщество микробов с теми же преимуществами, что и кал донора. Пересадка кала без кала. Заменитель стула. Поддельные какашки. Фейкалии. Петроф вместе с Аллен-Верко отыскали самого здорового донора, какого только могли, – женщину в возрасте 41 года, ни разу в жизни не принимавшую антибиотики. Ученые занялись выращиванием ее кишечных бактерий, убирая по пути каждую, что проявляла хоть малейшие признаки вирулентности, токсичности или устойчивости к антибиотикам. Осталось сообщество из 33 штаммов – Петроф назвала его RePOOPulate. Она протестировала новую смесь на двух пациентах, зараженных C-diff. Спустя несколько дней оба были здоровы[385].
Это лишь пробное исследование, но Петроф убеждена, что будущее пересадки микрофлоры кишечника стоит за RePOOPulate. За разработку новых смесей микробов для пересадки взялись и коммерческие предприятия. Эти смеси представляют собой или упрощенный вариант пересадки кала, или улучшенный пробиотик. Состоят они из определенных штаммов, которые можно снова и снова готовить по одному и тому же выверенному рецепту. И как утверждает Петроф, они куда лучше, чем самые разнообразные сообщества микробов в настоящем кале, о которых мы мало что знаем[386]. Пересадка невесть чего в кишечник больного – дело рискованное. А вот RePOOPulate – образец точности. Однако созданным вручную сообществам приходится сталкиваться с теми же сложностями, что и пробиотикам: одна группа бактерий не сможет вылечить все болезни, да и всех больных одной болезнью тоже. «Мы не считаем, что должна быть лишь одна экосистема на все случаи жизни. Не станете же вы устанавливать восьмицилиндровый двигатель на малолитражку – вы так кого-нибудь убьете», – объясняет Аллен-Верко. В идеале скоро появится целый набор смесей RePOOPulate – возможно, они будут приспособлены для лечения разных болезней. Единой смеси для всех не будет. Каждую нужно будет разрабатывать для отдельных целей.
Вот уже несколько столетий врачи прописывают больным с сердечной недостаточностью дигоксин. Это лекарство – модифицированный вариант вещества, содержащегося в наперстянке, – заставляет сердце биться сильнее, медленнее и более регулярно. Обычно заставляет, по крайней мере. На одного больного из десяти дигоксин не действует. Виной тому кишечная бактерия Eggerthella lenta – она переводит лекарство в неактивную форму, совершенно бесполезную с точки зрения медицины. Так себя ведут лишь некоторые штаммы E. lenta. В 2013 году Питер Тернбо выяснил, что проблемные штаммы от нейтральных отличаются лишь двумя генами[387]. Он считает, что врачи для определения путей лечения могут опираться на наличие этих генов в микробиоме больного. Если их там нет – отлично, можно выписывать дигоксин. Если есть, больному придется налегать на белки – судя по всему, они не позволяют генам приводить лекарство в негодность.
И речь сейчас лишь об одном лекарственном средстве. Микробиом влияет и на многие другие[388]. Ипилимумаб, новое популярное лекарство от рака, провоцирует иммунную систему нападать на опухоли, но только в присутствии кишечных микробов. Сульфасалазин, применяющийся в лечении ревматоидного артрита и воспалительных заболеваний кишечника, начинает действовать лишь тогда, когда кишечные микробы его активируют. Иринотекан используют для лечения рака толстой кишки, но некоторые бактерии делают его более токсичным, что приводит к серьезным побочным эффектам. Даже эффективность парацетамола (ацетаминофена), одного из самых популярных лекарственных средств в мире, зависит от кишечных микробов больного. Мы снова и снова замечаем, как сильно вариации у нас в микробиоме могут повлиять на действие лекарств, которые мы принимаем, даже тех, что состоят из одного-единственного, хорошо нам известного и неживого вещества. А теперь представьте, что может произойти, когда мы проглатываем пробиотик или капсулу с калом, состоящие из множества сложных, постоянно развивающихся живых организмов, о которых мы мало что знаем. Это живые лекарства. Вероятность того, подействуют они или нет, зависит от микробиома больного в данный момент, а он, в свою очередь, зависит от возраста, места жительства, питания, пола, генов и множества других факторов, в которых мы сами пока не до конца разобрались. Зависящие от условий последствия были заметны в опытах на мухах, рыбках и мышах. Глупо было бы предполагать, что на человека они не распространяются[389].
А значит, нужны индивидуальные смеси. Не будем же мы полагаться на то, что с помощью одних и тех же штаммов пробиотиков или образцов кала донора можно будет вылечить разные заболевания. Гораздо разумнее будет разрабатывать пробиотики, учитывая все экологические вакансии в организме человека, особенности его иммунной системы и болезни, к которым он генетически предрасположен[390].
А еще врачам придется одновременно лечить как больного, так и его микробов. Если пациентка, страдающая от воспалительного заболевания кишечника, примет противовоспалительное лекарство, не исключено, что ее микробиом вернется в прежнее состояние воспаления. Если она предпочтет пробиотики или пересадку микрофлоры, возможно, новые бактерии в воспаленном кишечнике попросту не выживут. Если она перейдет на богатую клетчаткой пищу, то есть пребиотики, но при этом у нее в кишечнике не будет расщепляющих клетчатку микробов, ее состояние, скорее всего, ухудшится. Поэтапные решения здесь не подойдут. Не получится вылечить обесцвеченный коралловый риф или лишенный растительности луг, запустив туда нужных животных или посадив нужные растения, – возможно, придется еще и избавиться от инвазивных видов или взять под контроль поступление в экосистему питательных веществ. Вот и с нашим организмом так же. Нужно управлять всей экосистемой сразу – хозяином, микробами, питательными веществами, вообще всем. И для этого нужен комплексный подход.
Вот каким он может быть. Если у человека в организме повышенный уровень холестерина, врач обычно прописывает ему лекарства, известные как статины, – они блокируют необходимый для вырабатывания холестерина фермент. Однако Стэнли Хэйзен выяснил, что в качестве мишени отлично подойдут и кишечные бактерии. Некоторые из них превращают холин, карнитин и другие питательные вещества в соединение под названием триметиламиноксид (ТМАО), а оно замедляет распад холестерина[391]. ТМАО накапливается в организме, а вместе с ним и жировые отложения в артериях. Это приводит к атеросклерозу – уплотнению стенок артерий – и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Научная группа Хэйзена уже выявила вещество, способное положить этому процессу конец. Оно не дает бактериям вырабатывать ТМАО, не причиняя им никакого вреда. Возможно, это или похожее вещество в медицинском шкафчике будущего окажется на одной полке со статинами, ведь эти лекарства дополняют друг друга: одно нацелено на человеческую половину симбиоза, а другое – на микробную.
И это лишь малая часть всего, на что способна медицина микробиома. Представьте, что вы перенеслись в будущее на десять, двадцать, ну пусть тридцать лет. Вы у врача. В последнее время вы что-то на нервах, так что он прописывает вам бактерию, которая влияет на нервную систему и подавляет нервозность. И холестерин у вас немного повышен – врач добавляет к той бактерии микроба, что вырабатывает понижающее его вещество. Уровень вторичных желчных кислот у вас в кишечнике ниже нормы, а значит, высок риск заражения C-diff – лучше добавить штамм, за эти кислоты отвечающий. В вашей моче содержатся молекулы, указывающие на воспаление, а так как у вас еще и генетическая предрасположенность к воспалительным заболеваниям кишечника, врач добавляет бактерию, вырабатывающую противовоспалительные молекулы. Он выбрал именно эти виды не только за их способности – он уверен, что они поладят с вашей иммунной системой и микробиомом. Наконец, врач завершает смесь горсткой второстепенных бактерий для поддержки лечебной основы и дает вам рекомендации по питанию, чтобы бактериям было что пожевать. Кабинет вы покидаете с индивидуальными пробиотическими пилюлями – лекарством, созданным для того, чтобы лечить не любую микробную экосистему, а именно вашу. Как выразился в нашем разговоре микробиолог Патрис Кани, «будущее делается на заказ».
И в этом будущем на заказ мы не остановимся на том, чтобы отобрать нужных для определенных задач бактерий. Некоторые ученые уже отбирают нужные для этих задач гены и собирают из них бактерий ручной работы. Вместо того чтобы искать виды с нужными способностями, они возятся с уже имеющимися микробами и наделяют их новыми навыками[392].
В 2014 году Памела Силвер из Гарвардской медицинской школы оснастила кишечную палочку – самого известного микроба на свете – генетическим переключателем, реагирующим на присутствие антибиотика тетрациклина[393]. Если все необходимые условия соблюдены, при его появлении переключатель активирует ген, придающий бактериям синий цвет. Силвер добавила этих бактерий в корм лабораторных мышей. Так она могла определить, давали ли мышам тетрациклин: нужно было собрать их помет, вырастить микробов из него и посмотреть, какого они цвета. Она успешно превратила кишечную палочку в крошечного репортера, который чует, запоминает и докладывает обо всем, что происходит в кишечнике.
Такие репортеры нам нужны, ведь кишечник для нас – все еще загадка. Длина этого органа – 8,5 метра, а изучают его, как правило, по тому, что из него выходит. Это как если бы мы решили поставить в устье реки решето и описать реку по тому, что в нем окажется. Колоноскопия позволяет узнать о кишечнике больше, но это вторжение в организм. Почему бы вместо того, чтобы засовывать трубку в одно отверстие, не запустить бактерий в другое? Выйдя из организма, они смогут рассказать нам обо всем, что видели в пути. И я сейчас не про тетрациклин – это лишь пробный эксперимент. Силвер хочет настроить микробов так, чтобы они реагировали на присутствие токсинов, лекарств, патогенов и веществ, появляющихся на ранних стадиях заболеваний.
В идеале она планирует создать бактерий, способных замечать неполадки в организме и исправлять их. Представьте, как некий штамм кишечной палочки опознает молекулы, которые производит сальмонелла, и начинает вырабатывать антибиотик, чтобы от нее избавиться. Теперь кишечная палочка не просто репортер – она еще и лесничий. Во время кишечных патрулей она могла бы предотвращать пищевые отравления, расправляясь с сальмонеллами, а в отсутствие угроз бездействовала бы. Можно было бы давать ее детям из бедных стран, предрасположенным к инфекционным диарейным заболеваниям. Или солдатам, отправленным воевать за рубеж. Или посылать в места, где бушует эпидемия.
Микроскопических подручных себе строят и другие ученые. Мэттью Ук Чан настроил кишечную палочку так, чтобы та отыскивала и уничтожала Pseudomonas aeruginosa, бактерию-оппортуниста, поражающую людей со слабым иммунитетом. Искусственные бактерии, почуяв жертву, направляются к ней, шевеля жгутиками, и выпускают два боезаряда – фермент, дробящий сообщества P. aeruginosa, и антибиотик, поражающий самые уязвимые его части. Джим Коллинз из Массачусетского технологического института тоже занимается разработкой кишечных бактерий для уничтожения патогенов. Его микробы охотятся на холерный вибрион и шигеллу, вызывающую дизентерию[394].
Силвер, Чан и Коллинз занимаются синтетической биологией – молодой отраслью науки, в которой инженерное мышление орудует в мире клеток и тканей. Жаргон у них практичен и бесстрастен: гены для них – «части» или «кирпичики», из которых можно собрать «модули» и «цепи». Зато сами они так и пышут творческой энергией. Популяризатор науки Адам Резерфорд как-то сравнил их с диджеями хип-хопа 1970-х годов – те положили начало новому музыкальному направлению, составляя новые крутые комбинации из уже существующих семплов и битов[395]. Вот и специалисты по синтетической биологии создают ремиксы из генов, чтобы дать начало новому поколению пробиотиков.
«С бактериями в этом плане проще – тут можно разв№ернуться», – говорит специалист по клетчатке Джастин Зонненберг. Бактерия, встречающаяся в естественной среде, может прекрасно справляться с расщеплением клетчатки, переговорами с иммунной системой или созданием нейромедиаторов, но со всем сразу – вряд ли. Хотите новое качество – придется искать новых бактерий. Или просто загрузить нужные цепи в один-единственный синтетический микроорганизм. «Планируется создать список частей, которые можно будет добавлять и сразу с ними работать, ожидая предсказуемых результатов», – делится планами Зонненберг.
Специалисты по синтетической биологии занимаются не только охотой на патогенов. Они также могут настроить созданных микробов так, чтобы те уничтожали раковые клетки или делали токсины полезными. Некоторые из них пытаются дать новый толчок природной способности нашего микробиома создавать антибиотики для контроля над другими микробами, или иммунные молекулы для избавления от хронического воспаления, или нейромедиаторы для влияния на наше настроение, или сигнальные молекулы, отвечающие за аппетит. Если вам кажется, что это вмешательство в природу, вспомните, что мы и так все это делаем, только более топорно – принимаем аспирин, флуоксетин и другие лекарства. В результате наш организм заполняется препаратами, попадающими туда в фиксированных дозах. А вот специалисты по синтетической биологии могут запрограммировать бактерию так, чтобы она вырабатывала тот же препарат там, где нужно, и ровно столько, сколько требуется. Эти микробы лечат с точностью до миллиметра и миллилитра[396].
Теоретически, во всяком случае. «Сделать так, чтобы цепь работала на доске у вас в офисе, проще простого, – объясняет Коллинз. – Но биология – штука запутанная. Создать нового микроба не так просто, как порой кажется. Задача в том, чтобы заставить цепь работать именно так, как она должна работать в тяжелых условиях организма хозяина». Для переключения гена, например, требуется энергия – возможно, синтетическая бактерия, загруженная сложными цепями, не сможет выжить посреди местных микробов с более стройными и гибкими геномами.
Один из способов добавить искусственным бактериям конкурентоспособности – его, кстати, предпочитает Зонненберг – это внедрение синтетических цепей генов в типичного жителя кишечника, например B-theta, вместо более знакомой нам кишечной палочки. Управлять кишечной палочкой проще, но с заселением кишечника она, увы, не справляется[397]. А вот B-theta прекрасно приспособлена к кишечной среде и живет там в больших количествах[398]. Что еще пожелать от будущего лесничего человеческой экосистемы? Джим Коллинз более осмотрителен. Мы еще очень многого не знаем об устройстве микробиома, так что его настораживает перспектива создания микробов, которые вполне могут сделать наш кишечник своим постоянным местом жительства. Поэтому он встраивает в свои создания переключатели, благодаря которым микробы самоуничтожаются, если что-то идет не так, а также когда они покидают организм хозяина. (Таких бактерий важно изолировать, ведь при каждом нажатии кнопки смыва в туалете они могут попасть в среду.) Силвер тоже трудится над мерами безопасности. Она вносит изменения в ДНК своих синтетических микробов, пытаясь выстроить биологическую систему защиты, не позволяющую им обмениваться генами с дикими сородичами, как принято у бактерий. Еще она планирует создать синтетические сообщества бактерий – группы, скажем, из пяти видов, полагающихся друг на друга: если представители одного вида погибнут, все остальные последуют их примеру.
Пока неясно, смогут ли эти меры удовлетворить требования органов государственного регулирования и успокоить потребителей[399]. Вокруг генетически модифицированных организмов постоянно ведутся споры, и если уж пробиотики и пересадка кала нас чему-то научили, так это тому, что мир пока не справляется с волной живых лекарств. С распространением синтетической биологии эти противоречия лишь умножатся. Однако стоит заметить, что все эти запрограммированные бактерии на самом деле не совсем синтетические. Да, они обладают необычными навыками, и гены у них настроены по-новому, но в душе они остаются кишечными палочками, B-theta и другими нашими давними приятелями, с которыми мы вот уже миллионы лет живем бок о бок. Это все те же старые добрые симбионты, только с современной изюминкой.
Пожалуй, еще более впечатляющим нам покажется создание нового симбиоза – объединение животных и микробов, никогда прежде не пересекавшихся. Одна группа исследователей на это потратила больше двадцати лет. Плоды их работы уже вовсю жужжат в воздухе восточной Австралии.
4 января 2011 года, австралийский городок Кэрнс только начал просыпаться. Скотт О’Нилл в очках, джинсах и грязно-белой футболке, на нагрудном кармане которой написано «Ликвидируем денге» (Eliminate Dengue), подходит к одноэтажному домику с желтыми стенами[400]. Надпись на футболке – это название созданной О’Ниллом организации и ее цель: ликвидировать лихорадку денге в Кэрнсе, Австралии, а когда-нибудь, возможно, и во всем мире. Все, что ему для этого необходимо, находится в небольшом пластиковом стаканчике у него в руке. О’Нилл несет стаканчик к дому, минуя забор, проходит по усаженной цветами террасе и оказывается у высокой пальмы. Шагает он неспешно и, кажется, немного стесняется. Еще бы, ведь это крайне знаменательный момент. Десятка два человек смотрят на него, снимают на камеру, переговариваются и шутят между собой. О’Нилл останавливается и задирает голову. «Ну что, готовы?» – спрашивает он. Толпа радостно аплодирует – они давно ждали этого момента. О’Нилл снимает со стаканчика крышку, и из него вылетают, весело жужжа, несколько десятков комаров. «Вот так! Летите, крошки!» – кричит один из зрителей.
Эти черно-белые комары – представители вида Aedes aegypti, разносчики вируса денге, вызывающего тропическую лихорадку. От укусов этих комаров по всему миру каждый год заражаются 400 миллионов человек. Сам О’Нилл лихорадкой денге никогда не болел, зато он повидал не одного больного. Он знает, каково это – высокая температура, головная боль, сыпь, боли в мышцах и суставах… Он знает, что вакцины нет и полностью вылечить лихорадку нельзя. Единственный реальный способ контролировать денге – предотвратить ее. Мы травим комаров Aedes средствами от насекомых, брызгаемся репеллентами и защищаем тело специальными костюмами, чтобы они до нас не добрались, избавляемся от озер со стоячей водой, в которой они размножаются. Однако лихорадку денге это не останавливает – с каждым годом случаев заражения все больше. Требуется принципиально новое решение, и у О’Нилла такое как раз есть. Его план – весьма необычный – состоит в том, чтобы выпустить в естественную среду еще больше комаров Aedes. Однако его комары кое-чем отличаются от своих диких сородичей. Они переносят бактерию, с которой вы уже знакомы, – суперсимбионта Wolbachia[401].
О’Нилл выяснил, что вольбахия превращает комаров из переносчиков вируса денге в его последнее пристанище. Изловить всех комаров и заразить их вольбахией, естественно, невозможно, но О’Ниллу и не придется. Ему нужно лишь выпустить на природу несколько переносчиков вольбахии и подождать. Не забывайте, что бактерия эта – мастер манипуляций и распространиться по всей популяции насекомых одного вида ей не составит труда. Чаще всего она прибегает к эффекту цитоплазматической несовместимости: у пораженных вольбахией самок больше шансов отложить яйца с жизнеспособным потомством (которому бактерия передается по наследству), чем у здоровых. Благодаря этому преимуществу вольбахия способна быстро захватить целую территорию – а ее господство означает вырождение вируса денге. О’Нилл планирует выпустить на природу достаточно особей с вольбахией, чтобы создать популяцию устойчивых к вирусу комаров. Те, что были выпущены в Кэрнсе, стали первыми. Это была кульминация многолетней тяжелой и упорной работы, что доводила порой до отчаяния. «За этим словно вся жизнь моя прошла», – говорит О’Нилл.
Его попытки сделать из вольбахии грозу тропической лихорадки начались еще в 1980-х. Несколько лет прошли безрезультатно, его научная группа зашла в изрядное количество тупиков. Кое-что начало получаться лишь в 1997 году – О’Нилл узнал об особо вирулентном штамме вольбахии, поражающем плодовых мушек. Этот штамм окрестили «попкорном»: попав в организм взрослой особи, он принимался стремительно размножаться в ее мышцах, глазах и головном мозге, да так, что нейроны в организме мушки вскоре становились «похожи на кульки с попкорном». У пораженных мушек продолжительность жизни порой сокращалась вдвое. «Тогда для меня это стало «эврикой», – рассказывает О’Нилл. Он знал, что вирусу денге для размножения в организме комара требуется довольно много времени, а чтобы добраться до слюнных желез, из которых он затем попадает в организм нового хозяина, – и того больше. Значит, разносчиками лихорадки могут быть лишь пожилые особи. Если бы у О’Нилла получилось в два раза уменьшить их продолжительность жизни, они умирали бы до того, как у них появится возможность кого-нибудь заразить. Оставалось лишь заразить их «попкорном».
Вольбахия, вообще-то, поражает представителей самых разных видов комаров. Вспомните, ведь впервые ее открыли в Culex, когда никто и представить себе не мог, что она настолько вездесущее создание. Вот только две самых опасных для человека группы, как назло, к ней невосприимчивы: это Anopheles, переносчики малярии, и Aedes, переносчики желтой лихорадки, денге и чикунгуньи. О’Нилл решил заняться созданием совершенно нового симбиоза. Однако нельзя было просто ввести вольбахию в организм взрослой особи. Нужно было заразить яйцо – только тогда вольбахия будет присутствовать во всех органах вылупившегося насекомого. Так что О’Нилл с коллегами уселись за микроскопы и принялись аккуратно протыкать комариные яйца иголкой с вольбахией. За много лет они проткнули сотни тысяч яиц, но у них так ничего и не вышло. «Я всем этим студентам просто-напросто исковеркал карьеру и уже подумывал о том, чтобы сдаться, – вспоминает О’Нилл. – Но мои садистские наклонности не давали мне успокоиться. В 2004 году ко мне в лабораторию зашел один очень уж талантливый студент, и я просто не удержался. Я показал ему наш старый проект, и он принялся над ним работать с таким усердием, какого я давно не видал. Это был Конор Макмениман. Один из лучших студентов, что когда-либо у меня учились. Благодаря ему наша затея сработала». Для этого потребовалась еще не одна тысяча попыток, но в 2006 году Макмениман в конце концов смог успешно заразить яйцо, создав тем самым линию Aedes с вольбахией. В данной книге мы обсуждали союзы между животными и микробами, которым уже много миллионов лет. А этому союзу на момент написания книги исполнилось всего десять[402].
И после стольких усилий ученые обнаружили в своих планах роковую ошибку: штамм «попкорн» оказался слишком вирулентным. Он не только нес самкам преждевременную смерть – из-за него также уменьшалось количество отложенных ими яиц и понижалась их жизнеспособность, а значит, снижались и шансы бактерий попасть в следующее поколение комаров. В результате экспериментов выяснилось, что в природных условиях он вообще распространиться не сможет[403]. В общем, полный провал.
Однако вскоре О’Нилл понял, что это и не важно. В 2008 году две независимые группы исследователей выяснили, что благодаря вольбахии плодовые мушки становятся невосприимчивы к группе вирусов, вызывающей лихорадку Западного Нила, лихорадку денге, желтую лихорадку и другие заболевания. О’Нилл, узнав об этом, тут же попросил членов своей команды дать зараженным вольбахией комарам попить крови, в которой содержался вирус денге. Закрепиться в организме вирус так и не смог. Вольбахия не давала ему размножаться даже в тех случаях, когда исследователи вводили его напрямую в комариный кишечник. Так выяснилось, что ученым совсем не нужно было сокращать продолжительность жизни комаров с помощью вольбахии. Чтобы остановить распространение вируса денге, требовалось лишь ее присутствие! И что еще лучше, в «попкорне» больше не было нужды. Ту же задачу вполне могли выполнять другие, менее вирулентные штаммы, да и распространиться им было бы куда проще. «Мы столько лет бились головой об стену, а тут оказалось, что и не надо было!» – восторгается О’Нилл[404].
Исследователи взялись за работу со штаммом wMel. Послужной список по заражению диких популяций насекомых у него внушительный, но товарищ из него выходит куда приятнее, чем у «попкорна»: жизнь не сокращает, мозг не разрушает, яйца не уничтожает. Сможет ли он распространиться? Чтобы это выяснить, было построено два огромных вольера, в которые О’Нилл запустил комаров. На каждую незараженную особь в вольере приходилось два переносчика wMel. Еще в вольеры поставили самодельный навес, чтобы комарам было где спрятаться, и вывалили на пол несколько мокрых и грязных полотенец, чтобы их привлечь. Каждый день по пятнадцать минут в вольеры пускали сочных и мясистых членов команды, чтобы комарам с вольбахией было чем питаться. Каждые несколько дней из вольеров доставали комариные яйца и проверяли, присутствует ли в них вольбахия. Три месяца спустя каждая личинка была заражена wMel[405]. Все говорило о том, что новый план сработает и пора начинать.
Ну, они и начали. С 2006 года – еще до того, как были получены комары с вольбахией, – группа О’Нилла принялась распространять информацию о своей работе среди жителей Йоркис-Ноб и Гордонвейла, пригородов Кэрнса[406]. Привет, говорили ученые, мы хотим избавить мир от лихорадки денге. Да, мы в курсе, что вас всегда учили убивать комаров, чтобы они вас не заразили, но сейчас мы будем вам очень благодарны, если вы нам позволите выпустить в природу еще комаров. Нет, они не модифицированы генетически, зато у них в организме есть микроб, который умеет очень быстро распространяться. Кстати, комары Aedes далеко не улетают, а значит, чтобы все сработало, нам придется выпустить их в самых разных местах, в том числе и у вашего дома. Да, они, скорее всего, вас укусят. Нет, раньше такого никто не делал. Ну что, согласны?
Удивительно, но многие действительно согласились. На протяжении двух лет ученые интервьюировали фокус-группы, устраивали выступления в местных залах, пабах и клиниках, чтобы жители имели возможность обо всем их расспросить. Пришлось постучаться не в одну дверь. «Для нашего проекта требовалось доверие местных жителей. Мы его заработали, но на это ушло немало времени, – рассказывает О’Нилл. – Мы терпеливо всех выслушивали. Если кого-то что-то беспокоило, мы все объясняли, а иногда даже проводили соответствующие опыты». Они показали, например, что вольбахия не заражает рыбу, пауков и других питающихся комарами хищников, а также людей, чьей кровью питаются комары. Со временем даже скептики начали поддерживать их идею. «Местная группа волонтеров, что занимается мобилизацией жителей во время наводнений и циклонов, как-то попросила у нас разрешения походить от нашего имени по домам, чтобы убедить людей разрешить нам выпустить в их дворах комаров, – рассказывает О’Нилл. – Вот такой поворот». К 2011 году, когда комары были готовы, проект получил поддержку 87 % местных жителей.
По-настоящему все началось тем январским утром, когда О’Нилл с важным видом открыл стаканчик с комарами. «Радость нас опьянила, – вспоминает он. – Мы несколько чертовых десятилетий ради этого работали. Вся команда, прошедшая весь этот путь со мной, пришла, чтобы лично присутствовать при этом моменте». Они гордо прошлись по улицам, останавливаясь у каждого четвертого дома, чтобы выпустить несколько десятков комаров. За два месяца они отпустили на волю около 300 тысяч, пришлось лишь ненадолго прерваться из-за циклона. Затем члены команды каждые две недели вылавливали в пригородах комаров с помощью различных ловушек, чтобы осмотреть их организм на присутствие вольбахии. «Получилось даже лучше, чем мы ожидали», – радуется О’Нилл. К маю вольбахия уже уютно устроилась в организмах 80 % комаров в Гордонвейле и 90 % – в Йоркис-Ноб[407]. Всего за четыре месяца на смену почти всем обычным комарам пришли комары, устойчивые к вирусу денге. Ученым впервые удалось изменить обитающую в природе популяцию насекомых так, чтобы те перестали разносить опасную для человека болезнь. И сделали они это с помощью симбиоза.
Однако организация О’Нилла называется не «Модицифируем комаров», а «Ликвидируем денге». Получилось ли у них это? В тех двух пригородах с 2011 года не было новых случаев заражения. Это воодушевляет, если не убеждает окончательно. Однако и особо «лихорадочными» ни тот ни другой пригород никогда не были – как, собственно, и вся Австралия. О’Нилл сможет заявить о своей победе лишь тогда, когда его комары избавят от вируса денге страны, где он представляет наибольшую угрозу. Потому-то сейчас члены его организации работают в Бразилии, Колумбии, Индонезии и во Вьетнаме[408]. В 2004 году все началось с О’Нилла и его лаборантов. Сейчас «Ликвидируем денге» – международный коллектив ученых и работников сферы здравоохранения.
В Австралии же члены научной группы и их комары добрались до северного городка Таунсвилла. Там около 200 тысяч жителей, так что лично постучаться в каждый дом точно не выйдет. Ученые рассчитывают на освещение в СМИ, массовые мероприятия и инициативу местных жителей – помощь предлагают многие, даже школьники. Да и выпускать повсеместно взрослых комаров слишком обременительно. Вместо этого исследователи раздают домовладельцам контейнеры с комариными яйцами, водой и едой, а те выращивают комарят у себя в саду. «Когда-нибудь мы и до тропических мегаполисов доберемся», – мечтает О’Нилл.
Трудности везде возникают разные. К примеру, если в городе щедро используют инсектициды, местные комары вырабатывают к ним частичную устойчивость. Выпускать туда комаров-австралийцев, в жизни не нюхавших средства от насекомых, бессмысленно: они откинут лапки, не успев передать симбионтов следующему поколению. А значит, комарам с вольбахией нужна как минимум та же степень устойчивости, что и местным. Возможно, тут поможет межвидовое скрещивание. Работники индонезийского отделения «Ликвидируем денге» скрещивают переносчиков вольбахии с местными комарами на протяжении нескольких поколений, чтобы их комары стали как можно более похожими на индонезийских. К тому же это поможет им более успешно спариваться. «Каждая местность уникальна по-своему, – говорит О’Нилл. – Однако вольбахия, по нашим наблюдениям, везде справляется отлично. Судя по всему, можно начинать использовать ее по всему миру. Через два-три года у нас будет достаточно доказательств того, что наш метод действительно работает. А лет через десять-пятнадцать, думаю, мы пробьем в армии лихорадки денге заметную брешь».
Скептики не устают напоминать, что у эволюции на любое вмешательство найдется ответ – как бы мы ни бились, она сумеет парировать. Рано или поздно вирус денге выработает устойчивость к покусившейся на его территорию вольбахии и снова примется заражать комаров. Эволюция, как говорил британский ученый Лесли Орджел, умнее вас. Однако Элизабет Макгро, давняя соратница О’Нилла, настроена оптимистично. Результаты исследований ее научной группы говорят о том, что вольбахия защищает комаров от вирусной инфекции не одним способом. Она ко всему прочему укрепляет их иммунитет и поглощает необходимые вирусам для размножения питательные вещества, такие как жирные кислоты и холестерин[409]. «Чем больше у вас защитных мер, тем с меньшей вероятностью у вируса получится выработать устойчивость, – объясняет она. – Нас, эволюционных биологов, такой расклад вполне обнадеживает».
Еще О’Нилл и Макгро утверждают, что перспектива развития резистентности возникает при попытке бороться с вредоносным агентом с помощью инсектицидов, вакцин и тому подобных средств. Вольбахия, в отличие от них, живой организм, а значит, сможет приспособиться ко всем адаптациям вируса. К тому же она безопасна и не требует больших затрат. Инсектициды – штука токсичная, да и распылять их нужно регулярно. Комары же не вызывают никаких побочных эффектов и размножаются самостоятельно. «Нужно только начать, а там их уже будет не остановить, – улыбается О’Нилл. – Мы стараемся снизить затраты до двух-трех долларов на человека».
О’Нилл не скрывает восторга от успехов в исследованиях вольбахии. «Когда-то мы сидели себе спокойно в лаборатории, изучали симбиоз и никого не трогали, – рассказывает он. – А в итоге из обычной отрасли фундаментальной науки вышло нечто удивительное и полезное». Вольбахия справляется не только с вирусом денге, но и с вирусами чикунгуньи и Зика, а также с плазмодиями, вызывающими малярию: так, научная группа из Китая и США оснастила вольбахией малярийных комаров[410]. Другие исследователи сейчас пытаются с помощью вольбахии справиться с мухами цеце и постельными клопами: первые разносят сонную болезнь, вторые вызывают бессонные ночи. «Все это – лишь часть нового менталитета, касающегося микробной экологии живых организмов и ее связи с заболеваниями», – отмечает О’Нилл.
В 1916 году, за сто лет до того, как эта книга впервые появилась в магазинах, ушел из жизни своенравный русский ученый и любитель прокисшего молока Илья Мечников. Мог ли он себе представить, что когда-то его методы лягут в основу многомиллиардной отрасли производства, продукты которой окажутся на полках супермаркетов по всему миру, несмотря на то что их польза пока так и не доказана? В 1923 году американский микробиолог Артур Исаак Кендалл опубликовал книгу по бактериологии, в которой предсказал, что скоро наступит время, когда кишечные бактерии начнут использоваться в лечении кишечных заболеваний. Мог ли он себе представить, что человеческие фекалии начнут замораживать и рассылать по больницам для пересадки в организм больных? В 1928 году британский бактериолог Фредерик Гриффит обнаружил, что бактерии могут обмениваться друг с другом качествами и меняться с помощью фактора, который позже назовут ДНК. Мог ли он предсказать, что когда-нибудь ученые смогут в рабочем порядке изменять генетический материал микробов с такой точностью, что с помощью этих изменений можно будет заставлять их охотиться друг на друга? А в 1936 году энтомолог Маршалл Гертиг решил назвать никому не известную бактерию в честь своего друга Симеона Вольбаха, с которым они за двенадцать лет до того впервые нашли ее в комаре из Бостона. Мог ли кто-нибудь из них предположить, что вольбахия окажется самой успешной бактерией во всем мире? Или что ее изучением займутся столько исследователей, что раз в два года им придется устраивать конференцию для обсуждения новых связанных с вольбахией открытий? Или что благодаря ей нематоды перестанут делать 150 миллионов человек в год инвалидами или лишать их зрения? Или что исследователи начнут специально вводить ее в комаров по всему миру, чтобы те перестали разносить лихорадку денге и другие заболевания?
Нет, конечно. Микробы скрывались от наших глаз на протяжении почти всего существования человечества – заметить их можно было лишь по вызываемым ими болезням. Они остались в тени даже после того, как Левенгук 350 лет назад впервые их увидел. А когда их наконец заметили, было решено, что они – незваные гости в человеческом мире и с ними нужно не дружить, а расправляться. Позже исследователи узнали, что наш кишечник кишит бактериями и что некоторые устроились даже в клетках насекомых, но их открытия тут же поставили под сомнение и забыли. Лишь недавно микробы перекочевали с окраины биологии в ее центр и получили всеобщее признание. Лишь недавно мы узнали о микромире достаточно, чтобы начать в него вмешиваться. Попытки наши пока что примитивны и неуклюжи, а уверенность в них порой преувеличена, но потенциал – огромен. Наконец-то мы начали использовать для улучшения нашей жизни все, что узнали с тех времен, когда Левенгуку вздумалось рассмотреть воду в пруду.
Глава 10. А завтра – весь мир
Дом, в котором я сейчас нахожусь, – самое настоящее воплощение идиллии в американской провинции. Снаружи его стены обшиты светлыми досками, на крыльце расположилось кресло-качалка, а по окрестностям на велосипедах катаются соседские детишки. Внутри же куча места – Джек Гилберт и его жена Кэт даже не знают, чем занять его излишки. Они британцы, как и я, и привыкли к домам поменьше и поуютнее. Еще они очень веселые и добродушные, Джек пышет энергией, Кэт же уравновешенна и спокойна. Дилан, один из их сыновей, смотрит мультики, а второй, Хэйден, по одному ему известным причинам пытается наподдать мне кулаком по пятой точке. Я прислоняюсь к кухонной тумбе в надежде укрыться от нападения и продолжаю попивать чай. А заодно, сам того не желая, распространяю микробы по чашке, тумбе и вообще по всей прекрасно обставленной кухне.
Между прочим, Гилберты в этом плане ничем не лучше меня. Мы уже знаем, что от нас исходит бактериальный запах, как и от гиен, слонов и барсуков. Но и самих бактерий мы тоже распространяем. Каждый из нас все время наполняет пространство вокруг себя своими микробами. Прикасаясь к предметам, мы оставляем на них отпечаток с бактериями. С каждым шагом, словом, чихом, почесыванием и шарканьем ногой мы выбрасываем в воздух облако наших личных микробов – примерно 37 миллионов в час[411]. Другими словами, наш микробиом не ограничивается нашим телом: из него он постоянно исходит в окружающую среду. Сидя у Гилберта в машине, когда мы ехали к нему домой, я усеял своими микробами все сиденье. Сейчас вот я облокотился на тумбу, а мои бактерии ее метят. Да, я действительно вмещаю множества, но не все: некоторые простираются за пределы моего тела своеобразной живой аурой.
Гилберты, чтобы эти «ауры» исследовать, на протяжении шести недель ежедневно брали ватными палочками пробы с выключателей, дверных ручек, кухонной мебели и пола спальни, а также со своих рук, ступней и из ноздрей[412]. То же самое по их просьбе делали жители еще шести домов – как живущие в одиночку и парами, так и семьи с детьми. Так появился проект «Домашний микробиом». Его результаты показывают, что свой микробиом есть у каждого дома, причем большую его часть составляют бактерии проживающих в этом доме людей. Выключатели и дверные ручки усеяны бактериями с их рук, пол – микробами с их ног, а по кухонному столу катаются крохотулечки с их кожи. И происходит это заселение куда быстрее, чем вы думаете. Три семьи за время исследования переехали, и ситуация с микробами в новых домах вскоре стала такой же, как там, где они жили раньше, включая один случай, когда участник до переезда снимал номер в отеле. На то, чтобы освоиться в новом доме и на новой мебели, нашим микробам требуется лишь 24 часа – так что всего через сутки все вокруг начнет в прямом смысле отражать вашу сущность. Когда вы приходите в гости к приятелю, а он просит вас чувствовать себя как дома, у вас на самом деле и выбора-то нет.
На микробиомы наших сожителей мы тоже влияем. Научная группа Гилберта выяснила, что у соседей по комнате общих микробов больше, чем у тех, кто живет раздельно, а у супружеских пар и того больше – недаром ведь при заключении брака супруги обещают до конца жизни делиться друг с другом всем, что имеют! А уж если в доме есть собака, схожесть микробиомов ее хозяев подскакивает до небывалых высот. По словам Гилберта, «собаки заносят микробов в дом с улицы и вдобавок к этому помогают бактериям перемещаться от человека к человеку». Опираясь на эти результаты, а также на исследование Сьюзен Линч, доказывающее, что в собачьей шерсти живут противоаллергенные микробы, Гилберты решили завести пса по кличке Капитан Боу Диггли, бело-рыжую помесь золотистого ретривера, колли и пиренейской горной собаки. «Мы решили, что нашим домашним микробам не помешает разнообразие, а детям – помощь в укреплении иммунитета, – объясняет Гилберт. – Кличку ему дал Хэйден. Кстати, Хэйден, откуда ты ее взял?» «Сам придумал», – хвастается Хэйден.
Собаки, люди да и вообще все животные существуют в мире микробов. Перемещаясь по этому миру, мы меняем окружающие нас микроорганизмы. По пути в Чикаго в гости к Гилбертам я оставил своих кожных микробов в гостиничном номере, в кафе, в нескольких такси и на одном сиденье в самолете. А старина Капитан Диггли так вообще представляет собой мохнатый вагончик, на котором микробы из почвы и воды Нейпервилла могут с комфортом добраться до дома Гилбертов. Гавайская эупримна по утрам выбрасывает в воду светящихся симбионтов Vibrio fischeri. Гиены метят траву эксклюзивным микробным граффити. К тому же все мы постоянно принимаем микробов в наши тела и на кожу – во время дыхания и приема пищи, при ходьбе и прикосновениях, в момент получения травм и укусов. Наши микробиомы обладают своеобразными усиками, которые связывают нас с окружающим миром.
Гилберт хочет больше разузнать об этих связях, стать своего рода таможенником на границе человеческого тела, чтобы точно выяснить, какие микробы в него входят, а какие покидают, откуда они прибывают и куда направляются. Однако с людьми такой номер просто так не пройдет. Из-за нашего постоянного перемещения в пространстве и взаимодействия с предметами и другими людьми отследить путь одной-единственной бактерии становится практически невозможно. «Я эколог. Мне хочется рассматривать человека как изолированный объект, но мне попросту не позволяют, – жалуется Гилберт. – Я предлагал для эксперимента запереть нескольких человек на шесть недель в комнате, но в экспертном совете мне отказали».
Что ж, ему пришлось перейти на дельфинов.
«Сколько вам нужно проб?» – спрашивает Берни Масиоль, ветеринар дельфинария. «А сколько вы уже сняли?» – задает ответный вопрос Гилберт.
«Три».
«Не могли бы вы их снять повторно? А может, с другого участка кожи? С подмышки, например. То есть не с подмышки, а… Как у дельфинов называются подмышки?»[413]
Мы находимся в дельфинарии Аквариума Шедда, он представляет собой огромный резервуар, украшенный искусственными скалами с растущими на них деревьями. Джессика, дрессировщица в черно-синем купальнике, заходит в воду и шлепает по поверхности воды ладонью. К ней подплывает Сагу, тихоокеанский дельфин. Он настоящий красавец, его кожа на вид напоминает ламинированный рисунок углем. Он еще и послушный: когда Джессика поворачивает ладони вниз и взмахивает руками в стороны, Сагу переворачивается на спину и выставляет напоказ молочно-белый живот. Масиоль берет ватную палочку, протирает ей дельфинью подмышку, засовывает в стерильную баночку и отдает Гилберту. Затем этой процедуре подвергаются подмышки еще двух дельфинов, Кри и Пикет, плавающих под присмотром дрессировщиков.
«Мы берем пробы с дыхала, кожи и фекалий, – рассказывает Джессика. – Чтобы снять пробу с дыхала, я придерживаю рукой голову дельфина, закрываю отверстие чашкой Петри и легонько нажимаю, чтобы дельфин резко выдохнул. А при сборе анализа кала они переворачиваются, я вставляю им маленький резиновый катетер и выдергиваю уже с образцом. Чего-чего, а фекалий у нас тут хватает».
Проект «Микробиом аквариума» дает Гилберту то, чего нет ни у него дома в Нейпервилле, ни в любом другом доме, – возможность всеведения. Здесь известны даже малейшие детали окружающей животных среды. Температура воды, уровень минерализации, химический состав – все это регулярно измеряется. Здесь у Гилберта есть возможность анализировать микробиом дельфинов и дрессировщиков, а также воды, пищи, резервуаров и воздуха – и в течение шести недель именно этим он каждый день и занимался. «Тут, – говорит Гилберт, – животные обладают естественными микробиомами и обитают в среде, приближенной к естественной, так что мы смогли отследить все взаимодействия микробов с этой средой». Таким образом ему удалось добыть уникальные данные о связи микробов в организме животного и вне его.
В океанариуме сейчас идет работа над несколькими проектами, направленными на улучшение жизни его подопечных[414]. Билл Ван Бонн, вице-президент Аквариума Шедда по охране здоровья животных, делится историей о том, как раньше всю воду в главном океанариуме – больше 11 миллионов литров! – каждые три часа прогоняли через очистительную систему фильтров. «Знаешь, сколько на это энергии уходило! Зачем мы так часто это делали? А затем, что думали, чем вода будет чище, тем животные будут здоровее и счастливее! – говорит Ван Бонн с напускным восторгом. – А когда мы стали очищать только половину воды, ее химический состав и состояние здоровья животных взяли да улучшились, представляешь?»
Ван Бонн подозревает, что с улучшением санитарных условий они переборщили, ведь в итоге из океанариума исчезли полезные микробы, а вредные получили возможность беспрепятственно размножаться. Вам эта ситуация ничего не напоминает? Верно, то же самое случается в кишечниках больных, принимающих антибиотики. Из-за антибиотиков из экосистемы пропадают микробы, выполняющие полезные функции. Им на смену приходят их естественные конкуренты – патогены вроде C-diff. Стерильность – это не цель, а проклятие, и разнообразная экосистема гораздо лучше, чем истощенная. Это справедливо как для океанариума, так и для кишечника – да и для больницы тоже.
«Я доктор Джек Гилберт. Мы находимся возле больницы», – Джек Гилберт показывает на огромное здание за спиной.
Мы приехали в Центр ухода и открытий при Чикагском университете – недавно построенное здание, напоминающее торт с чередующимися серыми, оранжевыми и черными коржами. Гилберт перед ним пытается снимать проморолик. Не уверен, что оператору удастся записать приличный звук: ветер слишком сильный. Более уверен я в том, что Гилберт замерз. И совершенно точно убежден, что здание представляет собой больницу.
Незадолго до ее открытия в феврале 2013 года группа исследователей во главе с Саймоном Лэксом, студентом Гилберта, прошлась с ватными палочками наперевес по пустующим больничным коридорам. Они заглянули в десять палат и два поста медсестер, расположенные на двух этажах: один для пациентов, которых скоро выпишут, другой – для тех, кто останется здесь надолго, например больных раком и реципиентов органов. Людей в палатах пока не было, зато были микробы, которых ученые и собирали. Они сняли пробы с девственно чистых полов, блестящих краников и спинок кроватей, а также простыней, сложенных уголок к уголку. Кроме того, пробы были взяты с выключателей, дверных ручек, вентиляции, телефонов, клавиатур и много чего еще. Затем в комнатах были размещены регистраторы, измеряющие уровень освещенности, температуру, влажность и давление воздуха, детекторы углекислого газа, позволяющие узнать, есть ли в комнате люди, и инфракрасные сенсоры, записывающие, когда в палату входили или выходили из нее. После торжественного открытия больницы исследователи продолжили работу. Теперь пробы брались как с палат, так и с пациентов[415].
Составить описание развивающегося микробиома новорожденного человека – обычная задача для врача, ну а Гилберт впервые составил описание микробиома нововозведенного здания. Сейчас его научная группа в процессе анализа данных: нужно узнать, как присутствие людей изменило микробную обстановку в здании, попали ли какие-то из микробов-аборигенов в организмы пациентов. В больнице эта проблема стоит острее всего. Там перемещение микробов может нарушить грань между жизнью и смертью – множеством смертей. Около 5 – 10 % пациентов в развивающихся странах подхватывают инфекцию в больницах и других здравоохранительных учреждениях – то есть заболевают как раз там, где их должны были вылечить. Только в США это примерно 1,7 миллиона заражений и 90 тысяч смертей в год. Откуда берутся ответственные за эти инфекции патогены? Из воды? Из вентиляции? А может, от работников больниц? Именно это и планирует узнать Гилберт. Исследовав собранные его группой данные – огромный массив данных! – он сможет отследить передвижения микробов, скажем, с выключателя на руку доктора, а оттуда – на спинку кровати пациента[416]. И возможно, у него получится придумать, как ограничить столь опасные для нашей жизни микробные путешествия.
Эта проблема появилась уже давно. Еще в 1860-х Джозеф Листер ввел в своей больнице обязательные методы стерилизации, благодаря чему патогенам стало гораздо сложнее распространяться. Простые меры, такие как мытье рук, несомненно, спасли бесчисленное количество жизней. Но вместе с тем мы нередко объедаемся антибиотиками и выливаем на себя антисептики тюбик за тюбиком. Эта чрезмерная погоня за стерильностью не обошла и здания – даже больницы. В одной американской больнице недавно потратили 700 тысяч долларов на укладку напольного покрытия с антибактериальными веществами, даже не зная, действительно ли это поможет. Есть вероятность, что проблемы могли обостриться еще сильнее. Как в случае с дельфинарием и человеческим кишечником, в порыве сделать больницы стерильными мы, возможно, создали брешь в микробиоме самих зданий. Быть может, уничтожив полезные бактерии, мы, сами того не желая, создали еще более опасную экосистему.
«Нам нужно, чтобы в зданиях обитали полезные микробы, ну или хотя бы чтобы они сидели на одном месте и ни с кем не взаимодействовали, – добавляет Шон Гиббонс, еще один студент Гилберта. – Разнообразие тут не повредит». Если переборщить с антисептический обработкой, это разнообразие можно уничтожить. Гиббонс это доказал своим исследованием общественных туалетов[417]. Он выяснил, что в чисто вымытых туалетах первым делом поселяются фекальные микробы – они распространяются по воздуху при смыве. Через некоторое время их понемногу начинают заменять разнообразные кожные микробы, но потом туалет моют снова, и все начинается заново. Такова ирония: если мыть туалет слишком часто, фекальных бактерий там будет больше.
Джессика Грин, в прошлом инженер, а ныне эколог из Орегона, обнаружила похожую ситуацию у микробов, обитающих в палатах с кондиционером[418]. «Сначала я предположила, что сообщество микробов в воздухе внутри будет напоминать то, что снаружи, – рассказывает Джессика. – А оказалось, что совпадений между ними очень мало, а иногда и вообще нет!» Снаружи в воздухе обитали безвредные почвенные и растительные микробы. В палате же было необычно много потенциальных патогенов: они попадали в воздух из организмов пациентов, и за окном их почти не было. Пациенты попросту варились в собственном микробном соку! И ведь исправить это проще простого: нужно всего лишь открыть окно.
Флоренс Найтингейл, известная на весь мир спасительница жизней военных, полтора века назад утверждала то же самое. О микробиоме ей знать было неоткуда, зато во время Крымской войны она заметила, что пациенты быстрее оправляются от заражения, если окно в их палате открыто. «Настоящий свежий воздух может проникнуть в помещение только через окна, причем лишь те, что расположены на обветриваемой стороне», – писала она. Любому экологу это покажется вполне логичным: вместе со свежим воздухом в палату попадают безобидные микробы и занимают в ней место, а значит, патогенам остается меньше места. Однако сама мысль о том, чтобы специально запускать микробов в палату, противоречит нашему представлению о работе больниц. «Мы почему-то уверены, что в больницах и во многих других зданиях все, что находится снаружи, должно там и оставаться», – объясняет Грин. Эта мысль засела в головах людей так прочно, что Джессике во время исследования приходилось уговаривать руководство больницы разрешить ей вскрыть окна в некоторых палатах – на них давно стояли запоры.
Возможно, пора перестать считать микробов непрошеными гостями и начать зазывать их к себе. Впрочем, мы и так этим занимаемся, сами того не подозревая. Исследователи из команды Грин в 2014 году посетили только что построенное университетское здание «Лиллис-холл» и взяли пробы пыли в трехстах аудиториях, офисах, туалетах и других комнатах. Выяснилось, что на микробов в пыли влияют многие особенности комнаты: какого она размера, как соединена с другими комнатами, как часто в ней находятся люди и как она проветривается. Микробная экология здания зависит почти от каждого архитектурного решения при постройке, а от нее, в свою очередь, зависит уже наша микробная экология. Как сказал Уинстон Черчилль, «сначала мы формируем здания, а потом они формируют нас». Грин утверждает, что мы можем взять этот процесс под контроль, начав применять так называемый биоинформированный дизайн. Другими словами, нужно строить здания так, чтобы в них селились нужные нам микробы. Здесь, как и в остальных случаях, можно заметить сходства с окружающим нас миром: так, фермеры, чтобы привлечь насекомых-опылителей к своим полям, сеют вокруг них дикие цветы. Грин планирует разработать подобные приемы для архитекторов, чтобы здание само завлекало в себя разных полезных микробов. «Не пройдет и десятка лет, как архитекторы смогут использовать результаты наших исследований при планировке», – предвкушает она[419].
Джек Гилберт с ней согласен. Его планы еще более амбициозны: он собирается собственноручно заселять бактерий в здания, причем не просто разбрызгивать или выливать смесь с ними на стены. Микробы устроятся в крошечных пластмассовых сферах, разработанных инженером Рамиллой Шах. С помощью технологий 3D-печати она создаст шарики со множеством микроскопических коридорчиков и лазеек внутри. Гилберт же поселит в них полезных бактерий – например, Clostridia, мастерицу по расщеплению клетчатки и подавлению воспалительных процессов, – а также отсыплет им питательных веществ, чтобы не проголодались. Как только кому-нибудь вздумается прикоснуться к шарикам, бактерии тут же окажутся у него на коже. Сейчас Гилберт ставит опыты на стерильных мышах. Он пытается убедиться, что бактерии чувствуют себя уютно в капсулах, что они действительно перемещаются на шкуру мышей, которые играют с шариками, что они способны выжить в организме новых хозяев и при этом избавить их от воспаления кишечника. Если все получится, Гилберт надеется продолжить опыты с микробными шариками в административных зданиях и больницах. Он считает, что неплохо было бы разместить их в детских кроватках в отделениях интенсивной терапии новорожденных, чтобы малыши «постоянно взаимодействовали с полезной для них микробной экосистемой». «Еще я думаю заняться производством таких прорезывателей для зубов. Дети наверняка будут с ними играть», – добавляет он.
Эти шарики заставляют нас по-новому взглянуть на пробиотики. С ними полезные микробы попадают в организм не с йогуртами или пищевыми добавками, а через окружающую среду. «Я не собираюсь заставлять людей употреблять микробов с пищей, – объясняет Гилберт. – Нужно, чтобы в контакт с микробами вступали их носовые перегородки, ротовые полости и руки. Это гораздо более естественный способ взаимодействия с таким микробиомом».
«Хочу назвать эти штуки биошариками, – добавляет он. – Ну или микробусиками».
Я замечаю, что «микробусики» – не лучшая идея. Гилберт усмехается.
«Вот этой самой рукой я вчера пожал руку чемпионке мире по сквошу. Так я забрал у нее часть микробиома и теперь передаю его вам», – улыбается Люк Люн, пожимая руку Гилберту.
«А что, теперь моя рука научится играть в сквош?» – интересуется Гилберт.
«Только правая, – отвечает Люн. – Если вы левша, то простите уж».
Люн – архитектор. Его впечатляющее портфолио включает в себя башню «Бурдж-Калифа» в Дубае, самое высокое здание в мире. Познакомившись с Гилбертом, он тоже стал крупным поклонником микробиома – как и Карен Уайгерт, главный специалист Чикаго по рациональному использованию природных ресурсов. Мы вчетвером собрались пообедать в дорогом ресторане. Вокруг нас за столиками сидят бизнесмены в костюмах с иголочки, а за окном открывается вид на озеро Мичиган. «Вам и в голову не приходит, что все вот это на самом деле живое, – говорит Гилберт, показывая пальцем на безупречно оформленный интерьер, арочный потолок и возвышающиеся за окном небоскребы. – Но это действительно так. Это живые и дышащие существа. Бактерии – вот кто тут главные».
Гилберт пригласил сюда Люна и Уайгерт, чтобы обсудить с ними, как воплотить свои идеи в жизнь в более широком масштабе. Руководствуясь тем, что он узнал в жилых домах, океанариуме и больнице, Гилберт планирует заняться формированием микробиома городов, начиная с Чикаго. Люн для этого – идеальный партнер. В нескольких своих зданиях он расположил вентиляционную систему так, чтобы она проходила через стену растительности. И красиво, и воздух очищается. А от предложения Гилберта усеивать стены микробными шарами – кстати, я предложил назвать их Baccy Balls – он в восторге. Уайгерт мысль о задействовании бактерий в строительстве тоже нравится. Она спрашивает Гилберта, будут ли шарики работать как в домах экономического класса, так и в роскошной обстановке небоскребов. Да, отвечает он. Ему хочется сделать их стоимость как можно ниже – они должны обходиться хозяевам куда дешевле, чем целая стена из растений.
Уайгерт, воодушевившись, заводит разговор о вечной проблеме Чикаго – затоплении зданий. Канализация нередко забивается, а из-за изменения климата, вероятно, будет забиваться еще чаще. «А можем ли мы что-нибудь сделать с затоплением или его последствиями, например плесенью?» – задает вопрос она. «Вообще-то можем», – отвечает Гилберт. В одном из своих проектов он сотрудничал с компанией L’Oréal и занимался поисками бактерий, способных предотвращать появление перхоти и дерматита, мешая грибку появляться на коже головы. Возможно, эти микробы когда-нибудь станут основой пробиотического шампуня от перхоти. Однако они же могут помочь в создании «микробных болот», благодаря которым дома после затопления не зарастут плесенью. Во время затопления плесень получит вдоволь воды, а с ней – целый отряд противогрибковых микробов. «Эдакая встроенная автоматическая защита от плесени», – объясняет Гилберт.
«А насколько все это реально? На какой вы стадии?» – спрашивает Уайгерт.
«Противогрибковые средства у нас уже есть, теперь мы пытаемся разобраться, как поместить их в пластиковую упаковку, – рассказывает Гилберт. – Еще два-три года, и у нас появится то, что можно будет без угрызений совести применять в жилом доме, ну, не считая дома наших коллег, у них и сейчас можно. А года через три-четыре, думаю, у нас будет надежный продукт, который можно будет пускать в производство».
Я улыбаюсь: вечно ученые с оптимизмом заявляют, что все, над чем они сейчас работают, можно будет применить в жизни через пять лет.
Гилберт смеется: «Я-то сказал, что нужно три-четыре года, так что оптимизма мне точно не занимать».
Люну, кстати, тоже. «Убивать бактерий мы наловчились, теперь пора снова с ними подружиться, – говорит он. – Мы пытаемся понять, как бактерии могут помочь нам в среде, которую построили мы сами.
Я интересуюсь его мнением как дизайнера, когда здания действительно начнут строить с оглядкой на бактерий.
Он задумывается. «Скажем, лет через пять?»
Манипулирование микробиомом зданий и городов – далеко не главная задача Гилберта. Он изучает микробиом не только больницы и океанариума, но и местного тренажерного зала и общежития при колледже. Благодаря проекту «Домашний микробиом» стало известно, что человека можно в какой-то мере отследить по оставляемым им микробам. Гилберт вместе с Робом Найтом (эти двое – близкие друзья) пытается найти применение этому в судмедэкспертизе. Он исследует микробов на станциях водоочистки, в поймах рек, в водах Мексиканского залива, где не так давно произошел разлив нефти, в прериях, в отделении интенсивной терапии новорожденных и в винограде сорта «мерло». Он занимается поиском микробов, способных предотвратить появление перхоти, вызывающих аллергию на коровье молоко и задействованных в развитии аутизма. Он пытается найти в пыли микробов, благодаря которым станет понятно, почему у приверженцев двух американских религиозных течений – амишей и гуттеритов – так сильно различается статистика приступов астмы и аллергии. Он хочет выяснить, как на протяжении дня изменяется микробиом нашего кишечника и как это влияет на нашу склонность к ожирению. Он анализирует образцы микробов из организмов нескольких десятков диких бабуинов, чтобы узнать, есть ли что-то особенное в микробиоме самок, успешнее всех вскармливающих детенышей.
Наконец, вместе с Найтом и Джанет Дженссон он руководит проектом «Микробиом Земли» – это умопомрачительно амбициозный план по переписи микробов из каждого уголка планеты[420]. Ученые связываются с людьми, работающими в океанах, на пастбищах или в поймах реки, и просят их поделиться образцами и данными. В итоге они планируют научиться определять, какие в экосистеме обитают микробы, по основным факторам: температура воздуха, обилие растительности, скорость ветра и уровень освещенности, – а также понимать, как на этих микробов будут влиять изменения в среде, такие как разлив реки или смена времени суток. До нелепости амбициозные цели – многие наверняка посчитают, что достичь их невозможно. Однако Гилберта и его коллег не остановить. Не так давно они направили в Белый дом петицию о запуске «Объединенной инициативы по микробиому» – совместного проекта по созданию улучшенных инструментов для исследования микробиома и укреплению взаимодействия разных групп ученых[421].
Пришла пора мыслить по-крупному. Пришла пора, когда семьи позволяют исследователям просто так брать у них дома пробы, управляющие океанариумами заботятся о невидимых обитателях бассейнов не меньше, чем о дельфинах-обаяшках, главврачи собираются пускать микробов на больничные стены, вместо того чтобы избавляться от них, а архитекторы и чиновники за ужином в дорогом ресторане спокойно обсуждают пересадку кала. Начинается новая эпоха – человек наконец готов поприветствовать и понять мир микробов.
Обходя зоопарк Сан-Диего с Робом Найтом в начале книги, я был поражен: если не забывать о микробах, все вокруг кажется на удивление необычным. Каждый посетитель, смотритель, обитатель представлялся мне целым миром, передвижной экосистемой, взаимодействующей с другими экосистемами и совершенно не обращающей внимания на свои множества. Сидя в машине с Джеком Гилбертом и осматривая окрестности Чикаго, я тоже воспринимаю мир совсем не так, как раньше. Теперь я вижу всю микробную подноготную города – обильный пласт жизни, что его покрывает и перемещается по нему в порывах ветра, потоках воды и мешках из крови и плоти. Я вижу, как друзья, здороваясь, жмут друг другу руки и обмениваются живыми существами. Я вижу, как люди идут по улице, оставляя за собой целые облака самих себя. Я вижу, как наши решения – выбор строительных материалов для здания, проветривание комнаты, расписание, по которому уборщик вытирает пол, – повлияли на микробов вокруг нас. А на водительском сиденье я вижу человека, который заметил поток невидимой жизни и, вместо того чтобы отпрянуть от отвращения, заинтересовался им. Он знает, что бояться микробов и уничтожать их, как правило, не нужно – нужно их уважать, оберегать и изучать.
Именно с этой точки зрения и рассказана каждая история в этой книге – от проекта по избавлению круглых червей от вольбахии, что длится уже не один десяток лет, до стремления понять, как молоко питает бактерий в организме младенца; от бесстрашных путешествий к изрыгающим кипяток источникам на дне океана до мирных попыток разузнать секреты симбиоза тли. Любопытство, интерес и радость исследования – вот на чем все это основано. Именно неутолимая жажда узнать больше о природе и о том, какое место мы в ней занимаем, заставила Левенгука рассмотреть воду из пруда в самодельный микроскоп и открыть мир, о существовании которого прежде не подозревал никто. И эта жажда новых открытий не утолена до сих пор.
Во время написания этой главы я побывал на конференции, посвященной симбиозам животных и микробов, – на ней собралось немало ученых, о которых вы читали в этой книге. Такема Фукацу, король симбиоза из Японии, дождался перерыва на обед и скрылся в лесу неподалеку. Вернулся он, держа в руках баночку с несколькими «золотыми черепашками» – роскошными жучками вида Charidotella sexpunctata с блестящим, словно отлитым из золота, панцирем. Позже тем вечером Мартин Калтенпот, заклинатель пчелиных волков, рассказал мне, не скрывая восторга, что один из этих жучков на его глазах из золотого превратился в красного. Кто знает, какие у этих жуков симбионты и как жизнь жуков и бактерий изменилась с момента заключения их союза? А в последний день конференции, пока все ждали автобус, специалист по тлям Ли Генри внезапно куда-то смылся. Пять минут спустя он вернулся с пробиркой, полной тлей, которых он собрал с куста, растущего неподалеку от места, где проводилась конференция. Представители этого вида, как он мне рассказал, полностью приручили Hamiltonella – внештатного союзника тлей, что время от времени предоставляет им защиту от наездников. Как? Когда? Зачем? Генри не терпится все это узнать.
Увидеть в этом мир – то же самое, что увидеть мир в песчинке Уильяма Блейка. Когда мы начнем разбираться в своих микробиомах, симбионтах, внутренних экосистемах и неисчислимых множествах, мы поймем, что открытия поджидают нас на каждом шагу. Любой незаметный кустик готов рассказать нам самые удивительные истории. В любой части света есть заключенные сотни миллионов лет назад партнерства, которые оказали влияние на всю известную нам флору и фауну.
Мы знаем, что микробы везде и что без них не обойтись. Мы знаем, что они влияют на органы в нашем организме и на наше поведение, защищают нас от отравления и заболеваний, расщепляют пищу, настраивают нашу иммунную систему и дополняют своими генами наш геном. Мы знаем, на какие меры приходится идти животным, чтобы держать свои множества под контролем, – от надсмотрщиков экосистемы, стоящих на страже иммунитета, до сахаров в грудном молоке, которыми питаются бактерии. Мы знаем, что происходит, если эти меры не применять: обесцвеченные рифы, воспаленные кишечники, располневшие животы. И в то же время мы знаем, что гармоничные отношения с микробами дают нам новые экологические возможности и способность быстро ими воспользоваться. Мы знаем, как использовать свои множества в собственных интересах: можно пересаживать целые микробные сообщества от одного человека к другому, создавать и разрушать симбиозы и даже конструировать новых микробов. И мы пытаемся разобраться в тайнах невидимой и удивительной биологии, стоящей за червями без кишечника, что обитают в «Эдемском саду» на дне океана, за кораллами, что строят могучие рифы, за крошечными гидрами, что цепляются за ряску в пруду, за жуками, что уничтожают целые леса, за прелестными гавайскими моллюсками, что устраивают свои световые представления, за панголином, что прижался к смотрителю зоопарка, и за комарами, что вылетели на рассвете из баночки, чтобы бороться с тропической лихорадкой.
Слова благодарности
Нет, своих микробов здесь благодарить я не буду. Здесь мы ненадолго позабудем об этих крошках и поговорим об их хозяевах.
Любая книга – это результат работы больше чем одного разума, а книга о симбиозе и партнерстве – тем более. А возглавляют эти разумы Стюарт Уильямс из Bodley Head и Хилари Редмон, прежде сотрудница Ecco. Я бы назвал их редакторами, но вообще-то они скорее соучастники. Оба с самого начала поняли, что именно я собираюсь написать – рассказ о микробиоме, покрывающий все царство животных, а не только человека, здоровье или питание. Они принялись развивать эту идею, нередко понимая ее лучше, чем я сам, и неустанно ее поддерживали. Они давали мне содержательные и бесценные советы, а работать с ними было одно удовольствие. Также спасибо ПиДжею Марку, человеку, благодаря которому эта книга впервые попала в Америку, и Дениз Освальд, принявшей у Хилари редакторскую эстафету в Ecco.
Дэвид Куаммен стал первым, кому я рассказал, что планирую написать эту книгу, и он с самого начала любезно меня в этом поддерживал. Его книга «Песнь додо» помогла мне избавиться от творческого кризиса в самом начале работы, как и «Я – значит ястреб» Хелен Макдональд, «Невиданный лес» Дэвида Джорджа Хэскелла и «Быть неправым» Кэтрин Шульц[422]. Их книги, стоя у меня на полке, непрестанно напоминали мне, к какому уровню я стремлюсь.
Еще несколько человек создали среду, в которой я смог писать. Элис Траунсер подарила мне больше десяти лет, наполненных любовью и духом приключений. Она удерживала меня на плаву, пока я делал карьеру научного журналиста и писателя. Она – моя жена, подруга, собеседница, партнерша в танцах и просто замечательный человек. Я всегда буду ей благодарен. Элис Си, моя мама, ни на секунду не переставала верить в меня и поддерживать. Я могу положиться на нее во всем. Карл Циммер – мой друг, наставник и вдохновитель. С его талантом писателя может сравниться лишь его великодушие. Вирджиния Хьюз прочла первую законченную главу и высказала бесценные замечания и пожелания по ее поводу. Миэн Крист, Дэвиб Доббз, Надя Дрейк, Роуз Ивлет, Никки Гринвуд, Сара Хиом, Элок Джа, Мария Конникова, Бен Лилли, Ким Макдональд, Мэрин Маккенна, Хэйзел Нанн, Хелен Пирсон, Адам Рутерфорд, Кэтрин Шульц и Бек Смит помогли сгладить все трудности уходящего года. А Лиз Нили, неугомонный вихрь улыбок, остроумия и оптимизма, украсила мою жизнь так, что я сам не перестаю тому удивляться. Кстати, она тайно появляется в одной из первых глав.
Занимаясь работой над книгой и рассказывая о микробах на протяжении десяти лет, я повстречал не одну сотню исследователей, которые щедро делились со мной своим временем и знаниями. Я часто замечаю это качество среди ученых, особенно у тех, что занимаются исследованием симбиоза, партнерства и сотрудничества. Видимо, ты – то, что ты изучаешь. Я не смогу перечислить здесь всех, но особо мне хотелось бы выделить Джонатана Айзена, Джека Гилберта, Роба Найта, Джона Маккатчена и Маргарет Макфолл-Най – они поддерживали мой проект, выслушивали идеи и делились мнениями по поводу готовой книги до ее публикации. Айзен всегда был убежден, что к исследованиям в области микробиома нужно подходить критически и с умом – его точка зрения значительно повлияла на то, что и как я пишу. Надеюсь, за эту книгу я не получу награду «Раздутие темы микробиома». Также хочу выразить благодарность Робу Найту за организацию нашего похода в зоопарк, с которого началась эта книга, и Джеку Гилберту за веселое путешествие по Чикаго.
Спасибо Мартину Блейзеру, Сету Борденстайну, Томасу Бошу, Джону Криану, Анжеле Дуглас, Джеффу Гордону, Грегу Херсту, Николь Кинг, Нику Лейну, Рут Лей, Дэвиду Миллзу, Нэнси Моран, Форесту Роуэру, Марку Тейлору и Марку Андервуду за экскурсии по лабораториям и за обстоятельные и интересные рассказы; Нелл Бекиэрес за то, что лично познакомила меня с моллюском; Дейву О’Доннеллу, Марии Карлссон и Джастину Серуго за то, что дали мне подержать стерильных мышек; Биллу Ван Бонну за экскурсию по Аквариуму Шедда; Элизабет Бик, чей «Дайджест микробиома» оказался лучшим способом не отставать от новостей микробиологии; историкам Яну Саппу и Фанке Сангодейи, чьи книги и диссертация позволили дополнить мою работу немаловажными фактами из истории этой области; активному сообществу генетиков и микробиологов в «Твиттере», рассуждения и критика которых помогли мне исправить недочеты и не давали расслабиться; Николь Дюбилье и Неду Руби за то, что позволили журналисту – фу-у-у! – завалиться на авторитетнейшую Гордоновскую конференцию, посвященную симбиозу животных и микробов, и провести там потрясающую неделю, полную науки, походов и, увы, забивания кукурузы в дырку[423].
К сожалению, многие из тех, кто мне помог, так и не попали на страницы этой книги. Микробиология охватывает много разных тем, и одной книги явно недостаточно, чтобы рассказать о ней. Хочу заметить, что исследования, описанные в книге и приписываемые одному-двум людям, стали результатом работы множества студентов, молодых ученых и соавторов. Я старался по возможности компенсировать недосказанности в сносках, но, так или иначе, я сердечно благодарю их, сочувствую и напоминаю, что об этих темах я пишу далеко не в последний раз.
И наконец, я от всей души благодарю Уилла Фрэнсиса, своего агента. Когда-то давно приятель сказал мне, что хороший агент поможет привести мысли в порядок, продать книгу или получить необходимое продвижение и публичность, но сразу с тремя задачами не справится никто. Так вот, Уилл справился. Он много лет уговаривал меня сесть за написание книги, в январе 2014 года любезно проигнорировал мое письмо, в котором я твердо заверил его, что не собираюсь ничего писать и вообще отстань уже; через три недели любезно прочел письмо, в котором я передумал и взял свои слова обратно, и помог мне облечь смутные и расплывчатые мысли в надежный план. Он – настоящий друг, если не симбионт, и страницы этой книги многим ему обязаны.
Список литературы
Abbott, A.C. (1894) The Principles of Bacteriology (Philadelphia: Lea Bros & Co.).
Acuna, R., Padilla, B.E., Florez-Ramos, C.P., et al. (2012) ‘Adaptive horizontal transfer of a bacterial gene to an invasive insect pest of coffee’, Proc. Natl. Acad. Sci. 109, 4197–4202.
Adams, A.S., Aylward, F.O., Adams, S.M., et al. (2013) ‘Mountain pine beetles colonizing historical and naive host trees are associated with a bacterial community highly enriched in genes contributing to terpene metabolism’, Appl. Environ. Microbiol. 79, 3468–3475.
Adams, R.I., Bateman, A.C., Bik, H.M., Meadow, J.F. (2015) ‘Microbiota of the indoor environment: a meta-analysis’, Microbiome 3.
Alang, N., Kelly, C.R. (2015) ‘Weight gain after fecal microbiota transplantation’, Open Forum Infect. Dis. 2, ofv004–ofv004.
Alcaide, M., Messina, E., Richter, M., et al. (2012) ‘Gene sets for utilization of primary and secondary nutrition supplies in the distal gut of endangered Iberian lynx’, PLoS ONE 7, e51521.
Alcock, J., Maley, C.C., Aktipis, C.A. (2014) ‘Is eating behavior manipulated by the gastrointestinal microbiota? Evolutionary pressures and potential mechanisms’, BioEssays 36, 940–949.
Alegado, R.A., King, N. (2014) ‘Bacterial influences on animal origins’, Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 6, a016162–a016162.
Alegado, R.A., Brown, L.W., Cao, S., et al. (2012) ‘A bacterial sulfonolipid triggers multicellular development in the closest living relatives of animals’, Elife 1, e00013.
AlFaleh, K., Anabrees, J. (2014) ‘Probiotics for prevention of necrotizing enterocolitis in preterm infants’, in Cochrane Database of Systematic Reviews, The Cochrane Collaboration (Chichester, UK: John Wiley & Sons).
Alivisatos, A.P., Blaser, M.J., Brodie, E.L., et al. (2015) ‘A unified initiative to harness Earth’s microbiomes’, Science 350, 507–508.
Allen, S.J., Martinez, E.G., Gregorio, G.V., Dans, L.F. (2010) ‘Probiotics for treating acute infectious diarrhoea’, in Cochrane Database of Systematic Reviews, The Cochrane Collaboration (Chichester, UK: John Wiley & Sons).
Allison, M.J., Mayberry, W.R., Mcsweeney, C.S., Stahl, D.A. (1992) ‘Synergistes jonesii, gen. nov., sp.nov.: a rumen bacterium that degrades toxic pyridinediols’, Syst. Appl. Microbiol. 15, 522–529.
The Allium (2014) ‘New Salmonella diet achieves ‘amazing’ weight-loss for microbiologist’.
Altman, L.K. (1993) ‘Dr. Denis Burkitt is dead at 82; thesis changed diets of millions’, New York Times.
Amato, K.R., Leigh, S.R., Kent, A., et al. (2015) ‘The gut microbiota appears to compensate for seasonal diet variation in the wild black howler monkey (Alouatta pigra)’, Microb. Ecol. 69, 434–443.
American Chemical Society (1999) ‘Alexander Fleming Discovery and Development of Penicillin’.
Amphibian Ark (2012) ‘Chytrid fungus – causing global amphibian mass extinction’.
Anderson, D. (2014) ‘Still going strong: Leeuwenhoek at eighty’, Antonie Van Leeuwenhoek 106, 3–26.
Anderson, J.L., Edney, R.J., Whelan, K. (2012) ‘Systematic review: faecal microbiota transplantation in the management of inflammatory bowel disease’, Aliment. Pharmacol. Ther.36, 503–516.
Anukam, K.C., Reid, G. (2007) ‘Probiotics: 100 years (1907–2007) after Elie Metchnikoff’s observation’, in Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology (FORMATEX).
Archibald. J. (2014) One Plus One Equals One: Symbiosis and the Evolution of Complex Life (Oxford: Oxford University Press).
Archie, E. A. Theis, K.R. (2011) ‘Animal behaviour meets microbial ecology’, Anim. Behav. 82, 425–436.
Aroniadis, O.C., Brandt, L.J. (2014) ‘Intestinal microbiota and the efficacy of fecal microbiota transplantation in gastrointestinal disease’, Gastroenterol. Hepatol. 10, 230–237.
Arrieta, M-C., Stiemsma, L.T., Dimitriu, P.A., et al. (2015) ‘Early infancy microbial and metabolic alterations affect risk of childhood asthma’, Sci. Transl. Med. 7, 307ra152.
Asano, Y., Hiramoto, T., Nishino, R., et al. (2012) ‘Critical role of gut microbiota in the production of biologically active, free catecholamines in the gut lumen of mice’, AJP Gastrointest. Liver Physiol. 303, G1288–G1295.
Atarashi, K., Tanoue, T., Shima, T., et al. (2011) ‘Induction of colonic regulatory T cells by indigenous Clostridium species’, Science 331, 337–341.
Atarashi, K., Tanoue, T., Oshima, K., et al. (2013) ‘Treg induction by a rationally selected mixture of Clostridia strains from the human microbiota’, Nature 500, 232–236.
Aung, A. (2007) Feeding of Leucaena Mimosine on Small Ruminants: Investigation on the Control of its Toxicity in Small Ruminants (Göttingen: Cuvillier Verlag).
Bäckhed, F., Ding, H., Wang, T., et al. (2004) ‘The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage’, Proc. Natl. Acad. Sci. 101, 15718–15723.
Bäckhed, F., Fraser, C.M., Ringel, Y., et al. (2012) ‘Defining a healthy human gut microbiome: current concepts, future directions, and clinical applications’, Cell Host Microbe12, 611–622.
Bäckhed, F., Roswall, J., Peng, Y., et al. (2015) ‘Dynamics and stabilization of the human gut microbiome during the first year of life’, Cell Host Microbe 17, 690–703.
Ballal, S.A., Veiga, P., Fenn, K., et al. (2015) ‘Host lysozyme-mediated lysis of Lactococcus lactis facilitates delivery of colitis-attenuating superoxide dismutase to inflamed colons’, Proc. Natl. Acad. Sci. 112, 7803–7808.
Barott, K.L., Rohwer, F.L. (2012) ‘Unseen players shape benthic competition on coral reefs’, Trends Microbiol. 20, 621–628.
Barr, J.J., Auro, R., Furlan, M., et al. (2013) ‘Bacteriophage adhering to mucus provide a non – host-derived immunity’, Proc. Natl. Acad. Sci. 110, 10771–10776.
Bates, J.M., Mittge, E., Kuhlman, J., et al. (2006) ‘Distinct signals from the microbiota promote different aspects of zebrafish gut differentiation’, Dev. Biol. 297, 374–386.
Baumann, P., Lai, C., Baumann, L., et al. (1995) ‘Mutualistic associations of aphids and prokaryotes: biology of the genus Buchnera’, Appl. Environ. Microbiol. 61, 1–7.
BBC (23 January 2015) The 25 biggest turning points in Earth’s history.
Beasley, D.E., Koltz, A.M., Lambert, J.E., et al. (2015) ‘The evolution of stomach acidity and its relevance to the human microbiome’, PLoS ONE 10, e0134116.
Beaumont, W. (1838) Experiments and Observations on the Gastric Juice, and the Physiology of Digestion (Edinburgh: Maclachlan & Stewart).
Becerra, J.X., Venable, G.X., Saeidi, V. (2015) ‘Wolbachia-free heteropterans do not produce defensive chemicals or alarm pheromones’, J. Chem. Ecol. 41, 593–601.
Becker, M.H., Walke, J.B., Cikanek, S., et al. (2015) ‘Composition of symbiotic bacteria predicts survival in Panamanian golden frogs infected with a lethal fungus’, Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 282.
Belkaid, Y., Hand, T.W. (2014) ‘Role of the microbiota in immunity and inflammation’, Cell 157, 121–141.
Bennett, G.M., Moran, N.A. (2013) ‘Small, smaller, smallest: the origins and evolution of ancient dual symbioses in a phloem-feeding insect’, Genome Biol. Evol. 5, 1675–1688.
Bennett, G.M., Moran, N.A. (2015) ‘Heritable symbiosis: the advantages and perils of an evolutionary rabbit hole’, Proc. Natl. Acad. Sci. 112, 10169–10176.
Benson, A.K., Kelly, S.A., Legge, R., et al. (2010) ‘Individuality in gut microbiota composition is a complex polygenic trait shaped by multiple environmental and host genetic factors’, Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 18933–18938.
Bercik, P., Denou, E., Collins, J., et al. (2011) ‘The intestinal microbiota affect central levels of brain-derived neurotropic factor and behavior in mice’, Gastroenterology 141, 599–609.e3.
Berer, K., Mues, M., Koutrolos, M., et al. (2011) ‘Commensal microbiota and myelin autoantigen cooperate to trigger autoimmune demyelination’, Nature 479, 538–541.
Bergman, E.N. (1990) ‘Energy contributions of volatile fatty acids from the gastrointestinal tract in various species’, Physiol. Rev. 70, 567–590.
Bevins, C.L., Salzman, N.H. (2011) ‘The potter’s wheel: the host’s role in sculpting its microbiota’, Cell. Mol. Life Sci. 68, 3675–3685.
Bezier, A., Annaheim, M., Herbiniere, J., et al. (2009) ‘Polydnaviruses of braconid wasps derive from an ancestral nudivirus’, Science 323, 926–930.
Bian, G., Joshi, D., Dong, Y., et al. (2013) ‘Wolbachia invades Anopheles stephensipopulations and induces refractoriness to Plasmodium infection’, Science 340, 748–751.
Bindels, L.B., Delzenne, N.M., Cani, P.D., Walter, J. (2015) ‘Towards a more comprehensive concept for prebiotics’, Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 12, 303–310.
Blakeslee, S. (15 October 1996) ‘Microbial life’s steadfast champion’, New York Times.
Blaser, M. (1 February 2005) ‘An endangered species in the stomach; Sci. Am.
Blaser, M. (2010) ‘Helicobacter pylori and esophageal disease: wake-up call?’, Gastroenterology 139, 1819–1822.
Blaser, M. (2014) Missing Microbes: How the Overuse of Antibiotics Is Fueling Our Modern Plagues (New York: Henry Holt & Co.).
Blaser, M., Falkow, S. (2009) ‘What are the consequences of the disappearing human microbiota?’ Nat. Rev. Microbiol. 7, 887–894.
Blazejak, A., Erseus, C., Amann, R., Dubilier, N. (2005) ‘Coexistence of bacterial sulfide oxidizers, sulfate reducers, and spirochetes in a gutless worm (Oligochaeta) from the Peru Margin’, Appl. Environ. Microbiol. 71, 1553–1561.
Bletz, M.C., Loudon, A.H., Becker, M.H., et al. (2013) ‘Mitigating amphibian chytridiomycosis with bioaugmentation: characteristics of effective probiotics and strategies for their selection and use’, Ecol. Lett. 16, 807–820.
Blumberg, R., Powrie, F. (2012) ‘Microbiota, disease, and back to health: a metastable journey’, Sci. Transl. Med. 4, 137rv7.
Bode, L. (2012) ‘Human milk oligosaccharides: every baby needs a sugar mama’, Glycobiology 22, 1147–1162.
Bode, L., Kuhn, L., Kim, H-Y., et al. (2012) ‘Human milk oligosaccharide concentration and risk of postnatal transmission of HIV through breastfeeding’, Am. J. Clin. Nutr. 96, 831–839.
Bohnhoff, M., Miller, C.P., Martin, W.R. (1964) ‘Resistance of the mouse’s intestinal tract to experimental Salmonella infection’, J. Exp. Med. 120, 817–828.
Boone, C.K., Keefover-Ring, K., Mapes, A.C., et al. (2013) ‘Bacteria associated with a tree-killing insect reduce concentrations of plant defense compounds’, J. Chem. Ecol. 39, 1003–1006.
Bordenstein, S.R., Theis, K.R. (2015) ‘Host biology in light of the microbiome: ten principles of holobionts and hologenomes’, PLoS Biol. 13, e1002226.
Bordenstein, S.R., O’Hara, F.P., Werren, J.H. (2001) ‘Wolbachia-induced incompatibility precedes other hybrid incompatibilities in Nasonia’, Nature 409, 707–710.
Bosch, T.C. (2012) ‘What Hydra has to say about the role and origin of symbiotic interactions’, Biol. Bull. 223, 78–84.
Boto, L. (2014) ‘Horizontal gene transfer in the acquisition of novel traits by metazoans’, Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 281.
Bouskra, D., Brézillon, C., Bérard, M., et al. (2008) ‘Lymphoid tissue genesis induced by commensals through NOD1 regulates intestinal homeostasis’, Nature 456, 507–510.
Bouslimani, A., Porto, C., Rath, C.M., et al. (2015) ‘Molecular cartography of the human skin surface in 3D’, Proc. Natl. Acad. Sci. 112, E2120–E2129.
Braniste, V., Al-Asmakh, M., Kowal, C., et al. (2014) ‘The gut microbiota influences blood-brain barrier permeability in mice’, Sci. Transl. Med. 6, 263ra158.
Bravo, J.A., Forsythe, P., Chew, M.V., et al. (2011) ‘Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve’, Proc. Natl. Acad. Sci. 108, 16050–16055.
Broderick, N.A., Raffa, K.F., Handelsman, J. (2006) ‘Midgut bacteria required for Bacillus thuringiensis insecticidal activity’, Proc. Natl. Acad. Sci. 103, 15196–15199.
Brown, C.T., Hug, L.A., Thomas, B.C., et al. (2015) ‘Unusual biology across a group comprising more than 15 % of domain bacteria’, Nature 523, 208–211.
Brown, E.M., Arrieta, M-C., Finlay, B.B. (2013) ‘A fresh look at the hygiene hypothesis: how intestinal microbial exposure drives immune effector responses in atopic disease’, Semin. Immunol. 25, 378–387.
Bruce-Keller, A.J., Salbaum, J.M., Luo, M., et al. (2015) ‘Obese-type gut microbiota induce neurobehavioral changes in the absence of obesity’, Biol. Psychiatry 77, 607–615.
Brucker, R.M., Bordenstein, S.R. (2013) ‘The hologenomic basis of speciation: gut bacteria cause hybrid lethality in the genus Nasonia’, Science 341, 667–669.
Brucker, R.M., Bordenstein, S.R. (2014) Response to Comment on ‘The hologenomic basis of speciation: gut bacteria cause hybrid lethality in the genus Nasonia’, Science 345, 1011–1011.
Bshary, R. (2002) ‘Biting cleaner fish use altruism to deceive image-scoring client reef fish’, Proc. Biol. Sci. 269, 2087–2093.
Buchner, P. (1965) Endosymbiosis of Animals with Plant Microorganisms (New York: Interscience Publishers / John Wiley).
Buffie, C.G., Bucci, V., Stein, R.R., et al. (2014) ‘Precision microbiome reconstitution restores bile acid mediated resistance to Clostridium difficile’, Nature 517, 205–208.
Bull, J.J., Turelli, M. (2013) ‘Wolbachia versus dengue: evolutionary forecasts’, Evol. Med. Public Health 2013, 197–201.
Bulloch, W. (1938) The History of Bacteriology (Oxford: Oxford University Press).
Cadwell, K., Patel, K.K., Maloney, N.S., et al. (2010) ‘Virus-plus-susceptibility gene interaction determines Crohn’s Disease gene Atg16L1 phenotypes in intestine’, Cell 141, 1135–1145.
Cafaro, M.J., Poulsen, M., Little, A.E.F., et al. (2011) ‘Specificity in the symbiotic association between fungus-growing ants and protective Pseudonocardia bacteria’, Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 278, 1814–1822.
Campbell, M.A., Leuven, J.T.V., Meister, R.C., et al. (2015), ‘Genome expansion via lineage splitting and genome reduction in the cicada endosymbiont Hodgkinia’, Proc. Natl. Acad. Sci. 112, 10192–10199.
Caporaso, J.G., Lauber, C.L., Costello, E.K., et al. (2011) ‘Moving pictures of the human microbiome’, Genome Biol. 12, R50.
Carmody, R.N., Turnbaugh, P.J. (2014) ‘Host – microbial interactions in the metabolism of therapeutic and diet-derived xenobiotics’, J. Clin. Invest. 124, 4173–4181.
Caspi-Fluger, A., Inbar, M., Mozes-Daube, N., et al. (2012) ‘Horizontal transmission of the insect symbiont Rickettsia is plant-mediated’, Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 279, 1791–1796.
Cavanaugh, C.M., Gardiner, S.L., Jones, M.L., et al. (1981) ‘Prokaryotic cells in the hydrothermal vent tube worm Riftia pachyptila Jones: possible chemoautotrophic symbionts’, Science 213, 340–342.
Ceja-Navarro, J.A., Vega, F.E., Karaoz, U., et al. (2015) ‘Gut microbiota mediate caffeine detoxification in the primary insect pest of coffee’, Nat. Commun. 6, 7618.
Chandler, J.A., Turelli, M. (2014) Comment on ‘The hologenomic basis of speciation: gut bacteria cause hybrid lethality in the genus Nasonia’, Science 345, 1011–1011.
Chassaing, B., Koren, O., Goodrich, J.K., et al. (2015) ‘Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota promoting colitis and metabolic syndrome’, Nature 519, 92–96.
Chau, R., Kalaitzis, J.A., Neilan, B.A. (2011) ‘On the origins and biosynthesis of tetrodotoxin’, Aquat. Toxicol. Amst. Neth. 104, 61–72.
Cheesman, S.E., Guillemin, K. (2007) ‘We know you are in there: conversing with the indigenous gut microbiota’, Res. Microbiol. 158, 2–9.
Chen, Y., Segers, S., Blaser, M.J. (2013) ‘Association between Helicobacter pylori and mortality in the NHANES III study’, Gut 62, 1262–1269.
Chichlowski, M., German, J.B., Lebrilla, C.B., Mills, D.A. (2011) ‘The influence of milk oligosaccharides on microbiota of infants: opportunities for formulas’, Annu. Rev. Food Sci. Technol. 2, 331–351.
Cho, I., Blaser, M.J. (2012) ‘The human microbiome: at the interface of health and disease’, Nat. Rev. Genet. 13, 260–270.
Cho, I., Yamanishi, S., Cox, L., et al. (2012) ‘Antibiotics in early life alter the murine colonic microbiome and adiposity’, Nature 488, 621–626.
Chou, S., Daugherty, M.D., Peterson, S.B., et al. (2014) ‘Transferred interbacterial antagonism genes augment eukaryotic innate immune function’, Nature 518, 98–101.
Chrostek, E., Marialva, M.S.P., Esteves, S.S., et al. (2013) ‘Wolbachia variants induce differential protection to viruses in Drosophila melanogaster: a phenotypic and phylogenomic analysis’, PLoS Genet. 9, e1003896.
Chu, C–C., Spencer, J.L., Curzi, M.J., et al. (2013) ‘Gut bacteria facilitate adaptation to crop rotation in the western corn rootworm’, Proc. Natl. Acad. Sci. 110, 11917–11922.
Chung, K-T., Bryant, M.P. (1997) ‘Robert E. Hungate: pioneer of anaerobic microbial ecology’, Anaerobe 3, 213–217.
Chung, K-T., Ferris, D.H. (1996) ‘Martinus Willem Beijerinck’, ASM News 62, 539–543.
Chung, H., Pamp, S.J., Hill, J.A., et al. (2012) ‘Gut immune maturation depends on colonization with a host-specific microbiota’, Cell 149, 1578–1593.
Chung, S.H., Rosa, C., Scully, E.D., et al. (2013) ‘Herbivore exploits orally secreted bacteria to suppress plant defenses’, Proc. Natl. Acad. Sci. 110, 15728–15733.
Ciorba, M.A. (2012) ‘A gastroenterologist’s guide to probiotics’, Clin. Gastroenterol. Hepatol. 10, 960–968.
Claesen, J., Fischbach, M.A. (2015) ‘Synthetic microbes as drug delivery systems’, ACS Synth. Biol. 4, 358–364.
Clayton, A.L., Oakeson, K.F., Gutin, M., et al. (2012) ‘A novel human-infection-derived bacterium provides insights into the evolutionary origins of mutualistic insect – bacterial symbioses’, PLoS Genet. 8, e1002990.
Clayton, T.A., Baker, D., Lindon, J.C., et al. (2009) ‘Pharmacometabonomic identification of a significant host – microbiome metabolic interaction affecting human drug metabolism’, Proc. Natl. Acad. Sci. 106, 14728–14733.
Clemente, J.C., Pehrsson, E.C., Blaser, M.J., et al. (2015) ‘The microbiome of uncontacted Amerindians’, Sci. Adv. 1, e1500183.
Cobb, M. (3 June 2013) ‘Oswald T. Avery, the unsung hero of genetic science’, The Guardian.
Cockburn, S.N., Haselkorn, T.S., Hamilton, P.T., et al. (2013) ‘Dynamics of the continent-wide spread of a Drosophila defensive symbiont’, Ecol. Lett. 16, 609–616.
Collins, S.M., Surette, M., Bercik, P. (2012) ‘The interplay between the intestinal microbiota and the brain’, Nat. Rev. Microbiol. 10, 735–742.
Coon, K.L., Vogel, K.J., Brown, M.R., Strand, M.R. (2014) ‘Mosquitoes rely on their gut microbiota for development’, Mol. Ecol. 23, 2727–2739.
Costello, E.K., Lauber, C.L., Hamady, M., et al. (2009) ‘Bacterial community variation in human body habitats across space and time’, Science 326, 1694–1697.
Cox, L.M., Blaser, M.J. (2014) ‘Antibiotics in early life and obesity’, Nat. Rev. Endocrinol. 11, 182–190.
Cox, L.M., Yamanishi, S., Sohn, J., et al. (2014) ‘Altering the intestinal microbiota during a critical developmental window has lasting metabolic consequences’, Cell 158, 705–721.
Cryan, J.F., Dinan, T.G. (2012) ‘Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour’, Nat. Rev. Neurosci. 13, 701–712.
CSIROpedia Leucaena toxicity solution.
Dalal, S.R., Chang, E.B. (2014) ‘The microbial basis of inflammatory bowel diseases’, J. Clin. Invest. 124, 4190–4196.
Dale, C., Moran, N.A. (2006) ‘Molecular interactions between bacterial symbionts and their hosts’, Cell 126, 453–465.
Danchin, E.G.J., Rosso, M-N. (2012) ‘Lateral gene transfers have polished animal genomes: lessons from nematodes’, Front. Cell. Infect. Microbiol. 2.
Danchin, E.G.J., Rosso, M-N., Vieira, P., et al. (2010) ‘Multiple lateral gene transfers and duplications have promoted plant parasitism ability in nematodes’, Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 17651–17656.
Darmasseelane, K., Hyde, M.J., Santhakumaran, S., et al. (2014) ‘Mode of delivery and offspring body mass index, overweight and obesity in adult life: a systematic review and meta-analysis’, PLoS ONE 9, e87896.
David, L.A., Maurice, C.F., Carmody, R.N., et al. (2013) ‘Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome’, Nature 505, 559–563.
David, L.A., Materna, A.C., Friedman, J., et al. (2014) ‘Host lifestyle affects human microbiota on daily timescales’, Genome Biol. 15, R89.
Dawkins, Richard (1982) The Extended Phenotype (Oxford: Oxford University Press).
De Filippo, C., Cavalieri, D., Di Paola, M., et al. (2010) ‘Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa’, Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 14691–14696.
Delsuc, F., Metcalf, J.L., Wegener Parfrey, L., et al. (2014) ‘Convergence of gut microbiomes in myrmecophagous mammals’, Mol. Ecol. 23, 1301–1317.
Delzenne, N.M., Neyrinck, A.M., Cani, P.D. (2013) ‘Gut microbiota and metabolic disorders: how prebiotic can work?’ Br. J. Nutr. 109, S81–S85.
Derrien, M., van Hylckama Vlieg, J.E.T. (2015) ‘Fate, activity, and impact of ingested bacteria within the human gut microbiota’, Trends Microbiol. 23, 354–366.
Desai, M.S., Seekatz, A.M., Koropatkin, N.M., et al. (2016) ‘A dietary fiber-deprived gut microbiota degrades the colonic mucus barrier and enhances pathogen susceptibility’, Cell 167, 1339–1353.
Dethlefsen, L., Relman, D.A. (2011) ‘Incomplete recovery and individualized responses of the human distal gut microbiota to repeated antibiotic perturbation’, Proc. Natl. Acad. Sci. 108, 4554–4561.
Dethlefsen, L., McFall-Ngai, M., Relman, D.A. (2007) ‘An ecological and evolutionary perspective on human – microbe mutualism and disease’, Nature 449, 811–818.
Dethlefsen, L., Huse, S., Sogin, M.L., Relman, D.A. (2008) ‘The pervasive effects of an antibiotic on the human gut microbiota, as revealed by deep 16S rRNA sequencing’, PLoS Biol. 6, e280.
Devkota, S., Wang, Y., Musch, M.W., et al. (2012) ‘Dietary-fat-induced taurocholic acid promotes pathobiont expansion and colitis in ll10−/− mice’, Nature 487, 104–108.
Dill-McFarland, K.A., Weimer, P.J., Pauli, J.N., et al. (2015) ‘Diet specialization selects for an unusual and simplified gut microbiota in two- and three-toed sloths’, Environ. Microbiol.509, 357–360.
Dillon, R.J., Vennard, C.T., Charnley, A.K. (2000) ‘Pheromones: exploitation of gut bacteria in the locust’, Nature 403, 851.
Ding, T., Schloss, P.D. (2014) ‘Dynamics and associations of microbial community types across the human body’, Nature 509, 357–360.
Dinsdale, E.A., Pantos, O., Smriga, S., et al. (2008) ‘Microbial ecology of four coral atolls in the Northern Line Islands’, PLoS ONE 3, e1584.
Dobell, C. (1932) Antony Van Leeuwenhoek and His ‘Little Animals’ (New York: Dover Publications).
Dobson, A.J., Chaston, J.M., Newell, P.D., et al. (2015) ‘Host genetic determinants of microbiota-dependent nutrition revealed by genome-wide analysis of Drosophila melanogaster’, Nat. Commun. 6, 6312.
Dodd, D.M.B. (1989) ‘Reproductive isolation as a consequence of adaptive divergence in Drosophila pseudoobscura’, Evolution 43, 1308–1311.
Dominguez-Bello, M.G., Costello, E.K., Contreras, M., et al. (2010) ‘Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns’, Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 11971–11975.
Dorrestein, P.C., Mazmanian, S.K., Knight, R. (2014) ‘Finding the missing links among metabolites, microbes, and the host’, Immunity 40, 824–832.
Doudoumis, V., Alam, U., Aksoy, E., et al. (2013) ‘Tsetse–Wolbachia symbiosis: comes of age and has great potential for pest and disease control’, J. Invertebr. Pathol. 112, S94–S103.
Douglas, A.E. (2006) ‘Phloem-sap feeding by animals: problems and solutions’, J. Exp. Bot. 57, 747–754.
Douglas, A.E. (2008) ‘Conflict, cheats and the persistence of symbioses’, New Phytol. 177, 849–858.
Dubilier, N., Mülders, C., Ferdelman, T., et al. (2001) ‘Endosymbiotic sulphate-reducing and sulphide-oxidizing bacteria in an oligochaete worm’, Nature 411, 298–302.
Dubilier, N., Bergin, C., Lott, C. (2008) ‘Symbiotic diversity in marine animals: the art of harnessing chemosynthesis’, Nat. Rev. Microbiol. 6, 725–740.
Dubos, R.J. (1965) Man Adapting (New Haven and London: Yale University Press).
Dubos, R.J. (1987) Mirage of Health: Utopias, Progress, and Biological Change (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press).
Dunlap, P.V., Nakamura, M. (2011) ‘Functional morphology of the luminescence system of Siphamia versicolor (Perciformes: Apogonidae), a bacterially luminous coral reef fish’, J. Morphol. 272, 897–909.
Dunning-Hotopp, J.C. (2011) ‘Horizontal gene transfer between bacteria and animals’, Trends Genet. 27, 157–163.
Eakin, E. (1 December 2014) ‘The excrement experiment’, New Yorker.
Eckburg, P.B. (2005) ‘Diversity of the human intestinal microbial flora’, Science 308, 1635–1638.
Eisen, J. (2014) ‘Overselling the microbiome award: Time Magazine & Martin Blaser for ‘antibiotics are extinguishing our microbiome’, The Tree of Life.
Elahi, S., Ertelt, J.M., Kinder, J.M., et al. (2013) ‘Immunosuppressive CD71+ erythroid cells compromise neonatal host defence against infection’, Nature 504, 158–162.
Ellis, M.L., Shaw, K.J., Jackson, S.B., et al. (2015) ‘Analysis of commercial kidney stone probiotic supplements’, Urology 85, 517–521.
Enomoto, S., Chari, A., Clayton, A.L., Dale C. (2017) ‘Quorum sensing attenuates virulence in Sodalis praecaptivus’, Cell Host Microbe 21, 629–636.
Eskew, E.A., Todd, B.D. (2013) ‘Parallels in amphibian and bat declines from pathogenic fungi’, Emerg. Infect. Dis. 19, 379–385.
Everard, A., Belzer, C., Geurts, L., et al. (2013) ‘Cross-talk between Akkermansia muciniphila and intestinal epithelium controls diet-induced obesity’, Proc. Natl. Acad. Sci, 110, 9066–9071.
Ezenwa, V.O., Williams, A.E. (2014) ‘Microbes and animal olfactory communication: where do we go from here?’, BioEssays 36, 847–854.
Faith, J.J., Guruge, J.L., Charbonneau, M., et al. (2013) ‘The long-term stability of the human gut microbiota’, Science 341.
Falkow, S. (2013) ‘Fecal Transplants in the ‘Good Old Days’, Small Things Considered.
Feldhaar, H. (2011) ‘Bacterial symbionts as mediators of ecologically important traits of insect hosts’, Ecol. Entomol. 36, 533–543.
Fierer, N., Hamady, M., Lauber, C.L., Knight, R. (2008) ‘The influence of sex, handedness, and washing on the diversity of hand surface bacteria’, Proc. Natl. Acad. Sci. 105, 17994–17999.
Finucane, M.M., Sharpton, T.J., Laurent, T.J., Pollard, K.S. (2014) ‘A taxonomic signature of obesity in the microbiome? Getting to the guts of the matter’, PLoS ONE 9, e84689.
Fischbach, M.A., Sonnenburg, J.L. (2011) ‘Eating for two: how metabolism establishes interspecies interactions in the gut’, Cell Host Microbe 10, 336–347.
Folsome, C. (1985) Microbes, in The Biosphere Catalogue (Fort Worth, Texas: Synergistic Press).
Franzenburg, S., Walter, J., Kunzel, S., et al. (2013) ‘Distinct antimicrobial peptide expression determines host species-specific bacterial associations’, Proc. Natl. Acad. Sci. 110, E3730–E3738.
Fraune, S., Bosch, T.C. (2007) ‘Long-term maintenance of species-specific bacterial microbiota in the basal metazoan Hydra’, Proc. Natl. Acad. Sci. 104, 13146–13151.
Fraune, S., Bosch, T.C.G. (2010) ‘Why bacteria matter in animal development and evolution’, BioEssays 32, 571–580.
Fraune, S., Abe, Y., Bosch, T.C.G. (2009) ‘Disturbing epithelial homeostasis in the metazoan Hydra leads to drastic changes in associated microbiota’, Environ. Microbiol. 11, 2361–2369.
Fraune, S., Augustin, R., Anton-Erxleben, F., et al. (2010) ‘In an early branching metazoan, bacterial colonization of the embryo is controlled by maternal antimicrobial peptides’, Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 18067–18072.
Freeland, W.J., Janzen, D.H. (1974) ‘Strategies in herbivory by mammals: the role of plant secondary compounds’, Am. Nat. 108, 269–289.
Frese, S.A., Benson, A.K., Tannock, G.W., et al. (2011) ‘The evolution of host specialization in the vertebrate gut symbiont Lactobacillus reuteri’, PLoS Genet. 7, e1001314.
Fujimura, K.E., Lynch, S.V. (2015) ‘Microbiota in allergy and asthma and the emerging relationship with the gut microbiome’, Cell Host Microbe 17, 592–602.
Fujimura, K.E., Demoor, T., Rauch, M., et al. (2014) ‘House dust exposure mediates gut microbiome Lactobacillus enrichment and airway immune defense against allergens and virus infection’, Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 805–810.
Funkhouser, L.J., Bordenstein, S.R. (2013) ‘Mom knows best: the universality of maternal microbial transmission’, PLoS Biol. 11, e1001631.
Furusawa, Y., Obata, Y., Fukuda, S., et al. (2013) ‘Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells’, Nature 504, 446–450.
Gajer, P., Brotman, R.M., Bai, G., et al. (2012) ‘Temporal dynamics of the human vaginal microbiota’, Sci. Transl. Med. 4, 132ra52.
Garcia, J.R., Gerardo, N.M. (2014) ‘The symbiont side of symbiosis: do microbes really benefit?’ Front. Microbiol. 5.
Gareau, M.G., Sherman, P.M., Walker, W.A. (2010) ‘Probiotics and the gut microbiota in intestinal health and disease’, Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 7, 503–514.
Garrett, W.S., Lord, G.M., Punit, S., et al. (2007) ‘Communicable ulcerative colitis induced by T-bet deficiency in the innate immune system’, Cell 131, 33–45.
Garrett, W.S., Gallini, C.A., Yatsunenko, T., et al. (2010) ‘Enterobacteriaceae act in concert with the gut microbiota to induce spontaneous and maternally transmitted colitis’, Cell Host Microbe 8, 292–300.
Gehrer, L., Vorburger, C. (2012) ‘Parasitoids as vectors of facultative bacterial endosymbionts in aphids’, Biol. Lett. 8, 613–615.
Gerrard, J.W., Geddes, C.A., Reggin, P.L., et al. (1976) ‘Serum IgE levels in white and Metis communities in Saskatchewan’, Ann. Allergy 37, 91–100.
Gerritsen, J., Smidt, H., Rijkers, G.T., Vos, W.M. (2011) ‘Intestinal microbiota in human health and disease: the impact of probiotics’, Genes Nutr. 6, 209–240.
Gevers, D., Kugathasan, S., Denson, L.A., et al. (2014) ‘The treatment-naive microbiome in new-onset Crohn’s Disease’, Cell Host Microbe 15, 382–392.
Gibbons, S.M., Schwartz, T., Fouquier, J., et al. (2015) ‘Ecological succession and viability of human-associated microbiota on restroom surfaces’, Appl. Environ. Microbiol. 81, 765–773.
Gilbert, J.A., Neufeld, J.D. (2014) ‘Life in a world without microbes’, PLoS Biol. 12, e1002020.
Gilbert, J.A., Meyer, F., Antonopoulos, D., et al. (2010) ‘Meeting report: the terabase metagenomics workshop and the vision of an Earth Microbiome Project’, Stand. Genomic Sci. 3, 243–248.
Gilbert, S.F., Sapp, J., Tauber, A.I. (2012) ‘A symbiotic view of life: we have never been individuals’, Q. Rev. Biol. 87, 325–341.
Godoy-Vitorino, F., Goldfarb, K.C., Karaoz, U., et al. (2012) ‘Comparative analyses of foregut and hindgut bacterial communities in hoatzins and cows’, ISME J. 6, 531–541.
Goldenberg, J.Z., Ma, S.S., Saxton, J.D., et al. (2013) ‘Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children’, in Cochrane Database of Systematic Reviews, The Cochrane Collaboration, ed. (Chichester, UK: John Wiley & Sons).
Gomez, A., Petrzelkova, K., Yeoman, C.J., et al. (2015) ‘Ecological and evolutionary adaptations shape the gut microbiome of BaAka African rainforest hunter-gatherers’, bioRxiv019232.
Goodrich, J.K., Waters, J.L., Poole, A.C., et al. (2014) ‘Human genetics shape the gut microbiome’, Cell 159, 789–799.
Graham, D.Y. (1997) ‘The only good Helicobacter pylori is a dead Helicobacter pylori’, Lancet 350, 70–71; author reply 72.
Green, J. (2011) ‘Are we filtering the wrong microbes?’ TED.
Green, J.L. (2014) ‘Can bioinformed design promote healthy indoor ecosystems?’ Indoor Air 24, 113–115.
Gruber-Vodicka, H.R., Dirks, U., Leisch, N., et al. (2011) ‘Paracatenula, an ancient symbiosis between thiotrophic Alphaproteobacteria and catenulid flatworms’, Proc. Natl. Acad. Sci. 108, 12078–12083.
Hadfield, M.G. (2011) ‘Biofilms and marine invertebrate larvae: what bacteria produce that larvae use to choose settlement sites’, Annu. Rev. Mar. Sci. 3, 453–470.
Haiser, H.J., Turnbaugh, P.J. (2012) ‘Is it time for a metagenomic basis of therapeutics?’ Science 336, 1253–1255.
Haiser, H.J., Gootenberg, D.B., Chatman, K., et al. (2013) ‘Predicting and manipulating cardiac drug inactivation by the human gut bacterium Eggerthella lenta’, Science 341, 295–298.
Hamilton, M.J., Weingarden, A.R., Unno, T., et al. (2013) ‘High-throughput DNA sequence analysis reveals stable engraftment of gut microbiota following transplantation of previously frozen fecal bacteria’, Gut Microbes 4, 125–135.
Handelsman, J. (2007) ‘Metagenomics and microbial communities’, in Encyclopedia of Life Sciences (Chichester, UK: John Wiley & Sons).
Harley, I.T.W., Karp, C.L. (2012) ‘Obesity and the gut microbiome: striving for causality’, Mol. Metab. 1, 21–31.
Harris, R.N., James, T.Y., Lauer, A., et al. (2006) ‘Amphibian pathogen Batrachochytrium dendrobatidis is inhibited by the cutaneous bacteria of amphibian species’, EcoHealth 3, 53–56.
Harris, R.N., Brucker, R.M., Walke, J.B., et al. (2009) ‘Skin microbes on frogs prevent morbidity and mortality caused by a lethal skin fungus’, ISME J. 3, 818–824.
Haselkorn, T.S., Cockburn, S.N., Hamilton, P.T., et al. (2013) ‘Infectious adaptation: potential host range of a defensive endosymbiont in Drosophila: host range of Spiroplasma in Drosophila’, Evolution 67, 934–945.
Hecht, G.A., Blaser, M.J., Gordon, J., et al. (2014) ‘What is the value of a food and drug administration investigational new drug application for fecal microbiota transplantation to treat Clostridium difficile infection?’ Clin. Gastroenterol. Hepatol. Off. Clin. Pract. J. Am. Gastroenterol. Assoc. 12, 289–291.
Hedges, L.M., Brownlie, J.C., O’Neill, S.L., Johnson, K.N. (2008) ‘Wolbachia and virus protection in insects’, Science 322, 702.
Hehemann, J-H., Correc, G., Barbeyron, T., et al. (2010) ‘Transfer of carbohydrate-active enzymes from marine bacteria to Japanese gut microbiota’, Nature 464, 908–912.
Heijtz, R.D., Wang, S., Anuar, F., et al. (2011) ‘Normal gut microbiota modulates brain development and behavior’, Proc. Natl. Acad. Sci. 108, 3047–3052.
Heil, M., Barajas-Barron, A., Orona-Tamayo, D., et al. (2014) ‘Partner manipulation stabilises a horizontally transmitted mutualism’, Ecol. Lett. 17, 185–192.
Henry, L.M., Peccoud, J., Simon, J-C., et al. (2013) ‘Horizontally transmitted symbionts and host colonization of ecological niches’, Curr. Biol. 23, 1713–1717.
Herbert, E.E., Goodrich-Blair, H. (2007) ‘Friend and foe: the two faces of Xenorhabdus nematophila’, Nat. Rev. Microbiol. 5, 634–646.
Herniou, E.A., Huguet, E., Thézé, J., et al. (2013) ‘When parasitic wasps hijacked viruses: genomic and functional evolution of polydnaviruses’, Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci.368, 20130051.
Hilgenboecker, K., Hammerstein, P., Schlattmann, P., et al. (2008) ‘How many species are infected with Wolbachia? – a statistical analysis of current data: Wolbachia infection rates’, FEMS Microbiol. Lett. 281, 215–220.
Hill, C., Guarner, F., Reid, G., et al. (2014) ‘Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic’, Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 11, 506–514.
Himler, A.G., Adachi-Hagimori, T., Bergen, J.E., et al. (2011) ‘Rapid spread of a bacterial symbiont in an invasive whitefly is driven by fitness benefits and female bias’, Science 332, 254–256.
Hird, S.M., Carstens, B.C., Cardiff, S.W., et al. (2014) ‘Sampling locality is more detectable than taxonomy or ecology in the gut microbiota of the brood-parasitic Brown-headed Cowbird (Molothrus ater)’, PeerJ 2, e321.
Hiss, P.H., Zinsser, H. (1910) A Text-book of Bacteriology: a Practical Treatise for Students and Practitioners of Medicine (New York and London: D. Appleton & Co.).
Hoerauf, A., Volkmann, L., Hamelmann, C., et al. (2000) ‘Endosymbiotic bacteria in worms as targets for a novel chemotherapy in filariasis’, Lancet 355, 1242–1243.
Hoerauf, A., Mand, S., Adjei, O., et al. (2001) ‘Depletion of Wolbachia endobacteria in Onchocerca volvulus by doxycycline and microfilaridermia after ivermectin treatment’, Lancet357, 1415–1416.
Hof, C., Araújo, M.B., Jetz, W., Rahbek, C. (2011) ‘Additive threats from pathogens, climate and land-use change for global amphibian diversity’, Nature 480, 516–519.
Hoffmann, A.A., Montgomery, B.L., Popovici, J., et al. (2011) ‘Successful establishment of Wolbachia in Aedes populations to suppress dengue transmission’, Nature 476, 454–457.
Holmes, E., Kinross, J., Gibson, G., et al. (2012) ‘Therapeutic modulation of microbiota – host metabolic interactions’, Sci. Transl. Med. 4, 137rv6.
Honda, K., Littman, D.R. (2012) ‘The microbiome in infectious disease and inflammation’, Annu. Rev. Immunol. 30, 759–795.
Hongoh, Y. (2011) ‘Toward the functional analysis of uncultivable, symbiotic microorganisms in the termite gut’, Cell. Mol. Life Sci. 68, 1311–1325.
Hooper, L.V. (2001) ‘Molecular analysis of commensal host-microbial relationships in the intestine’, Science 291, 881–884.
Hooper, L.V., Stappenbeck, T.S., Hong, C.V., Gordon, J.I. (2003) ‘Angiogenins: a new class of microbicidal proteins involved in innate immunity’, Nat. Immunol. 4, 269–273.
Hooper, L.V., Littman, D.R., Macpherson, A.J. (2012) ‘Interactions between the microbiota and the immune system’, Science 336, 1268–1273.
Hornett, E.A., Charlat, S., Wedell, N., et al. (2009) ‘Rapidly shifting sex ratio across a species range’, Curr. Biol. 19, 1628–1631.
Hosokawa, T., Kikuchi, Y., Shimada, M., Fukatsu, T. (2008) ‘Symbiont acquisition alters behaviour of stinkbug nymphs’, Biol. Lett. 4, 45–48.
Hosokawa, T., Koga, R., Kikuchi, Y., et al. (2010) ‘Wolbachia as a bacteriocyte-associated nutritional mutualist’, Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 769–774.
Hosokawa, T., Hironaka, M., Mukai, H., et al. (2012) ‘Mothers never miss the moment: a fine-tuned mechanism for vertical symbiont transmission in a subsocial insect’, Anim. Behav.83, 293–300.
Hotopp, J.C.D., Clark, M.E., Oliveira, D.C.S.G., et al. (2007) ‘Widespread lateral gene transfer from intracellular bacteria to multicellular eukaryotes’, Science 317, 1753–1756.
Hsiao, E.Y., McBride, S.W., Hsien, S., et al. (2013) ‘Microbiota modulate behavioral and physiological abnormalities associated with neurodevelopmental disorders’, Cell 155, 1451–1463.
Huang, L., Chen, Q., Zhao, Y., et al. (2015) ‘Is elective Cesarean section associated with a higher risk of asthma? A meta-analysis’, J. Asthma Off. J. Assoc. Care Asthma 52, 16–25.
Hughes, G.L., Dodson, B.L., Johnson, R.M., et al. (2014) ‘Native microbiome impedes vertical transmission of Wolbachia in Anopheles mosquitoes’, Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 12498–12503.
Husnik, F., McCutcheon, J.P. (2016) ‘Repeated replacement of an intrabacterial symbiont in the tripartite nested mealybug symbiosis’, Proc. Natl. Acad. Sci. 113, E5416–E5424.
Husnik, F., Nikoh, N., Koga, R., et al. (2013) ‘Horizontal gene transfer from diverse bacteria to an insect genome enables a tripartite nested mealybug symbiosis’, Cell 153, 1567–1578.
Huttenhower, C., Gevers, D., Knight, R., et al. (2012) ‘Structure, function and diversity of the healthy human microbiome’, Nature 486, 207–214.
Huttenhower, C., Kostic, A.D., Xavier, R.J. (2014) ‘Inflammatory bowel disease as a model for translating the microbiome’, Immunity 40, 843–854.
Iturbe-Ormaetxe, I., Walker, T., O’ Neill, S.L. (2011) ‘Wolbachia and the biological control of mosquito-borne disease’, EMBO Rep. 12, 508–518.
Ivanov, I.I., Atarashi, K., Manel, N., et al. (2009) ‘Induction of intestinal Th17 cells by segmented filamentous bacteria’, Cell 139, 485–498.
Jaenike, J., Polak, M., Fiskin, A., et al. (2007) ‘Interspecific transmission of endosymbiotic Spiroplasma by mites’, Biol. Lett. 3, 23–25.
Jaenike, J., Unckless, R., Cockburn, S.N., et al. (2010) ‘Adaptation via symbiosis: recent spread of a Drosophila defensive symbiont’, Science 329, 212–215.
Jakobsson, H.E., Jernberg, C., Andersson, A.F., et al. (2010) ‘Short-term antibiotic treatment has differing long-term impacts on the human throat and gut microbiome’, PLoS ONE 5, e9836.
Jansson, J.K., Prosser, J.I. (2013) ‘Microbiology: the life beneath our feet’, Nature 494, 40–41.
Jefferson, R. (2010) ‘The hologenome theory of evolution’, Science as Social Enterprise.
Jernberg, C., Lofmark, S., Edlund, C., Jansson, J.K. (2010) ‘Long-term impacts of antibiotic exposure on the human intestinal microbiota’, Microbiology 156, 3216–3223.
Jiggins, F.M., Hurst, G.D.D. (2011) ‘Rapid insect evolution by symbiont transfer’, Science332, 185–186.
Johnston, K.L., Ford, L., Taylor, M.J. (2014) ‘Overcoming the challenges of drug discovery for neglected tropical diseases: the A·WoL experience’, J. Biomol. Screen. 19, 335–343.
Jones, R.J., Megarrity, R.G. (1986) ‘Successful transfer of DHP-degrading bacteria from Hawaiian goats to Australian ruminants to overcome the toxicity of Leucaena’, Aust. Vet. J. 63, 259–262.
Kaiser, W., Huguet, E., Casas, J., et al. (2010) ‘Plant green-island phenotype induced by leaf-miners is mediated by bacterial symbionts’, Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 277, 2311–2319.
Kaiwa, N., Hosokawa, T., Nikoh, N., et al. (2014) ‘Symbiont-supplemented maternal investment underpinning host’s ecological adaptation’, Curr. Biol. 24, 2465–2470.
Kaltenpoth, M., Göttler, W., Herzner, G., Strohm, E. (2005) ‘Symbiotic bacteria protect wasp larvae from fungal infestation’, Curr. Biol. 15, 475–479.
Kaltenpoth, M., Roeser-Mueller, K., Koehler, S., et al. (2014) ‘Partner choice and fidelity stabilize coevolution in a Cretaceous-age defensive symbiosis’, Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 6359–6364.
Kane, M., Case, L.K., Kopaskie, K., et al. (2011) ‘Successful transmission of a retrovirus depends on the commensal microbiota’, Science 334, 245–249.
Karasov, W.H., Martínez del Rio, C., Caviedes-Vidal, E. (2011) ‘Ecological physiology of diet and digestive systems’, Annu. Rev. Physiol. 73, 69–93.
Katan, M.B. (2012) ‘Why the European Food Safety Authority was right to reject health claims for probiotics’, Benef. Microbes 3, 85–89.
Kau, A.L., Planer, J.D., Liu, J., et al. (2015) ‘Functional characterization of IgA-targeted bacterial taxa from undernourished Malawian children that produce diet-dependent enteropathy’, Sci. Transl. Med. 7, 276ra24.
Keeling, P.J., Palmer, J.D. (2008) ‘Horizontal gene transfer in eukaryotic evolution’, Nat. Rev. Genet. 9, 605–618.
Kelly, L.W., Barott, K.L., Dinsdale, E., et al. (2012) ‘Black reefs: iron-induced phase shifts on coral reefs’, ISME J. 6, 638–649.
Kembel, S.W., Jones, E., Kline, J., et al. (2012) ‘Architectural design influences the diversity and structure of the built environment microbiome’, ISME J. 6, 1469–1479.
Kembel, S.W., Meadow, J.F., O’Connor, T.K., et al. (2014) ‘Architectural design drives the biogeography of indoor bacterial communities’, PLoS ONE 9, e87093.
Kendall, A.I. (1909) ‘Some observations on the study of the intestinal bacteria’, J. Biol. Chem. 6, 499–507.
Kendall, A.I. (1921) Bacteriology, General, Pathological and Intestinal (Philadelphia and New York: Lea & Febiger).
Kendall, A.I. (1923) Civilization and the Microbe (Boston: Houghton Mifflin).
Kernbauer, E., Ding, Y., Cadwell, K. (2014) ‘An enteric virus can replace the beneficial function of commensal bacteria’, Nature 516, 94–98.
Khoruts, A. (2013) ‘Faecal microbiota transplantation in 2013: developing human gut microbiota as a class of therapeutics’, Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 11, 79–80.
Kiers, E.T., West, S.A. (2015) ‘Evolving new organisms via symbiosis’, Science 348, 392–394.
Kikuchi, Y., Hayatsu, M., Hosokawa, T., et al. (2012) ‘Symbiont-mediated insecticide resistance’, Proc. Natl. Acad. Sci. 109, 8618–8622.
Kilpatrick, A.M., Briggs, C.J., Daszak, P. (2010) ‘The ecology and impact of chytridiomycosis: an emerging disease of amphibians’, Trends Ecol. Evol. 25, 109–118.
Kirk, R.G. (2012) ‘ “Life in a germ-free world” : isolating life from the laboratory animal to the bubble boy’, Bull. Hist. Med. 86, 237–275.
Klarmann-Schulz, U., Specht, S., Debrah, A.Y., et al. (2017) ‘Comparison of doxycycline, minocycline, doxycycline plus albendazole and albendazole alone in their efficacy against onchocerciasis in a randomized, open-label, pilot trial’, PLoS Negl. Trop. Dis. 11(1).
Koch, H., Schmid-Hempel, P. (2011) ‘Socially transmitted gut microbiota protect bumble bees against an intestinal parasite’, Proc. Natl. Acad. Sci. 108, 19288–19292.
Kohl, K.D., Weiss, R.B., Cox, J., et al. (2014) ‘Gut microbes of mammalian herbivores facilitate intake of plant toxins’, Ecol. Lett. 17, 1238–1246.
Koren, O., Goodrich, J.K., Cullender, T.C., et al. (2012) ‘Host remodeling of the gut microbiome and metabolic changes during pregnancy’, Cell 150, 470–480.
Koropatkin, N.M., Cameron, E.A., Martens, E.C. (2012) ‘How glycan metabolism shapes the human gut microbiota’, Nat. Rev. Microbiol. 10, 323–335.
Koropatnick, T.A., Engle, J.T., Apicella, M.A., et al. (2004) ‘Microbial factor-mediated development in a host– bacterial mutualism’, Science 306, 1186–1188.
Kostic, A.D., Gevers, D., Siljander, H., et al. (2015) ‘The dynamics of the human infant gut microbiome in development and in progression toward Type 1 Diabetes’, Cell Host Microbe17, 260–273.
Kotula, J.W., Kerns, S.J., Shaket, L.A., et al. (2014) ‘Programmable bacteria detect and record an environmental signal in the mammalian gut’, Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 4838–4843.
Kozek, W.J. (1977) ‘Transovarially-transmitted intracellular microorganisms in adult and larval stages of Brugia malayi’, J. Parasitol. 63, 992–1000.
Kozek, W.J., Rao, R.U. (2007) ‘The Discovery of Wolbachia in arthropods and nematodes – a historical perspective’, in Wolbachia: A Bug’s Life in another Bug, A. Hoerauf, R. U. Rao, eds., pp. 1–14 (Basel: Karger).
Kremer, N., Philipp, E.E.R., Carpentier, M-C., et al. (2013) ‘Initial symbiont contact orchestrates host – organ-wide transcriptional changes that prime tissue colonization’, Cell Host Microbe 14, 183–194.
Kroes, I., Lepp, P.W., Relman, D.A. (1999) ‘Bacterial diversity within the human subgingival crevice’, Proc. Natl. Acad. Sci. 96, 14547–14552.
Kruif, P.D. (2002) Microbe Hunters (Boston: Houghton Mifflin Harcourt).
Kueneman, J.G., Parfrey, L.W., Woodhams, D.C., et al. (2014) ‘The amphibian skin-associated microbiome across species, space and life history stages’, Mol. Ecol. 23, 1238–1250.
Kunz, C. (2012) ‘Historical aspects of human milk oligosaccharides’, Adv. Nutr. Int. Rev. J.3, 430S – 439S.
Kunzig, R. (2000) Mapping the Deep: The Extraordinary Story of Ocean Science (New York: W. W. Norton & Co.).
Kuss, S.K., Best, G.T., Etheredge, C.A., et al. (2011) ‘Intestinal microbiota promote enteric virus replication and systemic pathogenesis’, Science 334, 249–252.
Kwong, W.K., Moran, N.A. (2015) ‘Evolution of host specialization in gut microbes: the bee gut as a model’, Gut Microbes 6, 214–220.
Lander, E.S., Linton, L.M., Birren, B., et al. (2001) ‘Initial sequencing and analysis of the human genome’, Nature 409, 860–921.
Lane, N. (2015a) The Vital Question: Why Is Life the Way It Is? (London: Profile Books).
Lane, N. (2015b) ‘The unseen world: reflections on Leeuwenhoek (1677) “Concerning little animals” ’ Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 370.
Lang, J.M., Eisen, J.A., Zivkovic, A.M. (2014) ‘The microbes we eat: abundance and taxonomy of microbes consumed in a day’s worth of meals for three diet types’, PeerJ 2, e659.
Lawley, T.D., Clare, S., Walker, A.W., et al. (2012) ‘Targeted restoration of the intestinal microbiota with a simple, defined bacteriotherapy resolves relapsing Clostridium difficiledisease in mice’, PLoS Pathog. 8, e1002995.
Lax, S., Gilbert, J.A. (2015) ‘Hospital-associated microbiota and implications for nosocomial infections’, Trends Mol. Med. 21, 427–432.
Lax, S., Sangwan, N., Smith, D., et al. (2017) ‘Bacterial colonization and succession in a newly opened hospital’, Sci. Transl. Med. 9, eaah6500.
Lax, S., Smith, D.P., Hampton-Marcell, J., et al. (2014) ‘Longitudinal analysis of microbial interaction between humans and the indoor environment’, Science 345, 1048–1052.
Le Chatelier, E., Nielsen, T., Qin, J., et al. (2013) ‘Richness of human gut microbiome correlates with metabolic markers’, Nature 500, 541–546.
Le Clec’h, W., Chevalier, F.D., Genty, L., et al. (2013) ‘Cannibalism and predation as paths for horizontal passage of Wolbachia between terrestrial isopods’, PLoS ONE 8, e60232.
Lee, Y.K., Mazmanian, S.K. (2010) ‘Has the microbiota played a critical role in the evolution of the adaptive immune system?’, Science 330, 1768–1773.
Lee, B.K., Magnusson, C., Gardner, R.M., et al. (2015) ‘Maternal hospitalization with infection during pregnancy and risk of autism spectrum disorders’, Brain. Behav. Immun. 44, 100–105.
Leewenhoeck, A. van (1677) ‘Observation, communicated to the publisher by Mr. Antony van Leewenhoeck, in a Dutch letter of the 9 Octob. 1676 here English’d: concerning little animals by him observed in rain-well-sea and snow water; as also in water wherein pepper had lain infused’, Phil. Trans. 12, 821–831.
Leewenhook, A. van (1674), More Observations from Mr. Leewenhook, in a Letter of Sept. 7, 1674, sent to the Publisher’, Phil. Trans. 12, 178–182.
Lemon, K.P., Armitage, G.C., Relman, D.A., Fischbach, M.A. (2012) ‘Microbiota-targeted therapies: an ecological perspective’, Sci. Transl. Med. 4, 137rv5.
LePage, D., Bordenstein, S.R. (2013) ‘Wolbachia: can we save lives with a great pandemic?’, Trends Parasitol. 29, 385–393.
Leroi, A.M. (2014) The Lagoon: How Aristotle Invented Science (New York: Viking Books).
Leroy, P.D., Sabri, A., Heuskin, S., et al. (2011) ‘Microorganisms from aphid honeydew attract and enhance the efficacy of natural enemies’, Nat. Commun. 2, 348.
Ley, R.E., Bäckhed, F., Turnbaugh, P., et al. (2005) ‘Obesity alters gut microbial ecology’, Proc. Natl. Acad. Sci. 102, 11070–11075.
Ley, R.E., Peterson, D.A., Gordon, J.I. (2006) ‘Ecological and evolutionary forces shaping microbial diversity in the human intestine’, Cell 124, 837–848.
Ley, R.E., Hamady, M., Lozupone, C., et al. (2008a) ‘Evolution of mammals and their gut microbes’, Science 320, 1647–1651.
Ley, R.E., Lozupone, C.A., Hamady, M., et al. (2008b) ‘Worlds within worlds: evolution of the vertebrate gut microbiota’, Nat. Rev. Microbiol. 6, 776–788.
Li, J., Jia, H., Cai, X., et al. (2014) ‘An integrated catalog of reference genes in the human gut microbiome’, Nat. Biotechnol. 32, 834–841.
Linz, B., Balloux, F., Moodley, Y., et al. (2007) ‘An African origin for the intimate association between humans and Helicobacter pylori’, Nature 445, 915–918.
Liou, A.P., Paziuk, M., Luevano, J.-M., et al. (2013) ‘Conserved shifts in the gut microbiota due to gastric bypass reduce host weight and adiposity’, Sci. Transl. Med. 5, 178ra41.
Login, F.H., Heddi, A. (2013) ‘Insect immune system maintains long-term resident bacteria through a local response’, J. Insect Physiol. 59, 232–239.
Lombardo, M.P. (2008) ‘Access to mutualistic endosymbiotic microbes: an underappreciated benefit of group living’, Behav. Ecol. Sociobiol. 62, 479–497.
Lyte, M., Varcoe, J.J., Bailey, M.T. (1998) ‘Anxiogenic effect of subclinical bacterial infection in mice in the absence of overt immune activation’, Physiol. Behav. 65, 63–68.
Ma, B., Forney, L.J., Ravel, J. (2012) ‘Vaginal microbiome: rethinking health and disease,’ Annu. Rev. Microbiol. 66, 371–389.
Malkova, N.V., Yu, C.Z., Hsiao, E.Y., et al. (2012) ‘Maternal immune activation yields offspring displaying mouse versions of the three core symptoms of autism’, Brain. Behav. Immun. 26, 607–616.
Manichanh, C., Borruel, N., Casellas, F., Guarner, F. (2012) ‘The gut microbiota in IBD’, Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 9, 599–608.
Marcobal, A., Barboza, M., Sonnenburg, E.D., et al. (2011) ‘Bacteroides in the infant gut consume milk oligosaccharides via mucus-utilization pathways’, Cell Host Microbe 10, 507–514.
Margulis, L., Fester, R. (1991) Symbiosis as a Source of Evolutionary Innovation: Speciation and Morphogenesis (Cambridge, Mass: The MIT Press).
Margulis, L., Sagan, D. (2002) Acquiring Genomes: A Theory of the Origin of Species(New York: Perseus Books Group).
Martel, A., Sluijs, A.S. der, Blooi, M., et al. (2013) ‘Batrachochytrium salamandrivorans sp. nov. causes lethal chytridiomycosis in amphibians’, Proc. Natl. Acad. Sci. 110, 15325–15329.
Martens, E.C., Kelly, A.G., Tauzin, A.S., Brumer, H. (2014) ‘The devil lies in the details: how variations in polysaccharide fine-structure impact the physiology and evolution of gut microbes’, J. Mol. Biol. 426, 3851–3865.
Martínez, I., Stegen, J.C., Maldonado-Gómez, M.X., et al. (2015) ‘The gut microbiota of rural Papua New Guineans: composition, diversity patterns, and ecological processes’, Cell Rep. 11, 527–538.
Mayer, E.A., Tillisch, K., Gupta, A. (2015) ‘Gut/brain axis and the microbiota’, J. Clin. Invest. 125, 926–938.
Maynard, C.L., Elson, C.O., Hatton, R.D., Weaver, C.T. (2012) ‘Reciprocal interactions of the intestinal microbiota and immune system’, Nature 489, 231–241.
Mazmanian, S.K., Liu, C.H., Tzianabos, A.O., Kasper, D.L. (2005) ‘An immunomodulatory molecule of symbiotic bacteria directs maturation of the host immune system’, Cell 122, 107–118.
Mazmanian, S.K., Round, J.L., Kasper, D.L. (2008) ‘A microbial symbiosis factor prevents intestinal inflammatory disease’, Nature 453, 620–625.
McCutcheon, J.P. (2013) ‘Genome evolution: a bacterium with a Napoleon Complex’, Curr. Biol. 23, R657–R659.
McCutcheon, J.P., Moran, N.A. (2011) ‘Extreme genome reduction in symbiotic bacteria’, Nat. Rev. Microbiol. 10, 13–26.
McDole, T., Nulton, J., Barott, K.L., et al. (2012) ‘Assessing coral reefs on a Pacific-wide scale using the microbialization score’, PLoS ONE 7, e43233.
McFall-Ngai, M.J. (1998) ‘The development of cooperative associations between animals and bacteria: establishing detente among domains’, Integr. Comp. Biol. 38, 593–608.
McFall-Ngai, M. (2007) ‘Adaptive immunity: care for the community’, Nature 445, 153.
McFall-Ngai, M. (2014) ‘Divining the essence of symbiosis: insights from the Squid-Vibrio Model’, PLoS Biol. 12, e1001783.
McFall-Ngai, M.J., Ruby, E.G. (1991) ‘Symbiont recognition and subsequent morphogenesis as early events in an animal – bacterial mutualism’, Science 254, 1491–1494.
McFall-Ngai, M., Hadfield, M.G., Bosch, T.C., et al. (2013) ‘Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences’, Proc. Natl. Acad. Sci. 110, 3229–3236.
McFarland, L.V. (2014) ‘Use of probiotics to correct dysbiosis of normal microbiota following disease or disruptive events: a systematic review’, BMJ Open 4, e005047.
McGraw, E.A., O’Neill, S.L. (2013) ‘Beyond insecticides: new thinking on an ancient problem’, Nat. Rev. Microbiol. 11, 181–193.
McKenna, M. (2010) Superbug: The Fatal Menace of MRSA (New York: Free Press).
McKenna, M. (2013) ‘Imagining the Post-Antibiotics Future’, Medium.
Mclaren, D.J., Worms, M.J., Laurence, B.R., Simpson, M.G. (1975) ‘Micro-organisms in filarial larvae (Nematoda)’, Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 69, 509–514.
McMaster, J. (2004) ‘How Did Life Begin?’ PBS
McMeniman, C.J., Lane, R.V., Cass, B.N., et al. (2009) ‘Stable introduction of a life-shortening Wolbachia infection into the mosquito Aedes aegypti’, Science 323, 141–144.
McNulty, N.P., Yatsunenko, T., Hsiao, A., et al. (2011) ‘The impact of a consortium of fermented milk strains on the gut microbiome of gnotobiotic mice and monozygotic twins’, Sci. Transl. Med. 3, 106ra106.
Meadow, J.F., Bateman, A.C., Herkert, K.M., et al. (2013) ‘Significant changes in the skin microbiome mediated by the sport of roller derby’, PeerJ 1, e53.
Meadow, J.F., Altrichter, A.E., Bateman, A.C., et al. (2015) ‘Humans differ in their personal microbial cloud’, PeerJ 3, e1258.
Metcalf, J.A., Funkhouser-Jones, L.J., Brileya, K., et al. (2014) ‘Antibacterial gene transfer across the tree of life’, eLife 3.
Miller, A.W., Kohl, K.D., Dearing, M.D. (2014) ‘The gastrointestinal tract of the white-throated woodrat (Neotoma albigula) harbors distinct consortia of oxalate-degrading bacteria’, Appl. Environ. Microbiol. 80, 1595–1601.
Mimee, M., Tucker, A.C., Voigt, C.A., Lu, T.K. (2015) ‘Programming a human commensal bacterium, Bacteroides thetaiotaomicron, to sense and respond to stimuli in the murine gut microbiota’, Cell Syst. 1, 62–71.
Min, K.-T., Benzer, S. (1997) ‘Wolbachia, normally a symbiont of Drosophila, can be virulent, causing degeneration and early death’, Proc. Natl. Acad. Sci. 94, 10792–10796.
Moberg, S. (2005) René Dubos, Friend of the Good Earth: Microbiologist, Medical Scientist, Environmentalist (Washington, DC: ASM Press).
Moeller, A.H., Li, Y., Mpoudi Ngole, E., et al. (2014) ‘Rapid changes in the gut microbiome during human evolution’, Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 16431–16435.
Montgomery, M.K., McFall-Ngai, M. (1994) ‘Bacterial symbionts induce host organ morphogenesis during early postembryonic development of the squid Euprymna scolopes’, Dev. Camb. Engl. 120, 1719–1729.
Moran, N.A., Dunbar, H.E. (2006) ‘Sexual acquisition of beneficial symbionts in aphids’, Proc. Natl. Acad. Sci. 103, 12803–12806.
Moran, N.A., Sloan, D.B. (2015) ‘The Hologenome Concept: helpful or hollow?’ PLoS Biol. 13, e1002311.
Moran, N.A., Degnan, P.H., Santos, S.R., et al. (2005) ‘The players in a mutualistic symbiosis: insects, bacteria, viruses, and virulence genes’, Proc. Natl. Acad. Sci. 102, 16919–16926.
Moreira, L.A., Iturbe-Ormaetxe, I., Jeffery, J.A., et al. (2009) ‘A Wolbachia symbiont in Aedes aegypti limits infection with dengue, chikungunya, and plasmodium’, Cell 139, 1268–1278.
Morell, V. (1997) ‘Microbial biology: microbiology’s scarred revolutionary’, Science 276, 699–702.
Morgan, X.C., Tickle, T.L., Sokol, H., et al. (2012) ‘Dysfunction of the intestinal microbiome in inflammatory bowel disease and treatment’, Genome Biol. 13, R79.
Mukherjee, S. (2011) The Emperor of All Maladies (London: Fourth Estate).
Mullard, A. (2008) ‘Microbiology: the inside story’, Nature 453, 578–580.
National Research Council (US) Committee on Metagenomics (2007) The New Science of Metagenomics: Revealing the Secrets of Our Microbial Planet (Washington, DC: National Academies Press (US)).
Nature (1975) ‘Oh, New Delhi; oh, Geneva’, Nature 256, 355–357.
Nature (2013) ‘Culture shock’, Nature 493, 133–134.
Nawroth, J.C., Guo, H., Koch, E., et al. (2017) ‘Motile cilia create fluid-mechanical microhabitats for the active recruitment of the host microbiome’, Proc. Natl. Acad. Sci. 114, 9510–9516.
Nelson, B. (2014) ‘Medicine’s dirty secret’, Mosaic Science.
Neufeld, K.M., Kang, N., Bienenstock, J., Foster, J.A. (2011) ‘Reduced anxiety-like behavior and central neurochemical change in germ-free mice: behavior in germ-free mice’, Neurogastroenterol. Motil. 23, 255–e119.
Newburg, D.S., Ruiz-Palacios, G.M., Morrow, A.L. (2005) ‘Human milk glycans protect infants against enteric pathogens’, Annu. Rev. Nutr. 25, 37–58.
New York Times (12 February 1985) ‘Science watch: miracle plant tested as cattle fodder’.
Nicholson, J.K., Holmes, E., Kinross, J., et al. (2012) ‘Host – Gut Microbiota Metabolic Interactions’, Science 336, 1262–1267.
Nightingale, F. (1859) Notes on Nursing: What It Is, and What It Is Not (New York: D. Appleton & Co.).
Nougué, O., Gallet, R., Chevin, L-M., Lenormand, T. (2015) ‘Niche limits of symbiotic gut microbiota constrain the salinity tolerance of brine shrimp’, Am. Nat. 186, 390–403.
Nováková, E., Hypša, V., Klein, J., et al. (2013) ‘Reconstructing the phylogeny of aphids (Hemiptera: Aphididae) using DNA of the obligate symbiont Buchnera aphidicola’, Mol. Phylogenet. Evol. 68, 42–54.
Obregon-Tito, A.J., Tito, R.Y., Metcalf, J., et al. (2015) ‘Subsistence strategies in traditional societies distinguish gut microbiomes’, Nat. Commun. 6, 6505.
Ochman, H., Lawrence, J.G., Groisman, E.A. (2000) ‘Lateral gene transfer and the nature of bacterial innovation’, Nature 405, 299–304.
Ohbayashi, T., Takeshita, K., Kitagawa, W., et al. (2015) ‘Insect’s intestinal organ for symbiont sorting’, Proc. Natl. Acad. Sci. 112, E5179–E5188.
Oliver, K.M., Moran, N.A., Hunter, M.S. (2005) ‘Variation in resistance to parasitism in aphids is due to symbionts not host genotype’, Proc. Natl. Acad. Sci. 102, 12795–12800.
Oliver, K.M., Campos, J., Moran, N.A., Hunter, M.S. (2008) ‘Population dynamics of defensive symbionts in aphids’, Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 275, 293–299.
Olle, B. (2013) ‘Medicines from microbiota’, Nat. Biotechnol. 31, 309–315.
Olszak, T., An, D., Zeissig, S., et al. (2012) ‘Microbial exposure during early life has persistent effects on natural killer T cell function’, Science 336, 489–493.
O’Malley, M.A. (2009) ‘What did Darwin say about microbes, and how did microbiology respond?’, Trends Microbiol. 17, 341–347.
Osawa, R., Blanshard, W., Ocallaghan, P. (1993) ‘Microbiological studies of the intestinal microflora of the Koala, Phascolarctos-Cinereus.2. Pap, a special maternal feces consumed by juvenile koalas’, Aust. J. Zool. 41, 611–620.
Ott, S.J., Musfeldt, M., Wenderoth, D.F., et al. (2004) ‘Reduction in diversity of the colonic mucosa associated bacterial microflora in patients with active inflammatory bowel disease’, Gut 53, 685–693.
Ott, B.M., Rickards, A., Gehrke, L., Rio, R.V.M. (2015) ‘Characterization of shed medicinal leech mucus reveals a diverse microbiota’, Front. Microbiol. 5.
Pace, N.R., Stahl, D.A., Lane, D.J., Olsen, G.J. (1986) ‘The analysis of natural microbial populations by ribosomal RNA Sequences’, in Advances in Microbial Ecology, K. C. Marshall, ed. (New York: Springer US), pp. 1–55.
Paine, R.T., Tegner, M.J., Johnson, E.A. (1998) ‘Compounded perturbations yield ecological surprises’, Ecosystems 1, 535–545.
Pais, R., Lohs, C., Wu, Y., et al. (2008) ‘The obligate mutualist Wigglesworthia glossinidiainfluences reproduction, digestion, and immunity processes of its host, the tsetse fly’, Appl. Environ. Microbiol. 74, 5965–5974.
Pannebakker, B.A., Loppin, B., Elemans, C.P., et al. (2007) ‘Parasitic inhibition of cell death facilitates symbiosis’, Proc. Natl. Acad. Sci. 104, 213–215.
Payne, A.S. (1970) The Cleere Observer. A Biography of Antoni Van Leeuwenhoek(London: Macmillan).
Petrof, E.O., Khoruts, A. (2014) ‘From stool transplants to next-generation microbiota therapeutics’, Gastroenterology 146, 1573–1582.
Petrof, E., Gloor, G., Vanner, S., et al. (2013) ‘Stool substitute transplant therapy for the eradication of Clostridium difficile infection: ‘RePOOPulating’ the gut’, Microbiome 2013, 3.
Petschow, B., Doré, J., Hibberd, P., et al. (2013) ‘Probiotics, prebiotics, and the host microbiome: the science of translation’, Ann. N. Y. Acad. Sci. 1306, 1–17.
Pickard, J.M., Maurice, C.F., Kinnebrew, M.A., et al. (2014) ‘Rapid fucosylation of intestinal epithelium sustains host – commensal symbiosis in sickness’, Nature 514, 638–641.
Pinto-Sanchez, M.I., Hall, G.B., Ghajar, K., et al. (2017) ‘Probiotic Bifidobacterium longum NCC3001 reduces depression scores and alters brain activity: a pilot study in patients with irritable bowel syndrome’, Gastroenterology.
Poulsen, M., Hu, H., Li, C., et al. (2014) ‘Complementary symbiont contributions to plant decomposition in a fungus-farming termite’, Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 14500–14505.
Qian, J., Hospodsky, D., Yamamoto, N., et al. (2012) ‘Size-resolved emission rates of airborne bacteria and fungi in an occupied classroom: size-resolved bioaerosol emission rates’, Indoor Air 22, 339–351.
Quammen, D. (1997) The Song of the Dodo: Island Biogeography in an Age of Extinction(New York: Scribner).
Rawls, J.F., Samuel, B.S., Gordon, J.I. (2004) ‘Gnotobiotic zebrafish reveal evolutionarily conserved responses to the gut microbiota’, Proc. Natl. Acad. Sci. 101, 4596–4601.
Rawls, J.F., Mahowald, M.A., Ley, R.E., Gordon, J.I. (2006) ‘Reciprocal gut microbiota transplants from zebrafish and mice to germ-free recipients reveal host habitat selection’, Cell127, 423–433.
Redford, K.H., Segre, J.A., Salafsky, N., et al. (2012) ‘Conservation and the Microbiome: Editorial. Conserv. Biol. 26, 195–197.
Reid, G. (2011) ‘Opinion paper: Quo vadis – EFSA?’, Benef. Microbes 2, 177–181.
Relman, D.A. (2008), ‘ “Til death do us part”: coming to terms with symbiotic relationships’, Foreword. Nat. Rev. Microbiol. 6, 721–724.
Relman, D.A. (2012) ‘The human microbiome: ecosystem resilience and health’, Nutr. Rev. 70, S2–S9.
Ridaura, V.K., Faith, J.J., Rey, F.E., et al. (2013) ‘Gut microbiota from twins discordant for obesity modulate metabolism in mice’, Science 341, 1241214.
Rigaud, T., Juchault, P. (1992). Heredity – Abstract of article: ‘Genetic control of the vertical transmission of a cytoplasmic sex factor in Armadillidium vulgare Latr. (Crustacea, Oniscidea)’, Heredity 68, 47–52.
Riley, D.R., Sieber, K.B., Robinson, K.M., et al. (2013) ‘Bacteria – human somatic cell lateral gene transfer is enriched in cancer samples’, PLoS Comput. Biol. 9, e1003107.
Roberts, C.S. (1990) ‘William Beaumont, the man and the opportunity’, in Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations, H. K. Walker, W. D. Hall, J. W. Hurst, eds (Boston: Butterworths).
Roberts, S.C., Gosling, L.M., Spector, T.D., et al. (2005) ‘Body Odor Similarity in Noncohabiting Twins’, Chem. Senses 30, 651–656.
Rogier, E.W., Frantz, A.L., Bruno, M.E., et al. (2014) ‘Secretory antibodies in breast milk promote long-term intestinal homeostasis by regulating the gut microbiota and host gene expression’, Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 3074–3079.
Rohwer, F., Youle, M. (2010) Coral Reefs in the Microbial Seas (United States: Plaid Press). Rook, G.A.W., Lowry, C.A., Raison, C.L. (2013) ‘Microbial ‘Old Friends’, immunoregulation and stress resilience’, Evol. Med. Public Health 2013, 46–64.
Rosebury, T. (1962) Microorganisms Indigenous to Man (New York: McGraw-Hill).
Rosebury, T. (1969) Life on Man (New York: Viking Press).
Rosenberg, E., Sharon, G., Zilber-Rosenberg, I. (2009) ‘The hologenome theory of evolution contains Lamarckian aspects within a Darwinian framework’, Environ. Microbiol. 11, 2959–2962.
Rosner, J. (2014) ‘Ten times more microbial cells than body cells in humans?’, Microbe 9, 47.
Round, J.L., Mazmanian, S.K. (2009) ‘The gut microbiota shapes intestinal immune responses during health and disease’, Nat. Rev. Immunol. 9, 313–323.
Round, J.L., Mazmanian, S.K. (2010) ‘Inducible Foxp3+ regulatory T-cell development by a commensal bacterium of the intestinal microbiota’, Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 12204–12209.
Russell, C.W., Bouvaine, S., Newell, P.D., Douglas, A.E. (2013a) ‘Shared metabolic pathways in a coevolved insect – bacterial symbiosis’, Appl. Environ. Microbiol. 79, 6117–6123.
Russell, J.A., Funaro, C.F., Giraldo, Y.M., et al. (2012) ‘A veritable menagerie of heritable bacteria from ants, butterflies, and beyond: broad molecular surveys and a systematic review’, PLoS ONE 7, e51027.
Russell, J.A., Weldon, S., Smith, A.H., et al. (2013b) ‘Uncovering symbiont-driven genetic diversity across North American pea aphids’, Mol. Ecol. 22, 2045–2059.
Rutherford, A. (2013). Creation: The Origin of Life / The Future of Life (London: Penguin).
Sachs, J.L., Skophammer, R.G., Regus, J.U. (2011) ‘Evolutionary transitions in bacterial symbiosis’, Proc. Natl. Acad. Sci. 108, 10800–10807.
Sacks, O. (23 April 2015) ‘A General Feeling of Disorder.’ N. Y. Rev. Books.
Saeidi, N., Wong, C.K., Lo, T-M., et al. (2011) ‘Engineering microbes to sense and eradicate Pseudomonas aeruginosa, a human pathogen’, Mol. Syst. Biol. 7, 521.
Sagan, L. (1967) ‘On the origin of mitosing cells’, J. Theor. Biol. 14, 255–274.
Salter, S.J., Cox, M.J., Turek, E.M., et al. (2014) ‘Reagent and laboratory contamination can critically impact sequence-based microbiome analyses’, BMC Biol. 12, 87.
Salzberg, S.L. (2001) ‘Microbial genes in the human genome: lateral transfer or gene loss?’, Science 292, 1903–1906.
Salzberg, S.L., Hotopp, J.C., Delcher, A.L., et al. (2005) ‘Serendipitous discovery of Wolbachia genomes in multiple Drosophila species’, Genome Biol. 6, R23.
Sanders, J.G., Beichman, A.C., Roman, J., et al. (2015) ‘Baleen whales host a unique gut microbiome with similarities to both carnivores and herbivores’, Nat. Commun. 6, 8285.
Sangodeyi, F.I. (2014) ‘The Making of the Microbial Body, 1900s–2012.’ Harvard University.
Sapp, J. (1994) Evolution by Association: A History of Symbiosis (New York: Oxford University Press).
Sapp, J. (2002) ‘Paul Buchner (1886–1978) and hereditary symbiosis in insects’, Int. Microbiol. 5, 145–150.
Sapp, J. (2009) The New Foundations of Evolution: On the Tree of Life (Oxford and New York: Oxford University Press).
Savage, D.C. (2001) ‘Microbial biota of the human intestine: a tribute to some pioneering scientists’, Curr. Issues Intest. Microbiol. 2, 1–15.
Schilthuizen, M.O., Stouthamer, R. (1997) Horizontal transmission of parthenogenesis-inducing microbes in Trichogramma wasps’, Proc. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 264, 361–366.
Schluter, J., Foster, K.R. (2012) ‘The evolution of mutualism in gut microbiota via host epithelial selection’, PLoS Biol. 10, e1001424.
Schmidt, C. (2013) ‘The startup bugs’, Nat. Biotechnol. 31, 279–281.
Schmidt, T.M., DeLong, E.F., Pace, N.R. (1991) ‘Analysis of a marine picoplankton community by 16S rRNA gene cloning and sequencing’, J. Bacteriol. 173, 4371–4378.
Schnorr, S.L., Candela, M., Rampelli, S., et al. (2014) ‘Gut microbiome of the Hadza hunter-gatherers’, Nat. Commun. 5, 3654.
Schubert, A.M., Sinani, H., Schloss, P.D. (2015) ‘Antibiotic-induced alterations of the murine gut microbiota and subsequent effects on colonization resistance against Clostridium difficile’, mBio 6, e00974–15.
Sela, D.A., Mills, D.A. (2014) ‘The marriage of nutrigenomics with the microbiome: the case of infant-associated bifidobacteria and milk’, Am. J. Clin. Nutr. 99, 697S–703S.
Sela, D.A., Chapman, J., Adeuya, A., et al. (2008) ‘The genome sequence of Bifidobacterium longum subsp. infantis reveals adaptations for milk utilization within the infant microbiome’, Proc. Natl. Acad. Sci. 105, 18964–18969.
Selosse, M-A., Bessis, A., Pozo, M.J. (2014) ‘Microbial priming of plant and animal immunity: symbionts as developmental signals’, Trends Microbiol. 22, 607–613.
Shanahan, F. (2010) ‘Probiotics in perspective’, Gastroenterology 139, 1808–1812.
Shanahan, F. (2012) ‘The microbiota in inflammatory bowel disease: friend, bystander, and sometime-villain’, Nutr. Rev. 70, S31–S37.
Shanahan, F., Quigley, E.M.M. (2014) ‘Manipulation of the microbiota for treatment of IBS and IBD – challenges and controversies’, Gastroenterology 146, 1554–1563.
Sharma, R., Jayoussi, G.A., Tyrer, H.E., et al. (2016) ‘Minocycline as a re-purposed anti-Wolbachia macrofilaricide: superiority compared with doxycycline regimens in a murine infection model of human lymphatic filariasis’, Sci. Rep. 6.
Sharon, G., Segal, D., Ringo, J.M., et al. (2010) ‘Commensal bacteria play a role in mating preference of Drosophila melanogaster’, Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 20051–20056.
Sharon, G., Garg, N., Debelius, J., et al. (2014) ‘Specialized metabolites from the microbiome in health and disease. Cell Metab. 20, 719–730.
Shikuma, N.J., Pilhofer, M., Weiss, G.L., et al. (2014) ‘Marine tubeworm metamorphosis induced by arrays of bacterial phage tail-like structures’, Science 343, 529–533.
Six, D.L. (2013) ‘The Bark Beetle holobiont: why microbes matter’, J. Chem. Ecol. 39, 989–1002.
Sjögren, K., Engdahl, C., Henning, P., et al. (2012) ‘The gut microbiota regulates bone mass in mice’, J. Bone Miner. Res. Off. J. Am. Soc. Bone Miner. Res. 27, 1357–1367.
Slashinski, M.J., McCurdy, S.A., Achenbaum, L.S., et al. (2012) ‘‘Snake-oil,’ ‘quack medicine,’ and ‘industrially cultured organisms:’ biovalue and the commercialization of human microbiome research’, BMC Med. Ethics 13, 28.
Slatko, B.E., Taylor, M.J., Foster, J.M. (2010) ‘The Wolbachia endosymbiont as an anti-filarial nematode target’, Symbiosis 51, 55–65.
Smillie, C.S., Smith, M.B., Friedman, J., et al. (2011) ‘Ecology drives a global network of gene exchange connecting the human microbiome’, Nature 480, 241–244.
Smith, C.C., Snowberg, L.K., Gregory Caporaso, J., et al. (2015) ‘Dietary input of microbes and host genetic variation shape among-population differences in stickleback gut microbiota’, ISME J. 9, 2515–2526.
Smith, J.E., Shaw, M., Edwards, R.A., et al. (2006) ‘Indirect effects of algae on coral: algae-mediated, microbe-induced coral mortality’, Ecol. Lett. 9, 835–845.
Smith, M., Kelly, C., Alm, E. (2014) ‘How to regulate faecal transplants’, Nature 506, 290–291.
Smith, M.I., Yatsunenko, T., Manary, M.J., et al. (2013a) ‘Gut microbiomes of Malawian twin pairs discordant for kwashiorkor’, Science 339, 548–554.
Smith, P.M., Howitt, M.R., Panikov, N., et al. (2013b) ‘The microbial metabolites, short-chain fatty acids, regulate colonic Treg cell homeostasis’, Science 341, 569–573.
Smithsonian National Museum of Natural History (2010) Giant Tube Worm: Riftia pachyptila.
Sneed, J.M., Sharp, K.H., Ritchie, K.B., Paul, V.J. (2014) ‘The chemical cue tetrabromopyrrole from a biofilm bacterium induces settlement of multiple Caribbean corals’, Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 281, 20133086.
Sokol, H., Pigneur, B., Watterlot, L., et al. (2008) ‘Faecalibacterium prausnitzii is an anti-inflammatory commensal bacterium identified by gut microbiota analysis of Crohn disease patients’, Proc. Natl. Acad. Sci.
Soler, J.J., Martín-Vivaldi, M., Ruiz-Rodríguez, M., et al. (2008) ‘Symbiotic association between hoopoes and antibiotic-producing bacteria that live in their uropygial gland’, Funct. Ecol. 22, 864–871.
Sommer, F., Bäckhed, F. (2013) ‘The gut microbiota – masters of host development and physiology’, Nat. Rev. Microbiol. 11, 227–238.
Sonnenburg, E.D., Sonnenburg, J.L. (2014) ‘Starving our microbial self: the deleterious consequences of a diet deficient in microbiota-accessible carbohydrates’, Cell Metab. 20, 779–786.
Sonnenburg, E.D., Smits, S.A., Tikhonov, M., et al. (2016) ‘Diet-induced extinctions in the gut microbiota compound over generations’, Nature 529, 212–215.
Sonnenburg, J.L., Fischbach, M.A. (2011) ‘Community health care: therapeutic opportunities in the human microbiome’, Sci. Transl. Med. 3, 78ps12.
Sonnenburg, J., Sonnenburg, E. (2015) The Good Gut: Taking Control of Your Weight, Your Mood, and Your Long-Term Health (New York: The Penguin Press).
Spor, A., Koren, O., Ley, R. (2011) ‘Unravelling the effects of the environment and host genotype on the gut microbiome’, Nat. Rev. Microbiol. 9, 279–290.
Stahl, D.A., Lane, D.J., Olsen, G.J., Pace, N.R. (1985) ‘Characterization of a Yellowstone hot spring microbial community by 5S rRNA sequences’, Appl. Environ. Microbiol. 49, 1379–1384.
Stappenbeck, T.S., Hooper, L.V., Gordon, J.I. (2002) ‘Developmental regulation of intestinal angiogenesis by indigenous microbes via Paneth cells’, Proc. Natl. Acad. Sci. 99, 15451–15455.
Stefka, A.T., Feehley, T., Tripathi, P., et al. (2014) ‘Commensal bacteria protect against food allergen sensitization’, Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 13145–13150.
Stevens, C.E., Hume, I.D. (1998) ‘Contributions of microbes in vertebrate gastrointestinal tract to production and conservation of nutrients’, Physiol. Rev. 78, 393–427.
Stewart, F.J., Cavanaugh, C.M. (2006) ‘Symbiosis of thioautotrophic bacteria with Riftia pachyptila’, Prog. Mol. Subcell. Biol. 41, 197–225.
Stilling, R.M., Dinan, T.G., Cryan, J.F. (2015) ‘The brain’s Geppetto – microbes as puppeteers of neural function and behaviour?’, J. Neurovirol.
Stoll, S., Feldhaar, H., Fraunholz, M.J., Gross, R. (2010) ‘Bacteriocyte dynamics during development of a holometabolous insect, the carpenter ant Camponotus floridanus’, BMC Microbiol. 10, 308.
Strachan, D.P. (1989) ‘Hay fever, hygiene, and household size’, BMJ 299, 1259–1260.
Strachan, D.P. (2015). Re: ‘The ‘hygiene hypothesis’ for allergic disease is a misnomer.’ BMJ 349, g5267.
Strand, M.R., Burke, G.R. (2012) ‘Polydnaviruses as symbionts and gene delivery systems’, PLoS Pathog. 8, e1002757.
Subramanian, S., Huq, S., Yatsunenko, T., et al. (2014) ‘Persistent gut microbiota immaturity in malnourished Bangladeshi children’, Nature 510, 417–421.
Sudo, N., Chida, Y., Aiba, Y., et al. (2004) ‘Postnatal microbial colonization programs the hypothalamic-pituitary – adrenal system for stress response in mice’, J. Physiol. 558, 263–275.
Sundset, M.A., Barboza, P.S., Green, T.K., et al. (2010) ‘Microbial degradation of usnic acid in the reindeer rumen’, Naturwissenschaften 97, 273–278.
Svoboda, E. (2015) ‘How Soil Microbes Affect the Environment’, Quanta Magazine.
Tang, W.H.W., Hazen, S.L. (2014) ‘The contributory role of gut microbiota in cardiovascular disease’, J. Clin. Invest. 124, 4204–4211.
Taylor, M.J., Hoerauf, A. (1999) ‘Wolbachia bacteria of filarial nematodes’, Parasitol. Today 15, 437–442.
Taylor, M.J., Makunde, W.H., McGarry, H.F., et al. (2005) ‘Macrofilaricidal activity after doxycycline treatment of Wuchereria bancrofti: a double-blind, randomised placebo-controlled trial’, Lancet 365, 2116–2121.
Taylor, M.J., Hoerauf, A., Bockarie, M. (2010) ‘Lymphatic filariasis and onchocerciasis’, Lancet 376, 1175–1185.
Taylor, M.J., Voronin, D., Johnston, K.L., Ford, L. (2013) ‘Wolbachia filarial interactions: Wolbachia filarial cellular and molecular interactions’, Cell. Microbiol. 15, 520–526.
Taylor, M.J., Hoerauf, A., Townson, S., et al. (2014) ‘Anti-Wolbachia drug discovery and development: safe macrofilaricides for onchocerciasis and lymphatic filariasis’, Parasitology141, 119–127.
Teixeira, L., Ferreira, Á., Ashburner, M. (2008) ‘The bacterial symbiont Wolbachia induces resistance to RNA viral infections in Drosophila melanogaster’, PLoS Biol. 6, e1000002.
Thacker, R.W., Freeman, C.J. (2012) ‘Sponge – microbe symbioses’, in Advances in Marine Biology (Philadelphia: Elsevier), pp. 57–111.
Thaiss, C.A., Zeevi, D., Levy, M., et al. (2014) ‘Transkingdom control of microbiota diurnal oscillations promotes metabolic homeostasis’, Cell 159, 514–529.
Theis, K.R., Venkataraman, A., Dycus, J.A., et al. (2013) ‘Symbiotic bacteria appear to mediate hyena social odors’, Proc. Natl. Acad. Sci. 110, 19832–19837.
Thurber, R.L.V., Barott, K.L., Hall, D., et al. (2008) ‘Metagenomic analysis indicates that stressors induce production of herpes-like viruses in the coral Porites compressa’, Proc. Natl. Acad. Sci. 105, 18413–18418.
Thurber, R.V., Willner-Hall, D., Rodriguez-Mueller, B., et al. (2009) ‘Metagenomic analysis of stressed coral holobionts’, Environ. Microbiol. 11, 2148–2163.
Tillisch, K., Labus, J., Kilpatrick, L., et al. (2013) ‘Consumption of fermented milk product with probiotic modulates brain activity’, Gastroenterology 144, 1394–1401.e4.
Tito, R.Y., Knights, D., Metcalf, J., et al. (2012) ‘Insights from “Characterizing Extinct Human Gut Microbiomes” ’, PLoS ONE 7, e51146.
Trasande, L., Blustein, J., Liu, M., et al. (2013) ‘Infant antibiotic exposures and early-life body mass’, Int. J. Obes. 2005 37, 16–23.
Tung, J., Barreiro, L.B., Burns, M.B., et al. (2015) ‘Social networks predict gut microbiome composition in wild baboons’, eLife 4.
Turnbaugh, P.J., Ley, R.E., Mahowald, M.A., et al. (2006) ‘An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest’, Nature 444, 1027–1131.
Underwood, M.A., Salzman, N.H., Bennett, S.H., et al. (2009) ‘A randomized placebo-controlled comparison of 2 prebiotic/probiotic combinations in preterm infants: impact on weight gain, intestinal microbiota, and fecal short-chain fatty acids’, J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 48, 216–225.
University of Utah (2012) ‘How Insects Domesticate Bacteria’, UNews.
Vaishnava, S., Behrendt, C.L., Ismail, A.S., et al. (2008) ‘Paneth cells directly sense gut commensals and maintain homeostasis at the intestinal host – microbial interface’, Proc. Natl. Acad. Sci. 105, 20858–20863.
Van Bonn, W., LaPointe, A., Gibbons, S.M., et al. (2015) ‘Aquarium microbiome response to ninety-percent system water change: clues to microbiome management’, Zoo Biol. 34, 360–367.
Van Leuven, J.T., Meister, R.C., Simon, C., McCutcheon, J.P. (2014) ‘Sympatric speciation in a bacterial endosymbiont results in two genomes with the functionality of one’, Cell 158, 1270–1280.
Van Nood, E., Vrieze, A., Nieuwdorp, M., et al. (2013) ‘Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium difficile’, N. Engl. J. Med. 368, 407–415.
Verhulst, N.O., Qiu, Y.T., Beijleveld, H., et al. (2011) ‘Composition of human skin microbiota affects attractiveness to malaria mosquitoes’, PLoS ONE 6, e28991.
Vétizou, M., Pitt, J.M., Daillère, R., et al. (2015) ‘Anticancer immunotherapy by CTLA–4 blockade relies on the gut microbiota’, Science 350, 1079–1084.
Vigneron, A., Masson, F., Vallier, A., et al. (2014) ‘Insects recycle endosymbionts when the benefit is over’, Curr. Biol. 24, 2267–2273.
Voronin, D., Cook, D.A.N., Steven, A., Taylor, M.J. (2012) ‘Autophagy regulates Wolbachia populations across diverse symbiotic associations’, Proc. Natl. Acad. Sci. 109, E1638–E1646.
Vrieze, A., Van Nood, E., Holleman, F., et al. (2012) ‘Transfer of intestinal microbiota from lean donors increases insulin sensitivity in individuals with metabolic syndrome’, Gastroenterology 143, 913–916.e7.
Wada-Katsumata, A., Zurek, L., Nalyanya, G., et al. (2015) ‘Gut bacteria mediate aggregation in the German cockroach’, Proc. Natl. Acad. Sci.
Wahl, M., Goecke, F., Labes, A., et al. (2012) ‘The second skin: ecological role of epibiotic biofilms on marine organisms’, Front. Microbiol. 3.
Walke, J.B., Becker, M.H., Loftus, S.C., et al. (2014) ‘Amphibian skin may select for rare environmental microbes’, ISME J. 8, 2207–2217.
Walker, T., Johnson, P.H., Moreira, L.A., et al. (2011) ‘The wMel Wolbachia strain blocks dengue and invades caged Aedes aegypti populations’, Nature 476, 450–453.
Wallace, A.R. (1855) ‘On the law which has regulated the introduction of new species’, Ann. Mag. Nat. Hist. 16, 184–196.
Wallin, I.E. (1927) Symbionticism and the Origin of Species (Baltimore: Williams & Wilkins Co.).
Walter, J., Ley, R. (2011) ‘The human gut microbiome: ecology and recent evolutionary changes’, Annu. Rev. Microbiol. 65, 411–429.
Walters, W.A., Xu, Z., Knight, R. (2014) ‘Meta-analyses of human gut microbes associated with obesity and IBD’, FEBS Lett. 588, 4223–4233.
Wang, Z., Roberts, A.B., Buffa, J.A., et al. (2015) ‘Non-lethal inhibition of gut microbial trimethylamine production for the treatment of atherosclerosis. Cell 163, 1585–1595.
Ward, R.E., Ninonuevo, M., Mills, D.A., et al. (2006) ‘In vitro fermentation of breast milk oligosaccharides by Bifidobacterium infantis and Lactobacillus gasseri’, Appl. Environ. Microbiol. 72, 4497–4499.
Weeks, P. (2000) ‘Red-billed oxpeckers: vampires or tickbirds?’, Behav. Ecol. 11, 154–160.
Wells, H.G., Huxley, J., Wells, G.P. (1930) The Science of Life (London: Cassell).
Wernegreen, J.J. (2004) ‘Endosymbiosis: lessons in conflict resolution’, PLoS Biol. 2, e68.
Wernegreen, J.J. (2012) ‘Mutualism meltdown in insects: bacteria constrain thermal adaptation’, Curr. Opin. Microbiol. 15, 255–262.
Wernegreen, J.J., Kauppinen, S.N., Brady, S.G., Ward, P.S. (2009) ‘One nutritional symbiosis begat another: phylogenetic evidence that the ant tribe Camponotini acquired Blochmannia by tending sap-feeding insects’, BMC Evol. Biol. 9, 292.
Werren, J.H., Baldo, L., Clark, M.E. (2008) ‘Wolbachia: master manipulators of invertebrate biology’, Nat. Rev. Microbiol. 6, 741–751.
West, S.A., Fisher, R.M., Gardner, A., Kiers, E.T. (2015) ‘Major evolutionary transitions in individuality’, Proc. Natl. Acad. Sci. 112, 10112–10119.
Westwood, J., Burnett, M., Spratt, D., et al. (2014). The Hospital Microbiome Project: meeting report for the UK science and innovation network UK – USA workshop ‘Beating the superbugs: hospital microbiome studies for tackling antimicrobial resistance’, 14 October 2013. Stand. Genomic Sci. 9, 12.
The Wilde Lecture (1901) ‘The Wilde Medal and Lecture of the Manchester Literary and Philosophical Society’, Br. Med. J. 1, 1027–1028.
Willingham, E. (2012) ‘Autism, immunity, inflammation, and the New York Times’.
Wilson, A.C.C., Ashton, P.D., Calevro, F., et al. (2010) ‘Genomic insight into the amino acid relations of the pea aphid, Acyrthosiphon pisum, with its symbiotic bacterium Buchnera aphidicola’, Insect Mol. Biol. 19 Suppl. 2, 249–258.
Wlodarska, M., Kostic, A.D., Xavier, R.J. (2015) ‘An integrative view of microbiome-host interactions in inflammatory bowel diseases’, Cell Host Microbe 17, 577–591.
Woese, C.R., Fox, G.E. (1977) ‘Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary kingdoms’, Proc. Natl. Acad. Sci. 74, 5088–5090.
Woodhams, D.C., Vredenburg, V.T., Simon, M-A., et al. (2007) ‘Symbiotic bacteria contribute to innate immune defenses of the threatened mountain yellow-legged frog, Rana muscosa’, Biol. Conserv. 138, 390–398.
Woodhams, D.C., Brandt, H., Baumgartner, S., et al. (2014) ‘Interacting symbionts and immunity in the amphibian skin mucosome predict disease risk and probiotic effectiveness’, PLoS ONE 9, e96375.
Woznica, A., Gerdt, J.P., Hulett, R., et al. (2017) ‘Mating in the closest living relatives of animals is induced by a bacterial chondroitinase’, Cell 170, 1175–1183.e11.
Wu, H., Tremaroli, V., Bäckhed, F. (2015) ‘Linking microbiota to human diseases: a systems biology perspective’, Trends Endocrinol. Metab. 26, 758–770.
Wybouw, N., Dermauw, W., Tirry, L., et al. (2014) ‘A gene horizontally transferred from bacteria protects arthropods from host plant cyanide poisoning’, eLife 3.
Yatsunenko, T., Rey, F.E., Manary, M.J., et al. (2012) ‘Human gut microbiome viewed across age and geography’, Nature 486 (7402), 222–227.
Yong, E. (2014a) ‘The Unique Merger That Made You (and Ewe, and Yew) ’, Nautilus.
Yong, E. (2014b) ‘Zombie roaches and other parasite tales’, TED.
Yong, E. (2014c) ‘There is no ‘healthy’ microbiome’, New York Times.
Yong, E. (2015a) ‘A visit to Amsterdam’s Microbe Museum’, New Yorker.
Yong, E. (2015b) ‘Microbiology: here’s looking at you, squid’, Nature 517, 262–264.
Yong, E. (2015c) ‘Bugs on patrol’, New Sci. 226, 40–43.
Yoshida, N., Oeda, K., Watanabe, E., Mikami, T., et al. (2001) ‘Protein function: chaperonin turned insect toxin’, Nature 411, 44–44.
Youngster, I., Russell, G.H., Pindar, C., et al. (2014) ‘Oral, capsulized, frozen fecal microbiota transplantation for relapsing Clostridium difficile infection’, JAMA 312, 1772.
Zhang, F., Luo, W., Shi, Y., et al. (2012) ‘Should we standardize the 1,700-year-old fecal microbiota transplantation?’, Am. J. Gastroenterol. 107, 1755–1755.
Zhang, Q., Raoof, M., Chen, Y., et al. (2010) ‘Circulating mitochondrial DAMPs cause inflammatory responses to injury’, Nature 464, 104–107.
Zhao, L. (2013) ‘The gut microbiota and obesity: from correlation to causality’, Nat. Rev. Microbiol. 11, 639–647.
Zilber-Rosenberg, I., Rosenberg, E. (2008) ‘Role of microorganisms in the evolution of animals and plants: the hologenome theory of evolution’, FEMS Microbiol. Rev. 32, 723–735.
Zimmer, C. (2008) Microcosm: E-coli and The New Science of Life (London: William Heinemann).
Zug, R., Hammerstein, P. (2012) ‘Still a host of hosts for Wolbachia: analysis of recent data suggests that 40 % of terrestrial arthropod species are infected’, PLoS ONE 7, e38544.
Примечания
1
Термины «микробиота» и «микробиом» в этой книге взаимозаменяемы. Некоторые ученые заметят, что под микробиотой понимаются сами живые существа, а под микробиомом – их общий геном. Однако еще в 1988 году термин «микробиом» был использован для описания группы микробов, обитающей в определенном месте. Это определение до сих пор считается основным – здесь важна часть «-биом», означающая сообщество, а не «-ом», относящаяся к миру геномов.
2
Впервые этот образ использовал эколог Клэр Фолсом (Folsome, 1985).
3
Губки: Thacker, Freeman, 2012; о пластинчатых мне лично рассказали Николь Дюбилье и Маргарет Макфолл-Най.
4
Costello et al., 2009.
5
О важности микробов в жизни животных уже много чего сказано, но лучше всего выразилась Макфолл-Най: «Животные в мире бактерий – новый императив для наук о жизни» (McFall-Ngai et al., 2013).
6
В детстве я видел в многосерийном фильме «Жизнь на Земле», как сэр Дэвид Аттенборо описывает мир именно так, и запомнил на всю жизнь.
7
Вторую половину вырабатывают растения на суше. В них фотосинтез происходит с помощью прирученных бактерий – хлоропластов. Получается, что весь кислород, которым вы дышите, появился благодаря бактериям.
8
В человеческом организме насчитывается порядка 100 триллионов микробов, причем большая их часть обитает в кишечнике. А звезд в Млечном Пути от 100 до 400 миллионов.
9
McMaster, 2004.
10
Митохондрии наверняка появились в результате того, что доисторическая бактерия соединилась с клеткой-хозяином, однако ученые до сих пор спорят, было ли это событие тем самым возникновением эукариот или оно было лишь одним из этапов их развития. На мой взгляд, сторонники первой теории собрали ряд весомых аргументов в ее пользу. Подробнее об этом я писал в онлайн-журнале Nautilus (Yong, 2014a), а еще подробнее можно прочитать в книге Ника Лейна The Vital Question (Lane, 2015a).
11
Размер не столь важен для обладания микробиомом: и на оболочке клеток, и в самих клетках некоторых одноклеточных эукариот тоже есть бактерии, хоть их и меньше, чем у нас, разумеется.
12
Джуда Роснер считает, что отношение 10 к 1 – «вымышленный факт». Он выяснил, что впервые его привел микробиолог Томас Лаки (Rosner, 2014). В 1972 году Лаки, не имея почти никаких доказательств, взялся утверждать, что на один грамм содержимого кишечника (жидкости или кала) приходится 100 миллиардов микробов, а в кишечнике взрослого человека находится в среднем 1000 граммов такого содержимого – получается 100 триллионов микробов. Знаменитый микробиолог Дуэйн Сэвидж затем сопоставил это число с десятью триллионами клеток нашего организма – доказательств именно этого количества у него тоже не было.
13
McFall-Ngai, 2007.
14
Li et al., 2014.
15
Удоды: Soler et al., 2008; муравьи-листорезы: Cafaro et al., 2001; колорадский жук: Chung et al., 2013; иглобрюх: Chau et al., 2011; рыба сифамия: Dunlap, Nakamura, 2011; муравьиный лев: Yoshida et al., 2011; круглые черви: Herbert, Goodrich-Blair, 2007.
16
Эти же светящиеся микробы попадали в раны солдат во время Гражданской войны в США и обеззараживали их. В армии это оберегающее от инфекции загадочное свечение окрестили «ангельским сиянием».
17
Gilbert, Neufeld, 2014.
18
Больше о жизни Уоллеса можно прочитать на сайте .
19
В книге The Song of the Dodo прекрасно описаны приключения Уоллеса и Дарвина (Quammen, 1997).
20
Wallace, 1855.
21
В современной биологии термин «инфузории» относится ко вполне определенной группе простейших, но в XIX веке он использовался для обозначения простейших в целом. Простейшие – это эукариотические организмы, в большинстве своем одноклеточные, и микробами они, несомненно, являются. Однако книга Эда Йонга посвящена прокариотическим микробам, прежде всего бактериям. Термин «бактерии» во времена Дарвина использовался микробиологами, но сам Дарвин в своих работах особенного внимания бактериям не уделял, хотя интересовался микробами в целом и учитывал их в теории естественного отбора (O’Malley, 2009). – Прим. ред.
22
O’Malley, 2009.
23
Эта концепция, как и экологическая природа микробиома, доступно объясняются в этих работах: Dethlefsen et al., 2007; Ley et al., 2006; Relman, 2012.
24
Huttenhower et al., 2012.
25
Fierer et al., 2008.
26
Исследователи изучили изменения в микробиомах новорожденных детей, в том числе своих. Недавно Фредрик Бэкхед провел самое подробное исследование из всех и проанализировал образцы стула 98 младенцев за первый год жизни (Bäckhed et al., 2015). Таня Яцуненко и Джефф Гордон также провели выдающееся исследование в трех разных странах. В нем они показали, как микробиом младенца меняется за первые три года жизни (Yatsunenko et al., 2012).
27
Джеремиа Фейт и Джефф Гордон выяснили, что большая часть штаммов остается в кишечнике на протяжении десятков лет – их количество со временем варьируется, но они никуда не исчезают (Faith et al., 2013). Другие группы исследователей доказали, что за короткий срок микробиом может значительно измениться (Caporaso et al., 2011; David et al., 2013; Thaiss et al., 2014).
28
Quammen, 1997, с. 29.
29
Bouslimani et al., 2015.
30
Delsuc et al., 2014.
31
Скотт Гилберт, специалист по биологии развития, не один год пытался справиться с этим, казалось бы, пустяковым вопросом (Gilbert et al., 2012).
32
Relman, 2008.
33
Более подробно о жизни Левенгука можно узнать на посвященном ему сайте Дугласа Андерсона (/) и из двух его биографий: Antony van Leeuwenhoek and His ‘Little Animals’ (Dobell, 2932) и The Cleere Observer (Payne, 1970). Также его открытия обсуждают в своих статьях Дуглас Андерсон (Anderson, 2014) и Ник Лейн (Lane, 2015b); в этой книге приведены цитаты из обеих.
34
Leeuwenhook, 1674.
35
Левенгук называл их animalcula – это слово в переводе с латыни означает «маленькие животные», его еще в античные времена использовали для обозначения микроскопических животных и простейших. Русскоязычные любители естествознания с удовольствием используют слово «анималькули», когда вспоминают об открытиях Левенгука. – Прим. ред.
36
Он имел в виду так называемых сырных клещей, самых крошечных из известных на тот момент живых существ.
37
Это в некоторой степени спорный момент. В 1650-х, за двадцать лет до того, как Левенгук рассмотрел в микроскоп воду, немецкий ученый Афанасий Кирхер занялся изучением крови умерших от чумы и описал «ядовитые корпускулы», которые превращались в «крошечных невидимых червей». Его описания довольно расплывчаты, но, скорее всего, он описывал красные кровяные клетки или кусочки омертвевшей ткани, а не вызывающую чуму бактерию Yersinia pestis.
38
Leeuwenhook, 1677.
39
Dobell, 1932, с. 325.
40
Александр Эбботт писал, что «в записях Левенгука совершенно нет предположений. Его вклад в науку замечателен тем, что он полностью объективен» (Abbott, 1894, с. 15).
41
Рассказы Пастера, Коха и их современников можно найти в книге «Охотники за микробами» (Kruif, 2002).
42
Dubos, 1987, с. 64.
43
Chung, Ferris, 1996.
44
Термин «экологическая микробиология» употребляется в русскоязычной научной литературе, на Западе больше в ходу microbial ecology, «микробная экология». Далее по ходу повествования используются оба словосочетания в зависимости от контекста. – Прим. ред.
45
Hiss, Zimmer, 1910.
46
Sapp, 1994, сс. 3 – 14. Книга Саппа, Evolution by Association, стала эпохальным и самым подробным трудом по истории исследований в области симбиоза.
47
Там же, сс. 6–9. Альберт Франк придумал этот термин в 1877 году, хотя он часто присваивается Генриху Антону де Бари, использовавшему его лишь год спустя.
48
Buchner, 1965, сс. 23–24.
49
Kendall, 1923.
50
Цитировалось: Zimmer, 2012.
51
Какие-то из их наблюдений подтвердились, какие-то нет – например, утверждение, что млекопитающие Арктики стерильны (Kendall, 1923).
52
Kendall, 1909.
53
Kendall, 1921.
54
Мечников давал общественные лекции, где рассказывал о своих теориях (см. The Wilde Lecture, 1901). Его схожесть с персонажем Достоевского подмечена у Kruif, 2002, а о его влиянии написано у Dubos, 1965, сс. 120–121.
55
Bulloch, 1938.
56
Фанке Сангодейи – одна из немногих историков, описавших этот период в развитии микробной экологии. Ее диссертацию (Sangodeyi, 2014) стоит прочитать хотя бы поэтому.
57
Роберт Хангейт, выходец делфтской школы в четвертом поколении, заинтересовался микробами, живущими в пищеварительных трактах растительноядных животных, таких как термиты и домашний скот. Он разработал следующий метод: пробирка изнутри покрывалась агаром, а кислород из нее удалялся с помощью углекислого газа. С помощью этого метода бактериологи наконец-то получили возможность выращивать анаэробных микробов, обитающих в пищеварительных трактах животных, в том числе и нас с вами (Chung, Bryant, 1997).
58
Американский стоматолог Джозеф Эплтон решил последовать примеру Левенгука и изучить бактерий ротовой полости. С 1920-х по 1950-е годы он и другие следили за изменениями в сообществах бактерий во рту при заболеваниях ротовой полости и за тем, как на них влияет слюна, пища, возраст и время года. Во рту микробы куда менее привередливы, чем в кишечнике: можно было брать пробу ватной палочкой, а еще они ничего не имели против кислорода. Изучая их, Эплтон помог превратить стоматологию – второстепенную отрасль медицины – из обычной профессии в настоящую науку (Sangodeyi, 2014, сс. 88 – 103).
59
Rosebury, 1962.
60
Еще Розбери написал первую научно-популярную книгу о человеческом микробиоме – опубликованный в 1976 году бестселлер «Жизнь на человеке».
61
Дуэйн Сэвидж замечательно описал все последующие исследования (Savage, 2001).
62
Биография Рене Дюбо, написанная Моберг, описывает его жизнь в красочных подробностях (Moberg, 2005).
63
Dubos, 1987, с. 62.
64
Dubos, 1965, сс. 110–146.
65
Цитата из интервью для The New York Times (Blakeslee, 1996). Чтобы узнать больше о революционных открытиях Везе, см. One Plus One Equals One Джона Арчибальда (Archibald, 2014) и The New Foundations of Evolution Яна Саппа (Sapp, 2009).
66
Сама идея принадлежит не Везе. Фрэнсис Крик, один из соавторов открытия двойной спирали ДНК, предложил похожую стратегию в 1958 году, а Лайнус Полинг и Эмиль Цукеркандль предложили использовать молекулы в качестве «свидетельств эволюционной истории» в 1965 году.
67
Молодой ученый Джордж Фокс работал вместе с Везе и был соавтором его главного труда (Woese, Fox, 1977).
68
Morell, 1997.
69
Этот подход, известный как молекулярная филогенетика, разбросал по древу жизни множество групп, которые раньше считались родственными из-за внешнего сходства, и объединил существ, которые, несмотря на совершенно разную внешность, оказались родичами. Также благодаря ему было окончательно доказано, что митохондрии – те самые крохотные овальчики, вырабатывающие энергию для клеток, – когда-то были бактериями. У них были собственные гены, явно напоминающие бактериальные. То же относится и к хлоропластам, позволяющим растениям использовать энергию солнца в процессе фотосинтеза.
70
Йеллоустонское исследование: Stahl et al., 1985. Пейс применил ту же методику к бактериям в организме глубоководных червей. Результаты были опубликованы на год раньше, однако тогда не было открыто ни одного нового вида.
71
Тихоокеанское исследование Пейса: Schmidt et al., 1991; недавнее исследование в месторождении подземных вод в Колорадо: Brown et al., 2015.
72
Pace et al., 1986.
73
Handelsman, 2007; National Research Council (US) Committee on Metagenomics, 2007.
74
Kroes et al., 1999.
75
Eckburg, 2005.
76
Важные ранние исследования, проведенные в лаборатории Гордона: Bäckhed et al., 2004; Stappenbeck et al., 2002; Turnbaugh et al., 2006.
77
В декабре 2007 года Национальные институты здравоохранения США запустили пятилетний проект «Микробиом человека», цель которого – описать микробиом ноздрей, ротовой полости, кожи, кишечника и гениталий 242 физически здоровых добровольцев. В проекте, подкрепленном 115 миллионами долларов из государственного бюджета, было занято около двух сотен ученых. В результате появился «самый подробный список живых организмов и генов нашего микробиома на настоящий момент». Год спустя подобный проект под названием MetaHIT был запущен в Европе. Его главной целью стало исследование кишечного микробиома, а финансирование составило 22 миллиона евро. Похожие проекты появились в Китае, Японии, Австралии и Сингапуре. Эти проекты описаны у Mullard, 2008.
78
О своем путешествии по «Микропии» я рассказал в журнале New Yorker (Yong, 2015а).
79
Эта сцена также встречается в моем описании Макфолл-Най для Nature (Yong, 2015b).
80
Исследование гавайской эупримны: McFall-Ngai, 2014. О роли цилий в привлечении V. fischeri: Nawroth et al., 2017. Об изменениях в организме эупримны, происходящих с появлением V. fischeri: Kremer et al., 2013. О процессах, начинающихся после того, как V. fischeri достигнет лакун: McFall-Ngai, Ruby, 1991. Макфолл-Най впервые заявила, что V. fischeri влияет на развитие организма гавайской эупримны, в 1994 году: Montgomery, McFall-Ngai, 1994. Микроб-ассоциированные молекулярные паттерны были описаны Таней Коропатник и другими в 2004 году: Koropatnick et al., 2004.
81
В оригинале: Yoshi, Yahoo, Ysolde, Yardley, Yara, Yves, Yusuf, Yokel, and Yuk (Mr). – Прим. ред.
82
Карен Гиллемин доказала, что кишечник данио-рерио может достичь зрелого состояния лишь в том случае, когда в нем есть микробы, на оболочке которых имеются липополисахариды (Bates et al., 2006). А Джерард Эберл выяснил, что пептидогликаны оказывают похожий эффект на кишечник мыши (Bouskra et al., 2008). Влияние микробов на развитие организма животного обсуждают Cheesman, Guillemin, 2007; Fraune, Bosch, 2010.
83
Coon et al., 2014.
84
Rosebury, 1969, с. 66.
85
Fraune, Bosch, 2010; Sommer, Bäckhed, 2013; Stappenbeck et al., 2002.
86
Hooper, 2001.
87
Исследования Хупер вдохновили Джона Ролза провести похожую серию экспериментов на данио-рерио. Многие активируемые микробами гены из найденных им оказались такими же (Rawls et al., 2004).
88
Gilbert et al., 2012.
89
Что ж, вынуждены и мы. Притом что в русском языке под словом «хоаны» обычно подразумеваются внутренние носовые отверстия в черепе позвоночных животных. – Прим. ред.
90
Обычно бактерии одноклеточные, но это же биология, тут всегда найдутся исключения. Myxococcus xanthus при определенных условиях образуют хищные колонии, состоящие из миллионов клеток, которые двигаются, развиваются и охотятся как единый организм.
91
Alegado, King, 2014.
92
Великий немецкий биолог Эрнст Геккель считал, что первые животные на Земле представляли собой полые сферы, которые поедали бактерий. Эти гипотетические колонии он окрестил Blastaea и, по своему обыкновению, решил их зарисовать. Его набросок во многом напоминает розетку хоанофлагеллят, которую нарисовал сын Кинг.
93
Имя Algoriphagus machipongonensis означает «холодный едок из Мачипонго» (Alegado et al., 2012).
94
Недавно научная группа Николь Кинг выяснила, что и половую жизнь хоанофлагеллят тоже стимулируют бактерии. В экспериментах участвовали уже знакомые нам бактерии V. fischeri: оказалось, они выделяют фермент, под воздействием которого хоанофлагелляты S. rosetta начинают формировать стайки и сливаться мембранами и ядрами, в результате чего происходит рекомбинация генетического материала. Это первая демонстрация возможного влияния бактерий на размножение эукариот (Woznica et al., 2017). – Прим. ред.
95
Hadfield, 2011.
96
Leroi, 2014, с. 27.
97
Хэдфилду понадобилось почти десять лет, чтобы выяснить, как именно бактерии вызывают изменения в организме червя. Ответ, как выяснилось, на удивление жестокий. Хэдфилд вместе с Ником Сикума в Калифорнийском технологическом институте выяснил, что P-luteo вырабатывает белки под названием бактериоцины, с помощью которых воюет с другими микробами (Shikuma et al., 2014). Эти белки протыкают оболочки других клеток, что приводит к их гибели. Вместе они объединяются в крупное куполообразное скопление, выставляя наружу опасные острия. У P-luteo такими скоплениями вся биопленка усеяна, будто минами. Хэдфилд полагает, что при прикосновении личинки червя к такой «мине» одна из клеток организма – бац! – продырявливается насквозь. Возможно, этого оказывается достаточно, чтобы вызвать нервный сигнал, говорящий личинке, что пора бы уже вырасти.
98
Hadfield, 2011; Sneed et al., 2014; Wahl et al., 2012.
99
Gruber-Vodicka et al., 2011; результаты исследования регенерации еще не опубликованы.
100
Sacks, 2015.
101
В нескольких исследованиях показано, что микробы влияют на жировые отложения (Bäckhed et al., 2004), гематоэнцефалический барьер (Braniste et al., 2014) и костную ткань (Sjögren et al., 2012). Другие исследования, относящиеся к этому вопросу, рассмотрели Fraune, Bosch, 2010.
102
Rosebury, 1969, с. 67.
103
И не просто какого-нибудь там микробиома. Деннис Каспер выяснил, что у стерильной мыши разовьется мощная иммунная система, лишь если в ее организм поступят микробы из организма другой здоровой мыши, а вот человеческий микробиом или даже крысиный не подойдут (Chang et al., 2012). Значит, определенные сообщества микробов коэволюционировали вместе с хозяевами, чтобы настроить их иммунитет оптимальным способом. Здесь даже вирусы замешаны. Кен Кэдуэлл заразил стерильных мышей штаммом норовируса, родственного тому, который нередко проклинают пассажиры круизных лайнеров, свешиваясь за борт. Грызуны начали вырабатывать большее количество белых кровяных клеток различных типов. Вирус вел себя словно богатый бактериями микробиом (Kernbauer et al., 2014).
104
О связи иммунитета и микробиома подробно рассказано в этих статьях: Belkaid, Hand, 2014; Hooper et al., 2012; Li, Mazmanian, 2010; Selosse et al., 2014. О важности микробов на раннем этапе жизни: Olszak et al., 2012.
105
Дэн Литтман и Кенья Хонда выяснили, что сегментированные нитчатые бактерии могут спровоцировать реакцию иммунных клеток, участвующих в воспалении (Ivanov et al., 2009). Хонда также показал, что бактерии Clostridia стимулируют противовоспалительные клетки (Atarashi et al., 2011).
106
Чтобы понять, насколько это на самом деле важно, вспомните о ВИЧ. Его боятся именно потому, что он уничтожает Т-хелперы и в результате иммунная система человека перестает реагировать даже на слабых патогенов.
107
Первое исследование Мазманяна, посвященное B-frag и полисахаридам А: Mazmanian et al., 2005. Бывшая сотрудница лаборатории Джун Раунд принимала участие в более поздних исследованиях: Mazmanian et al., 2008; Round, Mazmanian, 2010.
108
B-frag обитает не в каждом кишечнике. К счастью, она – лишь одна из миллионов бактерий с похожими качествами. Венди Гарретт выяснила, что большинство из них производят одни и те же вещества – например, короткоцепочечные жирные кислоты, которые стимулируют ту часть иммунной системы, что отвечает за подавление воспалений (Smith et al., 2013b).
109
Теоретически. На самом деле мы до сих пор не знаем, за что отвечает большая часть этих генов, но рано или поздно обязательно узнаем.
110
Важность микробных продуктов метаболизма описывают Dorrenstein et al., 2014, Nicholson et al., 2012, Sharon et al., 2014.
111
Моча леопарда тоже пахнет попкорном. Когда будете кататься на джипе по саванне в Африке, имейте в виду: манящий аромат жареной кукурузы ничего хорошего не сулит.
112
Theis et al., 2013.
113
Исследование пахучих желез: Archie, Theis, 2011; Ezenwa, Williams, 2014. Запах однояйцевых близнецов: Roberts et al., 2005; исследования саранчи, тараканов и клопов-краевиков: Dillon et al., 2000; Wada-Katsumara et al.; 2015, Becerra et al., 2015.
114
Lee et al., 2015; Malkova et al., 2012.
115
Hsiao et al., 2013.
116
Willingham, 2012.
117
Мазманян представил результаты этого исследования, проведенного Гилом Шэроном, на конференции, и на момент написания книги они не опубликованы.
118
Об этом рассказывает сам Уильям Бомонт (Beaumont, 1838), также эта история упоминается в его биографии (Roberts, 1990).
119
Несмотря на травму, Сент-Мартин пережил Бомонта на 27 лет. Бомонт погиб, поскользнувшись на льду.
120
Обсуждений этой темы много, даже больше, чем исследований. Вот подборка: Collins et al., 2012; Cryan, Dinan, 2012; Mayer et al., 2015; Stilling et al., 2015. Одно из важнейших исследований было проведено в 1998 году. Марк Лайт заразил мышей Campylobacter jejuni – бактерией, вызывающей пищевое отравление. Доза была столь ничтожной, что иммунная система мышей даже не прореагировала. Они не заболели, но начали вести себя тревожнее (Lyte et al., 1998). В 2004 году японская научная группа выяснила, что стерильные мыши более бурно реагируют на стрессовые ситуации (Sudo et al., 2004).
121
Река исследований в 2011 году включила работы Джейн Фостер (Neufeld et al., 2011), Свена Петтерсона (Heijtz et al., 2011); Стивена Коллинза (Bercik et al., 2011), а также Джона Крайана, Теда Дайнана и Джона Биненштока (Bravo et al., 2011).
122
Bravo et al., 2011.
123
Проектом руководил Джон Биненшток. Штамм L. rhamnosus JB-1 открыли в его лаборатории – отсюда и название. Он воодушевил своих ирландских коллег, проведя ту же серию экспериментов в Канаде на других мышах, немного при этом изменив методику. А результаты все равно оказались теми же. Тогда-то ученые и поняли, что у них кое-что наклевывается. «Мы тогда подумали: о боже, это же круто! – рассказывает он мне. – Эта чертовщина в каждой лаборатории себя по-разному ведет».
124
Одни микробы создают нейромедиаторы напрямую, другие заставляют клетки кишечника их вырабатывать. Часто думают, что эти вещества относятся только к мозгу, однако по меньшей мере половина дофамина в нашем организме находится в кишечнике, как и 90 % серотонина (Asano et al., 2012).
125
Tillisch et al., 2013.
126
Pinto-Sanchez et al., 2017.
127
Одна научная группа из США пересадила микробов из кишечника мышей, питающихся в основном жирной пищей, в кишечники мышей, привыкших к обычному корму. В результате у реципиентов повысился уровень тревожности и ухудшилась память (Bruce-Keller et al., 2015).
128
Эту идею высказал Джо Олкок (Alcock et al., 2014).
129
О паразитах, контролирующих наш разум, я говорил в своем выступлении на конференции TED (Yong, 2014b).
130
Возможно, T. gondii влияет и на поведение человека: некоторые ученые предполагают, что зараженные люди отличаются от незараженных по характеру, демонстрируют повышенный риск попасть в автомобильную катастрофу и склонность к шизофрении.
131
Историю исследований Вольбаха и Гертига подробно описывают Kozek, Rao, 2007.
132
Наездники Стаутхамера: Schilthuizen, Stouthamer, 1997; мокрицы Риго: Rigaud, Juchault, 1992.; бабочки Херста: Hornett et al., 2009; обзор всего вышеперечисленного: Werren et al., 2008; LePage, Bordenstein, 2013.
133
В более раннем исследовании подсчитали, что она присутствует в организме 66 % членистоногих (Hilgenboecker et al., 2008), но в более позднем решили, что 40 % ближе к правде (Zug, Hammerstein, 2012).
134
Возможно, в океане обитают и более распространенные бактерии. Одна из них – Prochlorococcus – распространена настолько, что всего в миллилитре воды с поверхности океана их копошится около 100 тысяч. Они вырабатывают около 20 % кислорода в атмосфере. Вдохните пять раз – часть кислорода, что вы вдохнули, наверняка была выработана этими бактериями. Но это рассказ для другой книги.
135
Нематоды: Taylor et al., 2013; мухи и комары: Moreira et al., 2009; постельные клопы: Hosokawa et al., 2010; моль-пестрянка: Kaiser et al., 2010; наездник: Pannebakker et al., 2007. У наездника довольно извращенная причина быть зависимым от других. Его организм, как и организм любого другого животного, обладает программами самоуничтожения, чтобы избавляться от собственных поврежденных или злокачественных клеток. Вольбахия эти программы ослабляет, а наездник, чтобы это компенсировать, напротив, повышает их чувствительность. Теперь, если избавить организм наездника от вольбахии, он начинает по ошибке уничтожать клетки тканей, необходимых для появления яиц. Наездник столько боролся с бактерией, что в итоге начал на нее полагаться. Никаких преимуществ вольбахия ему не предоставляет, но расстаться эти двое теперь не смогут при всем желании.
136
Dale, Moran, 2006; Douglas, 2008; Kiers, West, 2015; McFall-Ngai, 1998.
137
Blaser, 2010.
138
Broderick et al., 2006.
139
Теодор Розбери слово «оппортунист» терпеть не мог. «Такое название снова намекает на сходство между микробом и человеком, словно микробы перенимают наши грехи! – писал он. – Все микробы, все живые организмы реагируют на происходящие вокруг изменения. У них появляются новые различные возможности – так безвредные микробы становятся опасными». Для описания появляющихся в природе союзов, которые при одних условиях приносят пользу, а при других – вред, он придумал новый термин – амфибиоз. Хороший термин и даже изящный, но, пожалуй, излишний – множество, если не большинство союзов и так являются таковыми.
140
Zhang et al., 2010.
141
Муха-журчалка: Leroy et al., 2011; комары: Verhulst et al., 2011.
142
Полиовирус: Kuss et al., 2011. Другой вирус, MMTV, вызывающий рак молочных желез у мышей, использует бактериальные молекулы в качестве поддельных пропусков – иммунная система по ним пропускает его в кишечник (Kane et al., 2011).
143
Wells et al., 1930.
144
Волоклюи: Weeks, 2000; губаны-чистильщики: Bshary, 2002; муравьи и акации: Heil et al., 2014.
145
Кирс говорила об этом на конференции. Также ее взгляды изложены здесь: West et al., 2015.
146
Макфолл-Най рассказывает, что гавайские эупримны успешно избавляются от несветящихся симбионтов – каким-то образом замечают этих мутантов в лакунах и выгоняют вон.
147
Bevins, Salzman, 2011.
148
Желудочная кислота: Beasley et al., 2015; муравьи и муравьиная кислота: интервью с Хайке Фельдхаар.
149
Клопы: Ohbayashi et al., 2015; бактериоциты: Stoll et al., 2010.
150
Такое часто происходит у долгоносиков – они с помощью антибактериального вещества не дают размножаться бактериям в клетках. Если сделать так, чтобы долгоносик перестал это вещество вырабатывать, бактерии будут размножаться, выберутся из клеток и начнут носиться по телу насекомого (Login, Heddi, 2013).
151
Абделазиз Хедди открыл эту способность долгоносика: Vigneron et al., 2014. Многие другие животные – насекомые, моллюски, черви, травоядные млекопитающие – для получения добавки питательных веществ переваривают собственных микробов. Этой стороне симбиоза уделяется мало внимания. Ученые часто полагают, что микробы тоже получают какие-то преимущества от связи с животными, будь то питание, защита или стабильная среда, но такая выгода подтверждается лишь в редких случаях. В дерзкой статье под названием «Симбиоз с точки зрения симбионта: есть ли польза для микробов?» Жюстин Гарсия и Николь Джерардо пишут: «В тех случаях, когда доказательства тому, что симбионт получает какую-то пользу, не найдены, можно предположить, что симбионты – не равноправные партнеры, а, скорее, заключенные или сельхозкультуры» (Garcia, Gerardo, 2014).
152
Интервью с Форестом Роуэром.
153
Barr et al., 2013.
154
Следует заметить, что это лишь одна из множества теорий, описывающих появление иммунной системы.
155
Vaishnava et al., 2008.
156
Самое важное из антител – иммуноглобулин А (IgA). Кишечник его вырабатывает в огромных количествах – каждый день примерно по чайной ложке. Однако массовый IgA бывает разный. У этой молекулы множество форм, немного друг от друга отличающихся, и каждая создана для того, чтобы распознавать и нейтрализовывать своего микроба. Клетки иммунной системы берут пробу микробов из зоны разоружения и принимаются вырабатывать IgA, рассчитанный на самые распространенные там виды микробов. Затем они добавляют эти антитела в слизь, и она покрывает местных микробов, не давая им двигаться. Система настолько эффективна, что около половины бактерий у нас в кишечнике сидят в смирительных рубашках из иммуноглобулина. Вместе с микробным сообществом постепенно меняется и набор IgA, необходимых для того, чтобы держать микробов под контролем. Система замечательна тем, что быстро приспосабливается к изменениям.
157
Belkaid, Hand, 2014; Hooper et al., 2012; Maynard et al., 2012.
158
Hooper et al., 2003.
159
Первой эту гипотезу высказала Макфолл-Най: McFall-Ngai, 2007. В ней есть свои недочеты: вот, например, если иммунная система позвоночных и правда столь важна для того, чтобы контролировать сложносоставной микробиом, то как у кораллов и губок получается уживаться с огромными микробными сообществами, если их иммунная система устроена гораздо проще?
160
Elahi et al., 2013.
161
Rogier et al., 2014.
162
Bode, 2012; Chichlowski et al., 2011; Sela, Mills, 2014.
163
Kunz, 2012.
164
Команда состояла из самого Джермана, микробиолога Дэвида Миллза, химика Карлито Лебриллы и специалиста по вопросам питания Даниэлы Бэрил.
165
Этим исследованием руководил Роберт Уорд (Ward et al., 2006). Секвенированием генома занимался Дэвид Села (Sela et al., 2008).
166
Это может привести к заметным результатам: так, во время исследования в Бангладеш группа Миллза обнаружила, что младенцы, в организме которых в большом количестве присутствует B. infantis, лучше реагируют на прививки от столбняка и полиомиелита.
167
Миллз мне рассказал, что B. infantis – не всегда B. infantis. Ее нередко путают с другими микробами, совершенно на нее не похожими. Один из штаммов так называемых B. infantis часто используется в йогуртах, но в экспериментах Миллз его использует в качестве отрицательного контроля. Он ведет себя совсем не так, как любители молока – истинные B. infantis.
168
Большей частью этих исследований руководил Дэвид Ньюберг (Newburg et al., 2005); исследованием ВИЧ занимался Ларс Боде (Bode et al., 2012).
169
Не исключено, что матери таким образом детьми манипулируют. В интересах ребенка сделать так, чтобы мама уделяла ему как можно больше внимания, и эволюция дала младенцам множество способов этого добиться – они плачут, лезут обниматься, а еще они до невозможности милые. Однако мать должна уделять внимание сразу нескольким детенышам – как уже родившимся, так и будущим. Если она будет тратить силы лишь на одного, возможно, потом она не сможет вырастить остальных. Значит, эволюция должна предоставить матери какие-нибудь способы с этим бороться. Эволюционный биолог Кэти Хайнд предполагает, что одним из этих способов стало молоко. Оно питает определенных микробов, а некоторые микробы, как мы выяснили в предыдущей главе, оказывают влияние на поведение хозяина. Меняя состав олигосахаридов в своем молоке, мама, сама того не замечая, может питать микробов, манипулирующих мозгом ее ребенка так, чтобы тот требовал меньше внимания. Если ребенка мало что беспокоит, возможно, он быстрее станет независимым, а мама сможет сконцентрироваться на других детях.
170
Важность гликанов: Marcobal et al., 2011; Martens et al., 2014; фукоза и больные мыши: Pickard et al., 2014.
171
Fischbach, Sonnenburg, 2011; Koropatkin et al., 2012; Schluter, Foster, 2012.
172
Kiers, West, 2015; Wernegreen, 2004.
173
Гены, благодаря которым хозяева замечают изменения в среде и приспосабливаются к ним, исчезают одними из первых. В конце концов, этим микробам больше не приходится беспокоиться о погоде, температуре и пище. Уютно устроившись в клетках насекомого, они наслаждаются стабильностью на протяжении миллионов лет. Также они часто избавляются от генов, необходимых для починки и перестановки ДНК, и теряют возможность исправлять неполадки в оставшихся последовательностях.
174
McCutcheon, Moran, 2011; Russell et al., 2012; Bennett, Moran, 2013.
175
Сложно сказать, можно ли считать их отдельными видами. Тут такой странный случай, что традиционные определения не очень подходят.
176
Исследованием руководили Мэттью Кэмпбелл, Джеймс ван Левен и Петр Лукашик (Campbell et al., 2015; Van Leuven et al., 2014); чилийские результаты пока не опубликованы.
177
Bennett, Moran, 2015.
178
Роувер детально и с юмором описал экспедицию на острова Лайн в книге Coral Reefs in the Microbial Seas (Rohwer, Youle, 2010). В ней же можно найти подробности исследований, о которых рассказано в этой главе, не считая остальных, ссылки на которые ниже.
179
В английской научной литературе названия этих болезней звучат так: white pox disease, black band disease, pink line syndrome, red band disease. В русском языке названия не устоялись в той степени, как в английском. – Прим. ред.
180
Представления Роувера о гибели кораллового рифа описаны здесь: Barott, Rohwer, 2012. Исследование микробов в кораллах: Dinsdale et al., 2008. Эксперименты с макроводорослями: Smith et al., 2006. Исследование вирусов в кораллах: Thurber et al., 2008, 2009. Исследование черных рифов: Kelly et al., 2012. Рейтинг микробиализации: McDole et al., 2012.
181
Эд Йонг использует термин fleshy algae, то есть «мясистые водоросли». Под ним подразумеваются макроскопические донные морские водоросли (красные, бурые, зеленые), растущие в приливно-отливной зоне. – Прим. ред.
182
Американский сатирик Стивен Кольбер, рассказывая в своем шоу об этом эксперименте с вирусами, поинтересовался: «А кораллы-то эту дрянь от кого подцепили?» («Who has been fucking the corals?»).
183
Бывают у кораллов и болезни, вызванные одним микробом. «Белая чума», например, результат трудов Serratia marcescens – бактерии, обитающей в почве и канализационных отходах. Однако это скорее исключение, чем правило.
184
Обзоры понятия «дисбиоз»: Bäckhed et al., 2012; Blumberg, Powrie, 2012; Cho, Blaser, 2012; Dethlefsen et al., 2007; Ley et al., 2006. Этот термин нередко приписывают русскому ученому Илье Мечникову, но о дисбиозе говорили и за несколько десятилетий до него.
185
С некоторыми учеными, работавшими с Гордоном, мы встречаемся в этой книге, в том числе с Джастином Зонненбергом, Рут Лей, Лорой Хупер и Джоном Ролзом. С Робом Найтом они уже давно сотрудничают. Саркис Мазманян утверждает, что занялся исследованиями в области микробиологии благодаря статье, написанной Гордоном в 2001 году, «еще до того, как микробиом стал микробиомом».
186
Этой комнатой заправляют Дэвид О’Доннелл и Мария Карлссон, работающие с Гордоном с 1989 года, и Джастин Серуго, беженец из Демократической Республики Конго, устроившийся в университет уборщиком и позже присоединившийся к команде. Спасибо, что показали и рассказали все, ребята.
187
Микробиолог Джеймс Рейнирс и инженер Филип Трекслер разработали способы массового производства стерильных мышей в 1940-х (Kirk, 2012). Они извлекали матки беременных самок, обрабатывали их дезинфекционным раствором, помещали в изолированные камеры, вырезали зародышей и выращивали их вручную. Так они разводили стерильных мышей, крыс и морских свинок, а потом смогли заняться свиньями, котами, собаками и даже обезьянами. Методика, безусловно, эффективная, однако первые стальные камеры с массивными рукавицами и крошечными окошками были неудобными и жутко дорогими. К 1957 году Трекслер создал пластмассовую камеру с резиновыми перчатками, почти как в лаборатории Гордона. Работать с такими камерами оказалось куда проще, да и стоили они в десять раз меньше.
188
Bäckhed et al., 2004.
189
О связи микробиома и ожирения: Zhao, 2013; Harley, Karp, 2012. Первым исследованием, в котором было доказано, что микробы в кишечнике страдающих ожирением людей и мышей отличаются от нормальных, руководила Рут Лей (Ley et al., 2005), а Питер Тернбо провел серию опытов по пересадке кишечных микробов людей с ожирением в кишечник стерильных мышей (Turnbaugh et al., 2006).
190
Патрис Кани руководил работой с Akkermansia вместе с Виллемом де Восом, открывшим эту бактерию (Everard et al., 2013). Ли Каплан руководил исследованием, посвященным операции желудочного шунтирования (Liou et al., 2013).
191
Ridaura et al., 2013.
192
Исследованием руководили Мишель Смит и Таня Яцуненко. В нем также принимали участие Марк Мэнари и Инди Трехан (Smith et al., 2013a).
193
Как выразился великий эколог Боб Пейн, «значительные отклонения от нормы приводят к экологическим сюрпризам». Он имел в виду национальные парки, острова и устья рек. То же самое он мог бы сказать о нашем организме (Paine et al., 1998).
194
О взаимосвязи микробиома и иммунитета: Belkaid, Hand, 2014; Honda, Littman, 2012; Round, Mazmanian, 2009.
195
О связи воспалительных заболеваний кишечника с микробиомом написана не одна сотня статей. Я рекомендую к прочтению обзоры, подготовленные передовыми специалистами в этой области: Dalal, Chang, 2014; Huttenhower et al., 2014; Manichanh et al., 2012; Shanahan, 2012; Wlodarska et al., 2015. Также стоит взглянуть на серию проведенных Венди Гарретт исследований, посвященных влиянию иммунитета на микробиом (Garrett et al., 2007, 2010), и на статьи об изменениях в микробиоме, происходящих при воспалительных заболеваниях кишечника: Morgan et al., 2012; Ott et al., 2004; Sokol et al., 2008.
196
Из исследований, посвященных связи микробиома с воспалительными заболеваниями кишечника, одно из самых масштабных было проведено под руководством Дирка Геверса (Gevers et al., 2014).
197
Cadwell et al., 2010.
198
Berer et al., 2011; Blumberg, Powrie, 2012; Fujimura, Lynch, 2015; Kostic et al., 2015; Wu et al., 2015.
199
Hay fever, hygiene, and household size. Все элементы перечисления в названии статьи начинаются с буквы «h». «Среднее «h» было ключевым, – пишет Эд Йонг. – Оно подарило идее имя: hygiene hypothesis». – Прим. ред.
200
Gerrard et al., 1976; Strachan, 1989. Иногда Стракана ошибочно считают отцом гигиенической гипотезы, однако сам он отрицает, что породил на свет такой enfant terrible, приводит цитаты мыслителей, использовавших этот термин до него, и утверждает, что подбирал слова, «руководствуясь скорее склонностью к аллитерации, чем стремлением создать новую научную парадигму» (Strachan, 2015).
201
Arriera et al., 2015; Brown et al., 2013; Stefka et al., 2014.
202
«Старыми друзьями» их впервые назвал Грэм Рук (Rook et al., 2013).
203
Fujimura et al., 2014. Возможно, разница обусловлена тем, что собаки крупнее кошек и чаще бывают на улице.
204
Dominguez-Bello et al., 2010. Эпидемиологические исследования, указывающие на связь кесарева сечения и болезней, возникающих позже: Darmasseelane et al., 2014; Huang et al., 2015.
205
На влияние насыщенных жиров указал Юджин Чан (Devkota et al., 2012). Эндрю Гевиртц исследовал пищевые добавки (Chassaing et al., 2015).
206
О приключениях Беркитта: Altman, 1993. Его рассуждения о клетчатке цитируются здесь: Sonnenburg, Sonnenburg, 2015, с. 119.
207
Венди Гарретт и другие ученые показали, что расщепляющие клетчатку бактерии производят короткоцепочечные жирные кислоты (Furusawa et al., 2013; Smith et al., 2013b). Манеш Десай выяснил, что за неимением клетчатки кишечные бактерии принимаются за слизистый слой (Desai et al., 2016).
208
Джастин и Эрика Зонненберг доказали, что от недостатка клетчатки некоторые микробы в кишечнике вымирают (Sonnenburg et al., 2016), и описали преимущества клетчатки (Sonnenburg, Sonnenburg, 2014).
209
Микробиому жителей сельских районов посвящено несколько исследований, в том числе передовые статьи Карлотты де Филиппо и Тани Яцуненко (De Filippo et al., 2010; Yatsunenko et al., 2012).
210
American Chemical Society, 1999.
211
О влиянии антибиотиков на микробиом: Cox, Blaser, 2014; там же указаны приблизительные детские дозы антибиотиков. Другие исследования, в которых показано, какое воздействие антибиотики оказывают на микробиом: Dethlefsen, Relman, 2011; Dethlefsen et al., 2008; Jakobbson et al., 2010; Jernberg et al., 2010; Schubert et al., 2015.
212
Это выяснилось в 1960-х, когда ученые доказали, что мышиные фекалии могли остановить размножение сальмонеллы, но лишь в тех случаях, когда мышей предварительно не кормили антибиотиками (Bohnhoff et al., 1964).
213
Это сравнение придумала Кэтрин Лемон (Lemon et al., 2012).
214
Первое исследование связи антибиотиков с ожирением Блейзер проводил со своим коллегой Илсуном Чо (Cho et al., 2012). Вторым руководила Лора Кокс (Cox et al., 2014). Эпидемиологическое исследование возглавил Леонардо Трасанде (Trasande et al., 2013).
215
Так он написал у себя в «Твиттере». Маршалл – ученый, доказавший, что H. pyloriвызывает гастрит, очень интересным способом: он сам эту бактерию съел.
216
Всем интересующимся этой темой просто необходимо прочесть рассказ Мэрин Маккенны о постантибиотической эре (McKenna, 2013) и ее книгу Superbug (McKenna, 2010).
217
Rosebury, 1969, с. 11.
218
Исследования H. pylori: Blaser, 2005. Опасения насчет ее исчезновения: Blaser, 2010; Blaser, Falkow, 2009. О долгой совместной истории H. pylori и человека: Linz et al., 2007. Авторская заметка в журнале The Lancet: Graham, 1997. Об отсутствии влияния H. pyloriна смертность в целом: Chen et al., 2013.
219
Исследованием руководил Зак Льюис.
220
В англоязычных психологических и социологических исследованиях употребляется акроним WEIRD (Western, Educated, Industrialised, Rich, Democratic) – то есть «странные» страны. – Прим. ред.
221
Исследования микробиомов жителей поселений и аборигенов, промышляющих охотой и собирательством: Clemente et al., 2015; Gomez et al., 2015; Martinez et al., 2015; Obregon-Tito et al., 2015; Schnorr et al., 2014. Исследование, посвященное микробам в копролитах: Tito et al., 2012.
222
Le Chatelier et al., 2013.
223
У жителей Камеруна, пораженных паразитической амебой Entamoeba, кишечный микробиом куда более разнообразен, а если у них еще и глисты имеются, то тем более. Может, бактерии дают паразитам доступ к организму, а может, паразиты каким-то образом увеличивают количество видов бактерий. Как бы там ни было, в этом случае разнообразие кишечных микробов, которым обладают селяне, указывает на присутствие чего-то нежелательного в организме (Gomez et al., 2015).
224
Moeller et al., 2014.
225
Blaser, 2014, с. 6.
226
Eisen, 2014.
227
Mukherjee, 2011, сс. 349–356.
228
Уже написано столько научных статей, связывающих кишечный микробиом с тем или иным заболеванием, что Элизабет Бик, неустанный летописец новых исследований в области микробиома, придумала шуточный тег в «Твиттере» – #gutmicrobiomeandrandomthing («кишечный микробиом и все что угодно»). Среди постов можно найти «Кишечный микробиом и почему я все время встаю в самую медленную очередь», «Кишечный микробиом и искусство ремонта мотоциклов» и «Кишечный микробиом и узник Азкабана».
229
The Allium, 2014.
230
Что касается дисбиоза, Фергус Шэнахан предупреждает, что «нельзя забывать о словах Джорджа Оруэлла: «наша собственная неаккуратность в выборе слов заставляет нас мыслить на не столь высоком уровне». Врачи порой ошибаются из-за неточностей в номенклатуре и терминологии. Неологизмы следует включать в речь с осторожностью – зачастую они не нужны или же подразумевают понимание там, где его нет» (Shanahan, Quigley, 2014).
231
Этот аргумент я привел в статье о контекстуальной природе микробиома в The New York Times (Yong, 2014c).
232
Данным исследованием руководили Рут Лей и Омри Корен (Koren et al., 2012).
233
Исследованиями микробиома влагалища руководили Ларри Форни и Жак Равель (Gajer et al., 2012; Ma et al., 2012). Анализ других частей тела провел Пэт Шлосс (Ding, Schloss, 2014).
234
Одним исследованием руководила Кэтрин Поллард, а другим – Роб Найт (Finucane et al., 2014; Walters et al., 2014).
235
Сюзанна Сэлтер и Алан Уокер доказали, что на инструментах для извлечения ДНК из образцов и ее подготовки к секвенированию практически всегда в небольшом количестве присутствует ДНК микробов (Salter et al., 2014).
236
Пэт Шлосс, например, написал программу, которая предсказывает по образцу микробиома, в какой степени он подвержен колонизации C-diff (Schubert et al., 2015).
237
Некоторые ученые пытались ответить на этот вопрос, наблюдая за собственными микробиомами. Эрик Альм и Лоуренс Дэвид из Массачусетского технологического института занимались этим ежедневно на протяжении года. Дэвид, подхватив так называемую диарею путешественника в Бангкоке, получил возможность проследить, как сообщество его кишечных микробов пережило переворот и со временем вернулось в нормальное состояние. Альм, подцепив сальмонеллу после неудачного похода в ресторан, заметил, как быстро эта зараза захватила весь его кишечник и как сообщество микробов переключилось в совершенно другое состояние, когда он выздоровел (David et al., 2014).
238
Subramanian et al., 2014.
239
Вместе с Плэнером этим исследованием руководил Эндрю Кау (Kau et al., 2015).
240
Chowbacca, от англ. chow – корм. – Прим. ред.
241
Redford et al., 2012.
242
История Фрица: University of Utah, 2012. Первоначальное описание HS: Clayton et al., 2012. Второй случай пока не опубликован.
243
Дерево, о которое поранился мальчик, все еще растет – в отличие от яблони Фрица. Дейл планирует к нему съездить и взять образец HS в естественной среде обитания. Тогда он сможет провести рискованный, но значимый эксперимент – ввести HS в насекомых в надежде, что получится создать новый, искусственный симбиоз.
244
Бактерии Sodalis удивительно хороши в деле подселения в клетки животных, и большую роль в этом играет чувство кворума – способность бактерий координировать действия в зависимости от их плотности и концентрации выделяемых ими сигнальных молекул. Члены научной группы Колина Дейла подселяли в долгоносиков мутантных Sodalis с нарушенным чувством кворума, и бактерии попросту убивали насекомых. Обычно же Sodalis по достижении определенной плотности отключают ряд генов, производящих летальные для хозяина белки, и затем хорошо с ним уживаются. Успех Sodalis как симбионтов в том, что они тонко чувствуют, когда нужно остановиться (Enomoto et al., 2017). – Прим. ред.
245
Дейл может их различить, потому что у разных вариантов – поселившихся, скажем, в мухах цеце и в долгоносиках – утрачены разные гены из полного набора, которым обладает HS. Они развились из похожих на HS предковых микробов, которых приручили независимо друг от друга.
246
Тли и передача микробов половым путем: Moran, Dunbar, 2006; мокрицы-каннибалы: Le Clec’h et al., 2013; белокрылки и сок растений: Caspi-Fluger et al., 2012; человек и заглатывание микробов с пищей: Lang et al., 2014; наездники как загрязненные шприцы: Gehrer, Vorburger, 2012.
247
Джон Дженайк помещал клещей, сосущих кровь одного вида плодовых мушек, на представителей другого вида. Разумеется, вскоре эти самые представители обзавелись микробами, обитавшими прежде лишь в организме мушек первого вида (Jaenike et al., 2007).
248
О зарождении новых симбиозов: Sachs et al., 2011; Walter, Ley, 2011.
249
Kaltenpoth et al., 2005.
250
Funkhouser, Bordenstein, 2013; Zilber-Rosenberg, Rosenberg, 2008.
251
Я как-то раз спросил у Фукацу, как он решает, над чем работать. Он призадумался, указал пальцем на воображаемую пылинку в воздухе и воскликнул: «Ага! Интересно!» А потом просто улыбнулся мне. Когда я задал тот же вопрос Мартину Калтенпоту, он ответил: «Я ищу вид, которым не занимается Такема, и говорю, что начал его исследовать». Статьи Такемы Фукацу о клопах: Hosokawa et al., 2008; Kaiwa et al., 2014; Hosokawa et al., 2012.
252
Pais et al., 2008.
253
Osawa et al., 1993.
254
Мягко говоря. Я опросил множество исследователей микробиома на тему того, к каким результатам они относятся наиболее скептически, и многие указали именно на эти.
255
Многие животные, обитающие под водой, выпускают своих симбионтов прямо в воду, чтобы у их личинок и детенышей их было достаточно. Гавайская эупримна, например, это делает каждое утро, на рассвете. Медицинская пиявка каждые несколько дней выделяет из кишечника слизь с высоким содержанием микробов, и ее привлекает слизь, выделенная другими пиявками (Ott et al., 2015). Некоторые виды круглых червей убивают насекомых, изрыгая в их кровеносную систему кучу ядовитых бактерий. Их личинки развиваются внутри мертвых насекомых и на определенном этапе пожирают симбионтов-убийц – они им еще пригодятся (Herbert, Goodrich-Blair, 2007).
256
Люди, живущие в одном доме: Lax et al., 2014; общительные бабуины: Tung et al., 2015; игроки в роллер-дерби: Meadow et al., 2013.
257
Мысли Ломбардо на эту тему (Lombardo, 2008) – лишь предположения, но их вполне можно проверить на практике. Если он прав, то окажется, что животные, получающие микробов из окружающей среды (как, например, гавайская эупримна) или по наследству (как, например, тля), с большей вероятностью ведут одиночный образ жизни. А вот у тех, которым микробы достаются от товарищей (термиты, к примеру), должна быть развита сложная социальная система, благодаря чему представители вида регулярно вступают друг с другом в тесную связь. Ученым, чтобы выяснить наверняка, понадобится нарисовать семейные древа разных групп животных, в которых есть как социальные виды, так и ведущие одиночный образ жизни (как клопы Фукацу, например), и узнать, всегда ли эволюция микробных союзов предшествует образованию больших групп. Насколько я знаю, пока этого не выяснил никто.
258
Первый эксперимент Фрауне: Fraune, Bosch, 2007; последовавшие за ним исследования, показывающие, как именно гидра выбирает себе нужных микробов: Franzenburg et al., 2013; Fraune et al., 2009, 2010; обзор исследований Боша: Bosch, 2012.
259
Bevins, Salzman, 2011; Ley et al., 2006; Spor et al., 2011.
260
Киты и дельфины: интервью с Эми Эпприлл; пчелиные волки: Kaltenpoth et al., 2014.
261
Симбионты пчелы: Kwong, Moran, 2015; Lactobacillus reuteri: Frese et al., 2011; эксперименты Ролза: Rawls et al., 2006.
262
Эндрю Бенсон, к примеру, выявил 18 участков генома мыши, влияющих на количество самых распространенных кишечных микробов у особи. Одни участки контролируют количество отдельных видов микробов, а другие – целых групп (Benson et al., 2010).
263
Статья была опубликована под фамилией Саган, взятой Маргулис после замужества (Sagan, 1967).
264
Margulis, Fester, 1991.
265
Впервые о хологеноме еще в 1980-х заговорил биотехнолог Ричард Джефферсон, но свои наблюдения он так и не опубликовал (Jefferson, 2010). В 1994 году он рассказал о своей теории на конференции – это было за 13 лет до того, как Розенберги независимо от него придумали то же самое и назвали так же.
266
Hird et al., 2014.
267
Рут Лей, к примеру, доказала, что гены человека не определяют состав нашего микробиома полностью, но зато оказывают заметное влияние на присутствие в нем определенных групп. Самая наследуемая бактерия у нас в организме – недавно обнаруженная Christensenella, которую мало кто знает (Goodrich et al., 2014). У одних она есть, у других ее нет, и примерно на 40 % это зависит от наших генов. Эта загадочная бактерия наиболее распространена у детей, обычно присутствует в организме людей со здоровым весом и часто обнаруживается в комбинации с рядом других микробов. Не исключено, что этот вид является ключевым: встречается относительно редко, но в экологическом плане имеет большую мощь.
268
Розенберги выдвигают теорию хологенома: Rosenberg et al., 2009; Zilber-Rosenberg, Rosenberg, 2008; Сет Борденстайн и Кевин Тейс ее расширяют: Bordenstein, Theis, 2015; Нэнси Моран и Дэвид Слоун с ней не соглашаются: Moran, Sloan, 2015.
269
Эксперимент Дианы Додд: Dodd, 1989; дальнейшие исследования Розенберга под руководством Гила Шэрона: Sharon et al., 2015.
270
Wallin, 1927; Margulis, Sagan, 2002.
271
Первый эксперимент: Bordenstein et al., 2001; второй эксперимент: Brucker, Bordenstein, 2013.
272
Brucker, Bordenstein, 2014; Chandler, Turelli, 2014.
273
За это в английской литературе данных цикадок называют glassywinged sharpshooters – «стеклокрылые снайперы». – Прим. ред.
274
«Большая часть людей под словом bug подразумевает все, что маленькое и ползает, – отмечает Эд Йонг. – Энтомологи под словом bug подразумевают полужесткокрылых». На русский язык его часто переводят как «жук» или «жучок», притом что жуки – это представители отряда жесткокрылых, за которыми в английском языке закреплено слово beetle. – Прим. ред.
275
Sapp, 2002
276
Американские издатели заинтересовались книгой Бухнера благодаря Рене Дюбо, пионеру в деле создания антибиотиков, которого мы повстречали во второй главе. Исследования симбионтов насекомых и человеческих микробов здесь переплетаются – такое редко встретишь.
277
Первое исследование, посвященное Buchnera, Моран проводила с бактериологом Полом Бауманном (Baumann et al., 1995). Сейчас в честь их обоих названы симбионты. Baumannia мы можем найти у упомянутых в начале главы цикадок H. vitripennis, а Moranella – у цитрусовых червецов, о которых будет рассказано чуть позже.
278
Nováková et al., 2013.
279
Douglas et al., 2006; Feldhaar, 2011.
280
Buchnera может провести все химические реакции, необходимые для создания аминокислот изолейцина и метионина, кроме самой последней. Перетаскивать их за финишную черту приходится уже тле. Анжела Дуглас, Нэнси Моран и другие подробно описали весь процесс (Russell et al., 2013a; Wilson et al., 2010).
281
Что самое забавное, способность пить флоэмный сок развилась у разных линий полужесткокрылых независимо друг от друга. У других насекомых такой способности нет, хотя у них тоже есть симбионты, которые вполне могли бы стать пищевыми добавками. Так почему именно полужесткокрылые? Или, скорее, почему не кто-нибудь еще? Это так и остается загадкой.
282
Wernegreen, 2004.
283
Blochmannia и Buchnera – близкие родичи, и это, скорее всего, не простое совпадение. Многие муравьи-древоточцы разводят тлю, как настоящие фермеры, и защищают их от хищников. Тля взамен кормит муравьев медвяной падью – сладкой липкой жидкостью. С ней в организм муравьев и попали симбионты тли. Дженнифер Вернегрин считает, что Blochmannia – потомок симбионта, что из попки тли попал к муравью-фермеру и так там и остался (Wernegreen et al., 2009).
284
Об открытии Галапагосского рифта подробно рассказывает Национальный музей естественной истории в Вашингтоне (Smithsonian National Museum of Natural History, 2010), а также Роберт Кунциг в своей книге Mapping the Deep (Kunzig, 2000) – там он также описывает исследования Riftia, проведенные Джонсом и Кавано.
285
Кавано опубликовала свои предположения в 1981 году (Cavanaugh et al., 1981), но на то, чтобы подтвердить, что бактерии и правда действуют так, как она себе представила, потребовались годы исследований. Другие ученые также высказывали мысли о хемосинтетических микробах, однако Кавано впервые доказала, что они существуют и образуют с животными союзы. Будучи аспиранткой, она открыла совершенно новый, доселе невиданный образ жизни, причем на удивление широко распространенный. Обзор ее исследований Riftia: Stewart, Cavanaugh, 2006.
286
Dubilier et al., 2008.
287
Дюбилье открыла двух симбионтов Olavius (Dubilier et al., 2001), а потом еще трех (Blazejak et al., 2005).
288
Ley et al., 2008a.
289
Еще одним исключением стала пиренейская рысь – европейский хищник с кисточками на ушах, в чьем кишечнике работают на удивление много генов, предназначенных для переваривания растительной пищи. Не исключено, что ее микробиом приспособился не только к кроликам, на которых она охотится, но и к растительным остаткам в их кишечнике (Alcaide et al., 2012).
290
О количестве энергии, получаемой млекопитающими от микробов: Bergman, 1990; о пищеварительной системе млекопитающих: Karasov et al., 2011; Stevens, Hume, 1998.
291
Особый интерес здесь представляют киты. Они – хищники, питающиеся мелкими ракообразными, рыбой и даже другими млекопитающими. Однако от своих предков – травоядных животных, напоминающих оленей, – они унаследовали крупный многокамерный желудок, в котором теперь происходит ферментация животных тканей. Как выяснил Джон Сандерс, желудочно-кишечный микробиом у них из-за этого не похож ни на чей из обитателей суши, будь то хищное животное или травоядное (Sanders et al., 2015).
292
У гоацина – южноамериканской птицы размером с курицу, с голубой головой, красными глазами, оранжевым оперением и хохолком, похожим на ирокез у панка, – отсек для ферментации тоже расположен в верхней части пищеварительного тракта. Питается гоацин в основном листьями, переваривая их в зобу (это увеличенная часть пищевода). Мария Глория Домингес-Бейо выяснила, что бактерии в зобу гоацина больше походят на бактерий в коровьем желудке, чем на обитателей кишечника птицы (Godoy-Vitorino et al., 2012). А мы-то думали, почему это гоацины пахнут коровьими лепешками.
293
Ley et al., 2008b.
294
Трехпалый ленивец оказался исключением, подтверждающим правило. Он в основном поедает листья одного и того же дерева, так что для травоядного кишечный микробиом у него разнообразием не отличается (Dill-McFarland et al., 2015).
295
Hongoh, 2011.
296
Биологи прошлого из-за этого были введены в заблуждение. Альфред Эмерсон заметил, что у самых продвинутых термитов в организме отсутствовали протисты, которых у низших термитов было полно, и решил, что микробы-симбионты не позволялиразвиться «высшим социальным функциям». Знай он о бактериях, возможно, заговорил бы по-другому.
297
Poulsen et al., 2014.
298
Amato et al., 2015.
299
David et al., 2013.
300
Chu et al., 2013.
301
«Предположительно, когда животному дают ядовитую пищу в небольших количествах… его организм вырабатывает предпочтение к видам или штаммам бактерий, способным выживать в присутствии токсина и нейтрализовать его» (Freeland, Janzen, 1974).
302
Kohl et al., 2014.
303
Хомяки вообще, похоже, в этом преуспели. Дениз Диринг, руководитель исследования, которым занимался Коль, обнаружила похожую адаптацию у другого вида (белогорлый лесной хомяк), обитающего в другой пустыне (Сонора), специализирующегося на другом растении (кактус) и толерантного к другому токсину (оксалат). Этим он тоже обязан микробам-нейтрализаторам. Пересадив их в лабораторных крыс, в жизни не видавших кактуса, Диринг сумела превратить их в отпетых кактусоедов (Miller et al., 2014).
304
Северные олени и лишайники: Sundset et al., 2010; коалы и танины: Osawa et al., 1993; кофейный жучок и кофеин: Ceja-Navarro et al., 2015.
305
Six, 2013.
306
Adams et al., 2013; Boone et al., 2013.
307
По этой главе и не скажешь, но микробы могут и держать хозяев в узде. Симбионты насекомых переносят высокие температуры хуже, чем их хозяева, так что в жаркую погоду их численность сокращается – это еще Бухнер заметил. Из-за этого у хозяев становится меньше мест, где они могут жить и не тужить, а в эпоху глобального потепления дела у мутуалистов станут и вовсе плохи (Wernegreen, 2012). У рачков артемий, на которых обожают любоваться дети в аквариумах, в пищеварительном тракте находятся бактерии, помогающие им переваривать водоросли. А так как эти бактерии предпочитают соленую воду, артемиям приходится жить там, где посоленее, а не там, где более комфортно (Nougué et al., 2015). Иногда микробы накладывают ограничения и в диете. Представьте себе, что насекомое включает в свой рацион растение, которое производит необходимое питательное вещество в больших количествах. От симбионта насекомого больше не требуется это вещество вырабатывать, так что он вскоре утрачивает нужные для этого гены. Хозяину компенсировать утраченные гены не нужно, у него есть растение – все путем. А потом растение начинает исчезать. У насекомого остается всего два варианта – отыскать другое растение, производящее это же вещество, или принять в организм нового микроба, чтобы его вырабатывал. Если ни то ни другое не получается, насекомое влипло.
308
Wybouw et al., 2014.
309
Ochman et al., 2000.
310
Этот эксперимент, ставший классическим, в 1928 году провел британский бактериолог Фредерик Гриффит.
311
Открытие Эвери стало одним из важнейших в современной генетике – оно подразумевало, что ДНК состоит из генов, что в тот период противоречило общепринятому мнению. Тогда большинство ученых считали, что гены состоят из белков бессчетного количества форм, а ДНК всего с четырьмя структурными элементами даже изучать смысла нет. Эвери доказал, что это не так. Он заложил основу для последующих исследований, которые окончательно закрепили статус ДНК как главной молекулы жизни (Cobb, 2013).
312
За это монументальное открытие в 1958 году Ледерберг получил Нобелевскую премию – всего в 33 года.
313
Boto, 2014; Keeling, Palmer, 2008.
314
Hehemann et al., 2010. Кстати, Zobellia названа в честь специалиста по морской микробиологии Клода Зобелла.
315
Пол Портье, отстаивавший теорию симбиоза в начале XX века и натерпевшийся в свой адрес клеветы и злословия, утверждал, что свежие митохондрии и другие симбионты попадают в организм с пищей, а уже имеющиеся в теле симбионты с ними связываются и оживают. Не совсем, но ведь близко к истине!
316
Данные не опубликованы.
317
Smillie et al., 2011.
318
Я не стал включать сюда митохондрии. Они перестали быть свободными бактериями за миллиарды лет до того, как появились первые животные.
319
Статья под эгидой проекта «Геном человека»: Lander et al., 2011; опровержение под руководством Джонатана Айзена и Стивена Сальцберга: Salzberg, 2001.
320
ДНК вольбахии у дрозофил: Salzberg et al., 2005; ДНК вольбахии у других животных: Hotopp et al., 2007; полный геном вольбахии у D. ananassae: Hotopp et al., 2007.
321
Ее так и не услышали. Исследователи, секвенируя геномы животных, специально избавляются от всех бактериальных последовательностей, будучи уверенными, что они являются посторонними. В геноме гороховой тли содержатся гены Buchnera, полученные в результате горизонтального переноса, однако из той версии, что была загружена в базы данных, их убрали. У мушки D. ananassae вообще весь геном вольбахии есть, но узнать об этом, изучив доступный в базах геном, мы не сможем – эти последовательности удалены. К такому неумолимому подходу прибегают не просто так: контаминация генома при секвенировании действительно случается регулярно. Однако из-за этого продолжает процветать неверное мнение о том, что бактериальные гены – всегда посторонние и что от них нужно избавляться, чтобы не нарушить чистоту генома животного. «Возникает порочный круг: проекты по секвенированию геномов не учитывают бактериальные гены, потому что животные не получают гены от бактерий путем горизонтального переноса, а при изучении результатов на предмет ГПГ выясняется, что ГПГ от бактерий к животному не существует», писала Даннинг-Хотопп (Dunning-Hotopp, 2011).
322
Даже если кишечная бактерия умудрится внедрить свои гены в одну из клеток вашего кишечника, эти гены исчезнут, как только клетка погибнет. Такой ген может стать частью генома отдельного человека, но частью человеческого генома в целом – нет. В 2013 году Даннинг-Хотопп выяснила, что такие кратковременные союзы образуются на удивление часто (Riley et al., 2013). Она провела анализ не одной сотни геномов человека, взятых из соматических, не участвующих в размножении клеток – например, клеток почек, кожи или печени. Примерно в трети этих клеток она обнаружила ДНК бактерий. Особенно много ее нашлось в раковых клетках – интригующий результат, хотя пока неясно, что он означает. Возможно, опухоли более всего подвержены генным вторжениям, а может, это гены бактерий задействованы в преобразовании клеток из здоровых в раковые.
323
Danchin, Rosso, 2012; Danchin et al., 2010.
324
Acuna et al., 2012.
325
В исследовании также принимали участие еще несколько ученых – среди них Жан-Мишель Дрезен, Майкл Стрэнд и Гэлен Берк: Bezier et al., 2009; Herniou et al., 2013; Strand, Burke, 2012.
326
Вообще говоря, это случилось дважды. Еще одна группа наездников – ихневмониды – независимо от браконид приручили другой тип вирусов и теперь пользуются ими почти так же, как бракониды браковирусами (Strand, Burke, 2012).
327
Сет Борденстайн обнаружил, что нечто похожее на историю с геном tae (Chou et al., 2014) произошло и с другим антибиотическим геном, решившим сменить биологическое царство (Metcalf et al., 2014).
328
Существует еще один пример подобной системы: бактерия умудрилась пробраться прямо в митохондрии клещей и так там и осталась. Ей дали название Midichloria – в честь ненавистных многим симбионтов вселенной «Звездных войн», дающих хозяевам возможность использовать Силу.
329
Маккатчен объявил таких недомикробов «головоломками биологической классификации» (McCutcheon, 2013). Они, разумеется, все еще бактерии, и геномы у них свои, отдельные. Однако по отдельности они выжить не могут, а иные (например, Moranella) не могут даже определиться с собственными границами. Некоторые из них практически стали чем-то вроде митохондрий и хлоропластов – такие структуры называются органеллами. Маккатчен считает, что органелла – это последняя стадия симбиоза, кульминация долгого процесса утраты и перемещения генов, в результате которого у животного и бактерий не остается иного выбора, кроме как объединиться.
330
Husnik et al., 2013.
331
Вы, возможно, вспомните, что пептидогликан – это один из MAMP, регулирующих развитие гавайской эупримны.
332
И это еще не все! У других видов червецов на смену Moranella пришли другие симбионты (Husnik, McCutcheon, 2016). Все они, как и Moranella, являются родичами HS – бактерии, что попала в руку Томасу Фрицу и затем была идентифицирована Колином Дейлом.
333
Также они сотрудничали с Молли Хантер, экспертом по паразитоидам.
334
Hamiltonella названа в честь Билла Хэмилтона, легендарного специалиста по эволюционной биологии, у которого училась Моран.
335
Открытие Hamiltonella: Oliver et al., 2005; открытие фага в ее организме: Moran et al., 2005; неустойчивость симбиоза тли и Hamiltonella: Oliver et al., 2008.
336
Moran, Dunbar, 2006.
337
Jiggins, Hurst, 2009.
338
Исследованием японского клопа руководил гуру симбиоза Такема Фукацу (Kikuchi et al., 2012); второстепенные симбионты тлей: Russell et al., 2013b; успешное сотрудничество тлей с второстепенными симбионтами: Henry et al., 2013.
339
О роли бактерии Spiroplasma в успехе плодовых мушек: Jaenike et al., 2010; быстрое распространение симбионта: Cockburn et al., 2013.
340
Это обнаружила Молли Хантер (Himler et al., 2011).
341
Возможно, они и союзы будущего смогут предсказывать. Несколько лет назад Дженайк выяснил, что Spiroplasma защищает представителей нескольких видов мушек. У одного из этих видов бактерий-защитников нет, хотя нематоды также лишают представителей этого вида способности размножаться. Дженайк искусственно ввел им Spiroplasma – они снова начали откладывать жизнеспособные яйца (Haselkorn et al., 2013). Эти двое почему-то до сих пор не заключили союз в природных условиях, однако мушке он крайне полезен, а значит, рано или поздно договор будет подписан.
342
Обзор, посвященный филярийным инфекциям и вызывающим их нематодам – переносчикам вольбахии: Taylor et al., 2010; Slatko et al., 2010.
343
Структуры, напоминающие бактерий, в организмах филярийных нематод: Kozek, 1977; Mclaren et al., 1975; идентификация вольбахии: Taylor, Hoerauf; 1999.
344
Hoerauf et al., 2000, 2001; Taylor et al., 2005.
345
У доксициклина есть и другие преимущества. В некоторых регионах Центральной Африки онхоцеркоз лечить крайне сложно: в организме больных, как правило, обитает еще одна филярийная нематода – Loa loa, известная как глазной червь. Если убить вид, вызывающий онхоцеркоз, обычным препаратом, глазной червь тоже погибнет, вот только их личинки настолько крупные, что после гибели могут заблокировать кровеносные сосуды и привести к поражению головного мозга. Глазной червь не является переносчиком вольбахии, так что доксициклин ему не вредит. Он устраняет причину онхоцеркоза без тяжелых побочных последствий.
346
Стратегия консорциума A·WOL: Johnston et al., 2014; Taylor et al., 2014. Лабораторные опыты с миноциклином: Sharma et al., 2016; исследование в Гане: Klarmann-Schulz et al., 2017; данные из Камеруна еще не опубликованы.
347
Voronin et al., 2012.
348
Rosebury, 1962, с. 352.
349
Сокращение численности земноводных: Hof et al., 2011; исследование Bd: Kilpatrick et al., 2010; Amphibian Arc, 2012.
350
Eskew, Todd, 2013; Martel et al., 2013.
351
Harris et al., 2006.
352
Об открытии популяции лягушек в озере у горы Коннесс: Woodhams et al., 2007; J-liv защищает от Bd в лабораторных условиях: Harris et al., 2009. На момент написания книги результаты полевого исследования J-liv не были опубликованы.
353
Панамские ателопы: Becker et al., 2015; обилие разнообразных бактерий на коже амфибий: Walke et al., 2014; совместный проект на Мадагаскаре с Молли Блетц: Bletz et al., 2013; исследование влияния метаморфоза на микробиом под руководством Валери Маккензи: Kueneman et al., 2014.
354
Валери Маккензи и Роб Найт разработали метод, с помощью которого можно заранее выяснить, будет ли амфибия устойчива к Bd, изучив ее иммунную систему, слизистый слой на коже и микробиом (Woodhams et al., 2014).
355
Kendall, 1923, с. 167.
356
История изучения пробиотиков: Anukam, Reid, 2007.
357
Судьба микробов, попавших в организм с пищей: Derrien, van Hylckama Vlieg, 2015; исследование йогурта «Активиа»: McNulty et al., 2011; опыты Венди Гарретт: Ballal et al., 2015.
358
Определение термина «пробиотики»: Hill et al., 2014; обзоры исследований, посвященных пробиотикам: Slashinski et al., 2012; McFarland, 2014; кокрановские обзоры: AlFaleh, Anabrees, 2014; Allen et al., 2010; Goldenberg et al., 2013.
359
Katan, 2012; Nature, 2013; Reid, 2011.
360
Ciorba, 2012; Gareau et al., 2010; Gerritsen et al., 2011; Petschow et al., 2013; Shanahan, 2010.
361
В большинстве исследований пробиотиков основное внимание уделяется кишечнику, однако этот термин можно использовать по отношению к любому продукту, содержащему полезных микробов, будь то крем для кожи, шампунь или ополаскиватель для полости рта. Сейчас идет активная разработка таких продуктов.
362
Это, конечно, здорово, но кое-что все же портит пробиотикам репутацию. В единичных случаях полезные микробы, такие как Lactobacillus и Bifidobacterium, вызвали заражение крови. А в одном клиническом исследовании в Нидерландах, получившем дурную славу, выяснилось, что уровень смертности среди больных острым панкреатитом, принимающих настоящие пробиотики, а не плацебо, повышается (Gareau et al., 2010). Короче говоря, в целом пробиотики безопасны, однако врачам вряд ли стоит давать их больным в критическом состоянии или при иммунодефиците.
363
История Рэймонда Джонса и Synergistes: Aung, 2007; CSIROpedia; New York Times, 1985; первая пересадка рубцовых бактерий: Jones, Megarrity, 1986; Synergistes jonesiiполучает описание и название: Allison et al., 1992.
364
Ellis et al., 2015.
365
Интервью с Дениз Диринг; белогорлые лесные хомяки, с которыми она работала, для обезвреживания оксалата в кактусах также полагаются на помощь Oxalobacter.
366
Bindels et al., 2015; Delzenne et al., 2013.
367
Underwood et al., 2009.
368
Исследования Кеньи Хонды: Atarashi et al., 2013; путь к клиникам: Schmidt, 2013.
369
Обзоры, посвященные пересадке микрофлоры кишечника: Aroniadis, Brandt, 2014; Khoruts, 2013; Petrof, Khoruts, 2014; одна из самых популярных статей на эту тему: Nelson, 2014.
370
Сейчас научно-исследовательская группа под руководством Петроф использует для этого одноразовую «шляпу для кала», которая состоит из пластикового контейнера, прикрепленного к сиденью унитаза, и нескольких кофейных фильтров.
371
Koch, Schmid-Hempel, 2011.
372
Hamilton et al., 2013.
373
Zhang et al., 2012
374
Van Nood et al., 2013.
375
Пересадка микрофлоры кишечника и воспалительные заболевания: Anderson et al., 2012; пересадка стула и ожирение: Vrieze et al., 2012.
376
Вполне предсказуемый результат. Вспомните эксперимент Ванессы Ридоры и Джеффа Гордона – кишечных микробов из мышек-худышек пересадили мышкам-толстушкам, но вес они начали терять лишь тогда, когда их стали кормить здоровой пищей.
377
Petrof, Khorus, 2014.
378
Замороженные образцы кала ничуть не хуже свежих: Youngster et al., 2014; исследования OpenBiome: Eakin, 2014.
379
Первым человеком, осуществившим пересадку кала в капсулах, стал микробиолог Стэнли Фалкоу в 1957 году. В больницу, где он работал, откуда-то занесло штамм стафилококка, от которого никак не могли избавиться, так что больным перед операцией приходилось принимать антибиотики, чтобы предотвратить заражение. К сожалению, антибиотики также уничтожали бактерий в пищеварительном тракте больных, а значит, их ждали несварение желудка и диарея. Фалкоу понял, в чем дело, и стал просить пациентов приносить с собой образец кала. Этот образец он вводил в капсулу, которую больные принимали после операции. «А потом главврач узнал, чем я тут занимаюсь, – писал позже Фалкоу. – Он ко мне подошел и воскликнул: Фалкоу, ты что, серьезно пациентов какашками кормишь?! А я ответил: да, я тут решил поучаствовать в клиническом исследовании, нужно было, чтобы больные принимали свой кал в капсулах!» Его уволили, а через два дня вновь приняли на работу (Falkow, 2013).
380
Smith et al., 2014.
381
Недавно одна исследовательская группа описала случай набора веса после пересадки кала, однако так и не было выяснено, повлияла ли на это сама процедура (Alang, Kelly, 2015).
382
Сайт «Сила стула» (thepowerofpoop.com) публикует истории людей, самостоятельно проведших пересадку кала, и организует кампании, направленные на то, чтобы врачи начали принимать эту процедуру всерьез.
383
Когда я занимался этой главой, мне написала незнакомка и спросила, нужна ли ей пересадка кала из-за того, что она пила диетическую газировку. На всякий случай отвечаю: нет.
384
Среди выступающих в защиту этого есть и те, с кем мы уже знакомы: Джефф Гордон, Роб Найт и Мартин Блейзер (Hecht et al., 2014).
385
RePOOPulate: Petrof et al., 2013; другие разработки микробных смесей: Buffie et al., 2014; Lawley et al., 2012.
386
Хоруц так не считает. «Весь набор микробов, полученных от доноров, создан природой, и самому донору эти микробы не причиняли никакого вреда, – утверждает он. – Вряд ли искусственные смеси окажутся лучше, ведь лучше уж некуда». Если бы ему самому вдруг понадобилась пересадка, он предпочел бы провести ее старым, проверенным способом.
387
Haiser et al., 2013.
388
Carmody, Turnbaugh, 2014; Clayton et al., 2009; Vétizou et al., 2015.
389
Dobson et al., 2015; Smith et al., 2015.
390
Haiser, Turnbaugh, 2012; Holmes et al., 2012; Lemon et al., 2012; Sonnenburg, Fischbach, 2011.
391
Исследование ТМАО: Tang, Hazen, 2014; обнаружение вещества, из-за которого бактерии перестают вырабатывать ТМАО: Wang et al., 2015.
392
О таких пробиотиках я писал в New Scientist (Yong, 2015c).
393
Kotula et al., 2014.
394
Исследование кишечной палочки, проведенное Чаном: Saeidi et al., 2011. Джим Коллинз стал одним из основателей стартапа под названием Synlogic, нацеленного на массовое производство таких микробов. Он уверен, что первые клинические исследования начнутся уже через пару лет.
395
Rutherford, 2013.
396
Claesen, Fischbach, 2015; Sonnenburg, Fischbach, 2015.
397
Кишечник успешно заселяют дикие штаммы кишечной палочки – например, в первые часы жизни новорожденного. Однако культивируемые штаммы E. coli, хорошо адаптированные к лабораторным условиям, способность колонизировать кишечник утратили. – Прим. ред.
398
Первую статью об изменении генома B-theta написал Тимоти Лу (Mimee et al., 2015). Группа Зонненберга от него почти не отстает.
399
Olle, 2013.
400
Iturbe-Ormaetxe et al., 2011; LePage, Bordenstein, 2013.
401
Изначально его идея состояла в том, чтобы модифицировать геном вольбахии, добавив в него гены, ответственные за производство антител для вируса денге. Если бы у него получилось, бактерия, как у нее принято, вскоре распространилась бы по всей популяции вместе с антителами. Однако модифицировать вольбахию оказалось нелегко. О’Нилл решил оставить эту затею спустя шесть лет. Никому так до сих пор и не удалось это сделать.
402
Первое упоминание штамма «попкорн»: Min, Benzer, 1997; Конору Макмениману удается успешно ввести вольбахию в комариные яйца: McMeniman et al., 2009.
403
Моделирование проводил Майкл Турелли в Калифорнийском университете в Дейвисе (Bull, Turelli, 2013), а затем результаты подтвердились и во время полевых испытаний. Когда исследователи выпустили комаров с «попкорном» на небольшом вьетнамском островке, надолго там не задержались ни комары, ни их симбионты.
404
Кэрин Джонсон и Луи Тексера обнаружили, что вольбахия дает мушкам устойчивость к вирусам: Hedges et al., 2008; Teixeira et al., 2008; группой О’Нилла показано, что и к комарам это тоже относится: Moreira et al., 2009.
405
Том Уокер занимался введением wMel в яйца Aedes, а Эри Хоффманн и Скотт Ричи вместе с О’Ниллом проводили испытания в вольерах (Walker et al., 2011).
406
О’Нилл знал, что ждет ученых, решивших не принимать в расчет местных жителей. В 1969 году представители Всемирной организации здравоохранения отправились в Индию, чтобы испытать новые технологии контроля популяций комаров, в том числе генную инженерию, облучение и вольбахию (Nature, 1975). Проект решили скрывать от местных жителей, и те заподозрили неладное. Журналисты принялись обвинять ученых, некоторые из которых были американцами, в том, что Индия для них – лишь испытательный полигон для экспериментов, которые в Америке проводить побоялись, и даже в том, что они занимаются разработкой биологического оружия. Ученые отреагировали просто – они вообще никак не стали реагировать. «Получился какой-то кошмар в плане публичного освещения, – рассказывает О’Нилл. – Их выгнали из страны, а из-за возникших разногласий на двадцать лет запретили генетически модифицировать комаров». О’Нилл хотел избежать их ошибок.
407
Hoffmann et al., 2011.
408
Проекты организации «Ликвидируем денге»: ; о проекте в городе Таунсвилле мне рассказали О’Нилл и Кейт Ретцки, о проектах в Индонезии и Колумбии – Бекти Андари и Ана Кристина Патино Таборда.
409
Chrostek et al., 2013; McGraw, O’Neill, 2013.
410
Введение вольбахии комарам Anopheles: Bian et al., 2013; сокращение численности других насекомых-вредителей с помощью вольбахии: Doudoumis et al., 2013; некоторые бактерии в кишечном тракте комаров также умеют блокировать плазмодии, их можно давать насекомым в качестве пробиотика для борьбы с малярией: Hughes et al., 2014.
411
Микробное облако вокруг нас: Meadow et al., 2015; примерные подсчеты бактерий в этом облаке: Qian et al., 2012.
412
Lax et al., 2014.
413
Подмышечные (аксиллярные) области, если вам вдруг интересно.
414
Van Bonn et al., 2015.
415
Проект «Микробиом больницы»: Westwood et al., 2014; о микробах в больнице и вероятности заражения: Lax, Gilbert, 2015; результаты проекта: Lax et al., 2017.
416
Результаты уже есть (Lax et al., 2017). Как выяснилось, в первый день пребывания пациента в больнице микробы в основном перебираются со спинок кроватей, ручек кранов и других поверхностей на его кожу, а начиная со второго дня перемещаются в обратном направлении – то есть собственные микробы пациента обживают больничную палату. В итоге микробиом помещения начинает напоминать кожный микробиом пациента. Кроме того, исследователи узнали, что чаще медперсонал является источником бактерий для пациентов, чем наоборот, а на больничных поверхностях обитает намного больше устойчивых к антибиотикам микробов, чем на коже пациентов. – Прим. ред.
417
Gibbons et al., 2015.
418
Исследования Джессики Грин, посвященные окнам в больнице: Kembel et al., 2012; записи Флоренс Найтингейл: Nightingale, 1859.
419
Микробиом помещений: Adams et al., 2015; исследование Грин в «Лиллис-холле»: Kembel et al., 2014; выступление TED и обзор по теме биоинформированного дизайна: Green, 2011, 2014.
420
Gilbert et al., 2010; Jansson, Prosser, 2013; Svoboda, 2015.
421
Unified Microbiome Initiative: Alivisatos et al., 2015.
422
Song of the Dodo, H is for Hawk, The Forest Unseen, Being Wrong. – Прим. ред.
423
Это традиционная американская веселая игра под названием «корнхол» (corhhole) – ее суть заключается в том, чтобы попасть мешочком с сушеными зернами кукурузы в отверстие на специальной покатой доске с расстояния 10 метров. – Прим. ред.







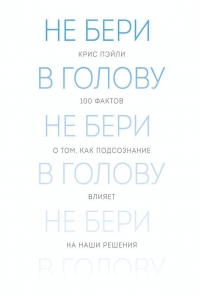



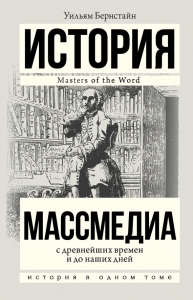
Комментарии к книге «Как микробы управляют нами. Тайные властители жизни на Земле», Эд Йонг
Всего 0 комментариев