Пирошка Досси Продано! Искусство и деньги
© 2007 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Munich/Germany
© ООО «Издательство К. Тублина», 2017
© А. Веселов, оформление, 2017
* * *
Введение. Цена бесценного
Существо культуры противоречиво, и эти противоречия неразрешимы.
Даниэль Миллер, антропологНа рынке искусства бум. Цены взрываются. Ликование на художественном рынке подобно танцу у жерла вулкана. Прилив новых денег, рейтинги вспыхивающих звезд, шумиха вокруг аукционных рекордов и все быстрее раскручивающаяся карусель ярмарок искусств накаляют страсти. Летом 2005 года была преодолена отметка, считавшаяся прежде недостижимой. И не только потому, что за одно это лето на аукционах было установлено пятнадцать мировых рекордов. Впервые общая стоимость современных работ превысила стоимость произведений импрессионизма и классики модернизма. Не великие имена прошедших столетий, а современные художники стали теперь звездами рынка искусства. За их картины платят, как за шедевры истории искусств. Никому не понятно, откуда берутся эти цены, мало кто разбирается в механизмах, их порождающих.
Рынок искусства – самая расплывчатая отрасль капиталистического общества. Здесь встречаются искусство и деньги, святая молитва и мирская спекуляция, рекорды аукционов и нищета художников. Здесь сталкиваются неистощимые творческие силы и ненасытное потребление, долгие циклы развития искусства и короткие фазы его продажи. Здесь переплетены артистическая свобода и капиталистическое принуждение. Ни на каком другом рынке не правит столь основательная неопределенность относительно ценности продаваемого товара. Размытость критериев мастерства, притязания на неограниченную свободу и постоянное новаторство лишают однозначного ответа вопрос о качестве современного произведения искусства. Ответ подменяют системы влияния на оценку искусства, все более зависимые от интересов рынка. То развитие, целью которого на протяжении столетий было освобождение искусства от клерикального и феодального влияния, привело сегодня к тому, что искусство стало игрушкой в руках рыночных дельцов. В описаниях ярмарочной суматохи нынешнего подъема продаж и сопутствующих извращений все чаще используется английское слово: Hype! Происходит оно от английского hyperbole – гипербола, преувеличение – и означает рекламный трюк, суматоху, шум в средствах массовой информации вокруг какого-либо продукта. Немного найдется более угрожающих слов. «Перерасчет», «падение цен», «банкротство».
Еще в шестидесятых годах механизмы рынка искусств были в кари катурном виде представлены во французской кинокомедии «Un mon sieur de compagnie» («Компаньон») Филиппа де Брока[1]. Герой филь ма, молодой шалопай Антуан Мирлифлор успешно пробивается в жизни с твердым намерением никогда не работать. Обладая юношеским обаянием и верным чутьем на преимущества собственные и слабости ближних, он оказывается в постелях красивых женщин, за столами зажиточных хлебосолов и, наконец, на одном из лондонских аукционов. Объектом вожделения является некая мрачно усмехающаяся Мона Ли за. Без единого фунта в кармане Мирлифлор вступает в единоборство с одним из покупателей, миллиардером Александром Дарием Сокра тосом, прекрасно понимая при этом, что тот пожелает остаться победителем любой ценой. После недолгой схватки, являющейся для Сократо са делом престижа, а для Мирлифлора забавой, цена достигает заоблачных высот, и Мона Лиза достается Сократосу. Позже, когда Мирлифлор нуждается в наличных, чтобы пригласить семью своей возлюбленной на стаканчик вина, он крадет у Сократоса картину и предлагает ее старьевщику. Тот бросает на маленькое полотно пренебрежительный взгляд и милостиво сует молодому человеку пару франков. Довольный Мирлифлор торопится оплатить счет у кабатчика. Тут показано всё: искусство, упрямо утверждающее свою ценность, покупатель, для которого приобретение художественных работ является во просом статуса, спекулянт, для которого речь идет не об искусстве, а о ма нипуляции ценовыми механизмами, и профан, оценивающий искусство в зависимости от стоимости материалов, на него затраченных.
Как образуется цена искусства? Согласно мифу, произведение искусства есть дар художника человечеству. Почему же, несмотря на это, за искусство платят бешеные деньги? Искусство сегодня стало необходимым статусным символом капитализма. Что предопределило такое положение дел? Почему одно произведение искусства знаменито и дорого, а другое нет? Художественное произведение стоит в начале длинной цепочки ценообразования. Определяет ли качество работы ее стоимость? Какую роль играет художник? Как взвинчивают цену арт-дилер и собиратель? Какое влияние на нее оказывают музеи? Вынесет ли история окончательное суждение об истинной ценности произведения искусства?
Говорят о неком новом рынке искусства, на котором, якобы, действуют новые правила. Рынок искусства сейчас глобализирован как никогда прежде – становится ли он от этого стабильней? Коллекцио неры нынче гораздо более информированы – делает ли это их рациональней? Искусство обрело статус самостоятельной сферы капиталовложения, наряду с акциями, недвижимостью и прочим, – стало оно благодаря этому надежной гаванью для блуждающих денег? Сегментация рынка способствует множеству маленьких ценовых корректировок – поможет это предотвратить банкрот ство? Оглянувшись в прошлое, обнаружим, что основные принципы рынка искусства не менялись с момента его возникновения. Основополагающие представления о художественном произведении и художнике или об оригинале и копии суть изобретения европейского модернизма и ни в коем случае не являются универсальными. Собирание, обмен и выставление напоказ объектов можно обнаружить не только в современном мире искусства, но и в ранних культурах. Что есть искусство? Что есть собирание? Какие коллективные образцы поведения оказывают влияние на динамику цен на рынке искусств? Какую роль играют аукционные дома? Ведет ли бум на рынке также и к расцвету искусства?
И хотя рынок искусства беспрерывно изменяется, а художественная мода подвержена конъюнктурным колебаниям, фундаментальные принципы, правящие рынком, остаются теми же. Не первый раз они приводят к спекуляциям, буму и тому, что называют hype. О том, каким образом они взаимодействуют, рассказывает эта книга. С помощью примеров из истории искусств, встреч с главными героя ми современного мира искусств, сведений из экономики, социологии, антропологии и психологии мы рассмотрим весь этот грандиозный алхимический процесс, конечным продуктом которого является не золото, а цена на произведения искусства.
Глава 1. Рынок искусства. Реклама и стадный инстинкт
Спекуляция? Но весь рынок искусства – спекуляция!
Рафаэль Яблонка, галеристЭто не всегда надувательство, но чаще всего.
Теодор ФонтанеДеньги на земле – земной бог.
Ганс СаксКорпорация Рембрандт. Искусство как ставка на будущее
Иные пророчества попадают в самую точку. В 1962 году вышел на учно-фантастический рассказ «Когда был акционирован Рембрандт» американского писателя Арнольда М. Ауэрбаха. Его пророческая сущность открывается лишь перед нынешним читателем: «В 1967 го ду коллекционеры окончательно выкинули за борт вышедшие из моды эстетические представления. Они оставили одинединственный вопрос о художнике: сулит он хорошую сделку и надежную перспективу получения или активы его малокровны? Существуют только две школы современного искусства: 1) Развитие и 2) Доход»[2]. Ауэрбах рассказывает о возникновении финансовой пирамиды, начало которой положило решение пластмассового магната Уиллоби акционировать под аббревиатурой ОЛИ (Объединенные любители искусств) свое художественное собрание. Портфель акций подвергался регулярной оценке. Логика извлечения прибыли влекла за собой безжалостную выбраковку убыточных произведений искусства. Вскоре курс акций перегнал все индексы, и Wall Street Journal причислил ОЛИ к фаворитам биржи. На высшей точке взлета курса Уиллоби с огромной выгодой продает свой пакет акций и выдвигается кандидатом на пост президента. Тем временем многочисленные коллекционеры спешат последовать его примеру. Выпуски ценных бумаг – от консервативного «Всеобщего натюрморта» и спекулятивной «Привилегированной обнаженной натуры» до крайне рискованных «Оторванных» – следуют один за другим. Когда Метрополитен-музей разместил на бирже картину Рембрандта «Аристотель, созерцающий бюст Гомера», инвесторы принялись отрывать акции с руками. Курсы взвились до астрономических высот, стремительно набирающая скорость лавина алчности и жажды наживы неудержимо катилась к экономической катастрофе. Все закончилось в черный четверг искусства, когда рынок полностью обрушился. То, что то гдашним читателям казалось вызывающим дрожь вымыслом, сегодня воспринимается предвосхищением нынешних спекуляций на рынке искусства.
Прошло сорок лет. 2005 год не мог начаться лучше. Он даровал Даниэлю Лёбу выгодную сделку. Двумя годами раньше этот менеджер хедж-фонда совершил необычное вложение капитала. Блестящее чутье Лёба на «купи-придержи-продай», позволившее ему стать одним из лидеров в отрасли, подтвердилось и в новой сфере инвестиций. В январе он нашел покупателя. Получил прибыль в пятьсот процентов и заработал миллион долларов. Вопреки обыкновению, Лёб имел дело не с акциями или займами. На этот раз он продавал живопись. Покупателем была лондонская галерея британского коллекционера Чарльза Саатчи. Картина принадлежала кисти немецкого художника Мартина Киппенбергера[3]. Стивен Коэн тоже успешно встретил новый год. Он как раз взял верх в соревновании с галереей Тейт, приобретя у Чарльза Саатчи помещенную в формальдегид тигровую акулу работы Дэмиена Херста. Улов достался одному из самых высокооплачиваемых менеджеров хедж-фонда с годовым окладом в 650 миллионов долларов и обошелся ему в 8 миллионов.
У каждой эпохи свои коллекционеры. В эпоху глобализированного капитализма менеджеры хедж-фондов стали активнейшими продавцами и покупателями мира искусств. Они конкурируют в том, что называют wall power, – в ценовой мощности покупаемых произведений. Искусство для них не просто трофей. Искусство для них – это продолжение спекуляции, то есть их профессии. Со своими немыслимыми денежными ставками в сотни миллионов долларов они способствуют росту цен на современное искусство. Это не является непреднамеренным побочным эффектом их увлечения искусством. Там, где другие видят искусство, фондовые менеджеры видят обширный рынок, созревший для «купи-продай-перепродай». Они усиленно инвестируют в одного, двух или трех художников и развертывают позиции. Они подхлестывают цены и избавляются от объектов вложения капитала путем выгодной продажи или дарения, уменьшающего налоговое бремя и дающего возможность стать попечителем какого-нибудь престижного музея.
Большинство спекулянтов искусством торжественно заверяют, что их интерес вовсе не связан с деньгами, а диктуется исключительно страстью. Другой вопрос, страсть ли это к искусству или к спекуляции искусством. Во всяком случае, они проникаются всё большей страстью именно к современному искусству. Один из коллег Лёба объясняет это тем, что только имея дело с современным искусством, можно воздействовать на вкусы. Ибо нет для современного искусства ни устоявшегося «правильного» вкуса, ни стабильной структуры цен, его подтверждающей. В отличие от более или менее определенного спектра цен на работы старых мастеров или импрессионистов, цены на современное искусство могут сильно колебаться. И в зависимости от того, кто, когда, где и за какую сумму продает или покупает, цены колеблются еще больше.
Слово «спекуляция» происходит от латинского speculari, что означает «высматривать и давать оценку некому наступающему событию». Спекуляция состоит из расчета и фантазии. Поэтому слово «фантазия» не случайно вошло в терминологию биржи. Там эта поэтически звучащая перифраза используется для обозначения потенциальной прибыли акции. Фантазия, которую акция способна возбудить в инвесторе, определяет, будет ли он держаться от нее подальше или оторвет с руками. Если инвестор верит в потенциал этой акции, то она выглядит недооцененной и становится подходящим инструментом для спекуляции. Современное искусство располагает к подобной фантазии. Потому что если произведение искусства уже заняло свое место в истории искусства, оно перестает быть источником мечтаний денежного свойства. Аналогичным образом в большин стве случаев давно определена и зафиксирована разница между реальной стоимостью и потенциалом стандартных акций, называемых «голубыми фишками». Хеджирование – изначально защита от риска потерь при колебаниях курсов – есть не что иное, как обнаружение и использование такого рода разницы, динамика развития которой лишь слабо коррелируется с процессами, происходящими на бирже. Чем эта разница больше, тем больше прибыль. И ни в каком другом сегменте рынка искусства разница между реальностью и потенциалом не бывает столь неопределенна, как в современном искусстве. Фантазия на тему художественного произведения связана, с точки зрения спекулянта, с пока остающимся без ответа вопросом о ее каче стве. Ставки в этом споре уже очень высоки.
Еще в девяностые годы рекламный магнат Чарльз Саатчи показал, как hype функционирует на рынке искусств. Инвестированные в 1991 году в тигровую акулу 50 000 фунтов даровали ему 41 процент годового дохода[4]. Фондовые менеджеры располагают также ин струментом и средствами, чтобы активно рекламировать свои соб ственные собрания. С 2002 года Лёб покупает Киппенбергера, вокруг которого с начала девяностых толпятся известные коллекционеры. У него уже более тридцати работ этого художника. Некоторые из них он одолжил музеям. Его коллега Адам Сендер занялся Ричардом Принсом. Дэвид Ганек, в свою очередь, покупает Эда Руша. Аукционная цена на Киппенбергера за пять лет утроилась. То же и с Принсом: цены на его работы возросли в шесть раз. Цена за «Damage» («Повреждение») Эда Руша, купленное десять лет назад за 300 тысяч долларов, перевалила за три миллиона[5]. У Индии тоже есть свой принц современного искусства: Тиеб Мехта. Цены на его вдохновленные Пикассо и Матиссом картины, благодаря оживленному спросу инвесторов вроде менеджера хедж-фонда Раджива Чаудри, всего за три года подскочили до 1,6 миллиона долларов. Да и в Китае новые капиталисты сосредоточились на современном искусстве и подгоняют цены.
Летом 2005 года была преодолена отметка, считавшаяся прежде недостижимой. Впервые общая стоимость современных работ превысила стоимость произведений импрессионизма и классики модернизма[6]. Основательному повышению цен почти на 16 процентов всего за один год прежде всего содействовал рост цен на современное искусство[7]. Звездами рынка стали теперь не великие имена прошедших столетий, а современные художники. Собиратели больше не инвестируют в «голубые фишки», предпочитая ставить на молодое искусство. Сорок девять художников моложе сорока пяти лет взяли на аукционах магический барьер в сто тысяч долларов[8]. Ведущие арт-дилеры вроде Дэвида Нэша из Лондона, до сих пор услаждавшие свою состоятельную клиентуру импрессионистической живописью и классическим модерном, распахнули двери современникам. Цены на современное искусство взлетели. Рынок искусства расположился в центре современности. А в центре рынка искусства бурлит hype – шум, обман и надувательство.
Художники – сейсмографы духа времени. Когда деньги берут власть в искусстве, художники начинают делать деньги темой своих работ. Когда в конце девятнадцатого века в США разбогатевшие финансисты наводнили деньгами рынок искусства и художе ственные коллекции разрастались с прицелом на спекуляцию, символ доллара в виде тщательно выписанных банкнот торже ственно вступил в искусство. Такие художники, как Уильям Харнет, Джон Хэберл, Чарльз Мойрер и Виктор Дюбрей экспериментировали с долларовыми банкнотами в качестве основной темы картин и добились в этом такого совершенства, что их работам грозила конфискация Государственным казначейством[9]. Таким образом художники отражали в искусстве материализм своего времени, который Максим Горький, впервые побывав в США, описал следующим образом: «Произведения искусства покупаются за деньги, точно так же, как и хлеб, но ведь их стоимость всегда больше того, что платят за них звонкой монетой. Я встретил здесь очень немного людей, имеющих ясное представление о подлинной ценности искусства, духовном его значении, силе его влияния на жизнь и его необходимости для человечества»[10]. С тех пор мотив денег пронизал не только американское искусство. В шестидесятые годы идол поп-арта Энди Уорхол отвел пестрым символам доллара и долларовым купюрам центральную роль в работах и вознес их до уровня универсального образа. В Германии Йозеф Бойс провозгласил начало золотых восьмидесятых, начертав на банкноте свое собственное уравнение искусства и капитала, – капитал как творчество, а не как деньги.
Снова бешеные деньги льются на рынок искусства. И снова подстегиваемый ликвидностью бум сопровождается артистическими ритуалами захвата и изгнания денег. Художественная группа Relax печатает швейцарские банкноты с собственными портретами. Марианна Хайер снимает таиландский ритуал, где в честь усопших сжигают казначейские билеты. Клод Клоски оклеивает выставочный зал курсами акций. Кристоф Бюхлер и Джанни Моти включили в программу для цюрихской выставки реальные деньги и поиски их в залах галереи посетителями, то есть произведением искусства были деньги и ничего, кроме денег. И хотя «Аристотель, созерцающий бюст Гомера» Рембрандта все еще висит в музее Метрополитен, рыночные силы неудержимо завладевают территорией искусства.
От мецената к рынку. Возникновение рынка искусства
В самом по себе переплетении искусства и денег нет ничего нового. Во все времена искусство продавалось за деньги. Сама идея торговли искусством уходит корнями далеко в глубь истории. Удивительно, как давно были заложены фундаментальные принципы, определяющие художественный рынок XXI века. Охота на искусство берет начало в дохристианских временах. Уже в Римской империи суще ствовали аукционы, нынешнее название которых происходит от латинского auctio (увеличение, рост). Предвестником рынка искус ства как вечного двигателя, из которого товар появляется и в который он, принеся прибыль, снова возвращается, была бурная торговля реликвиями в Средние века. Каждая щепка Святого Креста и каждая частица Тела Христова считались вместилищем божественной силы. Обладание подобными крохами очевидной божественности превращало такие места, как Пюи, Хильдесхейм, Антверпен и бесчисленные монастыри в популярные места паломничества[11]. Солнцем, вокруг которого вращались эти для всего христианского мира желанные вещи, был сначала Константинополь, а позже Рим. В центре его находился Иисус Христос – суперзвезда, чья священная аура таким образом преобразовывалась в неисчерпаемые пожертвования.
Да и перелистывание аукционных каталогов – тоже не страсть исключительно нашего времени. Кардинал Ришелье выбирал для себя ценности при помощи альбома с рисунками древностей, продававшихся в Италии. Другие в своей погоне за искусством пользовались услугами множества специалистов, дабы изучить рынок и нанести удар в нужное время, в нужном месте и с нужным предложением. Так, король Англии содержал армию агентов, с тайной миссией ездивших по Италии и вынюхивавших, в каких княжеских дворцах хранятся шедевры и каково финансовое положение их владельцев. Оказалось, что Гонзага, в средневековье имевшие возможность пополнять казну набегами на манер кондотьеров, вынуждены теперь обращать в деньги свои художественные сокровища. Благодаря их стесненным обстоятельствам король Англии получил сильные козыри на переговорах, и итальянский княжеский дом вынужден был уступить ему драгоценные картины за минимальную сумму. Так в конце семнадцатого века в зависящей от импорта Англии возник первый большой художественный рынок. Преодолев национальные границы, сформировалась оживленная торговля искусством. Переход от меценатства к рынку совершился.
С тех пор произведения искусства стали чаще менять своих владельцев. Если первый музей, Лувр, раскрыл свои врата только в 1793 году, в годовщину отсечения головы Людовика XVI, то первый аукционный дом, специализирующийся на искусстве, был основан Джеймсом Кристи в Лондоне уже в 1766 году. Коллекции расширялись за счет деятельности агентов и покупок на аукционе. Торговцы выступали как посредники, вклиниваясь между художником и покупателем. Различение оригинала и копии становится гарантом ограниченности предложения и высоких цен. Интересующегося мецената в роли покупателя сменяет инвестирующий собиратель. На смену личным пристрастиям мецената приходит фактор рыночного спроса. Личное видение творца становится важнее заданного содержания картины. Цены стали символом репутации художника.
Да и парадокс рынка искусства принимает современные формы: художник должен оставаться независимым от тех, без чьего одобрения невозможен его успех. После растянувшегося на столетие процесса борьбы искусства за независимость от клерикальной и феодальной власти оно было отпущено на свободу капиталистического рынка. История искусства периода рыночной экономики есть продолжение истории борьбы за автономию, только с другим знаком.
Произведение искусства стало оборотным товаром на международном рынке. Даже шедевры санкт-петербургского Эрмитажа обращались в качестве товара в круговороте спроса и предложения, прежде чем достигли места назначения в российской Венеции. В 1764 году Екатерина Великая приобрела при посредничестве российского посланника Долгорукого 225 произведений искусства у берлинского антиквара Гоцковского, в том числе живопись голландских и фламандских мастеров, например «Портрет молодого человека с перчаткой в руке» Франса Халса и «Семейный портрет» Якоба Йорданса. И все работы, которыми с тех пор вынуждены были обогащать царский музей русские дипломаты, приобретались на западноевропейских аукционах. Благодаря финансовым возможностям царского двора, закупки целых коллекций, производимые под руководством дипломата князя Дмитрия Голицына, превратились в систему. Через десять лет в Зимнем дворце было уже две тысячи картин. Считалось, что страсть к коллекционированию просвещенной монархини была вызвана не столько ее любовью к искусству, сколько политическим расчетом, а именно стремлением укрепить авторитет России на Западе. Однако Екатерина сознавала истинный корень своей страсти и не скрывала его: «Это не любовь к искусству, это жадность»[12].
Двойная игра. Табу на деньги
Искусством торгуют за деньги. Роли в превращении искусства в деньги распределены: художник должен верить в свое искусство, галерист – продавать, критик – делать его известным, музей – возвеличивать, коллекционер – оплачивать. И все же конфиденциальность в денежных вопросах остается одним из неписаных законов художественного рынка. Сделка, превращающая идеальные ценности в материальные, свершается под покровом тайны. У произведений искусства, выставленных для продажи в галереях, нет, как правило, бирок с ценой. Коллекционер, покупающий картину, разделяет разговоры об искусстве и о деньгах. Искусство считается не приносящей доход профессией, а призванием, галерист не продавцом, а наставником, коллекционер не покупателем, а ценителем. Все это вписывается в давнюю традицию провозглашения искусства сферой высоких движений души. И в отличие от рекламных слоганов банков и торговых фирм, тоже продающих жажду наживы как возвышенную страсть, художественный рынок добивается даже не коего правдоподобия. Торговля произведениями искусства извлекает выгоду из представления о том, что искусство лежит по ту сторону коммерции, и тем утверждает его особый статус среди товаров. Коммерцией художественного рынка является отрицание коммерции. Это отрицание денег в самых их объятиях обнаруживается в каждой нынешней сделке художественного мира.
Произведение искусства – это объект, извлекающий ценность из собственной сути. Эта ценность не зависит от религиозного значения, политической выгоды, финансового потенциала. Произведение искусства – это воплощение творческой энергии одиночки и, тем самым, символ главного идеала нашей культуры: свободы личности. Рынок, напротив, является местом обмена товаров, где вещь приобретает ценность в акте обмена. Рынок сводит ценность произведения искусства к сумме денег, которую покупатель в данный момент готов за него заплатить.
Ничего удивительного, что на художественном рынке, где сталкиваются противоречия идеала с реальностью, возвышенного искусства с презренными деньгами, царит совершенно особая экономика. Рекорды аукционов и нищета художников характеризуют этот необыкновенный рынок, на котором противоречия нашей культуры обнажаются самым захватывающим образом. Американский художник Роберт Мазервелл так обозначил пропасть между искусством и деньгами: социальная история современного художника – это духовное бытие в мире, зацикленном на материальной собственности.
Поле напряжения между искусством и деньгами отражает противоречие нашей культуры. Даже если кажется, что все крутится вокруг денег, существует все же внутренне присущее культуре отрицание монетарного. Библейский смертный грех алчности, в Средние века, с распространением денежного хозяйства, опередивший феодальный грех гордыни, для большинства людей и сегодня кажется сомнительным пороком, о котором предпочитают помалкивать. Яснее всего это табу выражено поговоркой: «О деньгах не говорят вслух». Сегодня в рекламно-банковском языке эта поговорка мутировала в лозунг, из которого окончательно изгнано само слово «деньги»: «Живите – обо всем остальном мы позаботимся».
Для многих людей ценообразование – тайна за семью печатями. Восьмилетние дети думают, что цену устанавливает хозяин магазина и она отражает истинную ценность вещи. Одиннадцати-четырнадцатилетние хотя еще считают, будто неотъемлемая ценность предмета определяет его цену, однако уже знают, что помимо того на цену каким-то образом влияет рынок. Восьмилетние дети не разумеют сущности прибыли и считают, что экономика состоит из различных независимых друг от друга процессов. К одиннадцати-четырнадцати дети получают некоторое представление о том, что экономика представляет собой связанную систему[13]. Даже большинство взрослых понимает эту систему лишь фрагментарно, да и специалисты не в состоянии охватить экономическую динамику во всей ее полноте, когда им, к примеру, нужно сделать прогноз на основании макроэкономической модели. Ценообразование на рынке искусства является загадкой и для экономистов. Здесь теряют силу элементарные законы, такие как законы спроса и предложения. Картина в галерее может сколь угодно долго не находить себе покупателя, но цена ее, вопреки всем экономическим прогнозам, не падает. На рынке искусства нарушается и закон равновесия. Расхождение цен на первичном и вторичном рынках остается, не выравниваясь через арбитраж (когда покупается там, где дешево, а продается там, где дорого). Эти экономические противоречия проистекают из различия в системах оценок, действующих в искусстве и на рынке и сталкивающихся друг с другом на рынке искусства. Эти противоречия и двойственное отношение к деньгам имеют общие корни. Они восходят к тому времени, когда заманчивые обещания капиталистического денежного хозяйства начали замещать христианскую религию.
Деньги становятся все более важным знаком успеха. Если в 1775 го ду только 38 процентов жителей США назвали деньги главным критерием счастливой жизни, то в 1994 году этого мнения придерживались уже 63 процента[14]. Жажда денег, объявленная в христианстве грехом, выдвигается в добродетели и помещается в центр нашей культуры. Американский экономист Дэвид Кортен выразил это так: money centered society – общество, центрированное деньгами[15]. В отличие от религии, видящей в этом стремлении господство низменной страсти, экономика обнаруживает здесь высшую рациональность, ведущую нас невидимой рукой максимизации прибыли. Поворот к такому представлению о ценностях приходится на XIII век. Христианство находится в высшей точке своего подъема. Одновременно возникает новая экономическая система, создающая мощную конкуренцию церкви: капитализм. Успех денежного хозяйства угрожал прежним христианским ценностям. Ибо его развитие, согласно историку Жаку Ле Гоффу, требует наряду с новой техникой еще и капитального использования приемов, издавна проклятых цер ковью[16]. Завязалась ожесточенная борьба за разграничение допустимой прибыли и недозволенного ростовщичества.
Деньги с их обещанием рая на земле становятся главным конкурентом христианской религии. И то, и то обещает спасение от земных страданий. Однако деньги предлагают это своим приверженцам при жизни, а церковь своим овечкам сулит небеса, что распахнут врата только после смерти. Религия апеллирует к всепрощению, солидарности и самоотречению, деньги будят корысть, расчет и соперничество. Согласно христианской традиции, деньги и религия есть ценности взаимоисключающие. Уже в Новом Завете мытарь Матфей, оставивший свой стол, полный денег, чтобы последовать за Иисусом, предостерегает: «Не можете служить Богу и мамоне»[17]. Позже Лютер, моральная инстанция для протестантов не только своей эпохи, обронил по этому вопросу мнение, эхо которого слышно и в двадцать первом веке: «Деньги – слово черта, посредством которого он творит все в этом мире, подобно тому, как Бог творит Своим Словом»[18]. И все же поворот от Бога к деньгам не сдержать. Деньги превращаются в орудие конкуренции, которое, в конце концов, совершает то, что, в сущности, доступно только Богу: они правят миром, определяя его смысл и направление[19].
Очевидное сходство внешней формы и внутренней логики религиозных и монетарных практик облегчает людям переход от Бога к деньгам. Церковь сама продемонстрировала, как наполнить новым содержанием существующие формы, приобретя при этом сторонников. В подражание языческим ритуалам, она разработала суггестивную литургию, которой надлежало донести до людей христианское чувство бытия и бытие христианского чувства. В Святом Причастии происходит превращение просфоры в Тело Христово и вина в Кровь Христову. Преображение ничего не стоящего в нечто ценное находит свое продолжение в монете. Однако не только просфора и монета поражают внешним подобием и подобием их символиче ских свойств. Финансовые и теологические понятия обнаруживают замечательное сходство: доверитель и верующий, кредит и credo, покупка и искупление, потребитель и треба. Обе системы основаны на вере. Денежная система тоже ослабевает, когда угасает доверие к ее валюте.
Неприязнь церкви к деньгам и взиманию процентов являлась не только вопросом морали. На карту была поставлена церковная власть. Феодализм представлял собой иерархически расчлененное общество, в котором каждому отводилось место согласно происхождению. Рождение королем, рыцарем, купцом, ремесленником, крестьянином или холопом определяло всю жизнь во всех отношениях: юридическом, политическом, экономическом, личном. Религия компенсировала изъяны в мире земном преимуществами по ту сторону и поэтому, в частности, обладала такой силой притяжения. Деньги привносили движение в статичную общественную систему, расшатывая социальные связи и тем давая простор для проявления личности. Так, крестьянин, вместо того чтобы отбывать барщину, мог расплатиться деньгами. Возможность выбора освобождала от пут, в которых держали его повинности[20]. Однако противиться роли, предначертанной Господом, означало противиться не только Божественной воле, но и установившемуся общественному порядку, на столпах которого покоилось могущество церкви. В Библии сказано: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатым войти в Царство Божие. Тем более это относилось к ростовщикам, умножавшим свои капиталы взиманием запрещенных церковью процентов. Во Флоренции XV века банкир Козимо Медичи обнаружил средство, оправдывающее перед Богом этот грех и гарантировавшее спасение души в потустороннем мире наряду с укреплением власти в этом. Этим средством было искусство. Меценатство Медичи, поощрявшее художников, которые своими работами создали эпоху Возрождения, было гибридом деловитости, инстинкта власти и страха Божия.
В эпоху Возрождения расцвело, в корне преобразовав общество, денежное хозяйство. Символ его триумфального шествия, монета, попал, наконец, в руку каждому. Начавшееся при этом бурное развитие купеческого класса тесно связано с борьбой против привилегий и феодальных институтов. Ему сопутствуют новые концепции просвещения и гуманизма относительно идеи и практического осуществления политической свободы личности. Перед деньгами все равны. С ними здравый смысл побеждает веру. Просвещенные души, подобные Вольтеру, осознают интеграционную, экуменическую, в церковной терминологии, силу денег. В шестом «Философском письме» Вольтер предлагает антагонистам религиозных дискуссий отправляться вместо церкви на лондонскую биржу: «Если вы придете на лондонскую биржу – место, более респектабельное, чем многие королевские дворы, – вы увидите скопление представителей всех народов, собравшихся там ради пользы людей: здесь иудеи, магометане и христиане общаются друг с другом так, как если бы они принадлежали одной религии (…) Здесь пресвитерианин доверяется анабаптисту, и англиканин верит на слово квакеру»[21].
С победным шествием денежного хозяйства возникла необходимость отличать финансовую ценность от прочих форм ценного. Ибо функция денег, выражающая ценность товаров друг относительно друга, к реальной ценности отношения не имеет. Так, между XIV и XVI веками в английском языке слово pris, от латинского pretium (цена, плата, выкуп), превратилось в три слова с различными значениями: praise, prize, price. Praise означает «похвала», prize – «награда», price – выраженная в деньгах меновая стоимость[22]. Слово priceless – «бесценное» – впервые вложено Шекспиром в уста Шейлока, мстительного купца из Венеции, выразившего таким образом свою антипатию деньгам. Слово это обозначает ценность, которую невозможно выразить деньгами, потому что она лежит за пределами рыночной сферы, определенной обменом, предложением и спросом.
Опционы Semper Augustus. Бум и крах
Дух денег, именуемый в Библии мамоной, не только активизировал рациональный ум. Он мобилизовал наши инстинкты и высвободил первичные человеческие энергии. В их сердцевине лежат те экономические нормы, которые французский философ Пьер Клоссовски называет «формой выражения и воспроизведением инстинктивных сил»[23]. Капитализм, по определению американского экономиста Лестера Турова, пророс из алчности[24]. Это ось, вокруг которой крутится колесо капитализма, где главное – деньги и их преумножение. Колоссальное притяжение алчности порождает как успех, так и провал. Алчность заставляет предпринимателя брать на себя финансовые риски и учреждать новые фирмы. В сочетании с оптимизмом – верой в собственный успех – алчность ведет к циклам сверхинвестиций и спадов, к рискованным сделкам и банкротствам. История капитализма – это захватывающая история как технологического прогресса и материального пресыщения, так и нестабильности, катастроф и бедности. Ведь рынки не всегда функционируют с заранее рассчитанной точностью математических формул, а люди – не постулированные экономистами рациональные потребители. Связанная со стадным поведением алчность ведет не только к здоровому росту экономики. Она вызывает экономические кризисы, ведет к бумам и крахам. И то и другое – имманентные признаки капитализма. Только в XIX веке экономист Чарльз Киндлбергер насчитал двадцать восемь финансовых кризисов[25]. Финансовые катастрофы уходят корнями в самую глубь истории капитализма. От тюльпановой мании в Голландии XVII века и мыльного пузыря «Компании Южных морей» в Великобритании XVIII века, где среди проигравших был и великий рационалист Исаак Ньютон, до мирового экономического кризиса 30-х годов XX века – во всех этих случаях трудно объяснить поведение реальных участников рынка. Динамика этих событий подобна какому-то метеорологическому явлению и, в конце концов, не оставляет людям времени действовать.
Один из таких приводимых в движение иррациональной алчностью тайфунов пронесся в XVII веке над Нидерландами и оста вил после себя, наряду с многочисленными новыми сортами тюльпанов, бесчисленные разбитые вдребезги судьбы. Тюльпаны, прекрасные формы и цвета которых прежде восхищали только горстку знатоков, за несколько лет превратились в цветочные акции, владение и торговля которыми стали массовой азартной игрой, где царила алчность, а на карту были поставлены деньги и статус. Тюльпан менял роли от священного цветка, в чьей красоте открывалось божественное совершенство, до символа престижа, избранного за редкостное богатство красок, и объекта спекуляции, ставки на будущее, которая переходила от владельца к владельцу только в виде невзрачных луковиц.
Тюльпан попал в Голландию в XVI веке из Османской империи. В центре мусульманского рая находился сад, и форма тюльпана почиталась в запрещавшей изображения исламской культуре идеалом высочайшего искусства. Это был цветок Аллаха, сначала объект благоговейного любования, а позже символ престижа господствующего класса. Да и в Голландии обладание экзотическим луковичным растением было вначале привилегией немногочисленной высшей прослойки общества. В двадцатые годы XVII столетия увлечение тюльпанами стало распространяться от богатой знати и состоятельных торговцев на все более широкие слои населения и вскоре охватило ремесленников, крестьян, батраков и служанок. Пристрастие к тюльпанам стало манией, и луковицы превратились в объект спекуляции. Растущая торговля и разведение тюльпанов утоляли алчность голландцев до этих модных цветов. В первом ряду были пламенно-яркие красно-белые Semper Augustus. Процветала торговля опционами, и уже зимой можно было приобрести луковицы тюльпанов, которые взойдут только в июне. В период ожидания права владения сменялись на бумаге. Весь народ мечтал о быстром и легком обогащении. Менее состоятельные общественные классы часто поневоле расплачивались за луковицы не деньгами, а товарами. Один крестьянин за две луковицы тюльпана сорта «Вице-король» расстался почти со всем своим имуществом: большим количеством пшеницы и ржи, четырьмя быками, восемью свиньями, двенадцатью овцами, четырьмя бочками масла, кроватью, серебряным кубком и кое-какой одеждой[26]. В апогее тюльпаномании всего за четыре луковицы тюльпана был продан шестиэтажный дом на канале. Всего за несколько дней до этого дом можно было купить за восемь луковиц черного тюльпана. Здравый смысл говорил каждому, что столь высокие цены долго не продержатся. И все же тот, кто в данный момент уже продал свои луковицы, терял тем самым шанс еще удвоить свою прибыль. Большинство участников рынка руководствовалось не здравым смыслом, но лишь собственными желаниями и иллюзиями. Несмотря на резкую критику со стороны кальвинистских проповедников, тюльпаномания в Нидерландах продолжалась, пока в феврале 1637 года не закончилась крахом.
Джекпот в искусстве. Коллективная ставка
Крах есть следствие финансовой пирамиды, которая, в свою очередь, является следствием избыточного привлечения денежных средств в некоторый инвестиционный проект. Цены на рынке искусства первоначально растут не потому, что произведения становятся ценнее сами по себе, а потому что на рынок течет больше денег. Джекпот растет вместе со ставками игроков. Рост цен на художественном рынке, в принципе, не что иное, как увеличение суммы инвестированных игроками в искусство денег. Разнообразны причины, по которым деньги устремляются на рынок искусства. Во-первых, это оживление на биржах, ведущее к тому, что бьющая через край прибыль с акций инвестируется в искусство. С другой стороны, деньги бегут из рецессивных областей вложения и выплескиваются на рынок искусства. Грозящая инфляция также вынуждает наличные день ги укрываться в надежной гавани реальных инвестиций, к которым относят и художественные произведения. Результат один и тот же – растущие цены на искусство.
В 2005 году товарооборот аукционов, торгующих искусством, вырос более чем на четыре миллиарда долларов. Почти на 90 процентов художественных работ цены не превышали 10 тысяч евро, за общий прирост оборота в первую очередь ответственен верхний ценовой сегмент[27]. Такая тенденция наблюдается уже несколько лет. Покупатели, способные выложить от 5 до 18 тысяч евро, трижды проворачивают свои деньги, прежде чем купить произведение искусства, – еще в 2003 году на выставке искусства Art Basel заметил галерист Матиас Арндт. Те же, напротив, кто может предложить за работу более 100 тысяч евро, покупают сразу[28]. Число коллекционеров, тратящих на произведения искусства огромные суммы, продолжает расти. В 2005 году 477 работ было продано более чем за миллион долларов. Уже в первом полугодии 2006 года 454 работы преодолели миллионный барьер. Большая их часть ушла с молотка в Нью-Йорке. Там цены только за один год выросли почти на 50 процентов[29].
Источник: Prices continue to rise in June // Art Market Insight (June 2005), Artprice.com
Неудивительно, что планка прежде всего поднимается в верхнем ценовом сегменте, ведь он отражает наблюдаемое с семидесятых годов перераспределение доходов и состояний в западном обществе. В США эта тенденция особенно бросается в глаза. Согласно исследованию Эммануэля Саеца из Калифорнийского университета в Беркли и Томаса Пикетти из парижской Эколь Нормаль, реальный доход девяноста процентов американцев с 1973 до 2000 года упал на 7 процентов, в то время как доход 1 процента самых богатых вырос на 148 процентов. Доходы верхних 0,1 процента выросли на 343 процента, а элита стяжателей, составляющая 0,01 процента, порадовалась приросту доходов на 599 процентов[30]. Доля верхнего процента в совокупном доходе населения выросла с 1980 по 2004 год с 8 до 16 процентов. То есть богатейшие американцы получают сегодня такую же часть совокупного дохода, как сто лет назад[31]. Согласно исследованию Федерального резервного банка Бостона, помимо спада социальной мобильности между классами[32] и того факта, что все большая часть населения США имеет повод усомниться в истинности американской мечты, очевидна возрастающая аккумуляция богатства, что, в частности, зримо проявляется во все выше взвинчивающейся спирали цен на художественном рынке.
Неравенство – отличительный признак капиталистической экономики. Его еще в XIX веке отметил Герберт Спенсер и дал вдохновленное эволюционной теорией Чарльза Дарвина определение: the survival of the fttest – выживание наиболее приспособленных. Еще более, чем в доходах, неравенство проявляется в капиталистическом распределении имущества. Рекордное на настоящий день частное имущество Германии в 5 триллионов евро наполовину принадлежит богатейшим 10 процентам. Менее 4 процентов денег и ценностей выпадает на долю нижней половины частных бюджетов[33]. Богатство сливок общества еще более увеличивается за счет наследств. Десятилетиями накапливающиеся богатства передаются в США и Европе от поколения к поколению. По оценкам экспертов, грядущий переход имущества окажется крупнейшим в истории. Пол Шервиш и Джон Хэвенс из Бостонского колледжа полагают, что только в США с 1998 до 2052 года по наследству должно перейти от 41 до 136 триллионов долларов – даже минимальная оценка в 4 раза превышает общую нынешнюю производительность американской экономики[34]. Статистика отчетливо показывает, насколько неравномерно распределяется это богатство. 4,9 процента семей владеют состоянием более 1 миллиона долларов. Чем выше поднимаешься, тем разреженней воздух. Состоянием, превышающим 20 миллионов долларов, обладают всего 0,4 процента семей. 45 процентов семей, владеющих состоянием от 1 до 10 миллионов долларов, часть своего состояния унаследовали. Только каждая пятая американская семья получила наследство, и из этих 20 процентов лишь 1,6 процента унаследовали больше 100 тысяч долларов. Да и в Германии более половины населения остается без наследства: здесь что-то унаследовали около 45 процентов жителей[35]. Часть этого богатства ушла на приобретение предметов роскоши и взвинтила цены на те статусные символы, обладание которыми издавна определяет принадлежность к элите: на искусство.
Картины на черный день. Искусство как капитал
На искусстве спекулирует не только узкий круг инвесторов. Сегодня операциями с капиталом в форме произведений искусства занимаются, помимо торговцев и галеристов, банки, аукционные дома, художественные и инвестиционные журналы. Возникает спектр, сравнимый с классическим финансовым продуктом и охватывающий все возможные операции между консервативным сохранением капитала, рискованной инвестицией и спекулятивным вложением денег. В качестве консервативной инвестиции с низкой прибылью годятся старые мастера и классический модернизм, для инвестиций, ориентированных на высокий рост, используют добившихся успеха современников, для спекуляций подходит молодое современное искусство. Желательно распределение рисков посредством диверсификации – вложения денег в соответствии с теорией портфеля в работы различных художников и различных эпох[36]. Спекуляция искусством стала реальностью. В зависимости от того, желает продавец извлечь прибыль в короткий срок или рассчитывает на долгосрочный доход, он занимается спекуляцией или инвестицией.
Рынок ссудных капиталов тоже вскочил в отходящий поезд. Масса недавно основанных художественных фондов свидетельствует, что на денежном рынке произведения искусства достигли статуса самостоятельной инвестиционной категории. Fine Art Fund (Фонд изящных искусств) со штаб-квартирой в Лондоне объявил о первом закрытии с балансом 150 миллионов долларов и выступил уже как покупатель на аукционах. С июля 2004 года в искусство инвестируется два миллиона долларов ежемесячно. Художникам фонда вменяется в обязанность самим хранить работы, оплачивая аренду. Фонд Fernwood Art Investment, основанный ветераном Merril Lynch & Co. Брюсом Таубом, в ближайший год должен со брать 100 миллионов долларов. Инвесторы входят в дело с суммами, превышающими 250 тысяч долларов. С 2003 года основано более дюжины арт-фондов, от швейцарского Art Collectors Fund и ArtVest со штаб-квартирами в Женеве и Нью-Йорке до управляемого голландским банком ABN Amro фонда China Fund. Как заметил Брюс Тауб, это еще один шаг к демократизации вложения денежных средств[37]. Таким образом, мир живописи и скульптуры открылся для тех инвесторов, за которыми нет ни финансовых резервов в виде веками существующих фирм, ни прав на нефтяные скважины. Вследствие такой фондовой активности в ближайшие десять лет на художественный рынок должно выплеснуться более 10 миллиардов долларов.
Что дорожает. Бойня на аукционе
Триумфальное шествие молодого искусства не так ново, как кажется. Бум восьмидесятых уже взвинтил цены на искусство до головокружительной высоты. Звездами американского художественного рынка были Жан-Мишель Баскиа, Эрик Фишл, Кийт Херинг, Роберт Лонго, Дэвид Саль и Джулиан Шнабель. В Германии – Эльвира Бах, Йорг Иммендорф, Маркус Люперц, Пенк, Саломе, в Италии – Сандро Чиа, Франческо Клементе, Энцо Куччи, Миммо Паладино. В апогее бума 100 000-долларовый барьер преодолели 28 художников моложе 45 лет.
В фильме «Уолл-стрит» Гордон Гекко в исполнении Майкла Дугласа провозглашает лозунг десятилетия: Greed is good. Жадность – это хорошо. Выражение это восходит к докладу, прочитанному Айвеном Боэски в 1985 году перед выпускниками экономи ческого факультета Калифорнийского университета. Боэски, прототип персонажа Оливера Стоуна, в 1986 году был приговорен к тюремному заключению за инсайдерские махинации. Да и в действительно сти биржевая игра на повышение производила деньги и жадность в невообразимых количествах. И то, и другое распространялось и на художественный рынок. Деньги охотились за искусством. Коллекцио нирование искусства стало социально приемлемой формой жадности. Что искусство представляет собой наиболее изящную форму продемонстрировать экономическую мощь, выучили даже самые невежественные из тогдашних биржевых миллионеров. Представление о ценности искусства получило новое неожиданное значение: инвестируй сейчас и продавай позже по более высокой цене. В глубине художественной работы заблестели деньги. Новые коллекционеры выстраивались в очередь за произведением искусства точно так же, как за билетом на поп-концерт. Воодушевление искусством охватило и прочее население. В 1983 году музей Метрополитен посетили 4,5 миллиона человек. Всего же в США насчитали 40 миллионов паломников храма искусств. В Германии в конце десятилетия стало на треть больше галерей и на 60 процентов больше художественных обществ, нежели в начале[38]. Новые музеи росли как грибы после дождя. Товарооборот современного искусства возрос более чем вдвое.
С 1985 года, когда йена сильно поднялась по отношению к доллару, рынок искусства захлестнула волна японских денег. Скачок цен оказался достаточным, чтобы вызвать следующий. В 1988 году более половины мирового аукционного товарооборота пришлось на долю японских покупателей. Банки начали принимать произведения искусства в качестве обеспечения кредитов. При оценке искусства устанавливались условные котировки, и закладывалось оно за выдуманные суммы. Когда в апреле 1990 года ослабел на Токий ской фондовой бирже индекс Никкей, лопнул и пузырь рынка искус ства. Уйма купленных за астрономические суммы художе ственных произведений сбывалась в бешеной спешке. Среди прочих и «Порт рет доктора Гаше» Винсента Ван Гога. Мировой сенсацией стало его приобретение на аукционе в 1990 году японским бизнесменом за 82,5 миллиона долларов. Но едва ли кто знает, что всего через несколько лет картина тайно поменяла владельца за четверть этой цены[39].
Аукционы осени 1990 года стали бойней для современного искусства. 6-го ноября на нью-йоркском аукционе Sotheby’s отправилась на плаху «Ан в испанском пейзаже» («Anh in a Spanish Landscape») Джулиана Шнабеля. В 1989 году эта большая работа была куплена в Лондоне одним канадцем за 225 тысяч долларов. Затем ее выставили на продажу в нью-йоркской галерее за 650 тысяч долларов. Покупателей нет. Наконец владелец передал картину Sotheby’s, и там ее оценили достаточно, с их точки зрения, низко: 350–450 тысяч долларов. Не поднялась ни одна рука. После мимолетного замешательства аукционист Джон Марион провозгласил новую цену: 210 тысяч долларов. Покупателей нет. Должно было пролиться еще больше крови. Картину Ротко, оцененную в 2,2 миллиона долларов, не купили и за 1,25 миллиона. Остались непроданными все выставленные Уорхолы. За Эрика Фишла, одного из самых ярких метеоров десятилетия, едва выпросили 300 тысяч долларов, половину начальной цены. 56 процентов выставленных на продажу работ не нашли покупателей. Остальные израненными покинули поле боя. Звезда аукциона, «Третья картина» («Third Time Painting») 1961 года Роберта Раушенберга ушла за 3,08 миллиона долларов, после того как запрашиваемая цена была снижена на миллион[40].
В ноябре 2005 года сетевая информационная служба Artprice.com сообщила из Нью-Йорка: цены на искусство поднялись выше, чем в 1990-м. Поднявшись в 2004 году на 18,5 процентов, в 2005-м аукционные цены взлетели на 34,5 процента. В мае 2006 они уже были на 56 процентов выше уровня лета 1990, когда спекулятивный пузырь достиг апогея[41]. Всего через несколько месяцев рынок искусства претерпел коллапс. Память коротка, воспоминания милосердны. И рынок полон молодыми покупателями, которые не помнят о черном дне 1990 года. Можно добавить, что тот, кто не помнит прошлого, проклят судьбой пережить его вновь.
Для тех, кто не потерял память, у Эдварда Долмана, директора аукционного дома Christie’s, есть добрая весть. Нынешний бум на художественном рынке покоится не на иррациональном поведении учреждений, а на рациональном выборе отдельных собирателей[42]. Правда в том, что сегодня вместо монолитных капиталов нескольких крупных предпринимателей из Японии, рынок подстегивают рассеянные по всему миру богатства американских нуворишей, европейских наследников, русских олигархов и новых китайских капиталистов. Есть и плохая весть: хотя художественные рынки сегодняшней Америки, Великобритании, Германии, России и Китая отличаются от рынков восьмидесятых и девяностых годов, их ценовые спирали обнаруживают ту же динамику. Несмотря на то, что рынок искусства изменяется, подчиняясь художественной моде и конъюнктурным колебаниям, а его актеры сменяются в силу естественной смены поколений, фундаментальные принципы остаются неизменны.
Повсюду Понци. Динамика художественного рынка
Художественный рынок, как и биржа, представляет собой сложную социальную систему. И там и там возможна существенная динамика цен в тех случаях, когда достаточное количество актеров действует настолько согласованно, чтобы образовать партии. Как правило, динамика цен является непреднамеренным результатом суммы отдельных преднамеренных сделок. Американский экономист Роберт Шиллер исследовал факторы, приводящие в действие рыночные спекуляции и ведущие к буму и краху. Он различал внешние факторы, ведущие к тому, что рынок получает дополнительную ликвидность, структурные факторы, вызывающие и ускоряющие спекулятивное развитие, и психологические факторы. В основе его теории простая модель обратной связи. Она объясняет, при каких обстоятельствах движение цен на рынке акций, рынке недвижимости и прочих спекулятивных рынках проявляет собственную динамику. Одним из этих «прочих» является рынок искусств. Так же, как и на рынке недвижимости, спекуляция происходит лишь на одном, совершенно конкретном сегменте рынка. На рынке недвижимости к буму и спекуляции восприимчивы метрополии. Ажиотаж охватывает Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Барселону или Сидней. В искусстве речь идет о добившихся успеха именах или модных стилистических направлениях.
Понятие обратной связи пришло из техники. Оно означает самопроизвольное усиление сигнала. Каждый знает усиливающийся пронзительный звук, возникающий, когда подносишь микрофон слишком близко к соединенному с ним динамику. Похожий эффект возникает на спекулятивных рынках, как только поднимаются цены, только реакция обратной связи растягивается здесь на годы, и первоначальный возбудитель может быть настолько далеко во времени от собственных последствий, что невозможно представить себе, что именно он и вызвал это движение цен.
Часто возникновению ценовой спирали предшествует некая история. Существует так называемая система Понци, суть которой состоит в том, что инвесторам сперва предлагают историю о том, как можно добиться заманчивой прибыли. В 1920 году Карло Понци поведал своим инвесторам о возможности извлечения прибыли из продающихся в любом почтовом отделении международных купонов. Эти купоны можно было приложить к письму за границу, заранее оплатив ими ответ. Здесь действительно имелся определенный потенциал: можно было извлекать прибыль, покупая такие купоны в Европе и продавая в США, поскольку обменный курс валют не вполне соответствовал цене купона в разных странах. Схема Понци, опубликованная в газетах, показалась некоторым влиятельным людям вполне убедительной. А прочие вошедшие в дело вообще долго не раздумывали, ибо, увидев, что другие получают прибыль, сразу уверовали в грядущий выигрыш. Таким образом Понци всего за 7 месяцев приобрел 30 тысяч инвесторов и выпустил акций на сумму 15 миллионов долларов.
Загвоздка была в следующем шаге. Потенциальная прибыль не могла быть получена, потому что не было никакой практической возможности снова продать купоны. Только когда директор нью-йоркской почты разъяснил, что продажа всего всемирного запаса международных купонов не принесет и малой доли обещанной Понци прибыли, обман раскрылся. То, что весь доход в подобного рода предприятиях поступает исключительно за счет платежей обманутых вкладчиков, не лишило многих из них веры в легкое обогащение[43].
Понци повсюду. И речь тут не только о предпринимателях, ставящих перед собой мошеннические цели, и манипуляторах, целенаправленно распространяющих полуправду. Полуправда циркулирует на любом рынке. И на рынке искусства, который издавна приводится в движение историями. Галеристы рассказывают, как собиратели, покупая и продавая произведения искусства, за десять лет удесятеряют вложенный капитал, газеты сообщают о рекордах на аукционах, искусствоведческие журналы подкидывают горячие факты, свидетельствующие о подъеме художественного рынка, сетевые издания провозглашают двенадцать золотых правил инвестирования в искусство, арт-индексы в реальном времени распространяют новости об изменении цен в интернете.
Так же, как на рынке акций, общественное внимание является основным условием возникновения финансовых пирамид на рынке искусства. Ведь значительная динамика цен возникает только в том случае, когда достаточное количество участников рынка думает в одном направлении. Наряду со слухами, средства массовой информации остаются центральным органом распространения идей. Так, возникновение «тюльпаномании», первой в истории финансовой пирамиды, по времени совпало с появлением регулярно выходящих газет. Сегодня существуют не только искусствоведческие журналы и издания для коллекционеров. В экономических журналах есть рубрики об инвестициях в искусство, светские сообщают о событиях в мире искусств и карьерах его главных героев, сетевые издания информируют об уровне цен и товарооборота по рыночным сегментам – старые мастера, классический модернизм, современность – и по отдельным художникам. Средства массовой информации фокусируют общественное внимание и отвечают своим пользователям на вопросы, что именно сейчас востребовано. Живопись? Фотография? Информель? Флюксус? Факты это или полуправда – всегда находятся люди, которые извлекут выгоду, пустив в обращение информацию о растущих ценах. И когда цена на какого-то художника вырастает в несколько раз, инвесторы вознаграждаются, а их предположения подтверждаются, равно и предположения тех наблюдателей, кто пока не решился вкладывать сам. Очевидность прибыли производит большое впечатление на мысль человеческую. Большинству людей самым убедительным доказательством надежности некой идеи кажется утверждение, будто кто-то с ее помощью уже обогатился. Столь же убедительные доводы против остаются без внимания. К тому же люди имеют склонность считать добавочным подтверждением той или иной истории совпадающие сведения, полученные ими из различных источников, даже при многократном цитировании одного и того же, как это обычно бывает в средствах массовой информации. Итак, покупайте искусство, и покупайте дорого. Потом продадите еще дороже.
Едва ли найдется тема, окруженная таким количеством полуправды, как тема инвестиций в искусство. Двумя самыми расхожими полуправдами этого десятилетия были исследование нью-йоркских профессоров Цзянпин Мея и Майкла Мозеса о динамике инвестиций в искусство и успех Британского железнодорожного пенсионного фонда, о которых, уподобляясь молитвенным мельницам, снова и снова упоминали бесчисленные газетные статьи и рекламные тексты арт-отделений банков.
Арт-индекс Мея – Мозеса доказывает, что повышение стоимости произведений искусства за последние 50 лет в среднем на 10,5 процентов в год обманчиво[44]. То, что на первый взгляд кажется убедительным, на самом деле упускает из виду два важных факта. Кривая динамики стоимости принимает во внимание только аукционные результаты реально проданных художественных произведений. Работы, не нашедшие покупателей, то есть те, реализованная стоимость которых равна нулю, статистика игнорирует. Дело не только в том, что многие аукционные дома просто не принимают массу произведений искусства, так как не рассчитывают выручить за них сколь-либо существенную сумму. Участие в аукционе тоже не гарантия продажи. Продать 75 процентов лотов считается успехом. То есть, минимум четверть принятых работ не находят покупателя[45]. Так же обстоят дела с издержками трансакций, где при реальной продаже произведений искусства до двадцати пяти процентов выручки уходит на счета команд профессоров-консультантов.
Британский железнодорожный пенсионный фонд, основанный в 1974 году с капиталом 40 миллионов фунтов и ликвидированный в конце девяностых с ежегодным доходом в 11,8 процентов, казался неопровержимым доказательством того, что инвестиции в искусство предвещают незаурядный доход. В то время как другие довольствовались результатом в 6,9 процентов, аукционный дом Sotheby’s рекламировал в своем бюллетене, что, выступая перед пенсионной кассой в двойной роли советника и аукциониста, он добился прибыли в 15,3 процента[46]. Несмотря на противоречивые интерпретации цифрового материала, три аспекта утаиваются: динамика стоимости Британского железнодорожного фонда была существенно усилена спекуляцией импрессионистами в восьмидесятые годы и в основном объясняется продажей пары дюжин полотен из 2245. Прирост стоимости капитала лишь на несколько процентов превышал темпы инфляции в Англии. И прибыль эта была съедена падением стоимости акций инвестиционного фонда того же Британского железнодорожного пенсионного фонда[47].
В той же мере соответствуют действительности и другие распространяемые средствами массовой информации сведения о художественных фондах. Между тем, подробно рассказывая о возникновении новых художественных фондов и прибыльных ожиданиях, редкие газеты уделяют достаточное внимание тому факту, что голландский банк ABN Amro, основавший мета-художественный фонд, который должен был соединить доли пяти ведущих фондов, в конце 2005 года прекратил свою деятельность. Также и фонд Global Art, основанный DG Bank Luxemburg S. A. и специализировавшийся на классическом модернизме и дизайне XX столетия, в 2001 году приостановил свою работу за отсутствием поступлений.
Даже если исходить из того, что искусство в среднем приносит доход 5–8 процентов годовых, лишь один процент предложений художественного рынка достигает доходности более 20 процентов годовых, еще 4 процента – более 10 процентов, следующие 5 процентов – более 5 процентов, то есть превышают доходность традиционных вложений. Для остальных перепродажа с прибылью – дело нереальное. 20 процентов в лучшем случае сохранят свою стоимость, оставшиеся 65 процентов будут убыточны[48]. С одной стороны, растущая популярность идеи инвестировать в искусство привлекает на художественный рынок новых покупателей. С другой стороны, она еще больше фокусирует внимание на тех предполагаемых 1–5 процентах художников, которые обещают большую прибыль.
Тем самым циркулирующие на рынке искусства деньги усиливают ту его особенность, которую экономисты называют Winner-Takes-All-Markt – победитель получает всё. Отличительный признак такого рынка – огромная разница цен при незначительной или вовсе несуществующей разнице в произведенной работе. Рынок делится на две части: маленький шумный сегмент с высокими и растущими ценами и большой низкоценовой сегмент, расширяющийся вследствие эрозии середины. Тут идет борьба за существование действующих в среднем ценовом сегменте галерей, у которых, вследствие растущих издержек – таких, как ставшее необходимым, в рамках глобализации, участие в международной выставочной карусели, – и снижающейся покупательной способности их клиентов из среднего класса, деньги уже на исходе. Ведь всеобщий бум на рынке искусств происходит далеко не везде. Он ограничивается всемирными торговыми площадками, на которые и приходится большая часть товарооборота галерей. Те, кто не могут туда пробиться и ограничиваются локальной клиентурой, борются за выживание на тонущем корабле снижающегося внутреннего спроса.
Пустой зал. Рынок и его искусство
В Средние века влияние на искусство оказывала церковь. Ян ван Эйк стал великим художником именно на службе христианской религии. В своих алтарных картинах он превратил библейские истории в своего рода божественный опыт и предложил своим заказчикам Всемогущего во спасение. В эпоху Возрождения направленный против Папы лаицизм Медичи нашел свое выражение в искусстве. В своих воспевающих телесное начало картинах Боттичелли придал ему чувственную форму. Именно так отражаются в искусстве условия занятого исключительно преумножением денег рынка. На оживленном рынке искусство – это продукт, успешный только тогда, когда в потоке предложений он немедленно привлекает внимание. Прос тота послания и мгновенность производимого впечатления играют центральную роль в соревновании за привлечение внимания. Стремление вызвать у зрителя мгновенную реакцию, установка на эффект ность обнаруживает параллели со стратегией рекламы. Хорошее для рынка произведение искусства – это то, которое раскрывается с первого взгляда. Ибо второй взгляд часто падает уже на следующее.
Взаимосвязь экономики, благосостояния общества и художественного рынка, а также их влияние на искусство не являются приметой исключительно нашего времени. Уже в Нидерландах XVII века обнаруживается связь между подъемом экономики, новообретенным богатством и ширящимся спросом на художественную продукцию. Растущий спрос оказал не только количественное, но и качественное влияние на художественную продукцию и ее потребление. Охват новых покупательских кругов, располагающих более чем достаточными деньгами, но недостаточно образованных для того, чтобы понять сложные отсылки к мифологии и аллегории, ведет к постепенной эрозии идейного содержания картин[49]. Стремительное увеличение спроса со стороны молодых, радостно потребляющих собирателей провоцирует соответствующие изменения в искусстве. «Современное искусство разработало единый глобальный язык, – радуется Самюэл Келлер, директор ярмарки Art Basel, – понятный и без художественно-исторической подготовки»[50]. Интеллектуальная глубина произведения играет против художника. Как утверждает опытная собирательница Ингвильд Гётц, неоднозначным художникам, создающим сложные работы, сегодня особенно тяжело. Часто они вовсе не попадают в первые строки художественных рейтингов или быстро вылетают оттуда, если вдруг срывается выставка или газеты не поднимают достаточно шума. Определенный сегмент сегодняшнего искусства уже капитулировал перед динамикой стремительного рынка. Они выбросили белый флаг и декларируют в проспектах выставок собственную бессодержательность: не ждите от меня откровений! Они ничего не скрывают. Король голый, но никто не замечает отсутствия нового платья. Другие художники отказываются от внешней эффектности и саморекламы и организуют выставки, которые не обещают ничего, кроме пустых выставочных залов.
Рынок меняет и условия художественного производства. Чем больше денег течет на рынок, тем дороже стоит производство пользующегося спросом товара под названием «искусство». Видеоискусство, прежде снимавшееся с минимумом затрат, теперь должно конкурировать с работами голливудского качества. Это стоит денег. Показательный пример – Мэтью Барни. Многомиллионным проектом были пять фильмов его масштабного цикла «Кремастера». Только для второй части цикла галеристка Барбара Глэдстоун предоставила художнику 1,7 миллиона долларов в качестве аванса за право на продажу ограниченного тиража DVD, плакатов и скульптур. Последняя часть потребовала около 4 миллионов долларов[51]. Помимо профессиональных актеров в проекте участвовали специалисты по спецэффектам, киноархитекторы и художники-костюмеры. Спорный вопрос, всегда ли искусство становится тем лучше, чем дороже его производство. Бесспорно лишь то, что оно становится дороже.
Современное искусство уже провозглашено «ведущей культурой». Многие считают, что впервые в истории интеллектуальным мейнстримом стало не искусство прошлого, а искусство современное. Взгляд в прошлое доказывает ошибочность такого мнения. Мало кто относился к искусству с большим уважением и восторгом, чем буржуазия конца XIX века. И немногие имели столько денег для его приобретения. А покупали разбогатевшие предприниматели, в первую очередь, современное искусство. Для поколения, верящего в будущее, во всеобщий и постоянный прогресс, интерес к современности был выражением его мироощущения. Северогерманский фабрикант Аренс, стальной барон Болков, производитель пилюль Холловэй и торговец хлопком Мендель соперничали друг с другом, поднимая все выше цены на картины, и тем обогащали современных им академических художников. Многие следовали их примеру. Суммы, отдаваемые за современное искусство, впечатляли. Журналисты провозглашали новый Ренессанс, финансируемый новыми Медичи[52]. Однако единственный вывод, который можно сделать из сложившейся тогда ситуации, заключается в том, что денежные вливания сами по себе не являются гарантией золотого века искусства. Охотничья сцена Эдвина Лэндсира, за чьи работы два поколения спустя едва ли можно было выручить несколько сотен долларов, стоила дороже «Мадонны в гроте» Леонардо. Забытый сегодня Лорд Лейтон стоил втрое дороже Боттичелли. За деньги, что были заплачены за такую пропитанную духом времени картину, как «Тень смерти» прерафаэ лита Уильяма Холмана Ханта, можно было купить всего Мане[53]. Тео Ван Гог продал в Париже картину брата за 100 франков, в то время как в той же галерее картина французского художника Альфонса де Нёвилля предлагалась за 150 тысяч франков[54]. Среди популярных в салонах английских нуворишей и широко продаваемых художников были Лоуренс Альма-Тадема и Эдвин Лонг. Своими картинами они удовлетворяли ориентализм и жажду роскоши, свойственные этому времени, и раз за разом попадали в яблочко. В 1875 году монументальное полотно Лонга «Ярмарка невест в Вавилоне» было объявлено сенсацией и с ликованием встречено членами Королевской академии. Через пять лет лишенная всяческого движения громада, изображающая торги белокожими красавицами на арабской ярмарке невест, была продана с молотка за рекордную сумму в 7350 фунтов. Сегодня остается недоуменно качать головой по этому поводу – как и по поводу викторианских виртуозов, которые, благодаря таким поклонникам, как автор мюзиклов Эндрю Ллойд Уэббер и поп-певец Элтон Джон, снова достигли рекордных цен. Нельзя не увидеть в нынешнем художественном буме некий современный вариант викторианского рынка искусства и не задаться невольным вопросом, кто будет Эдвином Лонгом наших дней.
Знаете ли вы, что такое кула? Трансформация ценностей
На первый взгляд сегодняшний художественный рынок кажется целиком и полностью продуктом западного новейшего времени. Однако при ближайшем рассмотрении внутренние его активные движущие силы обнаруживают бросающееся в глаза сходство с феноменом, который антропологи обнаружили у массим – племени, проживающего на островах близ восточной оконечности Новой Гвинеи. Практикуемая в тамошнем патриархальном обществе система обмена была впервые описана в 1922 году Брониславом Малиновским[55] и с тех пор обстоятельно задокументирована и проанализирована. В ходе обмена «кула» занимающие высокое положение в племенах мужчины меняют ракушки на ожерелья. Однако речь идет не о владении материальными объектами. Кула представляет собой символическую систему. Это своего рода игра, в которой предметы становятся посредниками статуса. В своем пути из рук в руки и с острова на остров ракушки выигрывают или проигрывают в цене в зависимости от того, кто ими владеет в настоящий момент. Также и люди, участвующие в обменной цепочке, повышают или понижают свою репутацию в зависимости от того, от кого именно получают они ракушки, отдают их или удерживают у себя. Прибавочная стоимость, которую с помощью своих стратегиче ских способностей стремятся извлечь аборигены при обмене, заключается не в вещах, а в статусе, который зарабатывается обменом ракушками и проявляется во владении ими.
Географическое перемещение ракушек кула с острова на остров обозначается термином «кеда». Кеда означает не что иное, как дорога, путь или тропа. Одновременно кеда – это отношения мужчин, связанных друг с другом посредством кулы. Эта проявляемая в обладании ракушками система отношений есть моментальный снимок социальной иерархии. Это результат всех предшествующих обменов, создающих, увеличивающих, уменьшающих или уничтожающих статус. Отсюда недалеко до борьбы покупателей в аукционном зале. Обмен ракушками для высокопоставленных аборигенов является тем же самым, чем стало коллекционирование произведений искусства для мировой денежной элиты. Здесь тоже речь идет об ограниченном круге участников. Признанных серьезных коллекционеров во всем мире не более двухсот человек.
Кула – это первобытная форма того, что антропологи называют «tournament of value» – состязание ценностей[56]. Почти всем обществам знакомы такие события, выходящие за пределы будничной экономики и облеченные в специально созданные формы. Участие в них является привилегией сильных данного общества и инструментом борьбы за статусное положение. Это относится и к «потлачу» североамериканских индейцев, ритуальному обмену подарками между вождями, и к схватке участников аукциона. Необходимым условием борьбы за трофей является ставка валюты, занимающей центральное место в стратегии выживания данного общества. На средневековых рыцарских турнирах на кон ставили соб ственную жизнь, в индейском полтаче – продукты питания, на современном художественном аукционе в жертву приносятся деньги.
Глава 2. Собиратель. Предмет вожделения
Если верно, что мы можем прожить лишь малую часть заключенного в нас, что же происходит с остатком?
Паскаль Мерсье «Ночной поезд на Лиссабон»Живопись для меня теперь значит не меньше, чем день ги.
Стив УиннТы ноль, если у тебя нет игрушки Фанзо.
Рекламный слоган из телевизионного сериала «Симпсоны»Чемодан, полный долларов. Роль денег
В 1931 году Вальтер Беньямин пророчил закат коллекционирования. Эта страсть несовременна, полагал он, и тип коллекционера вымирает. Как это часто случается с пророчествами, произошло прямо противоположное: собиратели торопятся заявить о себе и распоряжаются судьбами искусства, как никогда прежде. Большие собрания прошлого десятилетия были заложены именно част ными коллекционерами. Одна из причин банальна: искусство тянется к деньгам. Деньги – живительный эликсир для художественного рынка. И в то время как в музейных кассах хоть шаром покати, частные состояния раздуваются благодаря бьющей через край прибыли предприятий и накатывающим волнам наследств. Результат: деньги охотятся за искусством. Растущее богатство покупателей подгоняет цены. Ведь самым серьезным фактором ценообразования на художественном рынке являются доходы клиентуры. Поднимаются они на 10 процентов, и в среднем на 6 процентов подрастают цены на искусство[57]. Ответ на вопрос, почему работы Маурицио Каттелана за два года подорожали втрое, звучит так: коллекционер, едва ли способный в 2001 году заплатить один миллион долларов за гиперреалистиче скую скульптуру сраженного метеоритом Папы, два года спустя может выложить за нее три миллиона.
Глядя на список всемирно известных покупателей искусства, который ежегодно публикует нью-йоркский художественный журнал Art-news, можно спутать его с международным списком богатейших семей из журнала Forbes. Многие коллекционеры современного искусства, такие как грек Филип Ниархос или немец Фридер Бурда, являются богатыми наследниками. Другие тяжеловесы коллекционирования, вроде французского предпринимателя Франсуа Пино или американского менеджера хедж-фонда Стивена Коэна, нажили миллиарды сами. Художественный рынок – это так называемый deep-pocket-market. У того, кто хочет участвовать в игре, должны быть глубокие карманы.
Даже ради таких работ, о которых никто, кроме знатоков, понятия не имеет, запросто можно расстаться с пятизначной суммой. Что же говорить о птицах высокого полета, уже взявших ценовую планку в несколько сотен тысяч, или классиках модернизма, цены на которых окончательно преодолели силу земного притяжения и парят в невесомости миллионных сумм. Но хотя большинство коллекционеров, обладающих всемирно известными собраниями, являются миллионерами, это вовсе не значит, что большинство миллионеров являются коллекционерами. Коллекционирование – лишь одна из многих возможностей распорядиться лишними деньгами и временем.
Что заставляет собирателя отдать за произведение искусства кейс, полный долларов, евро или йен? Зачем кто-то платит 270 тысяч долларов за созерцание фотографии Андреаса Гурски с изображением пустого стеллажа фирмы «Прада», а другой – 140 миллионов долларов за разноцветные брызги на полотне Джексона Поллока? Почему собиратель, практически потерявший зрение, тратит на Пикассо голубого периода 105 миллионов долларов? Что значат для них эти предметы? Какова природа их темных желаний? Поверишь в колдовство, разгадывая эту загадку.
Об охотниках за черепами и собирателях искусства. Коллекционирование как универсалия
Если есть нечто, ради чего стоит жить, писал Платон, то это созерцание прекрасного. Этого достаточно для любителя искусства, но не для коллекционера. Даже если коллекционирование связано для него с созерцанием прекрасного, еще больше оно связано с настоятельным желанием прекрасным обладать. Немецкий коллекционер Кристиан Борос недвусмысленно формулирует: будучи собирателем, ты стремишься иметь[58]. В жажде обладания заключено различие между любителем и собирателем искусства, и дело тут, как мы уже догадываемся, не только в сумме наличных денег. Почему коллекционер копит вещи, в то время как вполне можно было бы удовольствоваться их созерцанием? На профессиональном языке юристов термин «обладание» означает фактическую власть субъекта над неким предметом. Владея чем-то, мы этим распоряжаемся. Составляет ли власть человека над вещью суть коллекционирования? «Для коллекционера, – писал Вальтер Беньямин, – обладание дает наиглубочайшую связь с вещами из всех возможных: не они в нем наполняются жизнью, он сам есть то, что в них живет»[59]. Для собирателя обладание становится прибежищем его Я, личной вселенной, где он единственный владыка. Не-собирателю это может показаться странным. Но при ближайшем рассмотрении бросается в глаза, что и в обычной жизни граница между «Я» и «Вещью» более расплывчата, чем принято думать.
Чтобы исследовать глубинные причины коллекционирования, мы нырнем в темные воды души. В стихии психики, в экзистенциальной неуверенности и метафорической фантазии, составляющих флюид магического мышления, обнаруживается поразительное соответствие между охотниками за черепами примитивных сообществ, средневековыми собирателями реликвий и современными коллекционерами. С точки зрения их обладателя, череп презирающего смерть врага, мощи мученика или оригинал гениального художника куда более схожи, чем кажется. Будь то череп, кости или произведение искусства – речь идет о неком объекте, который в представлении владельца обладает силой, переходящей на него, и удовле творяет какую-то элементарную потребность. Чувство одиночества, опыт бессилия, потребность в исключительности, желание причаст ности – всё это, согласно американскому психоаналитику Вернеру Мюнстербергеру, душевные состояния недостаточности, для их устранения всегда требуется подходящий объект.
Первичная сцена с плюшевым медвежонком. Любовь к предмету
В основе всякого коллекционирования лежит перенос эмоций на безжизненный объект. Почти у каждого в детстве был плюшевый медвежонок. Для большинства он был спутником, другом и утешителем. Плюшевый медвежонок – это первая вещь, которую мы пробуждаем к жизни силой наших чувств. Эта первая love story между человеком и предметом – не только «тренировка на суше» в деле любви, которую мы в течение нашей жизни будем отдавать людям и разным другим живым существам, карликовым кроликам или питбулям, но и начало пылкой привязанности к вещам. Это могут быть детские игрушки или кораллы, штопоры или произведения искусства. В глазах своего владельца эти предметы одушевлены точно так же, как фетиш для меланезийца или реликвия для верующих средневековья. Канадский коллекционер Идесса Хенделес в качестве «преди словия» к своей выставке Partners вывесила более 3000 фотографий детей с плюшевыми медвежатами. Ими были полностью оклеены два зала в мюнхенском Доме искусств (Haus der Kunst), и где-то среди них информированный посетитель мог обнаружить две фотографии маленькой Идессы. Берет ли начало эта своеобразная инсталляция в сознательном обращении к «первичной сцене» всякой страсти к собирательству, или в бессознательном ощущении – простая случайность здесь маловероятна.
Магические предметы служат защитой от чувства уязвимо сти. Покупая, владея, распоряжаясь ими, мы обретаем иллюзию контроля над тем, что, как мы законно опасаемся, нашего контроля избегает. Каждое общество практикует свои заклинания от колдовства и заговоры от дурного глаза. В представлении меланезийского охотника за головами, в черепе убитого врага находится так называемая «мана», невидимая сила, в которой нуждается воин, чтобы стать непобедимым. Точно так же мощи мученика для средневекового христианина обладали энергией, представляющей собой неисчерпаемый ресурс божественной защиты. И тот же перенос используется в рекламе. Там превозносятся такие качества, как сексапильность, красота или богатство, якобы переходящие к покупателю вместе с приобретаемым товаром. Этот метод, называемый «эмоциональным брендингом», не может отрицать свою близость к магии. В чистом виде с ним и сегодня можно встретиться на «рынках ведьм» Мехико или Оахаки. Там за несколько песо можно купить магический порошок в бумажном кулечке, подписанном «любовный порошок» или «притягивающий деньги порошок». Его нужно втирать несколько раз в день. Картинки на пакетике показывают результат: женщина, преклонившая колени перед мужчиной, рог изобилия, из которого на счастливчика изливаются монеты и купюры. Сходство с телевизионной рекламой очевидно: дезодорант катапультирует своего владельца в гущу сексуально озабоченных красоток, акционерный фонд наколдовывает вожделенные целевой группой объекты: Мерседес Олдтаймер для бездетной пары, парусную яхту для пенсионера. Бритье в «стремительном стиле Феррари» подобно кругу по гоночной трассе Нюрбургринг и придаст владельцу подержанного автомобиля вид вожака стаи.
Можем ли мы поставить в тот же ряд магических предметов работы художников? Что за сила от них исходит? На чем основан их статус самого дорогого товара нашей культуры? Прежде всего, произведение искусства уникально: это выражение мироощущения и творчества одиночки. Оно олицетворяет идеал, находящийся в центре нашего модернизма, выросшего из Возрождения, Просвещения и Романтизма: идеал свободного творящего индивидуума. Человек стал инициатором мира. А мир перестал восприниматься как данный Богом порядок, который человек должен сохранять, теперь он объект, человеческой волей изменяемый и конструируе мый. Он более не данность, воспроизводящая себя по своим соб ственным законам, пишет Петер Слотердайк, но «стройплощадка, меняющаяся согласно человеческому замыслу». В этом вавилонском столпотворении гений и инженер становятся «ведущими фигурами беспримерного воодушевления человека самим собой»[60]. Произведение искусства становится не только символом изобразительной силы художника, но символом человеческого творчества вообще. Ибо «в работах вселенные возникают наравне со Вселенной, позволяя своим создателям становиться богами наравне с Богом». В произведении искусства современное общество прославляет веру в свою силу, мир, складывающийся по его воле, и условия, при которых человек сам творец своего счастья.
Земля желанная. Эвокативная сила вещей
Если верно, что мы можем прожить лишь малую часть заключенного в нас, что же происходит с остатком? – спрашивает писатель Паскаль Мерсье. В фильме «Гражданин Кейн» ответ на этот вопрос заключается в загадочном слове, произнесенном Кейном перед смертью: rosebud – розовый бутон. Орсон Уэллс, изобразивший в своем шедевре газетного магната и коллекционера Рэндольфа Херста, показывает тоску по этому остатку как скрытую силу, из самой глубины души подгоняющую человека. Заключительная сцена фильма происходит в гигантском вестибюле замка Кейна, загроможденном бесчисленными ящиками с художественными произведениями. «Если сложить все это: дворец, картины, скульптуры, – спрашивает один из присутствующих, – что могло бы из этого получиться?» «Rosebud, – отвечает журналист, ищущий ключ к личности Кейна. – Ведь rosebud это либо то, что Кейн так и не получил, либо то, что он утратил». Камера переходит на одного из рабочих. Он вытаскивает из груды хлама старые детские санки и кидает их в огонь. В ярком пламени мы видим опаленный росчерк Rosebud и вспоминаем начало фильма, где маленького Кейна, катающегося на санках, забирает приемный отец, навсегда вырвав из рук матери.
Фильм высвечивает темную сторону луны: иррациональную и эскапистскую сторону коллекционирования произведений искусства. Эвокативная сила вещей является также и базисом современного потребления. Антрополог Грант Маккрэкен для описания этого явления использовал понятие displaced meaning – «смещенный смысл».
В каждой культуре существует расхождение между идеалом и реальностью. Так как идеалы не могут устоять перед действительностью, они из будничной жизни переносятся туда, где остаются реальными, но в то же время неприкосновенными. Для надежного хранения таких важных, но нереализуемых идеалов простран ственно-временной континуум держит наготове много подходящих мест: небесный рай, золотой век, общественную утопию. В обществе потребления ворота в этот совершенный мир открываются покупкой товаров. Уильям Лич пишет в книге «Земля желанная» («Land of Desire»), как в США XIX века изобретение универмагов, рекламы и маркетинга возвестило начало эпохи массового потребления, утолив спрос на самое необходимое и направив его на сокровенные людские мечты. Только создание мира иллюзий из сверкающих на витрине товаров и сказочно-прекрасные рекламные обещания могли, обеспечив необходимый спрос, полностью исчерпать возможности промышленного массового производства. С переходом к формам производства, все теснее сплетенным с нуждами потребителя, капитализм одарил взращенные под его звездой общества необозримым ассортиментом товаров. Еще в прошлом столетии индейцы навахо обходились 263 видами предметов[61], а сегодня в одном только каталоге «Отто» представлены 36162 различные группы товаров и около 125 000 предметов. На сетевом аукционе eBay мы можем, находясь в любой точке планеты, выбирать из 10 миллионов объектов в тысячах категорий. Сегодня целые отрасли, от индустрии дизайна до рекламы, заняты исследованием наших сокровенных желаний и разработкой новых идей, именно результатами этих исследований в значительной степени и определяется успех или неуспех товара. Ведь едва ли наберется много по-настоящему новых продуктов. Во всем мире большинство заявок на патенты касаются дополнительных улучшений уже существующих продуктов, фундаментальные новшества редки. Если что-то меняется, так это поверхность продукта как зеркало для нашего «я». Также и произведения искусства есть не что иное, как резонаторы для нашей души, которая, как заметил еще в XVI веке французский философ Мишель Монтень, направляет свои пристрастия к ложным вещам, упуская при этом истинные.
И в жизни частного коллекционера Идессы Хенделес утрата играет центральную роль. Ее родители, польские евреи, были отправлены в Освенцим и выжили лишь благодаря счастливому случаю. После войны они переехали в Марбург (там в 1948 году появилась на свет Идесса), а потом в Канаду. Но старые раны дали о себе знать и на новой родине. В Торонто семья опять столкнулась с антисемитизмом. В школе Идессу дразнили из-за ее еврейского происхождения. Но это ее только подстегивало. Она стала отличницей, добилась успехов в игре на фортепьяно и виолончели. И все же детство ее было пронизано чувством утраты: «Почти все родственники были мертвы, родина далеко и язык тоже». Тогда же произошла ее первая встреча с искусством. Каждые выходные отец ходил с ней в музей, ставший для нее укрытием от окружающего мира[62].
Коллекция – это зеркальное отражение коллекционера и резонатор для его «я». Частный коллекционер Идесса Хенделес, кроме того, еще историк искусств и куратор собственных выставок, но в первую очередь она Идесса Хенделес. То, что, не будучи профессиональным устроителем выставок, она не должна прятаться за темами и тезисами, кажется ей свободой и привилегией. «Я не смогла бы оставлять свое “я” снаружи», – говорит она[63]. А потому все ее картины и скульптуры, от коленопреклоненного Гитлера работы Каттелана и документов о катастрофе дирижабля «Гинденбург» до знаменитой фотографии Эдди Адамса «Убийство вьетконговца, совершенное начальником полиции Сайгона» («Казнь в Сайгоне»), заключают в себе и демонстрируют аспекты ее собственной истории. В таких, направляемых личными представлениями, коллекциях обнаруживается невидимый центр, вокруг которого циркулирует существование собирателя, подобным же образом растет из песчинки жемчуг, моллюск обволакивает ее перламутром, тем самым превращая инородное тело в нечто для нас драгоценное.
Между тем, большинство новых коллекционеров ждут от искусства не внутренней трансформации, а внешнего превращения. Тот, кто богат, считает художественный критик Марк Шпиглер, хочет быть уверенным в том, что он, приобретя искусство, становится не просто адвокатом, банкиром или менеджером, а современным Медичи[64]. В подобных собраниях-трофеях напрасно искать личную историю, которая при встрече с художественными произведениями становится вдруг зрима и внятна. Здесь же никакое сокровище из глубин души не поднимется, здесь мы останемся на поверхности. А что проявится прежде всего, так это желание престижа, страсть к потреблению и жажда прибыли. Вот три основополагающих требования к произведению искусства, которые сформулировал милан ский галерист и вельможа авангарда Артуро Шварц: художественная работа должна возникнуть из внутренней необходимости, обращаться не только к зрению, но к уму и сердцу, и наконец, созерцание ее должно обогащать человечество[65]. Даже если экспансия художе ственного рынка далекими от искусства покупательскими группами грозит уничтожить эти критерии, они определяют стержневое требование ко всякой работе, стремящейся удержаться и по ту сторону рынка.
Ведь даже если рынок обращен лицом к искусству, которое хорошо как товар, потому что его легко продать, то искусство, которое продать не удается, остается хорошо как искусство.
Эффект Дидро. Динамика коллекционирования
Каждая коллекция – это сочетание единства и разнообразия, переплетение соответствий и вариаций. Коллекционирование подразумевает создание некого единства из множества элементов. Вдобавок в основании коллекционирования лежит элементарная модель человеческого поведения. Присвоить, упорядочить, оформить и дополнить – вот основа нашего умственного освоения окружающего мира. Без этих процессов немыслимы исследования и наука. Создавать коллекцию значит с каждым пополнением вновь устанавливать равновесие между частями и целым, между отдельным предметом и собранием, между подобным и различным.
Первым бросившим непредубежденный взгляд на значение единства предметов был Дени Дидро, французский философ эпохи Просвещения. Издатель и автор «Энциклопедии» предложил свое открытие в забавном трактате, названном «Сожаление о моем халате» («Regrets sur ma vieille robe de chambre»)[66]. Трактат начинается с того, что растерянный и меланхоличный Дидро сидит в своем кабинете. Когда-то родную комнату теперь не узнать. Причину этого Дидро усматривает в новом халате, который недавно подарил ему приятель. В восторге от превосходного одеяния, Дидро позволил ему занять место старого рваного халата. Однако это было опрометчивое решение, потому что запустило процесс изменений, который, подобно войне, охватил все без исключения предметы обстановки кабинета. Через неделю после прибытия халата Дидро решил, что старый письменный стол более здесь неуместен, и заменил его более благородным. Потом стал выглядеть потертым ковер и уступил место новому. Постепенно весь кабинет подвергся пристальному осмотру. Стулья, гравюры, книжные полки и даже часы не устояли перед критическим сравнением и были заменены другими, подороже. И всему виной, заключает Дидро, один-единственный халат, который заставил все остальные вещи подчиниться своему властному характеру. Дидро с тоской вспоминал о своем старом халате, замечательно гармонировавшем с убогим старьем его комнаты. Он пожертвовал не только своим халатом и мебелью, но прежде всего единством вещей, его окружавших.
Кто начинает красить угол своей комнаты, вскоре видит, что желание слегка что-нибудь подновить заканчивается полным ремонтом. Покупка новой сумки тянет за собой последующие траты на туфли и ремень. Точно так же пациентки хирурга-косметолога становятся постоянными клиентками, когда убеждаются, что совершенный нос сам по себе не кажется красивым, но лишь безжалостно обращает взор на несовершенства остального лица. Каждое вмешательство в существующее целое влечет за собой дальнейшие вмешательства, ибо в человеческом мышлении заложено стремление к согласованности. Коллекционирование, как и потребление, – это бесконечная история, потому что каждая удовлетворенная прихоть порождает новое желание. Стремление к завершенности никогда не иссякает, и его полное осуществление всегда остается иллюзией.
Почему все хотят одного и того же. Прелесть новизны
Новизна – это натуральнейший из наркотиков. У всех млекопитающих – в том числе и у нас, людей – встреча с чем-то новым и неизвестным, следовательно, потенциально опасным, ведет к повышению уровня адреналина. Как и с любым наркотиком, здесь существует опасность зависимости. Точно так же, как ослабевает действие дозы, улетучивается восторг от нового приобретения. Эта неутолимая потребность нового – еще одна движущая сила, общая для коллекционирования и современного потребления. Большинство коллекционеров испытывают по отношению к новоприобретенному произведению искусства сильнейшие эмоции. Новый трофей занимает самое почетное место в коллекции. «Новое произведение всегда любимое, – говорит коллекционер Ингвильд Гётц, – и я искренне его обожаю». Этого любимца она хочет иметь рядом, созерцать, ощущать его кожей. Она помещает его в кабинете, в непосредственной близости от себя. Встреча с новым – это начало исследовательской экспедиции, которая может вылиться в самообновление души и чувств. Но когда путешествие подходит к концу, рассеиваются чары, присущие любому началу. Что может быть естественней, чем пуститься на поиски нового любимца?
Ингвильд Гётц сделала новое своей программой. Она собирает только художников нового поколения. Дух времени манит и других коллекционеров, новое искусство отражает личное жизнеощущение и говорит о времени, в котором мы живем. Само по себе это не ново. Идея непрерывного обновления составляет саму сущность авангарда. Многие известные художники начинали свою карьеру совсем молодыми. Пикассо было 20 лет, когда состоялась его первая персональная выставка у Амбруаза Воллара, Фрэнк Стелла впервые выставился у Лео Кастелли в 24 года, а Жан-Мишель Баскиа у Аннины Нозей в 22[67]. Что было действительно ново, так это масштабы феномена. Одержимость новизной достигла апогея. Число собирателей современного искусства за последнее десятилетие увеличилось, по разным оценкам, от двух до пяти раз, и многие новые коллекционеры ставят на совсем юных. Собирают не старых мастеров и не крупных художников классического модернизма, а, полагаясь на свой вкус, делают ставку на молодых, словно на беговую лошадь. Арт-дилеры вроде Уильяма Аквавеллы из Нью-Йорка, которые до сих пор поставляли своим богатым клиентам импрессионизм и классический модернизм, перенесли акцент на современное искусство. Обычно советуют упражнять глаз и покупать только то, что нравится тебе самому. Однако в конце концов рекомендации сводятся к следующему: окупается господствующая в искусстве тенденция. Следовательно, благоразумнее покупать то, что нравится всем остальным. Действительно, для процветания художественному рынку требуется такой собиратель, который покупает то, что покупают все. Ведь именно они поддерживают движение рынка и подгоняют цены. Они, как рыбы в океане, перемещаются большими косяками. Если кто-то желает иметь Эда Руша, все тоже хотят Эда Руша. Если кто-то покупает Нео Рауха, остальные тоже покупают Нео Рауха. Чем позже спохватится коллекционер, тем дороже ему придется платить за сохранение связи со стадом, именуемой также тенденцией. Никто не хочет упустить художника, которого все остальные уже имеют в своих коллекциях, и прослыть безнадежно отставшим от жизни невеждой. В итоге можно наблюдать настоящие схватки на выставках молодежного искусства, когда в покупательском угаре коллекционеры рвут друг у друга из рук вожделенный объект. Иметь или не иметь становится вопросом статуса. Результат: растущие цены.
Галеристу Рюдигеру Шёттле потребовалось всего одно слово, чтобы определить, что ищут сегодня в искусстве многие собиратели: Wiedererkennungswert (распознаваемо-ценное)! Судя по его опыту, художников без этого «распознаваемо-ценного», как бы ни были привлекательны их работы, трудно куда-нибудь пристроить. Многие коллекционеры ищут имена и сюжеты, ставшие торговыми марками. Спросом пользуется верхняя десятка хит-парадов художников. Это объясняет феномен, хорошо знакомый по самым дорогим магазинам мировых метрополий. В Нью-Йорке, Шанхае или арабской пустыне – везде одни и те же марки. И так же похожи друг на друга многие из новых художественных коллекций. Сомнительное удовольствие – как в появившихся словно по мановению волшебной палочки многочисленных музеях изобильных восьмидесятых – любоваться похожими работами переменного качества одних и тех же художников. Собственная территория коллекционера определяется тончайшими различиями, не более чем оттенками духов. В остальном по всему коллекционерскому глобусу видишь одни и те же дорогие марочные товары – вместо Prada, Gucci или Bulgari они здесь зовутся Польке, Гурски или Барни. Тенденции меняются с модой. Кто помнит теперь о Саломе?
Зубастая акула. Чарльз Саатчи
Достаточно появиться акуле, чтобы смешался весь плывущий в потоке моды косяк. Так произошло в восьмидесятые годы в Лондоне, в вольных водах неорганизованного рынка, между волной приватизации и панк-культурой. В качестве творческого гения выступил Дэмиен Херст, художник выдающихся способностей к самопродаже, достойный преемник Энди Уорхола. В качестве растущего юного галериста явился Джей Джоплин, сын министра из кабинета Маргарет Тэтчер, выпускник Итона и основатель галереи «Белый куб» (White Cube). В двойной роли коллекционера и арт-дилера, умевшего соединить искусство и коммерцию наивыгоднейшим для себя манером, перед нами предстает Чарльз Саатчи, рекламный чародей эпохи, содействовавший своим разухабистым лозунгом – «Труд не работает» – приходу к власти Маргарет Тэтчер. Он покупал и продавал художественные произведения не по отдельности, а целыми партиями, что побудило художника Шона Скалли назвать его «торговцем художественным сырьем», который любит искусство, «как волк ягненка»[68]. В качестве заезжей знаменитости на сцене появился старинный музей – галерея Тейт.
История развивается следующим образом. Местная художественная сцена борется за выживание между курсом на экономию британского правительства и американским доминированием на рынке искусства. Одной из художественных школ, которую, вследствие ее особого статуса, пощадило сокращение бюджета, был Голдсмит-колледж. Один из самых ее активных студентов – молодой человек из Бристоля, Дэмиен Херст. В июле 1988 года, сразу после защиты диплома он организует групповую выставку семнадцати молодых художников в бывшем эллинге лондонской гавани. Ее название – Freeze («Замораживание»). Выставка разбила лед. Молодые художники обратили свое внимание на кипящие в подпочве современного общества силы: насилие, секс и смерть[69]. Можно было начинать авантюру.
В 1990 году Дэмиен Херст создал «Тысячу лет» («A Thousand Years»), художественную диораму цикла становления и гибели в стеклянной витрине, куда чувствительным душам лучше не заглядывать. Содержимое таково: разлагающаяся коровья голова и облепивший ее рой мух. Своей работой Херст попал в самое яблочко, решает рекламщик Саатчи. Он покупает работу. Вскоре рекламный король стал своим в круге художников из Голдсмит. В 1992 он устраивает выставку их работ. Так родилась поименованная по названию выставки группа художников Young British Artists – «Молодые британские художники». И последовал удар за ударом. В 1993 году престижной премией Тернера, с 1984 года присуждаемой галереей Тейт, награждается Рейчел Уайтрид, в 1995 – Дэмиен Херст, в 1998 – Крис Офили – все «молодые британские художники» первого призыва.
Три года спустя цены на широко продаваемый «брит-арт» начали падать. После стремительного подъема индекс цен на «молодых британских художников» в апреле 2004 опустился на треть, после чего ведущая сетевая информационная служба Artprice.com задалась вопросом: по-прежнему ли «молодые британские художники» производят сенсацию в аукционных залах?
Через месяц прежде так успешно продававшееся искусство запылало в подвале Чарльза Саатчи, и около сотни работ таких прославленных художников, как Дэмиен Херст, Трэйси Эмин, Джейк и Динос Чепмены, рассеялись с дымом в ночном небе над Лейтоном, в восточном Лондоне. Писали, что смерть на костре спасла множество работ от потери в цене. Но, помимо этих достойных сожаления обстоятельств, «молодые британские художники» с аукционными результатами явно ниже оценочной стоимости потеряли непропорционально много и в сравнении с традиционными художниками. Многие из «молодых британских художников» незаметно покинули сцену. Трэйси Эмин временно изменила маршрут своего «сентиментального путешествия» от собственной неубранной кровати к французскому производителю кожгалантереи Longchamps и мастерила дорогостоящие дорожные сумки. Дэмиен Херст последним на тот момент усилием посеребрил интерьер своего ресторана «Аптека» (Pharmacy) в Ноттингхилле.
Тем временем «молодые британские художники» стали уже немолодыми. Да и работы их тоже постарели. Некоторые даже выглядели порядочно изношенными и, как съежившаяся в формалине тигровая акула, нуждались в косметической подтяжке. Действие шока оказалось недолгим, священный трепет понимания утих, и коллекционеры принялись озираться в поисках новых стимуляторов. Один из них называется краской, которую, как в старые добрые времена, наносят кистью на холст. Осанна! Самые авангардные коллекционеры продолжают объявлять живопись умершей, но для других, менее продвинутых, наступило воскресение всегда желанной классики. Толпа верующих и жаждущих обратиться в правую веру устраивают паломничества на выставки таких художников, как Марлен Дюма, Питер Дойг, Люсьен Фрейд, Люк Тойманс, где надеются оживить былые переживания. И здесь тоже не обошлось без Саатчи. В январе 2005 он, памятуя свой первый успех, организовал выставку The Triumph of Painting («Торжество живописи»), вытянув, как зайца из цилиндра, новую моду на живопись. Профессиональная публика отреагировала на запоздалое обращение еретиков недоумением. «Немцы» Йорга Им мендорфа? Кровавые бани Германа Нитша? Да они давным-давно на складе! Захотелось из законодателя моды превратиться в ее жертву? Акулы тоже лишились зубов и, не отрастив новых, оголодали. Но Саатчи все предусмотрел. Ибо пусть у него пропал нюх на искусство, но нюх на деньги никуда не делся. Незадолго до того, как упал финальный занавес и презентация новой коллекции картин ознаменовала начало нового представления, он продал приобретенную им в 1991 году за 50 тысяч фунтов ключевую работу им же так называемого «невротического реализма» «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» («The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living») почти за 7 миллионов фунтов. И снова, как и прежде, убил одним ударом несколько мух. Заставил уйти с пустыми руками Николаса Сероту, директора галереи Тейт, и вдобавок водрузил британский флаг на американской территории. Счастливым обладателем стал не кто иной, как Музей современного искусства в Нью-Йорке (MoMA – Museum of Modern Art)[70]. Щедрый меценат, Стивен Коэн, один из самых высокооплачиваемых хедж-фондовых менеджеров планеты, принадлежит новому поколению больших игроков художественного рынка.
Недостающая часть. Алчность как движущая сила
Алчность – это топливо художественного рынка. Каждый собиратель охотится за куском, которым еще не владеет. И каждый хороший продавец знает список тайных желаний своих клиентов. Еще он знает, кто держит в заложниках у себя в коллекции искомую работу и какой необходим выкуп для ее освобождения. Ведь если существует произведение искусства, за которое кто-то готов отдать если не соб ственное ухо, то, по крайней мере, мочку уха, значит им наверняка владеет кто-то другой. Так опекал полуслепой магнат Стив Уинн «Крестьянку в соломенной шляпе» Ван Гога. Самому ему потребовались годы, чтобы завладеть «Сном» Пикассо, портретом Марии-Терезы Уолтер, возлюбленной художника. Некий коллекционер выхватил у него картину из-под самого носа, заплатив почти 49 миллионов долларов на аукционе Christie’s. Предыдущий владелец в 1942 году купил полотно, считающееся одним из шедевров этого периода, за 70 тысяч долларов. Многие годы и, предположительно, 60 миллионов долларов потратил Уинн, чтобы завладеть Пикассо и включить его в свой новый гостиничный проект в Лас-Вегасе. Подобные коллек ционеры охотятся за шедеврами великих художников: таитянский период Гогена, «Кувшинки» Моне, скульптура Бранкузи. За наи более востребованные работы платят поистине астрономические суммы.
Но когда предмет вожделения за деньги не получить, остается еще одна, последняя надежда. Когда умирают наши друзья, говорит Дональд Рабелл, собиратель современного искусства из Майами, мы молимся о том, чтобы то, что они собирали, оказалось не по душе их детям[71]. Заполучив объект вожделения – купив, отыскав, выманив хитростью или украв, – коллекционер переполняется ощущением успеха, триумфа, величия[72]. Но чудо обладания приносит лишь временное удовлетворение. Поэтому все коллекционеры – рецидивисты.
Картины под кроватью. Стефан Брайтвизер
Когда потребность становится одержимостью, вопрос «иметь или не иметь» перерастает в «быть или не быть». И тогда все средства хороши. У Стефана Брайтвизера тоже был свой тайный список желаний. Однако он не покупал предметы своей страсти и на молитвы не надеялся. За шесть лет он украл произведений искусства на миллионы евро, в том числе более дюжины таких великих мастеров, как Лукас Кранах, Франсуа Буше и Питер Брейгель. За совершенные им в 16 кантонах Швейцарии преступления он в феврале 2003 года был приговорен к 4 годам заключения. В ноябре 2001 года Брайтвизера арестовали за кражу старинного охотничьего рожка из музея Рихарда Вагнера. Тогда он признался, что совершил 174 кражи и похитил в общей сложности 239 предметов, причем исключительно для собственной коллекции, ценнейшие экспонаты которой он прятал под кроватью в своей комнате. Таким образом, Брайтвизер воровал не ради наживы. Он воровал, подчиняясь непреодолимой страсти.
Еще в Средние века на куплю-продажу поглядывали с недоверием из-за стоящего за ней расчета на получение прибыли. Похищение произведений искусств, напротив, считалось, при некоторых предпосылках, делом благородным. Эта суровая форма приобретения имущества, ныне объявленная вне закона, подразумевала мужество и страстность. В феодальном обществе, опиравшемся на рыцарский боевой дух, такие качества почитались. Так что покупка являлась лишь одной из трех форм смены реликвиями своего владельца. Между друзьями (amici), связанными узами братской любви, предпочитаемой формой обращения был подарок, между врагами (inimici) – разбой[73]. Вечно были размыты и границы между христианнейшим мореплаваньем и морским разбоем. Во время Четвертого крестового похода дож Дандоло изменил направление и направил своих рыцарей на Византию, ограбил город и отправил добычу в Венецию, в том числе квадригу, что находится сейчас на куполе собора Святого Марка и является символом Венеции. Да и королева Кристина Шведская не деньгами заплатила за большую часть своего художественного собрания и на благочестивую молитву тоже не уповала. Но, в отличие от своего последователя Брайтвизера, она могла осуществлять разбойничьи набеги за государственный счет и без угрызений совести. Осенью 1648 года Кристина заслужила репутацию коронованной ведьмы, послав свои войска грабить Прагу и отправив в Швецию пять кораблей, груженных сокровищами императора Рудольфа II, неистового коллекционера, заполнившего свою кунсткамеру чудесами со всех сторон света.
У Брайтвизера тоже была кунсткамера. В его собрании под кроватью были картины Питера Брейгеля-младшего, Виллема ван Алста, Йозефа ван Бредаля, Давида Тенирса, Франсуа Буше и Корнеля де Лиона. Свою первую большую кражу Брайтвизер совершил в марте 1995 года. В Шато де Груер, расположенном в швейцарском кантоне Фрибург, он снял со стены один из портретов, сунул под куртку и направился к выходу. В следующий раз он свернул гобелен трубочкой и выбросил из окна. Переступив границу закона, Брайтвизер распахнул ту дверь в мир обладания искусством, что захлопнулась с уходом из семьи его отца-коллекционера. В поисках объекта вожделения он посещал галереи, бродил по музеям, фланировал на ярмарках антиквариата. Особенное пристрастие он испытывал к фламандской и нидерландской живописи. Пробудить в нем жажду обладания мог колорит картины или выразительность изображенной фигуры. На такой случай он носил с собой перочинный нож. Пока его подружка отвлекала музейных служителей, он вырезал полотна из рам и взламывал витрины. Каждая кража происходила бесшумно и безукоризненно, словно в кино. Первого октября 1995 года, в свой двадцать четвертый день рождения, он отправился в Баден-Баден, куда Sotheby’s созвал на вернисаж 3 тысячи гостей. Там он сдал экзамен на звание мастера. Никем не замеченный, он украл портрет Сибиллы Клевской работы Лукаса Кранаха. И тем вошел в первую лигу музейных воров[74].
Разбойничьи набеги, между 1994 и 2001 годами совершаемые по всей Европе официантом из Эльзаса, не остались незамеченными в музейном сообществе. Специалисты из Art Loss Register, международного банка данных по розыску украденных произведений искусства, сотрудничающего с ФБР, Федеральным ведомством уголовной полиции Германии и Интерполом, подозревали, что за этим стоит некая банда. Интерпол тоже действовал вслепую, так как ни одна работа не всплыла на черном рынке. Вот единственная причина того, что Брайтвизер так долго оставался не пойманным: он воровал исключительно для себя. После досрочного освобождения Брайтвизера расспрашивал о мотивах французский писатель Пьер Ассулин[75]. Похититель рассматривал себя как collectionneur compulsif, вынужденного коллекционера. Он признался, что обратного пути не стало, когда он осознал свою наркотическую зависимость от искусства. «Я люблю искусство и посвящу ему всю мою жизнь», – написал он на клейкой ленте, прилепленной к одной из картин. Швейцарские музеи отреагировали прагматично и вывесили на своем сайте предуп реждение: «Берегись! Вор снова на воле!».
Услада для глаз. Стив Уинн
Чтобы покупать искусство, достаточно ушей. Но для его созерцания необходимы глаза. Живопись прельщает глаз цветом, формами, ритмами и пропорциями. В зрителе она вызывает своего рода визуальную эйфорию. Пламенный оранжевый. Густой фиолетовый. Мерцающий серый. Бездна черного. Динамический мазок. Контраст красного и зеленого. Мягкий переход. Агрессивный взрыв. Широкая синь. Глаз блуждает. Останавливается. Воспринимает. Хочет еще. Эстетическое восприятие – это услада глаза. Глаз направляет визуальное раздражение в мозг и приводит его в состояние возбуждения. Ретинальным обольщением назвал Марсель Дюшан чувственное погружение зрителя в картину. Дюшан рассматривал такое погружение как стратегию соблазнения, которая, с его точки зрения, требует оправдания содержанием. Однако она срабатывает и без содержания, как можно убедиться на примере успеха абстрактной живописи. Ретинальное обольщение заставляет людей взглянуть на картину и там задержаться. Одни делают это спокойно, другие одержимо, а для некоторых это ничем не заменимый опыт земного наслаждения.
Предмет отражает на глаз световой образ. Свет входит в зрачок, собирается линзой и отбрасывается на расположенную на глазном дне сетчатку. На сетчатке расположены светочувствительные нервные волокна, переносящие свет сквозь систему клеток на миллионы рецепторов, колбочек и палочек. Высокочувствительные к дневному свету и цветам колбочки передают сигнал мозгу. Там формируется картинка со всеми своими цветами и формами, вызывающая ассоциации, воспоминания и ощущения. Картинка, которую мы воспринимаем, существует в нашем сознании. Когда сетчатка перестает выполнять свои функции, то картинка начинает расплываться по краям и пропадать куда-то в нескончаемую черноту. Retinitis pigmentosa (пигментный ретинит), так называется эта неизлечимая болезнь, которой с детства страдает Стив Уинн, сын владельца игорного дома и сам ныне игорный магнат из Лас-Вегаса.
Еле видящий Стив Уинн коллекционирует искусство. В ноябре 1996 года он за рекордные суммы приобрел на Sotheby’s и Christie’s некоторые из трофеев, которым было суждено два года спустя украсить его казино-отель Bellagio в Лас-Вегасе. Обоим аукционным домам он позволил обнародовать свое имя и обставил свой дебют в качестве коллекционера заявлениями о связи приобретений с новым гостиничным проектом в Лас-Вегасе[76]. Средства массовой информации тут же подхватили историю, и о Bellagio, впоследствии прославленном в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», заговорили еще до его открытия. Галерея изящных искусств в Bellagio и в самом деле предлагает гостям игорной столицы нечто неожиданное: вместо одноруких бандитов уникальные произведения Ренуара, Ван Гога, Гогена, Бранкузи, Пикассо и Поллока, которые можно не только рассматривать за плату, но и купить. Музей в казино-отеле объединил престиж искусства с освобождением от уплаты налога, предоставляемым общедоступному музею, и ориентацией на прибыль коммерческой галереи. Надлежит ли тут говорить о приобщении игрока к искусству или о соблазнении любителя искусств игровым столом? Было все это маркетинговым трюком ценой в 300 миллионов долларов? Или рассчитанной игрой?
Для финансирования своих художественных приобретений Уинн продал часть акций корпорации «Мираж»[77]. В 2000 году «Мираж», вместе с Bellagio и половиной художественного собрания, перекупил за 4,4 миллиарда долларов один из конкурентов. Однако страсть к коллекционированию не оставила Уинна. Он собрал новую коллекцию, украшающую теперь его новый отель Wynn Las Vegas. Чем обуслов лено это чрезмерное приобретательство – расчетом или силой искусства, – способен ответить только сам Уинн. В любом случае его болезнь – будет ли он видеть, как и долго ли – играет в этом немаловажную роль.
В нирване искусства. Ингвильд Гётц
В одном из идиллических уголков Мюнхена располагается частный музей собирательницы Ингвильд Гётц. Приходя сюда, посетитель оказывается в совершенно отдельном, замкнутом в себе мире. Взгляд отсюда не проникает наружу. Высоко над экспонатами, там, где сквозь полупрозрачные стены сочится рассеянный свет, вытравлен на матовом стекле гимн собирательнице, творение покойного художника Феликса Гонзалеса-Торреса. Поэма о личной истории и текущих событиях, о становлении и угасании, о возрождении в искусстве, собираемом в музее, имеющем, возможно, неслучайное сходство с деревянным ящиком, в которых хранят свои сокровища дети. Посетитель чувствует, что в этой очищенной от жизненного шума и хаоса нирване искусство должно создавать свою собственную ауру.
В центре большого выставочного зала расположен миниатюрный сказочный домик, который установила для собирательницы американская художница Андреа Циттель: маленький прямоугольный параллелепипед, строгостью форм напоминающий Ле Корбюзье, а использованием пространства – японскую архитектуру, как раз такой, чтобы зайти, согнувшись. Внутри собирательница разместила свои любимые экспонаты. В возвышающейся стопке книг верхняя называется «Красота простых вещей». Собрание Ингвильд Гётц, предпочитающей, чтобы ее коллекционирование воспринималось не как накопительство, но, скорее, как соединение в соответствии с личными пристрастиями, берет начало в Arte Povera, «бедном искусстве» 1960–70-х годов, в котором для работы намеренно использовались «бедные», простые и повседневные, материалы. Совершенно в духе этого движения, художнице чужды хвастуны с именами и чурбаны с выставками. Частный музей для нее – место диалога с искусством. Парадокс в том, что и не желая скупать «выдающиеся произведения искусства» и пребывая в поисках не внешней славы, но внутренней правоты, Ингвильд Гётц скопила несметное количе ство художественных работ. Это противоречие лежит в основе собирательства.
Ибо самореализация через искусство стремится к постоянному обновлению за счет привлечения еще неиспользованных объектов. Это стоит денег. В своих поисках простоты Ингвильд Гётц ежегодно тратит на произведения искусства полмиллиона евро. Поиск следов – это бесконечное путешествие, которое концентрическими кругами приближается к цели, очерчивая ее, но никогда не достигая, сувениры такого приключения наполняют не только душевное пространство, но претендуют и на внешнее место хранения. Обладание весомо не только в символическом смысле, оно имеет и физическую тяжесть, и вытесняющий пространство объем. Собирательница редко расстается с принадлежащими ей работами. Вещь продается лишь когда не оправдывает ожиданий первой встречи, и диалог с ней окончательно умолкает. В результате 3200 экспонатов растущей коллекции нуждаются в хранилище, превышающем 5000 квадратных метров.
Законодатель вкусов
Словами кельнского галериста Вернера Клейна, «когда крупные коллекционеры, наблюдая за карьерой художника, говорят: “Мы поставили на правильную лошадку”, – то при этом игнорируется тот факт, что сам художник стал правильной лошадкой во многом потому, что они поставили на него». Тот, кто обладает финансовыми ресурсами и социальными связями с ключевыми фигурами мира искусства и умеет ими пользоваться, способен влиять на рынок выбором своих приобретений. Ингвильд Гётц тоже поставила на определенную лошадь и, учитывая ее решимость инвестировать, недалека от медали победителя. Она сознает свое влияние на рынок, что доказывает громкое заявление, что в коллекции Гётц нет работ мюнхенского художника Флориана Зюсмайера, равно нет и намерения их приобрести. Коллекционеры оказывают определяющее влияние на карьеру художника и цены на его работы. Ибо на рынке, где отсутствует однозначная шкала качества, покупатель ориентируется на предпочтения законодателей вкуса. Известный лозунг менеджеров гласит: «Лучший способ предсказывать будущее – создавать его»[78]. Влиятельные коллекционеры стараются поступать именно так.
Филантропия и макиавеллизм. Власть собирателя
Старые энциклопедии определяют мецената как любителя прекрасного, бескорыстного и самоотверженного покровителя наук и искусств[79]. Между тем, история свидетельствует, что меценатство издавна было приносящей прибыль смесью альтруизма и корысти. Не был бескорыстным меценатом и сам давший имя явлению Гай Цильний Меценат. Действительно, друг и советчик римского императора Августа собирал у себя во дворце знаменитейших поэтов своего времени и потратил часть своего имущества на поощрение таких талантов, как Гораций и Вергилий. Однако Меценат, которому, в частности, вменялся в обязанности надзор над литературой, руководствовался не только своими литературными пристрастиями, но и вполне конкретными политическими соображениями. Ведь поощряемые произведения, в частности «Энеида», где Вергилий создал основополагающий миф Римской империи, служили восхвалению императора Августа и создавали культурную подоплеку его господству. В своей книге «Кольца Сатурна» В. Г. Зебальд упоминает прославленные музеи вроде гаагского «Маурицхёйс» (Mauritshuis) и лондонской галереи Тейт, которые были оплачены деньгами, добытыми в XVIII–XIX столетиях торговлей сахаром, основывающейся на рабском труде. Меценатство всегда было связано с попытками легализовать нажитое богатство. Так что новые определения меценатства упоминают и о его функции целенаправленного влияния на общественное мнение через поощрение подходящих проектов[80]. Расчет на будущую выгоду, в форме ли общественного признания, политической власти, религиозного спасения или экономической прибыли, является неотъемлемой частью меценатства, издавна представляющего собой гремучую смесь филантропии и маккиавеллизма.
Уже при Медичи деньги, политика насилия, метафизика и искусство тесно переплетались друг с другом. Власть семейства Медичи над Флоренцией XV века была основана на состоянии, нажитом банковскими операциями. Будучи христианскими банкирами в республиканском городе-государстве, они столкнулись с двумя, казалось бы, неразрешимыми противоречиями. Как обеспечить себе местечко на небесах, греша против Бога ростовщичеством? Как удержать купленную деньгами власть в республике, отвергая при этом ее демократическое самосознание? Средством, к которому прибегли Медичи, чтобы разрешить это фундаментальное противоречие, стало искусство.
Джованни, первым из Медичи добившийся богатства и авторитета, предпочитал держаться в тени. Ведь одалживание денег под проценты, именуемое ростовщичеством, церковь клеймила как большой грех. Взимание процентов осуждалось как нарушение Божественного порядка. Ростовщичество позволяет человеку, предназначенному Богом к труду, преумножить свои деньги, дабы возвыситься над другими и предаться разврату. Contro la natura! – противно природе! – гласит приговор церкви, приравнивающей ростовщиков к содомитам и карающей тех и других адскими муками. Поэтому банкиры XIV–XV столетий прикрывали ростовщичество сложной игрой с обменом валюты разных стран. Однако не только им, но и богословам было ясно, что эта деятельность маскирует как раз то, чего якобы избегает. В 1429 году правительство Флоренции запретило так называемый cambio secco, беспроцентный обмен, посчитав его прикрытием нелегального взимания процентов. Тем не менее, Козимо, сын и наследник Джованни, обладал достаточной властью, чтобы в 1435 году закон был отменен[81].
Именно Козимо раскинул по Европе сеть банковских филиалов и привел банк Медичи к наивысшему расцвету. Его стремление к контролю, порядку и обладанию в полной мере проявилось не только в банковском деле, но и в увлечении, которое он, вместе с урод ством и подагрой, разделял с другими четырьмя Медичи: своим отцом Джованни, сыном Пьеро, внуком Лоренцо и правнуком Пьеро ди Лоренцо. Все они были собирателями – реликвий, оружия, рукописей, драгоценностей, камей – и покровителями искусства. Пусть Медичи действительно ценили искусство, но не может быть сомнения в том, каким целям служило их покровительство. Они хотели наполнить флорентийцев такой великой гордостью за свой город, чтобы те сдержали свои республиканские инстинкты и уступили Медичи политическую власть, а также гарантировали меценатам по смертную славу.
Козимо выбрал орден доминиканцев, проповедующий нищету, и начал с восстановления монастырской церкви Сан-Марко во Флоренции. Однако при обмене земных даров на небесные льготы доминиканцы провели четкую границу: никакой посюсторонней славы. Козимо и доминиканский аббат Антонио проявили достаточно ума, чтобы избрать для обмена расплывчатую территорию, дающую простор для политического маневра, а именно – искусство. Вместо денег банкиру было дано позволение доказать свою веру в Бога посредством великолепных произведений искусства, а тем самым заодно возвести на земле памятник своему могуществу. Церковь же готова была считать, что картины и фрески служат исключительно восхвалению Господа. Платой за это финансирование надлежало стать папской булле, освобождающей Козимо от грехов.
Влияние мирской власти не осталось без последствий. Светскость, хотя и склонив голову, но совершенно явно, пробралась и в искус ство, и в монастырь. Со временем Мадонны становились всё привлекательней, их одежды всё роскошней, всё чувственней их тело. Повсюду красовались знаки Медичи, изображенные святые носили имена членов могущественного семейства. В художественных работах тесно переплелись религиозное благоговение, эстетическое удовольствие и политическая целесообразность. Богатый христианин убедил церковь признать значение денег. Причастие свершилось – реально, виртуально и метафизически. В произведениях искусства мирское богатство и сакральное благоговение сплавились в таинственную амальгаму. В искусстве деньги избавлялись от клейма греха[82]. Вскоре Козимо попросил об отмене запрета жертвовать доминиканскому ордену деньги. Монахи отказали. Не для того они посвятили жизнь бедности, чтобы в конце концов позариться на деньги. На фреске «Введение во храм» Фра Анджелико, украшающей один из коридоров Сан-Марко, где могли ходить только монахи, святой держит свиток со следующими словами: «Молю Господа о проклятии и проклинаю сам владение имуществом в этом ордене»[83].
Козимо де Медичи оплачивал передаваемые ордену произведения искусства из собственного кармана. Но его наследники, Медичи XVI и XVII веков, финансировали создание удовлетворявших их тщеславие льстивых портретов, огромных конных статуй и сумасбродных картин уже за счет налоговых поступлений. Также и медичи XXI века предпочитают черпать средства на презентации, содержание и повышение стоимости своих собраний из налогового горшка. Ведь существует много возможностей разделить с государством финансирование дорогостоящего хобби. А еще обогатиться за чужой счет, что, как заметил еще князь Фабрицио Салина из романа Лампедузы «Леопард», куда проще сделать, уверяя, что отстаиваешь общественные интересы. Все чаще речь идет о том, чтобы взять, а не дать, о прибыли, а не о щедрости. Если авторитет буржуазного мецената покоился на бескорыстии, эстетической смелости и общественной скромности[84], то многие из новых медичи отличаются стяжательством, ориентированностью на рынок и использованием средств массовой информации. Американский художественный критик Ро берт Хьюз уже в 1989 году предсказал появление спекулятивных меценатов: коллекционер как любитель, как почитатель искусства совершенно пропадет из виду. В музейное сообщество торжественно вступит новый тип, одновременно и коллекционер, и торговец принадлежащим ему искусством, и попечитель музея. В то же время станут вдруг ниоткуда возникать частные музеи. Ведь собиратели более не нуждаются в благословении авторитетных музеев. Им нужен собственный мавзолей, «фонд современного искусства Джерома и Мэнди Тихогром»[85]. Эти пророчества стали реальностью.
Святая святых. Статус музея
В 1992 году нью-йоркский Музей современного искусства представил ретроспективу художника Анри Матисса. Выставка пробудила не только интерес публики к художнику и его работам, но и алчность коллекционеров. На аукционах всплыло рекордное число работ художника – двадцать восемь. Три из них попали на аукционы прямо с музейных стендов[86]. Ничто не вызывает такого повышенного спроса на работы художника, как ретроспектива в крупном музее. Появление в музее придает им благородство, свойственное всему некоммерческому. На рынке это повышение культурной ценности обращается реальной прибавочной стоимостью.
Музей – это страшный суд художественного рынка. Выставкой и музейной закупкой решается вопрос, вознесется ли художник в поднебесье истории искусств. Одной валютой, используемой при оценке его величия и выполняющей роль высшего судии мира искусств, является экспертиза. Другой – деньги. Однако последний ресурс, еще в восьмидесятые годы изливавшийся в избытке, существенно усох. Ведь приватизации, затронувшей наиболее расходоемкие жизненные сферы, не избежало и искусство. Музеям приходится мириться с сокращением бюджета и смотреть, как оскудевают закупочные фонды. Все меньше музеев выдерживают состязание за произведения искусства на рынке, где цены все растут и растут. При этом финансовый вакуум, возникший вследствие отступления государства, постепенно заполняется. Частные коллекционеры и крупные концерны конкурируют в покровительстве искусству.
В 2003 году журналист из британской газеты Sunday Times представился банкиром в четырех знаменитых лондонских музеях и предложил миллион фунтов при условии, что там выставят написанный им автопортрет. Три из четырех музеев: Королевская академия искусств, Музей Виктории и Альберта и Британский музей – приняли предложение не глядя. И только галерея Тейт настаивала на том, что картина должна предварительно пройти экспертизу[87]. Журналист делает вывод: финансовое положение большинства музеев настолько бедственно, что они согласны почти на все, лишь бы пополнить кассу. В итоге соотношение сил между музеями и коллекционерами полностью изменилось. Коллекционеры и спонсоры все более определяют, какое именно произведение попадет в музей, и тем самым оказывают влияние на рыночную стоимость художников и своих собственных собраний. Это опасно по двум причинам. Во-первых, музеи – это общественные учреждения, обязанные подчиняться общественным интересам и содержаться на общественные деньги. Во-вторых, на карту поставлена достоверность музеев как культурной инстанции. Параллелограмму сил мира искусств, в котором музей занимает непреложное место в качестве корректива движимого коммерческими интересами рынка, грозит потеря равновесия.
Художественное произведение: перемена роли
Музейная закупка превращает банальный товар в сакральный предмет, находящийся по ту сторону рыночных ценностей. Как показывает антрополог Игорь Копытофф, в такой перемене ролей нет абсолютно ничего исключительного[88]. Во времена работорговли люди превращались из личностей в предметы, которые можно было заказать, доставить и оплатить. В свадебных обычаях туземных культур невеста становилась товаром, чья стоимость уравновешивалась скотом и прочим имуществом. Другие предметы обеспечивают соответствующее общество божественной силой или высшей истиной. В качестве охранителей фундаментальных ценностей они занимают высшее положение в иерархии предметов и почитаются священными. Такие сакральные предметы извлечены из коммерческой сферы и циркулируют в ней кратковременно и лишь при определенных предпосылках. В нашей культуре к такого рода предметам относятся произведения искусства. Бесценность художественной работы закрепляется тем, что она продается за несоотносимо большие деньги, а затем попадает на священные музейные стены. Но работа, которую слишком часто предлагают на рынке, теряет ценность и падает в стоимости. На рынке искусства этот фактор называют «рыночной свежестью».
В сущности, попав в музей, произведение искусства должно расстаться с миром рынка. Однако рыночная карусель выписывает все новые круги. На музейных выставках маленькая табличка рядом с картиной теперь сообщает информацию не только о художнике, но, все чаще, и о владельце, одолжившем картину музею. Какой собиратель стремится повысить стоимость своего художественного имущества? Какая галерея в этом замешана? Собрание «Воробьиная горка»? С любезного разрешения «Слесаря & Гостя»? Коммерция совершенно распоясалась в священных музейных залах. Государственному заказу собирать, сохранять и показывать искусство грозит оказаться на задворках рынка, цель которого – продавать с максимальным барышом.
Эффект Мидаса. Власть, деньги, искусство
Царь Мидас превращал все, к чему прикасался, в золото. В этом мифе человеческое желание и божественное деяние идут рука об руку, дабы вызвать чары, в конце концов оказавшиеся проклятием. Чтобы коллекционер совершил подобное чудо и обратил искусство в прибыль, ему прежде всего требуются две вещи: влияние и деньги. Будь то Бостонский музей изящных искусств или Чикагский художественный институт, Британский музей или галерея Тейт в Лондоне – большинство художественных музеев США и Великобритании живет за счет частных пожертвований и некоммерческих фондов, организованных богачами. Как правило, музеями управляют советы попечителей. Вопреки человеческому разнообразию, попечительские советы в США отличаются необычайной демографической однородностью. 63 процента попечителей художественных музеев – мужчины, почти половина – старше 50 лет, 85 процентов – белые, и большинство слывет менеджерами, банкирами или финансовыми экспертами[89]. Многих связывают личные отношения. Как еще в начале семидесятых выяснила журналистка Грейс Глюк из New York Times, не менее 10 из 16 попечителей Кливлендского художественного музея состоят в родстве с основателями музея, бывшими его попечителями или меценатами[90]. То же самое, пусть не в таком масштабе, можно сказать и о других американских художественных музеях.
Как принято в мире экономики, эти связи не ограничиваются одним-единственным учреждением. Сеть их опутывает всю музейную область. В начале семидесятых годов попечители нью-йоркского Музея современного искусства завязали, посредством личных связей, тесные контакты с некоторыми известными художественными музеями Америки: миссис Дуглас Диллон была женой президента музея Метрополитен, миссис Мэри Ласкер – мачехой как миссис Ли Блок, попечительницы Художественного института Чикаго, так и миссис Сидни Броди, супруги президента Художественного музея округа Лос-Анджелес, а мистер Джон де Менил был одновременно попечителем Музея изящных искусств Хьюстона, Музея Эмона Картера в Форт-Уэрте и нью-йоркского Музея примитивного искусства[91]. В восьмидесятые годы к наследникам старых состояний присоединились дельцы-нувориши с супругами и дочками, чье предпринимательское честолюбие нашло удовлетворение благодаря политике Рейгана по уменьшению масштабов государственного вмешатель ства в экономику. И сегодня семейные кланы попечителей поистине вездесущи. Рональд Лаудер, наследник одноименного косметиче ского концерна, занимает кресло председателя совета попечителей Музея современного искусства, а его брат Леонард Лаудер – председателя совета попечителей Музея американского искусства Уитни. Миллиардер Илай Брод – не только пожизненный попечитель Музея со временного искусства в Лос-Анджелесе, но и попечитель Музея современного искусства в Нью-Йорке, вице-президент Художе ственного музея округа Лос-Анджелес и, одновременно, председатель фонда искусств Илая Брода.
К основным задачам попечителей относится привлечение денежных средств. Ведь государственные ассигнования удовлетворяют лишь малый процент финансовых потребностей американских музеев. Определяемая деньгами этика попечителей проявляется в прин ципе трех «G» – give, get или get off. Сообразно с этим попечитель либо использует свой денежный потенциал, свой социальный статус и свое политическое влияние, чтобы давать (give) или добывать (get) деньги, либо идет на все четыре стороны (get off). Хотя директора и кураторы музеев формально независимы от опекунов, на деле они во всем зависят от благосклонности членов попечительского совета. В результате музейная политика в значительной степени зависит от попечителей и их интересов. А так как те, как правило, сами коллекционеры, инвестирующие в рынок искусства, то сцепка рынка и музея запрограммирована изначально.
Встречные сделки. Плати и наживайся
По словам Ричарда Олденбурга, бывшего директора нью-йоркского Музея современного искусства, основной причиной частных пожертвований в США является возможность сэкономить на налогах[92]. Пути для частного финансирования музеев там были проложены еще в начале ХХ столетия. Именно с тех пор пожертвования музеям стали вознаграждаться налоговыми льготами. Даритель получил возможность вычесть из суммы налога полную актуальную стоимость подаренного произведения, которая, в зависимости от конъюнктуры рынка, могла быть значительно выше изначальной покупной цены. Так как процентный предел для вычитаемых из налогов пожертвований в США значительно выше, чем в Германии, – они могут составлять до 50 процентов совокупного дохода, – то и готовность жертвовать там почти безгранична. Так что США можно назвать образцовым примером частного финансирования искусства. В дей ствительности, этими словами завуалировано истинное положение вещей, а именно смешанное финансирование, привлекающее как частные, так и государственные средства. Ведь каждое пожертвование общественно полезному учреждению, каждый некоммерческий фонд в значительной степени оплачивается из налоговых средств. Определенная доля частного финансирования искусства также ложится на плечи государства. Так что, несмотря на впечатляющие объемы частной филантропии в Америке, факт остается фактом: не будь эти деньги отданы по доброй воле, значительную их часть пришлось бы уплатить в виде налогов. Отсюда следует требование общества использовать пожертвования надлежащим образом. Однако общественные интересы, которым подчинены и американские музеи, отодвигаются на второй план, уступая место интересам част ным, проникающим в музеи благодаря учредителям и спонсорам, жертвующим и одалживающим деньги и произведения искусства.
Музей Гуггенхайма одним из первых открыл священные залы искусства коммерческим силам рынка и взял на борт транснациональные корпорации. Томас Кренс, директор музея и прославленный мотоциклетный фанат, организовал мегавыставку искусства мотоцикла. Камнем преткновения стал тот факт, что спонсором выставки был автоконцерн BMV, из цехов которого вышло немало представленных образцов[93]. Вновь музей попал под перекрестный огонь критики, посвятив ретроспективу итальянскому модельеру Джор джо Армани. Хотя после гимна мотоспорту реверанс в сторону моды кажется вполне логичным. Как стало известно, спонсором модного показа стал журнал мод In Style, и сумма, вместе с пожертвованием Джорджо Армани, достигла нескольких миллионов долларов, но все это осталось лишь блеклым глянцем рекламной компании[94]. Музей Уитни объявил показ работ фотографа мод Ричарда Аведона критическим разбором его творчества. Потом выяснилось, что не только куратор, но и другие сотрудники выставки состояли на довольствии у Аведона, а компания Eastman Kodak, опубликовавшая каталог и частично финансировавшая выставку, запустила на конвейер серию книг об Аведоне[95]. Во всех трех случаях музеи поступились своим культурным суверенитетом и выпустили из своих рук право решать, кому переступать их порог. Когда начинают, подобно Томасу Кренсу, говорить не о музеях, а о музейной индустрии, о продуктах, а не о выставках, и о музейном собрании как имуществе, становится ясно, что в первую очередь речь идет не об искусстве, его коллекционировании, сохранении, изучении и передаче, а об инвестициях и доходах. Руководитель Музея Гуггенхайма не скрывает, что «предприятия диктуют музеям, какую выставку, сообразно вкусам своей клиентуры, они желают увидеть реализованной. Музей стал частью рекламной кампании предприятий»[96]. Коммерческая ориентация музеев получает размах, вызывающий в самих США резкую критику. Одна из причин такого развития событий состоит в том, что в США, как и в Великобритании, со времен Рейгана и Тэтчер возросла зависимость музеев от частного финансирования.
Одно из исследований показывает, что в США доля государственного финансирования культуры между 1982 и 1998 годами упала с почти 29 до 11 процентов. С федеральными дотациями на искусство дело обстоит еще более драматично. Их доля, составлявшая прежде 88 процентов бюджета неприбыльных нью-йоркских учреждений, упала до жалких 1,2 процента[97]. Такая динамика заставляет музеи оглядываться в поисках новых источников финансирования. Управляющие Музея Уитни будто главный приз отхватили, заполучив в январе 2001 года в свой совет генерального директора смешанного концерна Tyco International Денниса Козловски. Козловски, отмеченный в 2000 году журналом Buisness Week в числе 25 лучших топ-менеджеров, стал самой жирной рыбой на крючке фонда. События развивались стремительно, и уже через полгода стало известно, что Козловски замешан в одной из крупнейших мошеннических афер, связанных с интернетом, так что улов оказался не жирной рыбой, а чудищем морским. Тем не менее, вопрос о том, чтобы тут же снять его с крючка, не рассматривался. Осторожные сомнения последовали только после многочисленных обвинений в разворовывании фирмы и мошенничестве при уплате налогов, изобличающих свидетельских показаний, скандальных разоблачений типа использования денег фирмы в размере 2 миллионов долларов на празднование дня рождения жены, постановления о предварительном заключении. «Я не уверен, что нам действительно следует рассчитывать на эти грязные деньги», – заявил один из советников фонда и сделал вывод, что «нужно лучше работать, чтобы зарабатывать деньги более творческим манером». И только тогда был поднят вопрос, «почему в совете нашего фонда приветствуются подобные люди»[98].
В июле 2002 года начался процесс против Козловски по поводу неуплаты налогов. Предмет нелегальных сделок: произведения искусства. Сообщники: два нью-йоркских антиквара и один лондонский галерист[99]. Чуть позже Козловски предъявили обвинение в том, что он на 170 миллионов долларов облегчил казну Tyco и получил более 400 миллионов долларов в результате незаконной продажи акций[100]. Тем временем концерн полез в гору, акции выросли[101]. Имя Козловски, столь когда-то блиставшее, было вымарано из списка попечителей Музея Уитни. В сентябре 2005 года дело по обвинению в воровстве и мошенничестве с ценными бумагами было завершено. Приговор: от 8 до 25 лет заключения[102]. Процесс о нелегальных сделках с произведениями искусства был прекращен в мае 2006 года после уплаты налогов и процентов на сумму 3,2 миллиона долларов[103].
Музеи предпочитают следить за тем, чтобы их спонсоры не нарушали законов государства, а всегда ли они при этом следуют законам морали, уже другой вопрос. К попечителям уважаемого Музея современного искусства относится Гэри Винник, основатель телекоммуникационной корпорации Global Crossing. В январе 2002 года он провернул одно из самых крупных банкротств в истории Соединенных Штатов, изловчившись положить в карман 735 миллионов долларов от продажи собственных акций[104]. Знал ли он в тот момент о финансовом положении своей компании, выяснить никогда не удастся. Следствие по его делу было прекращено. Винник, оказавшийся в 2001 году в публикуемом журналом Forbes списке 400 богатейших людей Америки и причисленный к шести десяткам наиболее щедрых американских филантропов (его велико душие распространялось и на крупные политические партии[105]), добился своего кресла в Музее современного искусства благодаря 5-миллионному пожертвованию[106]. Сегодня имя его украшает один из залов нового здания музея[107]. Наравне с членами семьи основателя музея Рокфеллера, галеристкой Илеаной Зоннабенд и выдающимся коллекционером Майклом Овитцем, он занимает пост в одном из самых влиятельных комитетов международной художественной жизни, то есть держит в своих руках рычаг механизма, в значительной мере влияющего на стоимость и его собственных приобретений.
Другим нью-йоркским музеям тоже приходится добывать наличные. Так, Бруклинский музей в 1999 году разместил выставку «Сенсация» британского коллекционера Чарльза Саатчи, которая прежде была показана в лондонской Королевской академии и Гамбургском вокзале в Берлине. Пока длился этот музейный тур, Саатчи продал часть своей коллекции на аукционе Christie’s. 130 работ принесли 1,6 миллионов фунтов, или 2,7 миллионов долларов. В Бруклинском музее тоже было все, чего может пожелать жаждущая сильных ощущений публика: от убойного скота, артистически оформленного Дэмиеном Херстом, до слоновьего навоза, декоративно разбросанного на Деве Марии, работы Криса Офили. Возмущенная реакция мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани вызвала скандал, который, как и следовало ожидать, привлек в музей толпы охочих до сенсаций зевак. New York Times провозгласила Саатчи самым деятельным английским собирателем со времен короля Карла I. Правда, та же газета раскрыла и некие пикантные подробности. Впоследствии сотрудники нью-йоркского мэра натолкнулись на публикации Бруклинского музея и аукционного дома Christie’s, свидетельствующие о том, насколько сильно должна возрасти стоимость коллекции Саатчи в результате вызванного скандалом шума[108]. Это пролило новый свет на финансирование выставки, намерения мецената, интересы аукционного дома и роль музея, который, судя по всему, будучи институтом общественным, стал пособником денежных интересов частного коллекционера[109].
Порочный круг. Инсайдерские сделки
Железное правило прибыльной торговли гласит: покупай дешево, продавай дорого. На художественном рынке высокие проценты можно получить только если купить художника, прежде чем на него появится спрос. А спрос появляется, когда его работы оказываются выставлены в известном музее. Таким образом, знание о предстоящей ретроспективе относится к самым востребованным на художественном рынке. Однако сведения о том, когда музей даст зеленый свет тому или иному художнику, доступны только инсайдеру. «Информация о персональной выставке никогда не сохраняется в тайне, – сообщает нью-йоркский коллекционер Адам Линдеман, – но она всегда остается скрытой именно столько, сколько нужно»[110]. В отличие от фондовой биржи, где инсайдерские сделки преследуются по закону (в Германии с 1995 года), на рынке искусств такого рода сведения вполне могут приносить выгоду. Так что коллекционер, имеющий доступ к закупочной и выставочной политике музея, может поступать соответственно полученной информации и суще ственно повышать стоимость своего собрания.
Показательным тому примером служит Чарльз Саатчи. Влияние его как коллекционера и арт-дилера на динамику цен и рыночную позицию художника не в последнюю очередь держится на связях. В отличие от США, где советы опекунов музеев автономны и сами навечно определяют свой состав, в Великобритании они определяются высшими должностными лицами – прежде монархом, а теперь премь ер-министром. Политические контакты с консерваторами, завязанные Саатчи в результате агиткампании за Маргарет Тэтчер, способствуют его связям с должностными лицами в музеях. Те, в свою очередь, снабжают его информацией, которую можно использовать для инвестиций и спекуляций искусством. Будучи попечителем галереи Whitechapel, Саатчи использует сопутствующую его положению информацию для инвестиций в искусство. После того, как галерея Whitechapel приняла решение о выставке Франческо Клементе, но еще до ее открытия в январе 1983 года, Саатчи купил 12 работ художника для своей частной коллекции. Хронометраж такого рода трансакций дает весьма определенный ответ на вопрос, идет ли речь об использовании инсайдерской информации или о независимом решении частного коллекционера. Последовательность событий ясно истолковал тогдашний директор галереи Whitechapel Николас Серота[111]. Оказывая влияние на выставочную политику музея, попечители также могут поспособствовать существенному росту стоимости собственных коллекций. В 1982 году галерея Тейт устроила первую выставку Джулиана Шнабеля в сотрудничестве с комитетом Patrons of New Art («Покровители нового искусства»)[112]. В этот комитет входили не только множество коллекционеров, нью-йоркский галерист Лео Кастелли и почти все лондонские антиквары, но и Чарльз Саатчи. Ему и его жене принадлежали 9 из 11 картин, выставленных в галерее Тейт[113]. Да и когда Саатчи уже оставил свои посты и в комитете, и в галерее Whitechapel, сплетение интересов подобного рода никуда не делось. Так, в 2004 году для собрания Музея современного искусства были приобретены работы таких объявленных соответствующими духу времени художников, как Питер Дойг и Элизабет Пейтон, специализирующаяся на портретах знаменитостей. Это решение было поддержано попечителями-коллекционерами, которые, придав собственным приобретениям музейный статус, повысили стоимость своих коллекций[114]. Должен ли в таких случаях музей пользоваться определенной ему властью? Или его голосование всего лишь отголосок рынка?
Искусство и окурки. Маневренная масса
И в век статистики точности прогнозов доверяют немногим более, чем древнеримским гаданиям по птичьему полету или внутренностям животных. Вплоть до девяностых годов кислотные дожди и радиация преподносились средствами массовой информации как основные угрозы здоровью человека. Однако неопровержимые факты свидетельствуют: курение и алкоголь в списке факторов риска индустриальных стран занимают первое и третье места[115]. На этих культурно-приемлемых наркотиках делается миллиардный товарооборот. Разнообразные, но в конечном итоге всегда измеримые звонкой монетой дополнительные затраты от алкоголизма и раковых заболеваний несет общество. Какое отношение к искусству имеют окурки и доля раковых заболеваний? Что связывает водку с Прекрасным, Истинным, Вечным? Именно табачный и алкогольный концерны, Philip Morris (ныне Altria) и Seagrams, недавно купленный компаниями Diageo и Pernod Ricard, считаются пионерами вложений в искус ство и корпоративного коллекционирования.
Рост основного капитала стабилизирует предприятие, делает его независимым от внешних кредиторов и защищает от риска быть поглощенным другой компанией. Но и прирост культурного капитала тоже небесполезен, особенно для фирм, производящих вредные продукты. Philip Morris и Seagrams – образцовые примеры того, как придать безупречный имидж опасным для здоровья продуктам: скрепить их с высоким престижем искусства и культуры, добиться финансовой зависимости и завязать политические контакты, обеспечивающие предприятию необходимую маневренность. Банальная истина хозяйственной жизни состоит в том, что всё в предприятии направлено на экономическую выгоду. То, что искусство является средством для достижения этой цели, можно было заключить уже в 1982 году из слов Джорджа Вейсмана, тогдашнего председателя правления Philip Morris: «Фундаментальный интерес экономики в искусстве есть интерес личный»[116]. Когда в 1994 году муниципалитет Нью-Йорка хотел ввести запрет на курение в общественных местах, Philip Morris пригрозил перевести свое главное управление вместе с 2 тысячами сотрудников и предоставить нью-йоркский мир искусства самому себе со всеми вытекающими последствиями в виде снижения качества и количества театра, танца, музыки и художественных выставок[117]. Как пишет историк искусства Чин-Тао Ву в своем исследовании, посвященном приватизации культуры в США и Великобритании, музеи были мобилизованы оказать влияние на муниципалитет, преимущественно, конечно, в собственных интересах, но в конечном итоге в интересах предприятия[118]. В этот момент меценаты и мутировали в макиавеллистов, а культурный капитал в политическую власть, несмотря на то, что в данном случае Philip Morris остался в проигрыше. Тем временем Altria приютила в своем центральном управлении один из отделов Музея американского искусства Уитни и профинансировала все его программы[119].
В 2006 году крупный швейцарский банк UBS, один из главных спонсоров галереи Тейт, 6 месяцев показывал там фотографии из своего собрания. Банк использовал музей в качестве сцены для саморекламы и повышения ценности собственной коллекции. Выгоду смогли извлечь те состоятельные частные клиенты UBS, которые последовали рекомендациям UBS по вложениям в арт-рынок. Ведь компетентные советы по части покупки искусства, которыми делился с ними Жан-Кристоф Амман, влияли также, в силу его работы в консультативном совете, на закупочную политику художественного собрания UBS[120]. В 1995 году Амман, будучи директором Франкфуртского музея современного искусства, сдал в аренду спонсору музейный фасад и объявил в газете Frankfurter Allgemeine: «Мы хотим стать частью философии предприятия». Поставленной цели он благополучно достиг. Галерея Тейт, кажется, стала частью философии UBS.
В 2004 году Городской музей Амстердама заключил пятилетний спонсорский договор с банком ABN Amro. Крупный нидерландский банк, помимо прочего, получил право использовать картины из музейной коллекции для коммерческих целей и готовить все тексты для прессы, в которых музей сообщает о совместных выставках. Два года спустя музей был преобразован в частное учреждение. Коллекция и здание остались в собственности города Амстердама, который хоть и выступал пока в качестве инвестора, но утратил право на ознакомление со спонсорскими договорами[121]. Управление взял на себя Фонд музея. Главой наблюдательного совета стал Рейкман Грунинк, председатель правления ABN Amro.
Искусство – это поле битвы, на котором сталкиваются не только личные пристрастия, вопрос о статусе и денежные интересы. Искусство – дело политическое. Ведь в искусстве всегда задаются одни и те же вопросы: кто финансирует искусство? Кто дает определение искусству? Кто наживается на искусстве? Всё это вопросы власти. Искусство же часто становилось овечьей шкурой, под которой укрывалась волчья стая власть имущих. В течение всей своей истории искусство постоянно использовалось в качестве средства осуществления чуждых ему интересов: пропаганде правильной веры, проведению в жизнь политической идеологии, реализации финансовых проектов. Да и сегодняшние чуть заметные изменения полномочий внутри системы влияния на оценку искусства тоже политизированы, так как они отображают изменения полномочий внутри общества. Состоявшийся в последние десятилетия сдвиг от общественного к частному поощрению искусства, от художественного содержания к коммерческой цели также имеет политическое измерение. В Германии знаком того, что сдвиг этот произошел, стал тот факт, что частные коллекционеры начали заявлять права на общественные помещения и общественные деньги для складирования, сохранения, демонстрации и повышения стоимости своих художественных ценностей.
Волки и овцы. Рынок в музее
В Германии более 6 тысяч музеев, из них около 600 художественных – больше, чем в любой другой стране. И здесь тесные связи между музеями и могущественными коллекционерами выглядят все более проблематично. За подъемом восьмидесятых и девяностых последовал финансовый кризис. Был урезан государственный бюджет, традиционно финансировавший немецкие музеи, и денежные источники иссякли. В то же время состоятельные коллекционеры обеспокоились бумом на международном художественном рынке. Из-за растущих цен и урезанных смет частные собиратели стали вытеснять с рынка государственные музеи. Эффект Бильбао, провинциальной дыры, ставшей культурной столицей, возник не сам по себе. Чтобы музей мог с достаточным основанием прослыть культурным аттракционом и символом новизны, его следовало наполнить современным искусством. Заданная рынком формула успеха гласила: новое искусство вместо старых мастеров. Множество музеев по следовали моде и отдались дурману современности. Государственные музеи распахнули двери перед частными коллекционерами, дабы наполнить залы переданными во временное пользование экспонатами. Для некоторых музеев это дружеское приглашение вскоре обернулось чем-то вроде захвата прожженными частными инвесторами, за мелкие деньги купившими своим коллекциям престиж, дающий на рынке жирный навар.
Акула недвижимости Дитер Бок сунул тогдашнему директору Музея современного искусства во Франкфурте Жану-Кристофу Амману миллионную подачку на закупку произведений искусства. Загвоздка была в том, что эти работы музей получал лишь во временное пользование. Таким образом коллекционер использовал финансируемый государством музей для создания, содержания и демонстрации своей частной коллекции. Затем он вытащил из музея часть работ и с выгодой продал их на аукционе. По свидетельству некоторых художников, предприниматель Ганс Гроте, ссылаясь на свой действующий до 2025 года договор с городом Бонном о предоставлении картин в безвозмездное пользование, на особых условиях хранил в городских музеях некоторые работы[122]. Затем он с целью извлечения прибыли забрал 45 из 700 картин из художественного музея, придавшего им культурную ценность и тем повысившего коммерческую.
Таким образом, перепад сил между коллекционерами и музеями Германии тоже не остался без последствий. В то время как американские или французские музеи существуют на пожертвования или деньги фондов, некоторые немецкие музеи раскатывают красную дорожку перед богатейшими коллекционерами и содействуют созданию, демонстрации, содержанию и повышению стоимости коллекций за счет налогоплательщиков. Но когда одалживающий экспонаты использует музей в своих интересах, он злоупотребляет не только общественными деньгами. Здесь ставится под сомнение статус представленного, а также возможность музеев влиять на выбор экспозиции, дискредитируется их функция критика, корректирующего рынок, и, вообще, высшей инстанции в сфере искусства.
Когда речь идет о позиционировании художника и повышении стоимости произведений искусства, коллекционер и арт-дилер выступают в одной упряжке. Роль торговцев в бессилии музеев тоже не осталась незамеченной. Некоторые пользуются благоприятным моментом и сохраняющейся репутацией музея для продвижения на рынке своих художников. Прежде, бросив взгляд на табличку рядом с экспонатом, узнавали имя художника. Теперь куда более содержательным оказывается имя одолжившего экспонат. Ведь оно информирует о коммерческих интересах, побудивших выставить работу. Так, посетитель галереи Тейт мог убедиться, что работы Зигмара Польке, выставленные между октябрем 2003 и январем 2004 под названием «History of Everything» («История всего»), большей частью происходят из кельнской галереи Михаэля Вернера, добившейся тем самым широкой известности в Лондоне[123]. В 2005 году выставка Пола Маккарти в мюнхенском Доме искусств состоялась благодаря существенной поддержке галереи Hauser & Wirth, чьи клиенты прилетели на специально арендованном самолете[124]. Американский художник Майк Келли предоставил парижскому Лувру видеоинсталляцию для выставки «Les artistes americains et le Louvre» («Американские художники и Лувр»). Согласно веб-сайту музея, оплатить это согласились коллекционеры и дилеры художника – фонд Илая Брода и галерея Гагосяна. На настоящий момент самым последовательным в реализации этого принципа является парижский галерист Эммануэль Перротен. Он, наряду с частичным финансированием, доставил к дверям Музея современного искусства в Лионе готовую выставку представляемых им японских художников Чио Аошимы, Айи Такано и Mr., питомцев также им представляемого «сверхплоского» художника Такаши Мураками, и превратил музей в выставочный зал собственной галереи. На веб-сайте выставки красуется ссылка на его галерею. Музей поставил на полученный плоский товар свою печать: «качество – музейное». Способствуют такие музеи еще одной, независимой, точке зрения на искусство, или они уже безнадежно оплетены могущественными частными коллекционерами, влиятельными антикварами и транснациональными концернами?
Настоящие меценаты не одалживают, они дарят. Однако частный капитал и частные коллекции все меньше служат поддержке общественных музеев. Новые медичи охотнее инвестируют в свои собственные собрания и, пользуясь налоговыми льготами, организуют фонды, носящие имя основателя. Фондовый бум показывает, что деньги есть в изобилии. Но на большинство музеев этот золотой дождь не проливается. И сидят они пересохшие в напрасном ожидании спасительных бюджетных дотаций. Ведь частная инициатива представляет желанный предлог для государства и дальше отказываться от финансирования искусства и культуры. А музеи повсеместно закрываются и закрываются. Практика американских музеев поправлять свое финансовое положение продажей экспонатов находит своих последователей и в Германии. Музейным собраниям, бывшим когда-то неотъемлемой культурной памятью гражданского общества, грозит превращение в имущественную массу. Распродажа началась, музей торгует запасами, освобождаясь от балласта своего прошлого и капитулируя перед вездесущностью рынка.
Такое положение дел поднимает вопрос, может ли искусство в демократическом обществе зависеть лишь от предпочтений, интересов и менталитета немногочисленного класса, превосходящего своей покупательной способностью общественные учреждения. Грозит ли искусству полная приватизация, зависит не в последнюю очередь от того, удастся ли восстановить равновесие параллелограмма сил мира искусств, в котором музей занимает непреложное место корректива рынка, движимого коммерческими интересами. Вспомнит ли музей о своем призвании собирать, сберегать, изучать, выставлять и передавать следующим поколениям? Удастся ли ему повернуться лицом к искусству и публике вместо того, чтобы выслуживаться перед лжемеценатами и подстраиваться под конъюнктуру рынка? Будет ли брошена на чашу весов его экспертиза и надежность? Заявит ли он свою позицию и направление деятельности? Отвоюет ли былой ореол, утраченный в базарной шумихе? Признает ли политика свою ответственность за демократическое призвание общественного музея, обеспечит ли его независимость достойным финансированием? Если общественный музей перестанет зависеть от частного капитала, появится возможность восстановить равновесие между искусством и рынком. Если нет, может случиться так, что низвергающееся торжище увлечет за собой в пучину и двухвековую музейную культуру.
Глава 3. Торговец. Промоутеры и паразиты
Торговец – вот враг!
Пикассо – Леонсу РозенбергуТы творец, я действие!
Поль Розенберг – ПикассоМоя работа – делать искусство дорогим.
Тобиас Майер, аукционистОт продавца картин к знатоку искусства. Восхождение торговца
В капиталистическом обществе ценность произведения искусства признается лишь тогда, когда гарантирована его конвертируемость в деньги. Здесь вступают в игру галеристы и арт-дилеры. Они влияют на механизм страсти, определяющий движение художественного рынка. Они набирают художников и выставляют их на скачки, они стимулируют спрос коллекционеров и контролируют предложение. Пари, которые они заключают на лошадей из своих конюшен, страхуются сетью промоутеров – взаимосвязанных галерей, кураторов и критиков. То, что на первый взгляд напоминает рулетку, где ставят на случайное число, при ближайшем рассмотрении оказывается рассчитанным риском, подкрепленным суждением рассудка (глаза), чутьем на дух времени (нос) и сетью союзов (влияние). Беглое обращение к прошлому обнаруживает, как торговец стал ключевой фигурой художественного рынка. Впервые ажиотаж по поводу искусства возник в Золотой век Нидерландов. В XVII веке Нидерланды стали не только великой торговой державой, но и гигантской художественной мастерской. После ухода испанских захватчиков в разбогатевших обывателях проснулась жажда потребления, нуждавшаяся в зримой реализации. Наряду с предметами роскоши местные мастерские в избытке выпускали произведения искусства. Ежегодно на рынок попадало около 70 тысяч картин[125]. Инвентарные описи частных имуществ общей стоимостью до тысячи гульденов свидетельствуют, что обладание картинами соответствовало укладу жизни обладавших средним достатком слоев общества. Растущий спрос заставлял увеличивать предложение. Однако столь бурный поток выносил наверх не только мастеров уровня Рембрандта или Саломона ван Рёйс дала. Он подхватывал и меньшие таланты, заливая покупателей их продуктом. С ростом неуверенности в качестве попадающих на рынок картин сведущие торговцы стали исполнять роль поручителей перед своей клиентурой.
Еще одна перемена этого времени способствовала укреплению влияния торговца. Гильдии, в которых состояли художники и торговцы, исходили из того, что спрос на произведения искусства есть постоянная величина, которой, ради стабильности цен, должно соответствовать предложение. Они были ярыми противниками свободной торговли, которая, на их взгляд, привела бы к неконтролируемому превышению предложения над спросом и вытекающему отсюда обвалу цен. В Харлеме художники круга пейзажиста Рёйсдала все же настаивали на свободной торговле. Они считали, что такая форма продажи будит интерес к искусству и стимулирует спрос на картины. В 1664 году харлемский бургомистр выдал им разрешение[126]. Прежде твердые цены стали меняться в зависимости от спроса. Их стимулирование развилось в технику торговли, которая придала непредсказуемую динамику рыночной ситуации, прежде контролировавшейся гильдией. Деятельность торговцев стала мотором, ускорившим в последующие столетия развитие художественного рынка. Так началось восхождение торговца к его значимости, удерживающейся по сей день.
Торговцы пропагандировали художественные направления, влияли на вкусы и формировали поведение коллекционеров, нередко идя вразрез с общепризнанными стандартами. Во Франции XVIII столетия торговцы инициировали отказ от итальянской исторической живописи. В то время как Королевская академия возвела ее на престол как образец высокого искусства и в мастерстве композиции художники должны были равняться на великих исторических живописцев, торговцы будили интерес богатых собирателей к североевропейским жанровым картинам. Те постепенно вошли во вкус. Умный маркетинг ускорил перемены. Результат: в 1770 году самой дорогой на рынке стала нидерландская живопись, заметно поднялись в цене работы Ватто, не допущенного в Академию изгоя, теперь преуспевшего в созданном им жанре fête galante – «галантное празднество». Переход от академической красоты к художественной достоверности привел к тому, что теперь речь прежде всего стала вестись об атрибуции. Решающим оказалось умение торговца распознавать руку мастера, и когда коллекционеры начали, как в 1764 году заметил один антиквар, «покупать имена вместо работ»[127], произошел переход к современному художественному рынку.
Еще одной вехой на пути от продавца картин к рыночному дельцу стал, столетие спустя, успех импрессионистов. Он явился результатом борьбы галеристов и торговцев со стандартами Академии и мнением критиков. Стало ясно, что ни оставшиеся в прошлом академические критерии, ни влиятельные критики не в состоянии воспрепятствовать успеху нового направления в искусстве. Как же можно доверять критикам, если столь многие из них ошибались в оценке импрессионизма? Под ударом оказывались прежде всего те, кто яростно противостояли новому искусству. Теперь, если ты хочешь сохранить свой авторитет, принимай все новое с распростертыми объятьями. С ликвидацией непреложных критериев оценки (следствие растянувшегося на столетие процесса освобождения) художественная критика превратилась из более или менее обоснованной оценки в более или менее рискованную ставку против усилий галеристов и торговцев в связке с задействованными кураторами, критиками и коллекционерами способствовать успеху того или иного направления в искусстве. Из борьбы за определение искусства победителями вышли галеристы и торговцы. Ответ на вопрос о качестве зависел теперь от них более, чем когда-либо прежде. Благодаря организованному маркетингу галеристы и торговцы стали устроителями карьеры художника и заправилами художественного рынка.
И сегодня девиз большинства коллекционеров гласит: ни шагу без моего галериста. Немногие собиратели выходят на охотничью тропу и самостоятельно выслеживают добычу. У большинства охотничий инстинкт ограничен желанием дождаться, когда вожделенный трофей подгонят ему под ружье. За встречей коллекционера с художником и его произведением стоит, как правило, напряженная работа галериста. Он зондирует почву, следит за первыми шагами молодого художника, сравнивает и выбирает. Он первоначальный, после художника, инвестор художественного рынка. Он тот, кто вкладывает в строительство карьеры художника энергию, время и деньги. Галерист это передовой боец за прозрения, которые он делит с художниками, принятыми в его галерейную программу. В этом его отличие от арт-дилера, который ограничивается продажей картин и переманиванием от соперников успешных художников. К подобным торговцам-провидцам причисляют такие легендарные фигуры, как акушер импрессионизма Поль Дюран-Рюэль, открыватель кубизма Даниель-Анри Канвейлер и менеджер поп-арта Лео Кастелли. «Каждый может открыть художника, – говорил Кастелли, – но сделать из него то, что он есть, придать ему значение – вот истинное открытие»[128]. Из выпущенных на скачки лошадей лишь немногие достигают цели. Через берлинскую галерею Nothelfer за 40 лет прошло 200 художников, из них 120 выставлялись впервые. Из всех этих художников только восьми удалось прочно обосноваться на художественном рынке[129]. Новаторский дух и готовность к риску, часто приписываемые коллекционерам, в действительности являются ключевыми качествами галеристов. Так что неудивительно, что перечни многих собраний читаются как программы галерей, у которых картины были куплены. В собрании Флика почерк галереи Hauser & Wirth проявляется куда отчетливей, чем следы семейной истории. Другие собрания характеризует непрерывная смена бесчисленных галерей. Ингвильд Гётц за годы своей карьеры коллекционера прибегала к экспертизе более 70 галеристов и антик варов. Насколько велико влияние торговли на вкусы и поведение покупателя, подтверждает исследование источников информации, которой располагают коллекционеры. 70 процентов собирателей получают сведения от галерей. Далее, с большим отставанием, следуют контакты с художниками (50 процентов), газеты (более 40 процентов), художественные журналы (40 процентов), телевидение и радио (5 процентов) и интернет (2 процента)[130].
Старое искусство и новые деньги. Джозеф Дювин
Арт-дилер – самая неоднозначная фигура художественного рынка. Работая как в мире искусств, так и на рынке, он, чтобы добиться успеха, должен в совершенстве знать правила игры обеих систем. В романе «Воспитание чувств» Гюстав Флобер вывел фигуру торговца картинами Арну. Будучи посредником между двумя мирами, Арну свой как в мире искусства, так и на рынке. Зная правила игры обеих систем, он способен соединить две антагонистические логики – искусства, где выгода символична, и торговли, где речь идет исключительно о материальной прибыли. Арну уступает художникам символическую выгоду, оставляя за собой материальную – деньги[131]. Отношение к заведомо двойной игре зависит от статуса. Мелкий галерист, борющийся пока за признание, оправдывается, что вынужден еще и деньги искусством зарабатывать. Преуспевающий торговец, напротив, балагурит по поводу денег и цен, представая суверенным аристократом, посвященным в игру двойных стандартов[132].
Такой неоднозначной фигурой был американский антиквар Джозеф Дювин, в конце XIX столетия осуществивший то, что до тех пор совершали только войны: он развернул величайшую в истории миграцию произведений искусства. С 1880 до биржевого краха 1929 года морем из Европы в США были переправлены старые мастера, старинная мебель, средневековые реликварии, редкие рукописи, китайский фарфор, серебро, часы, ковры, монеты в невиданных доселе количествах. Причины этой миграции известны. В конце XIX века в Европе сократились доходы от сельского хозяйства, импорт зерновых из США обрушил цены. Перед европейским дворян ством, владевшим не только землей, но и художественными сокровищами, встала проблема растущих долгов и неплатежеспособности. Одновременно в Америке у нового класса промышленников и предпринимателей, от газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста до стального барона Джона Пирпонта Моргана, появились огромные богатства. Джозефу Дювину, в 17 лет прибывшему в Нью-Йорк из Лондона, чтобы начать работу в антикварном бизнесе своего дяди Генри Дювина, не потребовалось много времени, чтобы привести оба фактора к общему знаменателю. «В Европе куча дорогих картин, а в Америке куча богатых людей. Нужно их друг с другом свести. В этом все дело». Самоуверенность и энтузиазм Дювина привели к тому, что железнодорожные, стальные, нефтяные и автомобильные бароны заразились вирусом собирательства и принялись покупать. Исключительное чутье Дювина на деньги и его экономический подход к истине способствовали тому, что за свои приобретения магнаты платили много. Дювин покупал коллекции целиком, так что невозможно было установить стоимость отдельного предмета. На аукционах он платил за произведения искусства рекордные суммы, прекрасно понимая, что эта информация попадет в прессу и вознесет его запасы в новую ценовую категорию. Первым, кто стал покупать искусство под руководством Дювина, был Рэндольф Херст.
В апогее своего увлечения он тратил на искусство по 5 миллионов долларов в год. Сэмюэл Кресс купил коллекцию из 3210 произведений. Коллекция Джона Моргана после его смерти в 1913 году была оценена в 60 миллионов долларов[133]. Но маленькая группка сверхбогачей, которых Дювин сделал известными коллекционерами, была лишь верхней частью айсберга. Чары культурных сокровищ Европы распространились на более широкие слои состоятельных американцев и привели к драматическому нарастанию спроса. Цены взлетели почти на все категории европейского искусства и антиквариата, неважно, шла речь о старых мастерах, итальянской керамике или французской мебели, и утечка художественных произведений из Европы прекратилась только после биржевого краха в 1929 году. Подсчитано, что три четверти картин старых мастеров в музеях США прошли через руки Дювина[134].
Total global. Денежные потоки и сети
Доступ к денежным источникам по сей день остается одной из структурных предпосылок успешной торговли на художественном рынке. Золотая пуповина, связывающая искусство с деньгами, – это не только так называемые большие коллекционеры, большинство которых распоряжается огромными богатствами. Многие из воротил галерейного и торгового дела подолгу удерживаются на плаву, развертывают позиции и поддерживают спрос только потому, что имеют возможность обращаться к денежным резервам. Джозеф Дювин, снабжавший американских железнодорожных магнатов искусством европейского Возрождения, опирался на высокодоходную торговлю своей семьи, являвшейся поставщиком английского королевского двора, и располагал личными связями с финансистами и банками. Как показывает Мерил Сикрест, именно финансовые возможности стали ключом к его успеху[135]. Никакой другой торговец не имел соглашения с банком, гарантирующего ему овердрафт в 6 миллионов долларов. Ни у кого не было такого доступа к семейству Морганов и их мошне. Благодаря своевременной ссуде консорциума банкиров Дювин смог без проблем с ликвидностью оплатить штраф американской таможни в 1,2 миллиона долларов за обход ввозных таможенных пошлин – ситуация, обанкротившая бы любого другого антиквара[136]. Дювин предвосхитил практику больших аукционных домов. Будучи посредником между банками и клиентами, он охотно предлагал последним долгосрочный кредит, чтобы они смогли осилить запрашиваемые им высокие цены. Он писал: «У нас нет другого пути: получение денег с клиента нужно отсрочить – и тогда приняться доить его; иначе игра не состоится».
Финансовые ресурсы сыграли значительную роль и в другой истории успеха ХХ столетия: закрепление Пикассо в верхнем сегменте художественного рынка. Решающий толчок карьере Пикассо дали два торговца: Поль Розенберг и Жорж Вильденштейн. Слава их как самых значительных антикваров перешагнула границы Франции. Розенберг специализировался на искусстве XIX века, Вильден штейн – на старых мастерах. Они управляли двумя разными галереями, но в финансовых вопросах действовали сообща. Они не просто дали Пикассо возможность представить свои работы в культурно-исторической связи с французской традицией XVII, XVIII и XIX веков. Благодаря своим неограниченным финансовым ресурсам и социальным связям они превзошли все то, что мог предложить Пикассо Даниель-Анри Канвейлер[137]. Оба были уверены в том, что их клиентура приведет Пикассо к успеху, и поделили между собой рынок художника. Вильденштейн стал представлять его в Америке, Розенберг в Европе. Располагает ли арт-дилер, помимо культурного багажа, еще и какими-то финансовыми ресурсами в качестве стартового капитала или сперва добывает кропотливым трудом, зависит от родословной. Много известных антикваров, от Пауля Кассирера и Канвейлера до Илеаны Зоннабенд и Лео Кастелли, происходили из состоятельных или богатых семей, в которых общение с искусством было столь же естественно, как обращение с деньгами и перспектива наследства. Исключения вроде Поля Дюран-Рюэля и Жюльена Танги, вышедших из мелкобуржуазной или пролетарской среды, подтверждают это по сей день действующее правило[138]. Цюрихский галерист Иван Вирт в течение одного десятилетия создал полноценную галерею. Благодаря его компаньонке Урсуле Хаузер, наследнице одного из самых больших состояний Швейцарии, галерея Hauser & Wirth владеет почти неистощимым капиталом, кажущимся вполне надежным после женитьбы Вирта на дочери Урсулы Мануэле. Галерея работает с возмутителем спокойствия мира коллекционеров, немецким собирателем Фликом, а к тому же ловит рыбку в тихой заводи лихтенштейнского банка LTG[139], в рамках своего широкомасштабного управления большими состояниями горячо рекомендующего галерею Hauser & Wirth богатым клиентам, к которым принадлежит Служба изящных искусств швейцарского трастового отделения LTG.
Деньги всегда имеют значение, когда речь идет о том, чтобы отбить у конкурентов многообещающих художников. Немногие художники способны устоять перед денежной приманкой – перед финансированием проектов, оплатой ассистентов, гарантией продаж. Когда неогеометрический концептуалист Питер Хелли в 1992 году перекочевал от нью-йоркской галеристки Илеаны Зоннабенд к Ларри Гагосяну, сделка обошлась в 2 миллиона долларов, хотя и художник, и арт-дилер это опровергали. Неоспоримым остается тот факт, что Гагосян перебил фиксированный месячный платеж в 40 тысяч долларов, который Хелли получал от Зоннабенд[140]. Иван Вирт переманил швейцарскую видеохудожницу Пипилотти Рист из маленькой галереи Stampa в свою великую империю, предоставив ей ассистента. А недавно Ларри Гагосян попробовал перетянуть японского поп-художника Такаши Мураками от его многолетней галеристки Марианны Боэски перспективой фильма[141]. Естественно, что крупные галереи способны выделить на искусство больше денег. Артдилер Гагосян снабжает американских миллиардеров вроде Илая Брода и Стивена Коэна современным искусством и тем самым разрабатывает золотой прииск, приносящий столько, что его годовой оборот превосходит 250 миллионов долларов[142].
Медвежья шкура. Спекуляция
Спекуляция искусством входит в репертуар торговцев художественными произведениями. Каждый галерист, выставляющий на бега художника, заключает пари на его грядущий успех. Еще в конце XIX века торговец искусством Амбруаз Воллар устроил склад для картин своих художников. Он намеревался хранить работы до тех пор, пока не удастся продать их с прибылью. Его примеру последовал Даниель-Анри Канвейлер. Чтобы способствовать успеху своих инвестиций, он придерживался стратегии «долгого вдоха» и стремился не к быстрой перепродаже, а к постепенному повышению цены. Он сосредоточился на деятельности, способствующей росту популярности, а значит и стоимости художника. Так, он лишь изредка организовывал выставки-продажи во Франции, зато поощрял критиков и других торговцев разносить славу о его художниках.
Спекулянты искусством тоже не в 1980-е годы появились. Еще в 1675 году мадам де Севинье писала мадам де Гриньян, что картины «comme de l’or en barre», то есть подобны золотым слиткам, и всегда могут быть проданы вдвое против цены приобретения. Этот совет, которому следуют все скряги, через 300 лет оказался весьма востребован. На заре авангарда, обязанного успехом взаимодействию искусства и рынка, произошло слияние спекулянтов. Группа, объединившаяся вокруг молодого коммерсанта Андре Левеля, открыто заявила о своих спекулятивных намерениях и в 1904 году учредила консорциум, названный La Peau d’Ours – «Медвежья шкура». Подобно двум друзьям из басни Лафонтена, продававшим меховщику шкуру неубитого медведя, они ставили на будущее, приобретая картины у художников, еще не взлетевших на вершину славы. Свою цель – с выгодой реализовать все работы в течение 10 лет – они сформулировали в договоре. Они покупали с размахом и, вместе с коллекцио нерами вроде американцев Лео и Гертруды Стайн или русского Сергея Щукина, подгоняли зарождающуюся торговлю искусством авангарда к процветающему рынку. Спекуляция тринадцати молодых людей удалась. 2 марта 1914 года их коллекция постимпрессионизма, фовизма и кубизма, включавшая работы Гогена, Матисса и Пикассо, с феноменальным успехом разошлась с молотка на аукционе в парижском Hôtel Drouot. Левель и его партнеры отдали художникам 20 процентов прибыли. Никакое мнение критиков не смогло бы послужить лучшим сигналом успеха искусства авангарда, чем этот аукцион. Он обозначил тот исторический рубеж, после которого эстетические суждения и финансовые интересы стали топливной смесью художественного успеха.
Вывод сделал в интервью 1969 года галерист Лео Кастелли: «Чем больше у художника выставок и чем он известнее, тем внимательнее рассматривается в плане инвестиций, тут нет никаких сомнений. Мы все развращены деньгами»[143]. Всего через несколько лет аукционная распродажа собрания его клиента, владельца нью-йоркского таксомоторного бизнеса Роберта Скалла, также сделала для всех очевидным, что сложное искусство авангарда стало не просто признанной и конвертируемой валютой, но настоящим денежным станком. Джаспер Джонс, купленный в 1965 году за 960 долларов, ушел за 90 тысяч долларов, Раушенберг, приобретенный в 1958 за 900 долларов, принес 85 тысяч долларов. Это совершенно изменило отношение коллекционеров к современному искусству. Искусство стало товаром, которым можно спекулировать на фьючерсной бирже, как серебром или свиной грудинкой. И хотя Роберт Раушенберг на аукционе поносил коллекционера за то, что из своей колоссальной прибыли тот ни центом не поделился с художником, цены на его работы возросли еще больше и сделали его богачом. После феноменального успеха аукциона Скалла из связей между богатыми американскими коллекционерами, покупающими в больших транснациональных галереях и на международных аукционах, американским налоговым правом, предоставляющим щедрые льготы за пожертвования музеям, законодателями вкусов и нью-йоркским Музеем современного искусства сформировался новый интернациональный мир искус ства. Это тот мир искусства, который назначает цену художественным произведениям[144].
Мир как художественный рынок. Глобализация
Глобализация – это результат 5-векового процесса покорения мира Европой, начавшегося экспедицией Колумба. Определенные связи между географически отдаленными обществами существовали и до европейской экспансии, но только гелиоцентрическая революция и современная география дали возможность мыслить и говорить о едином глобусе. С тех пор интенсивность и широта всемирных контактов непрерывно возрастали и вели к экономической взаимозависимости и все более тесному переплетению культур. Глобализация в искусстве тоже не является чем-то новым. Производство, продажа и потребление искусства достаточно рано переступили национальные границы. Причины тому были самые разные. Уже в XVI–XVII веках художников тянуло туда, где они могли заработать и снискать славу. Так секреты масляной живописи попали из Нидерландов в Италию, а тайны перспективы из итальянских мастерских к североевропей ским художникам. В 1930-е годы европейские художники вынуждены были эмигрировать в США по политиче ским причинам. Их влияние в значительной степени способствовало появлению абстрактного экспрессионизма, с которым американское искусство впервые приобрело международное значение. В античные времена вместе с военными трофеями в Рим попали греческие скульптуры и оказали решительное воздействие на стиль тамошнего ваяния. В XVIII веке купцы везли североевропейские жанровые картины во Францию, тем самым подстегивая отход от академической исторической живописи. В конце XIX века американские арт-дилеры импортировали в Америку искусство европейского Возрождения, тем самым культивируя художественный вкус и закладывая основу больших американских музеев.
Маркетинг и международное признание художников всегда были результатом торговых союзов. И прежде всего еврейских арт-дилеров, обладавших культурной традицией налаживания деловых контактов; они с максимальной выгодой использовали эффект между народных альянсов, заключающийся в возрастании шансов на успех и снижении рисков и затрат. Так, Канвейлер еще в 1910 году начал с того, что стал целеустремленно налаживать контакты с арт-дилерами Германии, Швейцарии и Восточной Европы. Он всех их снабжал работами своих художников, выставки которых вскоре стали любимым зрелищем в таких городах, как Франкфурт, Кельн, Вроцлав, Будапешт и Санкт-Петербург. Он сотрудничал и с мюнхенским арт-дилером Генрихом Танхаузером, с которым в 1913 году организовал самую на то время большую выставку Пикассо из 32 работ[145]. В том же году Канвейлер показал 4 работы Пикассо на «Арсенальной выставке» (Armory Show) в Нью-Йорке, первой большой выставке современного искусства в Америке. Дальнейшему налаживанию его трансатлантических контактов помешала Первая мировая война.
В глобализированном мире искусства успех маркетинга больше чем когда-либо становится сетевым феноменом. Если прежде галереи в одиночку отстаивали свои рыночные позиции, то теперь они объединяются в альянсы. Если до сих пор торговцы налаживали международное сотрудничество друг с другом, то теперь они объединяются с большими фирмами[146]. Многие из них открыли филиалы в коммерческих центрах интернационального художественного рынка. Галерея Гагосяна содержит две галереи в Нью-Йорке, выставочный зал в Беверли-Хиллс, и две в Лондоне. У цюрихской галереи Hauser & Wirth есть филиалы в Лондоне и Нью-Йорке, у кельнской Spüth Magers – в Мюнхене и Лондоне. Эти крупнейшие игроки художественного рынка – предприниматели, располагающие очень большими деньгами, – размещают определенные имена в стратегически выверенных местах и распространяют работы художников через второстепенные галереи, оказывая тем самым решающее влияние на рынок.
Глобальное объединение арт-дилеров не может не повлиять на конкуренцию. Оно ведет к концентрации спроса на художников, продающихся на мировых рынках искусства. Там национальные знаменитости завоевывают международную клиентуру. Ведь согласно отчету World Wealth Report за 2006 год, подготовленному консалтинговой фирмой Cap Gemini, стиль жизни так называемых HNWI, High Net Worth Individuals, то есть людей с большим состоянием, тоже все больше глобализируется. В результате не более 30–40 художников обслуживают своими работами вкусовые пристрастия всей мировой денежной элиты[147].
Торговля искусством все более перемещается из Европы в англоамериканском и азиатском направлениях. Художественные ярмарки в Майами, Пекине и Сеуле угрожают былой монополии Базеля или Кельна. Глобальные ярмарки оттягивают на себя все большую часть покупателей и товарооборота. Ведущие галереи делают на месте лишь малую долю своей прибыли. Это объясняет, почему раньше галеристы вроде Ганса Майера из Дюссельдорфа или Arndt & Partner из Берлина участвовали не более чем в четырех ярмарках, а теперь разбивают свои шатры на двенадцати[148]. Менее состоятельные галереи предлагают свой товар на сопутствующих ярмарках, которые, подобно спиральным туманностям, окружают главное светило ярмарочной галактики. В эпоху глобализации художественной торговли, а также интернета, позволяющего мгновенно передать в любую точку земли файл JPEG (графического формата для сжатия, сохранения и пересылки картинок), местные галереи выглядят устаревшими.
Вывод: бум на международном художественном рынке происходит на фоне угасания рынков национальных. Сокращается товарооборот художественного рынка во многих странах Европы: за 1998–2001 годы во Франции товарооборот упал на 20 процентов, в Нидерландах на 45 процентов, в Австрии на 45 процентов, в Дании на 33 процента, в Бельгии на 25 процентов[149]. В Германии слабый внутренний спрос между 2003 и 2006 годами привел к падению товарооборота на 23 процента[150]. Как же это уживается с ажиотажем вокруг «краут-арта», новой Лейпцигской школы и новой немецкой фотографии? Немецкое искусство успешно как раз не на национальном, а на международном рынке. Мартин Эдер продается в Майами, а не в Лейпциге. Наряду с растущим значением глобальных перевалочных пунктов, ответственно за это широчайшее использование интернета как средства информации. Его радиус действия укрепляет международную значимость больших галерей и, тем самым, усиливает концентрацию на немногих победителях и спросе на их работы. И все же всемирно продаваемое искусство составляет в лучшем случае 10 процентов всей художественной продукции. Остальные 90 процентов остаются на тонущем корабле падающего внутреннего спроса.
Острова изобилия. Гегемония места
Искусство жмется к деньгам. В метрополии с высоким средним доходом высока и плотность галерей. Концентрация на островах изобилия обнаруживается и в глобальном масштабе. Если в первой половине ХХ века пупом западного мира искусства был Париж, то после Второй мировой войны художественной столицей мира стал Нью-Йорк. Многие из покинувших Европу художников поселились там и оказали неизгладимое влияние на современное американское искусство. К тому же Америка в последовавшие за Второй мировой войной полтора десятилетия испытала грандиозный экономический подъем, от которого выиграли не только нижний и средний классы, но и тот высший слой, что покупает искусство. Таким образом, художники встретили в Нью-Йорке с удовольствием потребляющую и платеже способную публику, не затронутую мировой катастрофой. И сегодня столица миллиардеров остается одним из главных центров международного художественного рынка. Нигде не тратится больше денег на искусство. В 2005 году более 43 процентов мирового аукционного оборота пришлось на долю Америки, в основном Нью-Йорка.
Средний годовой оборот нью-йоркских галерей в 2001 году составил 1,8 миллиона долларов, что более чем втрое выше остальных американских и более чем всемеро выше нидерландских галерей[151]. Так что для художника выставка в богатой нью-йоркской галерее – это трамплин в следующую ценовую категорию. Работа Йозефа Бойса «La rivoluzione siamo noi» («Революция – это мы»), выброшенная Лучо Амелио на рынок тиражом в 180 экземпляров, после нью-йоркской выставки в конце 1980-х годов выросла в цене более чем вдвое, сообщает кельнский галерист Хайнц Хольтманн. Она стала стоить в долларах то, что раньше стоила в марках, что повлияло и на общую структуру цен. И хотя, как правило, основную роль в установлении цены на художника играет его первичная галерея, существует исключение: нью-йоркские галереи гонят цены вверх.
Aldi или Eyestorm. Искусство для всех
Художники, которых по всему миру продают влиятельные арт-дилеры, покупают коллекционеры и выставляют музеи, составляют лишь незначительный верхний сегмент искусства, продаваемого на аукционах. Кучка богатых собирателей, готовых выложить за художественное произведение больше 100 тысяч долларов, не отвечает и за 2 процента сделок, но составляет замкнутый круг, оказывающий колоссальное воздействие на остальной художественный рынок. Когда крупный коллекционер тратит миллионы, это становится сигналом для множества покупателей с куда менее тугой мошной. Так что эффект «подражания верхам», определяющий потребительское поведение, наблюдается и на художественном рынке. Это распространяется на имена и направления. В роли покупателей репродукций и постеров под власть немногих имен попадают также средний и нижний ценовые сегменты. Из 28 миллионов долларов, с 1997 по 2005 годы вырученных на аукционах за работы Роберта Раушенберга, только одна была продана за 5,8 миллионов. 90 процентов сделок были заключены на суммы ниже 24 000 долларов, 80 процентов – ниже 7500, 70 процентов ниже 3600 и половина – ниже 1600 долларов. 80 процентов проданных с молотка работ Раушенберга поменяли владельца за цену от 550 до 7499 долларов.
Тот, кто не может позволить себе крупноформатную фотографию Томаса Руффа, покупает малоформатный дешевый экземпляр, тот, кто не состоянии купить Херста у Саатчи, приобретает его в интернет-магазине Eyestorm, кому не по карману большой Джефф Кунс, заказывает его миниатюрную копию в арт-журнале Parket. Японский художник, дизайнер и предприниматель Такаши Мураками выбросил на рынок свой «Цветочный мяч» за 360 евро. К чемпионату мира по футболу 2006 года ограниченный тираж пестрых мячей в прозрачной пластиковой сумке продавался по всему миру: в мюнхенской галерее Storms, художественном музее в Майами, через интернет в американском Designer Store Moss или в японском Giant Robot Store, специализирующемся на азиатской поп-культуре. Так же как в мире моды основной оборот делается не на haute couture, а на дешевом массовом товаре вроде футболок и солнечных очков, всемирно известные художники большей частью оборота обязаны тиражным изданиям. Массовый товар излучает на рынке ауру оригинала, а также поселяет в широких покупательских кругах желание приобщиться к мифу бессмертного искусства и приблизиться к законодателям вкуса, обладающим бесценным оригиналом.
Эксперимент радикальной демократизации, на который в 2003 го ду отважился немецкий художник Феликс Дрезе, предложивший потребителям сверхдешевую печатную графику через дешевый супермаркет Aldi, оказался голом в собственные ворота. Хотя слава художника выросла, но цены упали. Два года спустя покупатели предлагали эту графику на сетевом аукционе eBay по стартовой цене в 24,99 евро. Количество предложений через 3 дня – ноль[152]. Зато супермаркет признал кампанию успешной. Ведь она привлекла в его разбросанные по всей стране филиалы толпы покупателей искусства. Все работы были распроданы в первый же день.
Двойная игра. Борьба за искусство и деньги
Искусство тоже носит Prada. Культовая марка художественной тусовки дала мотив и название одной из самых дорогих фотосерий арт-рынка: «Prada I», «II» и «III». На горизонтальных снимках немецкого художника Андреаса Гурски представлены три варианта витрины в магазине Prada. Бледно-зеленый стеллаж с обувью, бледно-зеленый пустой стеллаж, бледно-зеленый стеллаж с пуловерами. Мы всегда знали, что страсть к полкам Prada обходится дорого – но, как ни удивительно, не везде одинаково дорого. В октябре 1999 фотография «Prada I» была продана на аукционе Christie’s за 173 тысячи долларов. Чуть позже аналогичная работа стоила в галерее Matthew Marks около 50 тысяч долларов. «Prada II», сначала предлагавшаяся в галерее Matthew Marks за 20 тысяч долларов, в ноябре 2000 года ушла с молотка на Christie’s за 270 тысяч долларов[153]. Через год «Prada III» была продана на аукционе за 310 500 долларов. Подобная разница между аукционной и галерейной ценой в высшем сегменте современных художников – вовсе не исключение. Но вообще-то, в эпоху рекламы это правило действует для большей части художников: в галереях стабильные цены, а на аукционе обвал или полное отсутствие интереса. Чем объяснить тот факт, что одни и те же работы в галерее и на аукционе продаются за столь различные деньги? Почему не растет цена в галерее, когда увеличивается спрос? Почему не падает, когда нет покупателя? Почему, с другой стороны, картины одного размера и одного художника продаются за одинаковую цену, хотя галерист считает, что они вовсе не равнозначны по качеству? Но если цена произведения искусства не зависит ни от спроса и предложения, ни от качества работы, то что же она выражает?
Социоэкономист Олаф Вельтус исследовал эту бессмыслицу. Он пришел к выводу, что галеристы и аукционные дома балансируют между двумя системами ценностей: искусством и рынком[154]. На одной стороне галеристы защищают бастион искусства, на другой аукционные дома размахивают знаменами рынка. Это находит свое воплощение в различной цене, которую платят за одно и то же произведение искусства. Фундаментальные различия между галереей и аукционом начинаются с того, что галереи представляют художника, а аукционы продают художественные произведения. Галерея видит в работе художника культурное достояние, статус которого создается в длительном процессе добавления стоимости. Аукционный дом торгует ей как товаром, стоимость которого мгновенно определяется исходя из спроса и предложения. Галерея поддерживает определенного художника, аукционный дом приспосабливается к неустойчивому качеству произведения и меняющимся предпочтениям покупателей. Цены галереи отражают значение художника, аукционные цены, напротив, рыночную приемлемость работ. В галерее превышение спроса решается с помощью листа ожидания, а работа передается известному коллекционеру. На аукционе побеждает тот, кто предложил наиболее высокую цену. В галерее ценятся знатоки, на аукционе – кошельки. Итак, у галерей с аукционными домами двойная конкуренция: за деньги покупателя и за право определять, что следует считать искусством. Так что художественный рынок – это не только распределительный механизм. Это еще и арена, на которой сражаются за то, как следует рассматривать и оценивать искусство.
Strategygetarts. Экспансия аукционных домов
Strategy get arts – этот палиндром, выдуманный швейцарским художником Андре Томкинсом, и слева направо, и справа налево читается как призыв приобретать искусство. Речь идет о политике экспансии больших аукционных домов и их сосредоточенности на разработке новых состоятельных покупательских групп. Аукционные дома обладают инструментами влияния, глубоко укоренившимися в структуре художественного рынка и форсирующими дальнейшую экономизацию искусства. Ведь успешный маркетинг базируется на неустанной пропаганде искусства как не столько искусства, сколько генератора социальной и монетарной прибавочной стоимости – статуса и денег. Транснациональная экспансия аукционных домов оказывает глубокое влияние на правила игры глобального художественного рынка, то есть на условия, при которых искусство оказывается замечено, куплено, потреблено.
Более 600 аукционных домов по всему миру добиваются расположения покупателя. Будучи предприятиями с замкнутым циклом, они озабочены многократной реализацией художественных произведений. Три из них входят в лигу игроков мирового масштаба: Sotheby’s, его главный конкурент Christie’s и устремившийся за лидерами Phillips de Pury & Company. Из оптовых аукционов они превратились в роскошные магазины, торгующие искусством. Роль, которую они играют в превращении искусства в деньги и статус, превосходит роль большинства галерей и арт-дилеров. Методы маркетинга, столетиями успешно используемые торговцами искусством, они перевели в индустриальный масштаб и таким образом ужесточили конкуренцию на глобальном уровне. Их сегодняшнее положение на мировом художественном рынке есть результат экспансионистской стратегии, фундамент которой заложен еще в шестидесятые годы. Сначала они ограничивались искусством минувших эпох и снабжали товаром розничных торговцев, но потом расширили свою тер риторию, обратившись к современному искусству и конечному потребителю художественного рынка. Распространение их сферы влияния повлияло и на цены.
«По системе проходит заметная денежная волна», – комментировал в начале 2006 года бум аукционного рынка председатель правления Sotheby’s Уильям Рупрехт в журнале Wall Street Journal[155]. Christie’s тоже отметил рекордный товарооборот. Вал денег, пронесшийся по аукционному рынку, вздувает комиссионные аукционных домов. И объем сделок с современным искусством в общем товарообороте все увеличивается. Кусок, вместе с сегментом современного искусства отрезанный аукционными домами от пирога художественного рынка, не был подан на блюдечке. Сначала пришлось достать нож. Все делалось в тайне и произошло в три фазы.
Первая фаза. Аукционный дом как швейцарский банк
В середине 1960-х годов Питер Уилсон, сделавший Sotheby’s одним из ведущих аукционных домов планеты, поручил специалисту по связям с общественностью освободить предприятие от имиджа затхлой, пропыленной конторы. Искусство ради искусства он считал «чистейшим вздором» и полагал, что задача искусства – производить две вещи: деньги и статус. Результатом стали маленькие наглядные графики, арт-индексы Times – Sotheby’s. Они доступно демонстрировали динамику цен на старых мастеров, китайский фарфор или японские нэцке и придавали серьезность финансовой статистики текстам, которыми аукционный дом добивался расположения клиентов. Позже Уилсон объяснял успех новой политики фирмы таким сравнением: хороший аукционный дом подобен хорошему швейцарскому банку[156]. Популяризацией мнения, что аукционные цены, так же как курсы акций, можно использовать в качестве барометра рынка, Уилсон сделал первый вклад в пропаганду искусства как вложения капитала. Аукционные дома перестали ассоциироваться с пыльными чердаками и грязными барахолками раз и навсегда.
В 1973 году большие аукционные дома дошли до того, что стали публиковать в каталогах оценочную стоимость. Этот ход конем стал вехой на пути аукционных фирм от оптовой торговли к розничной. Внедрение оценочной стоимости оказалось магнитом для частного клиента, поскольку упрощало предложение и гасило пороговый страх непрофессиональной публики. Теперь и любители, не имеющие никакой предварительной подготовки, получили возможность принимать участие в аукционном балагане и возможностью этой воспользовались. Были и другие мероприятия, нацеленные на то, чтобы завоевать частного клиента. Например, Sotheby’s организовал курс искусствоведения, который вели его собственные эксперты. Аукционами вин и драгоценностей Christie’s добивался внимания верхнего слоя среднего класса, который, разбогатев на волне экономического подъема в Великобритании, начал притязать на привилегии, прежде закрепленные лишь за высшим классом. Превращение аукционных домов в универмаги предметов роскоши пошло полным ходом.
Вторая фаза. Завоевание конечного потребителя
Массированное наступление на конечного потребителя художественного рынка стартовало через 10 лет. Все началось с того, что американский магнат розничной торговли Альфред Таубман в 1983 году завладел Sotheby’s, перевел его, несмотря на обещания, данные им британским властям, из Лондона в крупнейший мировой центр торговли Нью-Йорк и поменял правила игры. Он организовал кампанию, в результате которой аукционный дом из оптового торговца, снабжающего прежде всего профессиональных арт-дилеров, трансформировался в розничного. Исследования рынка обнаружили потенциальный источник прибыли: только 1 процент американских миллионеров приобретал что-нибудь на аукционе. Соответственно, следовало мобилизовать остальные 99[157]. Итак, у аукционного дома целая куча потенциальных клиентов, ждущих только того, чтобы им закинули сети. Но эти клиенты боятся переступить порог магазина, и отпугивает их сложная аукционная система. Как в анекдоте: в самый неподходящий момент зачешется ухо, и вот ты уже купил Пикассо. Таубман в Wall Street Journal возражает: «Продажа искусства имеет много общего с продажей рутбира[158]. Людям не нужен рутбир, и живопись им тоже не нужна. Мы внушаем им, что с рутбиром и живописью им будет значительно лучше»[159]. До той поры аукционные дома работали в основном с торговцами, которые прибавляли к покупной цене свою маржу и, соответственно, перепродавали дороже. Эту наценку, которую явно готов платить конечный потребитель, аукционный дом мог бы положить в собственный карман. Во второй половине 1980-х годов доля частных торговцев в этом процессе снизилась с 75 до 40 процентов, уступив место платежеспособным клиентам[160].
Как специалист по розничной торговле, Таубман знал, насколько важно визуальное представление продукта. Элегантно оформлен ные и вразумительные каталоги распространялись в качестве рекламы в богатых районах. Оставалось только затянуть сеть и поднять добычу на борт. С тех пор огромные суммы были вложены в маркетинг и рекламу. Ведь присутствие в средствах массовой информации – это ключ к спросу, то есть один из столпов успеха. Сначала разрабатывается медиа-план, дабы разрекламировать значение предлагаемого собрания или конкретной работы и пробудить вожделение потенциальных покупателей. Хорошо подобранная смесь искусствоведческого правдоподобия и экстравагантного великолепия золотит образ выставленных на продажу произведений искусства. После продажи объекта средства массовой информации служат распространению эффективного афродизиака высокой цены. Ибо становится сенсацией и лучится успехом не содержание искусства, но его цена.
Третья фаза. Захват современности
Следующий удар нанес в мае 1998 года французский бизнесмен Франсуа Пино, когда перекупил аукционный дом Sotheby’s, являющийся основным конкурентом Christie’s, и превратил флагман ский британский крейсер в частное предприятие, подчиняющееся французским законам. Его холдингу Pinault-Printemps-Redoute, сокращенно PPR, помимо сети универмагов Printemps, фирмы посылочной торговли Redoute и марки Yves Saint Laurent, принадлежат контрольные пакеты акций Gucci, Sergio Rossi, Alexander McQueen и Stella McCartney.
Пино увидел, что фирмы, производящие предметы роскоши, связаны общими клиентами. Ведь обладающий вкусом и деньгами, чтобы хорошо одеваться, с большой вероятностью покупает не только одежду, но и искусство. Вскоре его земляк и соперник Бернар Арно, король-солнце индустрии роскоши, взял под контроль третий по значению аукционный дом Phillips. Он тоже захотел использовать престиж искусства для организации собственного синдиката. Будучи владельцем контрольного пакета LVMH, Арно правит империей из более чем 50 роскошных брендов, от Louis Vuitton, Moёt & Chandon, Christian Dior, Marc Jacobs и Donna Karan до Emilio Pucci. Кроме того, Арно приобрел художественные журналы Art & Auction и Connaissance des Arts, запасшись тем самым удочкой с самой действенной наживкой, которую и забросил в садок рынка искусства.
Именно с появлением в мире искусств Бернара Арно стало ясно, что искусство попало в мощное силовое поле моды. В июне 2001 года на первой странице Art & Auction красовалось не художественное произведение, а работа фотографа моды Стива Мейзела, прославившегося своими снимками в книге Мадонны «Секс». В июле 2001 лондонская галерея White Cube выставила его пятнадцать крупноформатных работ под названием «Four Days in L. A.» («Четыре дня в Лос-Анджелесе»), снятых для Версаче. Мода? Маркетинг? Реклама? Искусство? За кажущейся путаницей понятий скрывается эффективная формула торговли. Модные дома типа Prada или Hugo Boss пользуются статусом искусства и проецируют его имидж на одежду, сделав спонсорство и коллекционирование составной частью продвижения торговой марки. Аукционные дома, напротив, используют привлекательность моды в собственных гламурных журналах для привлечения новых покупательских слоев. По словам Михаэлы Ноймайстер из аукционного дома Phillips de Pury & Company, многие новые клиенты покупают искусство из страсти потребления. Они меняют произведения искусства, как одежду. Теперь мода не только действует в искусстве как принцип, но в буквальном смысле стала его целью и содержанием: флаконы и хозяйственные сумки работы Сильви Флёри или портреты моделей Сары Моррис. Мода? Маркетинг? Реклама? Искусство?
Аукционные дома извлекают выгоду из связи искусства с модой и стилем жизни. Как это происходит – совершенно понятно: аукционные дома живут на комиссионные, а комиссионные растут не только вместе с ценами, но и с циркуляцией художественных работ на рынке. Купленная работа должна быть продана снова. Собирающий для вечности коллекционер рыночный круговорот не поддерживает, равно как и музеи, чьи врата, с точки зрения художественного рынка, подобны крышке гроба, навеки захлопывающейся над произведением искусства как печатающим деньги станком. То, что произведение, в результате, останется в культурной памяти, может быть важно для художника и его работы как послания человече ству. Но художе ственный рынок тем прибыльней, чем быст рее люди забывают это послание и, подобно моде, ежесезонно меняют свои пристрастия. Арт-дилер Ларри Гагосян, известный своей агрессивной политикой на вторичном рынке, так высказался по поводу финальности статуса, который произведения искусства получают в музее: «Я неохотно продаю картины музеям, потому что не получаю их обратно»[161].
В 1998 прозвучал стартовый выстрел в самую гущу доходного рынка современного искусства. Этот рынок много обещает по двум причинам: нет проблем ни с притоком покупателей, ни с восполнением товара. Центральный вопрос при этом: какие художники созрели для аукциона? Шайенн Уэстфал, директор лондонского отдела современного искусства Sotheby’s, считает, что когда у художника распродана последняя выставка и 80 процентов работ уходят в различные учреждения, появляется куча разочарованных коллекционеров[162]. Именно эти покупатели, которые пока не заслужили своими сокровищами золотого значка собирателя и остаются в листах ожидания галерей на самых последних местах, являются целевой группой аукционных домов. Кто позже пришел, платит больше. Это правило действует на художественном рынке точно так же, как на бирже.
Едва заметно для общественности готовили аукционные дома свое вторжение на территорию современного искусства. Их маневры руководствовались тактикой паука: опутать и ликвидировать. В 1990 году Sotheby’s и галерея Acquavella почти за 143 миллиона долларов перекупили фонды галереи Пьера Матисса, сына Анри Матисса. В 1996 году аукционный дом заключил союз с галереей Андре Эммериха и обеспечил себе доступ к работам таких художников, как Пьер Алешински, Пьеро Дорацио и Сэм Фрэнсис. Для галереи Андре Эммериха флирт с аукционным гигантом оказался смертельным номером – в 1998 году она закрылась. Согласно анализу эксперта художественного рынка Кристиана Херхенрёдера, это стало началом глобальной кооперации с галереями, в результате которой большие аукционные дома вцепились в художников и смогли расширить свое влияние вплоть до музеев[163].
Переустройство аукционного рынка находилось как раз в этой фазе, когда Sotheby’s и Christie’s были втянуты в США в процесс против незаконного соглашения о ценах. Арно не удалось сбросить с постаментов ослабевших гигантов и он продал свою долю, освободив место, занимаемое Phillips de Pury; его пришедший из индустрии моды посыл состязаться за готовых к потреблению покупателей искусства свое влияние оказал. В то время как художественный рынок 1990-х годов интересовался только знатоками, Арно предложил тему гламурной прессе. В результате редакторы модных журналов назначили новые художественные выставки, подобные лондонской Freeze или Art Basel Miami, местами, обязательными для посещения. В такой новой форме арт-репортажа имена художников представали как названия торговых марок: вслед за Bulgari и Gucci шли Барни и Гурски. Расчет оправдался: Мода! Маркетинг! Реклама! Искусство!
Поразительное преумножение денежных масс. Тайное соглашение о ценах
Тайные договоренности не являются исключительным правом картелей цементной индустрии. Еще экономист Адам Смит знал, что как только появляется возможность, деловые люди так и норовят объединиться в картели. Ведь картели трудно уличить в сговоре. Комиссионные аукционных домов могут копировать действия друг друга вплоть до полного сходства, но что это – следствие здоровой конкуренции, случая или сговора[164]? В апреле 1993 года случилось именно так. Проявив завидное единодушие, Sotheby’s и Christie’s подняли комиссионные. Семь лет изливался золотой дождь, пока американское Министерство юстиции не положило ему внезапный конец, предъявив обвинение в незаконном соглашении о ценах обоим аукционным исполинам. В феврале 2000 года держатель контрольного пакета акций Sotheby’s Альфред Таубман подал в отставку, чтобы провести в заключении «на хот-догах и икре» один год и один день. Исполнительный директор Диана Брукс отделалась домашним арестом и денежным штрафом. Christie’s покаянным признанием добился амнистии. Тем не менее оба аукционных дома должны были заплатить своим обманутым клиентам 256 миллионов долларов каждый в возмещение убытков. Вскоре они снова определили структуру комиссионных – и опять их повысили. Ввиду глобального доминирования этих двух аукционных домов на рынке их клиентам ничего не остается, как раскошеливаться еще больше.
Спекулянт. Гарантии и кредиты
Не только заинтересованность аукционных домов в высоких комиссионных влияет на результаты торгов. Аукционные дома конкурируют и за предложение. В борьбе за художественные произведения они пришли к тому, что тягаются друг с другом в обещании гарантированных сумм. Таким образом ценовая планка поднимается еще выше. Если достичь ее не удается, убытки остаются висеть на аукционном доме. Нужно допрыгивать до этих высоких сумм, если не превосходить их. Говорят, что когда «Лиз» Уорхола 1963 года стала уплывать от Sotheby’s к Christie’s, сотрудник Sotheby’s тут же вылетел в Лос-Анджелес. Он предложил владельцу портрета гарантийное обязательство в 10 миллионов долларов, дабы картина наверняка попала в нужный портфель заказов[165]. Расчет оправдался. В мае 2004 года «Лиз» была продана на Sotheby’s за 12,6 миллиона долларов, включая комиссионные.
С тех пор как возник рынок, на котором товары продаются за деньги, потребительский кредит стал вторым после маркетинга шагом на пути к продаже. Маркетинг будит жажду обладания, потребительский кредит позволяет ее утолить. Аукционные дома, начав заманивать клиентов кредитами, все более и более уподобляются швейцарскому банку. Таким образом, аукционный бизнес становится источником двойного дохода. Вслед за комиссионными за сделку с искусством следуют проценты за сделку с кредитом. В 1988 году потребительские кредиты составили 206 миллионов долларов, то есть 10 процентов выручки Sotheby’s[166].
Следствием двойного паса между гарантией и кредитом стало дальнейшее повышение цен. Потенциальные покупатели, торгующиеся за произведения искусства на деньги, частично ссуженные аукционным домом, склоняются к тому, чтобы предлагать цены выше гарантированной нижней планки. Галерея, напротив, представляет клиенту ценовую верхнюю планку, которую он может опустить. То, что расчет оправдывается не всегда, иллюстрирует продажа с молотка в 1987 году «Ирисов» Ван Гога австралийскому бизнесмену Алану Бонду. Он воспользовался предоставленным Sotheby’s кредитом, который не смог вернуть. Хотя пресса раструбила о рекорде в 54 миллиона долларов, на самом деле картина продана не была. Три года спустя Sotheby’s объявил о прекращении рискованной кредитной практики. Сегодня аукционный дом предпочитает давать кредиты продавцам художественных работ. И это тоже сулит тройную выгоду: победу в борьбе за произведение искусства, доход от процентов и комиссионные.
Решающий момент. Состязание покупателей
«Я помню отчетливо, что мною вдруг действительно без всякого вызова самолюбия овладела ужасная жажда риску. Может быть, перейдя через столько ощущений, душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущений еще, и все сильней и сильней, до окончательного утомления. И, право не лгу, если б устав игры позволял поставить пятьдесят тысяч флоринов разом, я бы поставил их наверно. Кругом кричали, что это безумно»[167]. Участник торгов, готовый, подобно игроку из одноименного романа Достоевского, заплатить любую цену, – вот мечта каждого аукциониста. Путь к цели – пробуждение алчности. И это вопрос предварительной подготовки.
С последним ударом молотка произведение искусства обретает цену. Цена эта ни в коем случае не результат случайной встречи спроса и предложения. Решающий момент есть результат спланированного стечения обстоятельств. Весь аукцион, от установления оценочной стоимости до последовательности предлагаемых произведений, представляет собой результат до мельчайших деталей спланированной стратегии. Случайность сводится к минимуму. Цель этой стратегии – раздувать пламя страсти, как можно выше вздымая цену до того момента, пока удар молотка не вынесет монетарный приговор относительно ценности художественного произведения.
Уже в стадии подготовки обыгрываются возможные ситуации состязания участников. «Прежде чем взять что-нибудь на аукцион, – говорит один из кураторов Christie’s, – мы должны убедиться, что есть по меньшей мере два претендента на эту вещь»[168]. В логике соревновательного принципа аукциона заложена потребность хотя бы в одном контрагенте, поднимающем цену. Когда речь идет о шести значных суммах, для поддержания нужной динамики необходимо уже три конкурента. Кроме того, современным работам нужно создать художественное окружение, чтобы заинтересованный мог опознать произведение. Ведь куплено будет только то, что понято. Если на торги выставляется Энцо Куччи, для того же аукциона требуются и другие протагонисты трансавангарда вроде Франческо Клементе и Марио Мерца. Такой фотограф, как Томас Деманд, может быть представлен либо последователем школы Бехеров, либо попутчиком Синди Шерман, хотя, строго говоря, он к школе Бехеров не относится, а его фотоинсценировки имеют мало общего с работами Синди Шерман. Художественные рамки, выстраивающиеся на страницах аукционных каталогов вокруг всякого произведения, служат не столько искусствоведческой ориентации, сколько необходимости продать товар[169]. Перед аукционом разрабатывается план публикаций, подготавливающих к продаже отдельное произведение или целое собрание и будящих желание потенциальных покупателей. Маркетинг – это фабрика иллюзий, граница с рекламой размывается.
Дальше начинается превосходно инсценированное шоу. Мешанина из казино, боксерского ринга и вручения «Оскаров». Шарик закрутился, торги начинаются. Аукционист задает ритм. Он определяет драматургию предложений и стимулирует состязание претендентов. Напряжение растет. Если какая-то работа не находит покупателя, даже шепот нарушает напряженную тишину. Когда, сопровождая некую астрономическую сумму, падает молоток, зал сотрясают раскатистые аплодисменты. После продажи средства массовой информации разносят эффектный афродизиак высокой цены. В том, что цель достигнута и разлилось обольстительное сияние успеха, заслуга не сколько искусства, сколько цены.
Что обнаружили Мей и Мозес. Влияние оценочной стоимости
Тот, за кем остается последнее слово на аукционе, побеждает конкурентов и забирает трофей. Но порой победитель платит слишком много. В теории игры феномен переплаты называется winner’s curse – проклятие игрока. Тот, кто выходит победителем с торгов, одновременно оказывается заплатившим больше, нежели были готовы заплатить прочие. Считается, что в среднем покупатели обладают реалистичным представлением о цене, так что тот, кому достался последний удар молотка, платит слишком много. Цзянпин Мей и Майкл Мозес, получившие известность благодаря индексу Мея – Мозеса (Mei-Moses-Art-Index), в своей работе 2002 года «Art as an Investment and the Underperformance of Masterpieces» («Искусство как инвестиция и низкая рентабельность шедевров») исследовали доход от произведений искусства за 125 лет и доказали, что прибыльность самых высоко оплачиваемых шедевров ниже среднего. Полученный результат вошел в противоречие с известным советом каждый раз сосредоточиваться на лучших – и, соответственно, самых дорогих – произведениях и оставил в области популярных заблуждений предположение, будто в долгосрочной перспективе они приносят большую прибыль, нежели произведения из среднего или нижнего ценовых сегментов. К тем же выводам приходит экономист Джеймс Пезандо, в 1993 году доказавший сравнительно низкую рентабельность шедевров на примере печатной графики.
Описанию причин этого посвящено очередное исследование Мея и Мозеса 2004 года «Vestet Interest and Biased Price Estimates» («Закрепленное право и пристрастная оценка»). Профессора предположили, что причина сравнительно низкой доходности шедевров лежит в ассиметричном распределении информации, которым пользуются аукционные дома. Известно ассиметричное распределение информации на бирже, где продавцы новых выпусков ценных бумаг, как правило, располагают более точной информацией относительно их истинной стоимости, нежели потенциальные покупатели. Трудно устоять перед искушением извлечь прибыль из этой неосведомленности, пустив в продажу новые акции по завышенной цене. Для покупателя это оборачивается заниженной, по сравнению со средним уровнем, прибылью при дальнейшей продаже акций. Мей и Мозес обнаружили превосходную лабораторную ситуацию, где они смогли сравнить реальные цены до и после введения оценочной стоимости. До 1973 года покупатели искусства, в то время прежде всего профессиональные арт-дилеры, при оценке предлагаемых работ чаще всего полагались на собственную информацию. После 1973 года аукционные дома обнародовали оценочные стоимости. Это создало идеальные условия для того, чтобы проверить, насколько оценка продавца, отличная от собственной оценки покупателя, влияет на конечную цену и полученную при дальнейшей продаже прибыль. Результаты исследования: во-первых, на оценочную стоимость влияет заинтересованность аукционных домов в высоких комиссионных, во-вторых, покупателя склоняют платить больше за объекты с высокой оценочной стоимостью, и, в-третьих, введение аукционными домами оценочной стоимости привело в долгосрочной перспективе к снижению доходности произведений искусства высшего ценового сегмента.
Сигналы рынку. Влияние аукционных цен
«Уясните себе, что существует одно-единственное место, где познается ценность картины, это аукционный зал». Это изречение принадлежит вовсе не Альфреду Таубману, а Огюсту Ренуару. Аукционные цены – сигналы рынку. Основная причина заключается в том, что они открыты для публики, в отличие от цен в галереях и у арт-дилеров. Их прозрачность и широкое освещение в средствах массовой информации придает им значение, постоянно растущее в эпоху онлайновых баз данных искусства и арт-индексов. Кроме того, общественность гипнотизируется мантрой, будто аукционные цены, в отличие от галерейных, отражают баланс спроса и предложения. Таким образом, аукционная цена представляется надежным индикатором рыночной стоимости художественного произведения, куда более достоверным, нежели галерейная. Налоговое управление США при оценке художественных произведений результатам аукционов доверяет больше, чем галерейным ценам или заключениям экспертов[170].
Аукционная цена сегодня стала барометром рыночной стоимости художественных произведений и, следовательно, мощным инструментом продвижения художников. Действительно ли аукционные цены объективнее галерейных? Некоторые считают иначе. Аукционная торговля – это сектор художественного рынка, подверженный наибольшим колебаниям цен. Ведь аукционная цена произведения искусства всегда основана на однократной трансакции, подчиненной сиюмоментному соотношению спроса и предложения. Демократична ли такая форма ценообразования, как то полагает Бретт Горви, глава отдела современного искусства Christie’s?[171] Аукционный зал – избирательный участок, предложение – голосование, цена – решение большинства? Тобиас Майер, коллега Горви из Sotheby’s, считает ее капиталистической: «Все очень просто – выигрывает самый богатый»[172]. Не большинство голосов, а большин ство денег определяет стоимость художественного произведения – и часто это в высшей степени индивидуальное решение. Обычно хватает пальцев одной руки, чтобы пересчитать потенциальных покупателей. К тому же секрет полишинеля, что аукционный зал – это идеальное место для того, чтобы влиять на цены. Учитывая неопределенность в критериях оценки произведения искусства, существует исключительный простор при определении стоимости. Известно, что аукционные дома вовсю используют эту серую зону. В зависимости от намерений клиента и условий налогообложения они могут установить стоимость работы в весьма широком диапазоне. Об этом свидетельствует рукописная заметка из материалов дела против Christie’s и Sotheby’s: «С подвижной оценочной шкалой никаких правовых проблем быть не может, поскольку установить цену единственного в своем роде объекта невозможно»[173].
Граница между разрешенными и запрещенными манипуляциями весьма размыта. Аукционные дома были обвинены во взвинчивании цен с помощью выдуманного телефонного участника торгов. Однако и сами торгующиеся могут намеренно вздувать цену – если частный коллекционер или художественный фонд для повышения ценности собственной коллекции, содержащей работы того же художника, не позволяет опуститься цене на него ниже галерейной. И наоборот, торговцы могут объединяться между собой и договариваться о поведении на торгах с целью добиться возможно низкой цены.
Но аукционные цены оказывают и самое непосредственное влияние на рыночные. Ведь все-таки именно на аукционах арт-дилеры запасаются товаром, который затем перепродают с наценкой. Так, лондонский арт-дилер Энтони д’Оффей предложил на Art Basel 2000 диптих из двух черно-белых фотографий под названием «Plank Piece» («Доска») американского художника Чарльза Рэя, купленный им на торгах в Нью-Йорке за 368 тысяч долларов. Цена, которую он запросил на ярмарке, выросла на сто тысяч[174].
Аукционные дома – это коммерческие предприятия, лавирующие среди несоразмерностей художественного рынка. Sotheby’s котируется на бирже, Christie’s и Phillips de Pury & Company – предприятия в частной собственности. Стрелка их компаса указывает на прибыль. По всей земле расхваливают они выгоды обладания искусством. Искусство как инвестиция, как статусный символ, как охотничий трофей, как аксессуар стиля жизни, как объект спекуляции. Искусство как искусство? Мантры художественного маркетинга способствуют тому, что смысл искусства рассеивается в формулах торговли. В состязании за долю рынка гиганты арт-рынка превращаются в продавцов всего спектра услуг, имеющих отношение к искусству. Они присваивают себе противоречивые роли арт-консультанта и арт-финансиста, арт-историка и арт-критика, галериста и аукциониста, таким образом оказывая значительное влияние на оценку и стоимость произведений искусства, а также спрос на них. Вытекающий отсюда конфликт интересов ставит под сомнение нейтралитет аукционных домов в качестве посредников. Тем не менее создается впечатление, будто клиенты наивно принимают аукционистов за тех, кем те давно не являются: маклеров, пускающих в продажу свой товар по оптовым ценам.
Глава 4. Художник. От мифа к марке
Фетишем художественного рын ка является имя художника.
Вальтер БеньяминНе вижу, какая может быть связь между идеей и пятифранковой безделушкой.
Густав ФлоберКому служить? Какому зверю молиться? На какие иконы здесь ополчились?
Чьи сердца разбивать я буду? Какую ложь поддерживать должен? По чьей крови мне придется ступать?
Артюр Рембо. Одно лето в аду[175]Магия успеха. Миф о художнике
Не от Гарри Поттера мы узнали, что эффективность любого волшебства зависит от многих факторов. Магическая сила чародея и правильные компоненты – хотя и основные условия, но их од них недостаточно. Волшебный напиток следует перемешивать в определенном направлении, необходимо учитывать расположение звезд и точно рассчитать время. Только в полночь, когда с запада на горизонте появляется созвездие Скорпиона и трижды провоют волки, сработает волшебная формула чародея. Короче, весь окружающий мир должен посодействовать магии, чтобы в решающий момент она смогла подействовать. Это правило распространяется и на магию успеха в искусстве.
История искусств прежде всего обращается к так называемым великим художникам, тем, кто возвысился над бесчисленной массой канувших в Лету. Они явились результатом сложных социальных, культурных и экономических селекционных процессов, в истоке которых стоит феномен таланта художника. Нам неизвестно, сколько талантливых художников застряло на полпути, так как им не удалось собрать все ингредиенты, лишь в сочетании рождающие магию успеха и ее монетарный эквивалент – растущие цены. Далее мы рассмотрим, что это за ингредиенты.
Художник Поль Синьяк записал в дневнике после смерти своего друга Жоржа Сёра: как бы охотно его мать «завещала великие работы своего сына музеям, но какой музей готов их сегодня принять?» Через девять лет после смерти Сёра друзья-художники организовали выставку-продажу его работ. Рисунки без рамки стоили десять франков, в рамке – сто франков. Картина «Un Dimanche aprèsmidi а l’ole de la Grande Jatte» («Воскресный день на острове Гранд Жатт») была продана за 800 франков одному парижскому буржуа. В 1911 го ду она была предложена нью-йоркскому Метрополитен-музею, однако правление отказалось выделить деньги. Большее художественное чутье проявил 13 лет спустя Фредерик Клей Бартлетт из Чикаго. Он приобрел в Париже картину постимпрессиониста за 20 тысяч долларов и пожертвовал ее Чикагскому художественному институту. Там она по сю пору и хранится в качестве ключевой работы европейского модернизма. В 1931 году французский консорциум тщетно предлагал 400 тысяч долларов, чтобы вернуть полотно во Францию[176].
Популярность, которой сегодня достигла картина, и во сне никому присниться не могла. В списке пятидесяти наиболее продаваемых художественных постеров «Воскресный день» занимает почетное четвертое место, следуя за работами Климта («Поцелуй»), Ван Гога («Звездная ночь») и Шагала («Невеста»)[177]. Оригинал, не стоивший когда-то и пары банкнот, стал бесценным и не продается. Безлюдный эскиз маслом к этой картине был продан в 1977 году на Sotheby’s за рекордную по тем временам сумму в 35,2 миллиона долларов. Через 4 года на рынок попал еще один набросок к шедевру. Лондонский арт-дилер Ричард Грин предложил маленькую работу на антикварной ярмарке в Маастрихте[178]. Хотя нам неизвестна цена, которую он просил за картину, не секрет, что за такую добычу продавца награждают по-царски. Картина осталась той же самой, точно так же художник ставил на холсте точку за точкой лишь основные цвета, и только в глазу наблюдателя они сливаются в задуманные оттенки. Но тот, кто написал кажущиеся неподвижными фигуры в мерцающем послеполуденном свете, из безымянного Никто превратился в великого Художника, чьи работы едва ли возможно оценить деньгами. Как происходят подобные превращения, демонстрирует нижеследующий пример.
Могущество мифа. Винсент Ван Гог
Художнику приписывается магическая сила приобщения Святых Тайн, способность обращать ничего не стоящее в бесценное. Подобно тому, как священник превращает гостию в тело Христово, а вино в Господню кровь, художник превращает краски и холст, графит и бумагу или кетчуп и сироп «Хёрши» в нечто, способное стать на рынке бесценным искусством. Но священник прежде должен пройти обряд рукоположения, художник точно так же только тогда становится производителем магической добавочной стоимости, когда система даст ему свое благословение. Ибо не мастерство художника в первую очередь определяет амплитуду цен на его искусство, не его талант и не его видение окружающего мира. Решающим для цены на его творчество становится созданный системой миф, сквозь призму которого рассматриваются его работы и измеряется его значение как художника. Ибо на денежных весах рынка бесценным становится только боготворимый художник.
Среди художников, чье искусство и жизнь слились в легендарный монолит, сегодня по всем статьям побеждает Ван Гог. Сумасшедший, несчастный в любви, безуспешный как художник. То, что Ван Гог страдал от всего этого, важный аргумент в его пользу не только в нашей отмеченной печатью христианства культуре. В Японии мученик современной живописи тоже быстро нашел себе восторженных почитателей. Когда в 1912 году в Японии репродуцировали «Подсолнухи» Ван Гога, один японский критик выразил мысль, что измерь кто-нибудь кровоток в жилах Ван Гога во время работы, он ощутил бы то же кипение, что мы видим на картине[179]. Для приверженца культа художника Ван Гог сотворил больше, чем живописное полотно. Он обратил свою кровь в пылающие цвета и раскаленные солнца, а свою душевную муку – во вращающиеся звезды и опрокидывающиеся стены. Его биограф Юлиус Мейер-Грефе, изобразивший Ван Гога Христом современной живописи, писал: «Их выплеснул на холст неистовый темперамент»[180]. Картины Ван Гога ценятся не только как знаки его страданий. Концепция самовыражения, культивируемая искусством со времен романтизма и в экспрессионизме достигшая новых высот, позволила рассматривать картины Ван Гога как непосредственные воплощения его мук и, следовательно, как истинные реликвии. Наконец Винсенту воздалось «за великие труды и великие страдания». Так первосвященники культа художника избрали спасителя и водрузили на него терновый венец.
Нейл МакГрегор, директор Национальной галереи в Лондоне, объясняет этот феномен на примере «Подсолнухов» Ван Гога: «Между тем мы знаем, что для Ван Гога эта картина должна была стать выражением его радости. Он писал ее, празднуя приезд Гогена в Прованс, писал, чтобы выразить радость от посещения друга. Но мы настолько одержимы нашими представлениями о личности художника, что решили как в этой, так и во всех остальных картинах Ван Гога видеть только симптомы претерпеваемых им мучений»[181]. Также и собственная его спальня, написанная им в трех вариантах, считается явным доказательством безумия художника. Стены будто бы клонятся к центру комнаты, пространство кажется тягостно искривленным, и вся картина становится выражением болезненной утраты реальности. Но на самом деле художник изобразил комнату точно так, как выглядело трапециеобразное помещение под скатом крыши, что было установлено британским историком искусств Рональдом Пиквансом, изучившим в городском архиве Арля строительные планы Желтого дома, в котором с 1888 по 1889 год жил Ван Гог[182]. И хотя международные исследователи Ван Гога давно вернули миф в земное измерение: отрезанное ухо было на самом деле пораненной мочкой, отчаянный неудачник в действительности пользовался большим авторитетом среди художников, его мнимое безумие имело вполне понятные причины в алкоголе, невротической склонности и эпилептической предрасположенности, – он выплеснул такую энергию, что ей и сегодня очень далеко до полураспада.
30 марта 1987 года миф о Ван Гоге достиг своего пика и привел к невиданному взрыву цен. На аукционе Christie’s «Подсолнухи» Ван Гога были проданы японскому страховому магнату Ясуде за 39,9 миллиона долларов и тем самым лихо перескочили ценовой рубеж в 12 миллионов, до тех пор непреодолимый и для старых мастеров, таких как Андреа Мантенья. Вознесение Ван Гога достигло скорости 147 778 долларов в секунду и длилось ровно 4 минуты 30 секунд. Аукционная продажа в 1990 году «Портрета доктора Гаше» японскому бумажному промышленнику Риоей Саито позолотила сотворенный мученический миф астрономической суммой в 82,5 миллиона долларов. Пример посмертного успеха Ван Гога позволяет понять, каким образом разнообразные личные интересы (биографов – в славе, торговцев – в деньгах, коллекционеров – в достижении трофеев) соединяются в столь беспримерной динамике. Как показывает историк искусств Стефан Кольдехофф, миф о Ван Гоге возник не случайно. Это был продукт различных, сперва независимых друг от друга и предпринимаемых по разным причинам усилий. Их объединяла цель «сделать Ван Гога после его смерти популярным и, следовательно, пользующимся рыночным спросом художником»[183].
Тео Ван Гог, умерший, возможно от сифилиса, вскоре после самоубийства обожаемого брата Винсета, оставил своей вдове Йоханне Ван Гог «помимо ребенка, еще одно поручение: работы Винсента – показать их как можно больше и дать возможность оценить». Будучи осмотрительной наследницей и верным хранителем Грааля – сокровищ Ван Гога, – Йоханна умеренно снабжала рынок работами деверя. Однако признание Ван Гога ограничивалось узким кругом друзей художника и коллекционеров. Только когда в игру в качестве интерпретатора и агиографа вступил публицист Юлиус Мейер-Грефе и, позже, в ту же лодку сел арт-дилер Пауль Кассирер, дело приняло другой оборот. Мейер-Грефе, одаренный не только убедительным стилем, но и несомненным чутьем на дух времени, охарактеризовал Ван Гога как «человека, который боролся, потерпел поражение и победил». Он представил его своим читателям как «потерпевшего кораблекрушение, уцепившегося за обломок посреди хаоса» и пришел к заключению, что «Ван Гог был Христом современного искусства. Стал или сможет ли он стать Спасителем, зависит от веры приверженцев»[184]. Мейер-Грефе превратил художника в товарный знак, ставший известным большей части населения в роли святого мученика современного искусства, чья магическая сила притяжения действует и поныне. В мифологическом Ван Гоге художник и архетип мученика сливаются в могущественное единое целое. На фоне ужасов Первой мировой войны Ван Гог в конце концов становится коллективной фигурой самоидентификации. Только когда миф соединяется с пытающимся выразить себя в человеческих формах духом времени, он обретает ту силу, что необходима для превращения во всеобщее вероисповедание.
По мнению американского историка искусств Кэрол Земел, еще накануне Первой мировой войны многие в Германии были одержимы идеалом благородного самопожертвования за родину. Некоторые из экспрессионистов тоже видели в войне возможность положить конец выдохшейся культуре и направить новую Германию на истинный путь. Даже такой франкофил, как Пауль Кассирер, издавал листовку «Военное время», где поддерживал немецких фронтовиков. Только когда война уже была в полном разгаре и многие соотече ственники погибли, настроение изменилось. Перед лицом мерзостей войны многие художники и писатели лишились иллюзий. Вместе со смятением стремительно росла мистическая аура вокруг жизни и творчества Ван Гога[185].
В мании Ван Гога, как бывает в истории всякой внезапной моды, к иррациональному воодушевлению вскоре присоединился рационально мотивированный обман. В своей книге «Manias, Panics and Crashes» («Мании, паники и крахи») Чарльз Киндлбергер исследует причины подобных процессов и их протекание. Он приходит к выводу, что манипуляция и обман, типичные явления на этапе бума, вызваны прежде всего ажиотажным спросом. Когда алчность игроков уже разбужена, наступает час мошенника. Он выходит на сцену, чтобы воспользоваться избытком спроса. В случае мании Ван Гога в соответствующем акте выступил художник-манипулятор.
Занавес поднялся для Отто Вакера, он же Олиндо Ловель. Отто Вакер, бывший танцор, прославившийся способностью к перевоплощениям, на этот раз блеснул не танцами гаучо, не религиозным гротеском и мистификациями, с которыми он выступал в провинциальных немецких театрах. Страстность, обаяние и актерское мастерство, еще на сцене заставлявшие публику рукоплескать симпатичному молодому человеку, обеспечили ему успех на поприще торговли картинами. Царящее в среде берлинских банкиров и промышленников соперничество и страсть к коллекционированию заметно снизили и без того ограниченное предложение работ Ван Гога. Будучи одаренным мошенником, Вакер сообразил утолить спрос на реликвии Христа современной живописи фальшивками, происходящими из мастерской своего брата. Коллеги-торговцы, уже давно обосновавшиеся в столице и желавшие заработать на продолжающемся ажиотаже вокруг Ван Гога и стремительно растущих ценах, рвали картины с руками. Предполагают, что на пике увлечения Ван Гогом Вакер выбросил на рынок до 30 подделок[186]. То, что признанные эксперты, и среди них сам Юлиус Мейер-Грефе, поставили свои имена на сертификатах подлинности, из которых отдельные были оспорены уже в наше время, на первый взгляд кажется удивительным. Однако это, как нам еще предстоит убедиться, характерный пример регулярно происходящих скандалов из-за фальшивок.
От мифа к марке. Пабло Пикассо
Уже более 10 лет некоронованным королем художественного рынка остается Пабло Пикассо. Его работы одаривают международные аукционные дома ежегодным оборотом в 225 миллионов долларов. Каждый год более тысячи работ Пикассо меняют своих владельцев.
Пикассо – бесспорно первый номер в живописи, печатной графике и керамике, а также номер второй в рисунках. 8 из 20 самых дорогих картин мира принадлежат Пикассо. Мастер из Малаги первым преодолел сверхзвуковой барьер в 100 миллионов долларов за одиночное художественное произведение. После 7-минутных торгов аукциониста Тобиаса Майера 5 мая 2004 картина Пикассо «Le Garçon а la Pipe» («Мальчик с трубкой») обогнала «Le Portrait du Docteur Gachet» («Портрет доктора Гаше») Ван Гога и была продана за 104 миллиона долларов. Ширятся ряды коллекционеров, зарящихся на работы великого испанца. Новые сверхбогачи, желающие выбиться с Пикассо в первый ряд художественной элиты, прибывают из таких стран, как Украина и Сингапур[187].
Пикассо являет собой еще один пример мифа о художнике и влия ния этого мифа на цены. Он считается величайшим художником ХХ столетия. Ни один живописец и ни один скульптор не имел при жизни такой широкой публики. Он стал первым художником в истории, обратившим на себя внимание средств массовой информации и еще до своего 50-летия превратившимся в общественную фигуру. В том, что он востребован в музеях и лидирует на художественном рынке, заслуга не только поляризирующей силы его работ. У него была вполне определенная цель. Даниель-Анри Канвейлер, его арт-дилер в начале и в конце карьеры, рассказывает, как Пикассо признался ему: «Я хочу жить, как бедняк, но с кучей денег»[188]. Пикассо хотел быть свободным. Для него это означало также и свободу от денежных забот. Для этого требовался коммерческий успех. С самого начала карьеры он все свои таланты направил на достижение этой цели. Ретроспективный анализ его действий показывает, что он интуитивно предвосхитил законы современного маркетинга и продемонстрировал миру не только непосредственно собственное искусство, но и искусство учреждать мировой бренд.
Насколько осознанно Пикассо строил свой имидж, можно убедиться на истории его подписи. Она являет собой показательный пример разработки торгового знака. Мало-помалу отдаляясь от своего отца, Пикассо одновременно изменял свою подпись и тем демонстрировал, в том числе окружающему миру, свою возрастающую артистическую самостоятельность. Как сын и ученик своего отца, который был учителем школы прикладного искусства в Малаге, юный Пикассо подписывался отцовской фамилией: «П. Руис». Позже он добавил фамилию матери: «П. Руис Пикассо». В Барселоне молодой художник оставил имя своего отца только в виде инициала: «П. Р. Пикассо». И только в 1902 году, в Париже, впервые найдя собственный стиль в работах «голубого периода», он вычеркнул все инициалы и стал просто «Пикассо»[189].
Первые парижские годы Пикассо жил в крайней нищете. Единственный капитал, которым он обладал, помимо художественной одаренности, заключался в умении выбирать себе правильных партнеров, которые могли оказаться полезны для достижения цели. Сегодня для этого существует понятие network marketing – сетевой маркетинг. Одним из таких партнеров стал Амбруаз Воллар. Он в течение 20 лет жестоко сражался за цены на импрессионистов, прежде чем ему удалось создать функционирующий рынок вне Академии и государственной поддержки. Именно у него Пикассо устроил в 1901 году свою первую выставку. Картины этой выставки показывают, как Пикассо использовал свое мастерство, чтобы заручиться поддержкой арт-дилеров, кураторов и критиков. Когда он щедрой кистью и яркими цветами живописал парижские сцены, то экспериментировал не только с различными стилями художников раннего модернизма, но также целенаправленно выступал последователем постимпрессионистов. Три из представленных работ еще более откровенно взывали к благосклонности адресатов. То были портреты трех человек, которым выставка была обязана своим появлением: Педро Манача, агента Пикассо, уговорившего Воллара организовать ее, Гюстава Кокио, критика и коллекционера, написавшего хвалебное предисловие к каталогу, и самого Воллара. Еще две картины Пикассо подарил критикам, отблагодарившим его благосклонными рецензиями[190].
Даже когда Воллар не выставил Пикассо в своей галерее, он учил его реальностям рынка. У Воллара был собственный вариант поддержания дефицита предложения – техника исчезающего выбора. Когда клиенты приходили в его галерею, он показывал им три картины, не называя цены, а затем притворялся спящим. Клиентам приходилось уходить, так ничего и не выбрав. Когда они возвращались на следующий день, торговец показывал им три менее интересные картины, объясняя, что вчерашние уже проданы. Та же игра продолжалась на третий день, пока клиентам не становилось ясно, что лучше купить сейчас, а иначе придется удовольствоваться чем-нибудь еще худшим[191]. Не только Матисс позднее внушал страх на переговорах, Пикассо тоже усвоил уроки Воллара. Через сорок с лишним лет после выставки у Воллара Пикассо признался своей подруге Франсуазе Жило, что все его уловки по-прежнему основаны на тактике Воллара. Даже когда он провозглашал, что лучший расчет – это отсутствие расчета, то заранее учитывал манеру поведения своего партнера по переговорам, проявляя себя мастером психологического ведения войны. Он всегда выторговывал у своих арт-дилеров выгодные контракты, гарантировавшие ему как максимальную независимость, так и максимальную поддержку.
В 1907 Пикассо написал свою знаменитую картину «Les Demoiselles d’Avignon» («Авиньонские девицы»). Это не только ключевая работа современного искусства, но и пример гениальной игры Пикассо с заимствованием и нововведением. Он перенял язык форм африкан ских скульптур и композицию «Купальщиц» Сезанна. Вместе с тем он отбросил основные правила живописи, обязательные со времен Возрождения. Человеческие фигуры составлены у него из геометрических плоскостей, центральная перспектива упразднена, исключена иллюзия пространства, а цвета потеряли насыщенность. Десятилетия спустя специалисты по маркетингу придумали для такого хода формулу «MAYA»: most advanced, yet acceptable – самое передовое, но все же приемлемое. Однако как отдельное произведение картина не имела надежды на успех. Друзья называли ее варвар ской, критики посчитали художественным заблуждением. И Пикассо начал переносить свое нововведение на другие жанры, используя для натюрмортов, пейзажей, портретов и обнаженной натуры новый язык форм. Таким образом он трансформировал его в собственный стиль, кубизм. Такая стратегия в маркетинге именуется category positioning – позиционирование категории. Пикассо был уверен в своем нововведении. В то же время он сознавал, что в одиночку ему не справиться. Он объединился с художником Жоржем Браком, который в это же время занимался разработкой сходных форм. Вместе с арт-дилером Даниелем-Анри Канвейлером они договорились о совместном маркетинге. В соответствии с пословицей «нет пророка в своем отечестве» Канвейлер приступил к завоеванию заграничного мира искусств. Явно высокие цены, которые он при этом установил на Пикассо, поставили того во главе художников-кубистов, а избирательные продажи его работ известным коллекционерам обеспечивали исключительность и растущие цены[192].
В 1918 году Пикассо вступил в контакт с арт-дилерами Полем Розенбергом и Жоржем Вильденштейном, чьи финансовые ресурсы и территориальный охват во много раз превосходили возможности их предшественников – Воллара и Канвейлера. Они предложили художнику всемирное представительство, вполне осуществившееся с открытием триумфальной ретроспективы в нью-йоркском Музее современного искусства. С выставкой, которая уже через несколько дней привлекла больше посетителей, чем предшествующая ей выставка Ван Гога, и которую венгерский фотограф Брассай назвал апофеозом Пикассо, он наконец утвердился в качестве всемирно известной художественной марки. Пикассо стал не только мастером современной живописи, но и мастером современного самомаркетинга.
Маркетинг был основным ключом к продвижению авангардного искусства. И сегодня он остается предпосылкой экономического успеха для всех художников, одновременно сражающихся за рынок в роли частных предпринимателей. При Ван Гоге и Пикассо господствовало единогласное мнение, что высокие цены на их работы соответствуют большому значению их творчества. Но когда на ажиотажном рынке короткие циклы маркетинга обгоняют длинные циклы художественного развития, связь между ценой и качеством грозит оборваться. Как можно без фундамента прогрессирующего творчества и согласия относительно значения художника за короткое время создать миф, произвести рыночную стоимость и добиться высоких цен, показывает следующий пример.
Герой и героин. Жан-Мишель Баскиа
В десятку художников, делающих наибольший оборот на аукционах, наряду с Пикассо, Уорхолом и Шагалом, входит умерший молодым Жан-Мишель Баскиа[193]. Баскиа, яркий художник, умерший в 1988 году от передозировки героина, – это современный вариант мифа Ван Гога. «Saint Jean Michel» («Святой Жан-Мишель»)[194], «Altars of Sacrifce» («Жертвенные алтари»)[195], «The Writing on the Wall» («Письмена на стене»)[196] называют критики свои статьи о художнике, провозглашенном новым мучеником искусства. На подъеме восьмидесятых годов увеличилась скорость, с которой торговцы, критики и кураторы могли довести художника от первых похвал до грандиозного коммерческого успеха. Ярчайшим примером этого стал стремительный взлет Жана-Мишеля Баскиа. Баскиа был молодым художником гаитянского происхождения, которого в конце семидесятых открыли и продвигали Джеффри Дейч, в то время художественный консультант, Генри Гельдцалер, куратор современного искусства в Метрополитен-музее, и Питер Скьедал, художественный критик нью-йоркского еженедельника Village Voice[197]. Подобно Пикассо, Баскиа обладал не только талантом, но и способностью завязывать нужные знакомства. Он подружился с Энди Уорхолом и вместе с ним работал над картинами. Благодаря близости к суперзвезде поп-арта начали подниматься и его собственные художе ственные акции. Уже в 1982 году у него прошли первые выставки: в галереях Аннины Нозей и Ларри Гагосяна в Лос-Анджелесе и у Бруно Бишофбергера в Цюрихе.
Несомненно, связи Баскиа послужили ему трамплином для проникновения во влиятельные круги нью-йоркского мира искусств. Но то была не единственная причина его восхождения в группу лидеров рынка аукционной торговли. Все-таки как художника его сравнивали с Гойей, а по товарообороту ставили вровень с Пикассо. В свете этих оценок возникает вопрос: что в его живописи вызвало столь оглушительный успех? Может быть, его талант? Его связь с ар брют[198]? Заимствования из африканского искусства? Или дело в кажущихся случайными пиктограммах, бесконечно повторяющихся на его картинах? Американский художественный критик Роберт Хьюз нашел такой ответ: гремучий коктейль, вбросивший молодого художника в царство успеха, денег и гламура, состоял, наряду с его дружбой с Энди Уорхолом, из «ядовитой смеси вульгарностей»[199]. Расизм и чувство вины стали горючим, фетишизм и спекуляция искусством – искрой. Все это перевернуло жизнь Жана-Мишеля Баскиа – ребенка из ассимилированной семьи среднего класса, ушедшего из дома за год до окончания школы, чтобы жить со своими друзьями и продавать самодельные открытки и футболки на орбите белого мира искусств, где его стилизовали под дискриминированное дитя улицы, а на его героиновой зависимости разожгли более или менее публичные спекуляции по поводу ранней смерти художника.
Все, принимавшие участие в его карьере, мастерили образ цветного художника как невинного дикаря, наивной жертвы и гениального ребенка, создавая легенду о герое из меньшинств. Сообща они раскрутили миф о Жане-Мишеле Баскиа как щедро одаренном и прóклятом художнике. И все, не в последнюю очередь его собиратели, на этом заработали. Смерть положила предел собственной деятельности Баскиа. Тогда за дело взялись другие. Сразу после ранней кончины художника аукционные цены на его картины достигли 500 тысяч долларов. До сих пор не воцарилось согласие относительно значения Жана-Мишеля Баскиа. Однако рынок неуязвим для подобных сомнений. Пока спрос превышает предложение, работы Баскиа считаются надежной инвестицией. В 2005 году цена на самую дорогую работу Баскиа достигла 2,3 миллионов долларов[200].
От ремесленника к гению. Происхождение мифа
«Крик» Эдварда Мунка – одно из немногих произведений искусства, ставших известнее своего создателя. Правило гласит: прежде всего взвинчивает цену имя художника. В виде мифа или торговой марки, в священном ореоле гения или банальной роли успешной звезды – фигура художника находится в центре ценовой спирали художественного рынка. Его особое положение в обществе обосновывает особую позицию его продукта и особую цену на этот продукт. Такая позиция явилась результатом исторического развития, в начале которого художник из анонимности зависимого ремесленничества вышел на свет софитов истории искусств. Фигура художника, среднее между идеализированным богом-творцом и стигматизированным аутсайдером, – это переливающаяся всеми цветами картинка-загадка, в которой видишь то прозрение, то социальную действительность, то миф, то реальность. Смысл ее формируется ожиданиями публики и самоопределениями художника и, в то же время, отражает двойственную действительность между аутсайдерством и поисками признания. В греческой античности берет свое начало образ героя, воспринятый Средними веками в виде мучеников и святых и возрожденный Ренессансом к вдохновленной гуманизмом жизни в виде художника[201]. Со времен Возрождения образ художника как универсального интеллектуала изменялся, став сперва интуитивным гением романтизма, а потом обретя черты медийной поп-звезды со временности. Но его постоянным ядром оставалась творческая индивидуальность, воплощающая центральный идеал нашей культуры, так что не случайно продукт творчества относится к самым дорогим товарам нашей цивилизации. В исторической перспективе становится ясно, как личность художника превратилась в центр вращения художественного рынка и основное звено создания стоимости. Восхождение художника от зависимого ремесленника к независимому творцу – это вековой процесс, развернувшийся в силовом поле синхронных культурных, социальных, политиче ских и экономических изменений. В начале его стояло произошедшее в эпоху Ренессанса преображение творческого индивидуума. До того способность к созиданию признавалась только за Богом. Творчество мыслилось как комбинирование созданного Богом. Художник был ремесленником, поставленным в строгие рамки Всевышним и волей заказчика.
Сменой парадигмы, предварившей освобождение художника, стало открытие центральной перспективы архитектором, скульптором, художником и изобретателем Филиппо Брунеллески. Перспективная живопись создавала иллюзию реальности, несравнимую с той, что достигалась предшествующими способами изображения.
Все изображенные объекты выстраивались вокруг оси между наблюдателем и точкой схода картины. Зритель теперь находился не снаружи, но сразу оказывался в центре созданного художником космоса. Именно тогда, просветлив ремесло, в художественном произведении вспыхнула творческая сила личности художника. Джорджо Вазари рассказывает, что Леонардо по полдня стоял на лесах, не прикасаясь к кисти. Вопрошающим о причинах такого бездействия художник отвечал: «Выдающийся ум тогда всего продуктивнее, когда представляется вовсе неработающим. В его голове возникают новые открытия и те картины, которую он может исполнить руками».
Когда некоторые мастера, благодаря своим открытиям, были возвышены до придворных художников, началось их освобождение от заданий заказчика. По мере того, как жажда честолюбивых герцогов и пап обладать картинами знаменитых художников брала верх над потребностью устанавливать содержание картины, росла и независимость художника. Когда герцогиня Миланская пожаловалась Франческо Гонзага, что Мантенья отказывается придать ее портрету более изящные формы, как ей того хочется, его совет гласил: «Столь выдающиеся художники чрезвычайно редки и целесообразно брать от них то, что возможно»[202]. О Микеланджело рассказывали, что в обращении со своим заказчиком Папой Юлием II он уделял так мало внимания протокольным правилам, что тот всегда старался как можно быстрее сесть, дабы опередить Микеланджело. Однако новая свобода была хрупка. Золотая пуповина, связывавшая художника с его заказчиком, часто оказывалась не прочней шелковой нити. Письма того же Микеланджело свидетельствуют о том, как он добивался благосклонности своих покровителей. «Что касается моего отъезда, – пишет он своему другу, – то я слышал, как Папа в Пасхальное воскресение сказал, что не желает больше ни геллера потратить ни на большой, ни на малый камень, что удивило меня чрезвычайно. Все же я попросил, прежде чем уехать, о доле того, что подобает мне за продолжение работы. Его Святейшество ответил, что мне следует прийти в понедельник. И я приходил в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, о чем Его Святейшество был хорошо осведомлен. Наконец, в утро пятницы, я был отослан, что означает: изгнан»[203]. Рафаэль тоже знал, что значит «лишиться свободы и жить в долгу у господина», в чем он признавался своему другу в 1508 году. Несмотря ни на что, придворные художники все-таки были привилегированной элитой. На всякого Леонардо, умершего, согласно легенде, на руках оплакивающего его Франциска I, на всякого Тициана, чью оброненную кисть якобы поднял Карл V, приходились тысячи безымянных художников-ремесленников, год за годом выполнявших заказы.
Одним из первых североевропейских художников, подхвативших идею индивидуального творчества, стал Альбрехт Дюрер. Руководствуясь идеями гуманизма, с которым он познакомился во время поездки в Италию, и размышляя над своим собственным творчеством, он разработал новое представление о художнике, выделившее его из ремесленников. В 1512 году он записал, что художник, «внутренне полный фигурами» и одаренный, способен «излить из себя нечто новое». В 1520 году он доверил бумаге наблюдение, что «часто один человек в иной день нарисует что-нибудь на клочке бумаги, и этот с виду поспешный набросок оказывается искусней и лучше, чем большая работа кого-нибудь другого, целый год посвятившего кропотливой работе»[204]. Таким образом, Дюрер ощущал себя на пороге перехода от ремесленнической традиции к свободному творчеству. В своих размышлениях и в своем творчестве он осуществлял переоценку двух этих понятий. Владение техникой, до тех пор определявшее художественный труд, отныне уступало место творческому импульсу[205]. Это имело последствия для общего представления о профессии художника. Так, в Нидерландах XVII века явно пошло на убыль число художников, чьи отцы также были художниками. Решающим стал индивидуальный талант, а не семейная ремесленная традиция.
Идеал свободы. Европа
В идеальном художнике еще долго сливались в единое целое творчество и правило, вдохновение и навык, новшество и подражание, свобода и подчиненность. В XVIII веке эти качества размежевались. Все поэтические качества типа вдохновения, воображения, оригинальности и свободы стали считаться проявлениями творческой индивидуальности художника, все механические свойства – навык, соблюдение правил, подражание и подчинение – остались за ремесленничеством. В 1762 году «Энциклопедия» Французской академии определяет художника как работника в искусстве, «где соперничают гений и рука», а ремесленника как «работника в механическом искусстве»[206]. Отныне точно обозначены свойства гения, отличающие свободно творящего художника от зависимого опытного ремесленника[207]. В начале XVIII столетия облик человека Просвещения создавался исходя из представления, что каждый обладает каким-либо видом гения или таланта, и это особое дарование может проявиться через подчинение его разуму. К концу столетия не только разорвалась связь между гением и разумом. Талант и гений также вступили в противоречие. Гениальность более не рассматривалась как дарование, которым обладает каждый, но как то, что способен воплотить лишь исключительный человек: гений. Истинного гения прежде всего отличало одно качество: свобода.
Свобода! В 1789 взвились знамена Революции, провозгласившей лозунг, которому надлежало изменить всю Европу. Идеал свободного индивидуума был катализатором, который привел в движение длящиеся и по сей день процессы преобразования во всех общественных сферах. В науке, юстиции, политике, технике и – в искусстве. Активным ядром Просвещения стал светский прогрессивный индивидуализм. Его основной целью было освобождение индивидуума от оков прошлого: традиций средневековья, церковных суеверий и социального происхождения. Свобода! Ожидания были велики, и результаты этих мыслей и устремлений под конец XVIII века видны повсюду. Если в начале столетия еще сжигали ведьм, то к его концу просвещенные страны, подобные Австрии, отменили не только пытки, но и крепостное право[208]. Свободное использование индивидуального таланта находилось в центре грандиозных переворотов: научного, технологического и социального. Гений и инженер стали ведущими фигурами беспримерного воодушевления человека самим собой и своей способностью устроить мир по собственной воле и самому сотворить предпосылки своего счастья[209]. Под этим знаком роль художника в век политической и индустриальной революций начала изменяться все решительнее. Правда, художественная элита уже давно претендовала на свободу от диктата заказчика. Но теперь она стала формулировать свои притязания, опираясь на идею всеобщей независимости. Идея свободы в противоположность зависимости ремесленника стала фундаментальной программой, из которой и были выведены все идеальные свойства, неотъемлемые отныне от истинного художника: свобода от подражания традиционной модели (оригинальность), свобода от диктата рассудка и правил (вдохновение), свобода от подражания природе (творение). Художник стал творцом, свободно созидающим свой мир подобно Богу.
Вознесение. От профессии к призванию
Еще в середине XVII столетия культурная сцена Европы походила на пустыню Гоби. «Ни общественных библиотек, ни концертов, ни музеев», – описывает ситуацию в Англии английский историк Джон Харольд Плам[210]. Все эти учреждения вошли в культурную жизнь европейцев в конце XVIII века. Революция произвела переворот и в искусстве. Если раньше художественные произведения находились в собственности дворян и были доступны лишь немногочисленной верхней прослойке, то теперь музеи открылись для широкой публики. Первым публичным художественным музеем, распахнувшим двери в 1793 году, в годовщину казни Людовика XVI, стал парижский Лувр. Граждан обучали благоговейному созерцанию искусства. Они учились не драться и не орать на концерте, а в музее не играть в карты и не отпускать грубых шуток. В Лувре таблички увещевали посетителей уважать художественную галерею как «место безмолвия и размышлений»[211]. Немецкий философ Иммануил Кант советовал для подобающего общения с искусством незаинтересованное удовольствие. В старой системе искусство все гда было связано с интересом заказчика, религиозным или политическим. В новой системе искусство не служит уже и чувственным удовольствиям, но лишь духовному созерцанию. Этого не хватало не только необразованной бедноте, но и богачам, для которых искусство было способом удовлетворения их жажды роскоши.
Бывшие привилегией аристократии образовательные поездки (большой континентальный тур – у англичан, путешествие в Италию – у французов и немцев) станут популярны среди буржуазии. Появится слово «турист». Понятия «искусство», «художественный» выделятся в самостоятельную категорию. Возникнут музеи искусства, туризм ради знакомства с искусством, история искусства, искусствоведение и художественная критика. В то время как Европу в захватывающем дух темпе покрывали учреждения новой религии искусства, а ее миссионеры обучали публику катехизису благоговения перед прекрасным, состоялась репетиция последнего акта: вознесение художника и канонизация искусства. В XIX веке профессия художника стала духовным призванием, а искусство – высшей культурной ценностью. Образ художника, срифмованный со свободой и созидающей силой воображения, убеждал публику в том, что знатоки искусства лучше знают, что выше ценится и дороже стоит.
Появился культ искусства, а с ним священная аура, и по сей день его окружающая. Тем самым было отмечено завершение победоносного крестового похода, распространившего по всей земле современную систему искусства как новую веру с художником в роли пророка. Искусство стало гражданской религией, а художник гением, в творчестве которого осуществляется гражданский идеал независимого субъекта. В искусстве публика восхищается красотой, истиной, добром, желанной утопией, назревшим нарушением табу, знакомой действительностью, выступившей из туманной перспективы. Опьяненная этим зельем познания, которое может оказаться стимулятором, наркотиком или противоядием, она на мгновение спасается бегством от коллективного транса конформизма. Смотреть на мир другими глазами, сместить фокус, освободиться от шаблонов, по знать неповторимое, ощутить индивидуальность – и сегодня художникам приходится своими работами выполнять эти обещания. Все, что прославлялось апостолами новой религии искусства как проявления универсальной истины, было результатом комплексной исторической перемены, в которой исключительным образом взаимодействовали социальное, интеллектуальное и институциональное развитие. Она осуществлялась параллельно общественным изменениям, связанным с переходом от феодального к буржуазно-демократическому строю. После столетнего процесса избавления от клерикального и феодального гнета художник был отпущен на суровую свободу рынка.
Новое принуждение. Свобода рынка
Историки часто описывали переход от покровительства к рынку как освобождение. Правда в том, что избавление искусства от феодальной опеки совпало с развитием капиталистического рынка, благодаря которому художник получил право распоряжаться своими творческими достижениями как духовной собственностью. На рынке художник и покупатель встречаются на равных. В отличие от системы покровительства и системы академической, рынок позволяет художнику обратиться к публике с идеями, противоречащими господствующим художественным условностям. Однако не следует переоценивать свободу рыночной системы. Ведь если художник собирается жить за счет своего искусства, он должен предлагать работы, приемлемые хотя бы для части публики и критики. Настойчивое стремление художника к независимости, ставшей с XVIII века лейтмотивом искусства, было отчасти реакцией на новую зависимость от рынка[212].
Неоднозначность изменений проявилась в реакции на них. Сначала многие художники приветствовали переход от покровительства к рынку. С особенным восторгом новую свободу встретили в Англии, и не только такие ремесленнически ориентированные художники, как граверы, но и живописец Уильям Хогарт, и писатель Сэмюэл Джонсон. Джонсон не видел никакого конфликта между искусством и деньгами: «Надо быть круглым идиотом, чтобы писать не ради денег». Однако другие находили в этом соблазн для художника заняться спекуляцией и изменить своему призванию. Выставки порицали как базары и возлагали на них ответственность за упадок искусства[213]. По мнению романтиков, платящая публика стала обузой для искусства. «Там, где думают о день гах, искусству нет места», – заявлял Уильям Блейк. Диалектика искусства и денег приняла свои сегодняшние формы: художник должен проявлять независимость от тех людей, чье одобрение необходимо для его успеха.
Выступление в защиту денег. США
Новый свет не знал конфликта между искусством и рынком. По ту сторону Атлантики индивидуализм опирался на прагматические ценности: Америка объявила свою приверженность энергии и деньгам. Романтический индивидуализм, который в Европе XIX века породил художников-денди, богему или мятежников, едва ли мог привлечь американских художников той же эпохи. Планомерное и без сантиментов стремление к прибыли всех без исключения специальностей повлияло и на самосознание художников, пишет историк искусств Урсула Фроне в своем исследовании стратегии успеха американских художников[214]. Условием богоугодности работы считалось не внутреннее призвание, а выгода, измеряемая вырученной суммой денег. В 1896 году некий анонимный автор провозгласил в американском художественном журнале Art Amateur: «Гений обнаруживается только в людях, добившихся успеха». Тем самым он сформулировал лозунг, ставший основным принципом современных художников в США. Так отчеканилось ориентированное на рынок и потребление понимание искусства, которое сегодня из Нью-Йорка как самого значительного центра международного рынка искусства влияет на европейскую художественную жизнь и превратилось в глобальный рецепт успеха.
В отличие от Европы, образ художника в Америке выстраивается не в отталкивании от общества, а в гармонии с ним. В то время как европейские художники критически дистанцируются от образа мыслей среднего класса, американские ориентируются на представление о ценностях финансовой элиты. Образ бизнесмена им значительно ближе, чем богема, которая, с американской точки зрения, борется против трудового статуса буржуазии за отсутствием собственных успехов и с целью отвлечь внимание от своего паразитического бытия[215]. Поэтому американские художники переняли лишь некоторые, совместимые с господствующей общественной моралью, атрибуты богемы. Считалось шиком «провести пару лет в мансарде и торчать в злачном кафе в составе экзальтированной группы»[216]. Зато небрежная одежда, почитавшаяся у европейских художников знаком презрения к буржуазным условностям, в кальвинистской Америке выглядела признаком экономической безуспешности. А экономическая безуспешность свидетельствовала не о беззаветной преданности художника своему искусству, как в Европе, но, как любое обнищание по собственной вине, указывала на ущербную мораль и значительный изъян личности[217]. Необходимость выбора между лишением социальных привилегий и принуждением к экономическому успеху отражала разногласия в обществе, в котором необузданно проламывал себе дорогу капитализм и в тени небоскребов разрастались трущобы. Во впервые опубликованном в Америке эссе «Город Мамоны» Максим Горький описывал свой ужас от контрастов Нью-Йорка: «Великолепный Бродвей, но ужасный Ист-Сайд! Какое непримиримое противоречие, какая трагедия!»[218] Тогда прямо перед глазами американских художников вместе с трущобами большого города стояли катастрофические последствия бедности и социального падения, не дававшие повода их идеализировать или стремиться к маргинальному образу жизни[219].
Конформизм проявлялся не только в их образе жизни или самовыражении, но и в их искусстве. Будучи продавцами эстетических услуг, они обслуживали вкусы своей клиентуры. Культурно неразвитая публика тогдашней Америки не видела никаких различий между техническим мастерством копииста и творческой работой художника и оказывала коммерческому успеху столько же уважения, сколько художественной одаренности. Ремесленническое совершенство и экономический успех становятся критерием профессиональной компетентности. Необходимость в самомаркетинге и подгонке к стандартам потребления подготовило в XIX веке тип художника, который выскочил в веке следующем в роли поп-звезды. Конечно, фраза Энди Уорхола «Хороший бизнес – лучшее искусство»[220] для европейца может прозвучать ироничной провокацией. Но она лишь ясными словами выражает отказ Америки от идеалистической веры в оторванную от законов рынка свободу искусства. Измеряемая экономическими критериями самооценка американского художника, уходящая корнями в отмеченное протестантской этикой успеха общество, по сей день определяет стратегию успеха американских, да и все возрастающего числа европейских художников.
В то время как на протяжении веков вопрос, в какой мере личность творящего является помехой божественному вдохновению, приводил в отчаяние посредственных художников, сегодня многим художникам собственное «я» мешает, прежде всего, вдохновляться вкусами публики. Катарина Гроссе, успешная художница, покрывающая поверхности цветовыми пятнами из аэрозольных баллончиков, выражает такие мысли с уверенностью маркетолога. То, что побеждает, полагает художница, должно устоять перед широкой публикой, а для этого художник в первую очередь должен укротить свое эго[221]. Целевая группа заменяет Бога, планирование карьеры занимает место творческого риска. Художник по земле ходит, и его продукт есть предмет потребления, отличающийся от других, прежде всего, тем, что его можно перепродать с такой разницей между доходом и расходом, которая иначе достижима лишь в высокоспекулятивных сегментах рынка акций.
Don’t give up your day job. Обратная сторона мифа
Нынешний бум охватил прежде всего современное искусство. Большая часть расширения товарооборота и роста цен приходится на счет так называемых «голубых фишек», то есть наиболее успешных художников и молодых «выстреливших звезд», которым удалось наладить сотрудничество с международной сетью галеристов и арт-дилеров. Эти художники богаты. Они, подобно Андреасу Гурски, заказывают себе мастерские у лучших архитекторов, живут, как Базелиц, в замках и гоняют в спортивных автомобилях, как Ричард Принс. Премии, которыми их осыпают в знак подтверждения их величия, кажутся карликовыми по сравнению с тем, что они зарабатывают своим искусством. Действительно ли ставшее общим местом высказывание «искусство – неблагодарная профессия» лишь романтическая проекция, и бедность художника – не более, чем очередной миф? Одно из исследований американского рынка рабочей силы пришло в конце восьмидесятых годов именно к такому выводу. В соответствии с ним художники зарабатывают столько же, сколько представители других профессий[222]. Однако анализ особенностей проведенного исследования корректирует полученные результаты. За его рамками остались все художники, имеющие вторую работу, не относящуюся к искусству. Живописец, сидящий за баранкой такси, становится таксистом, подрабатывающий официантом скульптор – официантом, в качестве художников они не учитываются. Проведенные опросы показали, что в США большинство составляют именно те художники, которые имеют дополнительную работу, а следовательно не проходят сито статистики. К тому же выводу пришли дальнейшие исследования не только в европейском пространстве, но и в других частях западного мира. Так, опубликованное в ноябре 2003 года исследование экономического положения творческих работников в Австралии с примечательным названием «Don’t give up your day job» («Не бросай свою основную работу») указывает на то обстоятельство, что большинство деятелей искусства не способны выжить без какой-либо «дневной», т. е. основной работы. В Австралии хорошо зарабатывающие деятели искусства пребывают в меньшинстве. Большинство живет на пороге бедности, причем мастера изобразительных искусств плетутся в конце со средним доходом в 3100 долларов[223].
В Германии, как недавно установило исследование класса творческих работников, большая часть художников тоже прозябает на грани бедности. Судя по нему, в 2005 году средний доход художника в Германии составил 11 091 евро в год без учета налогов (то есть треть дохода обычного наемного работника), и предполагается его дальнейшее падение[224]. Похожие результаты мы видим и в отчете о положении художников в Нидерландах. Большинство художников имеет вторую работу, позволяющую им держаться на плаву, они работают дольше, а зарабатывают в среднем меньше других профессиональных групп. Как правило, они работают не по найму, а если нанимаются на работу, то лишь от случая к случаю и на короткое время. Для них типично более долгое обучение, в сравнении с представителями других профессий, но доход их не растет – как это принято в других профессиях – ни с длительностью обучения, ни с возрастом, ни с опытом. К тому же доходы художников подвержены значительным колебаниям, так что профессия художника связана с существенным риском для существования[225]. Большинство художников работает до седьмого пота. Характерно, что помимо искусства в нашем обществе существует только одна область, требующая подобных жертв от своих работников: религия. В соответствии с опубликованными результатами переписи населения в США, служащие церкви вынуждены мириться с доходом значительно меньшим в сравнении с сопоставимо образованными членами других профессиональных групп[226].
Чем же объясняется то, что обороты художественного рынка растут, цены достигают рекордных показателей и, в то же время, обычным явлением остается бедность художников? Чем объяснить, что тут не действуют рыночные механизмы саморегуляции? Разумный игрок оставляет рынок, не позволяющий ему заработать на жизнь. Согласно экономической теории, число художников должно уменьшаться с тем, чтобы выросли доходы оставшихся на рынке. Но все как раз наоборот. Художник остается художником, даже если он за это ни цента не заработает.
Мотивация художника. Из глубины души
Деятели искусства принадлежат к тем немногим членам нашего общества, которые своими работами представляют очевидное доказательство собственной неповторимости. Зачем писала стихи Эмили Дикинсон, если не собиралась публиковать ни единой строчки? Почему Гете запечатал вторую часть «Фауста», завещав опубликовать ее после его смерти? Зачем Генри Кавендиш ставил опыты в своей личной лаборатории, не имея ни малейшего желания обнародовать результаты? И почему математик Эварист Галуа провел бессонную ночь перед дуэлью, записывая свои открытия в области высшей алгебры, вместо того, чтобы выспаться и тем, возможно, спасти свою жизнь? Этими вопросами задался экономист Бруно Фрей в начале своего исследования о мотивации художника[227]. Он пришел к выводу, что художники обладают большей мотивацией, чем прочие люди. Большинством художников движет стремление не к денежной, а к психологической выгоде, которую они извлекают в процессе творчества. Американский социопсихолог Михай Чиксентмихайи, изучавший биографии творческих личностей, ввел для подобного опыта термин fow – поток. «Поток» влечет большинство художников в творческие, но при этом свободные от наживы зоны. Поэтому их выживание в капиталистическом обществе подобно манипуляциям жонглера, чей фокус удается только до тех пор, пока ему удается удержать в воздухе хотя бы три из четырех шариков.
Бедность художника. У ворот рая
Говорят, что искусство это не профессия, а призвание. Оно требует от людей жертвенной преданности своей музе. Художник живет среди нас, земных людей, и, в то же время, на другой звезде. Воздух, которым он дышит, зовется вдохновением, энергия, которой он наполняется, созидательной силой, а ресурсы, его питающие, самоотверженностью. Мамона, наш хлеб насущный, для него слово чужое. Искусство свободно, а художник, если верить легенде, хочет одарить весь мир. То, что его дары на нашей планете продаются за деньги, в сущности, нелепая ошибка. Но как только инопланетянин с другой звезды ступает на Землю, он оказывается на самой большой во Вселенной базарной площади – опутавшей весь мир капиталистической рыночной экономике. Здесь речь идет о предложении и спросе, о пробуждении алчности, дефиците товаров, финансовых интересах и служебных карьерах. Наш пророк, сошедший на землю, чтобы поделиться манной, полученной им в медитативном уединении из высшего источника, оказывается на арене борьбы за существование, ведущейся по правилам капитализма. И приглядевшись, художник обнаруживает, что в сердце художественного рынка, где он воображал увидеть душу, нет ничего, кроме алчности, а вещество, поддерживающее кровообращение всей мировой экономики, – деньги.
Клише, являющееся одним из основных столпов художественного рынка и наиболее устойчивой частью мира наших представлений, привело к социальным последствиям. Большая часть тех, кто самозабвенно сохраняет верность высокому искусству, вынуждены влачить нищенское существование. Множество художников занимает крохотное пространство, отказывается от собственности и по требления и в немалой степени зависит от доходов своих сожителей. К творчеству их, наперекор материальному ущербу, побуждает смесь из художе ственных способностей, стремления к самовыражению, уверенности в своем призвании, жажды личной свободы, неумения приспосабливаться, нередко в соединении с полным незнанием реальной жизни. Но если кто и может осудить художника, то лишь его внутренний голос, но не тот, что прислушивается к реальности, когда его хозяин не имеет никакого представления о спросе на свои картины. Проблема, которую он решает, состоит в том, следовать ли повелениям высших сил и закрашивать черным углы картины[228], а не в том, как картину продать.
Представление, будто в искусстве дышат только воздухом творчества, и не властвует ничего, кроме свободы, есть мираж, устоявший перед всеми нападками действительности. Устойчивости такой идиллической картины существенно способствовала история искусств, завуалировавшая жесткие условия, при которых во все времена существовало искусство. Между тем социология искусства, исследующая общественные предпосылки его возникновения, предлагает более реалистическую картину. Но мифы все еще прельщают многих молодых людей, верящих в искусство как в райские кущи самореализации, достоверности и правдивости. Так, в Германии число художников выросло с едва ли 19 тысяч в 1991 году до почти 52 тысяч в 2004[229]. В 2006 году, по данным Федерального статистического ведомства, на факультеты искусства и искусствоведения записались 84 тысячи студентов, то есть на 4 тысячи больше, чем на медицин ские. Подсчитано, что прожить одним искусством сможет в лучшем случае 5 процентов.
В решении стать художником играет роль множество мифов. Объединяет их то, что все они обманываются насчет селекционных механизмов художественного рынка. Первый миф: для успеха в искусстве определяющую роль играет талант. Здесь умалчивается о том, что решающими являются другие факторы, и они вполне способны компенсировать недостаток таланта. Второй миф: в искусстве шансы у всех равны. Здесь умалчивается, что те, кто располагает экономическим или культурным капиталом – финансовыми или социальными ресурсами, – обладают преимуществом и в искусстве. Так, масса успешных художников произошла из привилегированных слоев общества и лишь немногие из бедных семей. Герхард Рихтер – сын учителя, Джон Армледер – из семьи владельцев отеля, да и семья такого героя из якобы нижних слоев, как Жан-Мишель Баскиа, принадлежала к среднему классу. Третий миф: талант может сказаться на карьере художника не сразу. Этот миф даже в безнадежных случаях внушает призрачную надежду, что дай срок, и ты сделаешь большой рывок, оставив всех позади. Однако реальность выглядит иначе. На то, чтобы сделать карьеру, художнику сегодня отпущено 7 лет, говорит Крис Деркон, директор мюнхенского Дома искусства[230]. Выросло число предлагающих товар на художественном рынке, ужесточилась конкуренция, стали короче циклы маркетинга. Временнóе окно, в котором художник может позиционироваться на рынке, имеет границы. В любой другой профессии с их явными контролями доступа, конкурсами и дипломами такого рода ошибки в оценке были бы быстро исправлены. Однако неформальные барьеры арт-системы сразу не распознать. Вывод: художник остается художником, даже когда не имеет на рынке ни единого шанса.
У наплыва художников есть еще одна причина. Вступительные барьеры невысоки. В результате множество молодых людей устремляются в эту идеализированную профессию. Бывает, что художнику приходится состязаться с рисующей подружкой члена правления или дилетантствующей супругой директора музея. В других профессиях подобные контакты немыслимы. При этом тесный рынок, на котором создается статус и зарабатываются деньги, строго охраняется и высокопрофессионально эксплуатируется. Действующий здесь социальный дарвинизм жестче, чем в большинстве профессий.
Романтические души, которые рассматривают искусство как башню из слоновой кости, спасающую от вторжений реальности, убедятся, войдя в этот мир, в обратном.
По мнению экспертов, число художников будет расти и дальше. Причина того в экономическом подъеме так называемых стран БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая. До сих пор могущественнейшим игроком на художественном рынке остаются США. В 2005 году львиная доля мирового аукционного оборота (43,1 процента) выпала на долю США, далее с большим отставанием следовали Великобритания (28,4 процента), Франция (6,6 процента), Гонконг (3,7 процента) и Германия (3,6 процента). Более половины из двухсот важнейших коллекционеров, ежегодно объявляемых художественным журналом Artnews, тоже американцы. Из двадцати художников, выбранных сетевой информационной службой Artprice.com на основании аукционных результатов рыночной элитой современного искусства, опять-таки более половины американцы. Но в будущем, полагает Михаэла Ноймайстер из Phillips de Pury & Company, на рынок проникнут китайцы, русские и индийцы, и глобальная конкуренция между художниками обострится. И будет действовать то же правило: победитель забирает все.
Бедность художников
Бедность художника – явление не новое. В 1620 году многие художники в Нидерландах были настолько бедны, что не могли прожить своим искусством. Мейндерт Хоббема был вынужден оставить живопись и работать сборщиком налогов. Арт ван дер Нер зарабатывал деньги содержанием трактира. Финансовые трудности испытывали такие знаменитые художники, как Франс Халс, Ян Вермеер и Якоб ван Рёйсдал. Причина была не в недостатке спроса, а, скорее, наоборот. Растущее богатство горожан послужило причиной оживления спроса и, вместе с отменой ограничений допуска к профессии и ликвидации гильдий, невиданного наплыва художников. Избыточное предложение картин в Золотой век привело к первому в европейской истории обнищанию художников.
Арнольд Хаузер (Hauser, Arnold. Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. München, 1953).Победитель забирает все. Звездная экономика
Король или нищий? Так выглядит выбор, перед которым судьба ставит художника. Абсолютно все исследования приходили к одному выводу: отличительным признаком рынка труда для художника является экстремальный перепад доходов[231]. Если представить себе распределение доходов в виде объемной схемы, то получится сталагмит, возвышающийся посреди равнины: крохотная группа с огромным заработком на фоне низкого заработка остальных. Обусловлены ли бедность художников и доходы звезд различиями в таланте или достижениях художников? Или за эту диспропорцию отвечают другие факторы?
Для таких рынков, где немногие продавцы снимают львиную долю выручки, экономисты Роберт Франк и Филип Кук ввели термин Winner-Takes-All-Market – рынок, где победитель забирает всё[232]. К ним относятся профессиональный спорт, киноиндустрия и музыка. В то время как доход нормальных рынков зависит от абсолютных результатов, рынки, работающие по принципу Winner-Takes-All, основаны на относительных. Франк и Кук приводят в качестве примера Штеффи Граф. Когда чемпионка Моника Селеш оставила теннис и Штеффи Граф стала номером первым, ее доходы удвоились за считанные месяцы. Ее абсолютные результаты не изменились: играла она не лучше, чем раньше. Относительные же явно улучшились: прежде она была второй, а теперь стала лучшей теннисисткой планеты. Маленькие перемены в достижениях ведут к большим изменениям в доходах. Легкоатлет, пробежавший на одну сотую секунду быстрее соперника, выигрывает пробег, призовые и рекламный контракт. Победитель забирает все, проигравший, несмотря на выдающиеся результаты, уходит с пустыми руками.
Крайне неравномерное распределение доходов связано с тем, что большое количество потребителей тяготеет к продуктам малого количества продавцов. Будь то кинозвезда или футболист – при появлении звезды телевизионный рейтинг взлетает до небес. На вопрос, почему спрос концентрируется на немногих персонах, отвечают по-разному. Шервин Розен все сводит к разнице дарований, вследствие которой продукт одного продавца невозможно заменить продуктом другого[233]. Солирующего скрипача не заменишь оркест рантом, а приму-балерину танцовщицей из кордебалета. Другая причина заключается в наличии технологий, позволяющих размножить произведенную работу с незначительными дополнительными расходами. Завершенную рукопись, записанный концерт, снятый фильм можно без особых капиталовложений воспроизводить в любых количествах.
Автор, музыкант или актер вкладывает одинаково, пишет он, музицирует или играет для двадцати или для миллиона человек. Самое незначительное преимущество в таланте может дать колоссальное преимущество в доходе. Моше Адлер считает причиной феномена звезд нужду потребителя в дискуссии о художниках, которая и фокусирует внимание на немногих из предлагающих свой товар. Вопрос, кого из сопоставимо одаренных художников поднимет на гребень волны благосклонность публики, решает не талант, а первоначальное превосходство в популярности[234]. Такой случайный фактор, как очередность участников международного конкурса пианистов, влияет не только на оценку их достижений и распределение призовых мест, но и на последующий рыночный успех[235].
В отличие от художественной гимнастики, в искусстве нельзя измерить разницу дарований. Все попытки квантифицировать качество современного искусства терпят крушение. Чем руководствоваться, определяя, какой из множества художников сделает себе имя, а какой останется ничем? Если не талант, то какой фактор имеет решающее значение? Нобелевский лауреат Дуглас Норт обозначил принцип развития таких селекционных процессов термином «зависимость от тропы». В «зависимых от тропы» процессах минимальное преимущество на старте может вылиться в непреодолимый отрыв от конкурентов. Ведь в таких процессах будущие результаты зависят от прошедших и текущих событий. По мнению экономиста Хольгера Бонуса и историка искусств Дитера Ронте, концентрация спроса на немногих художниках – это результат именно такого социального процесса[236]. В нем соединяются четыре усиливающих друг друга элемента: высокие предварительные расходы, эффект координирования, эффект изучения и готовность к ожиданию. Галерист, инвестировавший в продвижение художника на художественном рынке и начавший на нем зарабатывать, отдает ему предпочтение перед художником неизвестным, означающим новые финансовые риски (предварительные расходы). Чтобы снизить предварительные расходы, он кооперируется с другими галереями, предлагающими того же художника (эффект координирования). Критики, кураторы и коллекционеры, изучившие визуальный язык этого художника, обращаются к нему, вместо того чтобы изучать знаковый код другого, чье будущее значение неопределенно (эффект изучения). И, наконец, успех художника подкрепляет вера коллекционеров в его дальнейший подъем, связанный для них с видами на повышение цены и статуса (готовность к ожиданию). То, что при этом нет никакой уверенности в качестве современного художника, а трансакционные издержки велики, склоняет участника рынка придерживаться однажды сделанного выбора. Звезда экономит потребителям расходы на поиски, понижает неуверенность в качестве и дает эффект принадлежности к большинству. Продукт такого художника – фирменный товар художественного рынка.
Зависимость подобных процессов от случая приводит к тому, что победа перестает быть следствием качества. На рынках, где качество предлагаемых товаров неопределенно, многие потребители основывают выбор не на собственном независимом суждении, а на оценках знатоков. В результате информация распространяется лавинообразно. Она влечет за собой то стадное поведение, которое ведет к буму и краху. Простой пример иллюстрирует возникновение такого информационного каскада. Поблизости друг от друга открываются два сопоставимых ресторана. Со стороны невозможно достоверно оценить их качество. Решение первого посетителя в пользу того или другого ресторана будет субъективным или случайным. Возможно, ему покажется симпатичнее название ресторана или цвет скатертей, а может, он кинет монетку. Второй посетитель уже застает два ресторана, один из которых пуст, а в другом кто-то ест. Таким образом, второй посетитель, хотя не обременен собственной информацией, но располагает знанием о выборе первого. Если он решит, что у того была веская причина идти в этот и не идти в другой ресторан, то выберет тот же, вследствие чего третий посетитель обнаружит один ресторан пустым, а другой уже с двумя гостями. Он вполне может прийти к выводу, что все едят в первом ресторане, в то время как другой стоит пустым, потому что первый лучше. Nothing succeeds like success, – гласит английская пословица, – нет ничего успешнее успеха. Явившись раз, успех имеет тенденцию продолжаться. Раз появившись, репутация художника проявляет собственную динамику.
Эффект снежного кома. Репутация и ранжир
Репутация художника подобна патенту. Как только эксперты, привратники художественного рынка, признают стиль того или иного художника аутентичным творчеством, никакой другой художник более не может претендовать на это изобретение. Хотя художественный рынок кажется открытым, автономным, свободным и обходящимся без какого-либо профессионального регулирования, на самом деле существуют неформальные барьеры, фактически столь же эффективные, как официальный контроль доступа на другие рынки. Многие, а прежде всего молодые художники, не отдают себе отчета в существовании этих барьеров. Они верят, что ценится только художественный талант и упорная работа в русле собственных идей. Однако это заблуждение, виной которому попросту недостаток информации об условиях труда, неосведомленность в методах и недооценка ограничений, которые следует принять, чтобы стать приемлемым или даже успешным членом художественного рынка. Мечта об искусстве как свободном образе жизни рассыпается уже при первых шагах по твердой почве реального художественного рынка.
Грубое отражение этого бега с препятствиями дает арт-рейтинг. Арт-рейтинг – попытка взвесить значимость преодоленных препятствий и, исходя из полученного результата, рассчитать относительное место художника в марафоне к благосклонности привратника. Самым известным рейтингом в Германии является Kunstkompass, впервые опубликованный в журнале Capital с Робертом Раушенбергом на первом месте. Рейтинг художника устанавливает его статус внутри арт-системы. В каком музее он выставлен? С какими галеристами работает? Какие критики писали о нем? Каких он удостоился премий? Kunstkompass – это не столько мерило качества, сколько барометр внимания, которым оделен художник внутри системы. Немудрено, что у многих художников это вызывает возмущение. В знак протеста Жан Тэнгли решил вовсе не появляться в списке, однако был оценен помимо собственной воли[237]. Арт-рейтинг поднимает вопросы: чем определяется ранг художника? Качеством его работ? Или умением успешно продвигаться внутри системы и привлекать к себе внимание?
Значение внимания для успеха художника – не принадлежность исключительно медийного общества. Уже придворные художники нацеливались на привлечение внимания к себе и своим работам.
Так, с точки зрения биографа Джорджо Вазари, художник Содома добился известности по двум причинам: из-за своего сумасбродства и славы хорошего художника. Так как Папа Лев X испытывал симпатию к «столь причудливым и рассеянным личностям», он посвятил Содому в рыцари. Фламандский художник и писатель Карел ван Мандер удивлялся тому, что результаты экспериментов Корнелиса Кетеля, «ради причуды» рисовавшего ртом и ногами, покупали важные господа, несмотря на то что художник лишь разнообразил попытки Тициана, Уго да Карпи и Пальмы Джоване, подражавших Творцу тем, что писали голыми пальцами. О художнике Яне Госсарте ван Мандер сообщает, что тот обратил на себя внимание императора Карла V фантастическим бумажным маскарадным костюмом[238]. Да и рейтинг художников тоже не открытие нашего времени. Потребность установить иерархию можно обнаружить и в малочисленных стаях животного мира, и в сложных человеческих обществах. Повсюду, где люди собираются в группы, они формируют статусные пирамиды. Мы находим их и в стрелковом союзе, и в правлении концерна. Так, еще в 1691 году француз Роже де Пиль классифицировал произведения искусства по рангу и значению. Если в сегодняшних хит-листах заметно влияние рынка и моды на оценки экспертов, то и в прошлом оно было огромно. В списке двадцати картин «Мона Лиза» Леонардо заняла одиннадцатое место, пропустив вперед французских академистов типа прославленного тогда Шарля Лебрена, придворного живописца Людовика XIV и директора Академии[239]. Влечение к грандиозным декоративным эффектам, обеспечившее Первому Художнику Короля прижизненную славу, сейчас воспринимается как характерный пример ортодоксального и скучного академического искусства. Ту же участь разделил и Франц Ленбах, в свое время прославленный король художников, а сегодня академический портретист, сосланный на задворки истории искусств.
Арт-рейтинг, однако, не только измеряет внимание, но и создает его. Таким образом, это двухфункциональный инструмент: сейсмограф духа времени и, одновременно, его пособник. Так, с 1993 до 2003 года в швейцарском Bilanz Art Guide на первых десяти местах циркулировали одни и те же имена: Фишли-Вайс, Пипилотти Рист, Роман Зигнер, Томас Хиршхорн, Джон Армледер, Сильви Флёри, Уго Рондиноне, Бит Штройли, Маркус Ретц, Франц Герч[240]. Актуальным результатом арт-рейтинга нередко бывает self-fulflling-prophecy – самореализующийся прогноз. Подобно рекомендациям аналитиков на рынке акций, он способен вызывать экспоненциальное усиление существующей тенденции. Вынесет ли история свой справедливый и окончательный приговор художнику? Поглотит ли пучина времени только тех, кто на весах вечности окажется слишком легким? Или история тоже всего лишь продолжение тех социальных, культурных и экономических селекционных процессов, которые в каждую эпоху происходят под новыми знаками? Ответы на эти вопросы появятся, когда обнаружатся предпосылки для того, чтобы открыть художника заново.
Революция с искусством. Вновь открытый Вермеер
Показательным примером может служить новое открытие нидерландского художника Вермеера. Вермеер, выдвинувшийся в поп-звезды XXI века после фильма «Девушка с жемчужной сережкой», до того как быть открытым в XIX веке, 200 лет находился под спудом забвения. За пределами Нидерландов имя его было неизвестно, он оставил совсем немного работ, большая часть которых приписывалась другим художникам, в известных музеях не висело ни одной из них. Что же здесь поразительно? То, что успешный при жизни художник на два столетия был предан забвению? Или то, что преданного на два столетия забвению художника вдруг снова открыли?
Его исчезновение из поля зрения коллективного сознания имело, прежде всего, три основания. Чтобы пережить свою смерть, для художника самое главное оставить обширное наследие. Вермеер, работавший очень медленно, написал за свою жизнь всего 35 картин. Во-вторых, большую их часть он передавал одному единственному покупателю, состоятельному Питеру ван Рёйвену, так что его работы были известны очень немногим. В-третьих, Вермеер жил не в космополитическом Амстердаме, а в маленьком Делфте. И в отличие от своих товарищей по цеху Симона де Влигера, Виллема ван Алста, Паулюса Поттера или Питера де Хоха, ради широкой клиентуры переехавших в Амстердам, Вермеер так и остался в Делфте. Это решение имело далеко идущие последствия. В вышедшем в Амстердаме «Большом театре нидерландских живописцев и живописиц»[241] художник удостоился лишь примечания на полях. В результате, обойденный вниманием в основном обзоре нидерландского искусства XVII столетия, он не попал и в последующие. Помимо этого, у Вермеера не было ни учеников, ни сколь-нибудь значительного влияния на молодых художников, так что его художественные достижения не нашли распространения, оставшись сокровенными бриллиантами.
Человеком, два столетия спустя извлекшим Вермеера из-под спуда, оказался французский художественный критик и журналист Теофиль Торе. Воодушевленный либеральными политическими идеями, Торе принял участие в революции 1848 года, после ее поражения был выслан из Франции и только в 1859 вернулся в Париж. Утратив контакт с современным искусством, он обратился к живописи прошлого. Результатом его глубоких изысканий стала опубликованная в 1866 году под псевдонимом Вильгельм Бюргер (Бюрже) монография о Вермеере, а сам он вошел в историю искусств как человек, вновь открывший Вермеера. Торе испытывал отвращение к исторической живописи в том виде, в котором она пропагандировалась Французской Академией, и боролся с элитарным, обращенным в прошлое образом мысли, который он в этом направлении усматривал. Занявшись Вермеером, Торе погрузился в мир картин, которые, минуя академические условности и исторические славословия, напрямую обращались к жизни.
Как заметил Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своих лекциях по эстетике (1835–1838), кальвинизм освободил нидерландскую живопись от религиозных догм и подготовил интересный художественный вкус: «Этот смышленый, художественно одаренный народ хотел и в живописи радоваться такому здоровому и вместе с тем законному, приятному образу своей жизни; в своих картинах он еще раз хотел во всевозможных положениях насладиться чистотой своих городов, утвари, своим богатством, почтенными нарядами своих жен и детей, блеском своих политических и городских празднеств, отвагой своих моряков, славой своей торговли и кораблей, плавающих во всех морях»[242]. Возникло свободное от господства святош и вельмож искус ство, в центре которого находилась сама жизнь. В отличие от искусства итальянского Возрождения, нидерландское искусство было зарисовкой «здесь и сейчас», живой жизни, de la vie vivante, как писал Торе. Но в то же время это был взгляд, пропущенный сквозь линзу нравственного чувства. Нидерландская живопись этой эпохи преисполнена намеками на бренность бытия – не только мирских вещей, но и человеческого существования. Она иллюстрирует внешний мир так же, как иллюминирует внутренний. Перед зрителем возникает парадоксальное соединение материи и морали, вечного и преходящего, реального и кажущегося. Так, Торе считает неподходящим термин nature morte – мертвая природа – для фруктов, цветов или рыб, выложенных на белом полотне среди стекла и серебра. Эти вещи, пишет он, еще живут, они дышат[243].
По мнению Торе, в творчестве Вермеера нашли выражение политические идеалы свободы и равенства. То, что многие из домашних сцен Вермеера представляют зажиточных горожан, а не простых людей, не мешает Торе считать его народным художником. В разгоревшихся в то время во Франции дебатах о реализме, прозванных bataille rйaliste, Торе занял позицию, диаметрально противоположную той, которую за несколько лет до этого Теофиль Готье сформулировал в лозунге, ставшем путеводной звездой большого искусства: l’art pour l’art – искусство для искусства. Торе со своей утопией не остался вопиющим в пустыне. Дух времени сыграл ему на руку. Ведь постепенный сдвиг Европы в сторону демократических ценностей дал плодотворную почву для замены не имевшего иной цели, кроме служения себе самому, l’art pour l’art, провозглашенным Торе и обращенному к человеку l’art pour l’homme – искусством для человека[244].
И еще одна задача была у Торе: привести понятное каждому доказательство величия Вермеера. Лучшим способом для этого было и остается по сей день приближение художника к какому-нибудь великому мастеру. Тогда слава и значение одного передаются другому.
Поэтому Торе утверждал, вопреки фактам, что в Амстердаме Вермеер учился с Рембрандтом. То, что Торе проявлял активность и в качестве арт-дилера, не только для себя добывая картины Вермеера, но и продавая их состоятельным коллекционерам, стало для его критиков камнем преткновения и благоприятной причиной поставить под сомнение искренность его намерений. Однако рвение, с которым Торе проводил свои изыскания, нельзя отделить от его коммерческой заинтересованности в Вермеере. Не связывай Торе с новым открытием Вермеера никаких устремлений, кроме политических, не закончилась бы столь триумфально его борьба за возвращение художника на Олимп великих мастеров. В 1870 году успехи Торе достигли кульминации: он продал «Кружевницу» Вермеера Лувру. Пока такие писатели, как Марсель Пруст, превозносили исключительную манеру письма Вермеера, редкость его работ привела к еще большей их ценности для собирателей. В начале ХХ века картины художника, который был не только провозглашен предшественником модернизма, указавшим импрессионистам пути изображения повседневности, но и вознесен к величайшим мастерам истории искусств, так подорожали, что стали доступны только американским миллионерам.
Цель устремлений. Функция мифа
Во все времена художники при различных материальных условиях проявляли свое художественное видение и создавали великие шедевры. Однако великий художник как общественная икона – это всегда продукт взаимодействия художественных, социальных и экономических факторов. Признание его художественного значения, к которому всегда причастен не только сам творец, но и галеристы, торговцы, кураторы, критики и коллекционеры, является актом коллективного одобрения. Так что художник (его личность и его работы) становится компонентом официальной культуры, всегда является созданием общества, зеркалом его ценностей и следствием признанных культурой связей целей и интересов.
В традиционных племенных культурах история не рассматривалась как собственное творение рассказчика[245]. Рассказчик – чаще всего шаман – выступал не как автор, а как посредник некой высшей истины. Восхищение вызывала не его творческая сила, а искусство рассказчика. Но там, где не существует творения, нет и творца. Фигура автора и художника как независимого творца – это западное изобретение. Она черпает силу в центральном для нашей культуры представлении о свободном индивидууме, который сам творит условия своего существования, и механизмах экономики, основанных на личной ответственности, личном труде и защите рыночных позиций во имя извлечения необходимой прибыли. Многие художники вполне отдавали себе в этом отчет. Макс Эрнст своими фроттажами распрощался со «сказкой о творчестве художника». Марсель Дюшан своими readymades – готовыми изделиями – поставил под сомнение основанное на аутентичности понятие подлинника. Использование цифровых технологий отменило его вовсе[246]. Однако религия поклонения гениальности, которая со времен Вазари видела в художнике наследника Творца, по-прежнему пронизывает искусство. Миф о художнике популяризирован бесчисленными биографиями, романами и фильмами. В шестидесятых годах он вдохновил Голливуд на такой блокбастер, как «Агония и экстаз», где Чарлтон Хестон в роли раздираемого противоречиями Микеланджело пытается завершить свои фрески в Сикстинской капелле. Режиссер Кэрол Рид изобразил художника человеком, измученным самокритикой и воспринимающим свое искусство как акт саморазоблачения[247]. Такой образ художника по сей день удерживается даже в претенциозных авторских фильмах. В фильме 2002 года «Поллок» Эда Харриса, где показано восхождение к славе американского художника Джексона Поллока вплоть до смерти в произошедшей по его вине автокатастрофе, герой представлен чувствительным, сконцентрированным на внутренних переживаниях, страдающим от депрессии и алкоголизма одиночкой. Его душевное состояние становится предпосылкой для такого взгляда на личность художника, который предполагает, что искусство его – явление уникальное. Да и в фильме Эдит Юд 2003 года о Дитере Роте немецко-швейцарский художник представляет собой тот же тип истерзанного, а потому блистательного человека. Фильм был выпущен при финансовой поддержке базельского выставочного комплекса Schaulager[248], готовившего, параллельно с нью-йоркским Музеем современного искусства и Музеем Людвига в Кельне, ретроспективу Дитера Рота. На следующий год спрос на работы Дитера Рота заметно вырос и позволил на 50 процентов поднять индекс аукционных цен художника[249].
Культ художника по сей день влияет на то, каким образом мы рассматриваем искусство. То, что вызывает наше восхищение, то, за что мы готовы платить большие деньги, – это не столько сама работа, сколько аура вокруг ее создателя. Художник как индивидуум, помимо всяких правил выражающий себя в своих работах, – это одновременно и миф, и исторически обоснованная действительность.
Его особое положение обусловлено другим, не связанным условностями, взглядом на мир. Даже когда художника скидывают с постамента гения, структурный компонент индивидуальной вменимости остается сутью и центром вращения рынка. Миф о художнике в его коммерциализированной форме становится убедительнейшим аргументом на рынке. Идея торговой марки наложилась на романтическое представление о гении, и divino artista – божественный мастер эпохи Возрождения – в эпоху глобального капитализма возродился поп-звездой.
Глава 5. Произведение искусства. Аура оригинала
КАЖДЫЙ абьект (сабытие)есть абсолютное k когда (& пока) он (ано)таким счетаетса: пратсес апстрагированья k наступаит в ево паследней сафсем паследней фазе.
Тим Ульрихс, тотальный художникВот солома, напряди из нее золота.
Король мельниковой дочке в сказке «Гном-Тихогром»Дух в машине. Аура произведения искусства
Что общего у падали, операции на носу и написанным акрилом розовым пуделем? Ничего. Разве что речь идет о художественных произведениях. Почти каждый жест и каждый предмет может стать художественным произведением. Разнообразие определений того, что можно считать искусством, коренится в современном представлении о нем. Искусство как европейская выдумка, которой едва ли минуло двести лет, берет начало в разделении того, что испокон веков составляло единое целое: искусства и ремесла. Искусство было провозглашено царствием небесным, где правят воображение, оригинальность и свобода. Художественному ремеслу была отведена земная территория, где царствуют навык, подражание и польза. Поэтому ремесленники, работающие с глиной или стеклом и желающие стать художниками, сверлят дырки в своих посудинах и загоняют в них гвозди, чтобы лишить нечестивой утилитарности. Искусство ли это? Задавая сегодня такой вопрос, мы имеем в виду не то, артефакт ли это в противоположность созданию природы, а относится ли это к Искусству с большой буквы.
Искусство – давайте прислушаемся к этому слову. Чувствуете, как его звучание доносит отголоски той ауры, которая окутывает нас при созерцании великого шедевра? Аура искусства нисколько не утратила своей яркости. Не оправдались опасения Вальтера Беньямина, что воспроизводимость искусства заставит ее поблекнуть. Напротив, подобно тому, как преумножили славу «Моны Лизы» ее бесчисленные копии, репродукции, фотоальбомы, видеофильмы и DVD разносят благую весть искусства по миру рынка, бесконечно преумножая алчность.
Что такое искусство? Ответами на этот вопрос заполнены библиотеки. Занимательнейшие определения принадлежат художникам. Насколько различны они сами и их работы, настолько различаются и их взгляды на искусство. Для Пикассо искусство – «своего рода возбуждение», для Пауля Клее – «подобие творения». Алексей фон Явленский понимает его как «математику», Жорж Брак как «колдовство», Макс Либерман как «ремесло», Ман Рэй считал просто «устаревшим»[250]. Одним из ранних определений искусства является его неопределимость, je ne sais quoiiv[251], как определил французский кавалер XVII века непере даваемую словами красоту некой дамы[252]. Эта неопределимость задолго до авангардизма была осознана немецким философом Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем: «Связанность особенным содержанием и способом воплощения, подходящим только для этого материала, отошла для современного художника в прошлое; искусство благодаря этому сделалось свободным инструментом, которым он в меру своего субъективного мастерства может затрагивать любое содержание»[253]. В самом деле: искусство – сущность трудноопределимая. Оно находится где-то между реальностью и вымыслом. Это сейсмограф и микроскоп, детектор лжи и коктейль Молотова. Это упражнение и экстаз, размышление и просветление. Это поэма и политика. Оно совмещает детскую игру и экзистенциальную серьезность. Оно, как пишет Теодор Адорно, есть магия, избавленная ото лжи, чтобы стать истиной. Будь то ремесленное мастерство, упорядоченный свод правил, исследование неизвестного, религия творчества, противоположность реальности или предельное усилие противостояния смерти – в своем многообразии искусство занимает особое место в нашей культуре.
Если все может быть искусством, определимо ли искусство вообще? Один из ответов принадлежит Карлу Валентину. Искусства нет, сказал он, так как искусство происходит от умения. Но если что-то умеешь, то это не искусство. Ответ Энди Уорхола на вопрос, что такое искусство, прозвучал так: «Art? That’s a man’s name»[254]. Иначе говоря, искусства не существует. Художник и арт-система делают некий объект произведением искусства. Все созданные художником произведения, циркулирующие внутри арт-системы, считаются произведениями искусства, даже если вопиют, что таковыми не являются, да и всем сво им видом утверждают обратное. Художники снова и снова обсуждают эту запутанную ситуацию. Пьеро Мандзони возносил будничные предметы на музейный постамент, ставил подписи на людях и провозглашал искусством свои эксперименты. Бен Вотье снабдил обыкновенную картонную коробку надписью «подлинник» и тем причислил к произведениям искусства. В то же время все предметы или жесты, находящиеся за пределами арт-системы, ею как искусство не воспринимаются, какими бы эстетичными, вдохновенными или провокационными они ни были. Электроизолятор из зеленого стекла остается функциональной частью электросети, изображение тигра в школьном учебнике – учебной иллюстрацией, выставка консерв ных банок в супермаркете – расстановкой товара. Тому, кто ищет вдохновения, эстетики или провокации, не обязательно обращаться к искусству. Их можно найти повсюду – мир полон таким добром. Но эти объекты, пусть они с виду совершенно неотличимы от так назы ваемых истинных произведений искусства, не способны приобрести ни художественного значения, ни соответствующей ему денежной ценности. Напротив: семидесятисемилетний француз, который в Центре Помпиду отбил молотком кусок от писсуара Марселя Дю шана, был приговорен к штрафу в 214 тысяч евро за нанесение ущерба имуществу. Даже когда он выдвинул в свою защиту, что сам является художником и поступил в полном соответствии с духом дадаизма[255], содеянное им было все равно оценено не как искусство, но как святотатство, не как создание стоимости, а как ее уничтожение. То, как Джейк и Динос Чепмены разрисовывают офорты Франсиско Гойи из цикла «Бедствия войны», наоборот, считается произведениями искусства, за эти переделки на художественном рынке теперь просят больше, чем за сами офорты Гойи[256]. С точки зрения искусствоведов, братья-художники перенесли ужасы войны в настоящее время и тем самым выявили новое эстетическое понимание темы. Как бы ни было схоже моральное потрясение, которое вызвали у художе ственной публики клоунские маски и звериные головы на знакомых офортах, с оцепенением перед лицом изуродованного писсуара – по правилам искусства один акт вандализма встречается одобрением, другой – осуждением. Братья Чепмены точно так же, как безымянный француз, нарушили табу неприкосновенности оригинала. Но то, что в реальной жизни – тяжкое преступление, в искусстве – удачная стратегия, с тех самых пор, как Роберт Раушенберг стер рисунок Виллема де Кунинга, символическим жестом столкнув с пьедестала божество искусства.
Провокации. Марсель Дюшан
Если художника признали, он может делать все, что хочет, – результат всегда посчитают произведением искусства. Доказательство тому еще в 1913 году своими readymades предоставил провокационный гений авангарда Марсель Дюшан. Он брал готовое промышленное изделие, в соответствии с художественным замыслом переделывал его в произведение искусства, добавлял противоречащее логике предмета название и завершал работу собственной подписью. Новизну, оригинальность, аутентичность – все общепринятые характеристики художественного произведения – он отвергал. Пикассо тоже провозглашал, будто важно не то, что делает художник, но то, кем он является. Художник, силой своего художественного умысла, способен вдохнуть искусство практически в каждый предмет. Прославивший Дюшана писсуар 1917 года, получивший название «Фонтан», вдохновил на аналогичные выдумки многих художников вплоть до Дэмиена Херста. Согласно опросу пятисот деятелей искусства перед вручением премии Тернера 2004 года, это первичное творение художественной провокации было названо самым значительным произведением современного искусства, обогнав работы Пикассо, Матисса и Уорхола[257]. Дюшан задался вопросом, можно ли создать объект, не являющийся искусством, и ответил на него своими readymades. Тот факт, что работы Дюшана рассматривают с тем же восторгом, что и произведения искусства, означает, по-видимому, то, что художник сформулировал следующим образом: «сорвалась моя попытка полностью отменить искусство»[258]. Без священных правил искусства и следующих этим правилам верующих подобные предметы теряют всякий смысл и значение. Смысл и значение, а следовательно денежную ценность, они приобретают только на территории искусства. Подобно магии или религии, искусство обретает силу в том, что являет собой последовательную систему, приверженцы которой своим повиновением поддерживают в ней жизнь. Для неверующего гостия – обыкновенная облатка, а для католика – Тело Христово. Для знатока искусства писсуар – гениальное произведение искусства. Напротив, для профана это не более чем сантехническое устройство, его цена и перешептывающиеся перед ним знатоки будят в нем смутное подозрение, что дело не обошлось без колдовства. И это не далеко от правды. Ведь магия, по мнению антрополога Марселя Мосса, есть не что иное, как «коллективная убежденность, в природе которой лежит то, что она в состоянии преодолеть всякую пропасть, отделяющую явление от умозаключения»[259].
Проблема качества. Искусством может быть все
Искусство или не искусство? Искусством может быть все. Искусство – это любой сотворенный художником объект, циркулирующий в художественной системе и на художественном рынке, в том числе и тот, который по виду или замыслу на искусство не похож. Труднее решить вопрос о качестве. «Мы, художники, понятия не имеем, дерьмо производим или золото», – признается американский художник Джейсон Родс[260]. Часто нелегко обозначить границу между истинным искусством и пустой подделкой, отличить внешнюю эффектность от художественной глубины. В эпоху потребления массовое освоение пригодных для цитирования мотивов из запасов истории искусств стало преобладающей стратегией. Где кончается поверхностное отражение темы? Где начинается более глубокое в нее проникновение? Дело не только в том, что искусство отличается постоянным обновлением и преодолением существующих стандартов, – многие художники нового поколения больше не придают никакого значения различию между высоким и низким, пошлостью и искусством.
Хорошее искусство или плохое искусство? На этот вопрос не даст убедительного ответа и самый сведущий знаток мира искусств. Собирательница Ингвильд Гётц говорит, что в современном искусстве качество «определить трудно». Галерист Рюдигер Шёттле оценивает вопрос о качестве как «очень сложный». А его коллега Йорг Шеллман признает: «Чем дольше я имею дело с искусством, тем меньше могу сказать, что такое качество. Многие считают хорошим искусством то, что я полагаю плохим, и наоборот». Он же дает объяснение этому феномену: «Когда художник занимает в арт-системе правильное место с видами на успех, говорят, что у него хорошее искусство. А если он не нашел нужной дверцы, и шансы его невелики, то говорят, что искусство его плохое. И, как правило, – добавляет он, – существует зависимость от общего мнения, соглашаешься ты с ним или нет». Критики тоже лишились основ оценки. Один из них выбросил белый флаг в конце статьи о Джеффе Кунсе в американском художественном журнале Art News, признав: «нет способа убедить читателя в том, что моя точка зрения ценнее, чем его»[261]. Так что, похоже, критик, как инструмент коррекции рынка, становится вымирающим видом. Одним из последних экземпляров был Роберт Хьюз. До недавнего времени австралиец демонстрировал в Time Magazine уникальное по совершенству мастерство: четкие критерии, непредвзятые суждения, вразумительные слова. Если кто-то и следует примеру этого по следнего динозавра художественной критики, большинство усохло до художественных репортеров. Как еще двести лет назад писал в своем романе «Утраченные иллюзии» Оноре де Бальзак, социальная дистанция между богатейшим коллекционером, влиятельным торговцем и независимым писателем способствует доходам последнего, только сегодня его приглашают не на роскошный банкет в Париже, а на вечеринку у бассейна в Майами. Когда критики, вдобавок, пишут тексты для каталогов и курируют выставки, появляется угроза полной потери необходимого дистанцирования критика от переплетения интересов художественного рынка.
Готовность подстраиваться под требования рынка, закрадывающуюся в художественную продукцию, высмеивает в рассказе «Будни шедевра» писатель Владимир Каминер[262]. Речь там идет о русском скульпторе в Берлине, который изваял бетонную скульптуру под названием «Материнское сердце» и никак не мог найти для нее покупателя. Шанс возник с объявлением конкурса на лучший памятник жертвам Холокоста. Работа тут же была выставлена на конкурс в качестве «отлитого в бетоне крика», однако отклонена из-за малого для памятника размера. Вскоре представилась оказия установить скульптуру в Праге, в качестве «Монумента памяти массовых изнасилований чешских женщин советскими солдатами при их вторжении в ЧССР в 1968 году». В конце концов скульптура попала не в Прагу, а в Гамбург, на эротическую ярмарку. Там она, в соответствии с духом места, воплотилась в «Несбывшееся желание вагинального контакта».
Итак, некий объект считается произведением искусства, когда художники, критики, галеристы, директора музеев, кураторы, эксперты и коллекционеры согласятся с тем, что это искусство. Далее художники, критики, галеристы, директора музеев, кураторы, эксперты и коллекционеры сходятся в вопросе о качестве работы. Это значит, что ценность художественного произведения является социальной конструкцией. В арт-системе вопрос о художественной ценности решают художественные эксперты, располагающие так называемым культурным капиталом. На рынке же решающую роль играют те, кто располагает деньгами, то есть так называемым экономическим капиталом. Благодаря личным контактам галеристов и критиков, директоров музеев и коллекционеров, историков искусства и аукционистов обе системы тесно связаны, влияют друг на друга и, с течением времени, идеально друг к другу приспосабливаются. Так, американский экономист Уильям Грамп исходит из того, что рыночная стоимость художественного произведения соответствует его художественной ценности. «Говоря о том, что экономическая и эстетическая ценности согласуются друг с другом, я имею в виду то, что когда картина А вне рынка считается лучше картины Б, то и рыночная цена А становится выше, чем цена Б»[263]. Обратная логика подразумевает, что когда А дороже Б, то А должно быть и лучше, чем Б. Тезис Грампа о соответствии эстетической и экономической ценностей подразумевает, что художник, заработавший больше другого художника, должен также превосходить его в мастерстве и таланте. Но какая сторона имеет решающий голос? Экспертиза или покупательная сила? Если с распадом художественных критериев как инструмента оценки значение экспертизы все уменьшается и уменьшается, а коммерциализация в искусстве, как и в других общественных сферах, растет и растет, определение того, что является искусством, становится вопросом экономического влияния.
Проказники. Джефф Кунс
В традиции Дюшана художники своими работами снова и снова подвергали сомнению основания веры и функциональные механизмы арт-системы и художественного рынка и показывали публике ее истинное лицо. Однако и художники, и просвещенная публика не могут нарушать правила игры. Расфасованному в шестидесятые годы в консервные банки итальянцем Пьеро Мандзони «дерьму художника» надлежало стать покушением на механизмы арт-системы. Бомба взорвалась. Но помимо взбудоражившей умы короткой вспышки интереса в фельетонах она, прежде всего, разожгла покупательский спрос коллекционеров. Однажды пущенное в обращение, расфасованное merda di artista было причислено к истинному искусству и, благодаря скандалу, к тем лучше продаваемому товару. Арт-систему Мандзони не перевернул, но доказал, что в буквальном смысле дерьмо, если только оно стало искусством, можно превратить в деньги. 22 ноября 2005 года банка с серийным номером 57 от 1961 года с 30 граммами дерьма внутри была продана на Sotheby’s в Милане за 110 тысяч евро[264].
Отпрыски Дюшана продолжили его работу. Мало кто поляризовал мир искусства так, как это удалось Джеффу Кунсу. В 1991 году американский проказник от современного искусства представил в берлинской галерее Макса Хетцлера свой новый цикл работ. На «Made in Heaven» («Сделано на небесах») мастер присутствовал лично, запечатленный во время любовного акта со своей тогдашней подругой Илоной Сталлер, бывшей порноактрисой. На огромном крупном плане под названием «Ilonas Asshole» («Задний проход Илоны») можно было рассмотреть каждый волосок. «Мане» изображала Кунса во время куннилингуса в идиллическом речном пейзаже. Посвященные невинным сексуальным забавам пасторали заняли почти всю стену. За длинным столом угощались званые гости. Большинство игнорировало недвусмысленное содержание работ, истолковывая их метафорами большого искусства. Порнографическая фотография оказывалась грандиозным шедевром, секс-романс превращался в апофеоз поп-культуры. То, что зрители сами могли быть частью художественного замысла, в голову им, кажется, совершенно не приходило. Однако в контексте художественного произведения, художественной системы и художественного рынка они становятся участниками живой картины, до боли обнажая парадоксальные связи между тем, что изображает искусство, что оно подразумевает, как оно понимается и почему покупается. Сам Кунс без внимания это не оставил: «The public is my ready-made», публика сама – художественное произведение[265].
Анархия в чистом виде? В чистом виде амбивалентность, входящая в набор инструментов всякого обольстителя. Кунс предлагает своей публике и вполне миролюбивые экспонаты: веселенькие разноцветные керамические цветы, ласкового деревянного пуделя, безукоризненный парный мраморный бюст и любовный акт в натуральную величину с позолоченной змеей. Искусство или китч – эти монументальные безделушки? Бывший биржевой маклер стремится осчастливить человечество красотой? Или его объятия китча – это насмешка над обществом Микки Мауса? Одна из кураторов восторженно написала, что существует великое множество способов рассматривать работы Кунса[266]. Но у всех них есть одно общее: их цель – превратить китч в искусство. На самом деле, чтобы преподнести искусство Кунса собирателям, не нужны все эти заклинания. Китч, сотворенный художником, – это искусство, а тем самым признание китча. Трио галерей – Sonnabend в Нью-Йорке, Гагосяна в Лос-Анджелесе и Лондоне и Хетцлера в Берлине – заботится о том, чтобы эти работы попадали по нужным адресам, и цена их соответствовала статусу. Все в целом видится гениальным ходом также и из экономических соображений. Коллекционер, который опозорится навсегда, если повесит у себя тарелочку из сувенирной лавки, может со спокойной совестью купить позолоченную фарфоровую обезьянку или выдутую из розового стекла любовную парочку, поскольку тем самым он вступает в ряды записных знатоков. Что обойдется в копеечку: ведь за оригинал превосходно инсценированного китча работы Кунса придется выложить шестизначную сумму.
Такие художники, как Дэмиен Херст и Маурицио Каттелан, тоже пользуются выдумками Дюшана. Новаторство? Или имитация? Миланский знаток Дюшана Артуро Шварца обнаруживает в их работах все симптомы академизма: следование заданным правилам, бегство в монументальность, фокусирование на скандале, акцент на декоративности, недостаток вдохновения и стремление заработать[267]. Однако рынок, средства массовой информации и музеи платят и платят за эту микстуру: тигровая акула Херста ожидает посвящения в рыцари нью-йоркским Музеем современного искусства, Маленький Гитлер Каттелана преклонил колени на холодном полу Палаццо Грасси в Венеции. В качестве духовного отца этих художественных форм, давно ставших мейнстримом постмодернизма, Дюшан сам превратился в икону. В 1999 году его писсуар за 1,7 миллиона долларов купил на аукционе греческий коллекционер Димитрис Даскалопулос. Шедевр был одним из восьми экземпляров дополнительного издания, которое в 1964 году выбросил на рынок Артуро Шварц. Писсуар также принадлежит к жемчужинам коллекции Фридриха-Кристиана Флика, собранной за короткое время, большие деньги и благодаря компетенции галереи Hauser & Wirth. Осведомлены ли покупатели о мнении Марселя Дюшана, что «народ все схавает»?[268]
Эксперименты. Ив Клейн
Очень похоже, что люди готовы оплатить все, на что им хватит денег. Французский художник-провидец Ив Кляйн был зачарован вопросом, что составляет ценность произведения искусства. В 1957 году он, в качестве эксперимента, спроектировал выставку в миланской галерее Аполлинера. Она состояла из одиннадцати синих картин.
Написанные на дереве монохромные картины были идентичны по цвету, пропорциям и размерам, все – семьдесят восемь на пятьдесят шесть сантиметров, слегка закругленные на углах и сияющие ультра мариновой краской, которой позже предстояло войти в историю авангард ного искусства в качестве I. K. B., International Klein Blue – международный синий Кляйна. Помимо того, что монохромные проекты «синей эпохи» (так называлась выставка) принесли Кляйну, вслед за предвиденным скандалом, признание и успех, они способ ствовали его главному озарению. «Самое сенсационное, что я наблюдал, это покупатели, – писал Кляйн в своем дневнике. – Каждый выбрал себе работу из одиннадцати выставленных, и каждый заплатил цену, которую требовали. Цены, естественно, были разные. Это доказывает, что качество любой картины определяется чем-то иным, нежели ее материальным обликом»[269].
Возможное решение этой загадки предложил лауреат премии Тернера 2005 года Джереми Деллер. Его лапидарный ответ на во прос, по каким признакам он определяет, что нечто является искусством, прозвучал так: по цене[270]. То, что не только форма и содержание художественного произведения, но, прежде всего, его цена высекает искру желания и будит жажду обладания, осознавал еще Рембрандт. Историк Филиппо Бальдинуччи сообщает, что Рембрандт аукционами подгонял цены на картины и рисунки, «чтобы повысить престиж сословия»[271]. Позже Фрэнсис Хаскелл обнаружил, что большие суммы денег, которые получали такие художники, как Бернини, выполняли аналогичную функцию: «Эти высокие цены, помимо того, что они делали приятнее жизнь художника, играли важную символическую роль. Они повышали статус его искусства в глазах окружающего мира»[272].
Вопрос цены. Дорогой объект вожделения
Художественному произведению присуща социальная функция, в значительной степени определяющая ценность его как товара. Оно делает очевидным статус его владельца. Художественные произведения обнаруживают глубокую связь с личностью и индивидуальностью хозяина. Они являются мерилом его богатства и вкуса, а также свидетельствуют о принадлежности к общественной элите. Как в свое время реликвии в богослужении, перец в специях, шелк в одежде или драгоценности в украшениях, искусство обладает способностью передавать комплексные социальные послания, призванные озвучить статус его владельца. Во всех обществах приобретение статусных символов – привилегия социальной элиты. Ведь статусный символ, доступный каждому, более таковым не является. То же относится и к произведениям искусства. Барьером становится трудность приобретения. Она может быть следствием редкости объекта, того, что знания, необходимые для приобретения, доступны не каждому. Или – и это самый строгий контроль доступа – большинству интересующихся объект просто недоступен по цене. То, что в доновейших обществах регулировалось законом и сословными правилами поведения, а в буржуазном – образованием и эрудицией, рыночная экономика регулирует через цену. Функция цены как статусного символа делает искусство дорогостоящим объектом вожделения, так сложилось в нашей культуре. Только благодаря своей высокой стоимости произведение искусства стало входным билетом на закрытое представление – знаком принадлежности к господствующему классу.
Искусство считается образцом престижного потребления. Американский философ, социолог и экономист Торстен Веблен (1857–1929) в своей книге «Теория праздного класса» ввел для этого понятие conspicuous consumption – демонстративное потребление. Он доказывал, что потребительское поведение социоэкономической элиты определяется ориентированным на деньги вкусовым каноном, вследствие чего качественная оценка изделия руковод ствуется его стоимостью. Эти изделия приносят пользу обладателю «в меньшей степени присущей им красотой, нежели почетом, которым сопровождается обладание ими или их потребление, либо позором, который они предотвращают». Так, многие собиратели искусства получают удовлетворение не от удовольствия созерцания картины, но от высокой цены, за нее заплаченной. Еще в конце XVIII века английский политэкономист Адам Смит в своем эссе об изобразительных искусствах отметил значение высокой стоимости для качественной оценки тех художественных произведений, которые обращены «не к благоразумию и мудрости, но к богатству и величию, к гордости и тщеславию». Так же, как «представление о высокой стоимости приукрашивает желанный предмет, представление о дешевизне заставляет потускнеть его блеск», – заключает автор[273]. Он напоминает о самшитах, спиленных ради пирамид и обелисков, которые только что были в моде у высших кругов и украшали обширные парки, а теперь отвергнуты за свою ненатуральность. По его мнению, истинная причина такой смены настроения заключалась в том, что «богатые и знатные не потерпели в своем саду украшения, доступного для зауряднейших из людей». Еще французский философ Жан-Жак Руссо установил, что цены на предметы роскоши ведут себя иначе, нежели на товары широкого потребления: их ценность зависит от того, насколько дорого они достались владельцу. Следующий отсюда парадокс, что растущие цены на предметы роскоши влекут за собой не понижение, а повышение спроса, называют эффектом Веблена. К товарам, высокие цены на которые только разжигают жажду обладания, относятся и произведения искусства.
Богачи богатеют, и предметы роскоши, когда-то закрепленные за денежной элитой, завоевывают массовый рынок. Причины на то самые разные. Наряду с тем фактом, что миллионеров становится все больше – в мире уже 8,3 миллиона состояний, насчитывающих более миллиона долларов, – меняется и модель потребления[274]. Наряду с избирательным сумасбродством, на счет которого можно отнести попеременные покупки дешевых и роскошных марок машин средним классом, это процентный прирост частичного и временного владения предметами роскоши. Сидящий за рулем Мазерати, возможно, арендует его только на выходные, носящий ремень Hermes в остальном может быть постоянным клиентом дешевого универмага H&M. Последствия такого изменения модели потребления одно значны: то, что доступно многим, роскошью более не является и лишается своей функции статусного удостоверения. Что же нынче покупает миллиардер для подтверждения своего статуса? Цена приличной квартиры в районе нью-йоркской Пятой авеню доходит до 20 миллионов долларов. Сверхбогатеи вроде россиянина Романа Абрамовича покупают себе футбольный клуб за 400 миллионов долларов. Произведение искусства тоже может стать истинным статусным символом, если позволяет его цена. По этой причине искусство всегда дороже, чем должно быть, утверждает знаменитый аукционист современного искусства Тобиас Майер из Sotheby’s[275].
Что касается современного искусства, здесь, вдобавок, играет свою роль неуверенность в качестве. Чем труднее ответить на вопрос о качестве, тем большее значение имеет цена. Качество имеет свою цену. Поэтому хорошее часто дорого. И когда не хватает объективных критериев качества, как в современном искусстве, отличительные признаки которого непрерывно подвергаются обновлению вследствие нарушения существующих критериев, у людей создается обманчивое впечатление, что дорогое и есть хорошее. Как это часто бывает, заблуждения приводят к действиям, создающим бесспорные факты. Цена влияет на репутацию, а репутация на цену. Так на затопленном деньгами художественном рынке можно наблюдать, что уверенность в качестве художника, чьи работы дают высокий доход, как данность поддерживается многими действующими лицами арт-системы. В то время как французский социолог Пьер Бурдье исходил из представления о перевернутости экономического мира искусств, где монетарный успех вызывает подозрения[276], на сегодняшнем рынке он более никакой угрозы художественной достоверности не представляет. Наоборот. Рыночный успех и художественная достоверность зависят друг от друга. И не впервые в истории художественного рынка экономические факты превращаются в оценку качества, которая иногда принимает форму неоспоримого предписания. Верят не искусству, а рынку. Вера изменила свой объект[277].
Эффект зависимости цены от цены ведет к тому, что изначально ничтожная разница между художниками имеет тенденцию увеличиваться со временем. Экономисты Бруно Фрей и Вернер Поммерене в своем анализе художественного рынка показывают, что нынешние различия в ценах на художников большей частью являются отголоском былых цен. Разница в ценах между представительной работой Тэнгли и работой Раушенберга в 1983 году достигала 37 тысяч долларов. На 55 процентов это объясняется прежними ценами. Различие в 22 тысячи долларов между Тэнгли и Пистолетто на 60 процентов можно отнести на счет цен, заплаченных ранее[278]. Эффект снежного кома сказывается не только на репутации художника, но и на цене его работ.
Мона Лиза как femme fatale. Карьера одного шедевра
Статус художественного произведения невозможно отделить от системы, создающей и присваивающей статус. Эта сеть – истинный генератор славы и значимости художественного произведения. Обладает ли произведение искусства той аурой, которая делает его желанным статусным символом, решает теперь не религиозное содержание, как это было в Средние века, а его биография. Какая галерея предлагала работу, какой музей ее выставлял, какой критик рецензировал, какой коллекционер приобрел? Этот всегда зависящий от случая и чуждых искусству факторов путь художественного произведения решает вопрос о его значении и той цене, которую готов заплатить за него покупатель.
Картиной картин, главной арт-иконой стала «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Ни о каком другом женском изображении не написано столько, никакое другое так не прославлено и не вызвало столько вопросов. Почему она так таинственно улыбается?
Кем она была в действительности? Подлинная ли «Мона Лиза» выставлена в Лувре? Желающий увидеть картину номер 779 должен набраться терпения. Несколько сот человек толкутся в зале, где небольшая, написанная на тополиной доске картина отпраздновала свое пятисотлетие. На ней изображена сидящая молодая женщина. Лицо ее обращено к зрителю. Она смотрит вправо, из-за отсутствующих бровей лоб кажется выше. Она улыбается. За ее спиной возникает далекий пейзаж с нагромождениями скал, холмами и долинами. Слева вьется тропа, за ней озеро, справа река. Мост – единственный признак человеческого присутствия в этом покинутом пейзаже.
Первый вопрос, который задает себе каждый, впервые увидевший картину: почему так прославилась именно «Мона Лиза»? Многие историки искусства выводили исключительное место картины из присущих ей достоинств. Будто что-то в этом жен ском портрете обращено к каждому из нас, нечто, продолжающее действовать через столетия. Действительно, биография этой картины стала историей успеха, равных себе не имеющего. «Мону Лизу» превозносил Вазари, она вдохновляла Рафаэля, ее купил французский король Франциск I. Однако истинная слава пришла к «Моне Лизе» только во второй половине XIX века. В октябре 1750 года 110 лучших произведений из королевского собрания были выставлены на обозрение привилегированной публике в Люксембургском дворце – «Моны Лизы» среди них не было. И столетие спустя «Мона Лиза» считалась не самым значительным из великих шедевров Возрождения. В служебном каталоге Лувра тогдашний инвентарный номер 300 был оценен в 90 тысяч франков. Конечно, это немало. Приличный дом в хорошем районе Парижа стоил тогда 50 тысяч франков. Однако по сравнению с другими картинами Леонардо («Мадонна в гроте»: 150 тысяч франков), Тициана («Христос в Эммаусе»: 150 тысяч франков) и, тем более, Рафаэля («Прекрасная садовница»: 400 тысяч, «Святое семейство»: 600 тысяч франков) сумма выглядит достаточно скромной. Почему же этот женский портрет стал картиной всех картин? Американский автор Дональд Сассун проследил превращение портрета купчихи в икону всемирного значения[279].
Человеком, превратившим Мону Лизу в женщину с загадочной улыбкой, стал писатель и поэт Теофиль Готье. Он – влиятельнейший художественный критик Парижа, тогдашнего центра европейского искусства. Его мнение определяет взлет или падение художника. Как пишет его биограф Максим дю Кан, нет такого художника, скульптора, актера, комика или акробата, который бы не написал Готье, чтобы заручиться его расположением[280]. Как и для большинства его коллег, для Готье художественная критика не слишком отличается от прозы или поэзии. О художественном произведении он судит прежде всего по тому, какое впечатление оно производит и далеко ли позволяет ему уплыть на волнах собственной фантазии. Его одержимость образом «роковой женщины» – femme fatale – материализуется в романах и любовных отношениях так же, как и в критике. Сексуальная мораль возникающей буржуазии предписывает строжайшее пуританство. По завершении эпохи жизнерадостного распутства Дона Жуана наступил век femme fatale, принесший с собой сексуальность кнута. Популярная литература, еще в XVIII веке прославлявшая аморальное сладострастие с такими героинями, как Фанни Хилл и Манон Леско, населена теперь женщинами, своей холодной чувственностью влекущими к гибели простоватых мужчин. Они встречают читателя то в образе Далилы, соблазнившей и погубившей Самсона, то Саломеи, приказавшей обезглавить Иоанна Крестителя за противление ее чарам, то Мессалины, убившей собственного мужа Клавдия, то Лукреции Борджиа, отравившей любовника. Вот и Готье превращал вожделенных женщин, будь то реальная танцовщица или выдуманная героиня, в переливающиеся варианты belle dame sans merci – безжалостной прекрасной дамы, – окрыляя тем самым фантазию своих читателей.
Для Готье «Мона Лиза» становится архетипом femme fatale. Ее улыбка, до сих пор никого не впечатлявшая, кажется ему «мудрой, глубокой, мягкой, преисполненной обещания. Ее греховные, изогнутые улыбкой уста… насмехаются над зрителями с таким очарованием, грацией и превосходством, что мы робеем, словно школьники перед герцогиней. …Подавленные желания и отчаянные надежды борются друг с другом в светящейся тени. И ты обнаруживаешь, что твоя меланхолия берет свое начало в том факте, что и три века назад Джоконда встречала твое признание в любви с такой же презрительной улыбкой, что и сегодня»[281].
Почему именно Мона Лиза? Есть другой женский портрет Леонардо, который мог бы занять место «Моны Лизы». Это «Дама с горностаем», портрет Чечилии Галлерани, возлюбленной Лодовико иль Моро, покровителя Леонардо. Портрет наполненной светом красавицы с ясным взором таит загадку, достаточную чтобы дать пищу уму историков искусств и вдохновить писателей[282]. Действительно ли это Чечилия? До 1933 года Итальянская энциклопедия в этом сомневалась. Действительно ли она была возлюбленной Лодовико? Что значит горностай, которого она держит в руках? Что происходило с картиной в период между ее созданием и XVIII столетием, когда она попала к польскому князю Адаму Чарторыскому?
Изъян находится не в самой картине, а в случайностях ее биографии. Портрет Чечилии Галлерани не был куплен французским королем, не попал в Лувр, и авторство Леонардо было подтверждено только в ХХ веке. Хотя в те самые годы, когда создавался миф «Моны Лизы», картина находилась в Париже. Однако висела она в личных покоях Чарторыских. Оттуда портрет попал в Краков, в основанный Владимиром Чарторыским музей, где и теперь его можно увидеть. И поскольку, судя по документам, никто ее в Париже не видел, то никто, как следствие, о ней и не писал[283].
Статус художественного произведения – это всегда результат взаимодействия множества факторов, результат коллективной работы, в которой художник только начинатель. Мона Лиза работы Готье получила столь незаурядное значение, потому что Готье оказался нужным человеком, Париж – нужным местом, а XIX век – нужным для этого временем. В XVIII веке, прозванном «шумным, блистательным и насмешливым», не хватало не только духа созерцательности, необходимого для того, чтобы погрузиться в столь неброскую с виду картину. Не хватало еще женского образа, олицетворением которого надлежало стать Моне Лизе. Только в стране с глобальными культурными амбициями и в городе с бурной интеллектуальной жизнью мог появиться общеевропейский миф. Кроме того, поэзии Готье понадобился образ, способный воплотить его одержимость femme fatale. Им стала Леонардова Лиза Герардини, чья слава с тех пор разнеслась по всему миру и превратила ее в мировую икону, цены не имеющую.
Полярная звезда художественного рынка. Оригинал
Среди подлежащих продаже статусных символов классового общества произведение искусства занимает наивысшее положение. Самый дорогой бриллиант был продан в 1995 году на Sotheby’s за 16,5 миллионов долларов и тем самым еле-еле достиг пятой части цены самого на то время дорогого художественного произведения – «Порт рета доктора Гоше» Ван Гога. Сегодня строят догадки о том, когда первое произведение современного искусства преодолеет барьер в сто миллионов долларов. Что именно делает работу столь ценной? Американский коллекционер Джон Пирпонт Морган объяснял это просто – три самых дорогих слова гласят: unique au monde – един ственное на свете. Подлинное искусство единственно и неповторимо. В этом заключается превосходство художественного товара над другими объектами вожделения. Покупающий искусство предполагает, что покупает оригинал. Копия стала бы неприятностью, под делка – катастрофой. Даже когда это пара красных подставок для яиц, на 720 фунтов (1045 евро) облегчившая карман счастливого покупателя при распродаже имущества принадлежавшего Дэмиену Херсту ресторана Pharmacy («Аптека»). Ведь только оригинал утоляет иссушающую коллекционера жажду неповторимости, пусть даже фактически это лишь бледный отблеск в виде повторения, деривата, осознанного подражания, заимствования или копии. Художе ственные произведения считаются оригиналами и в том случае, когда не имеют с представлением об уникальной реализации творческой энергии ничего общего, кроме названия.
Скульптура Дэмиэна Херста «Гимн», 6-метровая анатомическая модель человека с розовыми легкими, темно-красными мышечными волокнами и горчично-желтыми кишками, это оригинал или копия? Производитель игрушек Humbrol подал иск, обвинив Херста в том, что тот скопировал портативную анатомическую модель, которую фирма выпустила по проекту дизайнера Нормана Эммса и пустила в продажу по 14,99 фунтов. Правда, теперь это была не маленькая пластмассовая фигура, а гигантский бронзовый истукан. Но достаточно ли этого для того, чтобы считать работу оригинальным творением? Тяжба между художником и фабрикантом игрушек закончилась мировым соглашением, по которому художник обязался сделать пожертвования в пользу двух детских благотворительных организаций, Children Nationwide и Toy Trust. Но даже скопировав оригинал, Херст из игрушки сделал художественное произведение. В то время как оригинальная модель принесла своему создателю скромные 2 тысячи фунтов, ее монументальная копия обошлась покупателю Чарльзу Саатчи по меньшей мере в миллион фунтов.
Оригинал – полярная звезда художественного рынка. Оригинал сегодня стократно превышает в цене копию, а подделка и вовсе почти ничего не стоит. Оригиналом (от латинского origo – происхождение) считается придуманный художником, однократно сотворенный объект, чья аутентичность заверяется подписью автора. Новизна, уникальность и аутентичность есть три измерения оригинала, придающие ему значительную рыночную стоимость. Это вовсе не само собой разумеющиеся свойства художественного произведения. Они представляют собой результат исторических изменений, повлекших за собой взлет художника от подражателя ремесленника к творцу и экономическую оценку его фантазий художественным рынком.
Урок Мюссона. Цена новизны
Культ оригинала не универсален. В Китае превосходно выполненная копия художественного произведения традиционно считается высшим проявлением искусства. В Японии высоких цен достигают копии масок Но. И в Европе художники копировали как свои картины, так и картины своих коллег. Копировать – значит выбирать из запасов былой художественной продукции (запас по-латински – copia) подходящие образцы и подражать им. Так, цена средневековой картины зависела от материалов, которые пошли на ее изготовление. В Италии XVI века соглашение между художником и заказчиком преж де всего касалось применения дорогих пигментов. Использование синего и красного определялось так же педантично, как и оплата каждой унции этих красок. Драгоценные краски выделяли важные элементы картины и, так же как дорогостоящие рамы, влияли на цену. К тому же денежная ценность материалов определяла и духовный смысл изображенного. В то время как Пресвятая Дева Мария щедро покрывалась сусальным золотом и самой дорогой, полученной из ляпис-лазури, синей краской, менее значительным святым приходилось довольствоваться дешевыми пигментами. Не скоро появилось представление о ценности картины, отличное от цены потраченных материалов. Даже полотна знаменитого портретиста Ван Дейка оценивались дешево по сравнению с тем, сколько тратили позировавшие ему аристократы на одежду и драгоценности. Ковер, особенно затканный золотой канителью, стоил дороже картины, даже если она принадлежала кисти таких художников, как Рафаэль или Рубенс.
И хотя талант издавна вознаграждался, а выдающиеся художники ценились дорого, ни в XV, ни в XVI веках никого особо не заботило, подлинник перед ним или копия. В 1532 году Тициан получил от Карла V заказ написать два портрета императора. Один из них – копия портрета ныне известного только специалистам немецкого придворного художника Зейзенеггера. Великий Тициан в роли копииста? Нет никаких сведений о том, что Тициан воспринял это задание как задевающее его честь. Да и Карл V, очевидно, не считал копию менее значительной работой, поскольку расплатился с Тицианом как ни с каким другим художником – он посвятил его в пфальцграфы и рыцари золотой шпоры[284].
Искусство произошло от того, что британский историк Майкл Баксендолл назвал «преобладанием повторения». В самых разных странах используемые художниками сюжеты были стандартизированы вплоть до заданных размеров. Даже работы признанных художников в основном представляли собой переработки заимствованных композиций. В Италии договоры обязывали художников частично или полностью копировать другие работы. Не только само собой разумеющимся считалось предоставлять оригиналы для производства копий, обращение к чужим эскизным проектам как к документам, а не индивидуальному творению художника, указывает на то, что набросок не считался произведением, обладающим какой-либо самостоятельной ценностью[285]. Цена картины рассчитывалась исходя из ее размера, материала, времени работы и сноровки художника. Обращение дорогих копий известных картин также показывает, что оригинал не имел заведомо превосходящего значения. Хотя на исходе XVI века начала намечаться экстравагантная тенденция придавать особое значение создателю художественного произведения, однако прежде чем внимание было перенесено с исполнения на замысел, который в качестве независимого экономического фактора повышал бы рыночную ценность оригинала по сравнению с копией, должно было пройти еще почти столетие.
В 1664 году с антверпенским антикваром Маттейсом Мюссоном случилось нечто в высшей степени неприятное. За год до этого он продал Игнатиусу де Меленару, сыну бургомистра Брюгге, партию из шести работ, в том числе два эскиза Рубенса и одну из охотничьих картин Франса Снейдерса. И тут он получает от клиента письмо с упреками в обмане. Мюссон вчитывается в строки, обосновывающие обвинения: клиент показал работы приятелю, разбирающемуся в искусстве. Тот опознал в эскизах Рубенса копии и просветил относительно того, что присяжный оценщик гильдии художников оценивает оригиналы дороже, чем копии. С точки зрения Мюссона, работы были превосходны. Какая разница, копии это или оригиналы, если рисовал их сам Рубенс?[286]
В начале XVII века в Нидерландах лишь незначительная часть коллекционеров интересовалась авторством находящихся в их владении картин. Описи имущества жителей Антверпена свидетельствуют, что большинство собирателей определяли принадлежащее им искусство по сюжетам. Морской пейзаж или библейская сцена? Натюрморт или портрет? Вдобавок картины, в основном, были не подписаны. И лишь когда внимание сосредоточилось на художественной новизне, на первый план вышел художник, а вместе с тем отличие копии от оригинала превратилось в экономический фактор, влияющий на цену художественного произведения. Возрастающая конкуренция на ажиотажном художественном рынке того времени стала причиной стараний растущего числа художников отделить свою продукцию от чужой. То, что новизна находила все большее одобрение и спрос, показывают усилия мастеров закрепить свое право на художественное открытие через официальное признание, а также возникновение правового различия между оригиналом и копией и созданного рынком ценового различия между авторским почерком и авторским открытием. В результате цена оригинала вдвое и втрое превысила цену копии, копия ценилась значительно ниже, даже если она вышла из-под руки того же художника и превосходила качеством оригинал.
Торговцы искусством по-своему воспользовались произошедшими изменениями. Они сделали ставку на оригинал как капитал, дающий дополнительные доходы. Поскольку из одноразовой продажи оригинала лишь изредка удавалось извлечь высокую прибыль, они стали использовать его, как дойную корову. Производство копий позволяло им доить оригинал до удовлетворения спроса, повышая тем самым товарооборот. Вместе с тем, запущенные в оборот копии преумножали славу художника и стимулировали спрос на его работы. Такой экономический взгляд на художественное произведение выразился в нидерландском понятии principal, ставшем в среде торговцев и собирателей общепринятым обозначением для оригинала, дающего проценты, и в этом смысле совпадающем с английским словом principal, обозначающим тот капитал, на который начисляются проценты. Пересечение художественных и экономических критериев проявилось также в неоднозначности слова «аутентичность». Аутентичность обозначает как подлинность самовыражения художника в его работе, так и его подлинность ее принадлежности художнику. Если раньше ценность художественного произведения определялась дорогими материалами, то теперь – единственным в своем роде почерком мастера, который экспертом идентифицируется по мазку кисти. Почерк художника стал точкой пересечения художественного творения и его коммерческого использования. Оригинал как символическая конструкция из новизны, уникальности и аутентичности стал на художественном рынке производителем добавочной стоимости.
Антиквар Маттейс Мюссон тоже уловил дух времени. В конторских книгах его фирмы «Мюссон – Фурменуа» произведения стали распределять по принадлежности определенному художнику. Его клиент де Меленар, желавший перепродать эскизы Рубенса в качестве оригиналов, в 1671 году потребовал у торговца сертификат, подтверждающий, что речь идет именно об оригиналах, и тем оправдывающий высокие цены.
Патентованное чудо. Значение аутентичности
Установка на оригинал не является феноменом только нашего времени. Уже в средневековом культе реликвий подлинность и происхождение находились в центре высокоприбыльного рынка[287]. Можно отметить явные параллели с рынком сегодняшним. Сегодня цена и значение художественного произведения зависят от того, какому художнику оно приписано, а чудодейственная сила и рыночная стои мость реликвии вытекала из ее принадлежности определенному святому. Страх перед подделкой был выражением системы, служащей монополизации магического воздействия и его экономического использования, – всё как на художественном рынке. Форт-Ноксом культа реликвий были катакомбы Ватикана. Папа, как глава церкви, распоряжался хранящимся там запасом останков раннехристианских мучеников.
Так же, как сегодня действующие лица арт-системы решают, какую работу считать подлинной, церковь в те времена решала, какую реликвию признать истинной и, следовательно, чудотворной. Гарантом аутентичности могла быть только высокопоставленная персона, пользующаяся авторитетом и уважением. Если какому-нибудь человеку из низов было видение относительно подлинности некой реликвии, оно обретало печать подлинности через одобрение лица, стоящего выше на социальной лестнице. Но окончательным доказательством аутентичности становилась чудотворность реликвии. Подготовленный церковными ритуалами эффект плацебо редко заставлял себя ждать.
Эффективность и ценность реликвии были неотделимы от идентификации святого. Требовалась гарантия, что речь не идет о костях обыкновенного человека. Для формального признания в качестве реликвии требовались доказательства подлинности, именовавшиеся authenticae. Их отыскивали на могиле святого или в церковных записях о его погребении. Признание осуществлялось епископом в присутствии церковных сановников. Затем следовало дозволение почитать реликвию – и к ней получали доступ приверженцы культа.
Рыночная стоимость реликвии возрастала, когда духовенство рекламировало соответствующий культ среди верующих посредством влияющих на публику процессий, изготовления новых реликвариев и устройства торжественных празднеств. Почитание реликвии тоже подвержено моде. Притягательная сила со временем ослабевала, а с ней и готовность апологетов приписывать исцеления и другие необъяснимые чудеса соответствующему святому. Когда воодушевление спадало, церковь повторяла публичные ритуалы, прославляющие реликвию. Реликвия сохраняла свою рыночную стоимость притягательного для публики объекта, лишь пока слыла чудотворной. И только до той поры она могла использоваться своими собственниками для достижения статуса, создания зависимости и повышения благосостояния.
В качестве источника статуса, надежности и дохода реликвии конкурировали с другими видами естественной и сверхъестественной силы. С XII столетия их значение пошло на убыль. Церкви, которые эта тенденция затронула, вместо того, чтобы молить святого о милости, просили о помощи короля. Монастыри, вместо того, чтобы наполнять копилки монетами паломников, повышали доходы рациональным ведением хозяйства. В XIV веке в Византии могущественнейшим конкурентом реликвиям стали иконы. Присутствие святых и их происходящая от близости к Богу чудодейственная сила отныне проявлялась в образах, эти золотые сияющие сверкающие мембраны между посюсторонним и потусторонним вскоре притянули толпы верующих.
Истина подделки. Оборотная сторона оригинала
Вероятность того, что продающийся по всему миру марочный продукт подделан, составляет один к десяти[288]. Как пиратская копия на прочих рынках, на художественном – подделка представляет угрозу доходам участников рынка. В то же время подделка разоблачает иллюзию, являющуюся фундаментом художественного рынка: ауру оригинала. Искусство изначально вышло из мастерства. После того как ремесленное мастерство стало все больше терять свое значение, художник как творец, изобретатель и созидатель художественного произведения превратился в центр тяжести и ось вращения ценовых спиралей художественного рынка. Оплачиваться стали имена, а не работы. Стоимость стала в первую очередь зависеть не от художественных достоинств работы, а от репутации мастера, ее создавшего. Выходит, что картина, нисколько не потеряв в качестве, катастрофически потеряет в цене, если обнаружится, что она принадлежит кисти менее знаменитого художника. Так случилось с известной картиной «Мужчина в золотом шлеме», исследователи из Rembrandt Research Project установили, что написана она не самим мастером, а кем-то из его учеников. Подобное свержение с олимпа шедевров постигло и «Минерву» Рембрандта. В 1931 году картина была продана за 6 700 фунтов, в 1965 – достигла исключительной на то время цены в 125 300 фунтов. Когда же независимые нидерландские эксперты выразили сомнение относительно ее авторства, та же самая картина спустя десять лет принесла жалкие 2 500 фунтов[289].
Подделка художественного произведения – это не просто искусный и прибыльный обман, на который ведутся даже эксперты. Успешная подделка – это плутовство, разоблачающее ауру оригинала. Воздействие, оказываемое на зрителя хорошей подделкой, вполне сопоставимо с воздействием оригинала, это доказывают многочисленные примеры того, как, прежде чем попасть к покупателю, безупречные копии оригинальных произведений проходят неопознанными через руки арт-дилеров, оценщиков, аукционистов и страховщиков.
Тем самым ставятся под сомнение утверждения, что можно безошибочно распознать руку мастера (подлинность), отождествить гениальный мазок (почерк) или ощутить магию оригинала (реликвия). Очевидно, что эти заблуждения разделяют не только профаны, но и те эксперты, через чьи руки фальшивки попадают к покупателям. Ибо: мы видим только то, что знаем – или думаем, что знаем. Часто бывает, что не указания экспертов, а мелкие несоответствия позволяли разоблачить искусное надувательство. Так, лишь по воле случая попал в поле зрения ФБР один такой нью-йоркский арт-шулер.
Купил, скопировал и продал дважды – вот принцип, по которому удваивал прибыль Эли Сакай. Вот как крутилась карусель фальшивок: в 1990 году Сакай за 112 тысяч долларов приобрел на аукционе натюрморт с цветами Марка Шагала. Три года спустя он через свою нью-йоркскую галерею продал за 514 тысяч долларов превосходную копию картины японскому арт-дилеру в Токио. Оригинал ушел в 1998 году на одном из аукционов Christie’s за 340 тысяч долларов. Чистая прибыль: 742 тысячи долларов. В течение нескольких лет и в самых разных местах трюк с продажей копии и оригинала был проделан не менее двенадцати раз. Полотна Поля Гогена, Клода Моне, Гюстава Моро, Огюста Ренуара, Мориса Утрилло и Мориса де Вламинка размножались, чтобы пролиться золотым дождем[290]. Никаких проблем при этом не возникало. Сакай никогда не работал с шедеврами экстра-класса, так что его нелегальные маневры всегда избегали прожекторов мира искусств. Так что эта приносящая миллионы и уже набравшая обороты махинация провалилась совершенно случайно.
В декабре 1985 года торговец приобрел на лондонском Sotheby’s натюрморт с цветами Поля Гогена. Через галериста из Токио он продал копию некому японскому коллекционеру. Когда Сакай, выждав, как всегда, достаточно времени, захотел продать оригинал, япон ский коллекционер тоже выставил на аукцион своего мнимого Гогена. Так что картина выплыла не только в каталоге весеннего аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке, но и в каталоге его главного соперника Christie’s. В результате тщательного расследования, проведенного экспертом по Гогену из парижского Института Вильденштейна, Christie’s пришлось снять свой вариант прямо перед самым аукционом. Хотя о том, что предлагавшаяся картина оказалась фальшивкой, объявлено так и не было. ФБР основательно изучило методы арт-дилера. Федеральная прокуратура Соединенных Штатов обвинила его более чем в дюжине случаев мошенничества. Как могло случиться, что такой солидный аукционный дом, как Christie’s, предлагал своим клиентам подделку в качестве оригинала, это уже другая история.
В России, одном из восходящих художественных рынков, тоже случился скандал с подделками. Вершина айсберга показалась в мае 2004 года, когда на Sotheby’s в Лондоне за 700 тысяч фунтов была предложена картина знаменитого русского пейзажиста Шишкина. Увы, картина не принадлежала ни Шишкину, ни какому-либо другому русскому живописцу. За год до этого ее купили на аукционе в Стокгольме за 56 тысяч долларов. В каталоге она числилась работой нидерландского художника Маринуса Куккука. Картину сразу переправили в Москву и там слегка подретушировали, удалив при этом несколько маленьких фигур и добавив подпись Шишкина. Русифицированную таким образом картину отдел экспертиз московской Третьяковской галереи атрибутировал как редкий образец раннего творчества Шишкина. Она была перепродана, контрабандой доставлена в Лондон и предложена к продаже аукционному дому Sotheby’s.
В каталоге «редкий образец раннего Шишкина, написанный во время пребывания в Швейцарии» сопровождала гордая оценочная стоимость, составлявшая в пересчете 1,28 миллиона долларов. Жирный навар в без малого миллион долларов не был получен, потому что за день до торгов картина была отозвана. Однако, по утверждению московского искусствоведа Владимира Петрова, на том же аукционе ничего не подозревающим коллекционерам были проданы другие картины, подделанные тем же способом[291].
Один такой «ничего не подозревающий коллекционер», обнаружив купленную им картину в аукционном каталоге североевропейского искусства, сдвинул дело с мертвой точки. По словам Марата Гельмана, галериста и политика, решающим в раскрытии преступления оказалось то, что одна из подделанных картин была подарена Владимиру Путину. Кто-то из гостей его дома узнал картину, виденную им под другим именем на аукционе в Западной Европе[292].
Фальшь оригинала. Дематериализация искусства
На художественном рынке прослеживаются две тенденции. Одна – продолжающееся размывание границы искусства, ведущее к экспансии выступающих в качестве искусства предметов потребления. Другая – непрерывное переопределение понятия подлинника, служащее стабилизации цен и укреплению авторских прав. То, что в действительности является копией, становится оригиналом, то, что считалось не-искусством, провозглашается искусством. Рынок отыскивает способы и средства поддерживать статус произведения искусства как бесценного подлинника.
Экономисты, весьма щепетильные в определениях, задают вопрос: за что платят на том или ином рынке? За сами объекты или за их качества? То, за что платят на художественном рынке, в любом случае материальным объектом не является. Вместе с произведением искусства продается паевой сертификат на миф о художнике, или, по формулировке журналиста Марка Шпиглера, право на делянку в царстве истории искусств. Это превращение какого-нибудь адвоката, банкира и менеджера в современного Медичи способен осуществить только подлинник.
То, что оплачивается не материальный объект, доказывают поздние скульптуры Альберто Джакометти. Сам Альберто делал гипсовые модели, а отливку скульптур в бронзе контролировал его брат Диего. Однако рыночные цены на созданные под его наблюдением объекты вовсе не одинаковы. Скульптуры, отлитые до смерти Альберто, доходят до 17 миллионов долларов, сделанные же после его смерти оцениваются гораздо дешевле. Хотя изготовлены они по тем же моделям того же художника и совершенно идентичны по форме и содержанию. Той же логике следует дифференциация цен на фотографии. Чем меньше времени отделяет отпечаток от негатива, тем выше его рыночная стоимость. Винтажи (vintage prints) – отпечатки, сделанные в первые пять лет после изготовления негатива, как правило самим фотографом. Временнáя близость негатива и отпечатка подводит к мысли, что субъективные впечатления фотографа отражаются в подборе параметров печати, делая работу в большей степени подлинником, чем таковыми будут последующие отпечатки. Надписи на фотографии также усиливают ауру подлинника. Тиражными отпечатками (period prints) называют те, что сделаны с коммерческим умыслом после этого срока. Если фотографирование и печать разделяет более десяти лет, отпечатки называют поздними (modern prints). Снимки, воспроизведенные после смерти автора, считаются авторизованными репринтами (estate prints), если они сделаны по поручению управляющего наследством, а если нет, то неавторизованными (later printed prints). Ценится и оплачивается близость к большому взрыву творчества: в фотографии это момент нажатия спусковой кнопки. В действительности, и отливка, и отпечаток – это не копии и не оригиналы, но копии без оригинала.
Уникальность художественного произведения на рынке искусства все более превращается в фикцию. Фотография Дэмиена Херста 1991 года была продана на Sotheby’s за 74 тысячи долларов. Это был один из пятнадцати экземпляров тиража, и изображал он художника в морге, рядом с головой мертвеца. Через несколько месяцев то же самое фото, но из тиража в тысячу экземпляров, предлагалось на странице интернет-магазина Eyestorm за тысячу долларов. Пусть вдвое меньше по размеру, но все-таки стоило оно меньше на 73 тысячи долларов[293].
Первым, кто применил в искусстве принципы массовой продукции и наладил серийное производство оригиналов, был Энди Уорхол. В то время как Ив Кляйн был еще убежден, что ценность работе придает художественный умысел, Энди Уорхол сделал шаг вперед. Для него ценность художественного произведения определялась прежде всего суммой денег, которую кто-то готов за него заплатить. Именно Уорхолу принадлежит фраза: «Good business is the best art», хороший бизнес – вот лучшее из искусств. В начале шестидесятых годов Уорхол стал использовать технику шелкографии для серийной печати долларовых купюр и других популярных мотивов. Непосредственное исполнение он оставлял своим помощникам. Но и в таких серийно произведенных работах стали находить тонкие различия, дабы поддержать фикцию ценностной иерархии. Самые дорогие работы Уорхола относятся к началу шестидесятых годов и изображают кинодиву Мэрилин Монро, которую, после ее смерти 5 августа 1962 года, Уорхол неоднократно использовал в качестве мотива. Ценовой рекорд установила «Оранжевая Мэрилин», в мае 1998 года проданная на Sotheby’s в Нью-Йорке за 15,7 миллиона долларов. Тот факт, что Фонд Уорхола до сих пор не выпустил полный его каталог, вполне может быть мотивирован возникающей в результате возможностью выбрасывать на рынок массу незадокументированных работ. Сохраняющаяся неопределенность касательно оборота имеющихся произведений влечет за собой свободное формирование цен на них[294].
Девальвацией акта творения Уорхол подчеркнул значение идеи в противовес ее воплощению, став тем самым одним из пионеров концептуального искусства. Дематериализация искусства продолжала движение вперед несмотря на то, что масса собирателей периодически ищет передышки на таких доступных пониманию равнинах живописи. Ведь тут налицо более восьмисот лет развивающийся канон, проверенный пробным камнем времени, который, как многие полагают, позволяет обоснованно судить о качестве. Но хороший ли художник Базелиц? Говорят, в шестидесятые годы знатоки искус ства выпроваживали торгующих вразнос работами молодых художников, словно попрошаек. Несмотря на колебания в надежности, рынок выискивал способы поддерживать фикцию ауры оригинала вне зависимости от того, с каким видом искусства мы имеем дело. Ведь и когда Вальтер Беньямин заклеймил установку на оригинал как буржуазную форму фетишизма, потребность коллекционеров в фетишах искусства ничуть не уменьшилась.
Другие формы современного искусства тоже проблематизируют понятие оригинала. Фотография как искусство, в отличие фотографии как фотографии, с помощью больших форматов и ограниченных тиражей приближается к живописи и занятому ею праву на неповторимость. От трех до шести экземпляров фотографии достаточно, чтобы пробудить жажду обладания у тех, кто ее уже видел, но еще не имеет, и тем самым вздуть цены. Французский эксперт художественного рынка Жюдит Бенаму-Юэ полагает, что спрос вызывает не жажда обладания тем, чего ни у кого быть не может, а потребность не отстать от конкурентов[295]. Многие новые покупатели искусства ищут не единственную в своем роде работу, но такую, которой уже обладает, вызывая зависть, некое лицо или организация. Такова движущая сила ценовой спирали лимитированных изданий. Едва ли какая-нибудь другая форма искусства более подходит для такого рода социального состязания, чем фотография. Ограниченный тираж – это стратегия, которая приближает обладающую возможностью безграничного воспроизведения фотографию к живописи с ее уникальностью и, в то же время, позволяет быстрее пустить в оборот ту критическую массу художественных произведений, что необходима для создания существенного спроса и повышения уровня цен.
Формат при этом играет центральную роль. Новые суперформаты предоставляют фотографиям возможности воздействия, делающие их равноценными конкурентами картинам. «Поскольку они выглядят, как картины, – объясняет нью-йоркский галерист Мэтью Маркс, – за них и просить начинают столько же»[296]. Наверное, поэтому фотографы теперь уже не фотографы, а фотохудожники. Андреас Гурски, сын рекламного фотографа и ученик Бернда и Хиллы Бехеров, стал их успешнейшим последователем. Причина того, что его обработанные на компьютере фотографии стали на мировом художественном рынке объектами престижа и продаются по всему земному шару по максимальным ценам, заключена не только в их потрясающей эстетике. Они сфокусированы на сферах деятельности победителя в мире глобализации: фондовых биржах, модных магазинах, топ-менеджменте, роскошных отелях, деловых районах. На его первомайских фотографиях (цикл «May Day») мы видим радостные парады любви, где одиночка теряется в массе, словно яркое конфетти. Аполитично? Позитивно? Быть может, это как раз та косметиче ская хирургия современности, которая делает фотографии Гурски вожделенными статусными символами высших слоев общества. Его точные срезы глобальной капиталистической культуры празднуют ее успех, не обращая внимания на неэстетичные побочные эффекты. Что подойдет интерьерам нового богатства более, чем эти гиперреалистические большеформатные снимки прекрасного нового мира?
Начиная со средневековья, в ходе вытравливания ремесленничества из искусства, мало-помалу утрачивают значение такие его стороны, как материал и обработка. Движущей силой искусства и рынка становится инновация. С дематериализацией художественных произведений в ХХ веке она проявилась как самая сердцевина искусства. В 1969 году Сол Левитт в своих «Параграфах концептуального искусства» сформулировал основные идеи искусства, полностью освобожденного от оков материальности. В соответствии с ними, идее более не нужно принимать материальные формы, чтобы стать искусством. Почерк художника, когда-то узнаваемый по красочному мазку, выпарился в конденсационный след на небесах идей. Речь теперь идет о том, чтобы сформулировать художественный умысел и продать идею.
Это ведет к парадоксальным последствиям на художественном рынке. Ведь главнейшим из законов рынка является потребность в товаре. Некоторым художникам удалось найти квадратуру круга – материализовать ничто. В мае 1999 года на торгах была выставлена картина под названием «Signet 20» («Печать 20») американского художника Роберта Раймана. Она представляла собой полосы белого цвета на белом грунте. В каталоге значилось следующее: «Полотна Раймана – это не картины, они ничего не представляют, это даже не абстракция. Это не знаки и не выражения, это опыты». Цена, которую эксперты Christie’s назначили за этот опыт, составила 1,5 миллиона долларов. Хотя эта не-картина продана не была, другой объект из аморфного мира Раймана между концептуализмом и минимализмом достиг стоимости в 1,6 миллиона долларов[297].
Кронос пожирает своих детей. Непродажный оригинал
В результате снова и снова появляются движения в искусстве, во все обходящиеся без конечного продукта в виде «работ». Флюксус и перформанс – тому примеры. Товаром становятся сувениры акций, документы хэппенингов, записи перформансов. Само же произведение искусства лишилось, по причине своей недолговечности, экономической реализации. Американец Джеймс Ли Байерс (1932–1997) был одним из тех художников, кто натянул холст своего творчества между полюсами материальности и нематериальности, преходящего и продолжающегося. Подобно Иву Кляйну, он был подвержен влиянию дзен-буддизма с его идеей возвращения всех явлений в пустоту. В 1975 году Байерс представил в Лувре «The Perfect Kiss» – совершенный поцелуй. Ни одному фотографу не удалось запечатлеть суть этого перформанса, мимолетное движение губ к поцелую. Таким образом, поцелуй как собственно художественное произведение остался уникальным, неповторимым и бесценным. Такие художники, как Джеймс Ли Байерс, напоминают нам о нематериальной сути искусства. Перформансом они заставляют ощутить быстротечность нашего бытия как удел человеческий и направляют наши желания к неповторимости, которую рынок удовлетворяет подлинниками, непосредственно восходящими к их экзистенциальному корню, к опыту момента. Ведь неповторим и уникален только момент, то есть непрерывно изменяющееся сейчас, в котором мы настоящие и в котором развертывается наша жизнь. Искусство, понимаемое как прощупывание экзистенциальных измерений человеческого бытия, не нуждается в материализации.
Но не только рынку требуются долговечные объекты. У людей, осознающих собственную бренность, возникает потребность противопоставить экспансии времени постоянство материальных объектов. Любой подвиг оказывается в прошлом, любая власть блекнет, любое богатство утекает, любая империя рушится. Вот причина, по которой художник стал лицом привилегированным. Ведь он один, пишет историк Кшиштоф Помиан, был в состоянии победить своими работами время[298]. Поэтому художник стал идеальным инструментом власть имущих, желающих заручиться бессмертием не только в лучшем, но и в этом мире. Между тем английский художник Дэмиен Херст работает с одним лондонским ювелиром над самым дорогим художественным произведением в мире – черепом в натуральную величину, усеянным примерно 8500 бриллиантами. Со мнительно, что своим вариантом излюбленного при царском дворе яйца Фаберже он отправит смерть в преисподнюю, как намеревается[299]. Но объектом желания бриллиантовый череп станет в любом случае – исключительно из-за своей цены.
Заключение. О цене искусства
Истинный художник помогает миру открывать мистические истины.
Брюс Науманн (1967)Вернемся к исходному пункту наших рассуждений, к истории нищего Мирлифлора и миллиардера Сократоса. Когда Сократос под шумные аплодисменты публики держит в руках портрет Моны Лизы, он на мгновение предается иллюзии собственного бессмертия. В разгар вечеринки, которой он отмечает пропажу дорого застрахованной картины, гости в анархическом восторге уничтожают прочие художественные произведения. Сократос колеблется между смехом и плачем, между радостью от лучшей сделки в его жизни и сомнением, не потерял ли он нечто бесценное. Но что же это за бесценное, если в капиталистическом обществе оно только тогда обретает значимость, когда имеет некую цену?
Вопрос, вставший перед Сократосом, пронизывает искусство с тех пор, как для него появился рынок. Ведь внутри каждого художественного произведения, бурно одобренного рынком, сверкают деньги. Является ли произведение искусства чем-то большим, нежели эстетическая акция, от которой избавляются, как только начинает падать ее курс? Что это за ценность, подверженная резкому падению цен? Существует ли вообще такая ценность? Или она лишь иллюзия человека, неспособного примириться с тем, что ценности, в которые он верит, всегда создаются им самим? В экономике представление об истинных ценностях облекается в такие понятия, как «справедливая стоимость», «фундаментальная стоимость», «инвестиционная стоимость». Экономикой подразумевается существование ценности, независимой от любых относительных оценок. Эта ценность заложена в самой вещи, а не в том, как оценивает ее рынок или другая система. Она не основана ни на культурном одобрении, ни на экономическом обмене. Она существует независимо от praise, prize или price. Она – priceless.
Традиционное японское искусство ксилографии называется укиё-э, картины изменчивого мира. За этим названием стоит представление о том, что все явления мимолетны, и только в сознании наблюдателя мгновение обретает длительность. Марсель Дюшан тоже знал, что произведения искусства живы только тогда, когда кто-нибудь их созерцает и запечатлевает в своей душе. До той поры они мертвые артефакты, не способные ни породить бренд, ни активизировать пересуды покупателей и суждения экспертов, ни запустить лавину ценообразования. Представление о бытии, порожденное в наблюдателе художественным произведением, вот его подлинная ценность. Только в тот момент, когда проскакивает искра и работа оживает в ее зрителе, искусственное становится искусством. Только тогда проявляется магия, способная обогатить наше восприятие. Первооткрыватель этого опыта – художник. Своей неоновой спиралью «The true artist helps the world revealing mystic truths» («Истинный художник помогает миру открывать мистические истины»)
Брюс Науманн в 1967 году выразил суть предназначения художника. Притязание на глубокую истину и экзистенциальный опыт, которое таким образом (и не первым в истории искусств) сформулировал американский художник, и в эпоху тотального потребления, медийного потока картинок, стремительно развивающихся трендов и спекулятивного использования искусства остается в силе как фундаментальное требование к творчеству.
Однако сегодняшний художественный рынок держит наготове и другое послание. Ведь феномен спекуляции и рекламы существует в контексте глобальных общественных изменений. Размах цен, эрозия середины и концентрация внимания рынка на немногих победителях, словно увеличительное стекло, обнаруживают тенденцию, которая в ближайшие годы может стать преобладающей: растущее в нашем обществе неравенство. К тому же многое из того, что происходит в неопределенном пространстве между искусством и деньгами, – прекрасный материал для криминальных романов. В серых зонах художественной жизни уютно, как в бассейне с акулами. Здесь, рядом с коллекционерами, торговцами и экспертами, резвятся налоговые махинаторы, отмыватели денег, фальсификаторы, воры и скупщики краденого. Интерпол оценивает мировой оборот украденных предметов искусства в сумму от 2 до 4,5 миллиардов долларов в год. На таможенном складе Женевы размером в двадцать футбольных полей, где хранят свои ценности два крупнейших аукционных дома, Christie’s и Sotheby’s, лежат и нелегально приобретенные либо оплаченные «черными» деньгами произведения искусства, чьи владельцы полагаются на прагматизм швейцарцев и сохранение тайны их банками. В Германии, по оценкам экспертов, более половины сделок в торговле искусством финансируется из незаконных источников[300]. Граница между дозволенными и запрещенными манипуляциями расплывчата, а нарушение ее доказывается с трудом. Ибо обратной стороной хваленой секретности торговли искусством является пресловутая мутность. В торговле искусством не только выставляют напоказ, но и скрывают, утаивают и умалчивают. Аура искусства на художественном рынке тоже играет двусмысленную роль – роль величественного повода осуществить неосуществимое и обратить поистине бесценное в звонкую монету. В конечном счете, художественный рынок – это не эхолот для глубинных измерений искусства, а барометр его продажности. Его игроки своим одобрением или осуждением определяют, как перемещаться центру тяжести по скользящей шкале между искусством и деньгами. В искусстве тут дело или в деньгах? В Быть или Иметь? На этот вопрос каждый должен ответить сам и таким образом бросить гирьку своего решения на весы художественного рынка. Сколько ни заверяй, что покупаешь только то, что нравится, рост цен свидетельствует о том, что ты покупаешь то, что и все остальные. Между тем, воспринимать искусство как искусство, значит выбирать то искусство, которое любишь. Эта свобода и есть истинная роскошь искусства.
Примечания
1
«Un monsieur de compagnie» («Компаньон»). Франция/Италия 1964. Режиссер Филипп де Брока. В ролях: Жан-Пьер Кассель, Жан-Клод Бриали, Ирина Демик, Катрин Денёв, Анни Жирардо, Сандра Мило.
(обратно)2
Auerbach, Arnold M.: The day Rembrandt went public, in: Judith Merrill (Ed.): 8th Edition of The Year’s Best Science Fiction. New York 1963, S. 196.
(обратно)3
Frank, Robert: As Their Riches Grow. Hedge-Fund Experts Put Art in the Deal. Wall Street Journal, 18.5.2005.
(обратно)4
Kaube, Jürgen: Vielleicht doch Bilder ins Portfolio? Kunst ist der einzige Hedge-Fonds. FAZ, 17.6.2005.
(обратно)5
Frank, Robert: a. a. O.; Auction results, Artist’s index and statistics, Kippenberger, Prince, Ruscha. Artprice.com, November 2006.
(обратно)6
Neumeister, Michaela: Gesundes Wachstum oder absturzgefährdeter Hype? Vortrag Symposium Kunst und Investition. Art Cologne, 26.10.2005.
(обратно)7
Prices continue to rise in Juni. Art Market Insight, Artprice.com, Juni 2006.
(обратно)8
A peak in the art market in 2005? Art Market Insight, Artprice.com, Januar 2006.
(обратно)9
Frohne, Ursula: Maler und Millionäre. Erfolg als Inszenierung: Der amerikanische Künstler seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Dresden 2000, S. 380.
(обратно)10
Горький М. Город Мамоны (Мои впечатления от Америки) // М. Горький. Полное собрание произведений: В 25 томах. M., 1970. Т. 6. С. 433.
(обратно)11
Muensterberger, Werner: Sammeln. Eine unbändige Leidenschaft. Frankfurt/ Main 1999, S. 109.
(обратно)12
Taylor, F. H.: The Taste of Angels. Boston 1948, S. 528.
(обратно)13
Leiser, D., Sevon, G., Roland-Levy, Ch.: Children’s economic socialization: Summarizing the cross-cultural comparison of ten countries. Journal of Economic Psychology 11 (4), 1990.
(обратно)14
Roper-Starch Worldwide. Цит. по: Robert Shiller: Irrational Exuberance. Princeton 2005, S. 83.
(обратно)15
Korten, David C.: When Corporations rule the World. West Hartford, San Francisco 1995, S. 83.
(обратно)16
Le Goff, Jacques: Wucherzins und Höllenqualen. Stuttgart 1988, S. 8.
(обратно)17
Матфей 6:24; Лука 16:13.
(обратно)18
Luther, Martin: Tischreden, Bd. 1, Nr. 391: Gellt est verbum Diaboli, per quod omnia in mundo creat, sicut Deus per verbum creat.
(обратно)19
Hörisch, Jochen: Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes. Frankfurt/Main 1996, S. 26.
(обратно)20
Simmel, Georg: Philosophie des Geldes. Köln 2001, S. 297 ff.
(обратно)21
Вольтер. Философские сочинения. М.: Наука, 1989. С. 88.
(обратно)22
Random House Unabridged Dictionary 2006; Encyclopedia Britannica Online; Online Etymology Dictionary.
(обратно)23
Klossowski, Pierre: Die lebende Münze. Berlin 1998, S. 14.
(обратно)24
Thurow, Lester: Die Zukunft der Weltwirtschaft. Frankfurt/Main 2003, S. 56.
(обратно)25
Kindleberger, Charles P.: Manien – Paniken – Crashes. Die Geschichte der Finanzkräche dieser Welt. Kulmbach 2001, Anhang B.
(обратно)26
Schama, Simon: The Embarrassment of Riches. An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age. New York 1997, S. 358.
(обратно)27
Art Market Trends 2005, Artprice 2006.
(обратно)28
Цит. по: Spiegler, Marc: Art Central, Art and Auction, Luli 2003.
(обратно)29
Art Market Insight, Speculation in New York. Artprice.com, Mai 2006.
(обратно)30
Цит. по: Krugman, Paul: The Death of Horatio Alger. The Nation, 5.1.2004.
(обратно)31
Piketty, Thomas, Saez, Emmanuel: The Evolution of Top Incomes: A Historical and International Perspective. NBER Working Paper 11955, Januar 2006; The rich, the poor, and the growing gap between them. Economist, 17.6.2006.
(обратно)32
Bureau of Labor Statistics. Цит. по: Correspondents of The New York Times: Class Matters, New York 2005.
(обратно)33
Prantl, Heribert: Merkel, Kamel und Nadelöhr. SZ 27.4.2006, S. 11.
(обратно)34
Havens, John J., Schervish, Paul G.: Millionaires and the Millenium: New Estimates of the forthcoming Wealth and the Prospects for a Golden Age of Philanthropy. Boston College Social Welfare Institute, 19.10.1999.
(обратно)35
Prantl, Heribert: a. a. O.
(обратно)36
Gonzalez, Thomas, Weis, Robert (Hrsg.): Kunst-Investment. Die Kunst, mit Kunst Geld zu verdienen. 2000, S. 26 f.
(обратно)37
In the eye of the investor. Economist, 22.2.2005.
(обратно)38
Hoffmann, Wolfgang: Das Kapital hängt an der Wand. Die Zeit, 13/2002.
(обратно)39
In the eye of the investor. Economist, 22.2.2005; Sullivan, Aline: Investing in Art: You know what you like, but what is it worth? International Herald Tribune, 21.8.2004; Herchenröder, Christian: Kunstmärkte im Wandel. Vom Jahrzehnt des Umbruchs in die Gegenwart. Düsseldorf 2000, S. 28.
(обратно)40
Hughes, Robert: The great massacre of 1990. Time Magazine, 3.12.1990.
(обратно)41
Art Market Insight: Speculation in New York. Artprice.com, Mai 2006.
(обратно)42
Year-End Review of Markets and Finance 2005. Wall Street Journal, 3.1.2006.
(обратно)43
Shiller, Robert: Irrational Exuberance. Princeton 2005, S. 75 f.
(обратно)44
Mej, Jianping, Moses, Michael: Fine Art Index.
(обратно)45
Gonzalez, Thomas, Weis, Robert (Hrsg.): Kunst-Investment. Die Kunst, mit Kunst Geld zu verdienen. 2000, S. 29.
(обратно)46
Sotheby’s Art Market Bulletin 1989. Цит. по: von Campenhausen, Claus Freiherr: Kunst als Investition am Beispiel des British Railway Pension Fund. 1991, S. 60.
(обратно)47
Shaw, Stefan: Einführungsvortrag Kunst und Investition – Wo liegt der Gewinn? Symposium Art Cologne, 26.10.2005.
(обратно)48
Gonzalez, Thomas: Kunstinvestment-Guide. München 2002, S. 51.
(обратно)49
North, Michael: Das Goldene Zeitalter. Kunst und Kommerz in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Köln Weimar Wien 2001, S. 135 f.
(обратно)50
Цит. по: Baumer, Dorothea: Der Triumph der jungen Kunst. SZ, 18./19.6.2005.
(обратно)51
Thon, Ute: Der Alptraum-Fabrikant, ART Nr. 5, Mai 2002; Spiegler, Marc: Money for old soap. Independent (UK), 21.7.2002.
(обратно)52
Hobsbawm, Eric: Age of Capital. New York 1996, S. 280.
(обратно)53
Hughes, Robert: On Art and Money. New York Review of Books, Vol. 31, No. 19, 6.12.1984.
(обратно)54
Rewald, John: Theo van Gogh as Art Dealer. Studies in Post-Impressionism. New York 1986, S. 12, 20.
(обратно)55
Malinowski, Bronislaw: Die Argonauten des Westlichen Pazifk.
(обратно)56
Appadurai, Arjun: Commodities and the politics of value, in: Appadurai, Arjun (Ed.): The social life of things, Commodities in cultural perspective. Cambridge 2003, S. 21.
(обратно)57
Pommerehne, Werner, Frey, Bruno: Musen und Märkte. München 1993, S. 94 f.
(обратно)58
Цит. по: Ullrich, Wolfgang: Die neuen Helden. Die Zeit, 27.10.2005.
(обратно)59
Benjamin, Walter: Ich packe meine Bücher aus. Eine rede über das Sammeln, in: Benjamin, Walter: Angelus Novus, Ausgewählte Schriften. Frankfurt 1966, S. 70.
(обратно)60
Sloterdijk, Peter: Die Kunst faltet sich ein. Munitionsfabrik 15, Karlsruhe 2005.
(обратно)61
Breidenbach, Joana, Zukrigl, Ina: Tanz der Kulturen. Kulturelle Identität in einer globalisierten Welt. München 1998, S. 170.
(обратно)62
Rauterberg, Hanno: Die Einsammlerin. Die Zeit, 13.11.2003.
(обратно)63
Цит. по: Rauterberg, Hanno: a. a. O.
(обратно)64
Spiegler, Marc: Money for old Soap. Independent (UK), 21.7.2002.
(обратно)65
Schwarz, Arturo: Rede im Tel-Aviv-Museum zur Ausstellung siener Sammlung, 28.12.2000.
(обратно)66
Diderot, Denis: Regrets sur ma vieille robe de chambre. Edition de Pierre Chartier, Paris 2004.
(обратно)67
Spiegler, Marc: The illusion of youth. Art & Auction, Juni 2004.
(обратно)68
The Real Saatchis, Master of Illusions. Channel 4 (UK), 10.7.1999.
(обратно)69
Benhamou-Huet, Judith: The Worth of Art. Pricing the Priceless. New York 2001, S. 34 f.
(обратно)70
Menden, Alexander: Ich, Charles Saatchi. SZ, 26.1.2005.
(обратно)71
Thomas, Kelly Devine: The Most Wanted Works of Art. Art News, November 2003.
(обратно)72
Muensterberger, Werner: Sammeln. Eine unbändige Leidenschaft. Frankfurt/ Main, 1999, S. 366 f.
(обратно)73
Geary, Patrik: Sacred Commodities. The circulation of medieval relics, in: Appadurai, Arjun (Ed.) a. a. O., S. 183.
(обратно)74
Beerlage, Andreas: Die Macht der Bilder. brand eins 1/2003; Monnet, Vincent: Passion oder Pathologie? Der Kunstdieb und sein Polizist. Passagen No. 35, Winter 2003, S. 12 f.
(обратно)75
Assouline, Pierre: L’Arsène Lupin des musées parle, un entretien exclusif avec Stéphane Breitwieser. Nouvel Observateur, 22.2.2006.
(обратно)76
Benhamou-Huet, Judith: a. a. O., S. 14.
(обратно)77
Herchenröder, Christian: a. a. O., S. 317.
(обратно)78
Brockhaus 1955.
(обратно)79
Wikipedia 2006.
(обратно)80
Parks, Tim: Medici Money, Banking, Metaphysics and Art in Fifteenth Century Florence. New York, London 2005, S. 46.
(обратно)81
Parks, Tim: a. a. O., S. 133.
(обратно)82
Parks, Tim: a. a. O., S. 133 f.
(обратно)83
Grassekamp, Walter: Kunst und Geld. München 1998, S. 18.
(обратно)84
Hughes, Robert: Sold! Time Magazine 27.11.1989.
(обратно)85
Vogel, Carol: The Art Market. Auction Houses await the Upturn. The New York Times, 30.4.1992.
(обратно)86
Pietsch, Hans: Die Falle des falschen Mäzens. Art 1/2003.
(обратно)87
Kopytoff, Igor: The cultural biography of things: commoditization as process, in: Appadurai, Atjun (Ed.): a. a. O., S. 64 f.
(обратно)88
Wu, Chin Tao: Privatising Culture, Corporate Art Intervention since the 1980s. London, New York 2003, S. 85.
(обратно)89
Glueck, Grace: Power and Esthetics: The Trustee, Art in America. Vol. 59, No. 4, Juli/August 1971, S. 80 f.
(обратно)90
Glueck, Grace: a. a. O., S. 81 f.
(обратно)91
Oldenburg, Richard: Abschied vom Kunsttempel. Wie können Museen im nächsten Jahrhundert überleben? Lettre International Nr. 34 III. Vj. 96, S. 43.
(обратно)92
Saltz, Jerry: Downward Spiral: Te Guggenheim touches the Bottom. The Village Voice, 13.2.2002.
(обратно)93
Vogel, Carol: Armani Gift to the Guggenheim revives Issue of Art and Commerce. The New York Times, 15.12.1999; When Merchants enter the temple. Economist, 19.4.2001.
(обратно)94
Kimmelman, Michael: Farewell Fashion, Hello Art. The New York Times, 25.3.1994.
(обратно)95
Kerns, Thomas: Museum Finances, in: Feldstein, Martin (Ed.): The Economics of Art Museums. Chicago 1991, S. 64.
(обратно)96
Szanto, Andras: The Business of Art. The American Prospect 11/8, 28.2.2005.
(обратно)97
Цит. по: Thomas, Landon: New York Magazine, 19.8.2002.
(обратно)98
The charges so far. A little list but getting longer. Economist 28.11.2002.
(обратно)99
Payback time. The fne art of sales-tax evasion. Economist 13.6.2002.
(обратно)100
Hoher Ölpreis drückt den DOW. SZ 4.8.2004.
(обратно)101
Reuters, SZ Nr. 217, 20.9.2005, S. 25.
(обратно)102
Hartocollis, Anemona: Ex Tyco Chief to Settle Tax Evasion Charges. The New York Times, 13.5.2006.
(обратно)103
O’Brien, Timothy: A New Legal Chapter for a 90’s Flameout. The New York Times, 15.8.2004; Der Dollar-Jongleur. Spiegel Online, 19.6.2002.
(обратно)104
Dunham, Richard S: Global Crossing Tossed More Cash Around Town Than Enron. Business Week, 11.2.2002; Der Dollar-Jongleur. Spiegel Online, 19.6.2002.
(обратно)105
Lenzner, Robert: A Wealth of Names. Forbes, 1.10.2000.
(обратно)106
Robinson, Walter: New MoMA fnds art-lovers ready.artnet.com, 16.11.2004.
(обратно)107
Barstow, David: Brooklyn Museum recruited donors who stood to gain. The New York Times 31.10.1999; Barstow, David: Artistic Differences: A special report; Art, Money and Control: Elements of an Exhibition. The New York Times 6.12.1999.
(обратно)108
Цит. по: Spiegler, Marc: The art trade in the last major unregulated market. The Art Newspaper, Juni 2005.
(обратно)109
Rosen, Nick: Artopoly: A Giant Game for Dealers, Museum Curators and Artists. The Guardian, 19.12.1983; Wu, Chin-Tao: a. a. O., S. 118.
(обратно)110
Wu, Chin-Tao: a. a. O., S. 118; Bois, Yve-Alain, Crimp, Douglas, Krauss, Rosalind: A Conversation with Hans Haacke. MIT Press Vol. 30, October 1984, S. 27.
(обратно)111
Graw, Isabelle: Der Neue Glaube. Welche Bedeutung der Markt für die Kunst hat. Frankfurter Rundschau, 19.1.2006.
(обратно)112
United Nations System Standing Committee on Nutrition. Цит. по: Food for Thought. Economist 31.7.2004.
(обратно)113
Weisman, George: Philip Morris und die Kunst. München 1982. Цит. по: Butin, Hubertus: When Attitude becomes Form Philip Morris becomes Sponsor, 2000.
(обратно)114
Wu, Chin Tao: a. a. O., S. 149.
(обратно)115
Wu, Chin Tao: a. a. O., S. 149.
(обратно)116
Website Whitney Museum of American Art at Altria.
(обратно)117
Website UBS Art Collection, Advisory Board; Mack, Gerhard: Kunst adelt, Geld öffnet Türen. NZZ, 8.1.2006, Website UBS Art Collection, Press Archive 2006.
(обратно)118
Privatization of Stedelijk Museum completed, Website Stedelijk Museum 20.12.2005; Weidemann, Siggi: Gekauft und verraten? Sponsoren übernehmen das Amsterdamer Stedelijk-Museum. SZ 18.7.2006.
(обратно)119
Velthuis, Olav: Talking The Symbolic Meanings of Prices in the Market for Contemporary Art. Princeton Oxford 2005, S. 87; Hoffmann, Wolfgang: Das Kapital hängt an der Wand. Die Zeit, 13/2002; Spiegler, Marc: Von Anlegern, Abzockern und Abstürzen. NZZ 29.12.2002.
(обратно)120
Polke, Sigmar: The History of Everything. Paintings and Drawings 1998–2003. New Haven and London 2003, S. 136 f.; Website Tate Modern, Past Exhibitions, Sigmar Polke: History of Everything.
(обратно)121
Wir sind eine Marke. Interview mit Chris Dercon, SZ 10.5.2006.
(обратно)122
Website Musée du Louvre.
(обратно)123
Heinick, Angelika: Das Museum und der Galerist. FAZ 30.9.2006; Website Musée de l’art contemporian Lyon.
(обратно)124
Butin, Hubertus: Die verfüssigte Kunst. Immer mehr Museen trennen sich von Teilen ihrer Bestände. SZ 9.10.2006.
(обратно)125
North, Michael: a. a. O., S. 1.
(обратно)126
De Märzi, Neil: The role of Dutch auctions and lotteries in shaping the art market of 17th century Holland, in: Journal of Economic Behavior and Organisation, Vol. 28, 1995, S. 213.
(обратно)127
Pomian, Krisztof: Collectors and Curiosities. Paris and Venice 1500–1800, London 1990, S. 154.
(обратно)128
Leo Castelli, dealer in American art, died on August 21st, aged 91, Economist, 2.9.1999.
(обратно)129
Herstatt, Claudia, in: Die Zeit, 26.7.1999.
(обратно)130
Gonzales, Thomas; Weis, Robert (отв. реä.): Kunst-Investment. Die Kunst, mit Kunst Geld zu verdienen. 2000, S. 61.
(обратно)131
Густав Флобер. Воспитание чувств. М. 2006; Bourdieu, Pierre: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt/Main 1999, S. 27.
(обратно)132
Abbing, Hans: Why are artists poor? The Exceptional Economy of the Arts. Amsterdam 2002, S. 50.
(обратно)133
Brewer, John: The Art of the Deal. The New York Review of Book, 7.10.2004, S. 24.
(обратно)134
Presler, Gerd: Ein genialer Verführer. Art 1/2003, S. 39.
(обратно)135
Secrest, Meryle: Duveen: A Life in Art. New York 2004.
(обратно)136
Secrest, Meryle: a. a. O., S. 99.
(обратно)137
Fitzgerald, Michael C.: Making Modernism. Picasso and the Creation of the Market for Twentieth-Century Art. Berkeley Los Angeles London 1996, S. 82.
(обратно)138
Thurn, Hans Peter: Aus Passion zur Profession: Kunsthändler und Galeristen, in: Pues, Lothar, Quadt, Edgar, Rissa: ArtInvestor. Handbuch für Kunst und Investment. München 2002, S. 329.
(обратно)139
Blomberg, Katja: Wie Kunstwerte entstehen. Hamburg 2005, S. 68.
(обратно)140
Velthius, Olav: a. a. O., S. 70.
(обратно)141
Spiegler, Marc: Murakami to Gagosian. Art Newspaper, 14.6.2006, Art Basel Highlights: Takashi Murakami, Your Gallery, Online Editorial Saatchi Gallery, 19.6.2006.
(обратно)142
Power List 2004, Art and Auction, Dezember 2004.
(обратно)143
Интервью Пола Каммингса с Лео Кастелли, 14.5.1969, Смитсоновский архив искусств.
(обратно)144
Becker, Howard Saul.: Art Worlds. Berkeley 1982, S. 34 f.
(обратно)145
Fitzgerald, Michael C.: a. a. O., S. 43.
(обратно)146
Kronthaler, Helmut: Netzwerk Kunst. Artinvestor 3/2005, S. 68.
(обратно)147
Blomberg, Katja: a. a. O., S. 15.
(обратно)148
Fesel, Bernd: Der Kunstmarkt in Europa. Ein internationaler Boom und viele nationale Krisen. Büro für Kulturpolitik und Kulturwirtschaft Bonn. Köln 2006.
(обратно)149
Studie von Kusin & Company. Цит. по: Fesel, Bernd: a. a. O.
(обратно)150
Fesel, Bernd: a. a. O.
(обратно)151
Velthius, Olav: a. a. O., S. 14 f.
(обратно)152
Kraft, Steffen: Aktion Überversorgung. Kunstdrucke im Supermarkt. SZ 29.11.2005.
(обратно)153
Velthius, Olav: a. a. O., S. 77; Gefter, Philip: Photos as new status objects, with high prices to match, in: The New York Times, 4.4.2005.
(обратно)154
Velthius, Olav: a. a. O., S. 79.
(обратно)155
Year End Review of Markets & Finance 2005, Wall Street Journal 3.1.2006.
(обратно)156
Lacey, Robert: Sotheby’s – Bidding for Class. Boston, New York, Toronto, London 1998, S. 154.
(обратно)157
Lacey, Robert: a. a. O., S. 250 f.
(обратно)158
Рутбир (root beer) – газированный напиток из корнеплодов с добавлением мускатного масла, аниса, корицы, гвоздики, экстракта американского лавра и других специй.
(обратно)159
«Selling art has much in common with selling root beer. People don’t need root beer and they don’t need to buy, either. We provide them with a sense that will give them a happier experience». Цит. по: Watson, Peter: From Manet to Manhattan: The Rise of the Modern Art Market. New York 1992, S. 129.
(обратно)160
Hollein, Max: Boom, Crash: Schauplatz Kunstmarkt, in: Pues. Quadt, Rissa: a. a. O., München 2002, S. 129.
(обратно)161
Glueck, Grace: One Art Dealer who is still a High Roller. The New York Times, 24.6.1991.
(обратно)162
Spiegler, Marc: Money for old soap. Independent on Sunday Review (UK), 21.7.2002.
(обратно)163
Herchenröder, Christian: a. a. O., S. 23 f.
(обратно)164
More trials and tribulations. No end to Christie’s and Sotheby’s woes, Economist 25.4.2002; Christie’s and Sotheby’s, What an Art, Economist, 5.8.2004.
(обратно)165
Thomas, Kelly Devine: Christie’s and Sotheby’s: On the Champagne Trail. Artnews, September 2005.
(обратно)166
Plagens, Peter: Cents and Sensibility. Collecting in the 80’s Contemporary Art Market, Art Forum, 4/2003; Velthius, Olav: a. a. O., S. 221.
(обратно)167
Достоевский Ф. М. Игрок // Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений: В 10 томах. М., 1956. Т. 4. С. 401.
(обратно)168
Graw, Isabelle: Wer bietet mit? Interview mit Gérard Goodrow, Texte zur Kunst Nr. 44, Kunstmarkt, 5.12.2001.
(обратно)169
Ср.: Herchenröder, Christian: a. a. O., S. 332.
(обратно)170
Velthius, Olav: a. a. O., S. 220.
(обратно)171
Цит. по: Verna Sacha: Monet, Monet, Money, in: Weltwoche Nr. 19, 2006.
(обратно)172
Цит. по: Verna Sacha: a. a. O.
(обратно)173
Vogel, Carol; Blumenthal, Ralph: Memos point to Ties between Auction Houses. The New York Times, 25.5.2001 («With a sliding scale based on value, there should be no legal problems because you cannot price-fx a unique object»); Velthius, Olav: a. a. O., S. 220.
(обратно)174
Benhamou-Huet, Judith: a. a. O., S. 62.
(обратно)175
Перевод М. Кудинова.
(обратно)176
Hagen, Reiner und Rose-Marie: Meisterwerke im Detail. Band 1. Köln 2003, S. 452.
(обратно)177
artcyclopedia.com: Top 50 Posters, based on cumulative sales, Januar 2007.
(обратно)178
Benhamou-Huet, Judith: The Worth of Art, Pricing the Priceless. New York 2001, S. 63.
(обратно)179
Benhamou-Huet, Judith: a. a. O., S. 95.
(обратно)180
Цит. по: Koldehoff, Stefan: Van Gogh, Mythos und Wirklichkeit. Köln 2003, S. 207.
(обратно)181
Цит. по: Benhamou-Huet, Judith: a. a. O., S. 94.
(обратно)182
Koldehoff, Stefan: Van Gogh, Mythos und Wirklichkeit. Köln 2003, S. 200.
(обратно)183
Koldehoff, Stefan: a. a. O., S. 14.
(обратно)184
Koldehoff, Stefan: a. a. O., S. 47.
(обратно)185
Zemel, Carol: The Formation of a Legend. Ann Arbour 1980, S. 127.
(обратно)186
Koldehoff, Stefan: a. a. O., S. 85, 125.
(обратно)187
Baer-Bogenschütz, Dorothee: Quotenbringer Picasso, in: Kunstzeitung Nr. 111, November 2005.
(обратно)188
Kahnweiler, Daniel-Henry: My Galleries and Painters. Boston 2003, S. 91.
(обратно)189
Kreutz, Bernd: The art of Branding. Hatje Cantz, 2003, S. 14.
(обратно)190
Fitzgerald, Michael C.: a. a. O., S. 29.
(обратно)191
Gilot, Françoise: Leben mit Picasso. München 1980, S. 240 f.
(обратно)192
Kreutz, Bernd: a. a. O., S. 27.
(обратно)193
Art Market Insight, The Top Ten Artists by Turnover, Artprice.com, Juli 2005.
(обратно)194
Castle, Frederick: Arts Magazine Nr. 63, Februar 1989, S. 60 f.
(обратно)195
Outlaw Culture, Resisting Representations, London, 1994, S. 25-37.
(обратно)196
Lucie-Smith, Edward: Art Review Nr. 48, März 1996, S. 20 f.
(обратно)197
Plattner, Stuart: High Art down Home. Chicago, London, 1996, S. 41.
(обратно)198
Art brut (франц.) – букв.: грубое, необработанное искусство. Направление в изобразительном искусстве, родственное сюрреализму и примитивизму.
(обратно)199
Hughes, Robert: American Visions. The Epic History of Art in America. New York 1997, S. 601 f.
(обратно)200
The top ten artists by turnover, Artprice.com, Juli 2005.
(обратно)201
Le Goff, Jacques: Die Geburt Europas im Mittelalter. München 2003, S. 23.
(обратно)202
Wranke, Martin: Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers. Köln 1985, S. 316.
(обратно)203
Wittkower, Margot und Rudolf: Künstler – Außenseiter der Gesellschaft. Stuttgart 1998, S. 55.
(обратно)204
Stechow, Wolfgang: Northern Renaissance Art 1400–1600. Sources and Documents. Evanston, Ill. 1989, S. 116.
(обратно)205
Wood, Paul: Genius and melancholy: the art of Albrecht Dürer, in: Barker, Emma, Web, Nick, Woods, Kim: The changing status of the artist. Yale 1999, S. 164.
(обратно)206
Цит. по: Shiner, Larry: The Invention of Art. A Cultural History. Chicago London 2001, S. 111.
(обратно)207
Shiner, Larry: a. a. O., S. 112.
(обратно)208
Hobsbawm, Eric: The Age of Revolution. New York 1996, S. 21.
(обратно)209
Sloterdijk, Peter: Die Kunst faltet sich ein. Munitionsfabrik, Staatliche Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe 2005, S. 2.
(обратно)210
Цит. по: Shiner, Larry: a. a. O., S. 75.
(обратно)211
Shiner, Larry: a. a. O., S. 135.
(обратно)212
Shiner, Larry: a. a. O., S. 127.
(обратно)213
Bätschmann, Oskar: Der Ausstellungskünstler. Kult und Karriere im modernen Kunstsystem. Köln 1997, S. 10.
(обратно)214
Frohne, Ursula: Maler und Millionäre. Erfolg als Inszenierung: Der amerikanische Künstler seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Dresden 2000.
(обратно)215
Frohne, Ursula: a. a. O., S. 350.
(обратно)216
Parry, Albert: Garrets and Pretenders. A History of Bohemianism in America. New York 1933.
(обратно)217
Frohne, Ursula: a. a. O., S. 364.
(обратно)218
Горький М. Город Мамоны (Мои впечатления от Америки) // М. Горький. Полное собрание произведений: В 25 томах. M., 1970. Т. 6.
(обратно)219
Frohne, Ursula: a. a. O., S. 351.
(обратно)220
Warhol, Andy: The Philosophy of Andy Warhol. From A to B and Back Again. New York 1975, S. 92.
(обратно)221
Цит. по: Blomberg, Katja: Wie Kunstwerte entstehen, S. 159.
(обратно)222
Filer, R.: The starving artist – Myth or Reality? Earnings of Artists in the United States. Journal of Political Economics, 8: 11–28.
(обратно)223
Throsby, David, Hollister, Virginia: Don’t give up your day job: an economic study of professional artists in Australia. Macquarie University, Sidney 2003.
(обратно)224
Stellungnahme des Deutschen Kulturrats vom 19.6.2006.
(обратно)225
Towse, Ruth: Market Value and Artist’s Earnings, in: Klamer, Arjo (Ed.): The Value of Culture. On the relationship between economics and arts. Amsterdam 1996, S. 98.
(обратно)226
Hans Abbing: Why are artists poor. The exceptional economy of the arts. Amsterdam 2002, S. 112.
(обратно)227
Frey, Bruno: Not Just for the Money. An Economic Theory of Personal Motivation. Cheltenham, U.K., Brookfeld, USA, 1997, S. 14.
(обратно)228
Polke, Sigmar: Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen! 1969, Abb. in: Ausstellungskatalog Bonn 1997.
(обратно)229
Künstlersozialkasse 2004.
(обратно)230
Liebs, Holger, Häntzschel, Jörg: Wir sind eine Marke. Interview mit Chris Dercon, SZ 10.5.2006.
(обратно)231
Pommerehne, Werner, Frey, Bruno: a. a. O., S. 180.
(обратно)232
Frank, Robert, Cook, Philip: The Winner-Take-All Society. New York 1995, S. 24.
(обратно)233
Rosen, Sherwin: The Economics of Superstars, in: American Economic Review 71, 1981, S. 845–858.
(обратно)234
Adler, Moshe: Stardom and Talent, in: American Economic Review 75, 1985, S. 208–212.
(обратно)235
Ginsburgh, Victor, van Ours, Jan: Expert Opinion and Compensation: Evidence from a Musical Competition. American Economic Review 93, 2003, S. 289–298.
(обратно)236
Bonus, Holger, Ronte, Dieter: Credibility and Economic Value in the Visual Arts. Journal of Cultural Economics 21, 1997, S. 112 f.
(обратно)237
Ohmlin, Sybille: Werte schöpfen. Indices, Ratings, geschlossene Systeme, in: Passagen No. 35 Winter 2003. Kunstmarkt Schweiz: Zwischen Kreativität und Kalkül, S. 18.
(обратно)238
Цит. по: Warnke, Martin: a. a. O., S. 131.
(обратно)239
Sassoon, Donald: Becoming Mona Lisa. The Making of Global Icon. San Diego, New York, London 2002, S. 42.
(обратно)240
Bilanz Art Guide, Zeitgenössische Kunst. Galerien, Künstler. Adressen. Zürich 1993–2003.
(обратно)241
Houbraken, Arnold: Groote Schouburgh der Nederlandtsche Kontschilders en Schilderessen.
(обратно)242
Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. СПб, 1999. Т. 2. С. 235.
(обратно)243
Schama, Simon: The embarrassment of riches. An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age. New York 1987, S. 10.
(обратно)244
Barker, Emma: The making of a canonical artist: Vermeer, in: Barker, Emma, Webb, Nick, Woods, Kim (Ed.): The Changing Status of the artist. Yale, New Haven, London 1999, S. 208.
(обратно)245
Barthes, Ronald: The Death of the Author, in: Newton, K.M.: Twentieth Century Literary Theory, 1988, S. 155.
(обратно)246
Kuni, Verena: Künstler als neue Medien. Der Künstler als Medium der Gesellschaft, in: Kunst und Gesellschaft, Beiträge zu einem komplexen Verhältnis. Heidelberg 2000, S. 136.
(обратно)247
Walker, J.: Arts and Artists on Screen. Manchester 1979, S. 50.
(обратно)248
International movie data base.
(обратно)249
Roth, Dieter: Artist’s index and statistics, Price index in US$, Artprice.com, Januar 2007.
(обратно)250
Цит. по: Mäckler, Andreas (Hrsg.): 1480 Antworten auf die Frage: Was ist Kunst? Köln 2003.
(обратно)251
Здесь: бог весть что (фр.).
(обратно)252
Ullrich, Wolfgang: Prinzessin ohne Reich. du 747, Nr. 5, Juni 2004, S. 20.
(обратно)253
Г. В. Ф. Гегель. Указ. соч. Т. 1. С. 610.
(обратно)254
Арт? Это мужское имя (англ.).
(обратно)255
SZ 25.1.2006 Nachrichtendienst.
(обратно)256
Liebs, Holger: Interview mit Jake Chapman, SZ 5./6.4-2003; Website Kunsthaus Bregenz, Jake + Dinos Chapman, Explaining Christians to Dinosaurs, 29.1.2005–28.3.2005.
(обратно)257
The Scotsman 2.12.2004.
(обратно)258
Duchamp, Marcel: I propose to Strain the Laws of Physics. Art News, Dezember 1968, S. 62; Cabanne, Pierre: Dialogues with Marcel Duchamp. New York 1971, S. 71.
(обратно)259
Mauss, Marcel: Allgemeine Theorie der Magie. München 1974, S. 130.
(обратно)260
Fernsehinterview 14.1.2005.
(обратно)261
Цит. по: Plattner, Warren: High Art Down Home, S. 32.
(обратно)262
Kaminer, Wladimir: Russendisko. München 2000, S. 46 f.
(обратно)263
Grampp, William: Pricing the priceless. Art, Artists and Economics. New York 1989, S. 37.
(обратно)264
Risultati di Vendita, Sale MI0248, Arte Moderna e Contemporanea, Sotheby’s Milano, 22.11.2006.
(обратно)265
Цит. по: Bolz, Norbert: Kunst als Placebo, S. 10.
(обратно)266
Salvioni, Daniela: Jeff Koons’s Poetics of Class, in: Jeff Koons, San Francisco Museum of Modern Art, 1992, S. 25.
(обратно)267
Schwarz, Arturo: Marcel Duchamp. Father of Contemporary Art, in: Work Art in Progress, Spring 2005, S. 10.
(обратно)268
Цит. по: Benhamou-Huet, Judith: a. a. O., S. 50.
(обратно)269
Цит. по: Benhamou-Huet, Judith: a. a. O., S. 105.
(обратно)270
Hoch, Jenny: Erinnerungen im Eimer. Interview Jeremy Deller, SZ Nr. 237, 14.10.2005.
(обратно)271
Haskell, Francis: Patrons and Painters, London 1963, S. 17.
(обратно)272
Haskell, Francis: a. a. O., S. 17.
(обратно)273
Smith, Adam: Of the Nature of that Imitation which takes Place in what are called the Imitative Arts, Part I in: The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith (1981–1987), Vol. III, Essays of Philosophical Subjects, Part III.
(обратно)274
Inconspicuous consumption. Economist 20.12.2005.
(обратно)275
Let’s make it a million. Interview Tobias Meyer, Spiegel 2/2006, S. 128.
(обратно)276
Bourdieu, Pierre: Nach den Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt/Main 2001, S. 134.
(обратно)277
Graw, Isabelle: Der neue Glaube. Welche Bedeutung der Markt für die Kunst hat. Frankfurter Rundschau, 19.1.2006.
(обратно)278
Pommerehne, Werner, Frey, Bruno: a. a. O., S. 99.
(обратно)279
Sassoon, Donald: Becoming Mona Lisa. The Making of a Global Icon. San Diego, New York, London 2002.
(обратно)280
Du Camp, Maxime: Théophile Gautier. Hachette Paris 1890, S. 80.
(обратно)281
Gautier, Théophile: Les dieux et les demi-dieux de la peinture. Paris 1864, S. 24 f.
(обратно)282
Sassoon, Donald: a. a. O., S. 121.
(обратно)283
Sassoon, Donald: a. a. O., S. 119.
(обратно)284
Warnke, Martin: a. a. O., S. 222, 276; Humfrey, P.: Painting in Renaissance. Venice, New Haven 1995, S. 164.
(обратно)285
Thomas, A.: The Painters Practice in Renaissance Tuscany. Cambridge, 1995, S. 182, 221 f.
(обратно)286
de Märzi, Neil, van Miegrot, Hans J.: Pricing Invention: «Originals», «Copies» and their relative Value in Seventeenth Century Netherlandish Art Markets, in: Studies in the Economics of the Arts, V.A. Ginsburgh and P.M. Menger (Ed.), Amsterdam 1996, S. 27.
(обратно)287
Geary, Patrick: Sacred Commodities. The Circulation of medieval relics, in: Appadurai: a. a. O., S. 169 f., 177.
(обратно)288
Ammann, René: Die Welt in Zahlen, in: brand eins, Heft 6, 2004, S. 14.
(обратно)289
Pommerehne, Werner, Frey, Bruno: a. a. O., S. 114.
(обратно)290
Department of Justice, United States Attorney, Southern District of New York: US Charges NYC gallery owner in multimillion-Dollar global scheme to sell real masterworks and forged copies, 10.3.2004; Koldehoff, Stefan: Fälschungen, Inc. Ein New Yorker Kunsthändler in Fadenkreuz des FBI, SZ Nr. 61, 2004.
(обратно)291
Akinsha, Konstantin: The Scandal Sweeping Russia’s Art Market. Artnews, Januar 2006; Finn, Peter: Who is faking Russia’s great painting? The St. Petersburg Times 31.1.2006.
(обратно)292
Kicken, Annette und Rudolf: Das Sammeln von Fotografe – Entwicklung und aktuelle Trends, in: Pues, Quadt, Rissa: a. a. O., S. 163.
(обратно)293
Benhamou-Huet, Judith: a. a. O., S. 113.
(обратно)294
Benhamou-Huet, Judith: a. a. O., S. 108.
(обратно)295
Benhamou-Huet, Judith: a. a. O., S. 112.
(обратно)296
Цит. по: Gefter, Philip: Photos as New Status Objects, with High Prices to Match. The New York Times, 4.4.2005.
(обратно)297
Benhamou-Huet, Judith: a. a. O., S. 109.
(обратно)298
Pomian, Krzystof: Der Ursprung des Museums. Von Sammeln. Berlin 2001, S. 58 f.
(обратно)299
O’Hagan, Sean: Hirst’s diamond creation is art’s costliest work ever. The Observer, 21.5.2006.
(обратно)300
По утверждению журналиста Конрада Тоблера (Tobler, Konrad; Laubscher, Claudia: Kunsthandel. Besondere Ware, diskret gehandelt. Der durchsichtige Zwiespalt zwischen Geld und Geist, ).
(обратно)

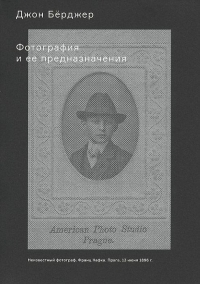

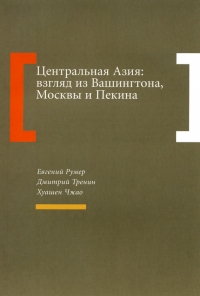


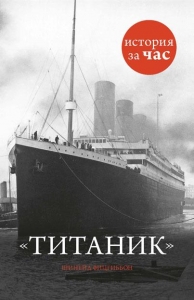
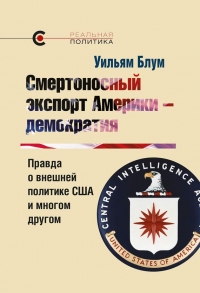
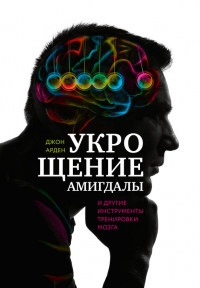


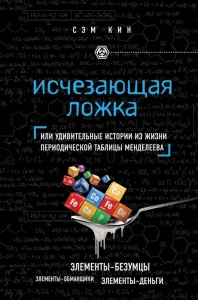
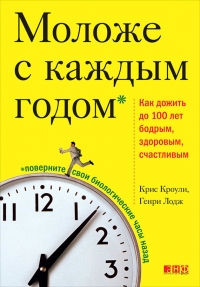
Комментарии к книге «Продано! Искусство и деньги», Пирошка Досси
Всего 0 комментариев